Миервалдис Бирзе ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ Повесть
Секрет бессмертия
Человек он был…
В. Шекспир
Неумолимо сыплется песок в песочных часах, отсчитывая убегающие в вечность секунды. Еле различимая глазом падающая песчинка свидетельствует о необратимости утраченного времени.
Глядя на медленно осыпающийся песок, можно зрительно представить себе, как бежит время.
Мудрая пословица древних гласит: «Memento mori!» — «Помни о смерти!» Она звучит почти как угроза, ибо напоминает о том, что жизнь человеческая коротка и быстротечна, что перед лицом неотвратимой смерти будет предъявлен счет каждому: «Что ты сделал за свою жизнь?»
Да, время уходит, но жизнь не останавливается. «Песочные часы перевернуты. Чьи-то дни утекли, чьи-то покатились вновь. Песок течет непрерывно, и часы торопят», — этими словами закончил свою повесть латышский писатель Миервалдис Бирзе.
Он назвал свою повесть «Песочные часы», метафоричностью названия подчеркнув идейный смысл произведения: время и человеческая судьба.
Песочные часы — не только символ быстротекущего времени, но и символ того, что жизнь остановить нельзя. Жизнь — преемственна и вечна, как вечна смена людских поколений, как то, что потомки призваны продолжать деяния своих предков. Тема повести «Песочные часы», тема времени, поистине выстрадана автором. Жизнь не прошла стороной: радости и горести века неразрывно связаны с судьбой самого писателя.
«Прежде чем писать, нужно жить», — сказал как-то сын неба и земли, писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Жизненный материал, биография писателя — фундамент, на котором возводятся каркасы будущих произведений. И как бы замысловато ни была задумана эта постройка, какие бы излишества формы ни украшали фасад — прочность произведения определяется его фундаментом.
Август Миервалдис Берзинь (литературный псевдоним Миервалдис Бирзе) родился (1921) в городе Руена, в Латвии, в семье служащего городского самоуправления.
Короткая предвоенная юность: школа, затем гимназия.
Счастье познания нового — открытие мира искусства и науки — и горькие переживания, связанные с арестом отца, после фашистского переворота, совершенного Ульманисом.
В сентябре 1939 года юноша поступает на медицинский факультет Латвийского университета, становится членом бюро секции студенческой профсоюзной организации факультета, вступает в комсомол. Война застает его в Коценской волости — семья не успела эвакуироваться. Гестаповцы ищут коммунистов и комсомольцев, всех, кто активно сотрудничал с Советской властью. Страшные удары один за одним обрушиваются на семью Бирзе. 10 июля 1941 года был арестован его отец — председатель Коценского волостного исполнительного комитета, 18 июля — сам Миервалдис, а через восемь дней фашисты расстреляли его отца.
Два года провел Бирзе в Валмиерской тюрьме. Однажды утром дверь в камеру с грохотом отворилась и тюремный надзиратель выкрикнул: «Август Янович Берзинь…» Из камеры вышли двое: один совсем еще молодой, другой — постарше. Они тезки, и фамилия у них одна. Кого же вызывают на смерть? Старший осторожно подталкивает юношу обратно в камеру — он идет на расстрел и спасает своего племянника студента-медика Августа Миервалдиса Берзиня.
Осенью 1943 года Бирзе пересылают в Саласпилский лагерь смерти, расположенный в болотистой местности в восемнадцати километрах от Риги.
…Ряды колючей проволоки. Между ними овчарки. По одну сторону глухой лес, по другую — заключенные. На вышках — пулеметы…
И все-таки они оставались людьми: боролись, готовили восстание. Здесь каждый знал и помнил стихотворение, написанное в лагере смерти коммунистом Янисом Логиным «Перед казнью»:
Как просто самому себя убить — лишь измени себе — и к стенке не поставят, и уцелеешь… Но тебе не жить: воспоминания тебя раздавят. Последний час. Разрешено грустить. Душа свободна от ожесточенья… Мы выиграли главное сраженье: мой друг, прекрасно человеком быть — и это в нас уже нельзя убить!Но самые жестокие испытания были еще впереди. Во второй половине июля 1944 года Миервалдиса Бирзе пересылают в концлагерь Нейнгамме под Гамбургом, а через несколько дней еще дальше, в Бухенвальд.
…Словно издеваясь над человечеством, неподалеку от города, в котором жил величайший поэт Германии Вольфганг Гете, — на лесистых склонах горы Эттерсберг нацисты соорудили концентрационный лагерь.
Здесь, на Эттерсберге, где пышно раскинулись буки, родилась «Ночная песня путника» Гете, здесь закончил свою драму «Мария Стюарт» Шиллер, а Гердер написал свое «Зимнее стихотворение». Здесь, где некогда рождались и звучали удивительные творения гениального Ференца Листа, нацисты за восемь лет подвергли мучениям двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать человек, а пятьдесят шесть тысяч — убили…
Во второй половине июля 1944 года колонна измученных людей, конвоируемая эсэсовцами, медленно приближалась к воротам лагеря. С внешней стороны этих больших железных ворот было написано: «Право оно или нет — это мое отечество», а когда ворота, пропустив колонну, закрылись, на внутренней стороне решетки можно было прочесть: «Каждому свое…»
Позднее, когда Бирзе возьмет в руки перо, ему нелегко будет вернуться к пережитому. Он не станет писателем лагерной темы, но лагерные воспоминания нет-нет да и лягут суровой тенью на страницы его повестей и рассказов.
«…Небесную синь над концентрационным лагерем Штейнеке с трех сторон замыкали высокие горы. На заросших стройными елями кручах кое-где выступали серые, источенные водой и ветрами скалы. Одна скала на западном склоне напоминала лицо горного духа с плоским проломленным носом». Это из рассказа «Яблоко», рассказа о том, как погиб латыш Лапинь, пытавшийся достать из-под колючей проволоки яблоко, брошенное подругой солдата лагерной караульной команды, белокурой девицей в красном берете. Когда Лапинь был убит, голубоглазый унтершарфюрер, орлиный нос и небольшой округлый подбородок которого придавали ему сходство с белокурым Зигфридом на иллюстрациях к «Нибелунгам», обнаружил, что яблоко было гнилое…
Миервалдис Бирзе работает в одной из внешних команд Бухенвальда, которая в документах носила красивое название — «Малахитовая команда». Заключенные строили железнодорожную ветку в туннель, вырубленный в скалах живописных предгорий Гарца, где должны были разместиться подземные цеха авиационного завода Юнкерса. Через некоторое время Бирзе переводят санитаром в лагерную больницу. Врачи и санитары лагеря делали все, чтоб спасти жизнь тысячам обреченных, по остановить смерть было почти невозможно. Позднее, вспоминая это время, Бирзе напишет: это «моя первая, самая ужасная медицинская практика».
Шестого апреля 1945 года, опасаясь прихода советских войск, нацисты начали эвакуацию заключенных. Бирзе удается бежать, а в первых числах мая части Советской Армии вступили в Торгавский уезд, где скрывался Бирзе.
Четыре года, проведенные в фашистских застенках, надломили здоровье молодого человека — он заболевает туберкулезом. В сентябре 1945 года, немного поправившись, Бирзе возвращается домой и возобновляет занятия на медицинском факультете, который и кончает в июне 1949 года, получив диплом врача. А через несколько месяцев он приступает к работе в Третьем государственном туберкулезном санатории в городе Цесисе.
Врачебная практика не мешает Бирзе заниматься любимым делом — первая проба пера относится к 1951 году. А через два года он увидел первую публикацию своего рассказа на страницах республиканской газеты «Падомью яунатне» («Советская молодежь»). В феврале 1956 года Латышское государственное издательство выпускает в свет сборник рассказов Бирзе «Первые цветы». Так в возрасте тридцати пяти лет писатель встретился со своим читателем.
Критика, добрым словом отметившая появление нового писателя, назвала его молодым. Да, он действительно был молодым писателем, хотя за плечами уже осталась большая и трудная жизнь. Ему не надо было ничего выдумывать: основа творчества — жизнь не поскупилась, она дала материал, научила мыслить, наблюдать, ценить добро.
«Когда в саду удается вывести новую розу, всех садовников охватывает волнение. Розу изолируют, окружают заботой, всячески способствуют ее развитию. Но для людей нет садовников…
Меня мучает то, что не может излечить даровая похлебка для бедняков… Меня мучает то, что в каждом человеке, быть может, убит Моцарт…» Это писал Сент-Экзюпери, сражаясь с фашистами не только пером, но и пулеметными очередями в воздухе. А в это время моцартовское начало убивала коричневая чума в концлагерях, опутавших колючей проволокой почти всю Европу, — и это видел будущий писатель Миервалдис Бирзе, юноша в полосатом халате узника. Выжив, он стал врачом и вступил в бой с болезнями — за человека; стал писателем, чтобы продолжить бой — за человека.
Своеобразие писательской манеры определилось сразу: лаконизм, интерес к внутреннему миру человека, острота конфликта, В рамках короткого рассказа Бирзе пытался раскрыть всю глубину психологического состояния героя, уходя от излишней детализации его биографии и внешности.
Один из своих сборников писатель назвал «Как родился рассказ», использовав для общего заголовка название небольшой, почти эскизной зарисовки. «Гауя — красивая река, но этого еще мало, чтобы написать рассказ… одного дерева еще мало, чтобы написать рассказ… и про одного мальчугана тоже не напишешь рассказа… Лишь в тот день, когда встретились Гауя, затонувшая сосна и мальчуган, родился рассказ». Пытливая человеческая натура, стремящаяся каждый раз открыть новое, неизведанное, пытающаяся познать радость бытия, становится предметом художественного изображения. Мальчик, открывающий мир во всей его суровой и обаятельной красоте, как бы олицетворяет собой величие и благородство человеческого духа, его вечную неуспокоенность и жажду творческой активной деятельности.
Бирзе начинал как рассказчик, как мастер малых прозаических форм, но стремление к широким общениям, желание постичь сложный духовный мир героя привело его к повести. И первым опытом в этом жанре стала повесть «И подо льдом река течет…», сразу же получившая широкое признание читательской аудитории и удостоенная в 1958 году Государственной премии Латвийской ССР.
Как и большинство рассказов Миервалдиса Бирзе, повесть не автобиографична, но пережитое лежит и на этом произведении. Ведь речь идет о войне, о фашистской оккупации, о тех людях, которых самые суровые испытания не в силах были поставить на колени.
Скупой, реалистической манере письма пришла на смену романтическая приподнятость стиля. Философские размышления, публицистические отступления, метафоричность пейзажных зарисовок дают повести высокий эмоциональный накал. Миервалдис Бирзе не боится высоких слов, ибо изображение величия подвига его героя требует ярких красок и широких мазков.
Несмотря на всю трагедийность ситуации, «И подо льдом река течет…» оптимистична. Само название говорит об этом. Каким бы крепким льдом мороз не сковал реку, она продолжает течь, и светлые, чистые воды ее весенним половодьем все равно вырвутся на простор, навстречу яркому солнцу. Жизнь, как и воды реки, нельзя остановить, ее течение вечно.
Эта мысль писателя находит свое дальнейшее развитие в следующей повести — «Песочные часы».
В Гамбурге, во дворе госпиталя святого Георгия, поставлен памятник тремстам шестидесяти врачам, погибшим от рентгеновских лучей во имя жизни. Об одном из таких врачей, чья судьба похожа на судьбу этих трехсот шестидесяти, и написал свою повесть Миервалдис Бирзе.
Эгле — врач по профессии и по призванию. Он двадцать пять лет проработал в туберкулезном санатории, и спасение больных людей стало смыслом его жизни. Но врачи порой не могут поверить в то, что сами больны. Эгле заболел лучевой болезнью. И разве не рентгеновский аппарат был причиной его страданий? «Сожрал ты меня за двадцать пять лет, — подумал Эгле с тяжелым вздохом. — Но разве меня силком притащили сюда? А тогда, стало быть, и сожрал меня туберкулез, а не рентген. Чужой туберкулез…»
Не рентгеновские лучи виноваты в том, что человек должен умереть, а туберкулез и все то, что породило его, все то, что мешает с ним бороться. Эта мысль очень четко проведена в повести, порой она лежит в подтексте, порой прямо высказывается устами главного героя: «Коммунизм и туберкулез — понятия несовместимые». Туберкулез — болезнь прошлого, во многом связанная с бытовыми и социальными условиями. Поэтому борьба с этой страшной болезнью является борьбой с наследием прошлого и прежде всего с последствиями войны, нацистских лагерей и тюрем. И несмотря на то что тема войны звучит в повести глухо, зловещее дыхание войны чувствуется на многих страницах произведения.
«— Война наградила вас орденами и чахоткой», — говорит Эгле больному Земгалису.
«— Если б тебя в войну не выгнали из санатория, ты сегодня не лежал бы здесь», — говорит больному Алдеру подруга по несчастию, трогательно любящая его Дале.
Раскаты войны эхом отдаются и в памяти самого Эгле. Нет-нет и вспоминается ему страшная година нацистской оккупации. И он рассказывает своему другу, талантливому скульптору Мурашке, как в один июльский день сорок первого года в санаторий ворвались фашисты и айзсарги и выбросили больных на улицу. А двоих айзсарги расстреляли в лесу. «Расстрелянные были марксистами, как тогда говорили. Стало быть, погибли за идею. Но ведь идею не убьешь пулей и не зароешь в лесу!»
И снова воспоминания о минувшей войне наводят Эгле на размышления о времени и человеческой судьбе, о смысле жизни. Слушая чистую и прозрачную, как трель жаворонка над весенней рощей, музыку Баха, Эгле как бы размышляет вслух: «Тогда в лесу, где остались мои больные, я нашел несколько латунных гильз. И тогда же мне пришло в голову, что я до сих пор как-то не задумывался над тем, что пули существуют, чтобы расстреливать людей. Лишь недавно, вновь перебирая все это в памяти, я сообразил, что всегда был только врачом, лекарем, а не слишком ли это мало? Врач не целебный родник, из которого страждущий напьется, и дело с концом. Родник — не человек, он лишен души. Врач — человек, и он обязан вникнуть во все, что переживает его пациент, должен пытаться постичь самое жизнь».
Так, путем довольно сложных ассоциаций и размышлений, развивается основная тема повести о времени и человеческой судьбе. Идею нельзя убить насилием, человек — активный строитель жизни, своей жизни и чужой, каждый смертный отвечает перед бессмертной историей.
Круг замыкается — смерть одного человека не означает конец человеческой жизни вообще, ибо эстафета мысли, творческих деяний, величия духа, благородства и честности вечна. В этом смысле развитие основного мотива повести как бы напоминает движение песка в стеклянных песочных часах сколько раз чья-то рука перевернет их, столько раз вновь пересыплется желтый песок из верхней колбочки в нижнюю. Сколько бы раз Эгле не возвращался к размышлению о смысле жизни, столько же раз он вынужден признать: «…Жизнь не останавливается…»
Такое нарочитое возвращение к одной и той же мысли, попытка многократно, как бы с разных сторон, рассмотреть один и тот же мучительный вопрос о жизни и смерти обуславливается и необычностью ситуации, выбранной писателем, — ведь речь идет о человеке, о враче, который должен умереть и который ни на минуту не сомневается в трагическом исходе своей болезни. Подобная ситуация психологически оправдывает этот своеобразный художественный прием многократного возвращения к одной и той же мысли, которая развивается как бы по спирали, при каждом своем возвращении захватывая все больший и больший круг острых жизненных проблем. И действительно, перед лицом смерти человек вправе судить себя и других по самым высоким законам этики и морали. Судный день «настанет для каждого, — думает Эгле, слушая реквием. — Не бог будет судить нас, бога не существует, но у Человека существует совесть, и Судный день совести будет у каждого из нас. Великий суд, о котором поведал композитор. И на этом суде, как поется в реквиеме, „тайное станет явным, и воздастся каждому по делам его“, потому что свершится в присутствии неподкупного свидетеля, имя которому — Память. Каждый однажды предстанет перед судом своей совести. Она будет судить за преступления, не предусмотренные кодексом законов. Нет закона, по которому ты обязан в трудный час поделиться куском хлеба; и лишь ты один знаешь, мог или не мог протянуть руку утопающему, ведь посреди озера не было никого, кроме вас двоих. Существуют преступления, не оговоренные законами. И у того, кто считает, что ему такой суд не грозит, возможно, отсутствует совесть».
Таким морально-этическим критерием в повести является жизнь самого Эгле. На пороге смерти он не только подводит итог всему прожитому, но и думает о настоящем и о будущем. Уходя из жизни, он заботится о том, чтобы больница осталась в надежных руках, чтобы выстроили новое здание санатория, чтобы его сын Янелис пошел на работу — словом, он продолжает свою «земную жизнь», как солдат, до последнего дыхания не покидая пост. Видимо, поэтому в повести так мало внимания уделяется описаниям физиологического состояния смертельно больного человека. Центр тяжести перемещен на изображение его внутреннего богатого духовного мира, на то, чтобы показать, как сильный, волевой человек преодолевает страх смерти и этим побеждает физическую смерть, обретая духовное бессмертие.
Эгле понимает, что его болезнь — не трагическая случайность, а необходимость, — наука требует жертв. Как-то в разговоре со своим коллегой Берсоном Эгле сказал: «Кох. Открыл туберкулезную палочку. До него врач сражался с чахоткой вслепую… Вот Форланини, впервые применивший поддувание легких, пневмоторакс. Сколько жизней спас этот итальянец» зажимая дырки в легких обычным воздухом! Вот третий бородач — Павлов. Его исследования нервной системы доказали, что лечить надо не только болезни, но и больного человека… «А между ними — сотни таких, как мы с тобой. И кое-кому не везло…»
Эгле очень точно определил свое место в науке: «между ними» — между великими. Скромность не позволила ему сказать до конца: «безымянных героев не было».
Эгле заболел в рентгеновском кабинете и умер в рентгеновском кабинете. И это не случайная деталь. Сюжетный круг романа замкнулся: в песочных часах, стоявших в кабинете, высыпался весь песок. Человеческая жизнь, жизнь врача, ученого и борца, оборвалась. Но Эгле прожил свою жизнь не напрасно, после него остался его труд, его больные, которых он вылечил, сын, который обязательно станет настоящим человеком, больница, где будут лечиться сотни людей. «Мне остается сказать себе, — думал незадолго до своей гибели Эгле, — таков закон — из праха ты произошел, во прах тебе и обратиться. Некоторое время ты побыл „венцом творения“, был прекраснее розы в каплях утренней росы, могучего дуба, чьи ветви могут укрыть от непогоды, и ты летал дальше и выше журавлей, потому что долгие годы ты был Человеком. И по тебе опять же останутся человеки — твой сын, твой народ, которому ты своим трудом врача помогал жить и расти, спасая всего лишь несколько из множества жизней. Значит, ты и сам после мига расставания, именуемого смертью, „не перестаешь быть“».
Как отличается жизнь доктора Эгле, его образ мыслей от героев романа Ремарка «Жизнь взаймы». Лилиан тоже неизлечимо больна, она тоже обречена на верную смерть, у нее нет времени, и она тоже торопится жить, но жить для себя. Единственный смысл ее жизни — это неожиданно вспыхнувшая любовь к мотогонщику Клерфе, который стремится обогнать время, в полном смысле этого слова. Они оба торопятся, и оба гибнут, их жизнь гаснет, как метеор, способный лишь на мгновение прочертить яркую черточку на темном небе. Какой след в памяти людей, в памяти страны оставят эти люди, обреченные лишь на то, чтобы взять жизнь взаймы, взаймы только для себя?
«Горизонталы» — больные туберкулезного санатория из романа Томаса Манна «Волшебная гора» — тоже совсем не походят на доктора Эгле. И даже восприимчивый к высоким истинам и сложным проблемам Ганс Касторп способен мыслить потому, что Манн искусственно «привил» ему болезнь, согласно теории автора, облагораживающую и углубляющую духовный мир человека. Но вся их жизнь сводится к покорному восприятию «лабораторной» жизни туберкулезного санатория: к бесконечному измерению температуры, регулярному принятию пищи, прогулкам по строго определенным маршрутам, встречам с врачами и т. д. «Мир долины» — внешняя жизнь их не интересует.
Доктор Эгле — активная творческая натура. Зная о своей неминуемой близкой гибели, он совершает поистине героический подвиг: пишет научную работу, где рассказывает о себе, о начальных симптомах заболевания, на которые он сам обратил внимание лишь тогда, когда болезнь уже развилась. Он делает это не для себя, а для людей, для всего «мира долины», поэтому-то он и побеждает физическую смерть и навечно останется в памяти благодарных потомков. Эпилог повести как бы разрывает замкнутый круг сюжетного развития, это как бы конец одного и начало нового произведения.
…Прошел год. В кабинете главврача туберкулезного санатория на столе по-прежнему стоит футлярчик с песочными часами. А на стене кабинета прибавился еще один портрет. Он, правда, не висит в том ряду, где были «великие бородачи». Кох, Форланани, Павлов и Рентген. Портрет помещен в углу, где стояла гипсовая девочка с ягненком в руках. «Эгле пришел бы в негодование, если б его портрет повесили в одном ряду с теми, чьи имена известны всему миру».
А на Аргальском кладбище состоялось открытие памятника. Он был сделан из черного салацгривского камня, оживленного другом Эгле скульптором Мурашкой. «Сильный юноша стремится ввысь, к небесам, так же как и вершины стоящих позади него деревьев. Ноги его сковала бесформенная масса, черная сила, грубый, неотесанный камень. В напряженной, но бессильной позе юноша сжимает свои плечи перекрещенными руками.
И все же он устремлен ввысь. Он принадлежит к тем, кого можно уничтожить, но не умертвить…»
Янелис тоже пришел на кладбище. Он теперь работает у мелиораторов. Стал выше ростом, носит более длинную прическу и становится похожим на своего отца в молодости. А вечерами он бежит навстречу девушке, которая ждет его у темно-зеленых кустов сирени. «Жизнь не останавливается…» Замкнутый сюжетный круг повести разорван: песочные часы перевернуты, и желтый песок сыплется вновь и вновь…
«Песочные часы» — это повесть-размышление. В этом необычность ее сюжета, своеобразие изобразительных средств и образов.
Образ доктора Эгле — идейно-художественный центр произведения, именно к нему тянутся все сюжетные нити. В связи с этим все остальные образы призваны для раскрытия центрального образа. В этом сила и некоторая ограниченность повести, ибо большинство образов, схематичные и невыразительные сами по себе, лишь способствуют разностороннему и многогранному раскрытию характера, мыслей и поведения Эгле. Все они сливаются как бы в единый фон, на котором ярко сверкает образ главного героя. Но такова уж цель писателя — он анализирует духовный мир героя, ставя его в различные сложные ситуации, сталкивая с разными людьми: медсестры Крузе и Гарша, больные Вагулис и Вединг, жена Герта и сын Янелис. Именно в соприкосновении с этими людьми, в общении с ними и раскрывается образ доктора Эгле.
«Песочные часы» — по существу повесть одного героя, повесть-диалог и повесть-монолог. Герои больше говорят, нежели совершают какие-либо поступки. Поэтому-то и развитие действия не идет по линии острой событийности, напротив, сюжет развивается как движение мысли главного героя, как раскрытие его сложного характера.
Миервалдис Бирзе подарил читателю мужественное, смелое произведение, которое помогает бороться с любыми недугами, помогает познать радость человеческого бытия.
Когда-то на заре цивилизации, в государстве Шумеров, родилась поэма о легендарном царе Урука Гильгамеше, у которого был друг Энкиду. Вместе с ним они совершили множество подвигов. Но Энкиду погиб. Гибель его была карой, ниспосланной Гильгамешу разгневанными его дерзостью богами. Тоскующий Гильгамеш отправляется на поиски секрета бессмертия, чтобы оживить друга. В скитаниях своих он встречает Утнапиштима, который рассказывает, что он единственный из смертных, кому даровано богами бессмертие. Утнапиштим сжалился над скорбящим по другу Гильгамешем и открыл ему секрет бессмертия, указал место, где на дне огромного озера растет трава бессмертия. Повесив на шею тяжелый камень, Гильгамеш смело нырнул на дно и сорвал заветную траву. Но к траве подползла змея и проглотила ее. Мечтам о бессмертии не суждено было сбыться. Секрет бессмертия древние поэты и мудрецы отдали богам.
Секрет бессмертия — благодарная памятка потомков, эстафета поколений, передающая друг другу великие творения человеческого гения.
Люди, отдавшие свою жизнь борьбе за Человека, за его бессмертие, — герои произведений Миервалдиса Бирзе.
Ю. Розенблюм
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ Повесть
Quid stas, transit hord!
(Что стоишь, время уходит!)
Надпись на старинных песочных часах.
Туберкулезный санаторий «Арона» расположился на обширной зеленой поляне. Поляну опоясывает старый лес. Сосны в нем не густы, и поэтому даже иной липе или березе удалось дотянуться верхушкой столь высоко, что они видят днем солнце, а ночью Большую Медведицу. Среди деревьев попадаются кусты орешника, но орехам не судьба доспеть до того, чтобы самим выпасть из зеленых гнезд; орешника тут мало, а нетерпеливых любителей орехов слишком много.
Широко простирают сосны свои иглистые лапы, оберегая санаторий от порывов холодного ветра. На хвое и листве берез оседает пыль с Рижского шоссе, и потому воздух вокруг самой здравницы, особенно по утрам, чист и свеж, как упавшее в росу яблоко.
Санаторий — желтое здание с широкими, трехстворчатыми окнами. В промежутках между ними тянутся пояса красного, неоштукатуренного кирпича, и поэтому издали хорошо видно, что здание трехэтажное. На стене, рядом с парадным входом, бронзовый барельеф: сестра милосердия успокоительно положила руку на опущенную голову больного. Барельеф подарил санаторию перед войной один скульптор, бывший туберкулезник. В былые времена чахотка часто наведывалась в мастерские художников, работ не покупала, только самих поторапливала.
В этот майский день на балконе санатория, как водится в «тихий час», на шезлонгах спали больные. Лишь двое сидели и смотрели на лужайку, где ярко-красные тюльпаны, словно в ожидании чего-то, раскрыли навстречу солнцу алые рты.
Один — крупный, плечистый мужчина, с кустистыми бровями, но редким волосом на голове, закурил сигарету и сказал соседу:
— На той неделе домой отчаливаю.
Сосед, долговязый и мосластый брюнет, хриплым голосом отозвался:
— А я вот только приехал.
Таких, как он, раньше обычно называли «чахоткин кандидат». Бледное лицо, костлявые плечи, впалая грудь. На худых лицах носы всегда выглядят большими; его же нос с горбинкой был словно с карикатуры на прибалтийского барона былых времен.
Плечистому в голосе соседа почудился страх, и потому он решил утешить:
— Ничего, доктор Эгле и тебя вылечит. Врачи, они, конечно, в туберкулезе ни шиша не смыслят, но у них лекарства. — Он выпустил дым, глянул на тюльпаны и добавил: — Красивая штука — жизнь!
Худой прикрыл рот ладонью и закашлялся:
— Красивая…
Плечистый положил руку с сигаретой на перила балкона поудобнее. Снизу сигарету заметили и, минутой позже, к нему неслышно подошла старшая медсестра Гарша. Не произнося ни слова, она глядела печальными карими глазами на курильщика.
Великан испугался этой невысокой, худощавой женщины и сунул руку с сигаретой в карман халата.
И тогда медсестра спокойно сказала:
— Вагулис, вы жжете и свои легкие, и казенный халат. Я сообщу об этом доктору Эгле.
Вагулис поплевал на палец и загасил сигарету.
— Да мне ведь домой скоро, — полушепотом, чтобы не разбудить спящих, оправдывался он. И все же его шепот был громче голоса Гарши. — Вот и приучаюсь снова курить, работа моя такая. Я плотогон, а на реке, сами знаете, комаров тьма.
Сказанные всерьез слова прозвучали как шутка, однако Гарша не улыбнулась. Возможно, это пудра придавала некоторую строгость ее лицу, и улыбка была бы на нем ни к чему. Гарша ушла, а Вагулис стал выворачивать прожженный карман.
— Эгле браниться будет, В последнее время он злой какой-то. Наверно, оттого, что курить бросил.
«Человек, если хочет, может ходить тихо и не будить других», — двадцать четыре года тому назад внушили Гарше в медицинском училище. Она не только помнила, но и соблюдала эго правило. Неслышным шагом прошла она весь коридор и постучалась в дверь с надписью «Главный врач». Никто не отозвался. Она вошла. Старшая сестра — хозяйка санатория, и у нее не только право, но и обязанность заглядывать в каждый угол и проверять, не удастся ли написать пальцем на пыльном зеркале имя нерадивой няни или же без стеснения приподнять край одеяла и поинтересоваться, помыты ли ноги у тяжелобольного.
Самого Эгле, главного врача, в кабинете не было, тут находились только его давние безмолвные товарищи — девочка с ягненком и «молчальник». Гипсовую девочку, с ягненком на руках, некогда подарил тот самый скульптор, что создал барельеф. «Молчальник» стоял в углу, накрытый белой простыней: людям, непричастным к медицине, скелет напоминал о смерти, хотя, по сути дела, служил жизни — на нем изучали топографическую анатомию. Со стены на сестру Гаршу взирали с портретов бородатые мужчины. Они тоже знали только свои знаменитые биографии и не имели понятия о том, где в данный момент находится Эгле.
А Эгле в эту минуту с голубыми анемонами в руке, запыхавшись, бежал через зал ожидания рижского аэропорта.
Громкоговоритель невнятно пробормотал: «Рейс Рига — Симферополь», и Эгле кинулся к барьерчику летного поля, увидев Герту, прощавшуюся с сыном и золовкой.
Эгле вручил анемоны и обнял жену за плечи. Как молодой влюбленный, смотрел он в ее большие голубые глаза.
Герта улыбнулась, понюхала анемоны, но уловила лишь аромат мыла «Золотой лотос», который исходил от ее рук. И сказала:
— Неужели старость, а? Раньше мы приходили по крайней мере за десять минут. — В ее низком голосе послышалась мягкая ирония, но не упрек. Герта посмотрела туда, где у прохода ограды девушка в пилотке уже приготовилась вести пассажиров к самолету.
Эгле опять искал взглядом глаза жены.
— Не сердись. Вечером ты уже будешь на Черном море, оно такое синее.
— До сих пор мы повсюду ездили вместе.
Эгле взял руку жены, ту, что держала непахнущие анемоны.
— Знаешь, я боюсь летать.
— Боишься, а меня отправляешь на самолете! Ты знаешь, я уже познакомилась со своими соседями. — Герта кивнула на полную даму. И, помолчав, добавила: — А в Крыму, говорят, уже цветет магнолия…
Эгле не выпускал ее руку.
— Я рад, что ты отдохнешь, но без тебя мне будет очень тоскливо…
Герта высвободила руку и взяла саквояж.
— В последнее время ты только и думал, что о своих свинках.
— Я исправлюсь.
— Граждане пассажиры, прошу следовать за мной, провожающие останьтесь! — объявила дежурная.
Герта коснулась губами щеки мужа.
— Счастливо сдать экзамены, Янелис! — наспех поцеловала она сына, который уже намного перерос родителей, и, предъявляя билет, наказала своей седой золовке: — Откорми братца, исхудал он у нас.
Когда пассажиры шли к самолету, Эгле вдруг увидел, что жена его совсем молода. Гибкая и изящная, в дорожном костюме, она весело помахивала саквояжем. А он, увы, стар, и потому опирается на плечо сына.
Они все трое стояли до тех пор, пока на дальнем конце аэродрома серебристо белый самолет не взмыл в воздух. Он по-ястребиному поджал под себя свои ноги-шасси и скрылся за Даугавой.
«Дивная вещь самолет, — размечтался Эгле. — Это же воплощенная жажда все увидеть, везде побывать, это и отвага одиночки, парящего у границ вселенной, у голубых рубежей вечности… А как прекрасен самолет! Словно одинокий журавль в прозрачном осеннем небе».
А потом они направились к своему «москвичу» и поехали домой. По пути Эгле сделал остановку на Сарканармияс, у желтого кирпичного здания больницы.
— Зайду на минутку, — сказал он Янелису.
Миновав кованые железные воротца, Эгле пошел прямо в лабораторию. У окошка дежурной он спросил:
— Вам ничего не оставляли для меня?
— Заведующая велела передать вам вот это.
Эгле взял конверт и положил в наружный карман пиджака. Потом, словно вспомнив о чем-то, переложил во внутренний. Со стороны можно было подумать, что конверт содержит особо ценный или секретный документ, о котором ни в коем случае не должны узнать другие. Он поспешно вышел во двор, стал в тени липы, вынул письмо и распечатал. В конверте был самый обычный бланк с анализом крови.
Эгле подержал листок перед глазами и опустил. Лицо его устало обмякло, складки на щеках стали жестче и глубже. Глаза больше не видели улицы за железными воротами, а, казалось, разглядывали нечто другое. Он сунул анализ в карман.
— Конвертик уронили, — окликнул его привратник.
Эгле не оглянулся. Конверт остался на булыжнике у больничных ворот. Да, с таким количеством тромбоцитов можно от небольшого пореза на пальце истечь кровью. Стало быть, ухудшение. А ведь совсем недавно ему опять вливали здоровую кровь. Лучевая болезнь убивает его кровь. Медленно, но неотвратимо.
Эгле устало провел рукой по лбу. Опять разболелась голова, а проведешь по лбу — боль вроде бы утихает. На левом виске, где волосы изрядно отступили к затылку, он ощутил твердый рубец. Эта отметина с детства — катился на санках с крутой горы. Санки разогнались да неожиданно свернули к лесу. Нечего было и думать остановить их, оставалось лишь надеяться, авось пронесет мимо замелькавших черных стволов. Но не пронесло. И сейчас то же самое: а может, не ударятся санки о дерево.
Полгода назад он окончательно понял, что причина мучительной усталости, головных болей, тошноты и прочих недомоганий — застарелая лучевая болезнь, и все-таки каждый раз, когда у него брали на исследование кровь, он бывал только больной, и, как всякий больной, не терял надежды.
Сегодня же, читая анализ, Эгле снова был только врач. Он знал — все лишь вопрос времени. Печальный исход — дело нескольких месяцев…
По тротуару шли две девушки. Одна смеялась. У нее рыжеватые, подкрашенные волосы. К воротнику зеленого пальто приколота деревянная брошь. Чему смеется? У Эгле болезненно сжалось сердце. Сердцу не достает крови, вот оно и болит, это Эгле известно. Но знание не защищает от боли. Девушка, наверно, радовалась скворцам, щебетавшим в больничных липах. Догнать ее и сказать: «Не смейся, мне осталось мало жить!» Или встать посреди улицы Ленина, задержать все автомобили, мотоциклы, велосипеды: «Стойте! Как можете вы спокойно ехать, ведь через несколько месяцев меня не станет!»
«Идиот! Кому, кроме тебя, дело до этого», — сказал себе Эгле и в сердцах захлопнул дверцу машины.
Они выехали из города. Эгле казалось, будто все вокруг него иное, не такое, как раньше; предметы обрели непривычно резкие очертания и не скользили мимо взора в сливающейся череде других. Теперь они следовали по отдельности, каждый со своей историей и биографией. Каждое дерево аллеи больше не было деревом среди прочих деревьев, но превратилось в конкретный тополь или в березу, которая своими силами некогда пробилась из земли сквозь палые листья и перегной по соседству с невзрачной сыроежкой; потом эта береза была выкопана, перевезена и вновь посажена и ныне живет на обочине Видземского шоссе. Больше не было сплошного потока едущих, но были отдельные машины, водители которых, казалось, смотрели на Эгле и видели его тревогу. Эгле стало не по себе оттого, что он не может скрыть своего поражения. «О боли узнают по стонам, так молчи же», — одернул он себя.
Поселок Аргале, где находился санаторий, был в тридцати километрах от Риги. В центре поселка стояла старая усадьба, от которой лучами расходились пять дорог, обсаженных дубами, липами и кленами. В длинной конюшне при старой корчме, потемневшая черепичная крыша которой покрыта зелеными подушечками мха, устроена мастерская мелиоративной станции. У начала аллеи, за шеренгой кленов, строился трехэтажный дом для работников станции. Дорогу перегородил автоприцеп с белым силикатным кирпичом.
— Что ж, мне теперь до вечера тут стоять! — громко возмутился Эгле, но тут же подумал, что, может, ему и незачем торопиться, махнул рукой и стал ждать, пока трактор, стрекоча и кашляя, перетащит прицеп через канаву.
В красном каменном доме с островерхой — на немецкий манер — крышей некогда, по словам здешних стариков, жил сам помещик, но вот уже двадцать пять лет, как его занимал директор санатория, то есть Эгле с семьей. В саду, за кустами сирени и шиповника, цвели яблони. У старомодной веранды, застекленной узкими и мелкими стеклами, распустились нарциссы. За домом тянулась пашня, а дальше — косогор и луга до самой реки Дзелве, точнее — речки, через которую разве что весной и осенью было не перепрыгнуть.
Эгле вышел из машины.
— Янели, загони в гараж.
Янелис быстро пересел за руль. Самостоятельно он имел право ездить лишь вокруг дома, у Янелиса не было шоферских прав.
Через веранду Эгле прошел в уютную гостиную, низкий и уютный потолок ее украшали тяжелые, коричневые деревянные балки. Из гостиной вела лестница наверх, в спальню. Эгле не стал подниматься, а прошел в кабинет.
Он сел за письменный стол. Тишина. На столе трепетали мягкие тени — весенний ветер за окном шевелил плети дикого винограда, и они время от времени осторожно постукивали по стеклу. Эгле обвел взглядом комнату, в которую он вошел четверть века назад и которую в недалеком будущем предстоит покинуть. Первым приобретением был вот этот старомодный стол с тумбами. Потом появились две высокие, под самый потолок, книжные полки, первое время полупустые, а теперь до отказа набитые книгами. Лишь на самом верху стояли не книги, а глиняные подсвечники, керамические лошадки и прочие изделия латгальских искусников. В самом углу, опершись подбородком на полку, красовался череп; глазницы его смотрели куда-то за пределы комнаты. Эгле еще помнил длинное название крохотного отверстия в височной кости: «апертура екстерна каналикули нерви петроси суперфициалис майорис». Семь этих слов все тридцать лет, минувших после экзамена по анатомии, занимали место в какой-то клетке мозга. Ему, Эгле, за тридцать лет знание этих слов ни разу не понадобилось. Человек затверживает уйму ненужного, потому что не знает, что в жизни ему действительно потребуется. Не забыть сказать Янелису, чтоб не начинял голову без разбору.
Перед полками лоснятся черной кожей диван и два глубоких кресла; рядом низкий столик с радиолой. Старомодно, но добротно и удобно. Кресла появились одновременно с Гертой. В военное время они подумывали, не пустить ли кожу с кресел на верха для ботинок.
Эгле вздрогнул — на стол поставили чашку кофе. Сестра. Он успел заметить лишь перекрещенные на ее спине лямки от передника и узел седых волос на затылке, когда она выходила из комнаты. Кристина принадлежала к числу людей, которых не замечают, когда они в доме, но сразу ощущают их отсутствие.
Эгле выпил кофе. Кофе и само по себе вкусно, а имеющийся в нем кофеин, возможно, подымет кровяное давление. Возможно. Во всяком случае, пить кофе приятно, и оно не вредит. А стол совсем уже почернел. Полировка лишь местами тускло отблескивала, словно водяная лилия ночью.
«Зачем ты думаешь про стол, про кофе? Не увиливай! Лучше реши, на что потратить оставшееся время. Можно, скажем, натешить себя всеми земными радостями, не полагаясь на блаженство в раю, или же… или жить, как обычно, и ждать. Как же быть? Предаться наслаждениям? Надо еще уточнить смысл этого слова. Часто под „наслаждением“ подразумевают розоватый свет ночника, откинутое одеяло и объятия нагой женщины. Это, увы, не для меня. Мне всегда был страшен похмельный рассвет в чужой спальне. Стало быть, не подходит.
Иным доставляет наслаждение водка. Я же всю жизнь с удовольствием пью пиво. Благодать, когда оно таинственно шипит в стаканах, рассказывая про ячменное поле, про чешуйчатую головку хмеля, которая летом прячется где-то на верхушке прибрежной ольхи. Я люблю выпить вина, в особенности холодного, от него запотевает стакан, а глотнешь — и на душе сразу делается тепло, доброта тебя охватывает ко всем… Но я никогда не пил, чтобы забыться.
Иной раз в спешке будней можно не вспомнить про день рождения, но нельзя забыть о смерти, в особенности когда она не за горами.
Не подходит.
Слушать музыку? Наслаждение, но невозможно заполнить музыкой все дни напролет.
Разъезжать по белу свету, обклеивая ярлычками бока чемоданов, любоваться утренними зорями в чужих горах и отблесками закатов в невиденных озерах? Я устал, через неделю уже не смогу утром вылезти из постели.
Нет. Все эти наслаждения не для меня. Но что же делать? Сидеть вот так в одиночестве и ждать, наблюдая, как по вечерам дикий виноград оплетает черным кружевом окно?
Хоть бы мышь поскреблась в углу, что ли, хоть бы устроила себе гнездо в диване — тогда я знал бы, что не один здесь. Сестра спит. Янелис тоже».
Эгле так и не придумал, чем ему заняться.
Он поднялся в спальню. Лег в постель и включил радиоприемник. В темноте замерцала зеленоватым светом шкала. Ее отблеск упал на противоположную стену. Эгле охватило чувство, будто он в концертном зале. В зале люди и звучит музыка.
Но после двух часов дикторы один за другим пожелали радиослушателям доброй ночи, отзвучали государственные гимны, и воцарилась тишина. Как в концертном зале ночью, когда люстры погашены и лишь свет фонарей с улицы ложится на красный бархат кресел.
Где-то послышался джаз, словно марш перед закрытием ресторана. Эгле не желал оставаться в нем последним посетителем и выключил приемник. Принял снотворное. И когда с дальних полей в открытое окно вошел сон и с ним легкое, дарящее беззаботность опьянение, Эгле с улыбкой подумал: «Я принял снотворное, а зря — осталось мало времени, и уместнее принимать лекарство, которое прогонит сон».
Он уже спал, когда под штукатуркой заскреблась мышь.
На следующее утро Эгле проснулся поздно. Из спальни прошел на балкон и обвел взглядом косогор, сбегавший к речке Дзелве. Ольха и березы на берегу были одеты светлой зеленью, свежи, словно речка с утра умыла их. Осенью березы, даже в пасмурные дни, бывают яркими, как факелы. Краски весны — пастель; осень пишет маслом. Трава у прибрежного ивняка испещрена белыми точками. Это уже не опавшие сережки ивы, это доцветали последние белые анемоны.
«Раньше я всегда хранил на столе под стеклом кленовые листья. Что же делать? Сообщить в министерство, что захворал, пусть подыскивают замену. Конечно, так и придется сделать, но сегодня мой обход. Надо будет проверить планы лечения и среди новых больных отобрать тех, кому дадим Ф-37. Врачей-то хватает — Берсон, Миклав и еще эта молоденькая, Абола, которая краснеет перед пожилыми больными, но за Ф-37 ответственность лежит на мне. Вручение отставки придется отложить».
Внизу, в гостиной, его ожидал завтрак. Корочка от булки поранила ему десну. В последнее время десны часто и без повода кровоточили. Придется перейти на каши.
Странное дело, сегодня он уже с утра чувствует себя хуже. И хотя выпил кофе, голова все еще слегка кружится. Это все вчерашний анализ. Если б в нем, пусть даже подделанном, было написано, что лейкоцитов прибавилось, возможно, и самочувствие было бы лучше. В медицине не всем надо говорить правду. Врачам тоже можно принимать ее только в ограниченных дозах.
«Мне правду сказали до конца. И, в общем, я устоял перед нею, не сломила она меня. Однако голова-то все равно кружится…» — рассуждал Эгле.
Он вспомнил, что в прошлом году купил в Сигулде трость, чтобы легче было лазить по крутым берегам Гауи, по узким тропкам, прыгая с коряги на корягу. Теперь приходится ходить по ровной дороге. В гостиной стояло пианино, на нем Янелис изредка разучивал липси или мамбу. У него на носу экзамены, и давно уже никто не касался клавиатуры. Из-за инструмента торчала желтая сигулдская трость с выжженным на ней узором. Конец палки паук привязал к стене. Когда Эгле взял палку, владелец паутины сбежал вниз и скрылся под пианино. Отныне придется водить дружбу с клюкой.
У гаража на раннем весеннем солнышке нежилась дворняга. Над глазами у нее было два светлых пятнышка. Пес бросился к Эгле, но передумал, увидев у хозяина палку. Собаки знают, для какой цели иногда служит палка.
Эгле погладил животное.
— Здравствуй, Глазан! Добрый ты, приятель, но дурак.
Пес залаял.
— Ах, не дурак? Тогда скажи, как звать твоего отца?
Глазан опустил уши, он не понимал таких длинных фраз.
— Значит, не знаешь. Многого ты не знаешь. Я знаю много, даже то, чего иногда лучше бы не знать. — Эгле раскрыл двери гаража.
Аллея вывела Эгле к центру поселка. Дальше его путь лежал мимо шеренги каштанов, на них уже лопались крупные, смолистые почки; затем мимо бывшего замка — сейчас в нем школа. Наконец он свернул еще в одну аллею и подъехал к санаторию.
В кабинете Эгле заметил, что подле девочки с ягненком кто-то поставил вазочку с калужницей. Он подписал разложенные на зеленом сукне стола бумаги: накладные на получение сельдей, мяса и перца. Подумать, сколько извел он за десять лет и чернил и времени на подобные бумажки! Чтобы подписывать их, незачем было корпеть над анатомией, физиологией, внутренними болезнями. Впрочем, нечего роптать, потерянного не вернешь.
Он достал из стола пачку анализов и прибавил к ним вчерашний. Еще раз пролистал эту свою «биографию» последних шести месяцев. Лишь дважды, после повторных переливаний крови, наступало временное улучшение. Эгле перевел взгляд на широкое окно. В нем был виден морщинистый ствол сосны, а дальше, чуть не до самого леса, простирался залитый солнцем зеленый газон. Когда выстроили санаторий, на месте газона была подсека. Вокруг больших сосновых пней в летний зной благоухал малинник, на пнях грелись ящерицы. Вместе со всеми в свободное время он вырубал корни, корчевал пни, и по вечерам от работы ныли мускулы. Теперь они тоже побаливают, и не только по вечерам. Боль не оставляет его даже после отдыха.
Погруженный в раздумье, Эгле не расслышал, как в дверь постучали. Когда сестра Гарша появилась на пороге, он вздрогнул от неожиданности, быстро сунул в ящик анализы и вскинулся, зло чеканя слова:
— Прежде, чем войти, воспитанные люди стучатся!
Сестра Гарша впервые слышала, чтобы главврач разговаривал таким тоном. Ее темные глаза недоуменно уставились на Эгле, лицо залилось краской возмущения, проступившей сквозь пудру.
— Извините, но воспитанные люди и не кричат. Я никогда не стучу кулаком. Ни в одну дверь. Мы готовы к обходу. Простите за беспокойство…
Эгле взял себя в руки и, уже с улыбкой, сказал:
— То-то же! Помешали читать грозное письмо.
Гарша улыбнулась — иногда она улыбалась — и тихо сказала:
— Не знаю на этом свете человека, которому могло бы прийти в голову угрожать вам!
Эгле, растерявшись от неожиданной теплоты в голосе Гарши, поднял палец к потолку.
— Помимо этого, имеется еще тот свет, сестра Гарша.
Он встал. Гарша подала ему фонендоскоп, но сначала он взял с вешалки трость.
В коридоре их уже ожидали заведующий отделением Берсон, врач Абола и улыбчивая, молоденькая сестра Крузе с охапкой историй болезни и рентгенограмм. Эгле подал Берсону руку. Берсон недоуменно взглянул на палку главврача. Похоже было, что у этого сильного человека, спортсмена, не укладывается в голове, зачем вообще люди ходят, опираясь на палку? — хотя у самого в коротко подстриженных висках уже мерцали серебристые лучики.
Сестра Крузе была красива, накрахмаленная шапочка прикрывала модную прическу лишь на затылке. Она всегда пристально смотрела в глаза собеседнику, будто ожидала возгласа: «Ах, как вы хороши!»
Сестра Крузе знала, что она красива. Слегка покачивая бедрами, она двинулась первая и открыла дверь палаты. Может, именно для того и придуманы туфли на высоком каблуке, чтобы так покачиваться. Эгле сознавал всю ее женскую привлекательность, но, невольно сопоставив избыток жизненных сил у Крузе и свою собственную немощь, почувствовал антипатию к этой женщине. «Это несправедливо и недостойно, — приструнил себя Эгле. — Что дурного в том, что человек привлекателен? Да и разве она виновата в этом?»
В светлой комнате было три койки, стол и зеркало в нише с умывальной раковиной. На первой поверх одеяла лежал плешивый мужчина с седой бородкой. Крузе подала Аболе историю болезни; молодой врач со старательностью первой ученицы открыла карточку на последней записи, передала ее Эгле и четко доложила:
— Больной Земгалис. Поступил двадцатого февраля с диагнозом хронический фиброз…
Эгле присел на постель Земгалиса, взглянул на больного и, по привычке изобразив на лице благодушие, принялся перебирать рентгенограммы.
— Земгалис. Уж кого, кого, а Земгалиса я знаю!
Земгалис — часть моей биографии. Больше двадцати лет мы с ним вместе работаем.
Земгалис удивленно пошевелил бородкой.
— Вместе работаем?
— Ну да. Боремся с туберкулезом.
— Это верно. — Земгалис довольно усмехнулся.
— Но настает время расстаться нам… насовсем.
Гарша, в этот момент проводившая пальцем по верху шкафа с намерением обнаружить там пыль, обернулась и прислушалась.
Эгле хлопнул Земгалиса по плечу.
— Да. Послезавтра выпишу. Прощайте. — Эгле кончиком карандаша потыкал в рентгенограмму. Земгалис тоже глядел на черный негатив, но, ничего не понимая, лишь согласно качал головой. — Вот они, бациллы, замурованы в извести, как в орехе, и уж никогда наружу не вылезут. В тридцать девятом вот тут все и началось с небольшого плевритика.
— Верно, тут. — Земгалис уверенно приложил палец к собственным ребрам, поскольку свою грудную клетку знал лучше в натуре, чем на снимке.
— Война наградила вас орденами и чахоткой. — Эгле показал другое место на пленке.
— Да разве меня одного?
— Утешение, конечно, но чахотка-то осталась чахоткой.
— Вот тут вы меня поддували и резали. — Земгалис опять приложил руку к груди. Он хорошо знал биографию своего туберкулеза. Иглой для пневмоторакса и скальпелем она была выписана на его коже.
— Помните, вас навестила жена, из Риги она полдороги прошла пешком, ведь автобусы тогда не ходили.
— А вы в тот раз велели заложить санаторские дрожки и ее довезли почти до дому.
— Да, давненько это было.
Эгле отдал бумаги Аболе.
Земгалис торопливым движением достал из-под кровати белую плетеную корзинку.
— Это вам, доктор, на память.
Эгле взял подарок и широко улыбнулся.
— Спасибо. Осенью пойду по бруснику. Ну, всего вам! — Он крепко пожал Земгалису руку.
Слева от окна лежал новичок Вединг. Со страдальческим выражением на бледном лице он неподвижно смотрел в потолок, делая вид, что не замечает врачей в палате. Эгле вспомнил, что встречал не раз таких больных, которые злились на врачей, словно те были повинны в их недуге.
Эгле подошел к Ведингу и тоже нахмурился. Вединг ожидал, что врач примется его утешать, и потому недоуменно покосился на него.
Абола зачитала историю болезни:
— Вединг. Поступил неделю назад. Свежие очаги. Депрессивное состояние. Беспочвенные разговоры о смерти.
Сестра Крузе ласково улыбнулась.
— Надо в санатории устраивать танцы.
— Кое-какие болезни как раз и развиваются от чрезмерного увлечения танцами, — съехидничал Эгле и мысленно выругал себя за то, что опять сорвался и позавидовал тем, кто еще танцует.
— Депрессивное состояние? Не проще ли сказать — повесил нос на квинту. — Эгле взял с тумбочки Вединга колоду карт и жестом заправского картежника там же раскинул их. — Да, что и говорить — сплошь одна черная масть идет.
Вединг проворно сел на койке, глянул на карты и снова откинулся на подушки.
— Нет, вон дама червей.
— Дама червей Земгалису, это он был когда-то блондином, — возразил Эгле.
— Нет, нет, это ведь моя колода!
Эгле присел на край койки, у него снова закружилась голова.
— Знаете, жили некогда две лягушки, пессимистка и оптимистка. Обе они угодили в горшок со сметаной. «Каюк нам, не вылезти отсюда», — сказала первая и пошла на дно. А вторая до тех пор дрыгала ногами, пока не сбила из сметаны ком масла. Лягушка залезла на него и выпрыгнула из горшка.
Эгле встал. Вединг неожиданно громко засмеялся, потом спохватился и сделал постное лицо.
— Доктор, нельзя ли побольше чуткости. Я ведь не лягушка.
— Правильно. Вот потому вы в сметане и не утонете. Вы будете жить. — Переходя к последней койке, Эгле негромко повторил: —Вы будете жить… да, будете…
Здесь лежал дюжий плотовщик Вагулис.
— Факт, будем жить, — громко подхватил он.
Эгле заметил пачку сигарет на его тумбочке.
— Вас тоже скоро выпишут, но если будете столько курить…
Вагулис убрал сигареты в карман и прищурился, как большой кот.
— Больные нервничают и оттого курят. Хотя где вам понять — вы же здоровый.
Эгле стиснул зубы. Он знал, что легкие Вагулиса залечены. Верзила-плотовщик скоро влезет в резиновые сапоги и, поплевав на ладони, будет скатывать в реку бревна, вязать плоты. А он, Эгле, из санатория не уйдет никуда. Эгле хотелось выбежать из палаты, но он коснулся разламывающегося от боли лба и сдержанно сказал:
— Что правда, то правда: здоровому не понять. Только курите все же поменьше.
В коридоре у двери, как преданная собака, его ожидала желтая клюка.
— Эйди, что с тобой? — поинтересовался Берсон и показал на палку.
— В моем возрасте пора болеть ревматизмом, — отшутился Эгле. Говоря это, он чересчур внимательно изучал конец палки, и сестра Гарша решила, что он говорит не то, что думает.
У Эгле закололо сердце, и, проходя мимо рентгеновского кабинета, он зашел туда немного передохнуть. Здесь никого не было. Окна наполовину закрыты черными шторами. Эгле присел на вращающийся табурет перед аппаратом, привычный и просиженный за долгие годы. В полумраке поблескивали никелированные штанги аппарата и блестящие ободки приборов. Эгле показалось, что на него глядит насмешливое лицо робота. Он старался не думать о боли. Но разве не рентгеновский аппарат был причиной его страданий? «Сожрал ты меня за двадцать пять лет, — подумал Эгле с тяжелым вздохом. — Но разве меня силком притащили сюда? А тогда, стало быть, и сожрал меня туберкулез, а не рентген. Чужой туберкулез».
Боль немного утихла. Эгле встал и направился к двери.
В четыре часа, после обхода и осмотра тяжелых больных и после того, как были изучены свежие рентгенограммы, Эгле поехал домой. Он и раньше приезжал в четыре часа, чтобы поваляться и отдохнуть перед тем, как засесть работать на весь вечер. Теперь же — чтобы выпить кофе. Принять его как лекарство.
Пачку анализов и справок он захватил с собой и спрятал в письменный стол — дома будет реже попадаться на глаза.
Эгле вспомнилось, что его дед, по обычаю латышских крестьян, на пороге старости купил себе гроб и поставил его в клеть на сеновал, чтобы не слишком часто натыкаться на это напоминание о вечном покое.
Дома была одна сестра. Эгле выпил кофе и, страшась одиночества, поехал обратно в санаторий.
Вечером, придя на ночное дежурство, Берсон застал Эгле в ординаторской. На ярком желто-зеленом экране рентгеноскопа он рассматривал отснятые за день рентгенограммы. На них только бледные, серые и грязно-черные тени. Однако Эгле умел видеть за этими сетчатыми тенями и юношу со впалой грудью, изможденным лицом, и прекрасную женщину с упругим стройным телом.
— Мне дежурить, — сказал Берсон. Он энергичным движением снял с себя пиджак, закатал рукава сорочки, будто готовился кого-то поколотить. Когда он взял и хотел надеть халат, Эгле отложил снимки.
— Ступай домой, мне одному дома не сидится, я подежурю.
Берсон сел напротив Эгле и в нерешительности провел по своему воинственному седеющему ежику.
— Ты всерьез?
— А разве у меня несерьезный вид?
— Вид у тебя скорей всего больной. У тебя что-то и макушка лысеет.
— На умной голове волос не растет. А чего ради ты в свои сорок шесть носишь такую же прическу, как мой Янелис?
— Хитрю. Обнаружил на висках три седых волоса. От седых волос мужчина может избавиться, укоротив их. — Берсон спустил засученные рукава. — Ладно, тогда я успею на партсобрание. Спасибо!
— Скажи спасибо моей жене. Будь она дома, я не пришел бы. — Эгле помахал телеграммой. — У Черного моря цветут магнолии.
— Ого, магнолии! — почтительно воскликнул Берсон. — И все же таких тюльпанов, как мои, там нет. Есть у меня сейчас один — почти черный, как ведьмин кот.
Берсон ушел. Эгле поставил на столе в ряд три коробочки с витаминами. Коробочки были из глянцевитого картона, яркие и нарядные.
«Завернуть это лекарство в газетную бумагу, так найдутся люди, которые и не поверят в него», — подумал Эгле. Он проглотил четыре таблетки. Потом позвонил домой узнать, пришел ли Янелис. Трубку снял сын.
— Там на моем столе есть два журнала «Проблемы туберкулеза». Принеси, сынок.
Положив трубку, Янелис перерыл все, что было на столе. Нужных журналов не оказалось. Он пошарил в боковых ящиках. Средний был заперт. Янелис уважал отцовское правило — не рыться в вещах сына и, в свою очередь, никогда сам не лазил в его стол. Отец говорил, что незапертые ящики стола неприкосновенны, они — часть свободы личности. Однако возможно, что журналы отцу очень нужны.
Из точеного деревянного стакана с остро очиненными карандашами Янелис достал ключи и открыл средний ящик.
Сверху лежал черный браунинг-зажигалка. Маленький, на ладони умещается. Отец привез этот браунинг из Лейпцига. Янелис два раза «выстрелил». Хорошая зажигалка, но великовата. Рядом с ней пачка анализов. На верхнем снимке некоторые цифры подчеркнуты красным карандашом. Янелис заинтересовался, поскольку на анализе, как-никак, стоит имя отца! Не зря, видно, он подчеркнул число лейкоцитов и тромбоцитов. Лейкоциты — 1160! Янелис имел представление о том, что такое кровь человека, так как ему приходилось переписывать на машинке для отца научные статьи, чтобы заработать боксерские перчатки и горные лыжи. Янелис внимательно просмотрел все анализы, а также справки, выданные минувшей зимой Московским институтом гематологии. Справки говорили о том, что отцу несколько раз делали переливание крови…
И ведь никто в доме не знал, что отец зимой лечился в Москве. Все были уверены, что он ездил в научную командировку.
Янелис снял трубку и хотел было позвонить отцу, спросить, в чем дело, но вдруг передумал. Почему отец сам ни словом не обмолвился об этом? Значит, скрывает и все равно не скажет. Янелис быстро, ломая карандаши, переписал анализы. Потом позвонил в санаторий.
— Доктор Эгле на обходе, — ответили ему.
— Передайте папе, что журналов я не нашел.
Янелис взглянул на часы. Уже девять! Он выскочил из дома и пустился бегом по аллее. Его догнал Глазан. У Янелиса не было времени загонять собаку домой.
Одна аллея вела из Аргале к речке Дзелве. Через нее был перекинут мост.
На мосту, в сумерках весеннего вечера, стояла девушка, тоненькая и угловатая. Она была еще очень юна и, надо полагать, у нее были строгие родители, так как она носила косу. «Добровольных» кос в наше время нет.
Девушка часто поглядывала на часы и каждый раз сердито отбрасывала косу через плечо, взмахивая ею, словно лошадь хвостом.
По темной аллее кто-то спускался к реке. Девушка забыла про косу, и пошла навстречу идущему. Но на мост вышла тоже девушка, и тогда первая зло притопнула своей журавлиной ногой.
— Что, все ждешь?
— Нет! Больше не жду. Так можно и в старых девах остаться, — ответила ей первая, и они ушли. Это было, конечно, смелое заявление, поскольку возраст обеих еще не давал им права считать себя даже девушками, не то что старыми девами.
Минут через пять на мост выбежал юноша в тренировочном костюме и лохматая собака.
— Нету… — грустно сообщил псу Янелис, но тот лишь весело завилял хвостом.
По дороге домой Янелис думал про то, что его отец, наверно, серьезно болен, и еще про то, что на свидание он, увы, опоздал.
В тот вечер Эгле хотелось подольше походить по санаторию. Его сопровождала дежурная сестра; к ним присоединилась сестра Гарша, она проверяла, как несут службу няни.
В семнадцатой палате внимание главврача привлек больной Алдер; мрачный, как и Вединг, он смотрел в потолок. Но опытный глаз Эгле сразу уловил и разницу: во взгляде Вединга без труда можно было прочесть желание вызвать жалость окружающих, в то время как в глазах Алдера просвечивал нескрываемый страх, особенно когда он после приступа кашля разглядывал в баночке свою мокроту.
В этой палате Эгле не пытался успокаивать больных улыбками и наигранным оптимизмом. Эгле и Алдер познакомились лет двадцать тому назад. Один знал, а другой чувствовал, когда лгут. Преимущество Эгле перед Алдером состояло в том, что он изучал медицину в университете, а не только на собственных хворях, и помимо легочных болезней знал еще и другие.
— Ну, как дела? — поинтересовался Эгле. — Опять кровь?
— Сегодня хорошо… свежей не было, — на одном выдохе шепотом проговорил Алдер, показывая, что дыхания еще хватает, раз он может произнести залпом целых пять слов. Он говорил шепотом из боязни растревожить кровоточащие ранки в легких.
Но Эгле и без того знал, что состояние тяжелое. Разлившаяся в легких кровь грозила новым процессом и пневмонией. Алдер был в положении человека, идущего над пропастью по подпиленным мосткам. И он прекрасно знал, что мостки подпилены.
«Тяжелобольных можно разделить на две категории: одни, когда им хуже, лгут, другие — говорят правду, — подумал Эгле. — Лгут потому, что хотят обмануть себя или окружающих. Или стыдятся того, что болезнь одолевает их, а не наоборот, и потому лгут. Пожалуй, в этом проявляется их сила».
— Вот и слава богу, — проговорил наконец Эгле, присаживаясь на подоконник. Он принялся листать историю болезни Алдера, толстую, как судебное дело. Преступник, имя которому туберкулез, на сей раз выпутается.
Описание течения болезни, температурные листки, анализы и справки. Первые записи на гладкой, добротной бумаге сделаны в сороковом году, когда у восемнадцатилетнего парня обнаружили свежий туберкулез. Сорок первый год… Койку Алдера занял немецкий зенитчик с перебитыми ребрами. Вот серая, грубая бумага — в такую раньше заворачивали сельди — температурный листок сорок пятого, когда не было вдоволь ни бумаги, ни сельдей. Возвращение Алдера в санаторий. Теперь это уже туберкулез с разрушением тканей. Улучшения, вспышки, и так тянется по сей день. Сразу после войны не было нынешних эффективных лекарств. Алдеру удалили семь ребер, но и это мало помогло — туберкулез постепенно выедал легкие. Все послевоенные годы Алдер скитался из больницы в больницу, из санатория в санаторий, а иногда с полгода, если не выделялись палочки, проводил дома. Дом, если ты в нем родился, не перестает быть домом оттого, что ты живешь в нем наездами, раз или два в году. Больница не становится домом, даже если ты проводишь в ней десять из двенадцати месяцев. Это туберкулез застарелый, от него бывает, что и умирают. Микробам, угнездившимся в Алдере, любые лекарства нипочем. Не существует и таких лекарств, от которых могла бы возродиться погибшая ткань легкого.
— Вы слишком много медицинской литературы читаете. — Эгле взял с тумбочки журнал «Цайтшрифт фюр Туберкулезе». — Книги по медицине, как в старину Библию, следовало бы печатать на языке доступном лишь тем, для кого они писаны. Читайте лучше про Швейка. Или рассказы О'Генри про жуликов. Это больше помогает от туберкулеза, чем ваш «Цайтшрифт». Мы вам проведем курс циклосерина.
— Это верно, мне давно уж не давали циклосерин. Скажите… вы в самом деле уходите в отпуск? — шепотом спросил Алдер и уставился на Эгле блестящими глазами температурящего больного.
«Да, — хотел он сказать, — подошло время и мне идти в отпуск…» Но передумал. Алдер ждал другого ответа.
— Ерунда. Мы оба останемся в санатории. В отпуск пусть уходят другие. Мы — железный инвентарь. — И они улыбнулись друг другу.
— Не лежите все время на спине, — тихо посоветовала Алдеру Гарша, проверяя, не сбилась ли у него простыня. В ее голосе не было и следа официальной строгости.
— Я знаю, могут образоваться пролежни. Декубитус, — прошептал латинское название Алдер. — Надо поворачиваться.
— Вы много знаете, — согласилась Гарша.
— Когда долго болеешь, необходимо много знать, — заметил Алдер.
В коридоре Эгле взял свою желтую трость.
— Может, сообщить близким, чтобы приехали? — спросила Гарша.
Эгле тяжелым взглядом посмотрел на медсестру. Он понимал скрытый смысл этого вопроса. Надо предвидеть исход болезни. Нежелательно, чтобы близкие приезжали слишком рано, но и ни в коем случае они не должны опоздать. Подобную ошибку никто не исправит.
— Подождем.
Они поднялись этажом выше и зашли в одну из женских палат. В отличие от мужских, тумбочки здесь вместо обычных белых салфеток были накрыты цветными и узорчатыми, на них стояли глиняные кружки и вазочки с красным клевером и фотокарточки. Умывальник был заставлен всевозможными флаконами и баночками. «У Вединга на тумбочке лежали карты, а у Вагу лиса сигареты, — вспомнил Эгле. — Женщины все-таки более уютные создания. Рукоделие, домашние туфли с помпонами — совсем по-домашнему».
Одна больная спала, вторая, сгорбившись, сидела у окна и вязала синюю варежку. С помощью стрижки «под мальчика», слоя пудры и помады она пыталась возместить в своем облике то, что высосал туберкулез. Лишь глаза, большие и удивленные, оставались юными. Истинный ее возраст можно было определить лишь по истории болезни.
Эгле нарушил атмосферу уюта.
— Покажите-ка вашу ногу, Дале, — обратился он к вязальщице.
Дале положила ногу в капроновом чулке на край койки. Большим пальцем Эгле сильно надавил ей повыше лодыжки. Потом прощупал ямку в отеке.
— Уменьшилась, — сказал он. — Сердце тянет сильней.
— Да, — хрипловатым голосом подтвердила Дале. — Уже на третий этаж подымаюсь без остановки.
— Ваш туберкулез утихомирился, — сказал Эгле, рассматривая рентгенограмму.
— Сколько же можно! Двенадцать лет мучает. Эгле знал, что Дале болеет все послевоенные годы.
Болезнь в конце концов отвязалась от нее, но унесла вместе с собой молодость и девичьи надежды, а также изуродовала на память грудь и посадила ей на спину горб.
— Закончим вот инъекции строфантина, а тогда и домой.
Дале отложила синюю варежку.
— Доктор, пожалуйста, разрешите мне ходить в семнадцатую палату, — попросила она смущенно.
— Хорошо, можете посещать в любое время.
Эгле вышел.
Гарша задержалась в палате.
— Пойдете к Алдеру, зайдите сперва ко мне. У меня есть клюква. Весной набрала на болоте. Сочная, сладкая.
На другой день, придя из школы, Янелис облачился в свой любимый тренировочный костюм и побежал в санаторий. Вообще он больше бегал, чем ходил, — баскетболисту нужна кроссовая тренировка. Лишь у санаторного парка он перешел на широкий быстрый шаг.
На юного спортсмена сразу обратили внимание больные, гревшиеся на солнышке около главного корпуса. Заметила его и Гарша — она шла по той же дорожке, но не подала вида, однако сын Эгле поздоровался и преградил ей путь.
— В санатории есть кто-нибудь из врачей? — спросил Янелис.
— Абола, она сегодня дежурит.
— Я ее не знаю.
— А что вы хотели?
— Мне надо… посоветоваться.
— Так у вас ведь отец — врач.
— Мне… как раз насчет него. Только, пожалуйста, никому не говорите!
— Насчет него? — Гарша сделала шаг вперед. — Что случилось? Он уехал в министерство.
Янелис протянул ей переписанные анализы.
— Это его кровь.
Гарша подняла на Янелиса испуганные глаза.
— А сам он… что говорит?
— Ничего. Только жалуется на головную боль и кровь из зуба. — Янелис машинально провел рукой по лбу, как в последнее время часто делал отец.
Гарша сняла шапочку. Без шапочки, скрывавшей темно-каштановые короткие волосы, она была уже не старшая медсестра Гарша, а просто взволнованная женщина.
— Пойдемте в ординаторскую, позвоним Берсону.
Она взяла Янелиса под руку, забыв, что он не больной, и они скрылись в дверях корпуса.
Больные, сидевшие на солнышке, громко стучали костяшками домино. Вагулис, Вединг и две женщины. Ритм ударов сбился, когда Гарша взяла Янелиса под руку. Одна из женщин тихонько заметила:
— Какого молоденького подцепила…
Вагулис немедленно отозвался:
— Вот состаритесь…
— Невежа! Я не состарюсь!
— Никто из нас не состарится… — горестно прокашлял Вединг.
Вагулис сильно пришлепнул костяшку.
— И чего болтаешь. А вот я доживу до старости, прежде времени помирать не собираюсь.
Янелис оставил анализы Гарше.
Через час в ординаторской появился Берсон. Здесь никого не было. По привычке он снял с себя пиджак и, насвистывая, энергично засучивал рукава сорочки. Вошла Гарша. Движения Берсона сразу утратили порывистость, как у школьника при появлении учительницы.
— Доктор, вы разбираетесь в болезнях крови?
— Каждый врач кое-что смыслит в медицине. Только больные в этом сомневаются иногда.
Гарша показала анализы Эгле. Берсон прочитал и бесстрастно констатировал:
— Смотрите-ка, прямо как из учебника! Хроническая лейкемия…
— Это кровь Эгле.
Берсон снова надел пиджак.
— Не может быть!
— Такими вещами не шутят.
Берсон все еще держал анализы в руках.
— Да, болезнь страшная. Лично я предпочел бы туберкулез, — вздохнул он. Его серые глаза приняли жесткое выражение.
В тот день, по дороге в Ригу, Эгле прикидывал: сразу ли ему отказаться от должности главного врача и уйти на пенсию или же сначала посидеть некоторое время на бюллетене, пока будет оформляться инвалидность. Пенсию все равно он сразу не получит — сперва надо пройти все комиссии и собрать документы, подтверждающие стаж. У него есть два хороших костюма, один темный, на все случаи жизни — как говорят: хоть в церковь, хоть в кабак. При его должности и возрасте костюмы не изнашиваются, только выходят из моды. А понадобится ему, видимо, лишь новый галстук. Полгода он уже не курит, проесть он тоже много не проест — ничего и так в глотку не лезет. Деньги он тратит только на витамины и на бензин. Но деньги нужны семье. Герта вернется в лабораторию через месяц, и после отпуска всегда трудно дождаться зарплаты, а тут еще Янелис кончает школу. К выпуску нужен черный костюм и все прочее для такого случая. Так что с работы, пожалуй, надо уходить постепенно.
В министерстве, до заседания коллегии, он написал заявление о том, что намерен взять длительный отпуск по болезни. Заявление он хотел вручить министру после заседания и в личном разговоре порекомендовать на свое место Берсона.
Началось заседание. Эгле развесил чертежи и рисунки новых корпусов в парке санатория. Это были не обычные архитектурные акварели, а скорее творения влюбленного в идею художника. Группа строений с широченными окнами прекрасно гармонировала с окружающей природой. Тут захотелось бы пожить и отдохнуть любому, кто не избалован солнцем. Эгле просил изготовить эти рисунки специально к заседанию, чтобы убедить маловеров.
— А вот здесь открытая веранда нового корпуса. С севера она защищена от ветров рощей, — пояснял он, водя указкой по листам.
— Какая там роща, нету ее, — заметил кто-то скептически.
— Нету, так будет! Ведь только год назад посадили. Самое дешевое лекарство — свежий воздух. И мы все больше будем применять его. В старом, неприспособленном помещении мы совсем забыли, что он существует. Итак, заглянем в будущее. Вот корпус для хроников, этого печального наследия прошлого. Его отделяет лесной пояс. — Эгле вытер пот — солнце перелезло через зеленое сукно стола заседаний и добралось до листов с проектом, осветив их ярче и теплее, чем электрическая лампа. — Мы должны сделать все, чтобы изолировать больных с открытыми формами заболевания. Не будет бацилловыделителей, не будет новых больных. Образно говоря, сегодня не было бы туберкулеза, если бы наши предки пользовались плевательницами. В заключение хочется добавить: коммунизм и туберкулез — понятия несовместимые. — Затем, выдержав паузу, он дружески улыбнулся министру. — Вот, а посему выделяйте средства, нужно уже в этом году закладывать фундамент.
Он оставил указку и взял свою трость. И сразу вспомнил о том, что болен, что нельзя много говорить, и сел на место.
Министр встал.
— Весьма вероятно, что средства удастся изыскать. Перерыв, товарищи.
Когда Эгле скатывал листы проекта в рулон, к нему подошли знакомые.
— Ты тут размахнулся на двадцать лет вперед. Думаешь жить вечно?
— А кто мне запретит жить вечно?
Уже на улице Эгле вспомнил, что не вручил министру заявление. Снова тащиться на третий этаж не хотелось, и он решил отдать его в следующий раз.
Из министерства он поехал в туберкулезный институт. По пути сделал остановку на Вальню, зашел в кафе. «Странная вещь, — подумал Эгле в ожидании официантки. — Кофе вошло в моду фактически очень недавно, хотя готовить из него напиток абиссинцы научились еще в глубокой древности, где-то в пятнадцатом веке. Выходит, теперь и я оказался на поводу у моды? Впрочем, это далеко не худшее из ее проявлений». От крепкого кофе по телу разлилась приятная теплота, и вдруг неудержимо захотелось сидеть не на этом неуютном железном стуле, а в домашнем кресле. Эгле раздумал тащиться в туберкулезный институт. «Не резон, — рассуждал он. — Лабораторная работа по Ф-37 в общем закончена, фармакологический комитет разрешил применять его, и поеду-ка я домой. Возможно, лишние два часа отдыха подарят мне целый день жизни».
Да, два с лишним года ушло на разработку препарата Ф-37. И, собственно говоря, чего ради он пять лет тому назад связал себя работой в этом институте? Ведь ивы на берегах Дзелве куда красивее фонарей на набережной Даугавы. В начале своей практики он лечил туберкулез обычными методами, впоследствии освоил хирургию легких, потому что тогда не было действенных медикаментов и зачастую помощь могли оказать только скальпель и кусачки для перекусывания ребер. Теперь ему ни за что бы не простоять два часа у операционного стола, обливаясь потом, как землекоп. Опыт хирурга принес ему кандидатскую степень и должность научного сотрудника в институте. А потом химия дала новые средства. Но уже через три, четыре года выяснилось, что часть микробов приспособилась к этим веществам. У микробов нет мозгов, а вот на тебе! — снова перехитрили человека. С этим мириться никак нельзя, иначе для чего же человек наделен умом! За четыре года рижские химики создали один за другим ряд сходных с прежними, но тем не менее новых препаратов.
Одно из соединений оказалось удачным. За эти годы оно было испытано, и выявилось его важное преимущество перед другими: его не задерживает жесткая рубцовая ткань, образующаяся в легких вокруг старых очагов туберкулеза. Эгле предложил в пробную серию препарата ввести радиоактивные атомы, с тем чтобы установить, где именно в организме задерживается новое лекарственное вещество. Испытания на животных прошли успешно. Но настал час опробовать его действие на человеке, доказать его безвредность для организма, и кто-то должен употребить его первым. Порядок этот не нов, существует и по сей день. В течение месяца Эгле ежедневно глотал желтые таблетки. Позднее к пробе подключились еще двое студентов. Теперь шла последняя серия испытаний — надлежало определить действие препарата на витаминное хозяйство организма. Эгле поручено отобрать в «Ароне» группу больных и на них провести курс лечения. В «Ароне» есть несколько человек, которым старые лекарства больше не помогают. Один из них Калейс. У него двое детей…
Эгле допил кофе. Он все-таки поедет в институт. Надо взять Ф-37. Хотя бы для тех больных, кто войдет в первую группу. Если Ф-37 им поможет, то грех медлить с этим делом.
В лабораторию он шел через виварий. Рядами тянулись клетки с животными. Как на звероферме. Зверье полезно человеку не только своим мехом. Здесь животные служили для ученых живой моделью человека. Их заражали человечьими болезнями, их лечили человечьими лекарствами, они гибли от человечьего туберкулеза.
Пестрые морские свинки как ни в чем не бывало уплетали морковку и брюкву.
Лаборант вынул из клетки зверька с безжизненно торчащими лапками. В клетке осталась едва початая рыжая брюквина.
— Умерла, — сказал Эгле.
Лаборант привычным движением накинул на лапки петли и закрепил морскую свинку на препараторском столе.
— Нет, околела, — поправил лаборант. — Умирать может только человек.
— Чего не знаю пока, того не знаю. Эта из контрольной группы, без добавки витаминов. Другие живы. — Одна свинка села по-беличьи на задние лапки и, дергая носиком, нюхала воздух. — И даже очень живы, — добавил Эгле.
Лаборант разгладил складки на резиновых перчатках и ножницами вспорол по прямой линии кожу зверька, как в магазине продавец материю.
— Надо будет подсчитать, сколько сотен их пошло за счет Ф-37. И памятника им еще не поставили, — задумчиво проговорил Эгле.
— Кто же им поставит, родственников ведь нету? — нарезая легкие ломтиками и укладывая их в стеклянную чашку, безразлично сказал лаборант.
В виварий вошел директор института Гауер, крупный, дородный мужчина с седыми волнистыми волосами и черными строгими глазами. Он был единственный человек в институте, носивший халат с застежкой спереди, так что был виден галстук.
— Мне срочно требуется еще партия свинок. Все в порядке, но не повредила бы еще одна контрольная серия с витаминизацией корма, — обратился к нему Эгле.
— Такая поспешность в науке… — начал было директор, но Эгле сразу же перебил его:
— Я вынужден спешить, потому что… потому что туберкулез тоже не дремлет. У меня есть больные, для которых спасение, возможно, заключено в этом препарате. Мы все спешим. Ты тоже в Москву не ездишь на лошадях, как Петр Великий, а летишь самолетом.
— Что-то в последнее время у тебя нервишки пошаливают, а? — заметил директор.
— Курить бросил, вот и пошаливают.
Эгле возвращался домой. Рука его время от времени поглаживала оттопыренный карман пиджака, в котором лежали желтые таблетки Ф-37. На Видземском шоссе он нажал до восьмидесяти пяти, но вдруг словно кто-то стянул ему голову железным обручем, и придорожные березы слились в белую стену. Эгле немного отпустил педаль газа, и теперь его без труда обходили мотороллеры и даже мопеды. Он боялся обморока. «Жаль, если Янелису в наследство достанется разбитая машина». Он ехал так тихо, что его даже остановил автоинспектор, удостовериться, не пьян ли водитель. Медленная езда в наши дни больше бросается в глаза, нежели бешеная гонка.
«И все же эти тридцать километров я покрою минут за сорок. Пешком на эту дорогу пришлось бы ухлопать шесть часов, а на лошади часа четыре. По сравнению с дедовскими временами, я на каждой поездке экономлю минимум три часа. Можно сказать, что каждый человек выгадывает на транспорте годы жизни».
Впереди грузовик с прицепом вез автопокрышки и занимал середину шоссе. Рука Эгле машинально нажала кнопку сигнала.
«Стало быть, мало у нас времени, — продолжал размышлять Эгле. — Все торопимся, торопимся. А как расходуем сэкономленные часы? Если мы копим копейки и рубли, то на них потом покупаем пальто, телевизор или электробритву, она, между прочим, тоже сберегает время. Жаль, что до сих пор не замечал, на что употреблено выгаданное время. Может, я его снова транжирил, как пьянчуга трудовые копейки?»
Эгле загнал машину в гараж. К стене его было прикреплено баскетбольное кольцо. Янелису еще не приходило в голову беречь свои минуты, и он щедро тратил их на бросание мяча в кольцо, о чем свидетельствовала туго утоптанная земля вокруг.
«Итак, поездка на машине подарила мне три часа. Сегодня их потрачу на сон».
Он лег, но снова встал, и рядом, на кровати Герты, разложил проект нового санатория. Ему вдруг пришло в голову, что надо бы устроить еще один бассейн, а края его выложить из слоистого рухляка. Вода оживляет любой пейзаж. Она, как человеческое лицо, отражает и радость и печаль: слезы пасмурного осеннего неба, улыбку июльского солнца в синеве, рябью своей — весеннее волнение. В бассейне можно развести розовато-белые водяные лилии, такие, как в пруду Буртниеку-парка. Они ему почему-то всегда напоминают сложенные в пригоршни женские ладони. Надо будет посоветоваться с архитектором.
В углу заскреблась мышка, и вскоре он уснул.
На следующее утро, когда Эгле пил кофе, в холл вошел еще заспанный, в ковбойке, застегнутый не на ту пуговицу, Янелис. Эгле удобно откинулся в кресле и пристально поглядел на сына. Таким некогда он был сам и, возможно, таким быть тому, кто опять будет зваться Эгле. «У Янелиса рост сто семьдесят пять, а у меня только сто семьдесят два. Теперь дети часто перерастают родителей. У них и питание лучше, и детство легче. В пять утра он еще спит, а я в свое время, бывало, на заре постолы вымачиваю в росе, чтобы ноги не натирали, и гнал корову в стадо. Вот он не знает, что за штука снятое молоко, а я не знал, что на свете существует мороженое. А глаза у нас с ним одинаковые. Жизнь еще не провела у него на лбу, как у меня, две борозды. Подбородки у нас обоих могли бы быть покороче. Не всегда они признак энергичности характера. На старости лет, когда своих зубов не будет, подбородок и вовсе выпрет вперед».
— Папа, скажи, как у тебя со здоровьем!..
Кофе сразу потерял вкус. Уже известно или догадывается?
— Что это ты вдруг?
— Я нечаянно наткнулся на твои анализы. Когда искал журналы…
— Ты не врач, тебе не понять.
— Я… Гарша показала их Берсону.
Та-ак. Теперь раззвонят на весь Аргале, что Эгле одной ногой в гробу. Если он увидит хоть один сочувственный взгляд, то уж наверняка не сможет больше работать! Сочувственный взгляд будет то же, что похоронный звон, и незачем слышать его при жизни, он для провожающих, а не для отбывающего.
— Так! — Эгле сердито пристукнул палкой.
— Ты ведь все молчал… это не первый день с тобой.
Верно, он сам не рассказал бы, но теперь расскажет.
Эгле пристально поглядел на сына.
— Не будем говорить громко. Другим незачем это знать. Видишь ли, из нас двоих врач все-таки я. Да. Я болен, но, видишь, хожу на службу. Разве серьезно больной человек работает? Сам знаешь, что нет. В справках сказано, что я лечился, это верно. Не могу сказать, что я абсолютно здоров; есть небольшое малокровие, правильно, но работа в институте подходит к концу, на все лето возьму отпуск, нажму на клубнику, и все будет в порядке.
Янелису очень хотелось верить, что все будет в порядке и отец поправится. Он улыбнулся. Эгле продолжал:
— Только никому ни слова. Женщины волнуются по любому пустяку. Не дай бог, с утра до вечера придется выслушивать: «Ты болен, ешь кашку, не простынь, надень теплые кальсоны», — расхвораюсь всерьез. Между прочим, вчера в министерстве мне дали новое лекарство. — Эгле достал те самые витамины, которые принимал уже много месяцев, и проглотил таблетку. — Ну-ка, одевайся побыстрей, в школу опоздаешь. До школы можешь посидеть за рулем.
Вечером, когда Эгле уже собрался идти домой, в кабинет вошел Берсон и, не говоря ни слова, сел в кресло напротив. Чуть погодя появилась Гарша и заняла позицию около умывальника. Она тоже не произносила ни слова и делала вид, будто меняет полотенце. Эгле понял, что предстоит серьезный разговор, и вооружился кривой усмешкой.
— Стоило Янелису только заикнуться, как тут же все доложили Берсону. Чрезвычайно женственно с вашей стороны, — атаковал он Гаршу первый.
Гарша повернулась и посмотрела ему в глаза.
— Если вам легче от насмешек, то пожалуйста…
Берсон притворился занятым своими руками. Он ничего не видел, кроме кончиков своих окрашенных йодом пальцев.
— Как же ты мог так запустить?..
У Эгле пропала охота обороняться, поскольку никто не нападал.
— Так уж получилось. Глупо. Вот уже двадцать лет почти ежедневно торчу на рентгене, особенно в начале доставалось, когда нас было всего два врача. Сам ведь знаешь: рентген — третий глаз фтизиатра. Не всегда надевал перчатки и фартук. То поспешишь, то еще что-нибудь. До войны ведь никто не проверял, страдаем ли мы от излучения. Когда у нас впервые проверили вредную радиацию в кабинете? В сорок седьмом, по-моему. Вот она и накапливалась постепенно. Зимой я чувствовал усталость, но думал, это от переутомления. А потом я сам принимал препарат Ф-37 с мечеными атомами. Полагаю, Ф-37 тут ни при чем, но и не исключено, что он дал толчок к ухудшению. При испытании часто контролировали состав крови. Так это выплыло наружу. Зимой ездил в Москву, там поставили диагноз: хроническая лучевая болезнь. Она прогрессировала. Лечился, конечно…
— И продолжал работать, и даже занимался рентгеноскопией, — покачал головой Берсон.
— Рентгеновский кабинет теперь безопасен.
— В твоем состоянии безопасна только кровать.
Эгле снова взял себя в руки и прищурился.
— Я ведь тоже врач. Попробуем… осмыслить надо, что произошло. — Он подошел к стене, украшенной портретами ученых. Указав тростью на первый портрет, он заговорил тоном школьного наставника:
— Кох. Открыл туберкулезную палочку. До него врач сражался с чахоткой вслепую. — Эгле сделал паузу. — Вот Форланини, впервые применивший поддувание легких, пневмоторакс. Сколько жизней спас этот итальянец, зажимая дырки в легких обычным воздухом! Вот третий бородач — Павлов. Его исследования нервной системы доказали, что лечить надо не только болезни, но и больного человека. У мудрых растут бороды. Берсон нервно закурил. Он не желал примириться с мыслью, что человек, рассказывавший сейчас про Форланини, — тот самый, что держал и направлял его, Берсона, руку с иглой во время первого пневмоторакса, словно руку первоклассника, что этого человека уже через год не будет. Желтые одуванчики в вазочке будут стоять, как сейчас, а его не будет.
— Все это давно известно, — хотел он перебить Эгле.
Эгле перевел палку на другой портрет:
— А между ними — сотни таких, как мы с тобой. И кое-кому не везло.
— Ты прости меня, Эйдис, но я нахожу всю эту твою браваду неуместной.
Эгле вернулся к столу.
— Какая уж там бравада! Как мальчишка играл с огнем, мол, подумаешь — велико дело, и доигрался. А теперь уже поздно…
Молча стоявшая у двери Гарша неожиданно и горячо воскликнула:
— Нет, нет, не поздно!
Эгле проглотил таблетку.
— Видите, я хочу выздороветь. — И, переводя взгляд на ствол сосны за окном, добавил: — Только, ради бога, никому ни слова. Мне очень тягостно ловить на себе сочувственные взгляды. Не хочу, чтобы на меня смотрели, как… на живого покойника.
— Не смей так говорить! — Берсон ударил кулаком по столу. — Найдем для тебя лейкоциты!
— Слишком уж ты глубоко убежден, — усмехнулся Эгле.
— Да, да, я и тебе это докажу!
Берсон с Гаршей ушли.
Эгле подержал в руке черный круглый футлярчик, который он собственноручно поставил сюда еще в тридцать седьмом году, впервые войдя в этот кабинет. Футлярчик с песочными часами. Раньше с их помощью измеряли пульс у больных. В средние века такими часами пользовались в церквах, чтобы прочитать молитву точно в положенное время. Иногда их можно встретить на кухне у хороших хозяек — по ним варят яйца. Когда Эгле закончил медфак, его лицо с наивными детскими глазами казалось пациентам чересчур молодым — разве доверишь такому свои недуги. И тогда Эгле приобрел по случаю эти старинные песочные часы и по ним отсчитывал пульс, в надежде, что эта уловка вселит в его больного больше доверия. Получив место врача в санатории, он водворил эти часы на письменный стол, и с той поры редко прикасался к ним — пациенты ему уже и так доверяли.
Эгле наблюдал, как песок тонкой струйкой перебегал вниз. Затем он перевернул часы. Песок опять проделал привычный путь. «Вот и в жизни так, — подумалось Эгле. — Утекут наши дни, но чья-то рука перевернет часы, и чьи-то дни снова покатятся. Жизнь не останавливается. Но, смотри, песок течет непрерывно. Время уходит! Надо спешить. А чтобы спешить — нужны… Пойду-ка я отдыхать».
У машины его догнал Берсон.
— Я провожу тебя.
Они ехали по пробитому фарами светлому туннелю под сенью дубов. В темноте ветви казались ниже.
— Ты решил не отходить от меня, на случай, если я с отчаяния вдруг полезу в петлю. Да?
— От этого не удержишь. Заядлый самоубийца утопится даже в тазу. Я хочу поговорить с тобой открыто. Как медик с медиком. У меня складывается впечатление, будто ты бравируешь своей болезнью. — Берсону было нелегко произнести эти слова, но с них-то он и хотел начать лечение Эгле.
Эгле резко нажал на акселератор. Машина дернулась вперед, но тут же пришлось притормозить из-за встречного мотоцикла. Эгле переключил большой свет на подфарники, чтобы не ослеплять мотоциклиста. В наступившей темноте легко было влететь в канаву; внимание напряглось, и злость, вызванная словами Берсона, прошла.
— Ты уверен?
— Да. Конечно, очень здорово разглагольствовать о Кохе и Форланини. Но сам посуди…
— Правильно, — Эгле перебил его. — Видно, я в самом деле хорохорюсь. Лучше уж так, чем распускать нюни.
В густых сумерках летней ночи виднелись только белые личики анютиных глазок вдоль фундамента дома Эгле, которые цвели на месте уже отцветших нарциссов. Глазан лежал у крыльца и помахал хвостом в знак приветствия. Из окна верхнего этажа сквозь занавеску пробивался свет.
— Дома опять одна сестра. Нелюдимая она у нас. Живет прошлым. Меня она слушает и не слышит, — вздохнул Эгле. — Зайди, покуришь. Дымком потянет — уже мне легче — в доме живая душа есть.
Они прошли в кабинет. Эгле достал из стола сигареты, которые держал для гостей, и зажигалку-пистолетик.
— У тебя же есть семья. — Берсон закурил.
Эгле в сердцах швырнул на стол зажигалку. Она скользнула по гладкой поверхности и упала на пол.
— Семья?.. Жена на Черном море. У Янелиса сегодня соревнования… Женись, поживи лет двадцать, и у тебя настанет такой же вечер, как этот.
На подносе стояла бутылка пива, яйцо, сахар. Эгле смешал яйцо с сахаром, долил пива. Он держал в руке ложечку и вдруг уронил ее. Едва успел дойти до дивана. Берсон кинулся к Эгле, расстегнул ему воротничок и нащупал пульс.
— Головокружение… и страшная боль. Повсюду. Сосуды хрупки. Кровоизлияния, — хрипло прошептал Эгле и открыл глаза. Берсон достал из кармана обезболивающие таблетки. Эгле мотнул головой.
— Анальгин уже не помогает. Я насчет морфия подумываю. В моем случае…
— Доктор Эгле сказал однажды студенту Берсону: «Морфий — это безнадежность». Если у тебя нет надежды, то у меня она есть. От меня ты морфия не дождешься.
— Тогда дай две таблетки.
Голова Эгле лежала на черном диванном валике. Берсон сидел рядом, смотрел на землистое лицо и думал, что, несмотря на свою пятнадцатилетнюю практику, он все же никудышный врач — ведь он замечал, что у Эгле часто кровоточат десны, но удовлетворялся его объяснением, будто бы кровь из дупла в зубе. Он знал, что у Эгле бывали боли в животе и другие жалобы, которых Эгле не мог скрыть, однако не сумел связать симптомы в диагноз. Старая история: врачи не допускают, что и они могут быть серьезно больны. Автогонщик до самого дня катастрофы уверен, что глубину канав измеряют лишь новички.
Эгле приоткрыл глаза, посмотрел на Берсона и невесело улыбнулся. Берсон обратил внимание на то, что морщины на лице Эгле углубились, и на носу словно бы образовалась горбинка, да и весь он заметно похудел.
— Теперь сам видишь, что нехорошо в одиночестве. Тебе сорок пять или сорок шесть? Я тут наболтал всякой чепухи. Знаю, что ты носишь Гарше цветы из своего знаменитого сада…
Берсон заерзал и встал.
— Если ты в состоянии ехидничать — значит, тебе полегчало. Лежи здесь, тут телефон под рукой.
Эгле остался спать на диване. Рядом до самого потолка полка, набитая книгами. На самом верху видна сероватая кость — челюсть черепа.
«Надо бы сесть поработать, подготовить к сообщению все материалы и выводы по Ф-37. Мысль бесследно испарится, если о ней не оставить следов на бумаге, — размышлял Эгле. — Пожалуй, немного полежу спокойно, не то совсем не смогу работать. Такова уж человечья натура — больше всего хочется работать, когда нет уже сил, а пока сил много, они пропадают даром, словно сдутая с пива пена».
Вошла сестра. Седые волосы заплетены в косицу. Жиденькую, как у первоклассницы.
— Почему ты молчишь? Берсон сказал, что тебе плохо.
— Мне уже хорошо. Где Янелис?
— Я ему велела дров наколоть, а он сбежал на соревнования.
— Послушай, Кристина, я тебе ничего не должен?
— Мне? С чего вдруг такой чудной вопрос?
— Видишь ли, мне нужно навести порядок во всех делах. Что, по-твоему, надо бы сделать по дому, если мне, скажем, придется уехать надолго в командировку?
— На крыше две плитки шифера треснули, в оттепель потечет и доски подгниют.
— А по части наших взаимоотношений с людьми…
Сестра смешала гоголь-моголь с пивом и подала Эгле стакан.
— Об отношениях с людьми не мне судить. Выпей, крепче спать будешь. Дверь не закрывай, если что — позови.
Сестра ушла. Добрая женщина Кристина, но не понимают они друг друга. Замкнутая. Всю жизнь прожила со своим лесником в лесах и разговаривала только с деревьями. А теперь живет одними воспоминаниями.
Пока сон еще не сморил, хотелось о кем-нибудь пооткровенничать. Он сел за письменный стол и положил перед собой лист бумаги.
Перегнувшись через перила, на мостике стояли Янелис и девушка. Ее волосы даже в ночи светло золотились. Они молчали, только глядели в черную воду, которую обступили камыши. Думали, что они первые люди на земле, открывшие вот эту радость — стоять на мосту вдвоем; что до них никто и не представлял, какое это захватывающее приключение.
— А я нырял отсюда, — задумчиво обронил Янелис.
— Задаешься ведь, — покачала головой девушка.
Трудно сказать, было ли это только сомнение или она желала, чтобы Янелис в ее честь бросился вниз головой в черный омут с мерцающими листьями кубышки.
Однако для Янелиса было вполне достаточно даже этого малого сомнения.
— Ах так! — воскликнул он и мигом скинул с себя тренировочный костюм. Девушка повернулась к нему спиной. Почувствовав, как дрогнули перила, она, взглянула на Янелиса, уже изготовившегося к прыжку. Девушке, глядевшей снизу вверх, он показался очень большим.
— Не надо, Янелис! она протянула было руки, чтобы удержать его, но постеснялась — ведь ноги у Янелиса голые. — Не надо, — повторила она, но так, что Янелис не разобрал, в самом ли деле она не хочет, чтобы он нырнул, или говорит только для виду.
Он прыгнул. Описав в воздухе дугу, упруго выпрямил тело и красиво вошел в воду вытянутыми вперед руками. Спокойная темная гладь разорвалась, и беспорядочные волны отразили серебристые кусочки неба. Заколыхались листья кубышки, будто Янелис под водой дергал их за стебли.
Потом из черноты воды показались две ладони рядом. За ними последовала прилизанная водой голова Янелиса и плечи. В несколько взмахов он подплыл к берегу и, забрав с моста одежду, скрылся в ольшанике.
Когда одетый Янелис опять стоял как ни в чем не бывало подле девушки на мосту, его слегка трясло от холода. Девушка чувствовала себя виноватой и взяла его влажную ладонь, чтобы согреть. И вместе с тем она испытывала неосознанную гордость от того, что стоит ей заикнуться — и Янелис прыгнет в воду. Янелис, в свою очередь, тоже немного гордился тем, что смог исполнить каприз девушки.
Думал ли он, что прыжком в воду заслужил больше, нежели молчаливую признательность девушки, когда осторожно положил руку ей на плечо? Думала ли девушка, что поцелуй был бы достойной наградой за храбрость? Они не сказали об этом друг другу, но впервые девушка не отпрянула и только запрокинула, не отводя взгляда, голову. Наверно, ей хотелось увидеть свой первый поцелуй. Когда это не удалось, она закрыла глаза.
Потом они еще немного постояли. Когда волны улеглись и листья кубышки вновь погрузились в ночную дремоту, они взялись за руки и вошли в темноту аллеи.
Эгле писал: «Если б каждый, уходя, успевал рассказать о всех важнейших заключениях и выводах, к которым он пришел за свою жизнь, то, возможно, мы жили бы счастливее, допускали меньше промахов, потому что жизнь, в некотором роде, есть череда свершений и исправлений ошибок. Разумеется, необходимо, чтобы нам доверяли те, кому мы потом рассказываем обо всем этом. Беда в том, что наши наследники, как правило, считают своим долгом ошибаться и учиться только на своих собственных ошибках».
В эту минуту сын Эгле вошел в гостиную. Бесшумно — баскетбольные кеды приглушали шаги. Эгле даже не услыхал бы, но Янелиса выдал радостно заскуливший Глазан.
— Янелис, зайди-ка! — позвал Эгле.
Янелис вошел, сел, положив на колени сетку с мячом. Мяч был его броней и алиби.
— Где ты был?
— Играли с командой Цесиса. Выиграли 56:50.
— Всыпали им, значит. Ты не наколол дров.
Янелис облегченно вздохнул.
— Я опаздывал. Завтра переколю целую поленницу.
После встречи с девушкой он чувствовал себя очень сильным и согласен был рубить дрова хоть сейчас же.
— Через месяц ты окончишь школу. Что ты думаешь делать дальше?
Для Эгле это был вопрос чрезвычайно важный, но Янелис невозмутимо пожал плечами, точно отец спросил, какая картина сегодня в кино.
— А что? Меня же из дома никто не гонит. Есть время подумать. Поживу, подумаю.
— Ну, а если у тебя, скажем, не было бы дома, где пожить, подумать?
Янелис решил, что отец шутит.
— Как это?
— Да так. У меня, например, не было дома. Отец каждый год переселялся в другой дом. О таких джемперах и капроновых носках я даже и не мечтал.
Янелис глубокомысленно наморщил лоб, так что зашевелился весь ежик его волос.
— Тогда ведь капрона вообще не было.
Эгле невесело улыбнулся.
— В твоем возрасте я был остроумней. Учти — одним баскетболом не проживешь. Между прочим, даже самые признанные и высокооплачиваемые баскетболисты заканчивают карьеру к тридцати годам. Работать надо! Ты, полагаю, не захочешь вечно жить за чужой счет. Сначала посидеть на шее у родителей, потом у государства…
— Я? За чужой? Конечно, нет!
— Ну, видишь Янелис, я… выздоровлю скорей, если мне ни о чем не надо будет тревожиться и хлопотать. Пообещай, что после школы ты отдохнешь и поступишь на работу. Выбери себе дело по вкусу, но работай. Учиться можно и после работы, — если захочешь. Тогда я буду чувствовать себя спокойней.
— Конечно, буду работать, только сразу не придумать, куда пойти.
— Хорошо, я тебе верю. Но чтоб по-мужски: сказано — сделано.
Янелис встал. Отец сидел за столом, осунувшийся и поникший. У Янелиса невольно сжалось сердце, и он дал себе слово поступить работать.
В тот вечер больная Дале довязала варежки. Ей они были велики. Варежки она убрала в чемодан — тому, для кого связаны, они понадобятся лишь зимой. Подкрасила губы. Надела туфли на среднем каблуке, в них отекшие лодыжки выглядят стройнее. Спустилась этажом ниже.
В комнате медсестер сидела Гарша и, как бухгалтер со счетами под рукой, листала списки медикаментов и листки, исчерченные синими линиями температурного графика. Иногда на графике вырисовывалась волна. Она означала вспышку туберкулеза, и больной тогда не вставал с постели.
Гарша, ни слова не говоря, достала из сумки коричневую стеклянную банку из-под чувствительного к свету лекарства и подала ее Дале.
Сквозь темное стекло клюква казалась черникой.
— Постарайтесь не задерживаться позже десяти, — попросила Гарша.
Но Дале сейчас думала о другом.
— У него из родных остался один только брат. Он живет под Даугавпилсом.
— Я знаю.
— Вы уже… написали ему? — тихо и хрипло спросила Дале.
— Нет, Абола считает, что не нужно, еще не к спеху. — Гарша пристально поглядела на Дале и добавила: — Не беспокойтесь.
Обе они понимали, что означало «написать брату».
С банкой клюквы в одной руке и пучком чахлых ромашек в другой Дале открыла дверь семнадцатой палаты. В сумерках июньского вечера выделялись белые изголовья и откинутые простыни на постелях. Сосед Алдера поднялся и вышел. Дале и Алдер остались вдвоем.
— Ты?! Не зажигай света, — шепотом проговорил Алдер.
Им не хотелось света — слишком он беспощаден к бледности лиц, к запавшим глазам, к яркой краске на губах Дале.
— Я принесла тебе клюквы. — Дале высыпала ягоды на тарелку и посыпала их сахаром. Она разгладила смятую салфетку на тумбочке, аккуратно расправила пузырьки с лекарствами, налила воды в вазочку. С подоконника убрала кислородную подушку, а вместо нее поставила ромашки. Незатейливый цветок — желтая серединка и белые лепестки вокруг. Дети так рисуют солнце. Вот теперь это уже не санаторий, а субботний вечер дома. В открытое окно из зеленых сумерек парка прилетело душистое веяние леса, только его слегка забивал сухой запах хлорамина. Хлорамином тут мыли полы, хлорамин наливали в плевательницы.
Дале присела возле кровати и вынула ноги из лодочек — ныли отекшие ступни. Она накрыла своей ладонью ладонь Алдера и ощутила липкую влагу пота.
Алдер показал рукой на окно.
— В Видземе ромашки зовут белыми цветами. — Он говорил медленно — Дале не должна заметить, сколько вздохов требуется ему для такой короткой фразы. — Перед войной на улицах собирали пожертвования для борьбы с туберкулезом. Каждому, кто давал деньги, прикалывали на грудь белый бумажный цветок. У меня тогда не было денег.
— Я не помню. Мне тогда было всего десять лет. А как я первый раз приехала в «Арону», ты помнишь? После войны. Старые больные меня все спрашивали, знаю ли я, что означают буквы «тбц». Туберкулез, сказала я им. Нет, говорили они; «тбц» означает: тэ бейдзас цельш, тут кончается путь.
— Помню.
— А мы вот живем уже шестнадцать лет, — успокоила его Дале. — Наш Эгле почему-то с палочкой ходит. Вид у него совсем больной.
Алдер пошарил под подушкой.
— У меня тут журнал. Там про Эгле есть. Он при помощи Ф-37 вылечил морских свинок. Хотел бы я быть на месте морской свинки.
— Сегодня на обходе Эгле, говорят, рассказывал анекдот про лягушку-оптимистку. Он, верно, просто переутомился от работы. Даже наверняка. А держится, знает, что болеть не имеет права.
— Сегодня у меня совсем не было крови.
В коридоре послышалась тихая музыка. Песня про рижские мосты. Алдер и Дале помолчали, глядя на ромашки.
— Подумать только, — десять лет прошло с того вечера… на мосту через Дзелве, — прошептал Алдер.
— Мы тогда опоздали к отбою. Гарша пожаловалась Эгле и нам попало.
— В тот год я говорил, что нам надо пожениться, одно легкое у меня было еще почти целое. Хорошо, что мы не сделали этого.
— У нас не было бы детей. Мне запретили. Если б и родился ребенок, он рос бы без матери.
Алдер сел на постели и прокашлялся. Дале взбила подушку и положила повыше; после приступа кашля Алдер остался сидеть. Она придвинула стул к изголовью кровати, чтобы было удобней держать его руку.
— Все из-за меня. Кочевал из санатория в санаторий, какая уж тут жизнь.
— Ты тут ни при чем. Если б тебя в войну не выгнали из санатория, ты сегодня не лежал бы здесь. Если б тогда были такие лекарства, как теперь, и у меня не было бы очагов.
— Слишком рано мы родились.
В коридоре послышались шаги. Это больные расходились по палатам. Как хотелось еще побыть вдвоем. Десять лет вот так крадут они уединение.
Оба повернулись к окну и подумали, как бы хорошо погулять по дорожкам парка; они ходили бы тихо-тихо, и дыханья хватило бы. Капли росы с травинок опадали бы на туфли, и на них налипал песок.
— Я не поеду домой, пока у тебя не пройдет вспышка. — Дале присела на край кровати и склонилась к Алдеру.
— У тебя кончается срок лечения.
— Я придумала, как сделать, чтобы меня подержали еще.
Алдер положил руку ей на грудь.
— Ты у меня храбрая! — сказал он.
— А чего мне бояться? — удивилась Дале. — Что о нас, неженатых, скажут люди? Или стыдиться того, что мы больны?..
Если бы не запах хлорамина, в палате царила бы только тихая июньская ночь, напоенная ароматами пробудившегося лета.
В дверь постучали.
— Это сосед… А мы все-таки сходим на мостик через Дзелве. Правда, купаться этим летом я не буду.
Прошло еще несколько дней. Как-то утром Эгле увидел у санатория большой серый автобус «Икарус». Это была передвижная флюорографическая установка тубдиспансера. Рентген на колесах, с помощью которого иногда делали по четыреста снимков легких за день.
— Почему не отправляетесь, солнце вон уже где! — крикнул Эгле рентгенотехнику.
— От вас должен с нами ехать врач, а никого нет. Недалеко, на мелиоративную станцию.
Подошла Гарша.
— У Берсона отгул за ночное дежурство. Абола с Миклавом у больных. Диспансер не согласовал с нами.
Эгле взялся за поручень.
— Я съезжу.
— Вам надо отдыхать, — тихо возразила Гарша, и, уперев руки в карманы передника, уставилась на Эгле. Упорный взгляд ее карих глаз заставил Эгле потупиться.
— Нет. Может, там есть больные. И потом, если я занят работой, мне не думается… об отдыхе. Мне бы такое лекарство, чтобы я мог все время работать.
— Весь мир вам все равно не вылечить.
— А один район вылечу. А если и не район, то хотя бы одного человека. Если б нашелся доктор, который вылечил только меня одного, я был бы на седьмом небе от счастья.
Шофер подал ему руку, и Эгле поднялся в высокую машину.
Гарша проводила взглядом серый автобус, который, оставляя за собой на леске морщинистые следы от громадных шин, скрылся за деревьями парка.
По липовой аллее они подъехали к бывшему Аргальскому замку, с надстроенным из желтого кирпича третьим этажом и крытым серебристо-серой оцинкованной жестью. Теперь здесь была школа. Как и полагалось в старину культурному центру, неподалеку расположилась корчма. В ее толстых стенах пробили большие окна, чтобы в мастерских мелиоративной станции было достаточно света. Сразу за мастерскими начинался лужок, чистый и гладкий, на котором безжалостные трактора чудом не продавили ни одной колеи. На утоптанной, как гумно, середине лужайки трава не росла — по вечерам здесь устраивали танцы. На этот раз вокруг танцплощадки народ собрался уже в полдень. Люди были разные — и те, что вполне могли бы потанцевать, и те, что уже только рассказывали, как лихо они отплясывали «в свое время», когда еще были «настоящие» танцы.
Все сидели в ожидании. Старикан с редкой в нынешние времена окладистой седой бородой обратился к соседу:
— Нынче все-таки больше хворают, чем в наше время.
— В старину ведь как бывало: кто умер, тот умер, кто не умер — тот жив остался, — согласился сосед.
Автобус въехал на танцевальную площадку. Пока рентгенотехник налаживал аппаратуру и подключал провода питания, Эгле вышел. Подошел директор мелиораторов, широкоплечий мужчина в галифе и шоферской фуражке.
— Ну, что тут у вас новенького? — поинтересовался Эгле.
— Получили новые машины, но завод пока выпускает технику без водителей, — разве их теперь наберешься. Я на днях читал, будто бы один итальянский профессор в пробирке искусственного человека вывел.
— На науку не полагайтесь. Лучше справляйте свадьбы почаще.
Оказавшийся рядом лохматый парень решил блеснуть остроумием:
— Доктор, а как с медицинской точки зрения — танцевать полезно или нет?
— Зависит от того, умеешь ли танцевать и нет ли бородавок. Если все в порядке, то разрешается дважды в неделю по три часа. Если чаще, то можно заболеть расширением сердца и печени, — ответил в тон ему Эгле.
Медсестра вышла на ступеньку автобуса и объявила:
— Приступаем, товарищи. Сперва пропустим колхозников, они живут дальше.
Гривастый парень тут же добавил:
— Правильно, а то у коров молоко прокиснет.
У автобуса выстроилась очередь.
Техник наставлял каждого входившего:
— Раздевайтесь до пояса.
— И рубашку? — спросила одна из женщин.
Техник давно заметил, что чем старше человек, тем он стыдливей, и пожилые люди предпочитают оставаться в рубахах.
— Если пуговиц нет, можете не снимать.
— У меня льняная, пройдут ли лучи-то? — уточняла та же самая женщина.
— У этого аппарата лучи сильные, только через шерстяную одежду не проходят, — пояснил техник с серьезным видом.
В перерыве Эгле обратил внимание на небольшого роста девушку с льняными волосами и стройного юношу. В очереди они стояли довольно далеко друг от друга. Несколько раз они невзначай встречались взглядом, но тут же отворачивались. Наконец девушка опустила голову и стала теребить кончик платка, как это часто делают деревенские. «Сердечное недомогание», — констатировал про себя Эгле.
Флюорограф быстро пропустил через себя окрестных жителей. «Вдохните. Задержите дыханье!» Щелчок выключателя и — «Следующий!».
Все происходило просто и деловито, как на заводском конвейере. Без такой конвейерной системы мы не смогли бы просмотреть за год сорок тысяч легких. И если лишь в пяти или шести из них обнаруживается свежий очаг туберкулеза и его вылечивают, то — да здравствует эта механизация!
В лаборатории, помещавшейся рядом с флюорографом, техник успел проявить первые ленты снимков. Эгле выключил негатоскоп и стал разглядывать через увеличительное стекло легкие местных жителей. Его натренированный глаз быстро отыскивал в лабиринте теней именно то место легкого, где побывала или гнездится болезнь, требующая немедленного лечения. Глядя на снимки, Эгле забыл обо всем, он испытывал удовлетворение, даже гордость, что он не поддается болезни и что глаз его по-прежнему зорок.
Потом он вернулся в помещение флюорографа. Там как раз находились ребята-мелиораторы. Они шутили, напрягали бицепсы и хвастались игрой мышц под загорелой кожей; они были здоровы и все казалось им нипочем. Но Эгле не провести этой напускной шумливостью. Он знал, что хоть они своими тракторами и выдирают с корнем тридцатилетние березы, точно это воткнутые в землю метлы, однако за экраном рентгеновского аппарата им все же становится не по себе. Ведь и в самом деле — черт его знает, что этот сноп невидимых лучей высветит в твоих здоровых легких, силищи у которых в иной вечер хватает, чтобы разбудить весь поселок…
— Пусть останутся тридцать седьмой и сто пятьдесят шестой, — сказал Эгле.
Вскоре Эгле сидел с тридцать седьмым номером в углу автобуса. Тридцать седьмым оказался высокий, но еще прямой седоголовый мужчина, в бороде у которого белые пряди переплетались с черными, как шерсть от разных овец.
— В среду приезжайте в санаторий «Арона». Еще вас разок поглядим, — наказал ему Эгле, глядя в окно. Люди постепенно расходились по аллеям, и на лавочках у танцплощадки осталась лишь кучка молодежи, у которой всегда больше времени и разговоры важнее.
А тридцать седьмой пристально смотрел на Эгле.
— Чахотка, что ль, а?
— Чахотка не ест старое мясо.
— Тогда рак? У стариков, если не чахотка, то рак.
Теперь уже Эгле пристально смотрел на старика.
— Я этого не сказал.
— Но вы и не сказали, что у меня нету рака.
— Не только рак да чахотка водятся в легких. Я только сказал, что надо основательней проверить.
Старик, впрочем, не слишком разволновался.
— Мне семьдесят семь. Я бы и отдал свою ложку другому, да надо протянуть еще с полгодика, потому как невестка новостей ждет. Глядишь, родится мальчишка, вот тебе и… заместитель.
— Не беспокойтесь. Теперь даже рак лечат.
— Слыхал.
Эгле пристукнул палкой по полу. Звук получился глухой, потому что пол был крыт линолеумом.
— Вот я и говорю, что вы будете жить! Возможно, еще и на луну слетаете взглянуть, как наш Аргале сверху выглядит.
Старик весело прищурился и пощипал бороду.
— А что, у меня духу хватит!
— Дух — это главное. — Эгле пожал старику руку на прощанье.
Потом он видел, как тот, ведя под руку жену, удалялся по аллее и что-то рассказывал. «Сегодняшний осмотр — событие в его жизни. Вечером все услышат от него подробный рассказ о том, как щелкал выключатель и шипел аппарат, и жена, возможно, добавит от себя, что даже чувствовала, „как лучи проходили через кожу“. Женщины, они всегда чувствуют тоньше. Хоть бы не рак… Ему, самое малое, нужно еще полгода».
Перед Эгле села сто пятьдесят шестая. Ирена Лазда. Ага, та самая невысокая, застенчивая девушка с гладкими льняными волосами до плеч. И все теребит свой платочек.
— В среду приезжайте в санаторий, посмотрим вас еще разок, но у меня такое впечатление, что вам надо будет полечиться.
— Мне? — недоверчиво переспросила девушка, глядя на него исподлобья.
— У вас свежий туберкулез левого легкого.
— У меня?
— Мы его быстро вылечим. Теперь у нас есть чем лечить. Например, Ф-37.
— У меня?! — Девушка, казалось, не представляла себе, что и она может заболеть туберкулезом.
Эгле решил больше не повторять слово «туберкулез». Не всякий ведь понимает, что туберкулез в наши дни это не былая чахотка, понятие о которой всегда связывалось с лихорадочным румянцем на щеках и гробом посреди комнаты.
— Весной вы ничем не болели? Например — гриппом?
— Вроде бы не болела. Вот только уставала очень. Воду для коров из пруда таскала.
— Тогда, может, переживания какие-нибудь? — Эгле посмотрел на пленку и с хитринкой добавил: — Да, вижу, вижу, есть тут ранка на сердце…
Девушка потупила взор, чтобы скрыть подступившую слезу.
— Да-а… — со вздохом призналась она.
— Вы не первая, у кого весна… оставляет свой след на легких. Видите, каково нам, врачам: вы любите, а мы ваши раны залечиваем.
Девушка теперь и вовсе опустила голову, гладкие волосы закрыли лицо. Поднесла к нему платочек.
«По всей видимости, три четверти мирового количества носовых платков расходуют женщины», — подумал Эгле и сказал:
— Не плачьте. Чтобы любить, надо иметь здоровые легкие. Вылечим. Обещаю!
Девушка подняла голову.
Когда она пересекала площадку в направлении аллеи, Эгле вдруг испугался: а что, если лечение потребует целого года? Впрочем, ведь есть же Берсон.
Однажды утром Эгле, подъезжая к санаторию, увидел около него чужой «газик». На широких ступенях лестницы стоял Вагулис, и уже не в сером халате, а в летней клетчатой рубашке. Он кинул свой чемодан, и в машине кто-то подхватил его. Верзила-плотогон поглядел вокруг, кивком головы послал последний привет санаторию, больным и сбежал вниз.
— Простите, доктор, если что не так… — Вагулис дружелюбно протянул руку.
— У меня слабая память, мелочи не запоминаю. Ну, так прощайте и чтоб нам не встречаться!
Вагулис настороженно раскрыл свои по обыкновению чуть прищуренные глаза и стал похож на кота, заметившего мышь.
— Это почему же вы не желаете меня видеть?
— Вы здоровы и больше к нам не вернетесь. Вот так.
— Ах, вон оно что, — засмеялся Вагулис.
Он долго не мог втиснуться в тесный «газик». Когда же машина, громко зарычав, прыгнула вперед, снаружи еще оставалась рука Вагулиса, на прощанье он размахивал ею, как веслом. И все, кто стоял тут, помахали ему вслед.
«Вот и Вагулис уехал. Мы с Алдером остаемся. Мы — штатный инвентарь санатория», — подумал Эгле. В комнате отдыха Гарша распекала длинного Вединга. Вединг сидел в удобном кресле под пальмовыми ветвями и латал сломанную папиросу.
«Бережлив. Нынче сломанные папиросы выбрасывают. Время, потраченное на заклейку, дороже папиросы. Кажется, он работает бухгалтером в оперном театре».
— Ну что с вами делать, Вединг, вы прямо как Вагулис! — упрекала его Гарша.
— Нет, Вагулис курил много, выздоровел и только что уехал, а я курю мало и все еще тут. — Он кивнул на молоденькую блондинку в соседнем кресле, читавшую журнал. — Глядите, Лазда не курит, а все равно болеет. Разве на этом свете можно что-либо понять? И вообще, в чем есть логика? — Его тонкие губы под крючковатым носом растянулись в кривую улыбку.
«Последовательный пессимист. Законченный и стойкий». Эгле даже повеселел немного. Гарша тоже засмеялась и сердечно посмотрела на Вединга.
— Вединг, в тот день, когда вы не ухмыльнетесь, а улыбнетесь, вы станете здоровым.
Вединг смутился.
— Я не верю в такое дешевое лекарство. — Но папиросу он все же бросил в корзину для бумаг.
Эгле поджидали в кабинете двое элегантно одетых мужчин и женщина. Это были члены так называемого «общества» «Арона».
Общество это нигде не было зарегистрировано, не имело устава и не взимало членских взносов. Оно возникло в пятидесятых годах, когда здесь в летние и зимние каникулы лечились несколько студентов. Выздоровев, они раз в лето приезжали навестить Эгле и отмечали счастливую встречу на берегу Дзелве. Двое из них были архитекторы и участвовали в проектировании нового здания «Ароны». Теперь же они явились обсудить некоторые поправки к проекту.
Архитектору с усиками Эгле некогда поддувал легкие. Умело сшитый костюм надежно маскировал впалую архитекторскую грудь и плечи разной высоты.
Они развернули на столе рулоны чертежей, разложили с дюжину иностранных журналов и принялись спорить. Женщина спорила не менее горячо, потому что сама тоже перенесла туберкулез и на этом основании считала себя вправе отстаивать свое мнение. Теперь она работала в министерстве финансов и имела отношение к финансированию здравоохранения.
Усатый архитектор плюхнулся в кресло и жалобно запричитал сипловатым голосом:
— За месяц не успею. Так я в два счета наживу чахотку.
Рука Эгле играла песочными часами, он успокаивающе улыбался.
— В противном случае мы не попадем в титульный список будущего года. Сделаете. Если нет — я попрошу заведующего вашим диспансером найти у вас в легких свежий очажок и направить к нам. Тогда у вас хватит времени на работу.
— Мои очаги тверды, как кремни для зажигалки.
— Это, дорогой мой, известно только врачу. С медициной шутки плохи.
— Ладно. Раз дело дошло до угроз, я сдаюсь. Тогда договаривайтесь с институтом, пусть меня освободят от других работ.
— Это мы устроим. Доктор Берсон был полковым врачом у директора института.
Вмешалась женщина:
— Вы слишком большую ставку делаете на блат.
Эгле сделал невинные глаза:
— Что вы! Вовсе не на блат. На бывших и на возможных больных. А кто может поручиться, что он не заболеет? Даже автоинспектор не может, хотя важней его начальников нет, поскольку его решения не обжалуются.
Женщина засмеялась.
— Средства мы поищем.
— Ищите, ищите. Знаете, на будущий год я, возможно, уйду на пенсию, поэтому хотелось бы все заранее утрясти.
— Вы — на пенсию?! Не могу себе представить вас сидящим дома.
— Пенсия для меня важна тем, что я смогу дольше спать по утрам. А теперь я вас отвезу в Ригу.
В Риге Эгле сдал кровь на очередной анализ, после чего зашел в кафе-мороженое в центре города, так как почувствовал усталость. Другим он любил рекомендовать отдых за городом, в тиши полей, где слышно лишь гуденье пчел. Сам же искал на этот раз отдыха в городском шуме. Эгле сидел, потягивая кофе, и шелест чужих разговоров и автомобильный гам, доносившиеся с улицы, успокаивали его.
Напротив кафе, в листве лип виднелись бледно-зеленые шарики будущего липового цвета. До осени еще далеко: Эгле нащупал в кармане сложенную бумажку. Это было заявление с просьбой об отпуске. Надо бы переписать, в кармане листок помялся. Позавчера группе больных начали давать Ф-37. Архитектор обещал поторопиться с доработкой проекта. Интересно, как пойдут дела у Вединга, Лазды и других, кто принимает Ф-37. Если надежды не оправдаются, то надо снова думать и думать…
За столик сели двое юношей. Пальто из тонкой непромокаемой ткани с погончиками на плечах они не сняли. Это модно, современно. Для чего нужны погоны? Может, под них надо пропускать ремешок от фотоаппарата или засовывать перчатки? Но перчаток у них нет. «У меня туфли на толстой микропоре. В дождь ноги не промокают, и меня не мучит насморк. Десять лет назад толстые подошвы намекали бы на легкомысленный нрав их обладателя. Взгляды меняются. Интересно, какой ширины будут носить брюки через пять лет?»
Эгле снова погрузился в раздумье, рука его машинально двигала чашечку с кофе. Наверно, сидевшим напротив ребятам он показался смешным тем, что таращился в окно, вытянув жилистую шею, и глупо подпихивал свою чашку. Они с ухмылкой подтолкнули друг друга локтем. Эгле заметил жест и вздрогнул.
Он почувствовал, что на какое-то время ускользнул из-под собственного контроля. Это большое искусство — уметь всегда видеть себя со стороны. «Воспитанный человек делает это всю жизнь. Стало быть, хорошее воспитание включает в себя искусство наблюдать за собой со стороны. Подчас это не легко. Меня ранили злые духи, именуемые рентгеновскими лучами. Этих духов вызвал сам человек, он иногда еще не умеет справляться с ними. Человек навызывал множество разных духов, которые спали вечным сном, вплавленные в руду и погребенные на километровых глубинах под землей, но повелевать ими еще не в силах. От радиоактивных излучений ежегодно заболевают и гибнут люди, которые могли бы и не умереть, если б человек не был столь умен и не научился расщеплять атом. А я лично голосовал бы, например, за запрещение рентгена», — рассуждал Эгле.
Спиной к нему, у двери, стоял плечистый человек невысокого роста, в вельветовом пиджаке и берете. Человек высматривал свободное место. Потом он повернулся, и Эгле сразу узнал в нем своего старого друга, скульптора Мурашку. Тот, заметив Эгле, радостно устремился к нему с распростертыми объятиями, забыв про солидность и приличия.
— Ты до того заработался, что тебя и не узнать — такой тощий! — воскликнул он, снимая берет.
— А ты дотанцевался до того, что макушка заблестела, — не остался в долгу Эгле.
— Зачем мне волосы! Я теперь могу себе шляпу купить. Раз уж встретились, пошли ко мне, вспомянем годы молодые!
Мастерская Мурашки помещалась в небольшом флигеле на Гризинькалне. Эгле бывал тут не часто и всякий раз, оказываясь в светлом помещении со стеклянным потолком, чувствовал себя так, словно бы попал в другой, странный мир. Белые и серые, припудренные пылью, скульптуры казались ему завороженными живыми существами. Когда эти два пришельца уйдут, мастерская оживет. Сам чародей стоял здесь же и, как ребенок, ожидал похвалы за то, что некогда подарил вечную юность ныне уже пожилой даме, запечатленной в стоящем у окна бюсте. Молодая женщина с грустной улыбкой смотрела в окно, поверх крыш. Ветер задрал на одной из них ржавый лист железа. Женщина не замечала его, она смотрела на липы Гризинькална, стоявшие на вершине холма и господствовавшие над всем кварталом. Эти липы тоже не стареют, оттого что под ними встречаются юные. В другом углу студии, надув щеки, на камне восседал озорной мальчишка. Его бронзовый двойник в парке пускал изо рта струю воды в бассейн. Мать прижимала к груди завернутого в гранитный платок младенца. Не обращая ни малейшего внимания на пришельцев, работал пневматическим долотом полуголый гипсовый мужчина с напряженными мускулами, можно было подумать, что он хочет во что бы то ни стало сегодня разрушить скалу и проложить дорогу для других. На прикнопленных к стене листах бумаги обитали нагие женщины; они не стыдились своей наготы, зная, как прекрасны. И тут же стояла стянутая ржавыми обручами кадка с серой глиной, валялся линялый халат, электромотор и обрезиненный кабель, рос в горшке мирт высотой с человека. Ленивая кошка на тахте подняла голову, продолжая безбоязненно греть хозяйское ложе.
Эгле почувствовал, что его лицо расплывается в улыбке.
— В этой комнате щедро дают взаймы, — проговорил он.
— У меня? — Мурашка в искреннем недоумении вывернул наружу пустые карманы брюк.
— Да. Дают взаймы жизнерадостность.
Мурашка басовито расхохотался и принялся ходить по мастерской, так как подолгу стоять на месте он мог только когда лепил, когда его руки были по локоть в серой глине. Потом он вдруг остановился и кивнул на скелет в затененном углу.
— Жизнерадостность? Да, чего-чего, а этого у меня хватает в каждом закутке. Помнишь, как ты мне этого типа по косточкам перетаскивал из анатомички, когда мы еще студентами были?
Эгле посмотрел в глазницы черепа, безучастно вперившиеся в окно.
— Я надеюсь, он простит меня.
— Сейчас я покажу тебе свое младшее детище.
Мурашка подошел к стоявшей посреди мастерской скульптуре под полотном. Он откинул покрывало, сдвинул на затылок берет, упер руки в бока и, явно в ожидании похвалы, уставился на Эгле.
— Ты думаешь, я только балагурить горазд? Мне вот пришло в голову, что жизнь — это не розовый сад, но еще и борьба, в которой побеждаем мы.
Эгле взглянул на скульптуру и согласился, что Мурашка умеет не только балагурить. У Эгле возникло чувство, будто он встретил знакомого. Он не позировал Мурашке, но тем не менее это был его двойник. Эгле медленно обошел вокруг изваяния высотой в полтора человеческих роста.
Мускулистый юноша пытался оторваться от земли. Он устремился вверх, но его ноги увязли в неотесанной глыбе камня. Грубый тяжелый камень сковывал его, тянул назад. В запрокинутой голове, в упругих морщинах лба читалось напряжение всех сил. Борьба с тупой каменностью, которая пытается вобрать, поглотить тело юноши, — отчаянная борьба. И об этом кричат его руки, тревожно и туго обхватившие плечи.
Мурашка сразу заметил, что Эгле посерьезнел, даже взволновался. Довольный, что новая работа вызвала отклик в душе старого друга, он пояснил:
— Идея состоит в том, что без борьбы в широком смысле слова с… с так называемой судьбой, роком человек не имеет права сдаваться.
Эгле поборол в себе волнение и опустился в плетеное кресло.
— Да, твое каменное детище изрядно превзошло тебя самого. Будь у меня много денег, я заказал бы себе такой памятник.
— Погоди, вот вытешем его из гранита, тогда посмотришь!
— Да, очень кстати я тебя повстречал, — будто вспомнил Эгле, глядя на голого гипсового мальчика с надутыми щеками. — Ты не мог бы отдать кое-что санаторию? Мы построим новый солярий для воздушной и солнечной терапии, там будет бассейн и красивый сад.
— И для красивого сада тебе нужны красивые женщины?
— Пусть будут и женщины. Каменные женщины не повредят.
— Ну а… деньги, скажем, на камень, у вас будут?
— А в порядке шефства ты не мог бы?
Мурашка глубокомысленно воззрился на свой ботинок.
— Можно и в порядке шефства, но ты тогда передай моему сапожнику, чтобы он мне в шефском порядке поставил набойки.
— Поэзия и проза. Ты же художник, — вздохнул Эгле. — Ты твори знай. Твори лучше! Тогда твои работы приобретет министерство культуры, а мы из министерства вырвем себе, это уж точно. Поехали, покажу тебе этот сад.
Мурашка налил в банку из-под килек молока для кошки и взял фотоаппарат.
Эгле оставил свой «москвич» на стоянке неподалеку от кафе. По пути туда они задержались у старинного серо-зеленого дома с мансардой. Из ската закопченной черепичной крыши глядели на Задвинье древние оконца на шесть стекол. Эгле с Мурашкой, не сговариваясь, задрали головы кверху.
— С тридцать третьего по тридцать пятый, — сказал Мурашка.
— Первое жалованье врача ушло на долги квартирному хозяину.
Окно отворилось, в нем показался юноша в синей рубахе и с небольшой бородкой. Он рассеянно смотрел куда-то поверх крыш, и можно было подумать, что он встал из-за стола, заваленного учебниками, чтобы расправить затекшую спину.
— В молодости нередко случается жить на чердаке, — задумчиво сказал Мурашка.
— Все правильно. У молодых сердце здоровое, легче подыматься. Я бы каждые десять лет переселял людей на этаж ниже.
— Тогда тебе до мостовой осталось еще двадцать лет, — засмеялся Мурашка. — Ладно, пошли.
Впереди трое мужчин перекидывали в подвальное окно большую кучу каменного угля с тротуара.
— Ты лечил в этом доме дочку дворника, помнишь?.. На последнем курсе…
— Я показывал ей песочные часы, считал пульс и лечил надеждой. В санаторий она не поехала, не на что было, а Красный Крест не мог всех лечить бесплатно.
Они свернули за угол. На другой стороне улицы аляповатая вывеска «Тир» приглашала желающих пострелять.
— Может, зайдем, проверим глаз, как бывало, а? — предложил Мурашка.
Эгле не стал возражать.
…Он в задумчивости стоял у стойки тира и словно впервые в жизни разглядывал всех этих жестяных зайчиков, чертиков, зацепившихся хвостами за трапеции мартышек, черных тетеревов, с которых давным-давно облезла краска.
— Ты помнишь, тогда еще стреляли на призы, и тебя просили не стрелять, ведь тебе доставалось все шампанское, — напомнил Мурашка.
— Рука и глаз врача! — Эгле горделиво вложил большой палец в карман жилета.
Трое мальчишек заняли все три ружья. Эгле подмигнул другу, затем строго произнес:
— Санитарный контроль! У кого тут грязные руки? А ну-ка, показать!
Ребятишки вмиг забыли, что они не в классе, что человек в шляпе вовсе не их учитель, и тотчас же положили ружья на стойку и предъявили ладони.
Мурашка собрал ружья.
— У вас еще вся жизнь впереди. Обождите малость.
Эгле прицелился. Ствол ружья заметно подрагивал.
— В черта, — сказал Эгле и нажал спусковой крючок.
Стоявший под чертиком пузырек с чернилами опрокинулся.
— Рикошет.
Эгле чувствовал, что от напряжения и досады у него вспотела шея и к ней прилип воротничок.
— Больше никогда не буду стрелять. Нет уже тех ружей, что были тогда.
Мурашка повернулся спиной к жестяному зверью, положил ружье на плечо прикладом вперед и стал целиться через зеркало.
— Промажешь так же, как я, — оживился Эгле. — Спорим… на бутылку шампанского.
— Тогда-то уж я наверняка попаду, — дружелюбно согласился Мурашка. Он стрелял и сам же комментировал: — Зайцу капут! Обезьяне по хвосту! Последнего черта ухлопал!
Эгле купил шампанское, и у Домского собора они сели в машину.
По дороге в санаторий Эгле остановился около мостика через Дзелве.
— Здесь тоже кое-что есть от нашей молодости, — напомнил Эгле.
— Молодежь часто стоит на мостах, — согласился Мурашка.
Дзелве в этом месте больше походила на маленькое озерко. Дальше она продолжала свой путь узкой речушкой, хоронилась в густом ольшанике. Под мостом вода была глубока и спокойна. Течение почти не чувствовалось. Розовеющие к вечеру облака и лица двух мужчин отражались четко, как в зеркале.
— Когда-то мы тут нагишом кувыркались через голову, — вспоминал Мурашка.
— В молодости мне приходилось убивать время на глупости самому. Теперь у меня есть сын, — заметил Эгле.
— А потом глупости будет делать твой внук.
— А за ним правнук. Поехали.
Они бродили по территории будущего строительства. Эгле с увлечением рассказывал о новом здании и солярии, а Мурашка фотографировал живописные уголки парка, чтобы на досуге подумать, чем их украсить.
Начало смеркаться и потянуло прохладой. Эгле и Мурашка направились к дому. Мурашка шел впереди, размахивая бутылкой, как дубиной.
На веранде их встретила Кристина. Янелиса дома не было. Друзья расположились в кабинете. Вскоре вошла Кристина и, ни слова не говоря, поставила на столик поднос с бокалами и тарелку клубники.
Они не зажигали света. Блеклый закат проникал сквозь ветви яблонь, вязь дикого винограда перед окном и золотил часть стола. Легкие сумерки уже обволокли глубокие кресла и книжные полки черным тюлем.
После первого глотка вина Эгле достал свои пузырьки с лекарствами и бросил в рот несколько таблеток.
— Это еще зачем? — спросил Мурашка.
— Чтобы дольше жить.
— А это? — Мурашка поднял брови.
— Одно другому не мешает. Выпьем!
Мурашка закурил. Эгле тоже протянул было руку за сигаретой, но спохватился и отдернул ее.
— У тебя есть характер. Хоть и не бог весть какой, но характер, — усмехнулся Мурашка.
— Нету. Вот если б я никогда не курил вообще, тогда можно бы говорить о характере.
Эгле достал платок и приложил его к губам. На платке осталось темное пятно. В сумерках было не понять, красное ли оно. Оно было темное.
— Ты меня извини за дурацкий вопрос, но… все же, — заговорил Эгле. — Что бы ты стал делать, зная, что через полгода должен умереть?
Это в самом деле прозвучало странновато, но не настолько, чтобы обескуражить Мурашку. Вот если б Эгле вдруг сказал, что у него есть деньги на покупку парохода, тогда было бы чему удивляться. Он отпил большой глоток вина.
— Я бы тут же перевел в гранит тот гипс, что ты видел у меня. Как раз на полгода работы.
— Верно! Надо закончить скульптуру, — как бы самому себе сказал Эгле. Затем поднял крышку радиолы, достал из шкафчика альбом с грампластинками и в нерешительности глядел на него, словно не знал, как поступить с ним дальше.
— Что это? — поинтересовался Мурашка.
Эгле раскрыл альбом.
— Это моя биография в музыке. Каждому десятилетию соответствует одна пластинка. Знаешь, мне охота сегодня поболтать, выговориться. Ты — гость, и хотя бы из вежливости должен слушать. Обычно слушать бывает некому. Вот это марш Фучика «Восстание гладиаторов».
Он поставил пластинку. Под звуки бравурной военной музыки Эгле начал рассказывать:
— Этот марш я запомнил, потому что его играли на гуляньях пожарники в ту пору, когда я еще ходил в пастухах. Гулянья бывали в излучине Дзелве. На деревьях развешивали бумажные, похожие на гармошки, цветные фонарики. Вечером в них зажигали елочные свечи. Рядом с эстрадой для музыкантов, у буфета пожарники потягивали пивцо и в такт пристукивали бутылками, помогая капельмейстеру. Мой отец здесь, в Аргале, арендовал землю. Вечером, бывало, загонишь свиней и, как есть в постолах, — на гулянье. В ту пору мне этот марш казался вершиной музыкального искусства. Я подсвистывал оркестру и мечтал выучиться на дирижера или на пожарника, потому что пожарники носили блестящие каски и красивые топорики. Сегодня я не дирижер и не пожарник. Мечты не сбылись, — усмехнулся Эгле, приглаживая залысины.
— А я мечтал стать телефонистом. У телефонистов есть приспособления взбираться на столбы. В детстве все любят лазать по деревьям, наверно, чтобы доказать свое обезьянье происхождение.
Эгле поставил новую пластинку.
Послушаем следующую. Это вальс «Хочу танцевать». Он рассказывает про школьные годы, когда я стыдился коротких рукавов своего пиджака, но все же танцевал.
Зелень в саду потемнела. В сумраке комнаты светлыми оставались только лица, руки и белая сорочка Эгле.
— В каждом возрасте свои печали, — сказал Эгле, когда зазвучало «Сомнение» Глинки. Глубокий альт пел о тоске, о сомнениях. Мелодии вторила виолончель. Даже если бы эта грустная песнь не имела слов, то все равно было бы понятно, о чем она. — В то время я изучал медицину. Моя жена училась в школе Красного Креста. Бывало, весной просидишь ночь над книгами, а утром шпаришь из Старой Риги на Гризинькалн. Ходишь, ходишь около ее школы, потом соберешься с духом и запустишь в окно ветку сирени. На дворе в эту пору только дворник да воробьи сообща убирают улицу. Воробьи ничего, а вот дворник считал меня «подозрительной личностью» и грозил метлой. Тогда-то ко мне и пришло убеждение, что самую большую радость человеку может доставить другой человек.
— Это верно. Если случается найти красивую модель — работа спорится отменно. — Мурашка опять закурил.
Эгле прогнал дым к открытому окну.
— Бесстыжий ты тип! Разве в искусстве изображают только красивых людей? Налей еще.
Запищали первые комары. Сердито и настойчиво. В большой комнате они чувствовали себя ничтожными пылинками и потому громко подбадривали друг друга. Эгле поставил следующую пластинку.
Раздались грозные аккорды — предвестники грядущей борьбы. В мелодии нарастала тема тревожности.
— Это будет посерьезней, — сказал Эгле. — «Эгмонт». — Эгле закинул голову на тугую, гладкую кожу спинки кресла. — Про эту пластинку расскажу подробней. Она занимает важное место в моей жизни и вызывает в памяти сороковой и сорок первый годы. Государственный строй у нас изменился, но туберкулез остался. И посейчас помню один день. Двадцать четвертое ноября. Это было еще до того, как ты подарил мне девочку с ягненком и на стене не висел портрет Павлова. Я сидел в своем кабинете. И телефонный аппарат был не из черной пластмассы, и трубка лежала на никелированной вилке.
Мне принесли свежую почту. Прислали декрет Совета Народных Комиссаров: лечение — бесплатно!
Действительно, событие, достойное увертюры к «Эгмонту». Я бегал по коридору и размахивал декретом. Тогда я еще мог бегать. Около санатория схватил за узду лошадь и остановил дрожки, на которых уезжали на станцию выписавшиеся больные. «Назад, за санаторий платить не надо! — крикнул я им. — На митинг!» Тогда митинги были в моде. В зале я зачитал документ и сказал: «Советская власть — это начало победы над туберкулезом, а я — против туберкулеза!»
Эгле умолк, но увертюра к «Эгмонту» продолжала звучать. Казалось, будто в музыке отображен решающий этап борьбы. По улице мчалась толпа людей, впереди — боевой стяг.
— Радость наша была коротка, сам знаешь, — продолжал Эгле. — Я тебе расскажу лишь про один июльский день сорок первого года. Утром к санаторию подъехал «оппель», перекрашенный в серый цвет, как все немецкие машины. До сих пор мои больные, те, кто не разъехался по домам с началом войны, лежали довольно спокойно, так как фронт прошел стороной. Кормились мы старыми запасами.
В то утро я, как обычно, отворил дверь кабинета и замер на пороге — рядом с телефоном на столе лежала фуражка немецкого офицера и в ней перчатки.
На моем стуле восседал молодой красавец в форме лейтенанта. Черные очки, блестящие, напомаженные волосы. Он равнодушно взглянул в мою сторону, как будто дверь отворило сквозняком, и продолжал писать. Перед ним лежала груда историй болезни. Офицер быстро перелистывал их и сортировал на две стопки. Закончив, он еще раз посмотрел в мою сторону, на этот раз заметил меня и сказал: «Вы, наверно, врач?» — «Директор этого санатория», — ответил я. Тогда он хлопнул ладонью по большей стопке. «Вот эти должны в течение двух часов покинуть санаторий». — «Но почти все — тяжело больные», — говорю я ему. «Через два часа на их койки положат наших раненых». Сказал и ушел.
Через два часа потянулась к шоссе вереница бледных, изможденных людей со своими пожитками. Большинство из них через всю Латвию добиралось до дома пешком, поезда перевозили только военных. Мало кого из них довелось мне встретить после войны. Правда, один из тех бедняг, Алдер, сейчас лежит у меня.
Через несколько часов прибыла колонна санитарных машин. Санаторий поделили на две части. Мы оказались приживалами в собственном доме. Но и это было не все. Под вечер в санаторий прикатили айзсарги. Ни о чем не расспрашивали, а прямо прошли в корпус. Я встретил их уже на лестнице, когда они выводили двух молодых парней в больничных халатах. Руки у обоих были связаны. Я загородил дорогу. «Это больные», — говорю айзсаргам. «Это марксисты и коммунисты», — слышу в ответ. «Они ведь еще мальчишки и к тому же больные». — «Бросьте, доктор! Теперь мы спросим с этой комсомолии». Меня оттолкнули. Я хорошо знал этих айзсаргов, они жили в нашем поселке. Три года я с ними разговаривал как с людьми, нередко лечил их близких. «Теперь все пойдет по закону, — сказал один из них. — А за халаты вы не беспокойтесь, вам их вернут». — «Сперва я их вылечу, а тогда и будем разговаривать», — пытался я хоть как-то воспротивиться самоуправству. «Не стоит зря тратить лекарства». Один юноша сказал: «Спасибо, доктор…» Я шел следом за ними до леса, где стояли две подводы. «Я как врач несу ответственность… Я отвечаю за них головой!» Долговязый мельник Пумпур, в тот день вырядившийся в офицерскую форму, обернулся и сказал: «Доктор, ступайте-ка отсюда, не то мне придется отвечать за вас». Он изучал экономику и считался образованным человеком.
Через полчаса раздались выстрелы. Позднее в лесу мы обнаружили несколько засохших елочек. Их можно было вырвать рукой, потому что они были просто воткнуты в песчаные холмики.
Расстрелянные были марксистами, как тогда говорили. Стало быть, погибли за идею. Но ведь идею не убьешь пулей и не зароешь в лесу!
Они немного помолчали, будто увидели перед собой те елочки, что можно было вырвать рукой.
Эгле зажег свет, и они обнаружили, что бутылка пуста.
— И для чего ты мне рассказываешь про самый что ни на есть мрак? — вздохнул Мурашка.
— Потому что это самое важное в моей биографии. Кто-то в темноте выпил наше вино.
Эгле убрал пустую бутылку, затем снял с книжной полки два толстых словаря. За ними оказалась плоская фляга.
— Медицинский спирт плюс аква фонтанеа. — Он налил Мурашке и себе в маленькие глиняные кружечки. — После войны мне трудно было поверить в то, что люди бывают только хорошие. Я по-прежнему продолжал, видеть свой долг в помощи человеку, считал, что обязан выполнять священную клятву, записанную в дипломе врача, — облегчать страдания больных. Этим я и занимался, напоминая самому себе: помогай другим, но сам ты не более как скальпель в руках медицины. Кстати, знаешь, вскоре после войны один ответственный товарищ в министерстве спросил меня: «Значит, во время немецкой оккупации вы продолжали работать в санатории и считались главным врачом?» — «Да». — «Значит, оказывали содействие оккупантам?» — «Об этом спросите у оккупантов и больных — кому я оказывал содействие», — ответил я. «Чего там спрашивать, это и так ясно, из фактов. Что ж, работайте пока». Я вышел от него как оплеванный, и это ощущение не покидало меня несколько лет. И тогда я вложил в альбом вот эту пластинку. — Эгле вынул последнюю.
Полилась плавная мелодия. В ней не было тревоги и напряжения борьбы, как в «Эгмонте», не слышалось и щемящей грусти, как в романсе Глинки. Она была чиста и прозрачна, как трель жаворонка над весенней рощей.
— Бах. Это музыка о самой музыке. Два года назад я был в Лейпциге. В церкви Томаса есть надгробная плита с надписью: «Иоганн Себастьян Бах». В тот вечер был концерт. Я слушал Баха и смотрел на готические своды, их принято уподоблять молитвенно воздетым рукам. Между прочим, я музыку не только слышу, но и вижу. Тогда мне казалось, будто я лежу на лесной опушке и смотрю на ели. Их ветви нависали надо мной. Верхушки уходили к самому небу. Вокруг царил покой. Вот и музыка эта устремлялась к небу. Я полюбил ее. Это музыка о музыке. Чистая музыка.
— Такой не бывает. — Мурашка с улыбкой погладил свою лысину в кудрявом венчике. — Ее создал человек. Она создана для людей, а не для неба.
Эгле задумался, потирая виски.
— Быть может, ты и прав. Тогда в лесу, где остались мои больные, я нашел несколько латунных гильз. И тогда же мне пришло в голову, что я до сих пор как-то не задумывался над тем, что патроны существуют, чтобы расстреливать людей. Лишь недавно, вновь перебирая все это в памяти, я сообразил, что всегда был только врачом, лекарем, а не слишком ли это мало? Врач — не целебный родник из которого страждущий напьется, и дело с концом. Родник — не человек, он лишен души. Врач — человек, и он обязан вникнуть во все, что переживает его пациент, должен пытаться постичь самое жизнь. А я, как видно, упустил из виду, что медицина это еще не вся жизнь, а лишь часть ее.
— Не нравишься ты мне сегодня. Когда на меня находит меланхолия, я пью вино и разбиваю полдюжины тарелок. Фаянсовых, самых дешевых. — Мурашка взял тарелку с клубникой.
Эгле улыбнулся.
— Полдюжины тарелок у меня нет, буду бить тебя.
— Давай. На что не пойдешь ради друга. — Они подняли кружечки с разведенным спиртом.
Эгле было хорошо с Мурашкой, он отвлекся от своих мрачных мыслей. Тем не менее время было позднее, и Мурашка накрыл свою лысину беретом.
— Я еще успею на автобус. С утра ко мне придут позировать.
Эгле взял палку и проводил товарища до автобусной остановки.
Вино и несколько глотков спирта не прогнали усталость и сон, однако Эгле хотелось еще поговорить с кем-нибудь. На той стороне шоссе горела лампочка над воротами мелиоративной станции. На дворе около тракторов копошились люди, но Эгле не знал их. Янелис спит, не стоит его будить ради того, чтобы поговорить о жизни. Его волнует только завтрашний экзамен по физике. «Пьян», — подумал о себе Эгле. Он свернул в аллею, которая вела к санаторию. Перед самым носом что-то промелькнуло. Летучая мышь. Говорят, у них имеется ультразвуковой локатор. Потому ни на что и не натыкаются в темноте. Будь такое приспособление у человека, он в пьяном виде не набивал бы себе синяков. Ну и хорошо, что нет, а то пили бы еще больше…
Шагах в десяти от дороги, за молодыми яблоньками и кустами жасмина, притаился дом персонала санатория, в уютной мансарде этого дома еще горел свет. Своеобразный уют ей придавала покатая стена с тахтой возле нее. А еще там была набитая книгами полка, платяной шкаф с гнутыми дверцами, отделанный карельской березой, какие были в моде лет десять назад. У окна стояла двухэтажная подставка для цветов. Подставку занимали шипастые кактусы. Чуть не на пол-окна развесила свои плакучие веточки фуксия. Ветки были облеплены бутонами, из которых уже высунулись белые носики. На столик перед тахтой падал неяркий свет плафона.
Здесь жила Гарша.
Дома она была совсем не такая, как в санатории — строгая старшая медсестра в белом халате. Сейчас на ней было свободное домашнее платье, запястье украшал широкий янтарный браслет, и она определенно не собиралась придирчивым оком проверить подоконники, нет ли на них пыли или же пересчитать таблетки в шкафчике с лекарствами.
Кроме хозяйки, в комнате находился Берсон. Казалось, уют этого жилья смирил его резкую, подвижную натуру. Он тоже не был здесь тем Берсоном, каким его знали в санатории. Объяснялось же его спокойствие весьма просто: он принес Гарше букет роз. И неизвестно случаев, чтобы при этом человек подпрыгивал на одной ножке или чесал за ухом.
— Ну зачем это, доктор?.. — смутилась Гарша, принимая цветы.
— Вам. Вот, просто вам, и все. Мне доставляет удовольствие выращивать цветы, но если их не срезать, они завянут, и никто, кроме меня, не насладится их красотой. Этот сорт называется «Ночь». Видите, почти черные.
Гарша взяла розы и поставила их в вазу на окне, рядом с фуксией.
— Мне неловко. Вы уже второй год снабжаете меня цветами.
— Цветами можно…
— Присядьте.
Берсон сел к столику с кофейником и двумя чашками на льняной салфетке.
— Попиваю кофе, как и положено старой деве. — Гарша налила кофе во вторую чашечку.
— У вас очень вкусный кофе.
— Вы находите? Вечера бывают очень долги. Кофе укорачивает их. — Гарша взяла в руки вязанье.
Разговор не клеился. Берсон поглядел в окно.
— Вашу фуксию надо бы пересадить. Я…
На лестнице послышались шаги.
— Ко мне никто не может прийти. — Гарша секунду прислушивалась, затем снова заработала спицами. И все же в дверь постучали.
Гарша открыла. В комнату не очень твердой походкой вошел Эгле. Заметив Берсона, он оперся на свою клюку.
— Прошу прощения. Мне просто захотелось с кем-нибудь поболтать. Я уйду.
— Ну что вы! — воскликнула Гарша и отобрала у Эгле палку и шляпу. Она была рада его неожиданному приходу и не скрывала этого.
Берсон встал.
— Я пойду. Завтра операция. — Он явно кривил душой. Гарша не пыталась его удержать и подала руку.
— Я как-нибудь пересажу вашу фуксию, — добавил Берсон на прощанье, чтобы не молчать.
Эгле взял и повертел в руках вязанье.
— Это что будет — штаны для петуха?
— Нет, юбка для кофейника, — рассмеялась Гарша.
Эгле без приглашения сел и потянулся за кофе, но передумал и попросил стакан воды. Когда он пил, Гарша обратила внимание на то, как осунулось за сегодняшний день его лицо. Особенно заметны стали глубокие складки, протянувшиеся к уголкам рта. Лишь глаза были еще ясными, без болезненной усталости, с непотухавшей в них искоркой ума. «Многие из-за этой искорки не видят признаков тяжелого недуга», — подумалось Гарше.
— Вам надо теперь побольше отдыхать. Вы знаете, Берсон со дня на день ожидает известий из Москвы о новой операции. Есть надежда…
— А разве я не хочу надеяться! — воскликнул Эгле, но тут же резкие складки около губ искривились в ироническую усмешку. — Поговорим о чем-нибудь другом. Ну, скажем, о былом. Сегодня я весь день говорю о том, что давно минуло.
Он подошел к книжной полке. Кроме книг, на ней были разные сувениры. Эгле взял в руки деревянную собачку; подняв одно ухо, она весело смотрела на него ярко-синим глазом.
— Это работа Эрмансона, — вспомнил Эгле. — Я ему раз восемьдесят откачивал гной из плевры. А знаете, почему я помню число? Потому что однажды, когда я прикоснулся иглой для пункции к его боку, Эрмансон сказал: «Сегодня у меня юбилейный день — семьдесят пятый прокол. Налейте мне рюмочку спирта, тогда юбилей будет не таким болезненным». Да, таков он был, этот воистину туберкулезный юбилей… Спирта я ему налил.
Гарша сняла с той же полки фотографию молодого человека и девушки. Они склонились друг к другу, и щеки их соприкасались. Фотограф, видимо, не представлял себе иной позы для молодых супругов на снимке.
— Вот он. А девушка — моя двоюродная сестра. Вы удалили у нее пять ребер. Я берегу их, как память. — Гарша открыла маленькую деревянную шкатулку, в которой лежали иссохшие кусочки костей. — Их любовь началась в санатории.
— Да, и в санатории тоже любят.
— Мне кажется, вы никогда этого не замечали.
Гарша поставила шкатулку на место и несмело покосилась на Эгле. Если бы в эту минуту Эгле смотрел на нее, она определенно не рискнула бы произнести подобную фразу. Но на лице Эгле уже появилась кривая улыбочка.
— Я все замечаю.
— Нет, неправда, — после короткого колебания возразила Гарша и взяла с полки толстую книгу в оранжевом переплете.
— «Избранное» Пушкина, издания тридцать седьмого года, — безапелляционно констатировал Эгле.
— Да. — Гарша осторожно открыла книгу. — В общежитии медшколы моя и Гертина кровати стояли рядом. Вы ей иногда кидали в окно сирень. Одна ветка нечаянно упала ко мне. Я ее сохранила. Этой сирени больше двадцати лет…
Гарша показала Эгле засохший цветок, и бережно, чтобы выцветшие лепестки не осыпались, положила обратно в книгу. Некоторое время она стояла спиной к Эгле — смелость иссякла.
Эгле уставился на окно, точно увидел там не фуксию с поникшими ветками, а бог знает что. Они оба молчали, но у Эгле было чувство, словно Гарша все еще рассказывает об этой ветке сирени. Довольно!
— Вот мы и поговорили. Обо всем. А теперь я пойду, — сказал Эгле.
«Мы разговаривали всего минут десять, но, пожалуй, в самом деле сказали о многом», — подумалось ему.
Гарша обернулась.
— Мне не хотелось бы… я не хочу, но должна сказать… Впрочем, вы уходите…
Эгле взял палку.
— Спокойной ночи, сестра Гарша.
Гарша крепко взяла руку Эгле и прижала к своей щеке.
— Разрешите мне один раз не быть сестрой Гаршей! — сказала она. — И хоть на одну минуту перестаньте быть доктором Эгле…
Эгле одной рукой обнял Гаршу за плечи.
— Мы долго проработали вместе. Поминай меня добром. Хоть я иногда и повышал голос, но…
— Нет! Нет! Вы поправитесь!
Эгле сообразил, что ляпнул не то и, стыдясь минутной слабости, сказал:
— Знаете, плохо, когда человек один. Берсон — славный…
Гарша опустила голову.
— Я давно не маленькая и сама знаю, кто хорош. Когда на лестнице стихли шаги, она подошла к окну. Там, словно скошенный луг, благоухала ночь. В аллее под ногами Эгле тихо похрустывал гравий. Потом и этого звука не стало. Гарша налила себе кофе и еще долго сидела в оцепенении.
На следующий день Эгле проснулся рано, яркое солнце било ему в глаза. Одно из стеклышек балконного окна треснуло, и в этом месте свет переливался радугой. Эгле спустился вниз. Калужница на лужайке еще не раскрыла свои желтые лепестки. На лестнице сидел кот и не сводил глаз с голубей, которым Кристина накрошила хлеба. Эгле шугнул кота палкой.
Как давно он не встречал утро в лесу! Эгле спустился к реке и пошел вправо от моста вдоль берега, потом свернул в сосновый бор. Тут его нагнал Янелис.
— Ты куда в такую рань? — удивленно спросил Эгле. — Спал бы еще. Это стариковское дело наслаждаться прелестью утра, а для вас милее вечера.
Янелис замялся и ничего не ответил, однако по его лбу, который он старательно и безуспешно морщил, Эгле понял, что Янелис тревожится за него: а ну, как отцу на прогулке станет дурно, и в лесу никого…
«Волноваться за другого — это то же самое, что любить», — подумал Эгле, и у него потеплело на душе.
Серебристый покров росы на поляне пересекала темно-зеленая полоса.
— Это случайно не ты домой возвращался по лужку? — пошутил Эгле.
— Нет, олени.
— Откуда тебе известно?
— Я хожу по лесу, когда учу что-нибудь.
«Наверно, он занимается или гуляет не один, а вдвоем».
— Берсон еще не получил ответ из Москвы? — спросил Янелис.
— Нет, как видно. Ничего, все обойдется. Десны у меня почти не кровоточат больше. — Эгле, словно мальчишка, сбивал палкой росу с крупных метелок ржи. — Давай-ка нарвем колокольчиков. — Эгле показал на голубые цветы, торчавшие из травы. — Через пару недель скосят.
— Постой, не нагибайся так часто. — Янелис стал быстро рвать цветы.
А Эгле самому хотелось сорвать несколько ромашек для петлицы. Он наклонился, протянул руку и замер.
Рядом из травы черной стеклянной бусиной блеснул глаз. Следившая за его рукой гадюка подняла голову.
Эгле отдернул руку и отступил на шаг. Пока Янелис искал палку, змея шмыгнула под кочку.
Эгле гордо хлопнул сына по плечу.
— Видал, как я напугался?
Янелис не усмотрел тут ничего особенного.
— Змей все боятся, — сказал он.
— Это верно, но я испугался больше, чем следовало. Это означает, что я хочу жить. А кто очень хочет, тот выживет.
Они шли лесной дорогой, стараясь не задевать длинные былинки, на которых были нанизаны крупные капли росы.
Домой они возвратились к завтраку.
После завтрака Эгле сразу уехал в санаторий. Янелис взял грамматику и принялся расхаживать по гостиной, громко разглагольствуя:
— Какой язык самый трудный на свете? Латышский, потому что вы думаете, что знаете его, а я вам сейчас докажу, что вы совсем не знаете.
— Ну чего болтаешь, — распрямила спину Кристина. Она натирала паркет.
— Я не болтаю, так сказал учитель, а у меня завтра сочинение. Возвратные глаголы первой группы третьего склонения действительного залога в изъявительном наклонении простого настоящего времени в третьем лице имеют окончание…
— И что за околесицу несет! — дивилась тетка.
В кабинете зазвонил телефон. Кристина пошла к аппарату, потом с ехидцей в голосе позвала племянника:
— Иди, с тобой желает говорить женщина.
Янелис взял трубку.
— Ты, Янелис? — И, не ожидая подтверждения, знакомый и радостно-взволнованный голос торопливо сообщил: — Сегодня доктор Берсон получил письмо из Москвы, из института гематологии. Там разработан новый метод лечения лучевой болезни. Какая-то операция. Берсон говорит, надежды не плохие.
Янелис, не глядя, кинул трубку и выбежал в гостиную, выхватил из теткиных рук щетку и в бурном приливе энергии принялся распихивать стулья и драить пол.
— Стало быть, девица порадовала. Ты сперва экзамены сдай, а тогда женщинами интересуйся, — заметила ему Кристина.
— Да это была не женщина, а сестра Гарша.
С письмом в руке Берсон торопливо шел по коридору санатория.
Его окликнули: «Доктор!»
Облокотившись на подоконник, в коридоре стоял Вединг; с каким-то особым шиком он покусывал карандаш и помахивал журналом с кроссвордом.
— Доктор, скажите, пожалуйста, вы человек более образованный, — что бы это могло быть: «длительное состояние душевного подъема и радости» из семи букв?
Берсон, не задумываясь, ответил:
— Счастье, может, подойдет.
Вединг карандашом сосчитал клеточки.
— Хоть счастья и не бывает, но слово годится.
— Почему же не бывает! Счастье — это, например, здоровье. Выздоровеете и узнаете, что такое счастье, — возразил ему Берсон.
— Тогда мне придется ходить на работу. А это мой удел, а не счастье.
Однако даже безысходный пессимизм Вединга не смог сегодня испортить Берсону настроение. Улыбаясь, он открыл дверь кабинета главного врача.
Эгле, удобно устроившись в кресле, рассматривал на негатоскопе рентгенограммы. Не оглядываясь, он сказал:
— Только костлявая имеет привычку входить без стука.
— А я — жизнь!
Эгле обернулся.
— Какая ты жизнь — кощей!
Приступая к серьезному разговору, Берсон заложил руки за спину и принялся большими шагами мерить кабинет.
— Так вот, собирайся в больницу. Пишет известный тебе профессор Дубнов. Ты будешь одним из первых, на ком применят новый метод. Сущность операции тебе, конечно, знакома.
— Всего год назад ее делали только собакам и обезьянам, — заметил Эгле.
— Год назад ты давал Ф-37 только морским свинкам.
— Хочешь сыграть на моих чувствах? — криво усмехнулся Эгле.
— Да ну тебя совсем! У здорового человека берут костный мозг из грудинной, бедренной кости или из ребра и пересаживают тебе вместо твоего, переутомившегося. Берут от нескольких доноров. Свежий костный мозг расшевелит твой, усталый, и он снова начнет полным ходом творить лейкоциты.
— У сказок всегда счастливый конец.
Берсон остановился и пристально поглядел на Эгле.
— Тебе известен случай из жизни зверей?
— Есть много. Который именно?
— Про двух лягушек в горшке со сметаной. Про оптимистку и пессимистку?
— К сожалению, да.
— Ну так вот.
Эгле выключил лампу негатоскопа. Зеленовато мерцающий экран превратился в обыкновенное стекло кремового цвета.
— Имеются статистические данные у французов, американцев… — Лицо Эгле сникло и приняло землистый оттенок, как всегда, когда не удавалось избежать прямого разговора о его собственной болезни. — Хватит с меня боли. Устал я. Подождем. Так устал, что не могу решиться. Завтра поговорим.
Берсон ежедневно заводил с Эгле разговор об операции. Он уже договорился в Риге насчет места в больнице и изучил всю присланную из Москвы литературу о перспективах и возможностях пересадки костного мозга. Эгле не отказывался, но тянул, ссылаясь на необходимость вести наблюдение за больными, которым дает Ф-37. Окончательное решение каждый раз откладывалось на неопределенный срок. Это было не что иное, как апатия. Потом ему захотелось самому встретить Герту с курорта, дождаться, пока Янелис отдохнет после экзаменов, посмотреть, как сын будет делать первые шаги в жизни, и уж только тогда лечь в больницу — заведение, из которого иногда выносят вперед ногами.
Перед Берсоном напротив — задача стояла одна-единственная: доставить Эгле на операцию, поскольку иного способа помочь ему уже не было. Человек не смеет уходить до времени! Операция, возможно, вызовет улучшение. Без нее наверняка его ждет скорая кончина. Вывод ясен. На то и врачи, чтобы спасать людей. И он, Берсон, в том числе.
Спустя несколько дней он поехал в Ригу в туберкулезный институт. Под вечер в санаторий прибыл директор института Гауер.
— Как идут дела с Ф-37? — поинтересовался он.
Эгле перелистал истории болезни, всегда лежавшие у него на столе рядом с песочными часами.
— Вот, например, больная Лазда. Явления интоксикации исчезли уже через три недели. Температура нормализовалась. Ночные поты пропали. Картина крови… — начал углубляться в подробности Эгле, но Тауер перебил его:
— Я верю в улучшение, но ты не можешь привести ни одного случая полного излечения. Пример Лазди пока ничего не доказывает.
— Туберкулез не насморк! — загорячился Эгле. — Но я верю, что препарат вылечит ее.
— Вера требуется в первую очередь пациенту; для врача ее недостаточно. — Гауер сохранял подчеркнутое спокойствие.
— Дай сперва время, а тогда требуй.
— Бери его сам — ложись на операцию.
— Ах, ты вот о чем. Дай мне спокойно…
— Хочешь сказать — умереть? Нет, не дадим.
Эгле уже начал нервно постукивать клюкой.
— Не в вашей воле! Я человек свободный.
— Нет, дорогой мой. Ты обязан трудиться как врач.
— И тогда, вместо деревянного, ты поставишь мне железный крест?! Ты же прекрасно знаешь, что этот метод еще не вышел из стадии эксперимента!
Гауер взял историю болезни.
— Вот твоя же больная, Ирена Лазда. Получает Ф-37. Это тоже в какой-то мере эксперимент.
Эгле повертел в руке песочные часы.
— Неудачное сравнение, — лекарство не может причинить ей вреда. Помимо меня, его проверили на себе еще три человека.
— Но может случиться, что новое средство не поможет.
Эгле на минуту задумался. Потом отложил палку. Воинственность его тона пропала.
— В известной мере ты, конечно, прав. Я иногда забываюсь и горячусь, наверно, потому, что моя болезнь тяжелее. Разумеется, это только объяснение, но не оправдание. Надо быть последовательным, не так ли? Я согласен. Буду последовательным. Из похвальбы, что, мол, и я не боюсь быть кроликом. — Эгле встал и глубоко вздохнул. Он еще раз одолел самого себя. Когда решение принято — легче. — Как я все же берегу свою старую шкуру, — улыбнулся он. — А теперь пошли в рентгеновский, посмотрим шестерых больных. Мне кажется, у Лазды инфильтрат уже рассасывается.
— Но еще есть, — не преминул заметить Гауер.
В этот вечер сестра Гарша не пила свой обычный кофе. Из окна ее комнаты между деревьев парка видны окна санатория. Три ряда желтых квадратов света. Кое-где их разделяли черные силуэты деревьев. За каждым радостно-светлым окном находятся по меньшей мере двое больных, две жизни, которым болезнь на время устроила тут остановку. Они словно пассажиры на станции, ожидающие, когда поезд тронется дальше. В мире не за каждым светлым окном уютное жилье. В одиннадцати верхних окнах свет уже не горел.
Гарша села за столик и положила перед собой чистый лист бумаги. Лоб собрался в глубокие морщины — ей предстояло повести трудный разговор.
Разговор необходим, поскольку близился час, когда Эгле понадобится рядом близкий человек днем и ночью. Янелис еще слишком молод. Гарша писала:
«Я не питаю к тебе симпатии, но нет во мне и неприязни из-за того, что твоя жизнь сложилась счастливей моей. Это было бы несправедливо. Мы с тобой обычно разговариваем не более, чем того требует работа, и пишу я тебе потому, что ты упустила из виду нечто очень важное. Ты ему друг и жена, самый близкий человек. Так как же ты могла не заметить, что он серьезно болен?! Ему в ближайшее время предстоит тяжкое испытание».
Гарша глубоко вздохнула, посмотрела на полку с книгами, на фотографию с улыбающейся сестрой, у которой недостает ребер, но зато подрастают двое сыновей. Потом еще раз вздохнула и стала писать дальше.
Герта с приятельницей прогуливалась по одетой в камень и залитой вечерними огнями набережной Ялты. Маяк в конце мола кидал в черноту ночи вспышки багрово-фиолетового света. Лучи прожекторов освещали большой белый пароход на рейде и блестящую рябь мелкой волны. От привязанной к мосткам лодки пахло смолой и солеными, гниющими водорослями.
Белокурая, загорелая Герта блаженно вдыхала терпкий запах гавани, нежилась в теплом дыханье моря.
Вместе с медлительным потоком гуляющих они незаметно дошли до почты и, постояв с полчаса в очереди, получили ожидавшие их письма. Два из них были Герте.
С почты они вернулись на приморский бульвар и сели под ярким фонарем. Позади слабо всплескивали волны, иногда набегавшие на бетонные кубы. Герта распечатала первый конверт. Пробежав глазами начало письма, она заметила:
— Смотри-ка, а мужчинам без нас не обойтись, — прочитала вслух: «Мне очень хочется быть с тобой…» И вот так чуть не в каждом письме, совсем как мальчишка. Ведь уже двадцать пять лет, как мы вместе. Мои глаза еще не успели отдохнуть от микроскопа, а ему уже кажется, что. я тут засиделась. Послушай, что пишет: «Мне очень хочется поговорить с тобой».
Приятельница улыбнулась.
— Возможно, твой муж надумал покаяться в каком-нибудь грешке, ты уже месяц, как из дому.
Герта добродушно отмахнулась:
— Он у меня не такой. Вот уже десять лет, как старшая медсестра нашего санатория вздыхает по нему, я это прекрасно знаю, а он до сих пор не замечает.
На рейде послышался низкий пароходный гудок.
Герта оглянулась на порт, где у причала лениво покачивались дощатые палубы пришвартованных суденышек.
— Пахнет морем, — сказала Герта. — Крепкий запах. Раньше не представляла, что он может так волновать.
Она пристально и с недоумением взглянула на второе письмо.
— Почерк незнакомый! — Герта с интересом распечатала конверт. — Гарша! Ни разу в жизни она не писала мне.
Дочитав, тупо уставилась на толчею гуляющих, потом вскочила и, ни слова не говоря, быстро, почти бегом, пошла по променаду.
В автобусе, по дороге из Риги домой, Герта встретила медсестру Крузе. Мило улыбаясь и поправляя волосы — все должны видеть, что сегодня она сделала прическу в парикмахерской и покрасилась в яркий каштановый цвет, — Крузе, поздоровавшись, сказала:
— Вот муж удивится и обрадуется!
— А что он… давно уже не работает? — спросила Герта несмело.
— Что вы! Он каждый день приходит в санаторий. Разве доктор Эгле может не работать! Хорошо, что вы приехали.
В уголках Гертиного рта застыла улыбка, и Крузе не без интереса заметила, как в глазах Герты вспыхнули холодные искорки, словно блеснул иней на зимнем солнце.
— Да, да, конечно, — рассеянно согласилась Герта.
«А я-то примчалась как дура…»
Эгле загнал машину в гараж и, постукивая тростью, вошел в гостиную. На столе он увидал черную сумочку жены.
— Герта! Герта!..
Но никто не откликнулся на его счастливый зов.
Он распахнул дверь в кабинет. Герта сидела на черном кожаном диване и смотрела в раскрытое окно, на зеленые листья дикого винограда, в которых просвечивали красноватые жилки.
Эгле присел рядом и обнял жену за плечи.
— Господи, ты дома!
— Да. Как видишь.
— Что с тобой? Устала с дороги?
— Да нет. Просто растерянна. Мчалась как сумасшедшая домой, а ты, оказывается, здоров!
У Эгле закололо сердце.
— Как тебе сказать… Очевидно мне придется на некоторое время оставить работу и лечь в больницу.
— Ах, даже так? Что с тобой?
— Малость недостает белых шариков в крови.
— Эйди… Неужели злокачественное малокровие?
— Да, рентген.
У Герты все оборвалось внутри.
— Теперь мне понятно. Эти головные боли и кровь… Где были мои глаза… — Герта подошла к мужу и положила руки ему на плечи.
От волнения у Эгле закружилась голова, и он не слишком тщательно подбирал слова, звучавшие, очевидно, чересчур резко:
— Трудно рассмотреть то, что перед самыми глазами.
Герта прижалась к нему крепче.
— Не сердись…
Иногда больному помогает другой человек лишь одним своим присутствием. Эгле никогда не ощущал этого так отчетливо, как сегодня. Теплое прикосновение жениного плеча — и боли как не бывало.
— Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ссоры.
— Ведь в таких случаях делают переливание крови, верно? Я дам тебе свою кровь!
Теперь Эгле улыбнулся той же улыбкой, с которой вошел в комнату.
Первоначальное чувство обиды уже забылось. Герта сбегала наверх в спальню, принесла мужу шлепанцы и сняла с него туфли. Положив его руку к себе на плечо, она осторожно повела Эгле наверх.
— Недурно так болеть, — сказал Эгле и был очень рад, что теперь есть человек, с которым можно поговорить обо всем.
На следующий день, войдя в кабинет главврача, Берсон застал Эгле распекающим лаборантку рентгеновского кабинета за то, что та вовремя не сделала снимок легких Ирены Лазды.
— Ругается, значит — жив курилка, — констатировал Берсон, наполняя кабинет Эгле табачным дымом.
— А как же! Супруга приехала!
Берсон уселся в кресло и многозначительно помахал толстым конвертом.
— Вот инструкция по лабораторному исследованию доноров. Самое сложное — подготовка их костного мозга. Необходимые растворы и реактивы Дубнов привезет из Москвы, он же сам введет костный мозг.
— Все это так. Вопрос в том— чей мозг? Мы упустили одно пустяшное обстоятельство: кто даст мне свой костный мозг?
— Не беспокойся — за донором дело не станет!
— Мне неловко просить человека об этом. Просто язык не повернется завести разговор.
— А скольким ты помог вернуться к жизни?
— Я это делал не из расчета, что мне заплатят тем же.
— Мы все обеспечим. А ты запасись оптимизмом и не теряй его. — Берсон выключил освещение в негатоскопе. — Ступай домой, отлеживайся.
— Так-то оно так, да ведь когда нет сил, больше всего хочется работать. По-видимому, человеку свойственно желать то, что трудно дается.
— Философия, вполне подходящая альпинистам. — Берсон положил сигарету в пепельницу. — Жаль, что ты не куришь. Теперь я в санатории делаю это за двоих.
После ухода Берсона Эгле окончательно понял, что настал час распрощаться с санаторием. Во всяком случае, на время. А может, и навсегда. Навсегда? Ну нет. Не говоря уж о прочем, он должен вылечить Лазду, ведь дал слово. Он в ответе за всех, кому начали вводить Ф-37. А что, если у них не наступит улучшение? Тогда его уход с работы был бы равносилен бегству, бегству от ответственности. Если смерть — бегство от ответственности, то умирать — малодушно. Намеренно он не сбежит. Стало быть, расставание временное.
Эгле выдвинул ящики письменного стола и переложил в портфель пачку бумаг и заметок. Туда же он положил и фонендоскоп, которым выслушал тысячи вздохов больных легких. Подержал в руке песочные часы. Их брать не следует. Пусть остаются здесь и напоминают, что надо спешить, ведь жизнь не стоит на месте и болезнь не мешкает.
Затем Эгле подошел к портретам. Постоял перед Форланини, научившим врачей пневмотораксу, и вспомнил, что в латышском энциклопедическом словаре, изданном в 1931 году, не обнаружил имени Форланини. Зато в этом же томике упоминался некий Фогт, известный своей монографией о папе Пие Втором.
Из окна виднелась большая лужайка с несколькими соснами посередине. Вдоль дорожек цвели чуть блеклыми солнышками далии. Можно было подумать, что кто-то прогуливался с кистью, обмакнутой в акварель, и изредка прикасался ею к траве. В конце парка больные складывали на вешала недосохшее сено. Лето перевалило на вторую половину.
В дверь постучали, и вошла Гарша. Ее приход отвлек Эгле от раздумий, и ему показалось, что Гарша догадывается о его мыслях. Эгле отошел от окна, взял из вазы желтый ноготок и понес его к носу гипсового барашка.
— Представляете — не ест!
Гарша стояла, прислонясь спиной к двери, и смотрела на Эгле. Сегодня она не прятала глаз за опущенными веками, и чувствовалось, что она до конца обдумала то, что собирается сказать и сделать, и непоколебимо уверена в своей правоте.
— Доктор, одним из доноров буду я.
Эгле положил цветок к ногам гипсовой девочки. Кто знает? — может, более подошла бы сейчас усмешка, поскольку его ответ до глубины души огорчил Гаршу своей несправедливостью.
— Спасибо на добром слове, но…
— Почему? Я же здорова.
— …но, видите ли, я опасаюсь, что один близкий мне человек… почувствует себя обиженным.
— Разве сейчас это имеет какое-нибудь значение?
— Все же существуют известные нормы отношений между людьми.
— Жизнь и смерть не придерживаются норм.
— Но люди, пока живы, — придерживаются. А я еще поживу.
Гарша улыбнулась, но горестно, будто не по своей воле. «Конечно, я — не Герта, даже кровь моя не годна», — хотелось ей сказать.
Эгле погладил мордочку гипсового барана.
— Вы подкармливайте и берегите барашка в мое отсутствие.
— Оно будет недолгим! — воскликнула Гарша.
В шортах цвета хаки Янелис стоял в конце аллеи у калитки своего дома и держал за загривок Глазана, брехавшего на коровье стадо. Коровам торопиться некуда, и они не понимают, что такое спешка. Эгле пришлось затормозить и отводить рукой любопытные рогатые морды. Тем временем к Янелису подошла девушка в короткой желтой юбочке, с толстой косой. Она вышла из тени дерева и стала у калитки, где цвел нежными розовыми цветами с желтой серединой куст шиповника. Девушка сорвала цветок, но куст, в подтверждение того, что он имеет отношение к благородному семейству роз, больно уколол ей палец. Пес, верный страж хозяйского сада, следовательно и злополучного шиповника, перестал лаять на коров и сделал попытку цапнуть девушку за ногу.
— Усмири свою гиену, — взвизгнула она.
— Знакомых не кусает, — отозвался Янелис грубоватым голосом, который еще не годился для пения, поскольку в него иногда врывались петушиные нотки.
Девушка размахивала зеленым купальником.
— На озеро? — спросил Янелис.
— Отгадал. Только я плохо плаваю. Одной страшно.
Янелис втолкнул Глазана в калитку.
— Ты тоже идешь? — Девушка хлопала купальником себе по ногам.
— Я бы пошел, но давай попозже?
Девушка была юна и потому считала, что некоторое высокомерие — необходимое свойство женского характера. С его помощью сразу можно доказать, что мальчишки — сущее ничто.
— Будешь считать блох у своей собаки? Попозже будет поздно. — И она пошла в надежде, что Янелис побежит за ней.
Но тут к дому подъехал отец. Янелис открыл ворота.
Отца он догнал на ступеньках.
— Берсон все рассказал… Я тоже дам костный мозг! — смущенно проговорил юноша.
Эгле обдало теплом. Забылось, что сын не способен ни на что путное, кроме как забрасывать баскетбольный мяч в корзину. Взрослый сын! Приходится даже голову запрокидывать, чтобы посмотреть ему в глаза.
— Янелис, когда у тебя будет сын…
— У меня не будет, — перебил его Янелис.
«В свои семнадцать лет он думает только про любовь, про танцы, луну и поцелуи. Молодежь забывает, что от поцелуев со временем родятся дети», — подумалось Эгле.
— В твои годы у меня тоже не было. Не забудь, что человек живет ради своих будущих человеков. Мой долг тебе давать, а не брать от тебя. Ты слишком молод.
— Но, папа…
— Ты слишком молод с медицинской точки зрения.
По аллее со стрекотом катили три трактора. Еще не заляпанные грязью, они блестели свежей коричневой краской. Эгле хотелось говорить о чем-нибудь другом.
— Тракторы, видно, новые.
Янелис посмотрел им вслед.
— Да, к этим, между прочим, цепляют разные навесные машины.
— Вот как? Скажи, ты любишь технику?
— Ну, так…
— Мелиораторам нужны трактористы.
— Я тоже слыхал, — согласился Янелис.
Сказать прямее Эгле не мог. Раз Янелис уклонился от ответа, то бессмысленно продолжать разговор на эту тему. Тем более что Эгле видел, как от их ворот шла девушка в желтой юбке с купальником в руках.
— Я подозреваю, ты не прочь искупаться.
— Да нет, что ты, — героически отказался Янелис.
— Ну, если купаться неохота, то принеси мне из буфета на озере бутылку пива. — Он дал сыну денег и прошел в дом.
Наверх, в спальню, он подымался, тяжело опираясь на палку, но утешал себя мыслью, что теперь-то он уж отдохнет на славу. На балконе сидела с книгой Герта.
В конце аллеи меж стволов мелькало желтое пятнышко и рядом с ним загорелые ноги Янелиса.
— Видала? У тебя женский глаз. Как ты находишь, есть вкус у нашего сына? — лукаво подмигнув, спросил Эгле, провожая взглядом молодых людей.
Гарша стояла на ступеньках санатория и наблюдала, как Вединг, в широком халате, свесив породистый тонкий нос, разглядывает небольшую клумбу с далиями. В одном месте черная земля слегка шевелилась и вздымалась.
— Топните, прогоните крота! — крикнула ему Гарша.
Вединг выпрямился.
— Для чего спугнули?
— Он же цветы подрывает.
— А зачем же посадили цветы там, где крот ищет себе корм. Я признаю свободу. Каждый имеет право жить там, где он хочет.
— Даже бациллы в ваших легких?
— Это мои легкие!
— Вединг, уже два часа. Ступайте и ложитесь в постель, иначе вас хватит солнечный удар.
На лестницу вышел Берсон. Он только что снял халат. Короткие рукава рубашки обнажали сильные руки.
— Эгле не станет искать для себя доноров, — подошел он к Гарше.
Они оба поглядели на лес за поляной, в полдень, дремавший так же, как весь санаторий.
— Да, он не только не станет искать, но еще и откажется, если для него найдут, — согласилась Гарша.
— Его коробит от сочувствия. Сочувствие иногда бывает жестоким.
— Не знаю. Я за свою жизнь еще ничего не получила из сочувствия. Договоримся так: я попытаюсь найти доноров, а вы устроите все, что касается больницы, и подготовите их. Я найду доноров. Когда это будет сделано, я приглашу вас на чашку кофе. А теперь я на час отлучусь.
Гарше хотелось притвориться ласковой, но в сорок четыре года это не очень-то получается. Ее улыбка собрала вокруг глаз множество «куриных лапок», но глаза не улыбались.
Она сходила переодеться. И теперь шла по парковой дорожке, и Берсону, смотревшему ей вслед, казалось, будто это идет девушка — так грациозна и гибка была ее фигура.
Гарша углубилась в парк. Возле кустов орешника кое-где стояли скамейки, чтобы больные могли отдыхать во время прогулок. «Человек, по-видимому, всегда и везде жаждет оставить память по себе», — подумала Гарша, мимоходом заметив, что на спинках скамей появились новые инициалы. Неплохо бы рядом со скамейками устанавливать специальные доски для памятных знаков. Хотя маловероятно, что на этих досках станут вырезать — в этом не будет ничего недозволенного.
Кто-то шумно продирался сквозь густой ельник. Косуля, олень или, может, корова? Нет, за поворотом дороги оказалась скамейка, а чуть поодаль среди деревьев мелькнули две белые рубашки. «Если дежурная доложит, что во время тихого часа все больные были в палатах, заработает у меня выговор», — подумала Гарша.
Она дошла до мелиоративной станции. Пересекла танцплощадку под липами и свернула на лесную тропинку, которая привела ее к вытоптанному берегу озера. Камыш тут уступал место небольшому и отлогому пляжу. Спрятав головы в густой тени ольшаника, на песке загорали женщины. В озере кто-то шумно плавал, ритмически взмахивая сразу обеими руками и затем целиком скрываясь под водой.
Гарша на мгновение остановилась. Может, окунуться перед дальней дорогой? Лежавшая спиной к Гарше женщина вдруг заговорила, явно обращаясь к ней:
— Арнольд, прогони, пожалуйста, у меня муху со спины.
— К сожалению, я не Арнольд, — сухо ответила Гарша, узнав голос медсестры Крузе.
Крузе повернулась и дружески улыбнулась Гарше. Ее коричневеющая кожа слегка лоснилась от крема, а купальные принадлежности были столь экономно скроены, что на них уместилось всего три маковых цветка. Крузе знала, ей незачем прятать свое тело.
— Ах, это вы, сестра Гарша. Позагорать пришли?
Гаршу вдруг осенила мысль. «Пожалуй, попробую. Попытка не пытка».
— Сестра Крузе, у меня к вам личная просьба, нет… это дело всего коллектива нашего санатория. Один из наших сотрудников тяжело болен…
— Так в чем же дело, поможем. Выделим средства, в санаторий пошлем. Я, как член месткома…
— Вы знаете, что доктор Эгле болен?
— Ходят слухи.
— Это не слухи. Вы здоровы?
Крузе улыбнулась доброй улыбкой и, сладко потянувшись, согнула и снова разогнула ногу с узкой коленкой и повернулась на живот. Под эластичной кожей не обозначилось ни одного бугорка жира.
— А разве это не видно?
Гарша знала, что никогда не была так красива, и все же не обиделась, хотя, как женщина, безошибочно почувствовала вызов в этой ласковой улыбке.
— Вы согласились бы часть своего костного мозга из берцовой кости отдать для пересадки доктору Эгле?
Крузе сразу посерьезнела.
— Вы можете дать мне стопроцентную гарантию, что от этого он выздоровеет?
— Я надеюсь. Я верю!
— Если мне скажут, что мое участие наверняка спасет жизнь другому, тогда — да. Но не иначе. — Крузе опять поглядела на свою ногу.
Пловец, который плавал, выбрасывая обе руки из воды, вышел на берег и ладонями сгонял с себя воду. Это был крупный, мускулистый парень.
— И на ноге на всю жизнь останется шрам. Чего доброго, жених от меня откажется. — Крузе снова улыбнулась Гарше, мило и бесстыдно. — Вам легко говорить.
Гарша натянуто улыбнулась.
Подошел парень.
— Арнольд, ведь тебе не понравится, если меня здесь разрежут и навсегда останется шрам?
Арнольд опустился на песок рядом к Крузе.
— Резать такую ногу? Ни под каким видом!
Как бы извиняясь, Крузе добавила:
— Вот видите — не разрешает.
Гарша собралась идти, но перед этим доказала, что и она не лишена ехидства:
— Ну как же! Ведь ваше главное достоинство — ноги. Всего наилучшего!
Гарша ушла, а молодые люди растянулись на песке и обменялись улыбками: ну и чудачка! Костный мозг ей подавай!
Гарша пошла берегом. Словно разомлевшая от зноя, речка текла лениво, а на излучине поглубже останавливалась и вовсе. Тут росла кубышка, недолюбливающая течение и спешку. Полуденное солнце утомляло, и Гарше захотелось искупаться.
Она разделась в тени и села на бережку, свесив ноги в воду. Нет, с Крузе ей красотой не поспорить, она давно это знает. Правда, старость еще не коснулась ее тела; кожа нисколько не увяла; никогда не кормившие груди были упруги. Она сама не пожелала иметь детей, потому что их отцом мог быть лишь один человек, только с ним она могла бы обрести душевный покой. Но, увы, жизнь не всегда складывается гак, как мы этого хотим. Ее жизнь — работа там, где трудится он.
Ну, что ж…
Гарша поплавала на глубоком месте, немного полежала на воде, глядя в синеву неба, куда устремлялись желтовато-зеленые ветви ив.
А потом продолжила свой путь над речкой, которая свернула в сосновый бор и, попрыгав по каменным порожкам, выбегала на простор.
Простор начинался большой рекой. В нее и впадала эта речушка.
Лес тут отступал от берега большой реки, трепещущий от жары воздух густо пахнул смолой. Кругом высились груды бревен, землю устилала сосновая кора — излюбленный материал для корабликов у мальчишек. Гарша шла по разогретому солнцем толстому слою этой коры.
Полуголые мужчины в старых шляпах, защищавших их головы от солнца, ловко орудуя баграми, скатывали бревна по лагам в реку. Бревна падали в воду, вздымая фонтаны брызг и, сталкиваясь, издавали звуки, похожие на приглушенные, короткие гудки. Потом сосновые и еловые стволы с белыми насечками, оставленными смолокурами, отправлялись в дальний путь вместе с водами маленькой речушки.
— Краля, — заметил кто-то.
Мужчины распрямили спины.
Верзила Вагулис по привычке прищурился. Но тут узнал в женщине Гаршу и, видимо, вспомнив, как она отбирала у него курево в санатории, машинально вынул изо рта сигарету. Потом спохватился, что он не в санатории, а на лесоскладе, усмехнулся и опять сунул сигарету в рот.
Гарша подала руку.
— Здравствуйте! Бог помощь!
— Спасибо! — поклонился Вагулис и крепко пожал протянутую руку. — Садитесь, передохните.
Вагулис расстелил на толстом бревне свою парусиновую куртку. Они сидели и глядели на реку; огромные стволы деревьев уплывали, становясь все меньше и меньше.
— Как здоровье? — поинтересовалась Гарша.
Вагулис согнул руку в локте и ребром ладони ударил себя по бицепсу.
— В порядке, — ответил он.
Тогда Гарша пристально поглядела на Вагулиса.
— В санатории вы, бывало, частенько цапались с доктором Эгле…
— Такой уж я от рождения: не терплю замечаний, хоть и знаю, что неправ. Кабы не он, я сейчас тут не сидел бы.
— Помните, стало быть, добро? Иногда о нем забывают.
— Я не из таковских, — почти обиженно возразил Вагулис и даже губу оттопырил.
— Тогда помогите спасти его, — просто сказала Гарша.
— Я — доктора?! — Такое предложение показалось Вагулису шуткой.
— Я вам все сейчас объясню.
И сестра Гарша рассказала, что Эгле долгие годы просматривал на рентгене легкие больных, и о том, что существуют болезни пострашней туберкулеза. И, наконец, о том, какая предстоит операция.
Когда они встали, Вагулис сказал:
— Мы, плотогоны, народ дружный — если один ушел под воду, остальные вытаскивают. Поможем Эгле. — Вагулис задумался, помахал выгоревшей шляпой и спросил: — А к нему вместе с мозгом не перейдет мой нрав? Ничего хорошего ведь во мне нету; я и забияка, и курильщик заядлый…
Гарша от души рассмеялась, и на радости, что ее надежды оправдались, она смеялась искренне и долго.
— Нет, не перейдет. А потом он и сам спорщик, да и курильщик тоже.
Вагулис задумчиво глядел вслед шагавшей к лесу по сосновой коре Гарше. Потом наподдал сапогом сухой сук так, что тот отлетел в реку.
— Шабаш, старики. Поговорить надо.
Мужчины поговорили и стали опять скатывать баграми бревна в реку. Снова, разметывая брызги, полетели в воду тяжелые лесины, их подхватывало течение и несло далеко, в еще большую реку, чем эта.
Теперь по утрам они пили кофе втроем — Янелис тоже. Миновали те одиннадцать лет, когда надо было вставать ни свет ни заря и лететь в школу. Миновали и те недели отдыха, когда он, услышав утром, что часы в гостиной пробили семь раз, как бы наперекор установленному правилу, блаженно переворачивался на другой бок и спал до тех пор, пока голод не будил его. Но наскучило спать, загорать и купаться, потому что девушка с косой работала на колхозном огороде — юной женщине нужны были деньги на платье, а родители заявили, что пора зарабатывать самой.
Из сада на веранду тянуло сыроватым, бодрящим утренним воздухом, словно рукой снимавшим остатки сна.
— Неужели в такое утро у тебя не появляется желание куда-то пойти, что-то делать? — спросил Эгле Янелиса.
— Сейчас на большой реке сплавляют лес. Я, может, на несколько дней пойду с плотовщиками. Вниз по течению, а со Взморья вернусь автобусом. На той неделе у нас игра с валмиерской командой. Надо потренироваться, — излагал свои планы Янелис, делая бутерброд с ветчиной.
— А как насчет работы? Когда я уйду в отпуск по болезни, денег у нас станет поменьше. Мне не хочется распространяться на эту тему, но я считаю, что об этом надо сказать заблаговременно.
Герта налила кофе.
— Вся жизнь впереди. Еще наработается. Пока ты будешь в отпуске, я перейду на полторы ставки.
— Да я и не говорю, что прямо с завтрашнего дня надо поступать на работу. — Эгле почувствовал, что если он продолжит разговор о работе, то останется в одиночестве. Герта и Янелис будут сидеть за столом, но тем не менее он будет одинок. Ему очень не хотелось этого.
Сегодня Герта впервые после отпуска собиралась на работу. Она надела цветное ожерелье из ракушек, пусть в санатории почувствуют, что она побывала в Крыму.
Подогнав к дому машину, она зашла в гостиную за сумочкой. Когда она вернулась к машине, там уже сидел Эгле.
— Ты куда? Мы же договорились, что ты будешь отдыхать.
— Буду, буду, надо только переоформить финансовые документы на Берсона, чтобы банк выдавал деньги по его подписи.
В санатории Эгле приводил в порядок финансовые и прочие дела. Однако в свой кабинет больше не заходил, чтобы не получилось, будто тогда, при Гарше, он попрощался с бородачами и гипсовой девочкой не всерьез.
Прежде всего Эгле по заведенной привычке зашел в рентгеновский. Посидел на удобном сиденье, прижавшись лбом к экрану и не шевелясь, потому что вдруг снова закружилась голова и все тело пронизала боль.
Позднее он вместе с Аболой обошел палаты, перед больницей надо было поглядеть, как дела у тех больных, кому он назначил Ф-37.
Ирена Лазда заулыбалась при виде врачей.
— Туберкулезный очаг у вас рассасывается, — сказала ей Абола.
Эгле заметил на тумбочке Лазды несколько писем.
— Наверно, и сердце больше не шалит? — спросил он весело.
Лазда залилась краской, но на этот раз слезы в ее глазах не заблестели, как тогда в автобусе-флюорографе.
— Откуда вы знаете? — удивилась она.
Эгле, в свою очередь, удивился, отчего так сильно укоротились волосы Ирены и словно бы слежались в отдельные прядки. Кажется, теперь это модно! От туберкулеза прическа не меняется, подобный симптом не описан в мировой медицинской литературе. Ага, — по соседству лежат две молоденькие рижанки. Стало быть, санаторий способствует не только выздоровлению, но и культурному обмену. Вреда в этом, конечно, нет, только неизвестно, понравятся ли короткие волосы тому длинному парню.
Когда они вошли в соседнюю палату, Дале старательно подводила тушью глаза. Чтобы замаскировать мешочки под ними, требовалось много краски.
— А я-то полагал, что вы уже давно дома… — искренне удивился Эгле.
— Совершенно неожиданно у нее вновь обнаружены палочки, — пояснила Абола. — Мы должны выяснить, откуда они выделяются. Возможно, из больного бронха.
Оставив коллегу в коридоре, Эгле вернулся к Дале и, поскольку в палате никого больше не было, пристально посмотрел ей в глаза.
— Это не ваши бациллы. Из ваших легких бациллы не выделяются. У кого вы одолжили микробов и с какой целью? Пенсию вы получите и без того как инвалид второй группы.
Дале осторожно облизала свои ярко накрашенные губы.
— Верно, доктор, это не моя мокрота. Но ведь Алдеру плохо, мне нужно быть с ним.
— Могли бы мне сказать!
— Я же знаю, что по инструкции вы не можете так долго держать хронических больных.
— Вечная беда всех туберкулезников — слишком много вы знаете. Инструкции вам известны, а где мой кабинет — не известно.
— Говорят, вам тоже невесело. Я не хотела вас тревожить, — оправдывалась Дале.
— Но вы же видели, что я на работе.
— Так-то оно так. Значит, продлите мне лечение?
— Да. Передайте Алдеру, что последний анализ у него лучше. А теперь я посмеюсь над вами — не удалось меня обмануть, а? — Эгле прищурил глаз и в самом деле засмеялся, довольный своей проницательностью.
В коридоре у палаты, где лежал Вединг, врач предупредила:
— У Вединга в связи с небольшой ангиной подскочила температура. Он непрерывно измеряет ее и дважды в день гоняет няню на почту телеграфировать жене, сколько у него градусов.
Эгле вошел в палату. Вединг неподвижно лежал на спине и не обратил внимания на вошедших. Изо рта у него торчал термометр. Эгле присел подле его койки.
— Что это еще такое?
— Так точнее всего, вы это могли бы и сами знать, — ответил Вединг и снова вложил термометр в рот.
— Извините, я совсем забыл об этом, — с деланной серьезностью наморщил лоб Эгле. — Хорошо. Только теперь уж не вынимайте термометр изо рта, пока я не договорю до конца. Так вот: няня на почту больше ходить не будет, иначе она не сможет обслуживать других больных. Если возникнет необходимость, мы телеграфируем сами. Это, во-первых. Во-вторых, если температуру измерять непрерывно, то она повышается, посему запрещаю вам это делать чаще двух раз в день.
Вединг извлек на секунду термометр.
— Вы не можете мне запретить наблюдать за состоянием моего собственного здоровья.
— В-третьих, на острове Святого Маврикия был такой случай: один человек тоже держал весь день во рту градусник. От этого у него свело судорогой челюсть, он раскусил термометр, проглотил ртуть и через два дня умер от отравления ртутью.
Вединг, словно в гипнозе, не сводил с доктора глаз.
— Я вам назначаю воздушные ванны… Если у него нет сил самому выйти, пусть санитары выносят его вон туда, на лужайку, — добавил он уже Аболе. — Рядом поставьте большую пальму, чтобы солнечный удар не хватил. Не забудьте про пальму!
Когда врачи ушли из палаты, Вединг достал изо рта термометр и внимательно исследовал, не заметно ли на стекле меток от зубов.
Наконец Эгле вошел в семнадцатую, к Алдеру. Алдер сидел, подпертый тремя подушками. Руки, точно утомленные тяжким трудом, лежали поверх одеяла. В кружке на окне опять стояли свежие ромашки.
— Положение улучшается, — начал Эгле.
— Да, я это чувствую. Крови в мокроте больше нет, — шепотом говорил Алдер, будто бы то, что он чувствует себя лучше, являлось тайной.
Эгле знал, что состояние не изменилось, но и знал также, что Алдеру очень хочется, чтобы оно улучшилось, и потому добавил:
— Палочки в мокроте есть, но меньше. Нам надо продержаться до зимы, до морозов, тогда мокроты поубавится, и будете меньше кашлять. Будем дожидаться зимы.
«Оба мы будем дожидаться зимы, — подумал Эгле. — Зимой мы будем ждать лета, потому что весенние оттепели, когда днем пригревает солнце, а ночью под ногами хрустит ледок, — тоже незавидное время для легочников. Тяжело Алдеру. Если в груди недостает воздуха, а ты знаешь, что вокруг целый океан, то страдание причиняет не только то, что нечем дышать, но и чувство несправедливой обиды. Если у меня мало крови, а я знаю, что в войнах тысячи литров крови вытекали и вытекают на землю, то я мучусь не только от болей в сердце, которому не хватает крови, но и от чувства несправедливости. Мы оба страдаем. Возможно, он больше, полагая, что существуют на свете лекарства или мудрый врач, которые могли бы спасти его, но все упирается в невозможность доставки в „Арону“ этих лекарств или врача. И вообще — страдание не температура, которую можно измерить градусником: у меня сильней, у тебя меньше».
— Будем дожидаться зимы, — выходя, повторил Эгле.
«Правда, старики говорят, зимой умирать нельзя, — живым трудно в мерзлой земле рыть могилу.
Вот мы и будем ждать лета, летом — зимы. Впрочем, этак нам вообще конца не будет. Нет, не будем нахалами, уступим место другим».
Эгле по привычке посмотрел в окно, и тут, словно шип, кольнула его мысль, что, возможно, и он последнее лето любуется далиями на лужайке. Хотелось, как ребенку, расплакаться, излить душу маме, просить у нее защиты, закричать, что он не хочет, не хочет…
Эгле вошел в хозчасть. Навстречу ему поднялся элегантно одетый мужчина с коротко подстриженными, тоненькими усиками.
— А я вас целый час жду, доктор. Можете меня поздравить — проект утвержден! — радостно отсалютовал он рулоном чертежей.
Эгле стряхнул тоскливые мысли. Теперь-то он уж никак не может уйти домой, не посмотрев проекта в окончательном виде.
— Здравствуйте, уважаемый товарищ архитектор, — протянул ему руку Эгле. — Я вас жду гораздо дольше. Выйдемте на воздух и поглядим, что тут нарисовано.
Они расположились на лужайке перед корпусом, расстелив прямо на траве листы с планами, разрезами и перспективами.
Вскоре Эгле окликнул проходившую мимо дежурную сестру и попросил собрать больных после тихого часа в зале.
Эгле окинул взглядом собравшихся и невольно вспомнил, как он двадцать два года назад, в ноябре 1940 года, получил известие об отмене платы за медицинскую помощь. Вот здесь же он сообщил об этом больным. Только тогда он перед ними стоял. Сегодня он говорит сидя, чтобы не закружилась голова.
— Уже в этом году мы закладываем фундамент под новые корпуса санатория, — рассказывал Эгле, время от времени показывая рукой на развешанные чертежи, около которых стоял архитектор с чуть опущенным правым плечом. — В них будет вдоволь воздуха и солнца. Болезнь не выносит солнца. Туберкулез гнездится в подвалах. Туберкулез — свирепая болезнь, он отнимает часть жизни. Никто не сумеет подсчитать, сколько людей здесь стали несчастными, сколько здесь рухнуло планов и надежд. Рушатся они и сегодня, но меньше, чем вчера. А чтобы завтра этого вообще не было, мы строим новый санаторий. Строить будем все вместе, сообща. Да, да, мы с вами тоже. Будем строить для себя и для других. Проект разработал вот этот молодой человек с усиками. — Эгле показал на архитектора. — Он тоже некогда лежал в этом здании, в палате на третьем этаже. И, кстати, должен заметить, что он ни разу не крикнул и не убегал, когда я вводил ему в бок иглу для поддувания.
Архитектор и Дале обменялись улыбками — они были знакомы с сорок седьмого года и помнили, как вот этот самый доктор Эгле застал их на берегу Дзелве, когда они устроили там танцы, и задал такую взбучку, что потом они долго при встрече с ним краснели…
— Теперь этот молодой человек помогает строить санаторий, хотя у него больше нет туберкулеза. Для чего я все это говорю? Мы все должны помочь стройке. Санаторий, в котором мы лечимся, выстроили другие. Лекарства, которые вы принимаете, изготовлены не вами. Если б о вас не заботились те, кого мы называем обществом, вы уподобились бы путнику, оказавшемуся в летнем костюме среди тундры. Близится зима, и он замерзнет, рано или поздно его заметет снег. Я призываю вас: помогите! Насколько каждому позволяет здоровье. Будем работать пусть хоть час в день, будем рыть котлован под фундамент, заложим новый парк. Тем самым мы сэкономим средства, допустим, всего лишь на двухэтажный домик. И этим мы поможем хотя бы четырем семьям, вынужденным еще жить в подвальном этаже. В подвалах цветы чахнут, а туберкулезные палочки множатся. Своим трудом мы ускорим ход строительства, предположим, хотя бы на месяц. За один месяц вылечиться нельзя, но за месяц здоровье может значительно ухудшиться, за один месяц может образоваться каверна. Что это значит, вы все знаете. Давайте же будем помогать!
Эгле умолк.
«Нет у меня таланта — говорил словно плохой митинговый оратор», — досадливо подумал он.
Архитектор, жестикулируя тонкой, как у женщины, рукой в белой манжете, начал давать пояснения к чертежам, прямо из окна показывая, где расположатся здания в натуре, сегодня существующие лишь на ватмане.
После собрания Эгле решил, что со всеми делами покончено, но тут же ему вдруг пришло в голову, что он, возможно, проваляется в больнице долго. Нельзя забывать древнюю мудрость: надейся на лучшее, готовься к худшему.
Эгле сел в машину и поехал в Ригу. Автомобиль он оставил на стоянке у Домского собора и пешком отправился в сберкассу на Комсомольской набережной. В этой сберкассе он держал свои сбережения, девятьсот пять рублей. Пять рублей он оставил себе, девятьсот положил на имя Герты.
Покончив с этой операцией, он присел отдохнуть в скверике. Справа, в порту, виднелись мачты судов. Корабли всегда зовут с собой. Человеку хочется знать, куда впадает река, где кончается море. Итак, он совершил немаловажное дело: если, допустим, он не выйдет из больницы, то его семейству денег на первое время хватит. Если бы сбережения оставались на его счете, то ими нельзя было бы воспользоваться, пока наследники официально не вступят в свои права, а это делается не скоро. Деньги же — хотя бы на похороны — понадобятся немедленно.
Он неторопливо пошел к Домскому собору, где его ждала машина.
Район, прилегающий к площади перед собором, был изрезан кривыми и, как ущелья, тесными улочками, в которые редко проникало солнце. Казалось, обитатели мансард могли запросто протянуть руку через улицу и поздороваться со своими соседями. Из этих теснин непрерывными ручейками стекались в собор люди.
Сотни лет назад по субботам и воскресеньям точно так же шли рижане в собор, но тогда их походка и лица выражали серьезность и благоговение, и перед церковью они склоняли голову. Их сюда влекла могучая власть церкви, без которой человек не считался родившимся, не мог получить имени, равно как и не мог найти места для погребения после смерти.
Сегодня мрачный и стылый Домский собор превращен в великолепный концертный зал, и люди шли послушать органную музыку, и было их во много раз больше, чем во времена расцвета церкви.
Эгле взял в кассе билет и вошел в собор.
Место Эгле оказалось почти посреди зала, и оттуда он хорошо видел кафедру, украшенную деревянными, очень мирского облика, апостолами. Они походили на старых рижских мастеровых; один держал в руке пилу, другой топор на длинном топорище. Возможно, ваятелю захотелось увековечить в образах апостолов рижских пильщиков дров.
В полумраке под самыми сводами высоченного купола поблескивали органные трубы.
Эгле взглянул в программу и понял, что ему не следовало приходить на концерт — сегодня он услышит реквием, а он последнее время старался избегать всего, что лишний раз напоминало о смерти. Хватит с него и красных пятен на платке. И все же он остался. Грешно упускать случай лишний раз насладиться музыкой.
Публика постепенно притихла. Готические своды возносились в вышину, вселяя торжественное предчувствие некоего откровения, которое здесь услышат, откровения, которое истинно и сегодня и вечно, — даже тогда, когда сидящих здесь уже не будет на свете. В окнах витражи цвели яркими полевыми цветами. Они было словно часть той великой природы, в чье небо вонзались стрелы этих кирпичных сводов.
Рядом с Эгле сидела пожилая пара. Он был сух и морщинист, шея в твердом воротничке, словно стебель увядшего цветка, поддерживала безволосую голову. Несколько запрокинув ее, он сидел неподвижно на протяжении всего концерта. Его супруга держала на коленях шитую бисером сумочку. На лицах обоих было напряженное внимание. «Они слушают без страха, хотя и стары», — заметил про себя Эгле. Они уже передумали обо всем, что рассказано в реквиеме.
Вдоль стен стояли старинные скамьи с пультами, на которые раньше клали молитвенники. На первой скамье внимание Эгле привлек молодой человек с неподходящей его возрасту бородкой. Юноша, подперев бородку ладонями, почти не шелохнувшись, просидел весь концерт и лишь изредка поднимал невидящий взгляд. Эгле, встречавший на своем веку много людей, понимал, что этот влюблен в музыку и, слушая ее, испытывает и боль, и радость, и тоску.
Ударил гонг. Все замерли в ожидании. Эгле больше не видел своих соседей. Казалось, передний ряд органных труб выдвинулся вперед, в зал. Звуки, лившиеся с хоров, больше не ограничивались ни стенами, ни сводами потолка, звучание стало каким-то повсеместно сплошным; и алтарь, и боковые приделы — весь собор заполнила музыка. О большом, что пережил за жизнь человек, рассказывал в этот предвечерний час орган.
Смерть, помимо прочего, еще и разлука. Наверно, тягостней всего будет миг расставания, когда каждый удар пульса говорит: «Навеки, навеки». Для тех, кто остается, это «навеки» будет звучать дольше, иной раз многие годы. Об этом рассказывала музыка, об этом пел хор, что бы там ни означали латинские слова.
Что ж помогает встретить этот миг? Малодушным — бог и вера в «вечное блаженство». «А мне? — думал Эгле. — Во мне сохранилась капелька отваги. Мне остается сказать себе: таков закон — из праха ты произошел, во прах тебе и обратиться. Некоторое время ты побыл „венцом творения“, был прекраснее розы с каплями утренней росы на лепестках, могучей дуба, чьи ветви могут укрыть от непогоды, и ты летел дальше и выше, чем журавли, потому что долгие годы ты был Человек. И по тебе опять же останутся человеки — твой сын, твой народ, которому ты своим трудом врача помогал жить и расти, спасая всего лишь несколько из множества жизней. Значит, ты и сам после мига расставания, именуемой смертью, не перестанешь быть».
В вышине, над публикой, хор и орган пели о всемогуществе природы, возникало впечатление, будто из дали Вселенной они взирали на землю, привычно свершающую свое кружение и озаренную солнцем. Потом тихо, словно баюкая, пели про боль и вечную любовь. А разве боль не есть порождение любви? Почему мы оплакиваем того, кто ушел? Потому что мы его любили. Так что ж, может, из-за этого нам не любить? Нет, нет! Человек никогда больше не будет жить, как пещерный зверь, украдкой от других раздирая свою добычу. Человек любит свет, солнце, цветы, море, горы, облака и всегда тянется к другу. Он всегда кого-то любит. За любовь расплачиваются болью разлуки, и все же любят.
Волны звуков, в которых колыхались сердца всех слушающих, постепенно улеглись в плавную гармонию, и казалось, что в бескрайней дали океана времени забрезжил лиловый отсвет закатного солнца. Мир для ушедших из нашей жизни наступил.
Хор уже не пел, но долго еще звучала тишина под средневековыми сводами. И лишь когда смолкла и она, люди поднялись, чтобы возвратиться к своим житейским делам. Но они еще будут думать над тем, про что поведала им музыка. И хоть на какое-то время им захочется стать лучше.
Постукивая палочкой по кирпичным ступеням, Эгле вышел на площадь одним из последних. В нем еще звучал могучий «Диес ире».
Вдали гремели фанфары. Это говорило о приближении Судного дня. И все ближе, ближе. На несколько мгновений все — природа и люди — умолкли в ожидании. Надвигалась грозовая туча. Она шла над верхушками сосен, над ржаным полем, взволновавшимся в бурю, словно озеро. Трава перед тучей склонялась, и зелень ее темнела. Зигзаги молнии касались верхушек одиноких деревьев, гремел гром. Об этом в музыке рассказал «Диес ире», день гнева, Судный день.
Эгле огляделся. Просторная площадь перед собором понемногу пустела. Интересно, эти люди, что по узким улочкам Старой Риги сейчас возвращаются к своей повседневной жизни, — все ли они поняли слова реквиема: Quidquid latet, apparebit nec inultum remanebit?[1]
Вполне вероятно, что кое-кто за его вопрос — слыхали ли вы о Судном дне? — примет его за религиозного чудака. «Никаких Судных дней не было, нет и не будет!» — услышал бы он в ответ. Но вот тогда Эгле принял бы гордую осанку и напомнил: «Такой день настанет для каждого. Не бог будет судить нас, бога не существует, но у Человека существует совесть, и Судный день совести будет у каждого из нас. Великий суд, о котором поведал композитор. И на этом суде, как поется в реквиеме, „тайное станет явным, и воздастся каждому по делам его“, потому что свершится в присутствии неподкупного свидетеля, имя которому Память. Каждый однажды предстанет перед судом своей совести. Она будет судить за преступления, не предусмотренные кодексом законов. Нет закона, по которому ты обязан в трудный час поделиться куском хлеба; и лишь ты один знаешь, мог или не мог протянуть руку утопающему, ведь посреди озера не было никого, кроме вас двоих. Существуют преступления, не сговоренные законами. И у того, кто считает, что ему такой суд не грозит, возможно, отсутствует совесть».
В глубокой задумчивости Эгле медленно шел к машине.
Стараясь не привлекать внимания прохожих черными фраками и белоснежными манишками, из собора выходили хористы в наброшенных на плечи пальто.
Однажды утром из парка вышли трое мужчин и направились к санаторию. В их тяжелой походке чувствовалось достоинство. Так шагают мужчины, сознающие свою силу, которым ничего не стоит плечом опрокинуть воз сена. У всех троих рубахи были расстегнуты, рукава закатаны по локоть и пиджаки накинуты на плечи, чтобы ничто не стесняло мускулы, готовые прорвать коричневую от загара кожу. У одного из них на шее небрежно повязан цветастый платок. Это был Вагулис.
Проходя мимо открытых окон главного корпуса, они увидали больных, игравших в домино. Вагулису показалось, что они тут стучат костяшками целый месяц, так и не прервав игры с той минуты, как он уехал. Вот так же и он сидел среди них в унылом больничном халате, в шлепанцах-недомерках.
Среди играющих был и Вединг. Лицо его прикрывал от солнца красный целлулоидный козырек.
Вагулис широкой лапищей взял Вединга за плечо.
— Ну, как, лягушка, не утонула в сметане?
Вединг вздернул козырек кверху и, узнав Вагулиса, радостно осклабился, но тут же спохватился, — улыбка больному не к лицу.
— Говорят, я прибавил три кило, но я им не верю. Разве нынче хоть одни весы показывают правильный вес?
— А ты верь, хрыч, не то схватишь по шее.
Затем Вагулис проводил своих приятелей в ординаторскую. Там они застали Берсона. Берсон и Вагулис поздоровались за руку, так и не разобрав в этом рукопожатии, чья же рука сильней.
— Меня-то вы знаете, — сказал Вагулис. — А вот этот — мой двоюродный брат, тоже Вагулис и тоже плотогон. Любое бревно за конец подымет, — представил Вагулис застенчиво улыбавшегося мужчину такого же роста, как и он сам. — Вот этот — Гребзде. Тоже сильный мужик. За один присест может выпить дюжину пива.
Коренастый, с живыми прищуренными глазами, Гребзде с достоинством поклонился и по-петушиному вздернул голову.
— Думаю, и этот подойдет, — закончил Вагулис церемонию представления.
— Я тоже так думаю, — согласился Берсон. — Однако без анализов не обойтись. Сестра Гарша отведет вас. А потом уж я осмотрю.
Сопровождаемые Гаршей, они явились в лабораторию — царство стекла и таинственных химических запахов. Вагулис, желая показать друзьям свою медицинскую осведомленность, спросил у пожилой лаборантки:
— Кровь из пальца, или как?
Лаборантка взглянула на принесенное Гаршей предписание.
— На этот раз — из вены.
Вагулис понимающе закатал рукав повыше и перехватил рукой бицепс так, что на сгибе мгновенно вздулись синие, толщиной в карандаш, вены.
— Сегодня крови надо побольше, верно?
Потом заметил в углу еще одну лаборантку и шепнул товарищам:
— Это жена Эгле.
Герта в этот момент прижала к пальцу комочек ваты, потому что у нее самой только что взяли кровь на анализ. По внешнему виду пришедших она сразу поняла, что это не больные из санатория, и вопросительно взглянула на Гаршу.
— Они согласны дать доктору Эгле костный мозг, — подойдя к Герте, негромко сказала Гарша, чтобы плотовщики не расслышали.
Герта привстала. На ее чистом лице и в голубых глазах промелькнуло холодное выражение.
— Я дам свой.
— Одного твоего не хватит, а от моего он отказался.
Лаборантка усадила плотовщиков на табуреты и смоченной в эфире ваткой принялась оттирать им пальцы. Плотовщики принюхивались к непривычному запаху. Когда кровь у всех троих была взята, лаборантка проводила их к Берсону.
Гарша тоже направилась к выходу, но у порога ее остановил голос Герты:
— Я знаю, что от твоего он отказался. Я желаю, чтобы в нем была моя кровь. Я спасу его. — Герта сделала особое ударение на «я». — Всю жизнь мы с ним вместе.
Гарша покачала головой.
— Как же ты не заметила, что он болен?
Герта гордо выпрямилась. Ростом она была не выше Гарши, но смотрела на нее теперь свысока.
— А почему я не интересуюсь, каким образом это заметила ты?
— Ты не можешь мне запретить видеть.
Герта вернулась к своему рабочему месту.
— Было бы куда лучше, если бы ты работала в другом месте.
— Тогда твой муж не заболел бы? — спросила Гарша, но Герта не ответила ей.
Выходя из лаборатории, Гарша глядела себе под ноги — никто не должен был заметить ее слез, все должны знать — медсестра Гарша хладнокровна и выдержанна.
Известно, что смерть посещает больницы чаще, нежели другие места. И даже когда человек направляется туда для пустяковой косметической операции, скажем, удалить подкожный жировик на лбу, то и в этом случае, перешагивая порог больницы, он зачастую испытывает волнение. Умом он понимает, что никакого риска нет, но в памяти всплывают истории о несчастных случаях; как бы совершенны ни были расчеты медиков, человек пока еще не поддается ни точному вычислению, ни разборке и сборке.
В больницу Эгле отправился налегке. Из дому он взял с собой только портфель с книгами. Портфель с книгами — это целое общество. На прощанье Эгле обошел клумбу с распустившимися уже флоксами.
Дорожку от дома до калитки обступили тучные георгины с цветами всех оттенков.
Машину вела Герта. За мостом через Дзелве начинались поля. На ржаном снопе сидел ястреб и высматривал в стерне мышь.
В Риге больничное начальство, в порядке исключения, выделило Герте и Эгле отдельную палату на двоих.
Палата была обычной унылой палатой, каких еще много в латвийских больницах. Сероватые стены, две белые кровати, две белые тумбочки, два белых стула и один белый шкаф. И силуэты причудливых лесов и диковинных зверей, возникающие в фантазии больного, когда он бессонными ночами глядит на отбрасываемую ночником тень на стене.
Эгле устало присел на койку, пока Герта разбирала чемодан, укладывала в шкаф белье. На тумбочку она поставила синюю стеклянную вазу.
— Опять новый дом. Вот мы и путешествуем вместе, — грустно сказала она.
Они словно были в гостинице чужеземного порта и ожидали пароходного гудка. Только не знали на этот раз, в какую гавань он позовет. Возможно, предстоящее путешествие будет опасным, но откладывать его нельзя.
Палату освещал только ночник у кровати Эгле. В углу комнаты, возле умывальника, Герта в ночной сорочке мазала на ночь лицо кремом. Завершив эту процедуру, она подошла к мужу и поправила одеяло. Эгле взял Герту за руку, и она присела к нему на кровать. Как же она еще молода! Такими бывают блондинки, когда они после сорока чуточку пышнеют. Сорочка облегала грудь и от нее уже отвесно падала на колени. Да… разные случались в жизни ночи, не только такие, как эта в больнице. Эгле не мог сказать, что его сведения о любви почерпнуты только из книг.
— Когда-то я даже не знал тебя. Было время, когда я не смел тебя даже поцеловать, а теперь ты сидишь тут.
— И опять мы вдвоем… — Герта встала и дала мужу таблетки. — Тебе надо как следует выспаться.
Она сидела подле него, пока он не уснул.
Наконец бесчисленные анализы сделаны. Профессор Дубнов приготовил растворы для обработки костного мозга. Берсон помогал хирургу отделения подготовить все для быстрых и следующих одна за другой операций. Предстояло открыть доступ к берцовым костям Вагулиса и Гребзде и к ребрам Герты.
А тогда настал день, о котором Герта как-то сказала «наш час испытания». В сопровождении медсестры Эгле с Гертой неторопливо направились в операционный блок. Этот отделанный метлахской плиткой коридор был очень длинным, словно туннель он тянулся через всю старинную больницу. В стороны от него ответвлялись коридоры к отделениям.
Санитарки толкали тележки с бельем, посудой. На тележках с носилками куда-то везли укрытых и закутанных больных. Хотя и отрезанный от внешнего мира, коридор этот все же был транспортной артерией с довольно большим движением.
— Этот коридор можно бы назвать дорогой надежды, — размышлял вслух Эгле, — все, кого здесь возят, надеются на возвращение здоровья.
В нише перед одной из дверей стояли студенты, листали учебники и нервничали, диву даваясь, что все выученное вчера улетучилось. Из двери кто-то вышел. Его тотчас обступили ожидающие.
— Что тебя спросили?
— Номер зачетной книжки! — весело ответил студент.
Товарищи не отреагировали на остроту и принялись лихорадочно листать книги и конспекты.
— Каких только нет на свете забот, — сказал Эгле. — Ведь был и я студентом. И — тогда — экзамен казался мне не менее важным событием, чем сегодняшняя операция. Да, редко когда можно свои заботы переложить на другого.
Медсестра, опередив их, распахнула двойные стеклянные двери операционного блока. Герта крепко взяла мужа под руку и сказала:
— Всего я на себя взять не могу, но половину — да.
В то же самое время еще в одной палате царило заметное волнение, хотя оно и тщательно скрывалось как недостойное взрослых и сильных мужчин. Все три койки в этой палате были разворошены, потому что мужчины хотя и не говорили о своих переживаниях, но зато часто вставали, садились и снова ложились, с шумом скидывая шлепанцы. Гребзде все перевязывал наново косынку на шее.
Но, видно, Вагулису опостылела эта наэлектризованная атмосфера. Он встал во весь свой могучий рост, достал сигарету из пачки, потом спрятал ее обратно и сказал:
— Поймите, не мог я отказать. Если б не доктор Эгле… — И он выразительно втянул щеки.
Гребзде расправил узелок платка.
— Если б ты в тот раз не выловил меня из реки, когда я головой под бревна ушел, давно б меня раки сожрали…
— Чего оправдываетесь? Никто же не винит вас, — перебил их Вагулисов родич, отличавшийся от брата лишь тем, что высказывался гораздо реже.
— Да ладно, обойдется. Ногу ведь не отрежут. — Гребзде склонился над тумбочкой и что-то сунул в карман, так как вошла медсестра и позвала их с собой.
Они сидели у двери операционной и ждали своей очереди. И тогда Гребзде извлек из кармана четвертинку.
— Глотнем для храбрости, — сказал он.
— Это — дело, — согласился Вагулис, но тут их всех пригласили в операционную. Горькую они распили значительно позже, когда «кончилось рабочее время», как заметил Вагулис.
Хирург, Берсон и Дубнов мыли руки. Берсону предстояло взять на себя функции анестезиолога. Затем хирург возьмет скальпель и, как говорят медики, «расслоит» ткани так, чтобы, не повредив нервов и сосудов, проникнуть к тем костям, из которых надо отсосать частички мозга. Этот костный мозг, обладающий чудесным свойством в течение считанных часов производить миллионы новых лейкоцитов, профессор Дубнов введет Эгле. Без этих телец, которые током крови разносятся во все закоулки организма, человек не может жить, они его помощники, муравьи, разносящие питание, вооруженные стражи, сковывающие и уничтожающие микробов.
На одном из столов в просторной операционной лежал Эгле. Он лежал на спине и видел лишь часть стеклянной непрозрачной стены да громадную, в обхват, бестеневую лампу над собой. Из-за толстого и мутного, как морской лед, стекла падал мягкий, не слепящий глаза свет. Затем в поле зрения Эгле появилось прикрытое до глаз марлевой маской лицо Берсона.
— Попробуем, Эйдис, — сказал Берсон.
Он знал, что если разыграть этакого бодрячка и радостно провозгласить: «Вот теперь ты у нас будешь снова здоров!», Эгле только разозлится и больше не произнесет ни слова. Теперь же Эгле сдержанно улыбнулся.
— Попытка не проигрыш, говорят картежники. Не жалей новокаина для Герты и остальных. Пусть ничего не почувствуют.
До того как операционная сестра прикрыла лицо Эгле простыней, он повернул голову и успел встретиться глазами с Гертой, лежавшей на соседнем столе. Лишь на мгновение, но у Эгле стало хорошо на душе. Они успели даже улыбнуться друг другу.
Дальнейшее Эгле воспринимал только на слух. Однако он знал все, что сейчас проделывали три врача, две операционные сестры и няня с несуетливой быстротой в разработанном до последней мелочи порядке. Немало часов в свое время отстоял он в резиновых туфлях на кафельном полу операционной.
Забулькала жидкость — в стакан налили стерильный раствор новокаина. Фыркнул шприц — Берсон набрал жидкость и надел длинную анестезионную иглу. Что-то влажно шлепнулось на пол — хирург бросил мимо посудины для использованных материалов кусок смоченной в спирте марли, которой протирал руки.
Рядом заговорил Берсон. Значит, он анестезирует Герту. У Берсона была привычка разговаривать с больным. Такая беседа способствовала контакту, столь необходимому во время совместного труда врача и больного — операции. Точно так же некогда поступал и Эгле, а вот сегодня говорил Берсон, а Эгле слушал. Пестрая штука — жизнь.
Металлический наконечник шприца задел стекло — Берсон еще раз набирает новокаин. По-видимому, сейчас он склонился над Гертой; на пол упал какой-то инструмент. Там, за белым покрывалом, шла напряженная работа. Потом совсем рядом послышался слабый, но отчетливый голос Герты:
— Эйди, мне не больно… нисколько.
А за каменной оградой, на тихой задвинской улочке у ворот больницы стояла Гарша. Она приоделась, как на свидание: темный костюм, лодочки на высоком каблуке, даже брови подвела. Некоторое время она глядела на асфальтовую дорожку, убегавшую в больничный парк, потом отошла от ворот и стала под тенистой липой.
Она и в самом деле пришла на свидание, но стеснялась этого, хотя ей уже стукнуло сорок четыре.
К остановке подкатил троллейбус. Из него вышел Мурашка, как всегда в своей черной блузе, которой, видно, не было сносу, и в черном берете. С низким поклоном он подал Гарше руку.
— Если на этот раз не удастся… — В глазах Гарши блеснули слезы.
— Не надо плакать.
— Верно. Я не смею даже плакать. Возможно, это неприлично, — с горечью согласилась Гарша. Она вспомнила, что ее кровь была отвергнута.
— Плакать могут все, у кого есть слезы, — возразил Мурашка.
Потом они долго молчали, глядя куда-то вдаль, сквозь кусты сирени за оградой. Рядом, в цветочном киоске, седая старушка расставляла в вазе гвоздики и вывешивала миртовые венки. Она с надеждой поглядела на стоявших неподалеку мужчину и женщину, но те не обращали внимания на ее товар. Они смотрели за больничную ограду и не проявляли намерения купить цветы или венок.
Подъехал еще один троллейбус, и из него выскочила улыбающаяся Крузе с большим букетом роз.
— Пойдемте, передадим цветы, пусть знают, что мы были!
— Послать цветы… это мы всегда успеем, — задумчиво отозвалась Гарша.
Из калитки вышла Кристина Эгле с Янелисом. Кристина ничего не сказала, только широко улыбнулась. Янелис с разбегу подпрыгнул, сорвал с липы пучок листьев. Просто так — ему хотелось прыгать.
Гарша взяла Янелиса за локоть и с волнением заглянула ему в глаза.
— Берсон велел передать, что все идет благополучно. Завтра можно навестить, — сказал юноша и побежал к троллейбусу.
Гарша и Мурашка улыбнулись друг другу, а Крузе быстро пошла в проходную передать цветы.
Герта полулежала на подушках. Одна рука у нее была на перевязи, чтобы перерезанные мышцы спины не испытывали нагрузки. Руки Эгле лежали поверх одеяла. Грудь перебинтована. В палату изредка наведывалась няня, подавала питье, смотрела, не залетела ли в палату муха — Герта сама даже мухи отогнать не могла. Потом Герта попросила няню причесать ее и показать зеркало. А еще позже няня принесла розы.
Эгле разделил букет пополам.
— Отнесите цветы тем здоровякам. Скажите, мол, из санатория; они и в самом деле из санаторского сада.
После операции трое плотовщиков лежали в постели без движения. Когда санитарка принесла розы, Вагулис быстро сунул под подушку порожнюю бутылочку, которую они ухитрились припрятать даже в операционной и доставить назад в палату.
— Это вам из санатория, — подала цветы Вагулису санитарка и вышла из палаты.
— А куда же мы их поставим? Единственная пустая посуда — вот эта. — И Вагулис извлек из-под подушки порожнюю четвертинку.
— Сейчас будет, — стрельнул глазами Гребзде и нажал кнопку звонка. Вошла няня.
Гребзде приподнялся на локте.
— Вы очень красивая девушка, — ухмыляясь, сказал Гребзде.
— Не отрывайте меня от дела попусту. — Няня повернулась к двери.
— И симпатичная, — не смутился Гребзде.
— Что вам нужно?
— Ваза, — показал на цветы Вагулис.
— Так бы сразу и сказали без лишних разговоров.
Гребзде взбил хохолок.
— А вам будто и поговорить неохота!
Няня была еще молода, кругла и румяна и не знала, дозволяет ли инструкция сердиться на больных сразу после операции. На всякий случай она ограничилась тем, что покраснела и вышла из палаты.
Затем Вагулис достал из тумбочки сигарету и, выпуская дым под одеяло, с аппетитом закурил. В палате царило настроение выходного дня после трудной рабочей недели. Вагулис покуривал, Гребзде сосал конфетку и смотрелся в зеркало, время от времени перемещая узел своего цветного платочка. Двоюродный брат Вагулиса потягивал прохладный напиток из красной смородины, поскольку этот августовский день был довольно жарок.
— Теперь поправится, — рассуждал вслух Гребзде. — У меня кровь крепкая. Раз меня укусила змея, так верите? — она сдохла, а мне хоть бы хны.
— Ты змею пристукнул, — напомнил брат Вагулиса.
— Так что, разве она не сдохла?
— Да, — протянул Вагулис, — ни за что не понять мне, отчего человек такая бестолковая тварь. Чтобы жить одному доктору Эгле, надо всего литров пять-шесть крови, а на войне льют и льют ее почем зря прямо на землю. Пролили целую реку, лес можно сплавлять.
— Нет, трупы, — мрачно возразил Гребзде. — А почему так? Ведь не в старину живем, когда люди были необразованные. Неужто человек так никогда и не поумнеет?
— Что до меня, так я кровь проливать не стану, — сказал Вагулис.
— Я тоже.
— И я. Ну вот, хоть три человека на земле дошли своим умом до этой премудрости, — заключил Гребзде. — Когда няня принесет вазу, я скажу ей, что не женат. Может, объявится еще и четвертый умник?
Когда сестра вышла из палаты и на тумбочке тихо затеплился ночник, Эгле вынул из вазы цветок и кинул Герте. Ему хотелось быть добрым, добрым ко всем, и он сожалел, что иногда бывал суров. Сегодня он узнал, как добры к нему люди.
— Впредь мы будем больше разговаривать друг с другом, — сказал Эгле. — Человек может страдать из-за того, что не все высказал. И если один… уходит, и во всем есть ясность, не осталось недомолвок, то второму легче…
— Никто не уйдет! — перебила его Герта.
— Да, да. Я же знаю, что сегодня мы и живы и здоровы. По сути дела, человек бессмертен. Я думал над этим. Он — часть великой Жизни…
— Что-то очень уж мудрено. Лучше полежим, помечтаем. Представим, что сейчас поделывает наш мальчик.
— Вот-вот! Янелис — прямейшее доказательство нашего с тобой бессмертия.
— Интересно, он тоже думает о нас? — гадала Герта.
— Нет, его задача думать дальше, так сказать, с упреждением на одно поколение, — улыбнулся Эгле. — Он думает о своей девушке. И тут, к сожалению, нам возразить нечего.
— Но мы же его родители!
— А разве мы, в свое время, спрашивали у кого-нибудь разрешения на любовь?
— Да-a. Я уже начинаю забывать об этом. Это признак старости, — вздохнула Герта и потянулась за зеркальцем.
Эгле сделал несколько движений кистями рук и вспомнил, что часто видел, как то же самое проделывают больные, вынужденные подолгу лежать без движения. За месяц даже руки кузнеца, в которые въелись масло, сажа и железо, становятся белыми. Тогда, наверно, хватает времени присмотреться к своим рукам, вспомнить о происхождении каждого шрама. А уж за целую жизнь хоть один шрам да появляется у каждого, кто не был белоручкой. И у малыша, тайком схватившего нож, чтобы вырезать крылья для ветряка, и не поверившего, что нож кусается, и у старого лесовика, который хотя и знает, что топор остер, однако нет-нет да и заденет им по живому. Руки — они часть биографии человека.
Янелис ехал в троллейбусе и все еще мял в руке листья. Его грудь распирало от прилива энергии и сил, словно лед на Дзелве перед весенним половодьем.
Операция прошла удачно. Опасность, нависшая было над отцом, миновала. Вчера он, Янелис, со своей девушкой был в кино. Когда актеры на экране соединяли уста в долгом поцелуе, Янелис с гордостью думал о том, что каждому из них больше, чем шестнадцать лет, и они имеют право видеть, как в фильме герои целуются. В такие моменты их лбы морщились и на лицах появлялась почти укоризна, но когда Янелис провожал девушку домой, то они тоже целовались, если поблизости никого не было. И у дома девушки он вырвал цветущий подсолнух вместе с длинным, словно палка, черенком, и преподнес ей.
Сегодня Янелис вдруг почувствовал, что должен совершить такое, что послужило бы для отца вознаграждением за страдания. Янелису вспомнились отцовские слова, когда у них зашел разговор о работе, и он решил сейчас же, немедленно поступить на работу. Да и почему бы ему не работать? Он не слабее, а то и посильнее других ребят, которые кончили школу. Ни один из них столько не занимался гантелями, сколько он. Прилежно, регулярно, по таблицам. Правда, тетка ворчала: «Вместо железных колотушек лучше бы топор взял да для школы дров наколол». Но она старая и не понимает, что такое физкультура. И, кроме того, топором не треснуть себя по ноге, так что школьникам этой работы не поручают.
Приехав на автобусе в Аргале, Янелис сошел у мелиоративной станции. Некоторое время он стоял один в нерешительности, но вот неожиданно увидел девушку. Она была в синем рабочем халате, потому что шла с огородов. В руке сетка с пучками молодой моркови. Остановилась, помахала сеткой и вдруг покраснела, — вспомнила, как вчера они целовались после кино. Днем все выглядит по-другому. Может, она краснела и вчера, только ведь в темноте незаметно. Теперь оба стояли в тени аллеи и зеленого навеса автобусной остановки, и перед ними, словно река, пролегало широкое шоссе. Широкое, серо-белое под ярким солнцем, со щербинами от тракторных гусениц.
— Поступаю на работу, — сказал Янелис, глядя на девушку. Ему было неизвестно, как она отреагирует на его заявление — до сих пор им не случалось говорить об этом. Девушка знала лишь то, что Янелис никогда не работал. Теперь ему почему-то хотелось объяснить ей, что работать он пойдет не ради заработка, а для того, чтобы сделать приятное больному отцу.
Но девушка только помахала сеткой с морковью.
— Будешь у нас в Аргале работать, да?
— Хочу вон там, — кивнул Янелис на железные ворота рядом с бывшей корчмой на противоположной стороне шоссе.
— Это хорошо. Значит, мы оба будем работать здесь, в Аргале.
Ей все было ясно. От этих ее слов Янелис ощутил радостную уверенность, хотя и не имел представления о том, что значит работать и что именно он будет делать. От одного ее тона он уже почувствовал себя не в клетчатой ковбойке, вельветовых брючках и сандалетах из ремешков, а в замасленном комбинезоне и резиновых сапогах или же, наоборот, — раздетым до пояса, как те мужчины в мастерской. А без рубахи тоже ничего — все увидят, какие у него мускулы. Каждый словно горбатая мышка бегает под кожей. Потом он еще организует баскетбольную команду. Поскольку лучше его никто играть не сможет, то он и будет капитаном команды.
— Пойду устраиваться, — сказал Янелис и направился к железным воротам.
— Я подожду тебя.
Девушка присела на ступеньку, подтянула колени к подбородку и принялась грызть морковину.
— Буду ждать! — крикнула она ему вдогонку еще раз.
Янелис должен был идти уже не только из-за болезни отца, но и потому, что его ожидала девушка, думавшая, что теперь они оба будут работать в Аргале. По вечерам они будут смотреть в Доме культуры кинокартины, а потом целоваться на мостике.
В мастерской человек в галифе и шоферской фуражке наблюдал за действиями маленького, навешенного на коричневый трактор экскаватора, который то низко протягивал свою железную горсть, словно попрошайка за милостыней, то заносил ее высоко, будто кулак для удара.
— Скажите, пожалуйста, где директор? — спросил Янелис.
Человек в галифе повернул к Янелису крупное, круглое лицо с квадратным борцовским подбородком.
— Я за него. A-а, Янелис, сынок Эгле. Чем могу служить?
Теперь уже не скажешь, что пришел за спичками.
— У вас не нашлось бы для меня работы?
— Работы? — недоверчиво переспросил директор и отошел подальше, чтобы трактор не заглушал слова.
Янелис утвердительно кивнул.
— Ведь вы раньше нигде не работали?
— С чего-то начинать надо.
Директор окинул взглядом ладного паренька с задумчивым лицом доктора Эгле, но вполне своим ежиком на голове.
— Оно верно. Только… что же вы умеете?
— Мне очень надо работать.
Директор понимающе закивал.
— Так, так, отец захворал, и вы хотите помогать семье. Это правильно.
Он направился к эстакаде, где шофер отмывал мощной струей воды заляпанные глиной борта грузовика. Вначале струя оставляла на сплошной глине только отдельные полосы, но вскоре борта опять заблестели сероватой зеленью.
— Сейчас у меня есть только место мойщика. Надо и моторы мыть тоже. Если согласны…
— А при машинах нет какого-нибудь дела? Я умею водить автомобиль.
— Здесь машины государственные, не игрушки.
— Я подумаю.
Но тут Янелис вспомнил, как сказала девушка: «Значит, мы будем оба работать здесь, в Аргале», и потому спросил:
— А во сколько начало работы?
— В семь. Напишите заявление. Вам восемнадцать есть? Тогда согласие родителей не требуется.
То, что в семь вставать — не страшно. Он и раньше вставал в семь, чтобы для тренировки пробежаться километра три по лесу. Но спорт — это чистое, благородное занятие. От масла руки станут черт знает на что похожи, под ногтями грязь. Что скажет девушка? Потом он подумал, что девушка выпалывает парники, однако ведь ему ни разу не пришло в голову исследовать, сколько парникового чернозема уносит она под ногтями.
Директор ушел. Полуголый шофер орудовал шлангом. Он вылез из-под машины и, возможно, нечаянно повернул струю в сторону Янелиса. Янелис отскочил, спасая брюки.
— Кончай баловать!
Мойщик был молодой парень.
— Теперь небось скажешь, что ты боксер?
Янелис силился вспомнить, как этот мойщик выглядит одетым. И вспомнил, что он видал его в Доме культуры на танцах.
— Не ошибся, — подтвердил его предположение Янелис, смахивая рукой брызги с брюк.
— А теперь можешь чесать отсюда. Мне начальники не нужны.
Вот появился и еще один повод завтра же выйти на работу: надо показать этому малому, что боксом Янелис занимается всерьез.
Экскаватор занесенным ковшом отсалютовал Янелису, когда тот выходил за ворота.
Девушка поднялась навстречу. В ее сетке осталась одна ботва.
— Приняли, да? — спросила она.
Янелис кивнул не без гордости, и они пошли по аллее, дальше через лужок и танцплощадку на задах мелиоративной станции, мимо пустых скамей и дощатого буфетного киоска, куда пиво завозили только когда бывали танцы. Вчера вечером, в сумерках, они тут целовались. Не сговариваясь, они прибавили шагу. Дальше их путь лежал через старый парк. Под густой сенью лип протоптанная тропинка даже в зной казалась влажной и упругой.
— Это хорошо. Значит, ты будешь взрослый человек, как я, — сказала девушка.
Янелис удивленно взглянул на девушку: до носа ему не достает, руки в широких рукавах мотаются, как у куклы, а туда же — взрослая, видите ли, а он — нет!
— Я на год старше тебя, — миролюбиво возразил Янелис.
— Человек тогда взрослый, когда сам себе зарабатывает на хлеб.
Все очень просто!
Янелис никогда не размышлял на эту тему. Что значит — зарабатывать на хлеб? Ведь не война же.
Девушка поглядела вверх, увидала голубое небо среди верхушек деревьев и недоуменно сморщенный лоб Янелиса. Своей маленькой рукой, к которой присохла огородная земля, она взялась за его крепкий мускулистый локоть.
— Завтра мы оба будем взрослые.
В больнице все шло, как в пьесе после третьего действия: кульминация осталась позади. Все постепенно и благополучно разрешалось. Исполнители главных ролей уже ждали минуты, когда их разгримируют, переоденут, и они смогут разойтись по домам. Дубнов еще раз ввел Эгле живительные комочки костного мозга. Рана под левой лопаткой Герты через неделю зажила и остался лишь розовый рубец длиной с палец. Вагулис, когда курил, уже не выпускал дым под одеяло, а, стоя у окна, окуривал вредителей на кусте сирени. Двоюродный брат Вагулиса, вытянув оперированную ногу, сидел в саду и почитывал газеты, а по вечерам смотрел телевизор в комнате отдыха. Гребзде дважды в день брился, слонялся по коридору и помогал санитаркам развозить тележки с едой.
Однажды Берсон пришел в лабораторию, когда здесь готовили к микроскопическому анализу кровь Эгле. Берсон торопился в санаторий, но не мог уехать, не узнав, что происходит с кровью Эгле. Распахнув халат, он нервно прохаживался мимо стола, за которым склонившиеся над микроскопами лаборантки рассматривали препараты, терпеливо, квадрат за квадратом, подсчитывали кровяные тельца.
Берсону эта тишина показалась слишком томительной, и он принялся рассуждать вслух:
— Раньше астрологи через подзорные трубы смотрели на звезды и по ним угадывали человеческие судьбы, теперь мы их высматриваем в поле микроскопа. А вообще-то, мы чересчур заглядываемся на звезды и слишком мало на землю, хотя Проживаем пока что на ней.
— Вы, значит, никогда не смотрите на звезды? — не без кокетства спросила одна из лаборанток.
Все они сидели, припав к окулярам микроскопов, и Берсон не понял, которая задала вопрос.
— По вечерам я ношу воду для своих роз и астр. Тогда я тоже вижу звезды. Но не смотрю на них специально.
Лаборантка записала результаты подсчетов. Берсон заглянул ей через плечо.
— Сколько? Тысяча двести пятьдесят?
Лаборантка вынула предметное стеклышко и выпрямилась.
— Хоть на сотню, да больше. Благодарю! — И Берсон галантно поцеловал руку лаборантке, так как знал, что она не замужем.
— Странно, — удивилась она.
— Жизнь есть цепь ошибок и неожиданностей, — пояснил Берсон, снимая халат.
— А это что… ошибка или неожиданность? — спросила лаборантка, но Берсон уже был за дверью.
— Ясно, ошибка, — уверила ее другая.
Настал день, когда Герта забрала с больничного столика свое зеркало, когда Эгле снова повязал галстук, надел жилет, взял сигулдскую трость и сказал — Будем надеяться, что больше не вернемся в этот отель. Хотя больница — не худшее место на земле. Сюда приходят и уходят отсюда всегда с надеждой.
Они ушли, и палата снова стала унылой больничной палатой, тоскливо серой, как лист бумаги, с которого что-то стерли резинкой. Наглядно подтверждалась древняя латинская пословица о том, что человек красит место, но не место — человека. В окно залетели две усталые осенние мухи. Теперь никто не прогонял их, поскольку от людей здесь остались лишь вмятины на подушках.
Рябина возле дома Эгле по-осеннему покраснела. Глазан на радостях скулил и подвывал, словно его высекли, и вытирал свои лапы о брюки Эгле.
Открылась дверь веранды, и из нее вышел высокий молодой человек в замасленной спецовке и резиновых сапогах, взял за шиворот Глазана и оттащил в сторону.
— Янелис! Так вот какой ты стал! — с гордостью воскликнул Эгле. — Тебе только шляпы не хватает.
— Теперь они не в моде, — усмехнулся Янелис.
Эгле стоял и любовался сыном. Янелис работает вторую неделю. Это еще, конечно, только начало, но почин — великое дело. В спецовке, с выгоревшим ежиком волос, он выглядел крупнее, да, значительно крупнее отца. «Все хорошо, — он хоть не стыдится своей работы. Ведь нередко школьники, изучая строение атома, забывают, что и черная, вязкая и топкая по осени пашня, на которой вырастают хлеба, тоже состоит из атомов. А забыв, считают, что пахать землю — занятие недостойное современного человека. Быть может, я еще доживу до того времени, когда он будет гордиться тем, что работает при земле».
— Мне разрешили ездить вместе с ребятами на рытье траншей. Подсобным рабочим, — сказал Янелис, и Эгле даже показалось, что у сына в голосе пропала хрипотца переходного возраста, теперь это уже голос мужчины. — Я на неделю буду уезжать и возвращаться по субботам. Теперь мне можно уезжать, раз ты дома.
Эгле понимал, что за этими словами кроется многое. Кроется то, что Янелис волновался за него, что из-за этого он поступил на работу сразу после школы, что ждал его и тревожился…
— Ну, что ж, давай дуй. Пока что забирай велосипед. Хоть это и не модно, мотороллер модней, но все же быстрее, чем на своих двоих.
В гостиной на камине его ожидала ваза с яблоками, кожица на них от обилия сока готова была лопнуть. Наверху, в спальне — тарелочка первых слив, пижама, шезлонг с двумя подушками. Эгле почувствовал, что пришли осень и долгий отдых.
Да, он будет отдыхать. Герта за всем приглядит, все устроит — ведь на работу она не будет ходить, пока полностью не срастутся мышцы и пока она не сможет поднять левую руку над головой и достать правое ухо, так ей сказал хирург.
По утрам шезлонг ставили на балкон рядом с олеандром в кадушке — за лето он тоже окреп, посвежел и, выпустив розовые бутоны, готовился зацвести. Тут же под рукой ставили столик с книгами, бумагой, вишнями, таблетками. Эгле с утра садился в шезлонг, закутывал ноги одеялом и к полудню засыпал. Проснувшись, читал, любовался далекими полями и только после полдника возвращался в спальню. Никогда он не представлял себе, что возможно жить в таком небольшом пространстве. Оказалось возможно. Разумеется, при одном условии: если есть возможность думать. Думать он мог.
И в действительности, мир здесь был не так уж мал. Позади, за подушками, находилась красная кирпичная стена. Ее не видно, но известно, что она там есть. Известно, что между кирпичами имеются швы известкового раствора, прямые и одинаковые, как клетки в тетради. Стена выведена вверху треугольником, и там, на острие конька, установлена телевизионная антенна. Раньше над домами торчали флагштоки, нынче — телевизионные антенны. Мы желаем знать, что происходит на белом свете. Нам не безразлично, что творится на других континентах.
А перед глазами простирался целый мир! Перила балкона не сплошные — несколько железных прутьев — и потому видно далеко. С обеих сторон балкон охраняется кронами двух яблонь, — там жужжат осы, буравя в яблоках дыры. За яблонями стоят темные ели, отгораживающие сад от поля. Ели — уютные деревья. Кажется, возьми, свяжи вместе нависшие ветви — и образуется надежный кров от непогоды. А не ютится ли в гуще этих ветвей, где так любят сидеть и лущить шишки белочки, некий лесной дух, какой-нибудь гномик ростом с белку? Да нет, не бывает никаких гномов. Наши дети читают очерки о том, как Гагарин облетел земной шар, но читают они и сказки про мальчика с пальчика. Человек одушевил природу. Он повсюду — и в муравье, что тащит сухую еловую иголку, и в иве, забредшей корнями в речку, — видит жизнь. Все полно ею. «Из неживых атомов зародилось чудо живого, — подумалось Эгле. — Сейчас я себя чувствую сносно. Десны не кровоточат, голова и суставы болят редко. Так что нет нужды углубляться в размышления о сущности жизни. — Эгле улыбнулся, съел сливу, сдавив пальцами скользкую косточку, выстрелил ею в сад. — Выходит, над серьезными вещами ты задумываешься, лишь когда тебе самому тяжело. Так оно и есть, — признался Эгле. — Любопытное занятие — глядеть на себя со стороны. Впрочем, не прав. Это величайшее искусство, и дается оно не легко».
Отсюда открывалась обширная панорама полей и лугов, начинавшихся сразу за садом. Ближе всего было убранное ржаное поле. Аист, манерно подымая ноги, расхаживал по жнивью и выискивал свою добычу, время от времени вскидывая кверху лягушку. За жнивьем тянулась зеленая межевая полоска. На меже были сложены собранные с поля валуны и булыги. У этих груд камней собирались свободные от дел окрестные собаки. Они подымали веселую и дружелюбную грызню, потом усаживались и глазели вниз на склон, сбегавший к ольшанику на излучине Дзелве. У самого горизонта, далеко за рекой — роща; две широкие цветные полосы — зеленая листва и серовато-белый ряд стволов. За рощей, по всей вероятности, снова поля, леса и за ними Рига и море.
Собаки полаяли и разбежались. Олеандр обронил на одеяло листок. Лист почти как у ветлы, длинный и заостренный. Больше он уж не прирастет к ветке. Несколько месяцев тому назад этот листок еще таился в черноземе и окружающем воздухе — атомы углерода, азота, кислорода, железа и других элементов. Затем свершилось чудо — атомы образовали живой лист. Теперь же ветер сдует его с балкона на землю. Там он перегниет вместе с листьями яблонь и еловой хвоей. Снова будут атомы азота, углерода, железа и других элементов. «Я — не лист. Я думаю. У меня есть сын».
Эгле кольнуло в сердце, и он положил под язык таблетку валидола, ощутив во рту приятную свежесть мяты. Как сказал Декарт, человек — это мыслящая тростинка. Пожалуй, человеку надо бороться за то, чтобы стать мыслящим дубом.
Теперь по ржаной стерне разгуливали галки; при каждом шаге они кивали головами и подбирали осыпавшиеся зерна. Эгле положил на колени кусок картона, на него лист бумаги и начал писать.
Немного погодя явилась лаборантка. Очередной анализ. Потом пришел Берсон и стал рассказывать про дела в санатории. «Между прочим, — сказал он, — больные уже начали копать бассейн, предусмотренный новым проектом».
— А как со скульптурами? Мурашка — безбожный лодырь. Неужели он думает, что сам будет жить вечно. Ты съезди к нему и скажи только одно: у меня нет времени на долгое ожидание. Не потому, что я себя плохо чувствую, но просто, чтобы он не бездельничал.
— Лейкоцитов на сотню больше. — Берсон закурил и глядел вдаль, куда-то за речку.
«Берсон смотрит невидящим взором, стало быть, его внимание занято тем, чтобы изображать спокойствие», — отметил про себя Эгле.
— Ты мог бы приврать и побольше.
— Сегодня тот самый счастливый случай, когда не надо врать.
Выполняя просьбу Эгле, Берсон под вечер приехал в Ригу и постучался к Мурашке.
За дверью что-то произнесли, но, к счастью, Берсон не понял, что именно. А Мурашка сказал:
— Я убью всякого, кто посмеет мне мешать, — и лишь после этого, любезно улыбаясь, отворил.
Берсон вошел. Мурашка катал в руках ком глины, коим и намеревался убить пришельца.
В мастерской сидела молодая женщина с лоснящимися черными волосами, на вращающейся подставке лежал голубовато-серый ком глины, в нем уже угадывались черты модели.
Берсон обошел вокруг женщины и подставки с глиной, деликатно заметив:
— Очень жаль, что в глине не передать цвет ваших волос. — Затем обратился к Мурашке: —Я прибыл, так сказать, по поручению Эгле.
— Как его дела, поправится теперь?
— Надеемся. Говорят, вы обещали эскизы скульптур для нашего парка.
— Я много чего наобещал в своей жизни, в особенности женщинам. — Мурашка невинно улыбнулся. Глядя на его седые кудри, трудно было поверить, что женщины воспринимали всерьез его обещания. — Осенью эскизы будут готовы.
— Осенью… Видите ли, операция переутомила его. — Берсон пытался найти слова поубедительней. — Понимаете, теперь ему надо бы во всем потакать. Это было бы весьма полезно с точки зрения психотерапии. Если бы вы привезли эти эскизы теперь…
— Я полагаю, к осени…
— Лучше бы теперь. Это для него лекарство. Всего хорошего!
Берсон кивнул брюнетке и направился к двери. Провожая его, Мурашка уже не улыбался.
— Скажите, в каком состоянии Эйдис? По-честному!
— Применили новейшее средство на данном этапе развития медицины.
— Не забывайте, что долг врача иногда говорить правду.
Больше Берсон не избегал взгляда Мурашки.
— Эгле в таких случаях говорит: обычно надежда умирает только вместе с человеком. Мне к этому добавить на сей раз нечего.
После ухода Берсона Мурашка усадил брюнетку на тахту, насыпал ей на колени конфет, дал несколько иллюстрированных журналов и сказал:
— Отдохни.
Затем он вывалил прямо на пол целую кучу рисунков, фотографий санатория и принялся перебирать их и рассматривать, что-то обдумывая.
— Отдохнула, — спустя час напомнила о себе женщина, на что Мурашка, разминавший в деревянной квашне глину, ответил:
— Отдыхай, отдыхай. Если б я был красив, как ты, я отдыхал бы всю жизнь.
Целую ночь не гасла мощная лампа молочного стекла над подставкой с глиной и Мурашкиным лысым затылком. Когда же ее выключили, в комнату вполз серый и немощный свет раннего утра. Мурашка присел отдохнуть на пьедестал своего «каменного сына».
В комнате быстро светлело. Со стороны моря пришел отсвет зари, окрасивший белизну облаков над городскими крышами в бледный винный цвет. Мурашка вынул из рукава старого халата, лежавшего в углу мастерской, котенка и положил его спящей женщине на грудь.
— Пора вставать. Тебе на работу, — вполголоса будил он ее.
Спросонок женщина машинально скинула с себя котенка и сказала:
— Фу, нахал.
— Кого ты имеешь в виду? — спросил Мурашка и снова подошел к подставке, куда за ночь взобрался глиняный мальчишка и с гордостью потрясал пойманной рыбой, наверно, первой в его жизни добычей; рыбина была немногим короче рыбака. Рядом с мальчиком стояла девочка с косичками и большой ромашкой на плече.
Эгле, как обычно, лежал на балконе, закутанный в клетчатое одеяло. На перила сел крапивник и покачивал длинным хвостом, делая утреннюю зарядку. Герта уже вышла на работу. Эгле тоже надоело лежать и бездельничать, но стоило встать, как голова начинала кружиться. Однако если нет сил устоять на двух ногах, то на помощь может прийти третья — толстая клюка. Ведь обещал же он вылечить доверчивую Лазду и недоверчивого Вединга. Не сочтут ли его теперь дезертиром? Скажут, увидел, что ничего не выходит, вот и не показывается. Честность — вещь вроде бы неощутимая, за нее даже кило хлеба не купишь, но она свойство человека, она необходима, чтобы был человек.
И если мы унаследовали добытые бесконечно длинной чередой поколений честь и честность, то обязаны беречь их. Ни болезнь, ни смерть не снимают с нас этой обязанности. Надо пойти хоть на один обход. Ведь и Алдеру он обещал не уходить из санатория.
Эгле перекинул через перила сливовую косточку, и та угодила прямехонько в нос Мурашке, приближавшемуся к веранде со свертком под мышкой.
— Рука у тебя точная, ничего не скажешь! Хорошо, что ты не бросаешься тыквами! — крикнул снизу Мурашка.
Спустя минуту Мурашка уже сидел рядом с Эгле.
— Здоровье как? — спросил он первым делом.
— Хорошо, и будет еще лучше, — ответил Эгле, и Мурашка не распознал под морщинами его улыбку серьезно это сказано или нет.
— Так пусть станет еще лучше. — Мурашка вытащил из кармана длинную бутылку вина и поставил рядом с лекарствами. — Это здорово улучшает кровь. Имеются сведения, что ты и сам иногда рекомендовал его больным.
— Ну, братец, если бы врач употреблял все, что прописывает другим, то он в два счета… — Эгле выразительным жестом воткнул палец в небо, но Мурашка уже успел откупорить бутылку. Эгле выплеснул лекарство из стаканчика в кадушку с олеандром и протянул Мурашке.
— Каждому по способности.
Себе Мурашка налил в кружку. Они выпили, затем Мурашка потянулся за своим свертком. В нем оказались четверо глиняных ребятишек — девочка с цветком на плече, мальчик, наподдававший ногой мяч, еще одна девочка — она гладила кролика величиной с нее самое — и мальчик-рыболов. Затем Мурашка развернул эскиз.
— Вот здесь, напротив главного фасада, эта девочка пусть охраняет клумбу с цветами, мальчишка — ловит рыбу в бассейне.
Эгле явно заинтересовала работа скульптора.
— А у тебя губа не дура. К тому же ты работаешь довольно скоро.
Мурашка горделиво вскинул голову.
— Если я возьмусь за дело!.. Эх, поглядел бы ты, какая у меня сейчас модель! — И он пальцем нарисовал в воздухе контуры женской фигуры.
— Опять влюблен?
Мурашка вздохнул.
— Что поделаешь — нелегко мне с моим мягким сердцем.
— Да, разные бывают на свете тяготы, — согласился Эгле. Он налил вина в Мурашкину кружку. — Нравится?
Мурашка отпил глоток.
— Нравится. Ничего не скажешь. Я, наверно, греховен от рождения, как это утверждает церковь.
Теперь Эгле улыбнулся по-настоящему.
— С тобой, пустозвоном, и впрямь на душе веселее. А раз так — пей за мое здоровье. Ныне, через год и во веки веков. Аминь.
Мурашку не надо было просить дважды.
Люди не забывали Эгле. Вскоре после Мурашкиного ухода сестра привела на балкон мужчину в полотняных брюках и сандалиях. В нем Эгле сразу узнал Земгалиса, выписавшегося из санатория в начале весны. На пол Земгалис поставил корзину, обвязанную мешковиной.
— Здравствуйте, доктор!
— Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, как себя чувствуете? Мы же договорились больше не встречаться.
— Так-то оно так, доктор. А помните, мы насчет раков разговор вели?
— Да, я спрашивал, где есть хорошие рачьи места.
— Ну видите. Я прослышал, что вы захворали. Вот, косил сено да заодно половил рачков. Извольте! — Земгалис задрал край мешковины, и Эгле увидел в корзине среди крапивных листьев копошащихся раков, подвернувших шейки. — Поправляйтесь, доктор. Если понравятся — еще принесу.
— Большое, большое вам спасибо!
— Не за что, доктор. Мне что — суну руку в воду, приподыму камень и тащу рака, — лукаво улыбаясь, пояснял Земгалис.
— Не только за раков. За то, что не забываете.
Земгалис встал и, подыскивая слова, зашевелил бороденкой.
— Как это так — забыть? На то и дана человеку память, чтобы не забывать.
Когда с работы вернулась Герта, они решили на ужин сварить раков и пригласить Берсона.
— И Янелиса. Ты позвони в лесничество, пусть Янелис к вечеру приедет. Обязательно. Мне хочется, чтобы сегодня мы были все вместе.
Герта позвонила леснику, у которого поселились экскаваторщики, и передала просьбу Эгле.
Остаток дня после обеда он был занят тем, что приводил в порядок и разбирал свои бумаги. На следующий день в санатории должна была состояться конференция врачей-фтизиатров по поводу применения Ф-37.
Перед глазами вдруг все снова поплыло. Эгле сел к письменному столу и вперил взгляд в его черную поверхность под толстым стеклом. «Вот так же сидел я и обдумывал, что еще предстоит мне сделать, когда уехала на юг Герта. Обо всем, что я считаю хорошим и правильным, я должен рассказать Янелису. Быть может, сегодня вечером поговорить с ним подольше? И что посоветовать ему по главному вопросу — чему учиться?»
Тут же на столе лежал журнал «Антибиотики». Двадцать семь лет назад, когда Эгле сдавал государственный экзамен, об антибиотиках никто еще не помышлял. А теперь они спасают десятки миллионов жизней. Каких-нибудь пятнадцать лет тому назад здесь, в «Ароне», борясь с туберкулезом, он имел на вооружении только хлористый кальций и иглу для пневмоторакса. Нынче же стрептомицин и изониазиды только в «Ароне» вернули здоровье десяткам и продлили сотням жизнь на много лет. И Эгле знал, как человек подчас борется всего за минуту жизни. За последние годы накоплено такое количество знаний, что ума человека хватает максимум на то, чтобы глубоко постичь лишь какую-нибудь узкую их область. Научные знания — это море. Из моря ты можешь зачерпнуть лишь пригоршню. А нет ли какой-то всеобъемлющей, всесвязующей науки, которую, подобно «обязательному курсу фортепиано» в консерватории, должен был бы изучить каждый? По-латыни человек называется «гомо». Отсюда возникло слово «гуманизм». Быть может, гуманизм и есть тот самый «обязательный курс», без которого немыслимо постичь жизнь? Но ведь гуманизм — не наука!
Вошел Берсон и удобно расположился в кожаном кресле. Эгле предложил ему сигарету и дал прикурить от зажигалки-пистолета. В последнее время Эгле пристально приглядывался к Берсону. Эгле знал, что сегодня Берсон и профессор Дубнов знают о состоянии его здоровья и прогнозах на будущее гораздо больше его самого. Каждое слово Берсона помимо основного значения могло еще служить вуалью, прикрывающей жестокую истину.
Сегодня Берсон был в сером габардиновом пиджаке и при галстуке. Он спокойно курил. Похоже, он немного похудел, стали резче складки на лбу, и когда он затягивается, то щеки западают глубже, и при этом отчетливей обрисовывается костистый подбородок. Берсон держится спокойно и естественно. Эгле не мог уловить в его облике ничего скрытого, затаенного.
— Ну, как настроение? — поинтересовался Берсон. — По-прежнему позитивный пессимизм?
— Настроение у меня меняется по меньшей мере трижды за день. С утра хорошее, поскольку факт налицо: ночь прожил. В обед тоже ничего, — как ни крути, а еще полдня одолел. Вечером — превосходнейшее, потому что за плечами уже оказался целый день. Противней всего ночью — нет уверенности, дождусь ли утра. Потому ночью предпочитаю спать.
Поострив, они так и не выяснили, что же думает каждый из них о другом.
— Завтра ты, конечно, придешь на конференцию. Заодно посмотрим кое-кого из больных.
— Приду. Только имей в виду, — Эгле подал Берсону папку с докладом, — читать его будешь ты. Мне, пожалуй, не осилить.
В жесте, с каким Эгле подал папку, Берсон уловил что-то тягостное и полное грустного смысла.
— А это что? — спросил он.
Эгле скривил губы в усмешке, и Берсон не понял, что Эгле прячет за ней: иронию, безысходность или уверенность в себе.
— Это мой последний, так сказать, ученый труд. Сегодня не трогай, завтра просмотришь. Это по поводу врачебных ошибок. Может, кому и пригодится. Все на ошибках учатся, медики тоже.
— Здесь и про мои? — поинтересовался Берсон.
— Те, о которых тут идет речь, ты, разумеется, не повторишь. Это было бы уж совсем ни к чему.
— Хорошо. Завтра поглядим, в чем ты наошибался. — Берсон положил доклад в портфель.
— Пошли в гостиную раков варить. Скоро и Янелис подойдет.
У камина уже был поставлен столик со всеми необходимыми принадлежностями: тарелочками, на которые раков положить, ложками, чтобы зачерпнуть солоноватый, пахнущий укропом отвар, пивными стаканами и полотенцами для рук. Недоставало только главного — большой миски с раками. В камин были уже заложены березовые поленья. Топить еще не настало время — дом за день прогревался солнцем, но стоило взглянуть на белую бересту, и каждый вспоминал о костре. Вид этих поленьев с белой корой придавал комнате уют и теплоту.
— Что-то Янелис застрял, — опять вспомнил о сыне Эгле.
— На велосипеде ехать — не на машине. Приедет, не волнуйся.
— Подождем малость. Пока попробуем, каково пиво без раков. — Эгле налил Берсону пива. — Займемся-ка раками, — предложил он. — Скоро и Янелис подоспеет.
Кристина внесла большую глиняную миску; из укропа торчали красные спинки раков. Первые клешни были отломаны и высосаны в полной тишине. Все молча наслаждались запахом укропа и аппетитным, душистым отваром. Затем отпили по глотку пива.
— Раки соленые, пиво горькое, а вкусно ведь, — нехитро мудрствовал Берсон, — нравится даже женщинам, обожающим сладости.
Герта молчала. Ей пришел в голову гипотетический вопрос: как она помогала мужу, занятому испытанием нового препарата. На завтрашней конференции медиков какой-нибудь дошлый газетчик может пристать к ней с таким вопросом. Она же так мало смыслит в химии. За это никто не может ее винить. На работе она добросовестно делала анализы, а дома заботилась о том, чтобы у сына были заштопаны локти, были выглажены и накрахмалены сорочки мужа и — не отрывала мужа от дела. Разве это так уж мало?
Янелис сидел на сухой торфяной кочке на краю болотистого луга. Позади лес, а впереди широкая луговина с одинокими ветлами. Через луг тянулись прямые груды земли, вынутой из отводных траншей, черный торф вперемежку с белым песком из более глубоких слоев. Груды походили на длинные бисквитные пирожные с шоколадным кремом, по цвету совсем неподходящие к спокойной зелени травы и сероватой листве ветел. Тут же постукивал двигатель бульдозера.
Рядом с Янелисом сидел бульдозерист, такой же молодой парнишка в нахлобученном на глаза берете. Не сходя с места, они набрали по горсти спелой, яркой брусники и поднялись. Бульдозерист вспрыгнул на гусеничную цепь трактора и шмыгнул в кабину. Янелис последовал за ним. Они должны были разровнять вынутый экскаватором грунт.
— Ты замечай, лемех я пускаю наискосок к земле. Теперь назад, и тогда толканем, — орал тракторист. — Завтра я тебя посажу самого за рычаги. Осенью будешь утюжить — только держись! Как брюки утюгом.
Тракторист гордился тем, что у него уже есть ученик. Янелис гордился, что завтра самостоятельно будет управлять этой железной махиной. Это потрудней, чем крутить баранку «москвича». Он и отца привезет посмотреть. Пускай потешит душу, поглядит на сына за работой.
Осаживая назад, бульдозерист оглянулся на лес. Оттуда шла девушка с белокурой косой. Она была в сапогах и с корзинкой на руке.
— Ишь, какая леди, — заметил тракторист.
Янелис тоже оглянулся.
— Остановись!
Янелис уже подбегал к опушке, когда услышал голос своего «наставника».
— Давай катись домой. Я тоже кончаю! — крикнул он, и у него было чувство, будто он сделал Янелису дорогой подарок.
Девушка с достоинством ожидала на опушке, и можно было подумать, что уже тысяча лет, как установлен порядок, по которому парни к девушкам должны бежать бегом.
— Теперь ты взрослый человек, — сказала девушка. — Ты работаешь.
Янелис в смущении взял ее за руку.
— Я не думал, что придешь…
— Да я совсем случайно. Мы огурцы убирали, а одна машина шла в эту сторону, я и поехала грибов пособирать и… заблудилась.
— Тут же шоссе рядом. — Янелис показал рукой куда-то за лес. Хоть он и родился на год раньше, но все же был слишком молод, чтобы понять, как можно заплутать в таком небольшом лесу.
— Говорят тебе, заблудилась — значит, заблудилась! — девушка топнула ногой по кочке.
— Верю, верю, — сразу согласился Янелис.
— Устала до смерти, пока по лесу лазала. Ты не подвезешь меня?
— Мне передали, что звонили из дому, и отец ждет меня. Ты постой, а я сбегаю за велосипедом. Через двадцать минут буду я здесь!
— Смотри, ждать не стану! — Девушка села на кочку и стала обирать бруснику.
Янелис по-спортивному широким, размеренным шагом побежал по лесной тропинке, и когда иная веточка задевала ему лицо, это было даже приятно.
Янелис приехал на своем велосипеде, и они вышли на шоссе. Корзинку привязали к багажнику. В ней было всего-то три сыроежки. Улитки проели на них белые бороздки.
— Не повезло тебе, — заметил Янелис.
— В чем не повезло?
— Да с грибами.
— Не повезло? — протянула девушка и усмехнулась.
Девушка села на раму, и Янелис поехал. Четырьмя руками трудней удержать руль, чем двумя. Если дорога хоть чуточку начинала подыматься в гору, приходилось привставать на педалях и давить на них всем весом. Это было бы немыслимо тяжело, не касайся его щеки волосы девушки. По-видимому, они излучали некую, еще не познанную учеными загадочную силу.
Так они и ехали тихими полями. Смеркалось. По дороге вспугнули сову. Она бесшумно взмыла в воздух почти из-под колес и скрылась в деревьях. Дальше начиналась крутая гора, и Янелису пришлось сойти с велосипеда.
— Ты устал, Янелис, отдохнем.
На вершине холма у дороги росли липы. Они сели под липами, свесив ноги в сухой кювет. Девушка больше не командовала — делай то, делай это, а прильнула к плечу Янелиса. Они даже не целовались, просто сидели; их взоры были обращены на дорогу и на березовую рощу за ней. Это была роща, — сквозь опускавшийся из беззвездного неба темный туман проступали бледные полоски стволов. Янелис снял куртку и укрыл ею плечи девушки. Девушка не сказала «не надо». Спустя некоторое время она опять заняла свое место на раме велосипеда.
Посреди поселка, около школы, где над дорогой нависают каштаны и потому тьма еще черней, Янелис соскочил с велосипеда. Девушке домой надо было идти мимо мелиоративной станции, через танцплощадку. Ночью все было темным, и смутно белела лишь стена старой корчмы.
— Ты проводишь меня? — спросила девушка и забрала свою корзинку.
— Меня отец ждет… — вспомнил Янелис, но тут же спохватился, взял велосипед за руль и повел.
— Не провожай тогда, ты и так уже опоздал. Отец болен, может, ему что надо. Может, в аптеку сходить.
Мне не страшно нисколечко! — сказала она и побежала, подумав, что Янелис на прощанье станет целовать ее и тогда они долго простоят под каштанами, так долго, что потеряют счет времени, а отцу Янелиса и в самом деле что-нибудь надо.
Миновав танцплощадку, она высыпала на стол возле буфета источенные улитками сыроежки. Грибы каждый год вырастают. Грибов ей было не жаль. Помахивая пустой корзинкой, она припустилась бегом по тропинке.
Берсон уже ушел. В гостиной горел торшер с желтым абажуром. Эгле и Герта сидели у камина, и от одного вида лежавших там поленьев с белой корой становилось тепло. Эгле поболтал ложкой в миске и среди стеблей укропа выловил еще раков.
— Янелисова доля уцелела. Давно бы пора приехать. Уж не случилось ли чего?
— Янелис — взрослый человек. Что с ним может случиться?
— Да, Янелис взрослый. Пойду-ка я отдохну. Завтра в санаторий.
Герта взяла его под руку, и они поднялись в спальню.
Эгле тотчас же лег. Герта разделась и проделала несколько движений левой рукой, доставая правое ухо. Теперь это ей удавалось.
«Если я уйду, ей достанется от меня в Наследство шрам, — подумал Эгле. — Что еще оставит она от меня? Ей только сорок пять. Она сохранила гибкую талию… Выйдет замуж, если…»
Герта выключила свет, легла рядом с мужем и взяла его за руку — так Эгле скорей засыпал. Глаза свыклись с темнотой, и он рассмотрел через стеклянную дверь балкона олеандр и тонкие тени его ветвей на фоне неба, и даже верхушку яблони за перилами балкона.
Будет на этом месте лежать другой или нет? Герта говорит, что нет, никогда. Но ведь, по сути дела, нынче она и сама этого не знает, так же, как я. Человеку свойственно искать себе друга. Трудна старость без друга, а лет через пять и она тоже состарится. И никто, даже он сегодня не посмеет упрекнуть ее. Янелис уже взрослый. Он скоро уйдет. Да, Янелису надо как-то осторожно объяснить, чтобы он все понял. Он должен очень любить мать, чтобы она никогда не почувствовала себя одинокой и покинутой. Так или иначе, но вместе прожиты долгие годы. Если он иногда и чувствовал себя дома одиноким, то нельзя винить в этом только Герту. Как он был счастлив, когда в тридцать восьмом Герта поступила в «Арону» лаборанткой и однажды осталась у него. Всю ночь напролет они просидели на балконе. Жизнь надо уметь выдержать. Жизнь — это долг, обязанность.
— Не спишь? — спросила Герта.
— Буду спать. Я должен как следует отдохнуть перед завтрашним днем. — Эгле нажал выключатель ночника и принял снотворное.
Когда снова стало темно, он положил руку на Герту. Она старалась не шевелиться, чтобы рука мужа не соскользнула и он ощущал ее присутствие. Герта уснула. Незаметно погружался в сон и Эгле. Он еще видел над макушкой яблони голубые искорки первых звезд.
Скрипнула лестница. Янелис прошел в свою комнату. «Вот мы и все дома, — уже засыпая, подумал Эгле. — Жаль только, не успел поговорить с Янелисом.
Человек создал разные науки! ядерную физику, кибернетику, фтизиатрию — всех не перечесть и не изучить за одну человеческую жизнь. Янелис, усвой „обязательный курс“ гуманизм, люби людей».
Заскреблась мышка, обнаружившая под шкафом семечко от яблока. Эгле сонно улыбнулся: «Ты, мышка, можешь отправляться спать. Я не одинок теперь».
Утром Эгле брился тщательней, чем когда-либо. Это была длительная процедура, кожа лица стала морщинистей. Глаза в зеркале смотрели как бы с большого расстояния, но были еще ясные, и даже, когда он усмехался, в них вспыхивала веселая искорка. «Скоро я научусь смотреть на себя со стороны, а это иногда бывает забавно». Он надел белоснежную сорочку и завязал галстук узлом без единой складочки. «Жилет, пиджак, трость — ни дать ни взять джентльмен». Выйдя на веранду, Эгле сильно оперся на палку, потому что его старые провожатые — головокружение и слабость — вдруг словно вылезли из-под ступенек веранды, где до сих пор обитала одна лишь жаба.
Рябина около дома по-прежнему цвела ярко-красными гроздьями. Георгины, выстроившиеся вдоль дорожки, торопились до заморозков показать, на что способны, и жонглировали тяжелыми, темно-красными до черноты звездами цветов. Некоторые из них опустились. Казалось, будто эти цветы, глядя на землю, о чем-то задумались.
«Стоп! Я еще не повидал Янелиса, он спит. Разбудить? Пусть выспится, ему во вторую смену. Главное — он работает.
А может, не ехать в санаторий? Полежать спокойно? Что бы ты стал делать, — размышлял Эгле, — если б знал, что не сегодня-завтра ты… тебя не будет, но силы двигаться, ходить у тебя еще есть, как сегодня у меня. Пошел бы в спальню и лежал, не вставая с постели? Глядел в окно на дальние поля, да еще в зеркало платяного шкафа, изучая свою напуганную физиономию?.. Если б ты это знал… Нет! Нет! Нет! Надо не мешкая идти в санаторий, надо просмотреть рентгенограммы, надо делать свое дело и прикидываться, будто ты давно уже чихаешь на костлявую! Только не так-то все это просто…»
Эгле шугнул палкой кошку — та занялась своим обычным спортом и, шевеля кончиком хвоста, целилась на воробьев.
Герта подогнала машину к калитке. Эгле сел рядом, и они поехали в санаторий. На лице у Герты играла едва приметная улыбка. Люди улыбаются от радости, от гордости, от самодовольства, улыбаются чему-то смешному. Герта улыбнулась оттого, что надела светлые кожаные перчатки. Хорошо, когда в твоем туалете все безукоризненно. По опрятности одежды узнается дисциплинированный человек. Иногда перчатки носят для того, чтобы сберечь длинные ногти. Герта не отращивала ногтей, лаборантка не может себе этого позволить.
Лаборантка… А ведь Герта ни разу его не спросила, как подвигается работа с Ф-37, она, наверно, даже не знает, что препарат уже применяют в санатории. Все же маловато между ними общего, хотя прожили вместе они долго. Сложен вопрос: кто тебе близок и кто тебе чужд? Сам он тоже хорош: допустим, она не расспрашивала, но разве он пробовал рассказать ей о препарате, заинтересовать ее своей работой?
Лесопарк кончился, впереди открылась большая поляна с одинокими соснами, на ней длинный корпус санатория, словно белый пароход.
— Ты поезжай, я дойду, — сказал Эгле и вылез из машины.
Он постоял около посаженной нынешней весной рощицы. Березки были еще подвязаны к кольям. На поляну уже завезли строительный камень-рухляк. Груды отесанного камня лежали у прямых глубоких траншей. Человек десять больных в старых халатах неторопливо, словно для забавы, сбрасывали плоские глыбы рухляка в траншеи.
«Все-таки фундамент до осени заложат, — прикидывал Эгле. — И расходы на него составят лишь стоимость самого камня».
Больные заметили Эгле и поздоровались.
— Как работается? Не тяжело? — спросил Эгле.
— Ничего, полезно размяться. Построим и сами еще будем загорать здесь. Потом яблони посадим, и яблоки будут нам прямо в рот падать, — ответил кто-то.
— Что ж, возможно и так, — согласился Эгле и добавил: — Но, кроме того, я полагаю, что вы строите последний санаторий в нашей республике.
— Это что же, — чахотку отменяют законом?
— Да, законом коммунизма.
— А чем же тогда вы будете заниматься?
— Буду здесь же служить в доме отдыха старшим надзирателем. Буду читать лекции о вреде религии и никотина. И еще о вреде алкоголя и злых жен.
В кабинете главврача он застал Берсона. Берсон предложил ему дубовое кресло за письменным столом. Эгле сел к столу с той стороны, где обычно располагаются посетители.
— Это кресло для меня жестковато.
— Ну, ну.
— В моей жизни настала пора домашних туфель. Рановато, конечно, но что поделать.
Вошла Гарша с белым накрахмаленным халатом.
— Пожалуйста, директор.
Эгле не сказал, что он уже официально не директор и не будет им больше. Ему вспомнилось, что отставные полковники тоже не протестуют, когда их называют полковниками.
Гарша помогла ему надеть халат и направилась к двери. У порога она оглянулась. На мгновение. Но твердый взгляд ее и улыбка заставили улыбнуться и Эгле. Гарша вышла.
Ей почудилось, будто она еще раз накоротке поговорила с ним обо всем, как тогда, у нее дома поздним вечером.
Эгле с Берсоном отправился к больным. Однако уже после третьей палаты Эгле прервал обход.
Раньше в этой палате лежал Алдер. Теперь на его койке, слева от двери, сидел молодой парень с бачками. На тумбочке еще стояла зеленая глиняная кружка Дале. В кружке теперь уже были не ромашки, как было перед уходом Эгле в больницу, а две голубые астры.
— Свежий небольшой инфильтрат, — деловито и буднично доложил Берсон. — Он потеряет первый семестр в академии, но зато получит целую жизнь.
«Берсон умеет успокаивать так, что ему веришь», — подумал Эгле. В коридоре он ни о чем не спросил, но только взглянул на Берсона.
— Мы не хотели тебя понапрасну волновать, а помочь уже никто не мог, даже ты. Десять дней назад произошло легочное кровотечение, остановить не смогли. Он умер быстро, — словно оправдываясь, добавил Берсон, поглаживая седеющие виски.
— Это хорошо, что быстро. Он болел двадцать лет. Конечно, возместить это одной лишь легкой смертью нельзя. А Дале?
— Уехала позавчера. Она дождалась его брата, и они похоронили Алдера на нашем кладбище.
— Ручаюсь, что в последнем анализе у нее палочки не обнаружены.
— Откуда тебе известно? — удивился Берсон.
— Я не первый год работаю в санатории… Дале оставила в этой палате свою кружку для цветов, — заметил Эгле.
— И положила в гроб синие варежки, — сказал Берсон.
— Она вязала их весной, к зиме готовила, — вспомнил Эгле.
Длинный коридор санатория по случаю конференции врачей сегодня разукрасили, как в праздник. Широкие трехстворчатые окна, на них домотканые занавеси. И написано: «Такие занавески соткем для нового корпуса. Больные».
Тут же стояли три кресла разных фасонов, но все удобные, с подлокотниками и мягкие. К спинкам приколоты записочки: «На таких креслах будем сидеть в новом корпусе. Больные». И занавески и кресла сделаны в порядке проводимой в санатории трудотерапии.
В одно из кресел тяжело уселся седой директор туберкулезного института.
— Меня выдержало, — признал он.
— В санатории не предвидятся более тяжеловесные больные, чем ты, — пошутил Эгле.
В коридоре за столиком сидели Крузе и еще одна медсестра и регистрировали прибывающих врачей. Когда к ним подошла Гарша узнать, на сколько человек заказывать обед, Крузе, совсем как школьница, хихикнула, прикрыв рот ладошкой и громко прошептала:
— Гарша, вы только представьте — у Берсона новый габардиновый костюм!
Темные глаза Гарши ужалили Крузе.
Она прошла в зал и заняла место в последнем ряду.
Синий занавес был раздвинут, и на сцене сидел президиум конференции. Директор института, Эгле и еще три врача. Сверкающая белизной сорочка подчеркивала изможденный вид Эгле, хотя и нельзя было сказать, что лицо его очень бледно.
Гарша видела только Эгле.
Среди присутствующих в зале больных в первом ряду заметно выделялась белокурая головка Лазды и гладко зачесанная — Вединга.
Абола сошла с трибуны. К присутствующим обратился директор туберкулезного института:
— Коллега Абола сделала нам сообщение о первых обнадеживающих результатах применения препарата Ф-37 в «Ароне». У кого будут вопросы?
Гарша сидела молча и гордо, потому что речь шла также и о заслугах Эгле и еще потому, что их санаторий был самым первым, где применили новое средство. Она огляделась по сторонам.
Посреди зала встал незнакомый врач.
— Первые результаты как будто не плохи. Но хотелось бы услышать, чем объясняется неудача эксперимента с морскими свинками, а также есть ли больные, излеченные только с помощью Ф-37?
Эгле поднялся.
— Разрешите мне отвечать сидя, — попросил он, и после кивка директора снова сел и продолжал: — В своем ответе коллеге Гринблату я должен пояснить: неудача, которую он имеет в виду, объясняется тем, что свинкам не были одновременно введены в достаточном количестве витамины группы «Б». Однако даже и при этом концентрация препарата в легких была максимальной, он задерживался в тканях дольше, нежели все прочие. Теперь о больных. Да, у нас имеются больные, у которых улучшение наступило лишь благодаря Ф-37. Например, больная Лазда. Прошу вас!
Девушка встала и повернулась к публике. Лазда была уже не в халате, а в голубом ситцевом платье, и на лице у нее было такое выражение, словно она просила извинить ее за то, что выздоровела. Но просвечивало это смущение сквозь радость. Сквозь огромную радость, такую, что присутствующие не удержались от ответной улыбки.
Эгле подал врачам в президиуме историю болезни.
— Здесь же и рентгенограммы, наше наиболее надежное свидетельство. За четыре месяца инфильтрат рассосался, остались лишь рубцы. Процесс был свежий. Сегодня мы ее выписываем.
— Что ж, это могло бы послужить доказательством того, что препарат не хуже других. А есть у вас пример, когда он помог там, где другие оказались бессильны? — опять задал вопрос Гринблат.
Гарша сердито нахмурилась — незнакомый врач решил во что бы то ни стало опровергнуть доводы Эгле? Но Эгле знал: в медицине признание и вера рождаются только из сомнений. Если б не было сомнений, то не требовалось бы экспериментов, и тогда морских свинок можно было бы передать зоопарку на корм удавам.
Эгле отвечал и даже был доволен, что теперь может поведать о том, что у самого вызывало немало сомнений и раздумий.
— Препарат создан недавно, и таких случаев не может быть много. Но через год обязательно будут, — ответил Эгле.
— Но все-таки есть или нет? — не унимался Грин-блат.
— Есть. В тех случаях, когда микроб привыкал, становился резистентным к стрептомицину и фтивазиду, мы добились того, что палочки больше не выделялись, и можем сегодня этих больных выписать. Вот вам конкретный пример: прошу встать товарищей Вединга и Калея. — Эгле передал врачам две папки с рентгенограммами.
Со своих мест поднялись пожилой мужчина в халате и Вединг в клетчатом пиджаке. Вединг повернулся к залу. Гладкий зачес, лицо уже успело округлиться; лишь нос с горбинкой был по-прежнему хрящеват. Вединг иронически улыбнулся, как бы говоря этим, что о туберкулезе он знает больше, нежели все присутствующие.
Этот последовательный противник медицины развеселил Эгле, и он сказал, улыбаясь:
— Спасибо, можете идти, Вединг.
Вединг поклонился президиуму, бросил короткое «прощайте» и направился к выходу. В этом санатории ему делать больше нечего.
Дебаты продолжались своим чередом. В заключение директор института сказал:
— Есть основание надеяться, что через годик вот здесь же мы, врачи, а в еще большей мере — больные, сможем сказать спасибо за то, что в антитуберкулезном арсенале появилась еще одна винтовка. Мы располагаем данными, необходимыми для более широкого внедрения в клиническую практику Ф-37.
Тут Эгле вполголоса сказал:
— Я выйду, отдохну немного, — и незаметно покинул президиум.
— Слово предоставляется научному сотруднику Берсону.
Берсон поднялся на трибуну, достал из папки фотографию, на которой был изображен простой, кубической формы каменный обелиск. Он высоко поднял снимок и показал залу.
— На этом фотоснимке мы видим обелиск. Он находится в Гамбурге. Во дворе госпиталя святого Георгия. Этот обелиск — памятник тремстам шестидесяти врачам, которые в свое время погибли от рентгеновских лучей, спасая жизнь другим. Иногда следует вспоминать об этих людях. И о самой причине их смерти не забывать и соблюдать должные предосторожности. Я зачитаю вам сообщение о хроническом малокровии, развившемся в результате двадцатипятилетнего воздействия рентгеновских лучей. Возможно, малокровие обострилось от применения радиоактивного препарата. Автор сообщения рассказывает о себе, о начальных симптомах заболевания, на которые он сам обратил внимание, лишь когда болезнь уже развилась. Мы знаем и надеемся… Впрочем, я начинаю.
И Берсон приступил к чтению доклада, ни разу не отрывая глаз от рукописи. Он исполнял долг перед своим коллегой, но предпочел бы не делать этого.
Сидевшие впереди Гарши врачи рассуждали вполголоса: «Кто бы это мог быть?» — «Да это про Эгле. Сам-то он ушел».
У Гарши сжалось сердце. Больше она не видела ни сцены, ни людей, сидевших в зале. Она вышла в коридор.
Опираясь на палку, Эгле медленно шагал по коридору. В зал он решил не возвращаться. Труд, намеченный на сегодня, исполнен. Мускулы болят, лоб стиснут словно обручем. Домой, отдыхать — и больше никаких. На балкон, и любоваться порыжевшими лугами за Дзелве. Эгле подошел к окну и оперся на подоконник.
Перед санаторием остановился автобус, вокруг него столпились больные в халатах. На ступенях появились отъезжающие.
Отъезд из санатория. Вот так, спустя несколько месяцев, полгода, иногда и побольше, но настает день возвращения в жизнь. Словно после долгого и многотрудного путешествия.
Женщины расцеловались на прощанье — среди них принято целоваться на людях. Слышались возгласы: «Пиши!» — «В Риге будешь — заходи». И рукопожатия.
Великое содружество туберкулезников.
Нет, уже не великое. Это содружество постепенно тает. Трон палочки Коха зашатался. Теперь от туберкулеза умирают гораздо реже, но все же умирают. Еще надо потрудиться. Эгле помахал рукой, отвечая на приветствие Лазды, заметившей его у окна.
Затем девушка повернулась и на дорожке увидала долговязого парня. Увидала и, позабыв обо всем на свете, побежала к нему.
Вединг стоял возле автобуса. Он тоже увидал Эгле.
— Этот лекарь считает, что я здоров, но я и сам не знаю, верить ли ему, — покачал головой Вединг.
Стоявший рядом с ним человек достал из портфеля фотографию, на которой они были сняты вместе, в халатах, на ступенях санатория.
— Полюбуйся на свои мощи: таким ты сюда приехал!
— Возможно, все возможно. — Вединг еще раз бросил недовольный взгляд на Эгле.
Лазда с парнем, несшим ее чемодан, влезали в автобус последними. Там же, на лужайке, сидела в шезлонге больная с подушкой под спиной. Время от времени она покашливала.
— До свидания! — крикнула ей Лазда.
— Где? — чуть насмешливо спросила женщина в шезлонге.
— Там! — махнула рукой девушка куда-то вдаль, за вековые липы и сосны санаторского парка.
Там жизнь.
Эгле тоже помахал отъезжающему автобусу вслед. Эти автобусы за многие годы, уезжая, прихватывали с собой какую-то часть и его жизни. У кого-то кровь в мокроте, кому-то не хватает воздуха, кто-то мучительно борется с кашлем, раздирающим грудь, — и всегда тревога, беспокойство, волнение. Этот лающий кашель! Недаром раньше говорили: «Кладбищенский пес лает в груди».
А что оставляли эти автобусы взамен? Радость победы, когда его ум и руки бывали сильней болезни. Не всегда.
Обещание, данное Лазде, выполнено. Эгле еще раз помахал и отвернулся от окна. Он услышал позади шаги. За спиной стояла Гарша, брови ее все еще были нахмурены.
— Берсон читает?
Гарша кивнула.
Эгле избегал ее взгляда, не желая, чтобы она видела его минутную слабость, а возможно — кто знает! — и зависть, которую Эгле испытывал при виде скрывшегося в аллее зеленого автобуса.
Эгле вручил Гарше ключи.
— Отдадите Берсону. От директорского стола.
— Вы сами… — Гарша неуверенно взяла ключи.
— Берите, я не хочу, чтобы меня беспокоили, — нетерпеливо перебил Эгле. — Я устал. Позвоните, пожалуйста, Герте, пусть отвезет меня домой… Я посижу в рентгеновском, — добавил он, так как поблизости не было стула.
Гарша открыла дверь рентгеновского кабинета.
Окна тут как всегда были до половины прикрыты черными шторами, и в помещении царил полумрак. В этом полумраке поблескивали никелированные штанги экрана.
Эгле жаждал воздуха и света. Он пододвинул табурет к раскрытому окну, положил руки на подоконник и подпер ими лоб. Лоб ощутил солнечное тепло. И тогда Эгле еще раз приподнял голову и большими ясными глазами посмотрел на сосны на лужайке.
Внезапно ему померещилось, будто поднялась буря — сосны закачались и рухнули.
Из санатория Эгле домой не уехал.
Эпилог
Эгле скончался в сентябре, в рентгеновском кабинете. Из санатория к дому его несли по той же самой дорожке, по которой он ходил двадцать пять лет дважды в день, мимо длинного санаторского корпуса, подобно белому пароходу, спокойно стоявшему в обрамленной липами и соснами зеленой гавани парка.
Гроб с телом несли врачи, служащие санатория, рабочие мелиоративной станции и просто жители поселка. Оказалось, тут нет человека, с которым бы Эгле не встречался, нет ни одной семьи, в которой он кого-нибудь не лечил, в особенности в годы войны и первые послевоенные, когда он частенько бывал единственным врачом на всю округу. Процессия прошла через весь поселок, мимо каштанов у школы.
Были для него в Аргале и радостные дни. Эгле всегда говорил: жизнь — это не только слезы или только — смех. Жизнь — это и смех и слезы.
Затем процессия подошла к небольшим воротцам, за которыми сверкала красными гроздьями рябина. У застенчивой дикой розы уже созрели красные плоды, они были даже ярче ее цветов.
Место последнего прощания. Здесь гроб установили на машину. Когда грузовик тронулся по направлению к Аргальскому кладбищу, а до него было километра два, где Эгле предстояло покоиться рядом со своими родителями и навеки слиться с землей, взвыла сирена кареты Скорой помощи. Она выла протяжно и печально, тревожно повышая голос и жалобно замирая.
Она прощалась с врачом. Военачальников и государственных деятелей провожают орудийным салютом; врача оплакивала сирена Скорой помощи.
В один из дней конца октября, когда солнце часто и подолгу прячется за облаками, которые осенью ниже, чем летом, Мурашка надел простую телогрейку, просторный дождевик и резиновые сапоги. Он поехал за город. В кармане у него лежал длинный список. Это был список больших камней, адреса валунов.
В унылом мелколесье неподалеку от Салацгривы он обнаружил то, что искал.
В этот серый день никого не было около камня. Чахлые сосенки, низкие, сырые тучи, камень и он, Мурашка. Мурашка прижался лбом к стылому граниту, и в памяти сами собой возникли картины прошлого: трудные годы ученья, когда он вместе с Эгле бегал на студенческую кухню пить молоко, потому что там можно было к молоку есть сколько влезет хлеба, вспомнил он и недавние «музыкальные реминисценции» дома у Эгле, когда Эгле и сам уже знал про это. Эгле работал, пока были силы. Бессмертие человека — это его труд.
Человек, он тоже как большой валун, вот как этот, обросший мхом. Из этого камня требуется изваять произведение искусства. То же самое человек должен изваять из самого себя.
Мурашка отправился на поиски трактора, чтобы глыбу мертвого камня подтянуть к дороге.
Минул год. Была весна. Зелень деревьев еще не потеряла свежести. На поляне перед санаторием легко покачивали головками тюльпаны. Рябина перед домом Эгле цвела желтоватыми неприметными цветами. В кабинете главврача собрались свои и приезжие врачи. За год здесь ничего не изменилось. На столе по-прежнему стоял футлярчик с песочными часами. Лишь на стене прибавился еще один портрет. Не в том ряду, где были Кох, Форланини, Павлов и Рентген, — нет. Портрет был помещен в углу, где стояла девочка с ягненком.
Эгле пришел бы в негодование, если б его портрет повесили в одном ряду с теми, чьи имена известны всему миру. Про себя он говорил, что он «один из тысяч, занявших место в промежутках между этими портретами». Он бы еще добавил, что родился и вырос в деревне и некогда пас на лугу скотину, и потому ему милее общество пастушки.
Вошла Гарша, на этот раз не в халате, а в черном костюме.
— Автобус подошел, — сказала она.
Все встали. Выходя из кабинета, врачи задерживали взгляд на Эгле, улыбавшемся обыкновенной улыбкой, а не той, кривой, за которой он прятался в последние месяцы жизни. Они поглядели на черное кресло у письменного стола, на него сегодня никто не садился. Гарша вышла последней, легко проведя рукой по спинке кресла.
Автобус остановился у Аргальского кладбища. Врачи присоединились к людям, обступившим могилу Эгле. Над могилой стоял накрытый светлым покрывалом памятник высотой в два человеческих роста. Кругом, как и бывает на кладбище, ставшем последним приютом нескольких поколений жителей, росли деревья — высоченные липы, которым уже пора побаиваться сильных бурь, несущих гибель доживающим свой век деревьям, и совсем еще юные, нежно-зеленые березки, у которых впереди самое малое полета лет жизни.
Памятник открыли. Речей было немного. Они казались здесь особенно излишни — ведь говорил большой салацгривский камень, оживленный Мурашкой, он и сказал те единственные, нужные слова.
Отполированный, почти черный валун. Сильный юноша стремится ввысь, к небесам, так же как и вершины стоящих позади него деревьев. Ноги его сковала бесформенная масса, черная сила, грубый, неотесанный камень. В напряженной, но не бессильной позе юноша сжимает свои плечи перекрещенными руками.
И все же он устремлен ввысь. Он принадлежит к тем, кого можно уничтожить, но не умертвить.
Памятник говорил, а вокруг стояли те, кто знал Эгле, и слушали. Пришел сюда и большой плотогон Вагулис с товарищами. На лице его словно было удивление — как врачи позволили Эгле преждевременно умереть.
Медсестра Крузе, тоже в черном костюме, пыталась понять, о чем же каждый из присутствующих сейчас думает, и поглядывала по сторонам. Ей было непонятно, почему не плачет Гарша и только неотрывно смотрит на исполненное тревоги лицо юноши, словно сама напряженно силится что-то вспомнить или понять.
Больше всего Крузе поразило то, что пришел Вединг, — он ведь уже здоров. Его долговязую фигуру с лицом монаха можно было без труда заметить среди всех присутствующих, хотя он и стоял в задних рядах. Наверно, Вединг постарел, потому что он больше не улыбался.
Мурашка стоял рядом с памятником. На Мурашке тоже был черный костюм. Кладбище он покинул одним из последних, вместе с Гертой, Янелисом и Берсоном.
Трудно было Мурашке уходить, потому что здесь осталось и его творение, и тот, кому оно посвящено. Хоть был это и «каменный сын», как говорил Эгле, однако тоже частица его, Мурашкиной жизни.
Домой возвращались пешком.
— Почему он себя не щадил? — ни к кому не обращаясь, заговорила Герта. — Мог бы еще жить и жить, и мы с Янелисом не были бы сегодня одни.
Никто не ответил ей, почему Эгле, когда был жив, не щадил себя.
Они подошли к дому Эгле и присели на ступеньках веранды.
— Чем занимаешься? — спросил Мурашка у Янелиса.
Янелис вытянул вперед свои руки. Они были чисто вымыты, однако под ногтями виднелась въевшаяся чернота.
— У мелиораторов работаю.
— Ну, а дальше?
— Пока не знаю. Осенью ухожу в армию. Наверно, пошлют в какую-нибудь техническую часть, я ведь вожу бульдозер. В армии придумаю, что дальше делать.
Мурашка обратил внимание, что Янелис теперь носит более длинную прическу, чем год тому назад. Ежик исчез. Янелис становится похожим на Эгле в молодости, только повыше ростом.
Герта вынесла бутылку холодного вина и стаканы. Все смотрели на сад, фиолетовую полоску анютиных глазок вдоль дорожки, на воротца. Сегодня Эгле не отворял их.
Выпили вино.
— Если б умер я, Эгле сделал бы то же самое, — проговорил Мурашка. — Когда-то мы говорили об этом.
— Вы… расскажите мне про отца, — потупив голову, попросил Янелис. — Он не успел мне всего рассказать про свою жизнь. У меня… мне всегда было некогда, молодой я тогда был.
И еще один незначительный эпизод.
В саду Эгле со стороны дороги росла сирень. Она еще не цвела, хотя среди листьев виднелись гроздья мелких бутонов. Однако девушке с белокурой косой, проходившей мимо, казалось, что они уже распустились и даже благоухают. Наверно, оттого, что аромат ее она хорошо помнила еще с прошлой весны.
Девушка подошла к калитке сада. Янелиса не было. Окно мансарды открыто. Девушка приложила ладони к губам и позвала:
— Янелис!
Янелис подошел к окну и, увидав среди темно-зеленой сирени девушку, сбежал вниз по лестнице.
Жизнь не останавливается. Песочные часы перевернуты.
Чьи-то дни утекли, чьи-то покатились вновь. Песок течет непрерывно, и часы торопят!
Примечания
1
«Все скрытое станет явным и не останется неотмщенным» — строки из католического гимна «Dies irae».
(обратно)
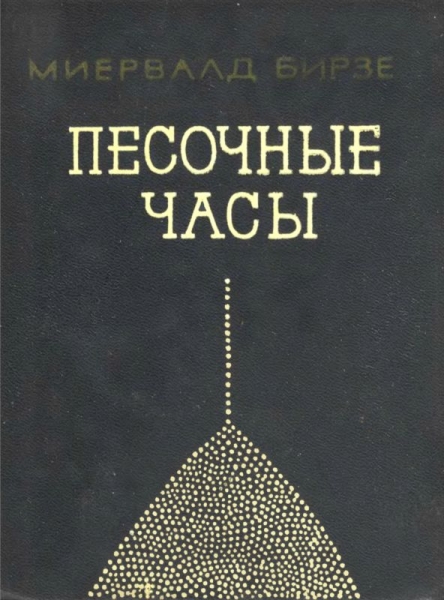

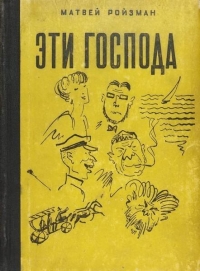

Комментарии к книге «Песочные часы», Миервалдис Бирзе
Всего 0 комментариев