© Издательство «Советский писатель»,1985
ПОВЕСТИ
Я УГНАЛ МАШИНУ ВРЕМЕНИ
Глава первая МИГ ОТЪЕЗДА, МИГ ПРИЕЗДА — ОДИН МИГ
Опять угнали Машину Времени. За последние пятьсот лет это преступление приобрело массовый характер, оставив позади угон спутников и космических кораблей; романтическое стремление познать иные миры не вызывает столь частого нарушения уголовного кодекса, как тяга в иные времена — будущие или прошедшие. Может быть, потому, что современность дана человеку от рождения, а прошлое и будущее приобретается нелегким опытом жизни. Что имеем, не храним. Что приобретаем, не храним. По-настоящему мы храним лишь то, чего не имеем.
Вот потому и не сидится людям в своем времени, им кажется, что самый золотой век где-то в прошлом или в будущем, а на их долю выпало самое неудачное время. Спору нет, бывают времена поприглядней, но если все устремятся в эти лучшие времена, то в настоящем времени жить будет некому. А если никто не будет жить в настоящем, то никто не будет жить и в будущем. Поэтому подлинная забота о будущем — это забота о настоящем.
Что касается инспектора службы розыска Шмита, то он считает так: все эти прогулки в другие времена — от избалованности техническим прогрессом. Когда у человека не было выбора, когда для него и передвижение в пространстве было затруднительно, тогда он все больше на месте сидел: и своим временем дорожил, да и у других не отнимал времени. А так — мотайся за ними по всем векам…
И вот опять угнали Машину Времени…
Это случилось в разгар встречи Нового, 4119 года. Значит, преступник, если учесть технические возможности современных машин, мог попасть в годы: 1149, 1194, 1419, 1491, 1914, 1941, 4191, 4911, 9114, 9141 и 9411. Вот тут-то и есть над чем поразмыслить службе розыска.
Если угон совершен в самом начале года, значит, преступнику нужен был именно этот год, чтобы попасть в соответствующий год прошлого или будущего. Но в будущем годы все одинаковы, поэтому, если преступник выбирает определенный пункт назначения, можно с уверенностью сказать, что искать его нужно в прошлом. Иногда преступник десятки лет ждет, когда пробьет час его преступления. Так было в 4113 году, когда француз Жан Морисьер угнал Машину в 1431 год, чтобы спасти от костра свою соотечественницу. Служба розыска настигла его в 3114 году, где он пытался выяснить у крупнейшего специалиста по истории Франции Жюля Крюшона (3037–3179), не пострадает ли история Франции, если Жанна д'Арк не будет казнена. Так было и в 3992 году, когда земляк великого Капабланки отправился в 2399 год, чтобы сыграть в шахматы с великим Алехиным — не тем великим Алехиным (1892–1946), а другим великим Алехиным (2321–2399)… Земляк Капабланки проиграл, конечно, Алехину, как когда-то сам Капабланка проиграл его однофамильцу.
А буквально в прошлом, 4118 году русский поэт Коростылев угнал Машину в 1841 год, чтобы драться на дуэли вместо своего любимого Лермонтова. Служба розыска не проявила достаточной оперативности, и Коростылев успел попасть в нужный ему год и даже подраться на дуэли, правда, не вместо Лермонтова, а вместо другого офицера, которого он второпях принял за Лермонтова. Впоследствии, вернувшись в свое время, он издал поэму «Наедине с Мартыновым», в которой довольно точно описал, — конечно, не Мартынова, а другого офицера.
Больше всего бродит по дорогам времени отпускников. Когда-то человеку давали месячный отпуск, и этот месяц был, в сущности, потерянным временем. Сейчас вместо отпуска человеку дают Машину Времени, которая отвозит его в какое-нибудь благоприятное время для отдыха и возвращает на исходную временну́ю точку. Сослуживцы и глазом не успеют моргнуть, а он уже здесь, вернулся из отпуска. Только и заметят, что он внезапно изменился: поздоровел, загорел.
Сложнее обстоит дело с командировками. Есть немало любителей за счет командировки позагорать на морском берегу, провести в командировке не день, а год — чужого времени учесть невозможно. Отдельные ловкачи проводят в другом времени чуть ли не всю жизнь. Живет человек со своей семьей, никуда вроде не отлучается. Только вдруг начинает быстро стареть. По документам ему тридцать три, а на вид — все девяносто. Он, разумеется, и прожил девяносто, только не здесь, а в другом времени. Здесь он еще молодой отец, а где-то — прадедушка. Говорят, такие вещи и раньше бывали, но тогда человек просто менял семью, а теперь он меняет время.
Инспектор Шмит всю жизнь только и делает, что мотается по командировкам, но, как человек дисциплинированный, всегда возвращается своевременно — в ту секунду, из которой отбыл. И лишь однажды, лет пятьдесят назад, он вернулся из командировки через час после отбытия. Он ездил тогда в 1379 год и на обратном пути не нашел нужную секунду. С тех пор его жена уверена, что в 1379 году у мужа ее кто-то есть. Первые десятилетия после этой злосчастной поездки инспектор пытался ее разубеждать, рисуя дикие нравы этого года и очерняя его красавиц, которые ему и вправду пришлись не по душе. Еще он объяснял жене, что в 1379 год, куда он ездил в 3971-м, в следующий раз он мог бы попасть не раньше чем через три тысячи лет, однако и это обстоятельство жену не убедило. Она по-прежнему не доверяет этому году и старательно вычитывает о нем все самое худшее, что может найти в исторической литературе.
— Через секунду я вернусь, дорогая!
Инспектор целует жену, и она успокаивается. Она всегда успокаивается, когда муж ее целует, а когда он ее не целует, она начинает беспокоиться, даже если он никуда не собирается уезжать. Таковы женщины, думает инспектор Шмит и, вздохнув, обобщает эту житейскую мысль: а может быть, таковы и мужчины…
МАШИНА ВРЕМЕНИ
(Историческая справка)
Задолго до того как Машина Времени вошла в повседневный быт, она уже устарела в научно-фантастической литературе. Поэтому когда она была в самом деле изобретена, к ней отнеслись без всякого уважения. Ее великий изобретатель Антуан Шерль (3172–3299) десять лет пытался доказать, что опубликованное им описание Машины — не художественный вымысел, а серьезный научный труд, но ему никого не удавалось убедить, так как фантасты во все времена выдавали вымысел за достоверность.
Антуан Шерль, часовщик по профессии, заинтересовался проблемой времени больше, чем того требовала его основная работа. Сходство в устройстве часов и спидометра натолкнуло его на мысль о связи между временем и пространством. А поскольку передвижение в пространстве было человеком давно освоено, оставалось найти для него соответствующий временной аналог, чем он и занялся в часы, свободные от основной работы.
Замечательный мастер своего дела, он стал мастером еще одного дела, не своего, — заняв почетное место в ряду Великих Мастеров Не Своего Дела. Юристы Франсуа Виет (1540–1603) и Пьер Ферма (1601–1665), сделавшие большие открытия в математике, музыкант Гершель (1738–1822), открывший планету Уран, коммерсант Шлиман (1822–1890), раскопавший Трою, телеграфист Эдисон (1847–1931), врач Чехов (1860–1904), кинорежиссер Конрад Штюмпф (2739–2951), увеличивший скорость света для быстрейшей связи с внеземными цивилизациями, — всё это были Мастера Не Своего Дела, но дела, особенно пригодившегося человечеству. Никто не знает, как играл актер Шекспир, но как он писал, это известно каждому.
Машина Времени Антуана Шерля на десять лет потонула в океане научной и псевдонаучной фантастики, но по прошествии этого времени ей удалось всплыть и предъявить свои права на реальность. Вначале ее использовали для получения проб различных времен, исследования временны́х пластов с неглубоким залеганием, а также на других вспомогательных работах. Тем временем изобретатель Машины продолжал ремонтировать часы, не без основания полагая, что путешествия в иные времена невозможны без точного знания своего времени. Незадолго до смерти он написал завещание, в котором просил перевезти его тело для захоронения на его временну́ю родину — в 3172 год, дабы он мог сам присматривать за своей могилой. Воля умирающего, однако, не была исполнена, — чтоб не омрачать жизнь живого Антуана и не отвлекать его от изобретения Машины Времени, необходимой не мертвым, а живым.
Глава вторая ПЕРЕЛЕТ СО СКОРОСТЬЮ 500 ЛЕТ В ЧАС
Расстояние в три тысячи лет было покрыто за шесть с половиной часов — такова скорость служебной Машины Времени. Инспектор начал с самой отдаленной точки, чтобы отрезать преступнику пути к отступлению.
1149 год… Король французский Людовик VII и император германский Конрад III привели к бесславному завершению второй крестовый поход, потеряв в нем свое миллионное войско. В Риме антипапское восстание под руководством Арнольда Брешианского реставрировало республику и готовилось к реставрации монархии и сожжению своего вождя. Население византийского острова Корфу, восставшее против императора Мануила, отдало свой остров норманнам, попав, по словам летописца, из дыма податей в пламя рабства.
Может быть, угнавший Машину Времени хотел поспеть к окончанию крестового похода? Чтобы помочь своим просвещенным советом разгромленным королю и императору? Три тысячи лет истории просветят кого угодно, и, если вернуться в древность, можно в ней выгодно отличиться. В сорок втором веке еще встречаются любители показывать свою просвещенность там, где ее легче показать. В своем-то веке они не блещут, вот и забираются куда-нибудь вглубь, удивляют непросвещенный народ своими просвещенными фокусами.
Как будто в нашем сорок втором веке нет своих нерешенных проблем. Но кому их решать, если одни живут прошлым, другие — будущим? Прежде люди так не мотались по временам, у них было только два средства передвижения: для поездок в будущее — мечта и для поездок в прошлое — память. Теперь же у них — ни памяти, ни мечты: все заменила Машина Времени.
Инспектор Шмит предпочитает старые средства передвижения, поэтому о нем говорят, что он морально устарел. Стоит человеку задержаться на какой-нибудь ступеньке морали — и уже он морально устарел. Так устаревающая мораль машин переносится на нестареющую мораль человека. Машина пересоздает человека по своему образу и подобию.
Но инспектора ей пересоздать не удастся. Как человек старой школы, он вообще не особенно доверяет технике, а больше полагается на работу мысли. Во-первых, потому, что техника часто ломается, а во-вторых, даже исправная, она не может заменить человека, если у человека голова на плечах. Инспектор и дома, в семейной жизни, пытается избегать модных технических усовершенствований и даже отказался от услуг механического воспитателя «ЭВ-Песталоцци».
Приземлившись на заднем дворе резиденции герцога Швабского, которому предстояло через три года стать императором Барбароссой, инспектор облачился в костюм астролога и направился в замок, где герцог занимался своим обычным делом — принимал гостей. На столе громоздился жареный бык, раздираемый на куски лоснящимися от жира руками, а рядом на вертеле жарился второй бык.
Герцог восседал во главе стола, и по левую его руку была красавица азиатка, привезенная им, вероятно, из злосчастного похода, а по правую — молодой человек, показавшийся инспектору подозрительным, потому что он что-то шептал герцогу, возможно, подбивая его на третий (1189–1192) крестовый поход, а возможно, наоборот, отговаривая…
Бык, громоздившийся на столе, худел буквально на глазах, как можно худеть лишь от длительной голодовки. Но, конечно, здесь не было голодовки. Гости работали челюстями вдвойне: перемалывая пищу и последние политические новости и совмещая таким образом трудносовместимые интересы.
Красавица азиатка смеялась: герцог был еще молод, и он совершил такой далекий поход, чтобы привезти ее, красавицу азиатку. Она что-то говорила на своем непонятном языке, но понимать ее было вовсе не обязательно, ничего существенного она говорить не могла. И герцог не слушал ее, а лишь рассеянно похлопывал по спине и время от времени целовал, — впрочем с меньшей страстью, чем спустя тридцать лет целовал туфлю папы Александра III, заглаживая перед ним свою многолетнюю вину.
Появление астролога никого не заинтересовало — мало ли их бродило по дорогам в тот век? Только собеседник герцога бросил на астролога быстрый взгляд, словно угадав за его безобидной внешностью весьма обидное и даже опасное для себя содержание.
— Ваша светлость, не соблаговолите ли выслушать ученого человека, который, руководствуясь указанием звезд, предскажет течение вашей жизни?
— Пошел вон! — ответил герцог в средневековой манере. — Киньте ему кусок мяса.
— Спасибо, ваша светлость, я сыт.
Этот ответ озадачил герцога: среди своих гостей ему еще не приходилось видеть сытого человека.
— В таком случае пусть проваливает, — вмешался в разговор его собеседник. — Мало нам Арнольда и всей его ученой компании? У нас палкой кинь — попадешь в ученого.
Сидящие поблизости гости захохотали, и кто-то из них крикнул:
— Жертвую на ученого пятьсот палок!
— Молчать! — водворил тишину герцог. — Я разрешаю астрологу говорить. Мне интересно знать, что обо мне думают звезды. — Он не сомневался, что звезды о нем думают.
То, что для герцога было таинственным будущим, для человека из пятого тысячелетия было хорошо известным и даже изрядно забытым прошлым, и он, напрягая память, стал его излагать:
— Звезды утверждают, что через три года вы, ваша светлость, станете вашим величеством, императором германских земель. Вы завоюете много стран, потом потеряете много стран и закончите свою жизнь на дне азиатской речушки.
— Азиатской речушки? — герцог отодвинулся от красавицы. — Ты что мелешь? Да я тебя за такие слова!..
— Ваша светлость, я говорю правду.
— Правду! — зал так и ахнул. — Вы слышали? Он говорит правду!
Здесь никто не говорил правды: этого не позволял этикет.
— Нет, ты все-таки скажи: с какой стати меня опять понесет в Азию?
— Это будет в третьем крестовом походе.
Герцог расхохотался:
— Ну, насчет третьего похода твои звезды совсем заврались, хватит с меня второго крестового похода.
— Зачем же вы тогда его предпринимали?
— Соблазнила романтика первого: Готфрид Бульонский, Раймонд Тулузский… Но теперь я знаю, что это за романтика, на собственной шкуре испытал. Больше меня не втянешь в такие дела, уж я себя знаю!
Если б он знал себя так, как его впоследствии узнала история!
— А Милан? Может, вы и Милан не разрушите, не сровняете с землей?
— Зачем? Прекрасный город, стоит полторы тысячи лет, с какой стати я стану его разрушать, за кого ты меня принимаешь? — Герцог покачал головой: — Ну и наговорили тебе про меня эти звезды. Я человек совсем не такой.
— Не такой, пока не стали императором.
— Лучше пусть я никогда не стану императором, — сказал будущий император Фридрих Барбаросса, — лучше пусть я навсегда останусь герцогом, чем ввяжусь хоть в какую-нибудь войну. Мы, люди, знающие, что такое война, предпочитаем жить в мире. И вообще я противник войны.
Да, он был противник войны, он вынашивал совсем не те планы, которые ему впоследствии пришлось осуществить. Иногда жизнь человека складывается неожиданно для него самого, но он не замечает этого, потому что всякий раз смотрит на нее другими глазами.
— А если что случится, — сказал Барбаросса, — если с Миланом что-то случится, то… там виднее… — он поднял глаза вверх, к всезнающим звездам.
— Ну, тогда пропадай, как собака! — откровенно высказался инспектор, но тотчас спохватился, что выбрал неудачное время и место для откровенности: — Извините, ваша светлость… Звезды подсказывают, что закончите вы свой жизненный путь в год Собаки…
Глава третья ЯН-1941
Я угнал Машину Времени.
Я не преступник, я историк. Моя тема — движение Сопротивления в период второй мировой войны. Роясь в архивах, я обнаружил маленький отряд, действовавший в Восточных Карпатах. Сведения об этом отряде были скудные: несколько строк в донесении гестапо высшему командованию, сбивчивые и подчас противоречивые рассказы очевидцев, пересказанные третьими лицами. Точной была дата ликвидации отряда: 9 сентября 1941 года.
По-видимому, отряд состоял из пяти человек. Есть указания и на то, что их было шестеро, но это менее вероятно: в донесении гестапо (гитлеровской полиции) сказано, что отряд состоял из четырех мужчин и одной женщины. Но в других материалах почему-то названы два женских имени: Марыся и Анна. Вероятно, здесь какая-то путаница, вызванная, может быть, тем, что отряд носил название «Анна». Слишком необычное название для отряда, поэтому его, возможно, сочли за имя участницы. Из мужчин названы Стась и Збышек, остальные ни разу не упомянуты. Особый интерес представляет фотокопия письма, вернее, трех его строчек (самого письма не удалось отыскать): «…ДО ПОСЛЕДНЕГО СВОЕГО ЧАСА ОНА НЕ МОГЛА ПОВЕРИТЬ, ЧТО ИХ ПРЕДАЛ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ОНИ СЧИТАЛИ СВОИМ, А ГЛАВНОЕ — ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ОНА…» По всей вероятности, отряд предал один из его членов. Правда, профессор Посмыш считает, что из письма не ясно, идет ли речь о членах отряда или о людях, каким-то образом с ним связанных. «ОНА», говорит профессор, может быть, просто женщина, узнавшая о предательстве близкого ей человека («ИХ ПРЕДАЛ» вовсе не означает, что и ее в том числе). И человек, говорит профессор, которого считают в отряде своим, вовсе не обязательно член этого отряда.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому я и угнал Машину Времени. Доказательство не корректное, но до корректности ли, когда на носу защита? Человек — хозяин времени и должен вести себя, как хозяин. Это в прошлом, в далеком прошлом человек был бессилен перед временем, а сейчас…
Мы праздновали Новый год. Острили по поводу уходящего года, в честь наступающего провозглашали пышные тосты. В разгар праздника ко мне подошел профессор Посмыш и, с присущим ему юмором, преподнес мне книгу «Теория множеств» с многозначительной надписью: «Янек, это как раз то, чего вам не хватало!» Потом я танцевал с Наташей, самой красивой аспиранткой нашей кафедры, потом спорил с Коткевичем о древности цивилизации в каком-то, уж не помню в каком, созвездии (глупо, конечно: Коткевич специалист по истории звездных цивилизаций), потом я опять танцевал с Наташей, а потом… Потом я угнал Машину Времени.
В архивных материалах сохранилась самодельная карта, по которой прослеживается путь отряда. В начале пути стоит дата — 21 августа. Вероятно, в этот день произошло какое-то событие, какая-то важная операция или стычка с врагом. Мне эта дата помогла прибыть в место нахождения отряда, иначе бы я его не нашел. Сколько раз я прошел этот путь, — правда, позже на два тысячелетия, но я не думал, что он может быть таким трудным.
По этому пути я иду. Высадившись на расстоянии более чем двух тысяч лет от родного дома, я иду по древним карпатским лесам… Из литературы я знаю, что были когда-то на земле скопления диких деревьев, а также дикие животные, обитавшие не в заповедниках, а в неохраняемых местах, где их жизнь подвергалась постоянной опасности. Если б за ними своевременно не установили надзор, они бы вымерли, как вымерли в свое время лисицы. О лисицах я читал прекрасную книгу Франсуа Леберье «Ископаемое пламя». Он назвал свою книгу так, потому что лисицы были цвета пламени.
Вдалеке слышатся выстрелы. Идет война. Странно сознавать, что где-то рядом идет война, хотя все войны кончились за две тысячи лет до твоего рождения. Тяжелые сапоги, брюки, почти не сгибающиеся в шагу, и тяжелая сумка через плечо — таков мой вид, понятный людям этого времени.
Вторая мировая война по своим масштабам превосходит все, что до нее знала история. Если бы в Троянской войне приняло участие все население земного шара, включая женщин, стариков и детей, и даже население не открытых еще континентов, и если бы половина всего этого населения была уничтожена, а вторая искалечена, то это равнялось бы количеству жертв второй мировой войны. Если бы вандалы, сокрушившие великую Римскую империю, обнесли ее колючей проволокой и уничтожили всех ее жителей, то это равнялось бы количеству убитых фашистами в лагерях смерти. И если бы на каждого узника фашистских концлагерей приходился всего один метр колючей проволоки, то всей этой проволокой можно было бы трижды опоясать по экватору земной шар. Ни у одного рабовладельческого государства не было столько рабов, как у цивилизованной Германии середины двадцатого века.
Я чувствую, как мной начинает овладевать какое-то незнакомое ощущение, и догадываюсь, что это, возможно, страх. У нас я его не знал, значит, чувство это рождается обстановкой. Но ведь люди, которые жили в этой обстановке и воевали в этих лесах, тоже не знали страха. И ведь они не могли из своего страшного века сбежать, они, как к галере, были прикованы к своему времени. Значит, обстановка может и не рождать страх… Тогда что же все-таки его порождает?
— Стой!
Я останавливаюсь. Он подходит ко мне, волоча за собой винтовку.
— Кто такой?
Лет ему, наверно, не больше семнадцати. Видимо, зная за собой этот грех, он старается говорить по-взрослому строго.
Я отвечаю, что я учитель из Люблина. На всякий случай выбираю город подальше, во избежание неожиданных земляков. Но тогда что я делаю здесь, в карпатском лесу? На этот вопрос я отвечаю со всей прямотой:
— Ищу Стася. Или Збышека.
Иногда приходится говорить правду. Чтобы ложь выглядела убедительней.
— Збышека? — он по-настоящему поражен, но тут же говорит с безразличием, в котором сквозит плохо скрытая гордость: — Збышек — это я. Что дальше?
— Я пришел к вам в отряд.
— Откуда ты знаешь об отряде?
И тут мне пригодилось более широкое знание материала, чего от меня всегда добивался профессор Посмыш:
— Мне сказал один человек из отряда Мариана. Он шел к вам, но не дошел, его ранило при бомбежке, и он умер у меня на руках.
Збышек задумчиво смотрит на меня, решая трудную задачу: верить или не верить? С одной стороны, чужой человек из Люблина, оказавшийся вдруг в карпатском лесу, но, с другой стороны, раз я знаю его, Збышека, значит, я не такой уж чужой человек.
Но не так-то просто поверить человеку. Особенно в те времена.
— Знаю я вашего брата учителя. — Видно, еще свежи у него школьные обиды.
Впрочем, смотрит он на меня без вражды и даже, можно сказать, с симпатией. Наверно, ему приятно, что я уже знал о нем, когда он обо мне и не слышал. Он говорит, что я могу дождаться Стася, это даже необходимо, чтоб мы с ним встретились. Но тут же предупреждает, чтоб я не воображал, будто он мне поверил.
Из-за деревьев вышла девушка. Таких девушек я еще не видел. Могу ручаться, что у нас таких нет.
— Принимай гостя, — сказал ей Збышек, не без удовольствия пользуясь правом отдавать приказания. — Покорми. Чаем напои. Там разберемся.
В нашем времени еще утро, а здесь уже день. Разница часов пять, как между Люблином и Тобольском. Мы углубляемся в чащу и останавливаемся перед входом в землянку. В словаре устаревших слов Окаяцу сказано, что землянка — это вырытое в земле помещение, служившее одновременно и укрытием, и жилищем. В спокойное время люди возводили дворцы, а в тревожное зарывались в землю. Землянка — это дворец тревожного военного времени.
Стол, две-три колоды, заменяющие стулья, несколько лежанок у стен — вот и вся обстановка землянки. Все очень старое, сохранившееся, быть может, с прошлой войны.
Я сажусь на колоду, девушка наливает мне в кружку кипяток.
— Меня зовут Ян.
— А меня Анна.
— Не Марыся?
— Почему Марыся?
Не так-то просто ей объяснить, почему.
— Мне казалось, что в таком отряде, как ваш, девушку должны звать Марысей.
Анна кладет передо мной три картофелины — популярную еду тех времен.
— Так вы учитель? Я тоже хотела стать учительницей, только война помешала. Кончится война — обязательно стану учительницей.
Кипяток из моей кружки выплескивается на стол. Для нее война никогда не кончится, а еще верней — кончится очень скоро. Ей жить еще восемнадцать дней, до 9 сентября. Сегодня 21 августа.
— Что с вами?
— Нет, ничего. — Я не осмеливаюсь на нее взглянуть, как будто это я приговорил ее к смерти. Если б я мог их спасти! И ее, и Стася, и Збышека… Но они уже история, а историю не изменишь…
— Я поступлю в Краковский университет. Вы какой кончали?
Университет, который я кончал, будет построен через полторы тысячи лет, поэтому я сказал, что кончил университет в Люблине.
— В Краковском учился Коперник. А в Люблине… Может, и Люблин прославится своим университетом, но сейчас он знаменит другим…
Это мне понятно. В одном из докладов Гиммлеру о созданных концлагерях под номером шестым значится: «Люблин».
— Со временем это забудется.
— В другом времени. Но в нашем времени — нет.
Она сказала «в другом времени», как бы отгораживая себя от меня, будто она знала, что мое время — это не ее время.
— Как вы думаете, меня примут в отряд?
— Конечно, примут. Людей у нас не хватает. Вот и Вацек…
Вацек! Новое имя. В материалах архива ни разу не упомянуто.
— Что Вацек?
— Он ушел неделю назад. — Голос ее дрогнул. — И с тех пор его нет. Может быть, он убит…
«…ОНА НЕ МОГЛА ПОВЕРИТЬ, ЧТО ИХ ПРЕДАЛ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ОНА…»
Может быть, это Вацек?
Когда возвращаешься в прошлое, чувствуешь себя, как Гулливер среди лилипутов. Я возвышаюсь над этим двадцатым веком, упираясь головой в пятое тысячелетие, и все мне наперед известно, а для них загадка даже завтрашний день. Они берут эту жизнь шаг за шагом и, лишь оглядываясь назад, определяют, в каком они шли направлении. Для меня же весь их путь как на ладони, я знаю начало его и конец. Но того, что мне нужно узнать, я не знаю.
— Как вы думаете, это скоро кончится?
— Что кончится?
— Война.
Я точно знаю, когда кончится война. Она кончится 9 мая 1945 года. Но для Анны она кончится раньше. Намного раньше. И я отвечаю:
— Война кончится через восемнадцать дней.
Глава четвертая НАЗАД, В БУДУЩЕЕ
1149 год остался позади, и теперь инспектор следовал назад, в будущее… Хорошо возвращаться в будущее. Такое впечатление, что возвращаешься домой. Для некоторых прошлое — родной дом, и они всю жизнь вспоминают о нем: «Вот было когда-то…» Но для тех, кто, подобно инспектору, живет в далеких будущих временах, родной дом, естественно, в будущем, и они к нему тянутся: «Вот когда-нибудь будет».
Фридрих Барбаросса расстался с инспектором холодно, он сказал, что слышать не хочет ни о каких походах, что всю свою дальнейшую жизнь посвятит исключительно мирной деятельности. План Барбароссы был грандиозен, но истории известно, как он был осуществлен.
Полистав исторический справочник, инспектор пришел к грустному выводу, что в 1194 году не было никаких событий. Ничто в этот год не началось и не пришло к своему завершению, а продолжалось то, что было начато раньше. На папском престоле уже три года сидел дряхлый Целестин III, и оставалось ему сидеть еще четыре года. Прошло два года, как союзники Барбароссы Ричард I и Филипп II вернулись из третьего крестового похода и теперь потихоньку воевали между собой. В Азербайджане продолжал творить поэт Низами, в Китае философ Чжу Си продолжал предаваться своим размышлениям. А в Грузии продолжала царить прекрасная Тамар и великий Руставели продолжал ее воспевать.
Все продолжалось в этом незнаменитом году, ничто не началось и не завершилось. Тибетское государство Си-Ся достигло своего расцвета и продолжало расцветать. Но уже вступил в пору своей злодейской зрелости Темучин, который под именем печально знаменитого Чингисхана разгромит государство Си-Ся, и страну Низами, и страну прекрасной Тамар, а напоследок вторично разгромит государство Си-Ся, но не переживет этой победы, потому что нельзя дважды уничтожить одно государство, даже такое процветающее, как государство Си-Ся.
Машина идет сравнительно плавно, лишь иногда ее трясет в особенно трудных временах — в эпохи кровопролитных войн и восстаний — или слегка подбрасывает в годы переворотов и заговоров. И вдруг инспектор замечает: стрелка темпоморта отклонилась от нуля…
Термин «темпоморт» происходит от латинского слова «темпо» — время и «морт» — смерть. Но он совсем не означает, как это легко догадаться, временную смерть, он, напротив, означает мертвое время. Поскольку Машина рассчитана лишь на остановки в определенных годах, все остальные годы являются для нее мертвыми, то есть такими, остановка в которых невозможна. В безаварийном полете стрелка темпоморта находится на нуле, и колебание ее означает, что в Машине что-то неладно. Но что именно?
Инспектор взглянул на унбеграб (указатель неисправностей, от немецкого «дас ист дер хунд беграбен» — «вот где собака зарыта»). Но указатель неисправностей показывал только собственную неисправность.
А может быть, сел транзистор? (От латинского слова «транз» — проходить и греческого «истор» — история.) Но если бы сел транзистор, накапливающий энергию, необходимую для движения во времени, то авария была бы мгновенной.
Скорей всего кончилось горючее. Верней, не кончилось, кончиться оно не могло, потому что двигатель питается воздухом, а засорился воздухопровод. Надо будет его прочистить на первой же остановке. Кстати, вот и она, остановка: 1194 год.
Год без событий… Чем же он мог привлечь преступника? Может, его соблазнили прелести царицы цариц? Но тогда он должен был отправиться к ней в прошлом, 4118 году, чтобы попасть в год 1184, когда Тамар взошла на престол и еще не успела выйти замуж за своего первого мужа Юрия Боголюбского.
И тут инспектора осенило. Преступник угнал Машину в самом начале 4119 года не потому, что спешил ее угнать в этом году, а потому, что не успел угнать ее в прошлом. Что-то ему помешало, и он, вместо того чтобы прибыть к воцарению, прибыл на десять лет позже, когда Тамар, уже не такая, как в былые годы, красавица, жила со своим вторым мужем и воспитывала двоих детей.
Инспектор прочистил воздухопровод, проверил унбеграб, темпоморт и — особенно тщательно — транзистор. Надежно замаскировав Машину в ущелье, он облачился в костюм грузинского поселянина второй половины XII века и направился во дворец.
На дворцовой площади толпился народ. Настроив свои речевые центры на древнегрузинский язык — замечательное изобретение основоположника физиологической филологии Урхо Кааяяйнена (3711–3845), избавившее человечество от изнуряющего изучения иностранных языков, — инспектор спросил у сидящего на завалинке старика:
— Ожидаем царицу, папаша?
— Ожидаем, милок, — ответил старик, тоже по-древнегрузински.
— Поздновато она встает.
— Так ведь царица. Тебя бы царем поставить, ты б до вечера спал.
— Кто рано встает, папаша, тому бог дает.
— Это какой бог? — старик насторожился. — Ты случайно не из мусульман?
— Да нет, я из наших. Из православных.
— Тогда другой разговор. Это ты верно сказал насчет бога. Только бог ведь тоже дает по-разному: одним дает все, другим дает ничего.
— Как это — дает ничего?
— А так. Вроде бы и дает, глядишь, а в руках-то пусто.
— Значит, ничего не дает?
— Этого сказать нельзя. Бог — он всем дает, только по-разному: одним все, другим ничего. Ты берешь, а в руках — пусто.
Старик попался разговорчивый. Он говорил о боге много и с уважением, но говорил так, словно проводил антирелигиозную пропаганду. И все, что он воздавал богу, превращалось в это самое «ничего».
Потом он высказал сожаление по поводу нелегкой царской судьбы: царица вроде и замужем, а без мужа. Муж Давид все воюет, покоряет разные страны и племена, для державы-то хорошо, а как для семьи?
— Мы-то люди маленькие, мы все больше думаем о семье. А державные люди должны думать о державе.
Инспектору показалось, что он и своим царям воздает так же, как богу: вроде бы все, а в сущности — ничего.
Рядом появился высокий юноша, с негрузинскими глазами и белокурой копной на голове. Увидев старика, он поспешил от него отвернуться. Странная для грузина внешность этого паренька, а также поспешность, с которой он отвернулся от, видимо, что-то знавшего о нем тифлисца, показались инспектору подозрительными.
— Что, парень, тоже царицу ждешь?
— Не тебя же мне ждать, дурака, — ответил тот на чистейшем древнегрузинском наречии. Возможно, это был его язык, но не исключено, что он просто настроил свои речевые центры по методу Урхо Кааяяйнена.
— Не ругайся, малыш, не в средневековье живешь.
— Почему же? Именно в средневековье.
Он попался! Не станет средневековый человек называть свое время средневековьем, для него оно — самое новейшее время.
— Вы арестованы, — сказал инспектор на международном языке пятого тысячелетия, чтобы навостривший уши старик ничего не понял.
— Как вы сказали? — этот вопрос был задан с невинным видом, но на том же языке будущих времен. Сомнений больше не оставалось.
Толпа вокруг быстро начала редеть, и это можно было объяснить воздействием на средневековых грузин незнакомого им наречия. Может быть, они подумали, что среди них появились сельджукские огузы, их могущественные и давние враги. Это они, огузы, в прошлом столетии сожгли город Кутаиси, захватили город Тбилиси, впрочем, пока еще не Тбилиси, а Тифлис. Или потом Тифлис, а тогда Тбилиси?
Толпа рассеялась. Старик тоже исчез, видимо, опасаясь, что его станут обращать в мусульманство.
Инспектор отвел задержанного подальше от дворца, где им не могла помешать царская стража. Когда они остались одни среди пустынных скал и ущелий, молодой человек сказал:
— Я так рад встретить современника. Десять лет на чужбине — это тяжело. Как там у нас сейчас? Солнечный мост на Нептуне уже построили? А что Кубичек? Открыл четыреста пятьдесят второй элемент? А как отозвалась критика о последнем романе Ван Чанга?
Инспектор службы розыска Шмит чувствовал себя последним невеждой. Он ничего не слышал о Кубичеке, не читал не только последнего, но и первого романа Ван Чанга, не знал, что на Нептуне строится какой-то мост, и даже стыдно сказать — был уверен, что в таблице Менделеева всего триста восемьдесят элементов. Поэтому вместо ответа он спросил:
— Вы прибыли в 1184 год. Значит, вы отправились из 4118-го?
— Из 4811-го.
Теперь все стало ясно: и мост на Нептуне, и четыреста пятьдесят второй элемент таблицы Менделеева, и даже то, что молодой человек не понял простой фразы «Вы арестованы», которая, впрочем, уже в век инспектора стала до известной степени архаизмом.
— И служба розыска не обеспокоена вашим исчезновением?
— А что она может сделать? 4811 год кончился, а из 4812-го можно попасть только в 1248 год. Через пятьдесят лет по местному времени.
— Я бы вас забрал, хотя и у нас вам бы пришлось подождать десяток лет, но это уже не пятьдесят… Только вот Машина у меня двухместная, а мне нужно прихватить еще одного человека.
— Здесь никого из вашего времени нет.
— Откуда вы знаете?
— Мы здесь всех знаем, у нас тут столько народа из разных времен! Видели, как они разбежались, когда мы с вами заговорили? Только все они из других времен. Из самых разных. Этот старик, с которым вы разговаривали, прикидывается местным жителем, но и он такой же, как мы. Где он только не побывал, наскитался по разным временам, пока сюда добрался: из его года прямого сообщения нет. Состарился, бедняга, в дороге, так и жизнь прошла.
— А зачем он ехал?
— Как и все: посмотреть на царицу Тамар. Ну, когда он был молодой, ему, понятно, хотелось на нее посмотреть, а теперь это ему ни к чему. Но он ходит, смотрит. Чтоб не получилось, что жизнь прожил зря.
— Почему же вы сразу не уехали? Посмотрели бы на царицу и уехали.
— Мы так и думали. Но когда посмотришь на царицу Тамар, хочется посмотреть еще раз… Так мы и остались. Ходим, смотрим на царицу Тамар. А на сердце такая тоска — каждого тянет на родину. Мы тут собираемся в сакле у одного шведа из шестого тысячелетия. Вспоминаем. Каждый свое время вспоминает, свою родину. Вот погодите, и вы будете вспоминать, когда немного здесь поживете.
Удивительно, думал инспектор. Тысячелетиями человек мечтал одержать победу над временем, и вот теперь, когда победа одержана, когда свобода от времени — достояние каждого человека, он снова стремится себя закабалить… Видно, такая это свобода… Не может человек быть свободен от времени, даже если он исколесит все времена, потому что, в сущности, не он по временам колесит, а по нему колесит время. Беспощадное время, которое настигает нас в любом веке, в любом тысячелетии, чтобы отобрать у нас минуту, час или год нашей жизни… И никакая Машина Времени не возместит нам отобранный час или год.
Инспектор заверил этого несчастного робинзона, что, как только вернется домой, непременно пришлет за ним кого-нибудь из спасательной службы. Молодой человек заволновался:
— Вы постарайтесь не смотреть на царицу Тамар, иначе нам никогда не выбраться из этого времени.
— Если я и посмотрю, то только глазами инспектора.
— Глаза есть глаза. А Тамар есть Тамар. Лучше не рисковать.
Инспектор вдруг почувствовал, что теряет в себе уверенность. Если рисковать, то в интересах дела, а так — зачем рисковать?
— Вообще-то я ищу совсем другого человека…
— Вашего человека здесь нет.
— Но он мог прибыть сегодня ночью. Или к утру.
— Когда бы он ни прибыл, это сразу становится известно. У нас есть человек из восемьдесят пятого века, там очень развита телепатия. Этот человек на расстоянии чувствует иновременную мысль. Кстати, он грузин, знает здесь каждый уголок, от него нигде не скроешься. Вы думаете, он вас не почувствовал? Почувствовал, и если сюда не пришел, то лишь потому, что на расстоянии участвует в нашем разговоре: принимает наши мысли и передает нам свои.
— Выходит, что мы высказываем не свои мысли?
— И свои, и не свои…
— Может, и то, что вы мне сейчас говорили, вам внушил телепат?
Молодой человек смутился:
— Да нет, он не все внушил… Так, некоторые мысли…
— Какие именно?
— Я точно не знаю… Может, эту… чтоб вернуться домой… Мне и самому хочется домой, но он ревнует меня к царице Тамар и рад от меня избавиться… Вы думаете, он вам не внушает?
— Что же он мне внушает?
— Да хотя бы ваше решение приехать за мной. Это он вам внушает, чтоб поскорей от меня избавиться. Так что не сомневайтесь: если б здесь был тот, кого вы ищете, телепат бы вам внушил, где его найти, чтоб избавиться от конкурента. Верно я говорю, телепат?
И вдруг словно кто-то сказал инспектору: «Верно». Это телепат передал свою ответную мысль. Видно, честный был человек, не умел врать, даже на расстоянии.
ПЕРЕДАЧА МЫСЛЕЙ НА РАССТОЯНИЕ
(Историческая справка)
Передача мыслей на расстояние связана с увеличением мыслей и сокращением расстояний. Когда мысли были маленькие, а расстояния большие (из-за примитивных транспортных средств), передавать мысли на расстояние было практически невозможно: они, как метеориты, сгорали в плотных слоях атмосферы. Правда, и прежде были мысли, одолевавшие расстояния, несмотря на всяческие препятствия и даже государственные границы. Так, мысль о сохранении и превращении энергии в 1841 году пересекла англо-германскую границу (неизвестно, правда, в какую сторону) и была передана англичанином Джоулем немцам Майеру и Гельмгольцу (или наоборот). Были и другие мысли: Ломоносова — Лавуазье, Бойля — Мариотта, уже упомянутого Джоуля и еще не названного Ленца. Все эти и подобные им мысли были настолько велики, что буквально носились в воздухе. Кстати, мысль о главной составной части воздуха, кислороде, также была передана на расстояние шведом Шеелем англичанину Пристли (или обратно).
Укрупнение мыслей и сокращение расстояний привело к тому, что подобная передача мыслей стала обычным явлением. Едва открывалось какое-нибудь открытие, как о нем узнавал не только ученый мир, но буквально каждый школьник, если он, конечно, был не лентяй и добросовестно усваивал то, что носилось в воздухе.
Этот способ передачи мыслей имел, однако, и свою оборотную сторону. Мысль могла быть крупной, но абсолютно ложной, и опровергнуть ее было трудно, так как она моментально становилась всеобщим достоянием. Чтобы избежать преждевременной информации населения, Артур Фрессли (69381-69698) изобрел очень простой, но вместе с тем гениальный способ. Одновременно с посылаемой в пространство мыслью посылалась мысль прямо ей противоположная. Таким образом, одна из мыслей была непременно истинной, а вторая, естественно, ложной. Принявший обе мысли не знал, какой из них верить, и воздерживался от немедленных действий в ожидании уточнения. Этот способ, получивший название Дезинформации Фрессли, избавил науку от огромного количества квази-, псевдо- и эрзац-теорий и вернул ее на твердые рельсы, по которым она двигалась до передачи мыслей на расстояние.
Глава пятая ЯН-1941
Моя первая ночь в лесу, о котором прежде я знал только по книжкам. Луна, еще пустынная, еще не заселенная людьми, роняет свой доверчивый свет на листву, и он тает на ней, как снег на теплых ладонях. Незнакомые крики, свисты, шорохи… Растительный и животный мир ведут свою общую жизнь среди всемирной смерти, которая называется второй мировой войной. Для них война — стихийное бедствие, а не разумная деятельность разумных людей. Стихийное и вместе с тем разумное бедствие…
Я видел, как заяц метался среди кустов, хотя ему ничего не угрожало. «Совсем оробели зайцы на этой войне, уже не знают, куда и податься», — говорит Стась. А как не оробеешь? Они на войне — мирное население, для них главное — унести ноги от этой войны. А когда война кругом и не знаешь, как уносить ноги, что тогда делать зайцу, чтобы победить на войне?
Стась, наш командир, и сам мирный человек, он поэт, автор книжки стихов, в которой нет ни одного выстрела. Но теперь в это трудно поверить. Кажется, что Стась всю жизнь был командиром и его единственной профессией была война.
Мы идем по древним лесам, которые всегда служили убежищем для тех, кого подстерегала опасность. По закону сжатия пространства при достаточно высокой скорости передвижения во времени (соответственно сжатию времени при высокой скорости передвижения в пространстве) я могу встретить где-нибудь здесь моих родителей, которые в нашем пятом тысячелетии находятся на пути к созвездию Волопаса. Поскольку вселенная разбегается по принципу перехода времени в пространство, пути в пространстве могут пересекаться с путями во времени. Я с детства интересовался этой теорией, потому что родители мои отправились в созвездие Волопаса, когда мне не было и трех лет. Среди моих товарищей несколько не имели отцов, и я не сомневался, что все эти отцы отправились в созвездие Волопаса. Тогда же я подсчитал, что, когда наши отцы вернутся домой, все мы будем стопятидесятилетними стариками, а они останутся молодыми (закон сжатия времени при перемещении в пространстве). Как мы встретимся, как узнаем друг друга?
Небо светит звездами, давным-давно прошедшими на Земле веками, и века эти все дальше и дальше от нас, потому что вселенная разбегается по закону перехода времени в пространство.
Деревья нацелены в небо, как ракеты, берущие старт. Кажется, прозвучи сигнал, и они устремятся ввысь, вырывая из земли свои корни, оставляя позади сноп пыли, как ракеты оставляют сноп пламени… Но сигнал не звучит, и деревья остаются на месте.
Эти огромные деревья тоже подтверждают закон перехода времени в пространство. Крохотное семя, наполняясь временем, превращается в гигантское дерево. В каждом таком дереве заключены десятилетия и века. Вот так же из древнего семени выбилось и расцвело необъятное дерево нашей вселенной, вобрав в себя миллиарды веков… Мы идем, продираясь сквозь цепкие лапы вселенных…
Человек изобрел колесо, звездолет, вечный двигатель… Он изобрел то, до чего природа додуматься не могла. Но зачем ему было изобретать смерть? Смерть — это дело природы… Конечно, человек ее усовершенствовал, придал ей размах, но вместе с тем лишил ее той целесообразности, которую в нее вложила природа. Христо Друмев, изобретатель вечного двигателя, сказал: «Суть не в том, чтобы двигаться вечно, а в том, чтобы двигаться в правильном направлении».
Анна рассказывает мне о Вацеке, дорогом для нее человеке. Он ученый, и самое дорогое для него — математика. Но он ее оставил. Говорит, что это слишком отвлеченная наука, для которой не существует понятия о добре и зле. И в обществе, в котором господствует зло, математика служит злу, даже если ею занимаются добрые люди.
— И здесь, на войне, он нашел настоящее дело?
— Теперь только это настоящее дело. То, которое мы делаем.
— И вы любите это дело?
Нет, говорит Анна, кто же любит войну? Ей себя отдают, но это не любовь, а скорее ненависть. Как раз тот случай, когда ненависть заменяет любовь.
Каждый раз, придя на новое место, мы ожидаем встретить там Вацека. Последнее место встречи — в селе, у Хромого Тадеуша. Если Вацек не придет к Хромому Тадеушу, значит, его нет в живых. Так думает Стась, так думают все остальные, и лишь один я знаю, что это не так. Вацек жив, потому что главное его дело еще не сделано, потому что он и есть тот пятый, который предаст отряд.
Остальных я знаю, успел узнать. Збышек — замечательный парень, ему нет и восемнадцати, но он делает все, чтобы выглядеть взрослым. И чтобы быть твердым, потому что на войне нужно быть твердым, а это нелегко с его мягким характером. Главная его беда: Збышек всех жалеет. Юрек говорит, что и в мирное время не надо никого жалеть, потому что жалостью только обидишь человека. Збышек это понимает, он не хочет никого обижать — и все-таки жалеет, стараясь, чтоб другие этого не заметили. До войны Збышек был подручным каменщика, строил здания, которые потом разрушила война. Збышек ненавидит войну, потому что она враждебна его профессии. А чему она не враждебна? Она всему враждебна, война.
А профессия Юрека — разве ей не враждебна война? До войны Юрек был шофером автобуса. Он столько перевез пассажиров, что они могли бы составить население нескольких больших городов. А то и целой страны не слишком больших размеров. И ни один из пассажиров не мог пожаловаться на Юрека, что он доставил его не вовремя или куда-нибудь не туда. Автобус следовал строго по расписанию и останавливался во всех положенных пунктах.
А теперь пассажиров Юрека гонят пешком или возят в таких автобусах, в которых никуда живым не доедешь. А сам Юрек ходит пешком по горным лесам, избегая шоссейных дорог и предпочитая им бездорожье. И он, влюбленный в машины, уничтожает их, превращает в ненужный лом, потому что этого хочет война, враждебная его мирной профессии.
— Анна, — говорю я, — я вижу, как вы тоскуете по мирному времени. Хотите, я отвезу вас в мирное время?
— Отвезти можно в какое-то место.
— А я отвезу вас во время. В такое время, где вы не услышите ни одного выстрела. В будущее, за две тысячи лет. Там все иначе. Там люди долго живут и умирают только от старости. Там никто не пытается отобрать у человека жизнь…
— Рассказывайте, Янек. Мне так хорошо вас слушать.
— Там, куда я вас отвезу, никто не слышал разрыва бомб и не видел, как столб земли заслоняет от человека небо. В этом мире, Анна, человек может быть человеком, не рискуя заплатить за это дорогой ценой. На Нюрнбергском процессе…
— На каком процессе?
— Это из истории. Был когда-то такой процесс, — заметаю я следы будущего. Ее будущего, а моего прошлого… — Конечно, когда вокруг такое творится, трудно поверить в другую жизнь. Но если вы мне поверите, Анна, если вы мне поверите… Мы сядем в Машину Времени и помчимся сквозь времена, и нас не догонит самая быстрая пуля…
— А Вацека, наверно, уже догнала…
Она опять вспоминает о Вацеке, об этом несостоявшемся ученом, сначала предавшем свою математику, а потом предавшем отряд. За математику я его не виню, к математике я никогда не питал симпатий. Недаром профессор Посмыш сделал мне этот новогодний подарок — «Теорию множеств» с иронической надписью: «Янек, это как раз то, чего вам не хватало». Профессор Посмыш любит пошутить.
— Разве это справедливо, что одному достаются легкие времена, а другому такие, что и жить не захочется? Нет, Анна, человек не может быть свободным до тех пор, пока он обречен жить во времени, в котором родился.
— Времена не выбирают.
— Это правило тех времен, которые были тюрьмой для человека. Ну почему, почему вы должны гибнуть на войне, а другие потом наслаждаться мирным временем? Чтобы они вам сказали спасибо, которого вы все равно не услышите? Нет, Анна, человек должен сам выбирать себе время. Он должен иметь свободу жить во всех временах.
— Янек, вам бы надо было стать писателем. Вы умеете строить воздушные замки, в ваших воздушных замках хочется жить.
— Вы в них будете жить, если захотите.
— Я уже в них живу.
Как ее убедить? Что ей сказать, чтоб она поверила?
— Подождите, Янек. Вот кончится война — и тогда я поверю, всему поверю.
Сегодня уже четвертое. Отряду жить всего лишь пять дней.
Глава шестая ЧЕЛОВЕК, НЕ ЗНАВШИЙ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
1419 год, Франция, замок Монтро, резиденция короля Карла VI Безумного, который сбежал сюда из Парижа, взятого, к сожалению, не восставшими крестьянами, а своими же феодалами, бургундцами, выступившими против Франции на стороне англичан… А крестьянской девушке Жанне д'Арк только еще семь лет, и ей рано спасать Францию…
В приемном зале замка какой-то высокий чин ожидал аудиенции. Он любезно, но с достоинством кивнул новому гостю и представился:
— Иоанн Бесстрашный. С кем имею честь?
— Посол из Испании, — назвался инспектор Шмит соответственно своему облачению. Он хотя и прибыл во Францию, но на всякий случай надел костюм невоюющей стороны. — Рад познакомиться с бесстрашным человеком. Вы что же, совсем не знаете страха?
Бургундец ответил не сразу. Он огляделся по сторонам, потрогал под плащом кольчугу…
— В настоящее время не могу утверждать безоговорочно, опасности подстерегают на каждом шагу. С одной стороны — англичане: я ведь против них воевал на стороне французов. С другой стороны — французы: я против них воевал на стороне англичан. Ну, и еще феодалы, против которых я воюю вместе с восставшими крестьянами, и восставшие крестьяне, против которых я тоже веду войну. — Вид у него был жалкий. — Вы знаете, я недавно взял Париж. Да, представьте себе, взял столицу, но это меня не обрадовало. И вот я приехал мириться, просить прощения. А меня не принимают, держат в приемной…
Ручной времяискатель показал присутствие инородного времени в коротком диапазоне. Инспектор внимательно посмотрел на герцога, но не обнаружил на его лице ничего, кроме смятения, понятного в сложившейся вокруг него обстановке.
— Почему-то мне сегодня целый день вспоминается Людовик Орлеанский. Все считают, что я его убил, хотя я не принимал в этом непосредственного участия. И вообще дело давнее, прошло двенадцать лет… Да… — вздохнул Иоанн. — Мне почти пятьдесят, пора на покой. Наработался я, навоевался. Он встал, словно собираясь немедленно идти на покой: — Я, пожалуй, не дождусь самого, пойду к дофину. Не хочется идти к дофину, но… — он грустно покачал головой. Очень уж ему не хотелось идти к дофину.
Лишь только он скрылся за дверью, инспектор вытащил справочник. Иоанн Бургундский… прозванный Бесстрашным… родился в 1371 году, умер… Инспектор не поверил своим глазам: герцог умер в 1419-м. И даже не умер, а убит во время визита в Монтро, в тот самый замок, в котором он в данный момент находился… Видно, не зря он вспоминал убитого Людовика Орлеанского, не зря у него у самого совершенно убитый вид…
От короля вышла его супруга, королева Изабо, в сопровождении королевского лекаря.
— Скажите, доктор, это не опасно? — спрашивала она, слишком явно желая, чтоб это было опасно, потому что ей не терпелось избавиться от безумного мужа.
— Для его величества не опасно, а вот для королевства…
— Королевство в полном отчаянии, — без всякого отчаяния сказала королева. И тут она заметила постороннего: — Вы к его величеству? Откуда?
— Из Испании.
— О Испания, в моих жилах течет испанская кровь! — и королева наградила инспектора таким взглядом, от какого с королем, видимо, и приключилось его несчастье.
— Типичная шизофрения, — сказал медик, имея в виду короля, а инспектор лихорадочно принялся вспоминать, существовало ли в пятнадцатом веке понятие шизофрении. — В старину подобные болезни лечили голодом.
В старину… О какой старине он говорил, инспектору было непонятно. Где-то он читал, что шизофрению лечили голодом в двадцатом веке, но, может быть, ее так лечили и во втором? Ведь события повторяются, и на смену старой приходит новая старина.
— Может быть, его полечить голодом? — прикидывала королева. — Я могу распорядиться, чтоб ему не давали есть.
— С голодом покамест повременим. У вас и так полкоролевства голодает, а если будет голодать еще и король… — в качестве приезжего медика он мог позволить себе подобные вольности.
Если он действительно медик, раздумывал инспектор Шмит, то для него интересно познакомиться с шизофренией, которой давно уже нет в его времени. Ради этого можно и угнать Машину.
— Так вы считаете, что его величество поправится? — спросила королева с тревогой то ли за здоровье, то ли за болезнь короля.
— Вам нет основания беспокоиться, ваше величество, — сказал медик, почему-то подмигнув при этом инспектору, с которым они даже не сказали двух слов. — Однако я должен откланяться, меня ждет мой пациент.
И тут раздался истошный крик его пациента.
— Вы себе представить не можете, как мне надоела эта вечная резня, сказала французская королева, оставшись наедине с испанским послом. — Каждый день одно и то же, одно и то же…
Глядя на эту хрупкую женщину, трудно было поверить, что она предалась англичанам, поддерживая их против мужа и своей страны. В угоду англичанам она сделала официальное заявление, что сын ее, дофин Карл, не является сыном ее царствующего мужа, не только поставив под сомнение свою репутацию, но и развеяв все сомнения на этот счет. Тем самым она лишила сына права наследия, отдав это право английскому Генриху, который, однако, вскоре умер, потеряв не только чужой престол, но и свой собственный.
Однако преданный матерью дофин тоже не был кристальным человеком. Он был замешан в убийстве герцога Иоанна Бургундского (то-то герцогу так не хотелось идти к дофину), а когда умер его отец Карл Безумный, наследного дофина никто не хотел короновать, пока это не сделала Жанна д'Арк, преданная ему и преданная им англичанам.
В приемный зал вышел Карл VI, худой, болезненный человек, с застенчивой, почти робкой улыбкой.
— Вы ко мне? — осведомился он у инспектора, послав королеве воздушный поцелуй. — Ради бога, извините! Мне не сказали, а я не догадался выглянуть, виноват! Нет-нет, без церемоний, заходите, пожалуйста!
Стены королевского кабинета были сплошь увешаны щитами, надписи на которых свидетельствовали о миролюбивом характере их обладателя. «Блаженны миротворцы». «Все понять — все простить». «Не ведаете, что творите». Были надписи призывные: «Отойди от зла и сотвори благо!», «Перекуем мечи на орала!», «Не зарывай талант в землю!» Были полные отчаяния: «О времена! О нравы!», «Да минует меня чаша сия!», «Бей, но выслушай!» Надпись на одном щите, казалось, обобщала все остальные: «Вот как делается история!»
— Какая удивительная коллекция! — воскликнул инспектор.
— Это не коллекция, это жизнь. Я никогда не знал мирного времени. Когда я родился, уже шла война. Она началась за тридцать лет до моего рождения и будет продолжаться еще тридцать лет после моей смерти.
Поразительно, что он ошибся всего на один год: война началась за тридцать один год до его рождения и окончилась через тридцать один год после его смерти. Жизнь безумного короля приходилась на самую середину безумной войны, и в этом была какая-то безумная закономерность.
— А мечей вы не собираете? — спросил инспектор.
— Нет, — отрубил король, — мечей я не собираю. У нас хватает тех, кто собирает мечи. Не собирали б они мечи, я бы не собирал щиты.
Вдруг он подмигнул гостю:
— Сейчас я вам кое-что покажу. Мой шут — он хоть и дурак, но светлая голова, можете мне поверить, подарил мне колпак. А я ему за это отдал корону. — Он достал из шкатулки колпак и надел его. — На вид он не очень внушительный, но зато удобный.
Странно, что шутовской колпак вовсе не делал короля смешным, он придавал его лицу даже некоторое выражение скорби. Колпак печально свисал на одну сторону, словно подчеркивая однобокость судьбы, которая, давая все с одной стороны, с другой стороны — все отнимает.
Вслед за тем король забыл о госте и принялся гоняться за мухой. Поймал ее, сунул куда-то под крышечку и сказал:
— Здесь она будет в безопасности. У нас так безжалостно уничтожают мух. Приходится их ловить, чтобы спасти от уничтожения.
Он печально посмотрел на инспектора, снял колпак и сказал:
— Война тянется почти сто лет, даже не верится, что бывает мирное время. Преданья говорят, что бывает, но мне не верится. Я родился во время войны и умру во время войны. Война была до меня и будет после меня… — Он снял со стены щит с надписью: «Сим победиши», прикрылся им и сказал: — Аудиенция окончена.
В приемном зале инспектора ждал медик.
— Все в порядке, можно отправляться. Нам, кажется, по пути? — Он засмеялся: — Только не прикидывайтесь испанским послом, я слышу, о чем вы думаете!.. Что? Не расслышал… Нет, я не тот человек, который вам нужен. Я не из сорок второго, я из гораздо более позднего. Но я могу вас подвезти…
— Машина ваша собственная? — на всякий случай уточнил инспектор.
— Какая Машина? Времени? Старо, инспектор, старо! Так передвигались наши далекие предки. Наш способ — проекция вечности на любую секунду и проекция секунды на вечность. Что это значит? Это значит, что в каждую секунду я проживаю целую вечность, а поскольку в среднем жизнь человека нашего времени составляет тридцать миллиардов секунд, то, значит, я проживаю тридцать миллиардов вечностей. Не так уж мало, а? Как вы думаете?
Инспектор подумал, что этот врач-психиатр, видимо, сам спятил, и тот немедленно отозвался:
— Да нет, я вполне нормальный человек, и век мой, с точки зрения моего века, вполне нормальный. Но мы действительно передвигаемся по времени без машин, проектируя себя, так сказать… Ну, ладно, не буду перегружать ваше воображение. Так поедемте? Можете не отвечать, я слышу, что вы отказываетесь. — Он поклонился по здешнему обычаю. — Может, встретимся в каком-нибудь столетии. Кстати, через два года мне предстоит поездка в 1934 год. Приход к власти Гитлера, любопытный случай массового психоза. Вы туда не собираетесь? Ну, тогда всяких вам благ. — Он исчез, спроектировав себя в какое-то другое время.
Из покоев дофина вышел герцог Иоанн, на удивление здоровый и невредимый.
— Это просто невероятно, — радостно заговорил он, — мне пропороли кольчугу, да что там кольчугу, меня пропороли насквозь. И стоило этому лекаришке чем-то помазать, как сразу все зажило, даже исчезли боли, которые были до покушения. — Он осторожно приложил руку к сердцу. — Стучит, как новенькое, давно так не стучало…
Это было непостижимо. Не то, что врач вернул жизнь покойнику — в сорок втором веке такие вещи делаются в каждом медпункте, — а то было непостижимо, что герцог остался жив, когда по истории он числился убитым.
— Я рад за вас.
— А уж как я рад! Людовику Орлеанскому просто не повезло: рядом с ним не оказалось подходящего лекаря. Хотя, правда, это было двенадцать лет назад, тогда еще медицина была не так развита.
Человек, живущий короткую жизнь, измеряет ее своими короткими мерками. Двенадцать лет для него время, а на самом деле — ну что они, в сущности, эти двенадцать лет?
Об этом думал инспектор, когда за спиной герцога мелькнула какая-то тень и вслед за тем раздался пронзительный крик герцога:
— На помощь! Лекаря!
Но его лекарь был уже далеко: времяискатель больше не показывал инородного времени.
А вокруг уже собиралась толпа: король, королева, придворные и служащие двора…
Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский был убит.
История торжествовала.
Глава седьмая ЯН-1941-1963
— Юрек, как ты относишься к Вацеку?
— Разве ты знаешь Вацека? А не знаешь, так нечего и говорить.
Мы спускаемся к шоссейной дороге, по которой должна пройти колонна вражеских машин. Вернее, мы спускаемся, потому что она не должна пройти, не должна пройти ни в коем случае.
— Оставайся здесь, — говорит Юрек, — начнешь сразу после меня. Не забыл, как это делается?
Я остаюсь один.
Как бы мне хотелось увидеть этого Вацека! Посмотреть ему в глаза, сказать о том, что случится после. Что сколько будет существовать человечество, люди будут с проклятием произносить его имя…
Издалека доносится гул машин.
Тяжелые грузовики, крытые брезентом. Древняя техника, в наше время исчезнувшая с лица земли, вымершая, как вымирали доисторические животные… Шесть машин…
Первая машина приближается, я вижу за стеклом кабины двух солдат, похожих на тех, которых видел на старинных рисунках и фотографиях. Они оживленно разговаривают и даже смеются, не подозревая, что у них так мало осталось времени… Но они, гоня свои машины по чужой земле, думают, конечно, не о времени, а о пространстве. Почему-то, живя во времени и пространстве, человек больше дорожит пространством, чем временем. И отдает свою жизнь за кусочек пространства, которое все равно ему не понадобится…
Первая машина прошла… Вторая… Четвертая машина прошла…
И тут гремит взрыв. Это Юрек подает мне команду.
Я бросаю гранату в последнюю машину, чтобы преградить остальным путь к отступлению. Но граната не разрывается: я забыл выдернуть кольцо.
Вторая граната разрывается, но в стороне от машины. Третья попадает в цель.
В колонне переполох. Из уцелевших машин выскакивают солдаты и залегают под прикрытием придорожных кустов. Я вспоминаю про свой автомат и даю очередь, как учил меня Юрек.
Я слышу свист пуль: это стреляют по мне… Странное, ни с чем не сравнимое чувство испытываешь, когда по тебе стреляют. Хочется зарыться в землю или раствориться в воздухе, но вместе с тем возникает ощущение собственной значимости: все же ты чего-то стоишь, раз в тебя целится столько дул, столько глаз.
Несколько солдат поднимаются с автоматами наперевес, но тут же опять ложатся — на время или насовсем: это заработал автомат Юрека. Я бросаю еще одну гранату, целясь уже не в машину, а в этих людей, бросаю туда, где их побольше, и вижу искаженные лица, слышу крики, — мне кажется, раньше, чем прогремел взрыв. Я не могу этого видеть, я зажмуриваю глаза и строчу, уже не выбирая цели, наугад. Я понимаю, что это фашисты, что их надо убивать, но я не могу видеть их смерть и убиваю их с закрытыми глазами.
— Быстро отходи в лес! — это голос Юрека.
Я открываю глаза.
— Слышишь?. Быстро!
Я углубляюсь в лес, слыша за собой автоматную очередь. Юрек меня прикрывает. Его в любую минуту могут убить, и он готов, чтобы его убили, только бы дать уйти мне.
Выстрелы звучат глуше. Война отступила, скрывшись за деревьями, которые теперь не встают у меня на дороге, а окружают меня плотной стеной, пряча от войны, как кусты прятали зайца. Неудачное сравнение, потому что я совсем не тот, для кого единственная победа — унести ноги с войны, я одержал победу в бою, как только и стоит одерживать победы.
Что это? Я стою на месте своего приземления. Я узнаю эту полянку, а там, за кустами, моя Машина… Стоит мне сесть в нее, и я еще сегодня буду далеко от этой войны… В конце концов можно поменять тему диссертации. Есть темы полегче…
Рядом хрустнула ветка. Я оборачиваюсь и вижу Юрека. Он стоит, обхватив дерево, и я понимаю, что он ранен. А может, и убит.
Я подхожу к нему. У него прострелена грудь. Я хочу перевязать ему рану и замечаю, что она уже перевязана. Неужели он сам оказал себе первую помощь?
Вот когда пригодится моя Машина. Она доставит Юрека в мирный год, он полежит там, подлечится, а потом, если захочет, вернется назад.
Я положил его на сиденье и задумался: куда его везти? Ближайшие пункты — 1914 и мой, 4119 год. Но в 1914-м тоже война, а до моего времени далеко, живым его не довезешь. Что же делать?
Оставалось идти на риск: посадить Машину в любом ближайшем году, где Юрек мог бы подлечить свою рану. Это грозило крупной аварией и тем, что оттуда мне уже вряд ли удастся выбраться в свое время. Но иначе Юрека не спасти.
Я включил мотор, и Машина плавно двинулась с места, верней, не с места, а со времени. На календарифмометре замелькали цифры: 1943… 1947… 1954… Я взялся за ручку тормоза… Сейчас это произойдет… То, от чего предостерегают все инструкции, — аварийная посадка…
Я резко нажал на тормоз. Раздался треск. Машина вгрузла в чужеродное время и проползла на брюхе по нескольким годам. Затем она замерла и затихла, — кажется, навсегда. На календарифмометре значился год 1963-й.
То ли от треска, то ли от внезапно наступившей тишины Юрек пришел в себя.
— Что это? — спросил он. — Откуда эта телега? Давай помоги мне выбраться, будем пробираться к своим, пока фрицы не подбросили свежие силы.
— Никаких фрицев здесь нет.
— Нет, так будут, у нас каждая минута на счету…
Я помог ему выбраться из Машины.
— Странная штуковина, — сказал он, поглядев на Машину со стороны. Откуда она взялась?
— Это Машина Времени, Юрек. Сейчас 1963 год, война давно кончилась, почти двадцать лет назад.
Он смотрит на меня, как на сумасшедшего.
— Ты что это? С перепугу?
— Да, я испугался. Испугался, что ты можешь умереть, и вывез тебя в мирное время. Понимаешь, Юрек, я не тот, за кого себя выдавал. Я не из Люблина, я из сорок второго века.
— Тебя, наверно, контузило, — забеспокоился Юрек.
И тут на глаза мне попалась консервная банка. Я поднял ее. На этикетке была обозначена дата: апрель 1963 года.
Юрек отбросил банку и долго молчал. Он побледнел, мне показалось, что он сейчас потеряет сознание.
— Юрек, нужно срочно найти врача…
— Врача? — он посмотрел на меня с ненавистью. — Ты зачем, гад, меня сюда затащил? Шкуру свою спасал? В то время, когда люди жизни отдают…
— В какое время? Война давно кончилась.
— Слушай, ты, потомок! Твое время еще придет. А в своем времени мы без тебя разберемся. А сейчас вот что: вези меня назад!
— Ты же ранен.
— Я ранен на войне и вылечусь на войне. Заводи свою времянку.
Он хотел унизить Машину Времени и потому назвал ее времянкой. Так у них назывались печки, которые давали не слишком много тепла.
— Может, сначала покажешься врачу?
— Идиот! Что ты скажешь врачу? Как объяснишь пулевое ранение?
Об этом я не подумал. Да, могут быть неприятности. И никому ничего не докажешь.
— То-то ты мне кричал: «Отходи, Юрек!», «Тебе приказано — отходи!» Интересно, кем это мне было приказано?
— Я тебе ничего не кричал.
Он долго ругался, выкладывая все, что он думает обо мне и о моем времени. Особенно когда узнал, что Машина вышла из строя.
— Что? Ты хочешь сказать, что твой примус больше не действует? Давай приводи в порядок свою технику, некогда мне тут с тобой…
— Я не умею. Я не техник, я историк.
— Я б тебе сказал, кто ты есть. Ладно, попробую сам. Я в машинах немного разбираюсь. Показывай свой механизм! — Юрек попробовал встать, но тут же сел, скривившись от боли.
Я подумал, что в Машине где-то должна быть аптечка. И действительно, в багажнике я обнаружил санитарный пакет и другие необходимые медикаменты.
— Ну вот, теперь полегче, — сказал Юрек, когда я промыл и перебинтовал ему рану. — Ты молодец. Если б еще дома сидел, тебе б цены не было.
Я не верил, что ему удастся отремонтировать Машину. Машина Времени это слишком сложно для двадцатого века. Видно, придется нам остаться здесь навсегда. Он будет водить автобусы, а я займусь историей — наукой о прошлом — или создам новую науку — о будущем. Футурологию, которая была создана задолго до меня, кажется, в том же двадцатом веке. Печальный парадокс: я знаю будущее человечества вперед на две тысячи лет, но не знаю своего ближайшего будущего.
А может быть, меня просто посчитают сумасшедшим. В двадцатом веке представление о времени примерно такое, как в первом веке было представление о пространстве. Великий Шандор Шандр (3000–3070), создавший первую карту времени, родится только через тысячу лет, и лишь тогда станет известен рельеф времени. Вершины и низменности. Ущелья и провалы. Если я стану прогнозировать будущее, исходя из объемности времени, если скажу о путешествии вокруг времени, меня непременно сочтут сумасшедшим. Но ведь Назым Фрисс действительно совершил путешествие вокруг времени, и сроки его измерялись не временем, а пространством. Он вышел за пределы пространственных измерений, и пространство для него стало временем, а время — пространством.
1963 год… Какой-нибудь час отделяет нас с Юреком от 41-го года, и за этот час сколько произошло! Окончена война, поднялись города из развалин… И погибли наши товарищи… Стась, Збышек и Анна. Час назад они были живы — и двадцать два года их уже нет на земле. Юрека с ними нет, значит, не он их предал. Впрочем, этот факт уже не требует доказательств. Стал бы он рваться туда, в войну, из теперешнего мирного времени, стал бы рисковать жизнью, спасая меня. А Стась? А Збышек? Прошлое не отдает своих тайн, и если я останусь здесь, то буду заниматься не прошлым, а будущим. В будущем хоть можно что-то еще изменить, а в прошлом уже ничего не изменишь.
Глава восьмая НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ АМЕРИКИ
Севилья. Портовый трактир. Мореходы, землепроходцы и просто проходимцы, люди, одержимые мечтой, и люди, одержимые жаждой наживы, моряки, не нюхавшие моря, и пираты, не нюхавшие пороха, а также настоящие моряки и пираты — все это галдит, шумит, таращит глаза и стучит по столу кулаками.
— Я им говорю, Америго: земля так же кругла, как моя башка, да и по величине не слишком ее превосходит. И если плыть из Севильи на запад, то можно достичь берегов Индии.
— Не Индии, Христофор.
— А чего же?
— Только не Индии.
Америго мнется, возможно, он из скромности не хочет назвать материк, который впоследствии будет носить его имя. Скромность в данном случае не мешает: Америку все же открыл Колумб, и заслуги Америго сильно преувеличены. Словно заранее это предвидя и заранее в чем-то раскаиваясь, Америго смиренно принимает громы гиганта, низвергающиеся на его голову.
— Скажу тебе как земляку, Америго, хотя я уже и не помню, когда покинул Италию (сердцем я ее никогда не покидал): для того чтобы осуществить одну-единственную идею, нужно потратить всю жизнь. Потому что легче преодолеть Атлантический океан, чем океан тупоумия, равнодушия и лени. Мне сорок лет, Америго, как и тебе (мы ведь с тобой ровесники), и половину из них я мотаюсь по белу свету и всюду слышу одно слово: нет.
Будущие века сначала вознесут Америго, а Колумба предадут забвению, потом вознесут Колумба, называя Америго вором, присвоившим чужое открытие, будущие века столкнут этих двух открывателей в непримиримой вражде, разжигая страсть в тех, кому давно уже неведомы страсти. А они, живые, сидят в портовом трактире и разговаривают, как друзья.
— Я пытался добиться приема у Торквемады, говорят, это сильный человек.
— Он духовник королевы.
— Что-то вроде этого. Но попасть к нему дело безнадежное, у него сейчас особенно много работы.
— Святой инквизиции не до новых открытий, она не знает, что делать со старыми. Поэтому она больше поощряет закрытия. Колумб, это совсем неплохо звучит: великий закрыватель. — Америго невесело улыбнулся.
Инспектор Шмит не видел в этом ничего удивительного: были в истории и открыватели, и закрыватели, причем последние, как правильно сказал Америго, нередко пользовались большей поддержкой.
— На все есть средства, — сетовал Колумб. — На войну с Гранадой есть средства. На усмирение бунтов, на инквизицию есть средства. И только на открытия нет средств. А ведь это открытие окупилось бы в течение года. Индия — страна богатая, а путь в Индию через Атлантический океан…
— Только не в Индию, Христофор.
— А куда же?
— Только не в Индию.
Времяискатель зафиксировал присутствие объекта инородного времени. Уж не Колумб ли это, человек из будущего, прибывший в эти древние и не понимающие его времена? Тогда понятно, почему он не встречает поддержки, почему его не хотят финансировать. Всех первооткрывателей не хотели финансировать, и большинство из них умирало в нищете. Может, все они были пришельцами из будущих времен? Ведь не случайно они именно в будущих временах находят признание. Гениальный открыватель антипланеты Ялмез Хасан Амир (3507–3700) тоже захотел пораньше осчастливить человечество и отправился делать свое открытие в XII век, но едва не был там четвертован, чудом спасся и, вернувшись домой, сделал свое открытие, после чего жил долго и счастливо. Возможно, это легенда, одна из множества легенд, которые существуют о Хасане Амире, человеке, сделавшем переворот в астрономии, опустив ее с неба на Землю. Но посмертно вышедшая книга Амира «Барьеры несовместимости времен» была написана им, конечно, не случайно, в ней слишком чувствуется горечь личного опыта. Быть может, в каждом веке есть представители будущего, непризнанные и непонятые, но открывающие миру глаза, которые без них ему никто не откроет.
Подобное объяснение не просто фантастично, оно сбивает с толку службу розыска, которой и без того приходится нелегко. Поэтому инспектор отбросил эту опасную, хотя и прекрасную версию и продолжал слушать заинтересовавший его разговор, в надежде почерпнуть из него необходимые сведения.
К разговору этому прислушивался не только он. За соседним столиком рыжебородый моряк ловил каждое слово будущих открывателей. С виду он был не испанцем и не итальянцем, он был скорее скандинавом. Но кого только не встретишь в Севильском порту!
— Христофор, не знаю, что я могу для тебя сделать. Мой хозяин занимается оснащением кораблей, я с ним поговорю, может, он замолвит за тебя словечко.
— Поговори, Америго. Покажи ему эту карту, здесь все обозначено. Мне не жаль потерянных двадцати лет, жаль, что погибнет идея…
Рыжебородый моряк пересел за их стол и заглянул в карту, которую Христофор Колумб развернул перед Америго Веспуччи.
— Чего тебе? Ты кто такой? — Америго прикрыл ладонями карту.
— Я моряк. Меня зовут Эрик Рыжий. Интересуюсь разными странами.
Эрик Рыжий… Инспектор слышал о таком мореплавателе. Но он, кажется, жил в десятом веке. Как же он попал в пятнадцатый век?
— Я давно мечтал пересечь океан, — сказал Эрик, не уточняя, однако, насколько давно. — Я много плавал по северным морям, открыл кое-какие земли, но это все не то. Моя мечта — открыть новую часть света.
Все это было знакомо инспектору по его многолетней работе. Подсесть к чужому столику, завязать разговор, все, что надо, выспросить. Колумб не понимал, с кем он имеет дело, и вот уже он положил руку Эрику на плечо:
— Обещаю. Если у меня получится — обещаю.
— Я поговорю с хозяином, — сказал Америго.
Этому человеку не повезло. Жизнь Америго сложилась весьма неудачно. Он работал на хозяина — то на одного, то на другого хозяина, не имел ни дома, ни семьи. Мелкий служащий, состарившийся среди бумаг и лишь на склоне лет взлетевший к зениту славы. Но что стоит слава на склоне лет? Америго Веспуччи опоздал к своему триумфу.
Может, никто не понимал Колумба, как он, ведь не зря же Колумб писал сыну: «Я беседовал с Америго Веспуччи… это честный человек, он полон решимости сделать для меня все, что в его силах».
Между тем инспектор продолжал ломать голову над тем, каким образом Эрик Рыжий затесался в пятнадцатое столетие. А что, если он тот самый искомый преступник, угнавший Машину Времени, чтобы опередить Колумба? В сорок втором веке неоткрытых земель не осталось, вот он и отправился туда, где они есть.
Эрик смотрел на карту, но было видно, что он ничего не может прочесть. Видимо, прибыл он не из будущего. Он прибыл из тех безграмотных времен, когда королю было легче покорить страну, чем поставить подпись под требованием капитуляции. Выходец из десятого века… В пору беспамятства человечества, когда всех массово забывали, ему удалось просочиться в историю. И, как теперь стало очевидно, не вполне благовидным путем.
Инспектор настроил речевые центры на язык древних скандинавов:
— Эрик, вы мне нужны.
Услышав родную речь, Рыжий испуганно вздрогнул.
— Подойдите ко мне, Эрик. Вот так. Что вам нужно в пятнадцатом веке? Почему вы покинули свой десятый век?
— Так получилось, — Эрик растерянно моргал рыжими ресницами. — Я всю жизнь занимаюсь открытием новых земель.
— Это нам известно. Ваше дело Гренландия, Америку откроет Колумб. Имейте в виду, попытка присвоить чужое открытие, выведав заранее его план, является преступлением перед историей.
Эрик Рыжий покраснел, как умеют краснеть только рыжие, совершившие преступный антиисторический акт.
— Стыдитесь, Эрик, легче всего приходить на готовое. Теперь я понимаю, откуда все эти разговоры о финикийцах и других племенах, якобы открывших Америку за тысячу лет до Колумба. Все они пришли на готовое, присвоив открытие великого человека.
Эрик Рыжий хотел было признать свою вину и с тоской косился на двух первооткрывателей, которые забыли о нем так, как было бы неплохо, чтобы о нем забыла история.
— Как вы сюда попали?
Эрик Рыжий, казалось, только и ждал этого вопроса, ему не терпелось рассказать о своих злоключениях.
Это случилось спустя два года после открытия Гренландии. Эрик стал подумывать, что бы еще такое открыть. Он мечтал о новом материке, который можно было бы назвать Великим Материком Эрика (сокращенно — Вемэрика), но где искать этот материк, было неизвестно. Да и есть ли, кроме Скандинавии, еще один материк?
Так он размышлял, и грустил, и сожалел о том, что Скандинавия уже открыта, когда появился Гарик Черный. Он возник совершенно внезапно и сказал:
— Тьфу, куда это меня занесло? Опять я не туда заехал!
Эрик был слишком погружен в свои заботы, чтобы заводить с незнакомцем разговор, и тогда тот его окликнул:
— Эрик!
— Что, Гарик? — почему-то вдруг Эрику стало известно, что незнакомца зовут Гарик, хотя тот себя не назвал.
— Так ты хочешь открыть Вемэрику? — спросил Гарик Черный. Каким-то образом он об этом узнал. — А кругосветное путешествие тебе не подойдет? Это ведь тоже неплохо?
Лишь только Гарик сказал о кругосветном путешествии, как Эрик сразу понял, что Земля круглая и по ней можно путешествовать, как по глобусу (о котором ему прежде тоже не было известно).
— Но ведь кругосветное путешествие первым совершит Магеллан?
— Тебя смущает Магеллан? Пусть он тебя не смущает.
До сих пор Эрика никогда не смущал Магеллан, но теперь он его стал смущать своим кругосветным плаваньем. Но Гарик его успокоил: они съездят к Магеллану, разведают его маршрут, чтобы пройти по нему в десятом столетии.
Они тут же оказались в пункте отправления Магеллана, но корабли великого мореплавателя уже ушли. Верней, еще не пришли.
— Они вернутся через три года, — сказал Гарик Черный. — Выходит, мы прибыли преждевременно. Что-то у меня измерение барахлит. — И Эрик сообразил, что передвигались они при помощи этого, неизвестного ему измерения. — Ну, ладно. Тогда мы в Индию поплывем, опередим Васко да Гаму.
— Его опередил уже Афанасий Никитин, — высказал Эрик неожиданные для себя сведения.
— А мы и Афанасия опередим. Только маршрут возьмем Васкин: обогнем Африку — это будет сенсация для десятого века.
И вот они стояли в Лиссабонском порту, в котором не было и признака кораблей Васко да Гамы: ведь прибыли они в Лиссабон на тридцать лет раньше — именно на столько лет опередил Афанасий Никитин португальского путешественника. И не у кого было спросить про Васкин маршрут.
— Измерение барахлит, — Гарик и тут свалил на никуда не годное измерение, хотя в данном случае был виноват сам. — Может, ты откроешь Берингово море? Я сведу тебя с Берингом.
— Нет, — сказал Эрик Рыжий, — я не хочу в Берингово море. И не хочу в море Лаптевых. Я хочу открыть Вемэрику, больше мне ничего не нужно.
— Америку так Америку, — сказал Гарик Черный, называя эту землю на общепринятый лад. — Только поскорей, у меня мало времени.
Да, его измерение по-настоящему барахлило: они прибыли за целый год до начала экспедиции Колумба. Гарик звал открывать Австралию, чтоб утереть нос голландцам, но Эрик Рыжий категорически отказался: свою, мол, Вемэрику он не променяет ни на какую Австралию.
— В таком случае оставайся, — сказал Гарик Черный. — А у меня дела поважней, чем твоя Америка: я собираюсь открыть антипланету Ялмез, обставить Хасана Амира.
(«Ну и проходимец этот Гарик! Почище Эрика…» — подумал инспектор Шмит.)
— Только бы измерение не подвело, — сказал Гарик, кивнув на прощание Эрику. И в ту же секунду исчез.
В Испании времен Торквемады люди исчезали тысячами, поэтому исчезновение Гарика никого не удивило. На него просто не обратили внимания. И на Эрика никто не обратил внимания: мало ли оборванцев слонялось по Севилье.
Он слонялся по Севилье, переходя из трактира в трактир, и чувствовал себя неуютно в чужом времени. Вемэрика отодвигалась все дальше, и ее заслоняла родная Скандинавия, а также незабвенный десятый век. И ему уже начало казаться, что не существует Великого Материка Эрика, что есть только Эрик — без всякого материка.
— Я хочу домой, — так закончил Эрик свой печальный рассказ, и в его зеленых глазах загорелась тоска по родине. — В гостях хорошо, а дома лучше, — сослался он на пословицу, позаимствованную в чужих временах.
Что с ним делать? Отправить его домой, пока он еще не все выведал у Колумба? А то ведь он и карту стащит, и грамоте выучится, пройдет все науки… А там доберется в свой век на попутной Машине или измерении, и прощай открытие Колумба. Рыжий его опередил!
Но из пятнадцатого века в десятый не попадешь без пересадки, так и преступника упустишь. У нас служба розыска, а не благотворительное бюро. Хотя, конечно, жаль этого Рыжего. За чужим погнался, а свое потерял. Обычный случай в уголовной практике.
Ничего, решил инспектор, как-нибудь доберется. Раз ему приписывают открытие Америки в десятом веке, значит, он все же добрался в свой век. Добрался, конечно, добрался и открыл в десятом веке то, что было до него в пятнадцатом веке открыто.
Глава девятая ЯН-1963
Идут дни 1963 года, и, если б Машина была исправна, нам бы, возможно, удалось вернуться к нашим, — правда, ценой аварийной посадки. Но Юрек считает, что такая авария не страшна, наибольшая авария для человека — быть выброшенным из своего времени.
Я пытаюсь ему рассказать то, что мне известно о пространственно-временных отношениях, но он не хочет слушать. Все равно, он говорит, ему в этих теориях не разобраться, лучше он будет рассматривать эту Машину как обычный дизель, тогда, может, ему удастся ее починить.
Он никак не может понять, что спешить нам некуда, и, даже если он через год починит Машину, мы не опоздаем в его время. И через двадцать лет не опоздаем. Только вернемся туда пожилыми людьми, потому что никакая машина не может вернуть человека в молодость.
— Юрек, ты пойми, пласты времени неподвижны, движется лишь то время, которое соприкасается с нами.
— Не морочь голову. Вроде кроме нас ничего на свете не существует.
— Оно существует, но раз мы можем попасть в любую точку любого времени, то это равноценно неподвижности времени. Относительной неподвижности, как неподвижность пространства.
Конечно, абсолютной неподвижности времени быть не может, есть лишь его видимая неподвижность по отношению к наблюдателю. Неподвижность прошлого и будущего, в берегах которых течет река настоящего. Великий Панасюк (1976–2058) в пору своих юношеских заблуждений пытался доказать, что движутся эти самые берега, а сама река неподвижна. Он утверждал, что жизнь есть неподвижное настоящее, затертое льдами прошлого и будущего. Это была ошибочная теория, и впоследствии Панасюк от нее отказался.
Пока Юрек копается в Машине, я хожу по лесу, собираю ягоды, иногда подхожу к шоссе, чтобы издали посмотреть на жизнь незнакомого мне времени. Когда кто-нибудь подходит близко к зарослям, в которых укрыта наша Машина, я даю знать Юреку, и он на время прекращает ремонт, а я заговариваю с прохожим и спешу отвести его подальше от этих мест.
А когда наступает темнота, Юрек прекращает ремонтные работы и начинает меня ругать.
— Гуманист, — говорит он, вкладывая нехороший смысл в это хорошее слово, — брат милосердия! Разве кто-нибудь вызывал твою неотложку? Да я бы еще с такой раной знаешь как воевал?
Закон временно́го притяжения, открытый великим Панасюком, формулируется так: всякое тело, существующее во времени, притягивается к этому времени с силой, прямо пропорциональной скорости течения данного времени и обратно пропорциональной квадрату взаимодействия его с другими временами. Вследствие этого течение времени в различные эпохи неоднородно и зависит не только от объективных причин, но и от позиции наблюдателя. Естественно поэтому, что, рассматривая то или иное событие, позицию лучше не менять, чтобы не исказить общей картины. По формуле Марантиди: ИК = Ru (истинная картина равна соответствующему корню из картины в степени искажения).
— Когда кончится война, — говорит Юрек (мысленно он все еще там, в том времени), — я буду водить автобусы по этой дороге…
— И в 1963 году сможешь прийти сюда и посмотреть, как мы здесь возимся с этой Машиной.
— Чепуха какая-то! Не могу же я раздвоиться!.. Хотя — черт его знает… Если я смогу дважды прожить одну и ту же минуту…
Ему трудно это представить. Так же трудно было когда-то представить, что Земля движется вокруг Солнца, хотя ясно видно, что Солнце движется вокруг Земли.
— А почему я до сих пор не пришел? Янек… как ты думаешь, почему я до сих пор не пришел? Неужели нам никогда не вырваться из этого проклятого времени?
— Либо из этого, либо из другого.
— Это значит… что я погиб на войне?
Я ничего ему не ответил.
— Ну и ладно! Лучше уж там погибнуть, чем здесь торчать… — Он помолчал. — А может, я просто не нашел этого места? За столько времени можно забыть.
— Может, и так. Может, ты еще придешь.
— Надо бы оставить какую-то метку. Чтобы потом, в 63-м, я по ней нас нашел. Все-таки больше двадцати лет…
— Какие двадцать лет? Ведь мы поставим метку в 63-м.
— Ничего не понимаю. Ну и напутал ты с этим временем! Значит, даже если мы поставим метку, я могу нас не найти? Ведь я мог прийти до того, как метка была поставлена?
— Ты бы не стал раньше приходить. Ты бы запомнил, что метка была поставлена позже.
— Тоже верно. Я бы этого не забыл.
— И ты бы помнил, как мы тебя ждем. Ты бы непременно пришел.
— Я еще приду, Янек!
Утром, когда Юрек опять начал возиться с Машиной, я спустился к шоссе и вырезал на дереве надпись: «Юрек, мы тебя ждем!» Потом я ее ему показал, и он долго на нее смотрел, чтобы получше запомнить.
— Теперь я найду, — сказал он.
Я не говорю ему о гибели отряда, о том, что, если он вернется, ему этой войны не пережить. Правда, в архивных документах имя Юрека не было названо, не исключено, что там погиб кто-то другой. Если мы не вернемся, то, конечно, там погиб кто-то другой. Знал бы это Юрек, он бы пешком пошел в 41-й год, хотя пешком ходить по времени даже в наш век еще не научились.
Я бы тоже не хотел, чтоб за меня погибал кто-то другой, но и самому тоже погибать не хочется. Впрочем, откуда знать, что человек погибает за тебя? Может, он погибает за себя? Древнее слово «судьба» рассеивало эти сомнения.
Пожилой человек на шоссе остановился и долго смотрел на вырезанную на дереве надпись. Я подумал, что это, может быть, Юрек. Прошло столько лет, он, конечно, успел состариться. Я подошел ближе.
— Это вас ждут?
Старик пожал плечами.
— У меня нет таких друзей. Мои друзья не портят деревьев.
Если б старик знал. Если б он видел нас во время боя. Он бы не стыдился таких друзей. Он бы гордился такими друзьями.
Глава десятая ВЕТЕР ВРЕМЕНИ
Нет, человек не идет по времени — изо дня в день, из месяца в месяц, — он стоит во времени, под ветром времени, которое проносится мимо, срывая с него, круша и ломая все, чем он пытается себя защитить. И гнет ветер времени человека к земле, и заставляет прятать лицо и подставлять ветру спину, — вот почему мы не видим нашего будущего: мы отворачиваем от сокрушительного ветра лицо и смотрим в безветренное прошлое.
Ветровые стекла Машины Времени защищают человека от ветра, но не от времени. Как бы далеко ты ни сбежал от своего времени, время — свое ли, чужое — возьмет то, что ему положено. Конечно, для того, кто располагает Машиной, ассортимент времен богаче, разнообразней, — но что такое ассортимент, когда покупательная способность у всех одинаковая? Что касается инспектора Шмита, он предпочитает одну большую жизнь в одном времени, в кругу одних и тех же друзей тысяче маленьких жизней, нахватанных по минутке в разных временах.
Машина движется медленно: при обычной скорости четыреста пятьдесят лет в час сейчас она выжимает не больше пятидесяти… Опять, видно, засорился воздухопровод. Такие времена — чего в них только не накопилось!
1519 год… Начинают бой звездные часы Магеллана, и завершают бой часы Леонардо… Звездные часы ни на минуту не прекращают бой. И в тот же год, когда Магеллан отправился в плаванье, а Леонардо закончил свой жизненный путь, Рафаэль дал миру «Сикстинскую мадонну»…
Только бы не потерпеть аварию в этом столетии, которое уже стало Возрождением, но еще не перестало быть средневековьем. Иногда Возрождение надолго сохраняет отпечаток средневековья и средневековье кончается вместе с Возрождением.
1535 год… На эшафот взошел британский канцлер Томас Мор, автор «Утопии». Веками человечество расплачивалось за свои утопии, но оно не хотело с ними расставаться…
Ветер времени свистит за окном. Он дует из будущего в прошлое. И все живое, что движется в будущее, он уносит в прошлое, этот встречный ветер…
Инспектор включает фодемёнт (ручное управление, от французского: «за неимением лучшего»), поскольку автоматика не дает возможности любоваться пролетающими временами. И сбавляет скорость, мягко нажав на рычаг пеклобата (переключатель скоростей, от украинского «не лiзь поперед батька в пекло»).
1650 год… Перестал мыслить Рене Декарт, сказавший памятную всем фразу: «Я мыслю, значит, я существую». Франция, его родина, не одобряла подобного рода существования, и он вынужден был скитаться по чужим странам, ища приют для своих непослушных мыслей и нигде его не находя. Вечное изгнание, вечные нужда и бесприютность… Как ты мыслишь, так ты и существуешь, Декарт!
1701 год… Война за испанское наследство.
1741 год… Война за австрийское наследство.
Наследников всегда больше, чем наследства, поэтому постоянно возникают недоразумения. Все, конечно, зависит от того, какое наследство. Есть наследства, которые не убывают, сколько их ни наследуй, и никто не ведет из-за них войн: за книги Сервантеса — испанское наследство, за музыку Моцарта — австрийское наследство… Очень важно выбрать что наследовать, чтобы не воевать всю жизнь из-за пустяков…
1849 год… Крохотное государство Сан-Марино проявило первые признаки своего будущего величия: дало приют итальянскому революционеру Джузеппе Гарибальди. Впоследствии великое, крупнейшее в Европе государство Сан-Марино занимало тогда площадь всего лишь восемь на семь с половиной километров, да и эти несчастные полкилометра находились под постоянной угрозой соседнего города Римини, который рассчитывал таким путем расширить свою территорию. Особое положение государства Сан-Марино заключалось в том, что оно было со всех сторон окружено Италией, оно было как бы сердцем Италии, но сердцем свободным и независимым и готовым бороться за свою независимость и свободу.
В то время великое государство Сан-Марино было крохотным государством, потому что великими тогда считались государства: а) богатые, б) сильные, в) внушительных размеров. Впоследствии эти критерии были пересмотрены и к государству стали предъявлять те же требования, какие предъявляются к каждому живущему в нем человеку. А так как в новые времена никто не считал великим человека: а) богатого, б) сильного и в) внушительных размеров, точнее, считали, но с некоторыми поправками: а) богатого мыслью, б) сильного духом, в) имеющего заслуги перед всем человечеством, — то новые критерии в оценке государств существенно изменили прежние представления. Памятник Гарибальди в центре Сан-Марино напоминает о том, что первый шаг к величию этого государства был сделан тогда, когда оно, крохотное, окруженное Италией, взяло под свою защиту преследуемого человека.
1889 год… В один год и даже, помнится, в один месяц родились два человека, которые ни на день не прекращали между собой борьбу, которые вели ее задолго до своего рождения и продолжали вести после смерти. «Сверхчеловек» и «маленький человек» — в глазах тех, для кого единственный критерий — сила. А в глазах, видящих в человеке другие достоинства, ничтожество и великий человек. Гитлер и Чаплин.
Ветер времени… Не каждый может перед ним устоять. Не каждый способен стать к нему не спиной, а лицом, чтобы хоть краем глаза увидеть будущее…
НЕСБЫТОЧНЫЕ ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА
(Историческая справка)
В тридцать шестом веке, когда Машина Времени прочно вошла в быт, стали раздаваться голоса о необходимости ее запрещения. Требовали принятия закона о неприкосновенности времени, поскольку стирание грани между прошлым и будущим пагубно для настоящего, которое, собственно, и является этой гранью. Сторонники Машины утверждали, что грань эта никогда не была четкой, поскольку в каждом времени мы обнаруживаем следы других времен. Если бы в прошлом и настоящем не было никаких следов будущего, то никакого прогресса не было бы. Ведь самые передовые идеи рождаются будущим, а как они могут попасть в настоящее? Без Машины Времени тут не обойтись.
Некоторые предлагали поставить Машину Времени на службу Пространству. Гениальный астрофилософ и конструктор Времени Садреддин Алиев (3721-….) нашел оригинальный способ соединения Машины Времени с фотонной ракетой, что давало возможность в минимально сжатые сроки перемещаться на бесконечно большие расстояния.
На первый случай Садреддин решил не летать особенно далеко, а ограничиться центром нашей Галактики. Расстояние — 25 тысяч световых лет, следовательно, чтобы не тратить на путь туда и обратно 50 тысяч лет, нужно на столько же лет углубиться в прошлое. В прошлом, сказал Садреддин перед отлетом, у нас неисчерпаемые залежи времени, за счет которых можно сберечь ресурсы будущего.
Он улетел, пообещав вернуться через минуту. Но не вернулся. Ни через минуту, ни через десять минут. Прошел целый час, а его все не было. И тогда радиопрожекторы сообщили печальную весть: астрофилософ и конструктор Времени исчез из Пространства.
Противники Машины немедленно взяли этот печальный факт на вооружение: раз в Пространстве Садреддина нет, значит, он находится где-то во Времени. Всей историей доказано, говорили они, насколько Время гибельно для человека. От Пространства еще никто не умирал, все умирали только от Времени. Так имеем ли мы право, вопрошали они, увозить человека из Пространства, которое дает ему жизнь, во Время, которое ничего не может дать, кроме смерти?
Сторонники Машины верили, что великий Садреддин не умер, нет! Мы, говорили они, еще услышим о нем — в прошлом!
И — услышали. Древние мифы донесли до нас имя Фаэтона, взмывшего в небо на солнечной колеснице. Не сразу додумалось человечество, что Фаэтон — это и есть тот самый Фотон, который умчал Садреддина к центру Галактики. Просто звук «о» может слышаться как «аэ», особенно если между говорящим и слушающим несколько тысячелетий…
Садреддин-Фаэтон взмыл на своей солнечной колеснице — и сгорел, как об этом рассказано в мифе, то ли приземлился в древнем времени, а взлететь не смог из-за какой-то поломки. А возможно, он все еще летит к центру Галактики — ведь лететь туда двадцать пять тысяч лет, и если у него что-то случилось с механизмом Времени… Тогда лететь ему еще двенадцать тысяч лет, а еще через двадцать пять тысяч лет он вернется на землю…
Построенные по его проекту летательные аппараты давно бороздят пространства и времена, но ни один из них не встретил в пути своего создателя, замечательного астрофилософа и конструктора Времени легендарного Фаэтона. Правда, Галактика наша велика, и не так просто встретиться на ее путях… И так легко разминуться во Времени и Пространстве…
Глава одиннадцатая ЯН — 1963-1941
Невероятная вещь: Юрек починил Машину Времени. Он, простой водитель автобуса из двадцатого века, разобрался в сложнейшем механизме из далеких будущих тысячелетий.
— Все не так уж сложно, — сказал он, демонстрируя мне готовность Машины к действию. — Могли б такую Машину и раньше изобрести. Только зачем? Чтобы дать возможность всякому… — тут он употребил неизвестное мне существительное, — сбегать от своего времени в более уютные времена?
Не думаю, что у Машины Времени такое уж простое устройство. Юрек починил ее потому, что у него не было другого выхода: он должен был вернуться в свое время.
— А тот не пришел, — вздохнул он. — Что ж, так тому и быть. Видно, он не дожил до мирного времени.
Он говорил о себе в третьем лице, чтобы отделить себя от того, не существующего, который лишил его надежды выйти живым из войны.
— Может, подождем еще? — предложил я. Ждать было нечего, но нелегко отправляться на верную смерть. А он теперь знал, что идет на верную смерть.
— Нам ждать легко. А каково им там, в сорок первом?
Он так и не понял, что время для нас остановилось, что мы сможем вернуться в любой день 41-го… Если, конечно, не погибнем при посадке: из 63-го в 41-й так просто не попадешь.
Юрек нажал на рычаг. Машина качнулась, задрожала и замерла.
— Что, не идет?
— Не идет. Потому что — приехали.
На календарифмометре значился год 1941-й.
— Как тебе удалось? Ведь Машина на это не рассчитана.
— Обычный технический недосмотр. Я кое-что поправил.
Он кое-что поправил! Революция в науке пятого тысячелетия — и это называется: кое-что поправил.
— Юрек, тебя бы в наш век!
— Еще в один век? Еле до своего добрался… — Он положил руку мне на плечо. — Ладно, Янек, прощай. Передай привет своему времени.
— Я пока здесь останусь. Зря я, что ли, учился воевать?
Юрек был не прочь вместе со мной повоевать, но он не знал, как быть с Машиной. Он боялся, что Машиной может воспользоваться враг. Какой-нибудь фашист может проникнуть на ней в будущее. В науке высказываются серьезные предположения, что такие случаи имели место. Больше того, академик Гловач утверждает, что фашизм в двадцатый век прибыл из средних веков, вероятно, использовав Машины Времени легкомысленных и сердобольных туристов. Академик Гловач требует большой осторожности в обращении с Машиной Времени, особенно же предостерегает от того, чтобы подбирать по дороге случайных пассажиров, ибо, говорит он, информация распространяется не только в пространстве, но и во времени. Институт истории рассматривает этот вопрос и, вероятно, перенесет фашизм из двадцатого куда-нибудь в средние, а то и в древние века.
На шоссе прогремел взрыв, затем другой. Застрочили автоматы.
— Кажется, нас окружают…
— Нет, Юрек. Это мы прибыли раньше времени: сейчас на шоссе как раз начался бой.
— Наш бой? Значит, мы подоспели вовремя.
Юрек подхватил автомат и побежал к шоссе. Я бросился за ним, прихватив санитарный пакет, так как знал, что он понадобится.
Наша помощь была очень кстати. Тот Юрек остался один, он прикрывал меня, того меня, отходившего в глубь леса. Я крикнул ему:
— Отходи, Юрек!
Мои слова подкрепил автомат нашего Юрека.
Тот Юрек продолжал вести бой, и тогда наш Юрек, побоявшись, что его могут прихлопнуть прежде времени, крикнул:
— Тебе приказано: отходи!
Но теперь уже отходили немцы. Увидев, что появилось подкрепление, они попрыгали в уцелевшие машины, и вскоре шоссе опустело.
— Юрек! — позвал я того Юрека. Он не ответил.
Я распечатал санитарный пакет и перевязал Юреку рану.
— Ладно, пусть дальше сам выкарабкивается, — сказал наш Юрек, и в словах его была единственно оправданная жестокость: жестокость к себе.
Не желая опережать события, которые мы и без того достаточно опередили, мы двинулись вдоль шоссе, оставив на произвол судьбы и Машину Времени, и меня, уже стоящего возле нее, и раненого Юрека, который все-таки поднялся с земли и теперь шел, цепляясь за встречные деревья. Мы уходили все дальше от событий, которые развертывались позади нас и в которых мы уже однажды приняли участие.
— Янек, мне нужно вернуться. Я тебя догоню.
Я не спрашиваю, зачем ему нужно вернуться. Может, он хочет посмотреть, как наша Машина отправится в 1963 год, а может, хочет вынуть какую-нибудь деталь, чтобы враг не воспользовался нашей Машиной.
Я иду дальше. Сегодня седьмое сентября, остается два дня до гибели отряда. Я понимаю, что иду к гибели, потому что только мне известен конец нашего пути. Но сейчас я бы не мог покинуть отряд. Профессор Грюн объясняет это действием закона временно́го притяжения: время притягивает нас к себе, взваливает на нас свои заботы, и нам становится трудно мыслить тысячелетними категориями, мы начинаем мыслить категориями года, месяца и даже одного дня.
Хоть я и занимался двадцатым веком, но по-настоящему узнал его только сейчас. Я не понимал, как люди могли жить в этом времени, когда каждая жизнь висела на волоске, когда была почти стерта грань между жизнью и смертью. Теперь я понимаю. Теперь я вижу, что на грани смерти может быть настоящая жизнь.
Я вспоминаю слова Юрека о том, что бесчеловечность нельзя оставлять на земле в надежде, что из нее когда-нибудь произрастет человечность. Обезьяна больше не превратится в человека, она скорее весь мир превратит в обезьян и заставит их стыдиться всего человеческого. Когда обезьяна вооружена до зубов, очень трудно превратить ее в человека…
— Хальт!
Я останавливаюсь. Передо мной стоит вооруженная до зубов обезьяна, та самая, которой не удалось стать человеком, а может быть, Человек, которому удалось стать обезьяной, и он торжествует по этому поводу, потрясая оружием в знак победы над тем, что когда-то сделало его человеком…
Глава двенадцатая ЯН-1941
Годы жизни: 4092–1941. Как будто я жил до нашей эры.
Сегодня моя эра кончится, какой бы она ни была. Кончится за две тысячи лет до начала моей эры…
Сначала мне повезло: я встретил интеллигентного человека. Он не был похож на фашистов, о которых я писал в своей диссертации. Он сам признался, что не одобряет жестокостей, которых, как ему кажется, многовато в этой войне, хотя обстановка зачастую вынуждает к жестокости. Правда, сам он старается ее избегать и проявлять гуманность — в той мере, в какой позволяет обстановка.
Доводы его были разумны, если отвлечься от этой самой обстановки, в которой протекал разговор. Он сослался на Христа и Пилата: для Христа человечность — дело обычное и естественное, а для Пилата — исключительное, поскольку противоречит его миссии, делу его жизни. Поэтому когда Пилат умывает руки, это больший подвиг, чем когда Христос умирает на кресте.
Видимо, он считал себя Пилатом, но ему не давали покоя лавры Христа. Ему хотелось себя вознести, но так, чтобы при этом избежать распятия.
Разговор приобретал философский характер. Мы сидели в креслах и не спеша обменивались мнениями. Внезапно из-за стены донеслись глухие удары и крик…
— Какая слышимость, — поморщился мой собеседник. — Кстати, не узнаете голос? Мне кажется, вы должны его знать…
Я не понял, что он имеет в виду. Может быть, Юрека тоже схватили? Может быть, схватили весь отряд? А может быть, это Вацек дает свои показания?
— Что там происходит?
— В соседней комнате? То же, что у нас с вами здесь, только другим методом. Видите ли, меня всегда возмущал метод физического воздействия на человеческую душу. Я не хирург, я терапевт, даже гомеопат. Хотя лечу человечество от той же болезни.
Я задал ему вопрос: чем может кончиться для меня это лечение? Он сказал, что не стоит переоценивать возможности медицины, нередко исход болезни зависит от поведения самого больного. Хотя, сказал он, я не похож на больного, вид у меня вполне здоровый, точней, здравомыслящий.
— Так отпустите меня.
— Чтобы вы тут же попали в соседнюю комнату? Я бы, может, вас отпустил, но там вас так легко не отпустят.
Это наглядный пример того, как трудно такому человеку, как он, проявлять гуманность. Вот и я прошу, чтоб он меня отпустил, а куда меня отпускать? Туда, где никто не станет со мной церемониться? Он говорит мне честно, мне еще повезло: к нему попадают немногие, большинство попадает туда, за стенку. В этом тоже особенность его метода: пока он поговорит с одним человеком, в соседней комнате пропускают пять… Нет-нет, он меня не торопит, хотя, конечно, из-за нашей с ним медлительности несколько человек будут лишены возможности облегчить свою участь. Возможно, это будут мои друзья… Впрочем, сказал он, это естественная человеческая слабость. Когда нам самим хорошо, мы забываем о тех, кому в данный момент приходится плохо…
— Уже?
Это вырвалось так неожиданно, что он улыбнулся:
— Зачем вы меня спрашиваете? Я ведь вас ни о чем не спрашиваю, у нас ни к чему не обязывающий разговор.
Видимо, он знал больше, чем говорил. Не исключено, что его уже успел информировать Вацек. Тогда, значит, не Вацек там, за стеной. Мне стало страшно, когда я подумал, что, может быть, там Анна…
— А в этой комнате, за стеной… Кто там сейчас?
— Значит, вы все же не узнали по голосу? Там две комнаты: в одной женщина, в другой — мужчина. Видите ли, все мы, и мужчины, и женщины, всего только люди, слабые, избалованные существа. Мы привыкли, чтоб с нами обращались по-человечески. А когда с нами обращаются не по-человечески, мы забываем, что мы люди, и ведем себя, как обыкновенные животные. Лишь бы избавиться от боли.
И тут я понял, что хотя история и совершилась, но в ней не все еще определено. Отряд погибнет, от этого ему не уйти, но погибнуть он может по-разному. В материалах архива ничего не сказано о том, какой смертью погибли члены отряда.
Если б они попали сюда, в эту комнату, им была бы обеспечена легкая смерть…
Я попросил его помочь. Ведь он сам сказал, что говорит со мной, как человек с человеком. Я попросил его сделать так, чтоб мои товарищи попали к нему, а не туда, за стенку.
Я нарисовал ему карту продвижения отряда (нарисовав, я узнал в ней ту самую карту, которая впоследствии попала в архив). Я попросил, чтобы он ни в коем случае не дал захватить отряд этим палачам. Раз мои друзья все равно погибнут, — спастись они не могут, это известно мне из истории, — то пусть хоть будет легкой их смерть.
Он обещал мне. Но он меня обманул. Он и меня отправил туда, за стенку, в расчете, что там еще что-нибудь из меня вытянут. Понтии пилаты всегда умывают руки в крови…
И тогда я сделал заявление. Я сказал, что я — лицо неприкосновенное, поскольку принадлежу другим временам. Они не имеют права убить меня в 1941 году, потому что я только появлюсь на свет в 4092 году и должен жить в сорок втором веке.
Это не произвело того эффекта, который должно произвести появление человека из будущего. Меня обозвали симулянтом, выдающим себя за сумасшедшего в расчете на то, что с сумасшедшего меньший спрос. Но у них со всех одинаковый спрос. И тут же доказали мне это, после чего я долго не приходил в сознание.
Очнулся я в кресле у моего интеллигентного собеседника, он смотрел на меня сочувственно и качал головой:
— Теперь вы понимаете, как по-разному можно осуществлять одни и те же идеи? Успокойтесь и постарайтесь сосредоточиться. Ваш год рождения?
— 4092.
— А вас не смущает тот факт, что сейчас у нас 1941 год?
— Я угнал Машину Времени.
— Очень любопытно. Значит, вы прибыли к нам из сорок второго века. Удивительное совпадение. Вам не знакома такая фамилия: Шмит?
— Нет. А почему я должен знать этого человека?
— Не просто человека, а вашего современника. Он тоже утверждал, что прибыл из сорок второго века. Точнее — из 4119 года.
— Я тоже из этого года.
— Вот видите. Разница лишь в том, что вы угнали эту вашу Машину Времени, а он искал того, кто угнал Машину Времени. Уж не вас ли?
Я согласился, что, возможно, искали меня. И даже обрадовался, что обо мне не забыли.
— Очень стройная версия, не правда ли? — улыбнулся мой собеседник. — Но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Однако по порядку: в 1914 году, в самом начале нашей военной кампании, с фронта дезертировал рядовой Шмит. Он был задержан, предстал перед судом и был приговорен к расстрелу. Все нормально, все по законам военного времени. Но солдат, который должен был привести приговор в исполнение, не вернулся, исчез, и его десять лет считали дезертиром. Да, именно десять лет, потому что объявился он в 1924 году, когда война давным-давно была окончена, и, конечно, был задержан. В деле его не было полной ясности, предполагалось, что он работает на Россию. На суде он рассказал, что приговоренный к расстрелу Шмит предложил ему прокатиться в Машине Времени. Он сначала не поверил, но решил, что ничего плохого не произойдет, если он посмотрит на эту Машину. Тем более что она находилась где-то поблизости. А потом, когда он увидел Машину, ему захотелось уличить этого дезертира во лжи, и он сел в Машину. Что было дальше, он не помнит. Очнулся он якобы в 1419 году, приговоренный со своей Машиной исчез, и не было возможности осуществить меру наказания. Хотя тогда это делалось без задержки: незадолго до этого был сожжен на костре Ян Гус, вслед за ним был сожжен Иероним Пражский… Дальше подсудимый рассказывал то, что всем известно из истории, утверждая, однако, что был свидетелем этих событий. Десять лет он проскитался в чужом времени, после чего опять появился приговоренный Шмит — на этот раз уже из 4129 года — и помог ему добраться в 1924 год. И опять Шмит так быстро исчез, что не было никакой возможности привести приговор в исполнение.
Конечно, у суда не было и тени сомнения, что обвиняемый был завербован приговоренным и в течение десяти лет действовал в пользу Советской России. До полного признания его держали в тюрьме, а в дальнейшем след его затерялся.
— И вот теперь вы прибыли из сорок второго века. Добро пожаловать, мы давно вас ждем… — он вздохнул с облегчением, завершая затянувшийся разговор. — Отдыхайте пока. Скоро за вами приедут.
Скоро… Я не знаю, какое сегодня число: седьмое, восьмое или девятое. Возможно, сегодня — последнее для меня число. Человек с годами жизни 4092–1941 сегодня, возможно, окончит свой жизненный путь, который никто никогда не сможет измерить.
Я слишком много знал, Анна. Я тебе об этом не говорил, а если бы и сказал, ты бы все равно не поверила, но с самого начала, когда я лишь только пришел в отряд, я уже знал, что с ним будет. Я знал, что Вацек предаст отряд (правда, тогда еще не знал, что именно Вацек), знал, что последний день вашей жизни — девятое сентября. И никуда от этого не уйти, потому что для меня история уже совершилась, потому что я человек из других времен, — ты помнишь, я тебе говорил, но ты не поверила. Ты и теперь не поверишь, потому что ни о чем не узнаешь. Ты будешь считать не Вацека, а меня предателем. И если нам придется умирать вместе, ты не посмотришь в мою сторону, а если посмотришь, то плюнешь мне в лицо. И все вы, мои друзья, заклеймите меня последним проклятием, вы, кого я любил так, как не любил никого в моем сорок втором веке. Впрочем, уже не моем. Для меня этот век так же недостижим, как для вас, потому что мне в него уже не вернуться…
История останется недописанной. И никто не узнает о подвигах Юрека и о предательстве Вацека, мне-то известно, что имена их не сохранятся. Если б я мог как-то передать, сообщить каким-то образом эти сведения. Было бы легче умереть, знал бы, что жил не напрасно.
Профессор Посмыш, ваш аспирант ничего не сделает для науки. Вы всегда говорили, что в науке нет легких путей, — Машина Времени — это легкий путь, но кончается он для меня очень трудно.
Ночь, всего лишь одна короткая ночь среди веков и тысячелетий, но как долго она тянется… Может, время выбросило меня из себя — и я обречен жить вне времени, потому что никакое время меня не примет? Что может быть хуже этой бесприютности — во времени, а не в пространстве?.. Мне никогда не увидеть света, вокруг меня всегда будет ночь…
Нет. Я шестнадцать дней был в отряде и делал то, что делали все. Я убивал фашистов, я научился их убивать, чтобы избавить двадцатый век от средневековья. Значит, я не был чужим в этом веке, почему же он от меня откажется? Я имею право умереть в этом веке, как Стась и его друзья. Как мои друзья. Как ты, Анна.
Все, что я мог тебе сказать, теперь не имеет смысла, его и раньше не было, потому что все было заранее предрешено. Страшно выглядит история, если смотреть на нее не с конца, а с начала и знать, что все заранее предрешено. Краковский университет даст первый послевоенный звонок, он распахнет свою дверь, но будет напрасно ждать тебя, Анна. И все же он будет надеяться и каждый год, с первым звонком широко распахивать свою дверь, но ты никогда в нее не войдешь, потому что для тебя никогда не наступит послевоенное время. И дом, не построенный Збышеком, так и останется непостроенным домом, и, хотя вокруг будет много новых домов, этот так и останется непостроенным. И все автобусы во всех автопарках будут напрасно ждать, что к ним за руль сядет Юрек. И все издательства будут напрасно распечатывать конверты в надежде, что Стась прислал им свои стихи. Потому что, хотя многое в истории повторяется, в ней никогда не повторяется человек. Сколько б ни прошло веков, сколько б ни родилось новых людей, этот человек уже не повторится.
Прощай, Анна… Так случилось, что мы живем в разные времена и только умереть можем в одном времени. Прости меня, Анна, что я главного тебе не сказал, но что бы я тебе ни сказал, ты бы все равно не поверила. Будущие времена всегда несбыточны для прошлых времен, но и прошлые времена тоже бывают несбыточными…
Гремят замки. Меня выводят из подвала. Приехавший за мной эсэсовец приказывает поместить меня на заднее сиденье, а сам садится за руль. Руки и ноги у меня крепко связаны: необходимая меча предосторожности, потому что едем мы без охраны.
Машина трогается с места. Офицер за рулем долго молчит. Потом говорит словно в раздумье:
— В первую мировую я был рядовым. Но в нашем деле лучше быть офицером. — Он останавливает машину. — Давайте знакомиться: инспектор службы розыска Шмит.
Глава тринадцатая ЯН — 4119
Я помню это письмо слово в слово:
«Дорогая мамочка! Я по-прежнему жив-здоров, иду по Германии и приближаюсь к Берлину. Скоро уже кончим эту войну. Недавно встретил Марысю, помнишь, я тебе о ней писал? Связная нашей «Анны». Она мне рассказала, как погиб отряд, когда я встретился с ней после ранения. Одного из погибших я не знал, он пришел в отряд, когда я был ранен и проходил лечение на чердаке бабы Зоси. О нем ходили нехорошие слухи, но подробно я ничего не успел узнать. Марыся говорит, что слухи вроде бы подтвердились: одна женщина разговаривала с Анной накануне казни, но женщину эту Марыся не знает, знает лишь то, что слышала от других…»
Это письмо напечатано в послесловии к книге «Теория множеств», которую подарил мне профессор Посмыш с надписью: «Янек, это как раз то, чего вам не хватало!» Там говорится, что выдающийся математик двадцатого века Вацлав Козельский, создатель системы грантов, основополагающей в современной теории множеств, погиб, так и не дойдя до Берлина, и его математические работы были обнаружены лишь спустя двести лет. Письмо к матери было его последним письмом, и его оригинал хранится в центральном математическом архиве.
Вацлав Козельский! Это имя мне хорошо известно. А кому оно не известно? Точно так же, как имена Пифагора, Эвклида, Лобачевского… Все это мы проходили в школе, но я никогда не думал… Вацлав Козельский. Вацек… Особенный человек. Недаром Анна считала его особенным человеком.
И в то время, когда он, Вацек, прячась на чердаке бабы Зоси, совершал свое великое открытие в математике, я заменил его в отряде, я стал тем пятым, который выдал отряд.
Это я выдал отряд. Я думал, что его выдали до меня, что история уже совершилась, а она совершилась при моем участии. В этом была моя ошибка. В какое бы время мы ни жили, мы не должны думать, что история совершается без нас, — то, что происходит при нас, происходит при нашем участии. Притяжение времени, закон великого Панасюка.
«…И ДО ПОСЛЕДНЕГО СВОЕГО ЧАСА ОНА НЕ МОГЛА ПОВЕРИТЬ, ЧТО ИХ ПРЕДАЛ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ОНИ СЧИТАЛИ СВОИМ, А ГЛАВНОЕ — ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ОНА…»
Анна, мне страшно поверить… Я считал, что ты любишь Вацека, Вацлава Козельского, вспомни, как ты о нем говорила… Мог ли я подумать, мог ли хоть на минуту предположить…
Я не выдержал испытания времени. Не будущего времени, которое прощает легко, а прошлого, которое ничего не прощает. Люди жили и умирали до нас, и от нас зависит, чтобы их жизнь не была лишена смысла. Сами они уже ничего сделать не могут, им остается надеяться только на нас… Человек не должен быть ниже своей эпохи, тем более ниже прежних эпох. Иначе он предает историю и каждого жившего до него человека…
Я слышу голос Анны:
— Янек, ты ведь не хотел нас предать, ты только хотел облегчить наши мучения.
— Это не имеет значения. Значение имеет лишь результат.
— Нет, Янек, не только результат. Иначе о нашем отряде давно бы забыли, потому что мы не так много сделали. Сам подумай, что может значить наша горсточка, если важен лишь результат?
Нет, Анна, я не вижу себе оправдания. Что я могу? Еще раз угнать Машину Времени?
Да, конечно, я ее еще угоню, я к вам вернусь, и все опять повторится… Я вернусь в тот самый день, и ты поведешь меня в землянку и будешь поить меня чаем, и ты скажешь:
— Когда война кончится, я непременно стану учительницей.
И ты спросишь:
— Как вы думаете, когда кончится война?
И я отвечу тебе:
— Через восемнадцать дней.
Потому что для тебя это так и будет.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ВЕЧНОСТИ
Изобретатель Вечности умер в 1943 году, в маленьком курортном городке на берегу Средиземного моря. Незадолго перед тем в этом море пошел ко дну представитель оккупационного командования, пожелавший освежиться в оккупированных водах и оставшийся там дольше желаемого.
В это время в воде находились:
ПРОФЕССОР ЭНТОМОЛОГИИ, пятидесяти восьми лет, тридцать пять из которых были отданы не собственной жизни, а жизни различных насекомых; КОММЕРЧЕСКИЙ АГЕНТ небольшой торговой конторы, выглядевший старше своих тридцати двух лет; ПОЧТАЛЬОН, выглядевший моложе своих шестнадцати лет; СТУДЕНТКА МЕДИЦИНЫ двадцати лет с небольшим; ПАРИКМАХЕРША дамского зала, тридцати лет с небольшим; БАКАЛЕЙЩИЦА, владелица бакалейной лавки, некоторых лет с небольшим; а также СТАРУХА-МАНЕКЕНЩИЦА, возраст которой уже ни для кого не представлял интереса.
Все эти лица были обнаружены в воде после того, как от представителя оккупационных властей перестали поступать какие-либо известия. Коммерсант и Парикмахерша оживленно беседовали в воде (не заходя, впрочем, глубоко, чтобы быть на виду у собеседника), Старуха у самого берега принимала морские ванны, остальные плескались каждый сам по себе, поскольку в то время были еще незнакомы.
Все они были доставлены на берег и взяты в качестве заложников, с угрозой, что через месяц будут расстреляны, если не объявится настоящий преступник. Их поместили не в тюрьму, чтоб они не утратили вкуса к жизни, а, напротив, предоставили им комфортабельный особняк, снаружи зарешеченный и тщательно охраняемый, но внутри довольно уютный.
Это был своего рода эксперимент.
Первый день тянулся долго, и Профессор объяснил это причинами субъективными. Время, сказал он, в значительной степени явление психологическое, зависящее от процессов, которые происходят внутри нас. Радость убыстряет время, горе замедляет его, а ожидание смерти заставляет ползти совсем медленно, потому что жизнь сопротивляется смерти.
Старуха-манекенщица охотно поддержала разговор о смерти. Разговоры об общей участи отвлекали ее от мыслей о собственном неизбежном конце. В то время, когда Старуха-манекенщица была манекенщицей, а не старухой, мысли о бренности жизни не посещали ее, тогда она видела в жизни другие стороны. Но коловращение жизни повернуло ее к Старухе бренной стороной, и уже ничего не было видно, кроме бренности. Морские ванны должны были Старухе помочь, но они, напротив, погубили ее окончательно. Такое беспокойное время: кто-то кого-то топит, а больного человека вытаскивают из воды, прерывают курс лечения…
— Не нужно говорить о смерти, — сказала Бакалейщица. — Пока мы молоды… — она осеклась, поймав на себе критический взгляд Парикмахерши.
Профессор считал, что она права, что для того, чтобы жить, нужно сосредоточить себя на жизни. Есть насекомые, жизнь которых составляет всего несколько часов, но это отнюдь не приводит их в отчаянье. За свои несколько часов они проживают не меньше, чем крокодилы за триста лет.
— Неужели за триста? — у Старухи заблестели глаза, и ее собственный возраст показался ей младенческим.
— Ненавижу насекомых, — сказала Парикмахерша. — И крокодилов тоже, не понимаю, зачем им так долго жить.
Коммерсант предложил Студентке прогуляться по коридору, но Студентка уткнулась в конспект и не слышала его приглашения. Тогда Коммерсант послал Почтальона за газетами, — может быть, в доме сохранились какие-нибудь газеты, — а Старухе предложил выгладить ему брюки, — если, разумеется, в доме найдется утюг.
Старуха кивнула, думая о крокодилах. Неужели они так долго живут? Триста лет! А тут — какой-нибудь месяц. Что можно успеть за месяц? Только не пожить. Пожить не успеешь и за всю жизнь, не то что за какой-то там месяц. Насекомые — другое дело, у них потребности крошечные. И вообще неизвестно, зачем они живут. А крокодилы зачем живут? Непонятно зачем, правильно сказала Парикмахерша. Триста лет живут — и непонятно зачем.
— Все относительно, — сказал Коммерсант. Он был относительно небольшой коммерсант, и это заставило его исповедовать теорию относительности… Каждый город — маленькое государство, каждый дом — маленький город…
— Какой у нас миленький город, — сказала Парикмахерша, окидывая взглядом городские стены и потолок.
Коммерсант предложил ей прогуляться по коридору, но она отказалась. Она была дамской парикмахершей, и сердце ее замирало при виде мужчин, которые стриглись в соседнем зале. Их бороды и усы были для нее полной загадкой, и, придя с работы домой, она подолгу стояла перед зеркалом с бритвой в руке, воображая, что бреет клиента. Но в дамском зале, а тем более в ее одинокой комнатке, брить было некого, и рука ее повисала в воздухе, как птица на бреющем полете…
Почтальон принес газету. Он обнаружил в кладовке целую пачку старых газет, но принес только одну, чтобы обеспечить ежедневную доставку почты. Он распределил газеты по датам, и хоть все они были пятилетней давности, но каждая, по сравнению с более старой, сообщала новости посвежей, и это обеспечивало регулярный приток информации.
Коммерсант развернул газету и прочитал о сформировании правительства Даладье, три года назад ушедшего в отставку. Весть о сформировании правительства Даладье, в свое время не оправдавшего ничьих ожиданий, теперь была воспринята с радостью, поскольку обозначала уход в отставку оккупационных властей. Было, правда, опасение, что правительство Даладье уступит место правительству Поля Рейно, которое в самые трудные дни сбежит из Парижа, уступив страну Маршалу Петену, который уступит ее все тем же оккупационным властям. Круговорот истории, связанный с чтением старых газет. И хоть говорят, что новое — это хорошо забытое старое, но иногда старое возвращается так скоро, что о нем даже не успеваешь забыть.
— Все относительно, — сказал Коммерсант, углубляясь в газету.
Да, конечно, все относительно. В сущности, человек уже при своем рождении приговорен к смерти, разница лишь в том, когда будет исполнен приговор — через день, через месяц или через столетие. Эту мысль высказал Профессор, знаток биологических систем, имеющих разную продолжительность, но одинаковую завершенность.
Еще там, на пляже, Парикмахершу привлекла роскошная борода Профессора, и здесь ее продолжала смущать его борода. Пальцы ее сжимали отсутствующую бритву, и рука ее взлетала, как птица в свой бреющий полет.
— С точки зрения бабочки-поденки тридцать дней, которые нам отведены, это не такой уж малый срок, — сказал Профессор энтомологии.
— Для этой бабочки час — как год, — кивнул Коммерсант. — У нее время идет по повышенному курсу. Мы, люди, живем в условиях временно́го изобилия, поэтому мы не ценим времени. А если б у нас на счету был каждый день, мы пустили бы его по повышенному курсу.
— И получили б те же прибыли? — усомнилась Бакалейщица.
— Конечно. Произвожу элементарный подсчет: предположим, час идет по курсу месяца. Значит, сутки у нас составляют два года, а месяц шестьдесят лет.
— Это заманчиво, — улыбнулся Профессор и подмигнул Старухе-манекенщице. — Мы еще проживем шестьдесят лет.
— Не с моими болезнями, — не приняла его оптимизма Старуха.
Бакалейщица вздохнула:
— Мы — бабочки, которых посадили в общую коробку и позволили прожить в ней тридцать дней…
— Шестьдесят лет, — поправил ее Почтальон. — Привыкайте к новому летосчислению.
Все привыкали к новому летосчислению. Первые несколько месяцев прошли в устройстве на новом месте.
Профессору отвели отдельный кабинет, чтобы он мог заниматься научной работой. Кроме того, ему предстояло вести работу преподавательскую: читать Студентке курс лекций, проводить с ней семинарские занятия, а впоследствии принять у нее экзамен.
Старуха-манекенщица молодела у всех на глазах. Ведь молодость измеряется не тем, сколько прожито, а тем, сколько еще предстоит прожить. Теперь Старухе предстояло прожить столько же, сколько молодой Студентке и юному Почтальону, и если б не ее болезни, она бы чувствовала себя такой же молодой, как они.
Все стали ровесниками, и сорокалетняя (скажем так) Бакалейщица обратила внимание на тридцатилетнего Коммерсанта. Она сразу выделила его среди прочих своих ровесников — шестидесятилетнего Профессора и шестнадцатилетнего Почтальона. Этому способствовало и то, что, в своей семейно-бакалейной жизни отягощенная многочисленной семьей и толпами покупателей, она впервые оказалась в столь малолюдном окружении, что смогла разглядеть каждого отдельного человека.
Через два года после знакомства (сутки по старому летосчислению) Почтальон доставил Бакалейщице первое письмо, в котором ей было назначено первое свидание в коридоре. А еще через три месяца Коммерсант получил ответ. Расстояния были короткие, и почта работала вовсю, но письма шли очень долго — по новому летосчислению.
Почувствовав прилив молодых сил, Старуха-манекенщица принялась наводить в доме порядок, о котором в своем собственном доме уже не думала много лет. Теперь у нее было будущее — пусть не слишком большое, но не меньшее, чем у других, а главное — здесь ей было для кого стараться. Едва открыв глаза, она лихорадочно соображала: нужно прибрать у Профессора в кабинете, а еще до того подготовить рабочее место для Парикмахерши, а еще раньше разбудить Почтальона и собрать его в путь, чтобы он успел доставить утренние газеты.
Она будила Почтальона, наскоро кормила его и провожала до дверей из столовой в гостиную. Затем протирала зеркало Парикмахерши, ставила перед ним кресло и аккуратно раскладывала орудия парикмахерской деятельности: расчески, ножнички, щипчики, бигуди… Она сама удивлялась своей энергии. Она могла три месяца подряд тереть пол, чтоб довести его до полного блеска, провести неделю у какого-нибудь серванта, сообщая ему приличный и эстетический вид. У каждой двери она положила половичок и строго следила, чтоб ноги вытирались при переходе из комнаты в комнату и обратно. Домашняя работа не имеет начала и конца, и это в какой-то мере приобщает ее к вечности. Может быть, потому молодые ее любят меньше, чем старики, а старики обретают в ней спасительное ощущение, что всему этому никогда не будет конца… Старуха-манекенщица, казалось, демонстрирует эти чужие комнаты, как демонстрировала когда-то чужие одежды. Ну-ка поглядите, не согласитесь ли здесь пожить? Только в этих комнатах можно жить в нынешнем сезоне! Только в этих — и только в этом сезоне!.. Потому что жизнь бабочки — только один сезон.
Так проходили годы, и, как это обычно бывает с годами, они пролетали, как один день. В свободные от лекций часы Профессор писал монументальный труд: «Жизнь бабочек в условиях закрытых помещений».
В том большом мире, где время измерялось полновесными годами, была война, но здесь об этом никто не думал, потому что здесь люди жили в другом измерении. Они и прежде не мыслили слишком широко, и там, где их никто не ограничивал, ограничивали себя сами: жизнь в маленьком мире имела те преимущества, что избавляла человека от больших бурь. Профессор ограничивал себя энтомологией, Бакалейщица — бакалеей и семьей, Парикмахерша — дамским залом, за которым начинался неведомый ей мужской, полный тревог и опасностей, как всякий мир, которым правят мужчины.
— Посидим под плафоном, — предлагал Бакалейщице Коммерсант, и они усаживались под плафоном, который лил на них лунный свет.
Это сидение под искусственной луной возвращало Бакалейщицу в те далекие годы, когда и луна была другая, и Бакалейщица была другая, да и человек, сидящий с нею рядом, был совершенно другой. Тот человек, впоследствии Бакалейщик, впоследствии супруг и отец пятерых детей, тогда еще был никем, но именно тогда он был ей особенно дорог. Лунный свет… Возможно, во всем виноват лунный свет, делающий близким постороннего человека. Потом, когда он рассеется, станет ясно, что человек чужой, но это придется скрыть от него, от себя и от всех, потому что будут общие дети, общая семья и общая бакалея… А больше — ничего общего, а особенно того, что когда-то привиделось в лунном свете…
Едва зародившись, отношения между Бакалейщицей и Коммерсантом встретили горячую поддержку со стороны остального населения этого ограниченного мирка. Почтальон целиком посвятил себя их переписке, тратя на доставку корреспонденции не более одного дня. Студентка восстанавливала в памяти забытые стихи и, как листовки, разбрасывала их по комнате. А Старуха-манекенщица, глядя дальше других, тайком шила пеленки. Хотя, для того, чтоб понадобились пеленки, нужно было не шестьдесят, а чуть ли не шестьсот лет по новому летосчислению, но истинная любовь не боится подобных препятствий, и Старуха шила пеленки, веря в истинную любовь.
Между тем виновники всех этих предприятий сидели в центре внимания, совершенно его не замечая. Таков эгоизм любви: она ничего не замечает, когда сидит вот так, под плафоном.
— Взгляните туда, — говорила Бакалейщица, поднимая кверху глаза, а вместе с ними — мечты и надежды. И там, под сводами вечернего потолка, ее мечты встречались с его мечтами, а ночь уже подступала, окружая их плотной стеной, говоря точнее — четырьмя плотными стенами…
Так пролетело тридцать лет, и Старуха забеспокоилась, что не успеет дошить пеленок. Здесь, в этом замкнутом мире, годы летели особенно быстро, и она почувствовала, что опять начинает стареть. Давали о себе знать болезни, оставшиеся еще от той, прежней старости, и порой она месяцами не вставала с постели, а однажды провела в постели целый год.
Она вспоминала полновесные годы своей молодости… Хотя молодость подвижней, чем старость, но движется она медленней. А старость летит, как на крыльях, — пусть на старых, немощных крыльях, — но она так пролетает, что за ней не поспеть.
Особенно сейчас это чувствуешь. Только поселились, начали жить, — и уже тридцать лет прошло. И осталось всего тридцать лет. Бабочкино время.
Это было грустно, тем более, что Старуха всегда оставалась в душе манекенщицей, храня верность ушедшей юности и красоте. Это трудно хранить верность юности и красоте, которые сами не способны сохранить верность.
И вот в этот безнадежный момент, когда спасения, казалось, ждать было неоткуда, Почтальон принес Старухе письмо:
УЧИТЫВАЯ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ВЗДОРОЖАНИЕ ВРЕМЕНИ, ПРЕДЛАГАЕМ СЧИТАТЬ ЧАС НЕ МЕСЯЦЕМ, А ГОДОМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ЕЩЕ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ.
В письме не было ни подписи, ни обратного адреса, но категорический его тон убеждал. Особенно убеждало то, что в любом случае триста шестьдесят лет предпочтительней тридцати лет, или пятнадцати дней — по первоначальному летосчислению.
Старуха почувствовала прилив новой молодости. Триста шестьдесят лет это минимум четыре жизни, и она начала жить за четверых, как жила тогда, когда была не старухой, а манекенщицей. Правда, тогда она не знала, сколько у нее впереди, а теперь научилась считать оставшиеся годы, потому что молодость определяется не тем, сколько прожито, а тем, сколько предстоит прожить.
— Господи, какие мы еще молодые! — воскликнула Старуха, предавая гласности полученное письмо. — Нам еще жить и жить… Жить и жить…
И пока она это говорила, прошло три дня. Но что такое три дня, — по новейшему летосчислению!
У Бакалейщицы и Коммерсанта длиннее стали свидания, но зато длинней и разлуки.
— Опять нам не видеться несколько лет, — сокрушались они, расходясь по своим комнатам, а встречаясь, восклицали: — Все эти годы! Все эти долгие годы!
Что может быть длиннее годов разлуки? На Плутоне год составляет двести пятьдесят земных лет, но даже его год короче года разлуки. Даже такого, который пролетает всего лишь за один час.
Поэтому дольше всех живут те, кто живет в разлуке. Для них каждый день — как год, а каждый год — как полтора года на Плутоне. А что такое полтора года на Плутоне? Это триста семьдесят пять земных лет в условиях вечного холода и вечной темноты, на расстоянии шести миллиардов километров от Земли.
Вот что такое годы разлуки.
Ежедневные газеты Почтальона стали сначала ежегодными, а потом доставлялись раз в двадцать четыре года. Но и при такой периодичности газеты не успевали читать. До газет ли тут, когда год просидишь в кресле у Парикмахерши, чуть ли не год конспектируешь одну лекцию, а на уборку тратишь не меньше трех лет?
А Профессор сидел над своей монографией, и на обдумывание каждой фразы у него уходило два, а то и три месяца. Ничего удивительного: это был серьезный научный труд, на который не жаль потратить и целую жизнь, «Жизнь бабочек в условиях закрытых помещений».
Жил-был Психиатр. Он лечил людей отложных представлений (если исходить из того, что истина известна нормальному человечеству), в том числе и от мании величия, то есть чрезмерного преувеличения собственных достоинств. Допустим, зяблик возомнил бы себя орлом — это мания величия в ее классической форме. А вот если бы орел возомнил себя зябликом — это уже не мания величия, а скорее комплекс неполноценности у орла. А если зяблик возомнит себя воробьем или орел возомнит себя соколом — это уже не мания и не комплекс, а вообще неизвестно что. То есть оно неизвестно нам, а Психиатру оно было известно.
Однажды, подводя итог своей многолетней деятельности, Психиатр обратил внимание на любопытный факт: за последние десять лет никто из его больных не возомнил себя Наполеоном. Наполеон — стандартная форма величия, а поскольку для неполноценных умов понятнее и доступнее форма, то первое, что приходит в голову такому уму, — это возомнить себя Наполеоном. Не встречалось за последние десять лет Жанны д'Арк и Джордано Бруно, Ньютона и Шекспира. Максимальными вершинами, до которых поднималось маниакальное воображение душевнобольных, были их ближайшие начальники: директора, заведующие, управляющие делами. У лейтенанта была мания, что он капитан, у капитана — что он майор, у майора — что он подполковник. Такое снижение маниакального потолка было тоже своего рода патологией, снижением потенциальных возможностей личности в результате утраты веры в себя. Это губительно не только для самой личности, но и для общества в целом, поскольку любое общество состоит из отдельных личностей. И Психиатр решил поднять этот потолок, привить своим больным манию истинного величия.
Он рассказывал им о подвигах, совершенных до них на земле, о путях, приводивших людей к величию. Он говорил о неисчерпаемых возможностях человека, о том, что разница между большими, средними и маленькими людьми — лишь в различной степени использования этих возможностей. Маленькая крестьянская девушка спасла огромную страну, совершила подвиг, незабываемый для истории. Каждая девушка имеет такую возможность.
— Что касается бабочек, то они, конечно, лишены этих возможностей, — закончил Профессор свой рассказ, которым иллюстрировал лекцию, прочитанную студентке. — Потому что жизнь бабочки ограничена физиологией, бабочка не может выйти за пределы физиологии, а человек — может. Разорвать этот ограниченный круг, выйти за пределы физиологии — это, в сущности, и означает стать человеком. Человек становится тем выше, чем выше поднимается он над физиологией. Над бабочкиной физиологией. Над звериной физиологией. Над человеческой физиологией. Над физиологией всех, кто жил до него на земле.
Почта была доставлена с опозданием на целый год: Почтальон слушал лекцию Профессора. Прежде он не слушал его лекций: все они были о насекомых, то есть, в сущности, о мелочах, — но теперь, когда Профессор заговорил о людях, причем о выдающихся людях, Почтальон не смог пройти мимо и прослушал лекцию до конца.
Чем отличается человеческая жизнь от бабочкиной? Не только тем, что бабочкина короче. У человека есть возможности, которых у бабочки нет. Бабочка могла бы облететь вокруг земли, если б у нее была такая возможность. Но у нее нет такой возможности. А у человека есть.
Взять, к примеру, братьев Монгольфье, которые первыми поднялись на воздушном шаре. До них люди не умели летать. У них была возможность летать, но они не умели летать, потому что не использовали эту возможность. А братья Монгольфье использовали — и полетели. Они вышли за пределы своей физиологии — и полетели. И теперь никто не скажет, что люди не умеют летать…
Почтальон с детства мечтал стать летчиком, и, если бы не война, он бы непременно стал летчиком, потому что у него была такая возможность. Война временно лишила его такой возможности, но когда война кончится…
Хорошо мечтать о будущем, когда впереди почти четыреста лет. О том, как станешь летчиком, окончишь университет, научишься стричь бороды так, как их стригут в мужском зале… Или о том, как посвятишь все четыреста лет личной жизни, как завершишь работу над монографией и будешь нянчить младенцев… Боже, какие головокружительные открываются перед каждым из нас перспективы! Если б мир, который нас окружает, был построен заново и при этом строился из одних перспектив, он был бы удивительным миром. Только бы перспективы не сталкивались, не перечеркивали друг друга, как перечеркивает перспектива нянчить младенца перспективу завершения монографии.
Мир тесен, и любая перспектива, продолженная до бесконечности, непременно пересечет бесконечное число перспектив и, в свою очередь, будет пересечена ими. И это не просто закон геометрии, который нельзя затвердить со школьной скамьи, — это закон жизни, который нельзя заучить, потому что он всякий раз создается заново.
Мы живем на пересечении перспектив, и мир, в котором они пересекаются, — тесен. Да, мир тесен, особенно если его заключить в четыре стены… Но разве стены — преграда для перспектив? Окружите нас десятками стен, упрячьте в каменные мешки, — и оттуда, в бесконечность, к далеким звездным мирам помчатся наши освобожденные, раскрепощенные перспективы…
И прошло еще двести лет, и Старуха опять почувствовала, что стареет. В ней уже не было той легкости, какая была двести лет назад, и она годами не вставала с постели. Жизнь уходила из нее, как уходит публика из демонстрационного зала, когда все моды исчерпаны, все модели показаны и пора закрываться… Пройдет немного времени — и пора закрываться. Осталось каких-нибудь полторы сотни лет…
И тогда Почтальон принес ей письмо:
В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ РЕФОРМОЙ ВРЕМЕНИ, СЧИТАТЬ ОТНЫНЕ ГОДОМ НЕ ЧАС, А МИНУТУ. ВПЕРЕДИ У НАС 9600 ЛЕТ.
Почти десять тысяч лет… Практически это означает вечность. Никому из земных жителей не удавалось прожить столько лет. Библейский Мафусаил прожил 969 лет — смешно сказать, меньше тысячи! Да, Мафусаил был не жилец…
До сих пор Старуха прожила по разным летосчислениям около трехсот лет, а впереди у нее — почти десять тысяч… Старуха соскочила с постели и заняла очередь за Бакалейщицей, которой Парикмахерша делала укладку. Парикмахерша работала быстро, и не прошло и сорока лет, как она, покончив с Бакалейщицей, принялась за Старуху. Хотя — почему за Старуху? Разве можно назвать старухой женщину, которая прожила каких-нибудь триста лет? Крокодил живет триста лет, но умирает он стариком. А для нас в триста лет жизнь только начинается.
Часы тикали, отмеряя не часы и минуты, а годы и века. Полный круг часовой стрелки — почти тысяча лет. Еще круг — еще тысяча… И в одно прекрасное тысячелетие Почтальон обнаружил, что на него начинает давить потолок.
Дело было не в росте. Ростом Почтальон был ниже всех остальных, но на длинного Коммерсанта потолок не давил, а давил на малорослого Почтальона. Не потому ли, что он с детства мечтал стать летчиком? Или под влиянием лекции Профессора о потенциальных возможностях человека? Да, все дело было в потенциальных возможностях. Почтальону казалось, что потолок давит именно на эту его потенциальную часть и мешает ей воплотиться в действительность.
Почтальон спросил Профессора о Психиатре — удалось ли ему привить своим больным манию истинного величия и стали ли они нормальными великими людьми? Профессор ответил, что, к сожалению, пока еще величие не является нормой. Больше того: приобщаясь к величию, человек зачастую нарушает нормы — социальные, научные, эстетические или просто психические, если речь идет о чистой психиатрии. И наоборот: становясь абсолютно нормальным, человек зачастую утрачивает свое величие — не только патологическое, но даже истинное, которое должно бы являться нормой. История помнит юношу, который встречал на берегу корабли, радуясь их благополучному возвращению и глубоко страдая, когда с ними случалась беда. Это были не его корабли, и везли они чужие грузы, и никому не были нужны ни радости его, ни страдания, но он не уходил с берега, продолжая встречать корабли. Потом его вылечили, и он стал нормальным человеком. Его перестали волновать чужие беды и радости, он четко отличал свои беды и радости от чужих… От чего его излечили? От патологического или от истинного величия? Это случилось в древности, когда медицина еще не была настолько сильна, чтобы поставить правильный диагноз.
Вечность пролетала быстро: не успели оглянуться — и нет семи тысяч лет. И осталось всего три тысячи лет, пятьдесят лет по прежнему летосчислению. А по первоначальному — пятьдесят часов.
Время вокруг сжималось, тесней и тесней, и нельзя было распрямиться и шагу ступить в этом времени. Обычно его не видишь, не знаешь, сколько его впереди, и от этого легче дышится. А когда оно все на виду, и все меньше его и меньше, и уже так тесно, что только сидеть на корточках да ничком лежать на полу, тогда хочется и самому сжаться, стать бабочкой, чтоб еще хоть немного полетать, попорхать.
Но человек не может быть бабочкой, ему нужен настоящий простор, необозримый простор во времени и пространстве. И он умирает, когда у него не остается времени жить. Когда больше нет времени, чтобы жить, человек умирает.
Студентка перестала вести конспект: она больше не поспевала за Профессором. А Профессор спешил дочитать курс до конца: приближался экзамен.
— На каждого человека Земли приходится до тридцати миллионов насекомых, а по весу насекомые чуть ли не в десять раз превосходят все человечество. Человечество в подавляющем меньшинстве, поэтому так почетно принадлежать к человечеству…
Тикают часы, отмеряя минуты, дни и века. Минутная стрелка скачет не по минутам, а по годам, и весь ее путь — сплошной новогодний праздник. От нового года — к новому году, и нет никаких старых лет, все годы молоденькие, не старше минуты. Поэтому им так весело, они, как дошкольники, стали в круг, и по кругу этому скачет минутная стрелка. С Новым годом! С Новым годом! Только и успевай поздравлять, потому что больше ничего сказать не успеешь…
Тикают часы… Тикают часы… Почему они тикают так громко?
Оглушительные удары, от которых сотрясается дом. Как будто остатки времени колотятся в дверь, требуют, чтоб их выпустили отсюда… Время чувствует, что здесь, в этом доме, ему скоро придет конец, и оно рвется прочь, чтобы слиться со своей вечностью… Но ведь вечность здесь, она изобретена здесь. Десять тысяч лет, если считать годом минуту. Шестьсот тысяч лет, если считать годом секунду. Шестьдесят миллионов лет, если считать секунду столетием. И так далее, без конца. Именно — без конца, ведь без конца — это и есть вечность…
Почему же вечность боится, что ей наступит конец? Почему она колотится в дверь, требуя, чтоб ее выпустили из дома? Вечность, куда же ты? Дверь заперта, и за дверью стоит часовой. Он стоит на часах, на страже запертой вечности.
Тикают минуты, стучат часы, гремят столетия, и грохочет вечность.
И вдруг грохот смолкает. Внизу скрипнула дверь. И в наступившей тишине — тот же голос, который говорил: «Вам письмо. Вам газета», — теперь говорит:
— Это я прикончил вашего офицера.
Удаляющиеся шаги. И опять тишина. Присмиревшие часы тикают еле слышно.
Это были не его корабли, зачем же ему было ради них жертвовать жизнью? Лететь, как бабочка на огонь, не дождавшись дня… Разве не разумней дождаться дня, а не лететь на огонь среди ночи?
— Бедный мальчик, — сказала Бакалейщица, — не понимаю, как ему удалось утопить взрослого офицера.
— В таком возрасте все ищут подвигов, — спокойно объяснил Коммерсант.
Эти мужчины совсем как дети, подумала Парикмахерша. Утопить человека у них называется подвигом.
— Возраст такой, — сказал Коммерсант. К ним опять возвращалось забытое понятие возраста, воздвигая между ними возрастные барьеры.
— А ведь молчал, — затрясла головой Старуха. — Обо всем рассказывал, а об этом молчал…
— У меня такие дети, — сказала Бакалейщица. — Что-нибудь сделают — и молчат. Хоть ты дух из них вон — не скажут ни слова.
— Мог бы признаться раньше, — сказала Парикмахерша.
— Это не так просто, — возразила Студентка. — Нужно собраться с духом, ведь идешь на верную смерть. Он мог бы и вовсе не признаваться, его бы не заподозрили, но он поступил как мужественный человек. Он дважды поступил как мужественный человек: и когда признался, и когда утопил этого офицера.
— Ну, знаете, если это называть мужеством… — Парикмахерша не кончила фразы, заметив, как дрогнула профессорская борода.
— Утопил офицера! — воскликнул Профессор. — Кто вам сказал, что он утопил офицера?
Коммерсант отвернулся к окну:
— По-моему, он сам в этом признался.
— Он солгал. Я был все время возле него, он барахтался у самого берега, учился плавать.
— Он не умел плавать? — удивилась Парикмахерша. — Как же он мог кого-то утопить, если он сам не умел плавать?
— Теперь его убьют, — сказала Старуха. И заплакала.
— Его бы все равно убили, — резонно заметил Коммерсант. — Что же лучше: чтоб убили одного или семерых? Простая арифметика.
— Не такая простая, если приходится умирать самому, — сказал Профессор.
— Это субъективный взгляд, — сказал Коммерсант. — А в данном случае нужно рассуждать объективно.
Старуха спросила, почему же он. Коммерсант, в интересах объективности не взял вину на себя? Ведь и тогда была бы та же арифметика: один вместо семерых.
Коммерсант ответил с ледяным спокойствием:
— Почему именно я должен был рассуждать объективно? Здесь есть люди постарше… — при этом он посмотрел на Старуху, затем на Профессора и наконец остановил взгляд на Бакалейщице. Он и прежде любил остановить на ней взгляд, но теперь в этом было что-то новое и обидное.
Старуха вышла на лестницу, словно для того чтобы посмотреть вслед Почтальону, как не раз смотрела вслед уходившим от нее сыновьям.
— Дверь открыта, — сказала она, возвращаясь.
— Они сняли охрану, — сказал Профессор, выглянув в окно.
— Значит, мы свободны? — уточнила Парикмахерша.
Все были свободны, но все оставались на местах. Корабли благополучно причалили к берегу, но никто не спешил сойти на берег.
— Зачем он взял вину на себя? — недоумевала Парикмахерша. — Чтобы спасти нас? Но ведь мы были так мало знакомы…
— Это вы не были с ним знакомы, а я любила его, как сына. Как внука. Всякий раз, когда мне было плохо, он приносил мне письмо. — Старуха беспомощно огляделась по сторонам, ища письмо, потому что сейчас ей было особенно плохо.
— Мы тоже были ему не чужие, — сказала Бакалейщица. — Я относилась к нему с большой симпатией.
Студентка усмехнулась:
— И этого достаточно, чтобы отдать за вас жизнь?
— Почему за меня? Скорее за вас, вы ближе ему по возрасту.
Парикмахерше Почтальон тоже нравился, хотя, к сожалению, они были мало знакомы. Газет она не читала, а писем ей никто не писал. И она никогда не могла подумать, что он, для кого она не была даже адресатом…
— Почты сегодня не будет, — сказал Коммерсант. И увидел в руках у Старухи письмо.
Все-таки она получила письмо. С опозданием, но получила. Как она была благодарна этому мальчику, что в такую минуту он не оставил ее без письма! Она подошла к серванту, чтобы поправить салфетку, и под салфеткой обнаружила письмо. И это было — как возвращенная молодость.
— Что же нам пишут? — осведомился Коммерсант. — На конверте нет адреса, это значит, что письмо адресовано всем. Дайте-ка я прочитаю.
— Нет, — сказала Старуха, — только не вы.
Она читала медленно, как читала когда-то в начальной школе, потому что что-то вдруг случилось у нее со зрением и с голосом тоже:
ЖИВИТЕ ДОЛГО. КОГДА ПОЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ВПЕРЕДИ МАЛО ЛЕТ, СЧИТАЙТЕ ГОДОМ ДЕНЬ ИЛИ ЧАС, И ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ У ВАС БУДЕТ ВЕЧНОСТЬ. ТАК, ВЕРОЯТНО, ПОСТУПАЮТ БАБОЧКИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ ОДИН ДЕНЬ. КАЖДЫЙ, КТО ЖИВЕТ, ПРОЖИВАЕТ ВЕЧНОСТЬ, ТОЛЬКО ИЗМЕРЯЕТСЯ ОНА ПО-РАЗНОМУ. МОЯ ВЕЧНОСТЬ ПОДХОДИТ К КОНЦУ, А ВАША ПУСТЬ ПОДОЛЬШЕ НЕ КОНЧАЕТСЯ. ИЗВИНИТЕ, ЧТО НЕ СМОГ ДОСТАВИТЬ ВАМ ЭТО ПИСЬМО, КАК ПОЛОЖЕНО ПОЧТАЛЬОНУ.
— Тот же почерк, — сказала Старуха-манекенщица. — Значит, это он писал письма, которые продлевали мне жизнь.
— Продлевали нам жизнь, — сказала Студентка.
— И теперь он снова продлил нам жизнь, — сказала Бакалейщица.
Коммерсант посмотрел на часы, которые опять показывали часы, а не годы и столетия.
— Изобретатель вечности, — сказал Коммерсант.
Теперь стало ясно всем, что это он, Почтальон, изобрел для них вечность. Профессор считал это поистине великим изобретением. В ответ на замечание Коммерсанта, что вечность существует объективно и независимо от нас, Профессор возразил, что иногда ее стоит заново изобрести, чтобы сделать доступной человеку.
— Жизнью пользуйся живущий, — сказал Коммерсант.
— Это правда, — вздохнула Бакалейщица. Это была нелегкая для нее правда. Ей было искренне жаль этого мальчика, этого Почтальона, но ведь они, в сущности, только начали жить. Они с Коммерсантом только начали жить.
Она придвинулась к Коммерсанту, но он отодвинулся от нее: разница лет встала между ними, как стена, и было не преодолеть возрастного барьера. И не только возрастного. У него была своя семья, у нее своя. У нее своя бакалея, у него своя коммерция. Все, что их еще недавно сближало, выпорхнуло, как бабочка, в открытую дверь, за которой простирались их разные жизненные дороги… У каждого своя дорога. Своя ли? Жизнь, которая ждала их за дверью, стала для них чужой за этот месяц — за эти века и тысячелетия. Все, что они здесь обрели, все, что дала им вечность, — пусть небольшая, пусть бабочкина, но все-таки вечность, — теперь было безвозвратно утрачено. Профессор не допишет своей монографии о жизни бабочек в условиях закрытых помещений, Старуха вернется к своей старости, а Парикмахерша — в дамский зал, отделенный, отгороженный от мужского. Стихи, переписанные Студенткой, будут напрасно взывать о любви, и стопка пеленок не дождется своего хозяина… Бакалейщица это поняла и отодвинулась от Коммерсанта.
Все стали друг другу чужими, словно они не прожили вечность под одной крышей, и близок им был только тот, ушедший, создавший и разрушивший их маленький бабочкин мир. Он был им близок, хотя он-то ушел особенно далеко — так далеко, что не хватит и вечности, чтобы вернуться.
Студентка встала.
— Хватит с меня вашей энтомологии! Он там сейчас умирает, чтобы мы могли еще немножко поползать, попорхать!
Она отбросила свой аккуратный конспект — почему-то не в сторону Профессора, имевшего прямое отношение к энтомологии, а в сторону Коммерсанта, который никакого отношения к этой науке не имел.
— Счастливо оставаться. Приятной вам вечности. Я не хочу, чтоб за меня умирали другие.
— Как будто только за вас, — сказала Парикмахерша, а Коммерсант выразил эту мысль более четко и доказательно:
— Человек умирает за коллектив. Это нормально. Ненормально, когда коллектив гибнет ради одного человека.
Старуха чуть не бросилась на него с кулаками:
— Он считает это нормальным! За него умирает человек, а он считает это нормальным!
— Не за меня, — терпеливо объяснил Коммерсант. — Он умирает за коллектив, а каждый из нас — всего лишь частичка коллектива.
— Я не частичка, — сказала Студентка, — я человек. И я имею право умереть сама за себя, как положено человеку.
Парикмахерша возразила:
— Что значит — за себя? Ведь не вы же…
— Именно я. Мне стыдно, что я не сказала об этом раньше, но это я, я утопила этого боша.
Она была похожа на Старуху в молодости: такая же непреклонность, такая же решимость идти до конца, не думая о последствиях. А Старуха давно уже привыкла думать о последствиях, и в данном случае она их ясно себе представляла. И когда Студентка поднялась, чтоб уйти, Старухе показалось, что это уходит ее молодость, уходит, чтобы больше не возвращаться.
— Этого не может быть, — сказала Парикмахерша. — Я видела, как вы плескались в воде — осторожно, чтобы не замочить прическу.
— И тем не менее я это сделала.
Профессор покачал головой:
— Не думаю, чтоб вы были способны убить человека.
— Вы меня плохо знаете.
Профессор улыбнулся. Как он может плохо ее знать, если она прослушала у него курс лекций? Манера слушать у каждого своя, поэтому, если хочешь человека узнать, посади его слушать лекцию.
Заговорил Коммерсант, пытаясь внести здравый смысл в эту эмоциональную неразбериху.
— Вероятно, у вас был повод его утопить? Он, наверно, вас оскорбил, унизил ваше достоинство?
Он, как преподаватель на экзамене, подсказывал ей ответы. Несмотря на ее враждебность, он все-таки хотел ей помочь.
Студентка подтвердила, что офицер унизил ее достоинство. Нет, лично ей он ничего не сделал, он даже ее не заметил. И все же он унизил ее достоинство.
Здравый смысл исчез, опять началась какая-то путаница. Как можно унизить достоинство девушки, не видя ее и не подозревая о ее существовании? Профессор сказал, что сам факт оккупации унижает достоинство каждого человека. Но, конечно, не до такой степени…
— Так вы из политических соображений? — догадалась Парикмахерша. Она была далека от этих соображений, да и вообще от оккупационных властей: все они стриглись не у нее, а в соседнем зале.
— Как бы ни было, я одна буду за это отвечать. — Студентка шагнула к выходу, но Старуха оказалась там раньше.
— Это не вы утопили офицера.
— Откуда вам это известно?
Старуха улыбнулась своей возвращенной молодости:
— Мне известно. Потому что его утопила я.
— Вы? Пожалуйста, не смешите! С вашим ревматизмом, радикулитом, с вашими спазмами… — Бакалейщица перечисляла болезни, на которые Старуха жаловалась не раз, и каждая была весомым аргументом и наповал сражала болящую, как сражают только болезни.
— Ну и что, что радикулит? — отбивалась Старуха. — Стоит мне собраться с силами…
— В вашем возрасте это не так просто.
Он был молод, Коммерсант, и не выбирал выражений, говоря о чужом возрасте. Но Старуха больше не стеснялась своего возраста: ее возраст давал ей право выйти первой, удержать эту молодость, отдав вместо нее свою старость. Отдать старость взамен молодости — это значит снова стать молодой…
Студентка обняла Старуху за плечи:
— Ну пожалуйста… Они вам все равно не поверят. А мне поверят, я скажу, что он меня оскорбил, унизил мое достоинство…
Как будто Старуха этого не может сказать. Как будто у нее нет достоинства, которое можно унизить.
— Женщины! — воскликнул Профессор. — Почему вы берете на себя неженские дела? Разве там не было мужчины? Разве некому было утопить офицера?
— Кого вы имеете в виду? — сухо спросил Коммерсант.
Возникло молчание, которое сначала было неловким и беспомощным, но потом, крепчая, становилось все более выразительным, уверенным и могучим. И, нарушая это торжественное молчание, Профессор сказал:
— Я имею в виду себя.
В минуту опасности медляк-вещатель становится на голову и начинает вещать. Другие жуки разлетаются, а он медлит, потому что ему нужно оповестить… всех, кому грозит опасность, оповестить…
— Что, не похоже? Кабинетный ученый, книжный червь, и вдруг такая партизанщина. А между тем… — Профессор говорил быстро, не так, как на лекциях, как будто боялся, что сейчас прозвенит звонок. — Я его сразу заметил. Когда он разделся и вошел в воду, я последовал за ним… В молодости я был неплохим пловцом, да и сейчас… В общем, я решил его утопить…
— Из политических соображений? — поинтересовалась Парикмахерша.
— Из политических. Из государственных. Из каких хотите. Решил использовать неиспользованные возможности, как говорил приятель мой Психиатр, прививая своим пациентам истинное величие. Я хоть и занимаюсь насекомыми, но в человеке этого не люблю… — Он говорил вдохновенно, и в глазах его появился отблеск того огня, на который он в данную минуту летел, как ночная бабочка. Но бабочка не видит, куда летит, а он видел.
Он говорил о каком-то партизанском отряде, с которым был связан и от имени которого действовал, он признался, что получил задание уничтожить представителя оккупационных властей, и не только этого представителя оккупационных властей, но и всех остальных представителей оккупационных властей…
— Неужели всех? — ахнула Парикмахерша.
— Ну, не всех, возможно. Я ведь тоже там не один… у нас целый отряд, если хотите, целая армия…
Он спешил. Он боялся, что, если он остановится, вся эта история лопнет, как мыльный пузырь, и он торопливо надувал этот пузырь, расцвечивая его всеми красками спектра.
— Настоящий мужчина! — сказала Бакалейщица, тем самым отделив Профессора от Коммерсанта, давая тому понять, что из них, двоих мужчин, именно он, Коммерсант, — не настоящий.
Это его задело. Даже внимание женщины, безразличной нам, нам, мужчинам, вовсе не безразлично. И хотя Коммерсант не собирался пожинать лавры, так щедро посеянные Профессором, но и созерцать их на чужой голове тоже было не очень приятно.
— Чепуха! — сказал Коммерсант. — Я один знаю, как было дело. Все это случилось на моих глазах.
Да, все произошло на его глазах, потому что он был ближе всех к этому офицеру. Офицера просто схватила судорога. Коммерсант видел, как исказилось от боли его лицо, как он открыл рот, чтобы крикнуть о помощи, но не успел крикнуть: его захлестнула волна. После этого он еще несколько раз появлялся на поверхности, тараща на Коммерсанта умоляющие глаза, но Коммерсант предпочел остаться в стороне, чтобы не быть замешанным в гибели офицера.
— Почему же вы им не сказали, что он сам утонул?
Профессор — наивный человек. Если бы Коммерсант это сказал, ему бы пришлось отвечать за то, что он не спас оккупационного офицера. Офицер, таким образом, стал жертвой подозрительности и недоверия оккупантов к населению оккупированной ими страны.
— Вы просто негодяй, — сказала Бакалейщица. — Боже, и я любила этого негодяя!
Так всегда бывает, когда здравый смысл приносится в жертву эмоциям. Поступок Коммерсанта был безукоризнен с точки зрения логики, а если нас нельзя упрекнуть с точки зрения логики, то все остальные упреки беспочвенны и нелепы.
— Я пойду, — сказала Старуха. — Вы не бойтесь, я вас не выдам, я скажу, что сама видела, как он тонул.
Может, еще удастся спасти Почтальона, этого мальчика… Ее старость никому не нужна, а его юность многим еще пригодится.
— Я пойду с вами, — сказал Профессор. — Два свидетеля лучше, чем один.
— И я пойду, — сказала Студентка.
Парикмахерша колебалась. Она бы тоже пошла, но ведь она ничего не видела… Ее могут привлечь за лжесвидетельство…
— Все равно вам никто не поверит, — сказал Коммерсант. — Воинская доблесть требует, чтоб офицер погибал от руки врага, а не тонул, как мокрая курица. Я это тоже взвесил, поэтому я молчал.
— Какой же вы негодяй!
Коммерсант оставил без ответа замечание Бакалейщицы.
— Давайте рассуждать логично: мальчишка хочет умереть как герой, а вы хотите, чтоб он умер просто как лживый мальчишка. Живым его не выпустят хотя бы за то, что он обманул оккупационные власти. Зачем же отнимать у него единственный подвиг, пусть даже он его не совершил? Будьте снисходительны к мальчику, дайте ему умереть героем!
Еще недавно они жили в этом доме, надежно запертые, отгороженные от всех проблем, от необходимости принимать решения. И потолок над их головой был хоть и ниже, но надежнее неба, и весь их маленький мир был хоть и меньше, чем тот, большой, но гораздо надежней и благоустроенней. Теснота пространства и времени — это еще не обида. Пусть вокруг необъятность вселенной, безграничность времени, но есть у нас своя точка, своя малая величина, которая помогает нам видеть себя большими. Во вселенной это трудно — для этого нужна теснота: теснота Земли, теснота города и квартиры. Мы все великие, разница лишь в степени тесноты: один велик в пределах Земли, другой — в пределах своей квартиры. И у каждого своя вечность — большая или маленькая…
Они стояли на пороге своей маленькой вечности и смотрели в ту огромную вечность, которую нельзя ни подчинить, ни присвоить, которая, как свободная стихия, любит отважных пловцов, уходящих в ее глубину, не цепляясь за часы и минуты. Мы привыкли к часам, и минутам, и к месяцам, и к годам, но мы должны их покидать, потому что каждый из нас — пловец в океане Вечности. И мы не просто пловцы, брошенные как попало в пучину, мы сами выбираем свой путь, и из наших коротких часов и лет созидается Вечность…
В эту Вечность ушел Почтальон, изобретатель Вечности, и теперь стало ясно, что изобрел он эту, большую вечность, а не ту, бабочкину. Хоть она и до него существовала, но он ее изобрел наново, потому что Большую Вечность нужно снова и снова изобретать, чтоб она не превратилась в пустую, бессмысленную стихию. Совсем нетрудно превратить Вечность в бессмысленную стихию: для этого нужно только цепляться за собственные года, за собственные часы и минуты…
Профессор шагнул навстречу распахнутой Вечности. Коммерсант остановился, пропуская женщин вперед: все-таки он был воспитанным человеком.
РАССКАЗЫ
РАЗОБЛАЧЕНИЕ АНАПЕСТА
Н. Я. Э., признанный специалист по забытым, ненайденным и ненаписанным рукописям Пушкина, случайно заглянул в журнал, раскрытый соседом по трамваю, и прочитал там рассказ непушкиноведа Ю. М. Д. «Как хорошо, что ты пришел…». Пришел, как выяснилось, не Пушкин, но это только раззадорило Н. Я. Э., и он заглянул в журнал пристальнее, ища в нем следы любимого поэта. Следы, как это обычно бывало, тут же и отыскались. О Пушкине было сказано и даже приведено неизвестное стихотворение, написанное великим поэтом в ранние годы, когда он еще не знал цены своим произведениям и разбрасывался ими так, что на розыски их требовались столетия.
Домашний анализ убедил Н. Я. Э., что стихи принадлежали не Пушкину. Размер был не тот: анапест. Можно было предположить, что стихотворение принадлежит А. К. Толстому, однако в литературе указывалось не раз, что А. К. Толстой отдавал предпочтение амфибрахию. «Князь Курбский от царского гнева бежал…» (Полн. собр. соч., С.-Петербург, 1907, т. I, с. 239). Или «Средь шумного бала случайно…» (там же, с. 374). Но, с другой стороны, у того же А. К. Толстого: «У приказных ворот собирался народ…» (там же, с. 247), — явный анапест! Но тогда почему не вспомнить пушкинское: «А в ненастные дни собирались они…» (Собр. соч., Москва, 1959, т. 2, с. 578)? Н. Я. Э. с легкостью вспоминал пушкинские страницы, и это лишний раз его убеждало в том, что анапест не был характерен для нашего гениального поэта. А для кого он был характерен? «Ерофей-генерал побеждал и карал Пугачева и Разина Стеньку…» Это Л. Н. Трефолев («Библиотека поэта», Ленинград, 1949, с. 97). Возможно, строки, приписанные непушкиноведом Ю. М. Д. раннему Пушкину, принадлежат Трефолеву? Может быть, раннему Трефолеву, забытому, ненайденному или ненаписанному Трефолеву, но все же не Пушкину, а Трефолеву. Или, в крайнем случае, А. К. Толстому.
Это был первый повод усомниться в научной достоверности прочитанного рассказа. Вторым поводом был ненаучный метод исследования. Автор пишет, что стихотворение он обнаружил при помощи некоего аппарата, позволившего ему видеть прошлое и даже читать в этом прошлом рукописи, которые до нашего времени не дошли. Если б автор был немного знаком с предметом, он знал бы, что читать даже те рукописи, которые дошли, представляет известную трудность, так как нужно сначала установить их местонахождение. И наконец третьим, самым весомым поводом для сомнений было то, что в подзаголовке рассказа Ю.М. Д. стояло антинаучное слово: «Фантастика». Если автор сам считает свои изыскания фантастикой, то почему мы должны им верить? Быть может (хотя и не хочется в это верить), он сам написал эти стихи и фальсификаторски приписывает их Пушкину…
Вскоре Н. Я. Э. сидел в квартире непушкиноведа и имел с ним полунаучиый (со стороны гостя), полуфантастический (со стороны хозяина) разговор.
— Фантастика фантастикой, научная фантастика — научной фантастикой, но это еще не повод, чтобы подрывать основы науки.
— Но я действительно видел, как он писал эти стихи.
— Кто… писал?
— Пушкин, — сказал хозяин с легкостью, с какой употребляют это имя непушкиноведы. — Юный Пушкин, мальчик четырнадцати лет.
Впервые при Н. Я. Э. назвали мальчиком великого поэта.
— Вы видели… как Александр Сергеевич… Надеюсь, это было во сне?
— Нет, не во сне. Вот на этом аппарате — Ю. М. Д. указал на предмет, отдаленно напоминавший кухонный комбайн, лучший помощник домашней хозяйки.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал гость. При этом вид у него был немного испуганный.
— А вы не хотите сами посмотреть?
Н. Я. Э. не хотел. Но он себя заставил. Потому что путь к истине устлан не только розами, но и шипами.
Дальше все происходило как во сне. У кухонного комбайна вдруг открылся экран, и на нем замелькали человеческие фигуры.
— Вон, видите, человек к нам спиной? Это Фет. него в руках сборник Тютчева. А вон, видите, к нам спиной? Это Аполлон Григорьев.
— А почему они все спиной?
Хозяин объяснил это исторической обстановкой. То есть они действительно так стояли, и теперь уже поздно что-то менять.
— Летний сад. На скамеечке гимназист читает «Отечественные записки»… — комментировал немое изображение непушкиновед.
В верхнем правом углу мелькали цифры:…1867… 1859… 1843…
— Черная речка, — объявил владелец аппарата, — сейчас здесь появятся Пушкин и Дантес.
Это был совершенно не научный метод исследования, но оторваться было невозможно.
— Дантес, — прошептал Ю. М. Д.
Н. Я. Э. хорошо знал Дантеса. Он знал всех друзей и врагов Пушкина лучше, чем собственных друзей и врагов. Дантеса он узнал бы не только в лицо, но даже по почерку. Да, он узнал бы Дантеса. Но это был не Дантес.
Это скорее был… как же его фамилия? Да ну же, он часто бывает в Доме литераторов… Н. Я. Э. не раз встречался с ним на заседаниях секции критики, но вспомнить его фамилию он не мог, потому что был специалистом по девятнадцатому, а не по двадцатому веку. И вот этот критик, выдававший себя за Дантеса, поднял пистолет, похожий на шариковый карандаш «Привет из Одессы», и стал наводить его на стоящего перед ним… Пушкиновед поспешил перевести взгляд на стоявшего перед Лжедантесом Пушкина. Да, конечно, это был не Пушкин. Это был знакомый поэт, которого Н. Я. Э. не раз встречал в Доме литераторов, но фамилии которого не мог вспомнить, потому что был специалистом по девятнадцатому, а не по двадцатому веку. И все же его встревожила судьба забытого поэта, и, впервые почувствовав в себе силу предотвратить историческую катастрофу, Н. Я. Э. рванул ручку аппарата так, что десятки лет промелькнули за одно мгновение.
— Осторожней с исторической эпохой, — недовольно проворчал владелец аппарата. — Резкие скачки, особенно назад, связаны с серьезными последствиями.
— У вас здесь все перемешалось, — в свою очередь заметил специалист по девятнадцатому веку. — Не поймешь, где, кто и когда…
— Историческое напластование, — пояснил непушкиновед. — Пласты времени накладываются один на другой, настоящее давит на прошлое, придавая ему свой собственный облик.
— Вы хотите меня уверить, что я видел Пушкина?
— Да, вы видели Пушкина, хотя, может быть, его не узнали, — твердо сказал Ю. М. Д., выключая свой аппарат. — Мы многое видим, но не узнаем, потому что на окружающую реальность напластовывается наш субъективный мир, и мы многое видим таким, каким сами желаем видеть…
Разговор приобретал все более ненаучный характер, и Н. Я. Э. знал, что в таких разговорах он не силен. Вся его закаленная в научных спорах аргументация поникла перед этим кухонным комбайном, который мог состряпать любой исторический факт, вернее, факт, выдаваемый за исторический. Фантастика! Да, именно фантастика, ухватился Н. Я. Э. за это компрометирующее любую научную концепцию слово и сказал, чтобы побольней уязвить собеседника:
— Пушкин никогда не писал фантастики.
Это было метко сказано. Уже торжествовавший было победу, Ю. М. Д. сразу сник, и даже дилетанту от пушкиноведения было бы ясно с первого взгляда: нет, он не Пушкин.
— В следующий раз пишите ямбом, — нанес пушкиновед прощальный удар. И повернулся спиной к кухонному аппарату.
ФАНТАСТИКА
Предисловие редактора
В этом разделе автор берет на себя смелость выступить в роли редактора и, надеясь избежать читательского суда, представляет на суд читателей трех начинающих фантастов. Нет никакого сомнения, что Н. Ютон, Альф Ипсилон и Сель Ави заинтересуют любителей печатного слова, как они до сих пор интересовали любителей слова непечатного, поскольку их произведения впервые попадают в печать.
Что характерно для этих писателей?
Н. Ютон твердо верит, что наука способна на все, но это нисколько не пугает его, а, наоборот, наполняет его бодростью и энтузиазмом. Научно-технический прогресс не вызывает у него ни тревоги, как у Альфа Ипсилона, ни холодного скептицизма, как у Селя Ави. Н. Ютон смотрит на мир широко открытыми глазами младенца, твердо верящего в то, что его устами глаголет истина. Несмотря на молодость автора (ему нет еще и сорока лет), его перу принадлежат объемистые романы, которые, впрочем, печатаются здесь в сокращении. Так, роман «Время» в своем расширенном варианте является своеобразной хроникой нескольких поколений. Родоначальник семейства, некий Стевиц, был настолько беден, что не имел даже собственных часов и вынужден был спрашивать время у первого встречного. Потомки его разбогатели и уже никого ни о чем не спрашивали, никого вообще не замечали вокруг. И время жестоко отомстило им за себя, время вообще мстит за себя, когда о нем долго не спрашивают.
Альф Ипсилон тоже романист (печатается в сокращении), романы его посвящены вечным и безграничным проблемам времени и пространства, но его произведения пронизывает тревога за них, а также за живущего в них (в пространстве и времени) человека. В романе «Такси» автор с присущей ему остротой и вместе с тем широтой размышляет о прошлом и будущем, а также об отношении настоящего к тому и другому. Особенно памятна его фраза (выпавшая в процессе редактирования): «Настоящее из прошлого строит будущее и само превращается в прошлое, чтобы было из чего строить будущее в будущем настоящем». Стоит обратить внимание, как легко удалось начинающему автору вместить в одну фразу прошлое, настоящее и будущее. Публикуемый вариант романа является результатом кропотливой редакторской работы по устранению всего вторичного и необязательного, благодаря чему роман легко и быстро читается, в чем с удовлетворением убедится читатель.
Что можно сказать о третьем авторе?
Сель Ави, самый старший из начинающих фантастов (хотя, если верить ему, ему нет еще и пятидесяти) уже ничем не вдохновляется, как вдохновляется Н. Ютон, и ни о чем не тревожится, как тревожится Альф Ипсилон. Сель Ави холоден. Ироничен. Немногословен. Он пишет не романы, а короткие рассказы, почти не требующие сокращения. Сель Ави не верит, что прогресс науки — это в широком смысле прогресс, он не станет летать на ушах и питает полное равнодушие к сахару (как это можно заметить в рассказе «Цирк»). Его не соблазняет карьера Брюна (смотри одноименный рассказ), хотя, как истинный писатель, он знает цену молчанию. И все же иногда его равнодушие — и к сахару, и ко всему остальному — вдруг всколыхнется судорожной тревогой: Мария осталась на Земле (смотри рассказ «Мария»). И тогда он срывается с места и летит к этой Земле, где люди любят, борются и страдают, где они умирают — пусть бессмысленно, это неважно, что смерть лишена смысла, важно, чтоб его не была лишена жизнь.
В рассказе «Органавты», к сожалению, еще не завершенном редактированием, неорганическая материя взывает к материи органической: «Органавты! — так она называет ее. — Органавты! Наша планета— самая безжизненная из всех планет! Оставляйте жизнь только на нашей планете!» Эта ирония Селя Ави может быть понята как тоска по настоящей, органической жизни.
Что я еще могу сказать как редактор?
Все эпитеты — заменены.
Все метафоры — заменены.
Во всех возможных случаях изменены имена героев.
Прямая речь заменена авторской.
Авторская — прямой.
Остается надеяться, что публикуемым произведениям предстоит долгая жизнь, в которой будет доредактировано то, что недоредактировано в первом издании.
Н. ЮТОН
Время
— Вы не скажете, который час? — спросил Стевиц.
Камень что-то буркнул в ответ.
Уже давно был преодолен барьер, отделявший неорганическую материю от органической, когда они обвиняли друг друга в отсутствии жизни. Каждый видит только свою жизнь, а чужой жизни не хочет замечать.
— Простите, я не расслышал, — вежливо переспросил Стевиц.
— Одну минутку! — камень снова ушел в себя. Он так глубоко уходил в себя, что на возвращение оттуда требовались тысячелетия.
Стевиц знал, что такое его минутка, а потому не стал ждать. В этом-то и состояла главная трудность общения органического и неорганического миров: органический не хотел ждать, а неорганический не привык торопиться.
Правнук Стевица родился, женился и прожил долгую, счастливую жизнь. И правнук правнука родился, женился и прожил долгую, счастливую жизнь[1].
А камень все еще продолжал размышлять, чтобы сказать Стевицу точное время.
Похищение Европы
Каждый век имеет главное преступление, которое называют Преступлением Века. Преступлением одного из древних веков было похищение Европы Юпитером, преступлением же нового века стало похищение у Юпитера Европы.
Европа за Европу. Когда-то Юпитер (бог) похитил Европу (красивую женщину), а теперь у Юпитера (планеты) похитили Европу (один из спутников). Европейский скандал во вселенском масштабе.
— Не отвертелся Юпитер от возмездия! — потирал руки доктор Пшют. — Вертелся, вертелся, а — не отвертелся!
Этот доктор был уважаемый человек, почтенный член многих академий, но по призванию жулик, то есть сугубо юридическое лицо. Это он похитил Европу у Юпитера, не один, конечно, а с помощью банды физиков, находящихся, кстати, на государственной службе. Антигравитант, лишивший наиболее весомых людей их весомости, тоже был делом их рук, и вот теперь они создали выпрямитель орбит, позволяющий перемещать планеты в пространстве.
Пока у Земли был один спутник, он оказывал на нее благотворное действие, но когда появился второй, началась полнейшая неразбериха. Дело не ограничилось стихийными бедствиями: от доктора Пшюта ушла жена, разуверившись в том, кого прежде считала одним-единственным. В банде его тоже не было прежнего единства, она распадалась у доктора на глазах. И тогда, спасал банду и семью, он решил сбыть украденную Европу. Не вернуть Юпитеру, а отправить куда-нибудь подальше, чтобы избавить Землю от ее легкомысленного и пагубного влияния.
Земная орбита Европы распрямилась и сомкнулась вокруг Плутона. Впервые Европа была похищена по всей справедливости: взята у того, у кого избыток спутников, и дана тому, у кого их вовсе ни одного. Правда, необщительный Плутон не нуждался в спутниках. От навязанной справедливости тоже иногда страдают[2].
Доктор Пшют был избран почетным членом еще одной академии и сосредоточил свои уголовные способности на служении науке. Банда его не распалась, а сплотилась еще тесней, но теперь использовалась исключительно в мирных целях. А жена доктора Пшюта, увидев, что Луна на небе одна, затосковала и вернулась к своему мужу.
Преступление Века кончилось Благодеянием Века, и этому можно было только радоваться. Потому что бывали случаи, когда Благодеяние Века кончалось Преступлением Века. Вспомните таблетки от глупости. Полезное, крайне нужное изобретение, а кто их принимал? Кому их предписывали принимать? Таблетки есть, а глупости меньше не стало.
Робот Майкл
Робот Майкл мечтал со временем выйти в люди, поэтому он ежедневно посещал зоопарк, где его интересовала только клетка с обезьянами. Он знал, что эти животные со временем стали людьми, непонятно ему было одно: как им удалось выйти из клетки.
Робот Майкл включил механизм удивления. Думать он умел хорошо, но когда нужно было что-то почувствовать, приходилось включать разные механизмы. Пожалуй, это было несовершенство, но если б Майкл был совершенством, выходить бы ему было не в кого.
Неужели для того чтобы выйти в люди, нужно непременно начинать с обезьян? Да и зачем происходить человеку от зверя? Как ни происходи, все равно останется что-то звериное…
Обезьяна состроила гримасу, и робот Майкл включил механизм презрения, поскольку механизм восхищения у него не работал. В силу каких-то внешних помех механизм восхищения у него отказывался действовать, а механизм презрения работал хорошо, на него не влияли помехи.
«Строители! — саркастически подумал робот Майкл. — Каждый строит из себя… Человека строит… Ничего, посмотрим, как вы будете выходить из клетки!»
Если б один разум выводил в люди — о, тогда робот Майкл был бы первым человеком на земле![3] Но тут нужны еще чувства, все эти механизмы, которые то и дело портятся от внешних помех…
Робот Майкл вздохнул и включил механизм презрения, поскольку механизм сожаления у него не работал.
Контакты
«Наши органы чувств — это пять каналов, по которым внешний мир ведет свою трансляцию. И нам никогда не узнать, что передается по десятому или по сотому каналу».
Рэди захлопнул книжку, в которой вычитал эту безотрадную мысль, и, глядя на пустынную планету, постарался напрячь все органы чувств — и те, которые у него были, и те, которых у него не было. Это ему не удалось.
И все же он решил наладить связь со здешней цивилизацией. Это ничего, что ее не видно, — просто она не передается по каналу зрения. А не слышно ее потому, что она не передается по каналу слуха. Возможно, на этой планете бесчисленное множество цивилизаций, но они не могут общаться между собой, потому что каждая живет в своем диапазоне. Они существуют рядом, но между ними космический разрыв. Да, для того чтоб наладить контакт, недостаточно жить рядом. А когда нет контактов, кажется, что и жизни нет…
Кипящая жизнью планета притворялась безжизненной, но Рэди ей не верил. Теперь он понял: жизнь во вселенной на каждом шагу, и, обладая всего лишь пятыо каналами, следует это учитывать. Жизнь во вселенной на каждом шагу, поэтому нужно бережно шагать по вселенной[4].
Акварель для скрипки с оркестром
Общеизвестно, что краски издают звук, а звук расцвечен всеми красками спектра. И стало это известно из газет, в которых был напечатан отчет о процессе Грейли.
Установив прямую связь между звуком и цветом, Грейли стал переводить на полотно симфонии и сонаты великих композиторов и записывать ноты картин великих живописцев. Он прославился как живописец и композитор, будучи заурядным мошенником, который перевозил свою контрабанду из оптики в акустику и обратно. На следствии выяснилось, что его первый концерт для скрипки с оркестром был ничем иным, как «Моной Лизой» художника Леонардо, а его второй концерт для фортепиано с оркестром (преступник до того обнаглел, что уже не мог обходиться без оркестра) оказался «Девочкой на шаре» художника Пикассо, и все его многочисленные акварели оказались произведениями Баха, Моцарта и Чайковского.
Процесс Грейли стал вершиной его изобразительно-музыкальной деятельности, поскольку ни одна деятельность не вызывает такого интереса, как деятельность, преступившая закон. Ни один выставочный и концертный зал не видел такого скопления народа, как зал судебного заседания, вынесшего преступнику суровый, но справедливый приговор, на который не решится самая объективная критика.
Премии, которые Грейли получил за выдающиеся заслуги в области музыки, живописи, оптики и акустики, целиком ушли на уплату штрафа, к которому его приговорил суд. В газетах о том и о другом было сказано коротко: «Преступник получил по заслугам»[5].
Карьера Брюна
Коллега Брюн внезапно замолчал. Он замолчал не в каком-то определенном разговоре, он вообще замолчал, и это было тем удивительней, что прежде коллега Брюн не молчал даже тогда, когда все взывали к его молчанию. И никто не знал, что он изобрел, Великий Умолчатель.
Умолчатель был прост и не требовал никаких дополнительных источников питания, он работал на энергии, предназначенной для произнесения слов. Вместо того чтоб расходоваться на разговор, эта энергия направлялась на умолчание[6].
Вскоре коллега Брюн стал доцентом Брюном. Потом профессором Брюном. Он молча поднимался по научной лестнице, оставив далеко внизу всех говорящих.
И пусть коллега Грейли говорит, что молчание бесцветно, что только звуки могут выглядеть красочно. Пусть говорит, он так и останется коллегой Грейли. Не доцентом, не профессором, а просто коллегой…
— Слышишь, коллега Грейли? Вспомнишь мои слова!
Собственно, не слова, потому что вся энергия, идущая на слова, у профессора Брюна привычно перерабатывалась в молчание.
Альф Ипсилон
Люди без земли
На границе мертвого пространства из глубин памяти всплыли их имена, и Дробь-Два впервые обнаружил, что сидящий с ним рядом Дробь-Семь — женщина. В мертвом пространстве не было ни женщин, ни мужчин, там были равнозначные части единого целого, объединенные единой целью — поиском объекта, имеющего сложное цифровое наименование, которое, однако, легко удерживалось в памяти, потому что именно для этого была предназначена их память. Но теперь, когда кончилось мертвое пространство, из глубин памяти всплыло давным-давно забытое имя: Земля.
Земля была перед ними. Разноцветная, разнозвучная, 0на неслась в космосе, как вызов его мраку и немоте, и утверждала то, что в безграничном мертвом пространстве носит сложное цифровое наименование, а здесь называется кратко и убедительно: Жизнь.
Вспомнились забытые имена, и Дробь-Два сказал:
— Это Земля, Ола…
— Земля, Лэй…
Сколько прошло поколений? Счетные машины давно потеряли счет, но память не умирает, сколько бы ни прошло поколений. Обычно невидная, неслышная, пульсирующая где-то в глубине, она вдруг прорастает в далеких временах, связывая его части в единое целое.
Там, в позабытом, но бережно хранимом памятью прошлом, была их собственная Земля, их живой островок в безграничном мертвом пространстве…
— Ты помнишь, Ола?
— Помню, Лэй…
Потом это все рухнуло, кануло, исчезло… Хотя материя не исчезает, но ведь жизнь — это не только материя. Потом начинаешь понимать, что главное в жизни — не то, что не исчезает, а то, что исчезает. Вот это, исчезающее, трудней всего сохранить.
Дробь-Один, Дробь-Два, Дробь-Три и так далее, люди без Земли, без того, что можно называть живыми именами, они скитаются с тех пор по вселенной в поисках Земли. Но Земля — такая редкость. Это когда на ней живешь, она кажется чем-то естественным, незыблемым, данным навеки. А когда останешься без Земли, один на один со вселенной, тут-то и начинаешь понимать, что Земля — это не правило, это исключение, неожиданная фантазия мертвых пространств…
— Наконец-то, Лэй. Наконец мы прибыли. Я так устала… Прежде я никогда не чувствовала усталости, а теперь мне кажется, что больше бы я не смогла…
— Это Земля. На тебя действует Земля.
Прежде они вообще ничего не чувствовали, только мыслили по заданной схеме. Теперь с ними что-то произошло.
— Ола…
— Что, Лэй?
— Ничего… Просто я смотрю на твои волосы…
— Ты смотришь так, будто никогда их не видел… Давай выберем, где мы будем жить на Земле. Вот это зеленое — это лес? Ты хотел бы жить в лесу? Мне кажется, на Земле все люди должны жить в лесу. Среди зеленых деревьев, зеленых трав…
— А у тебя зеленые глаза.
— При чем здесь глаза?.. Хотя, ты знаешь, мне приятно, что ты не забыл о моих глазах, когда мы говорили о деревьях и травах…
Из центрального отсека прозвучала команда:
— Приготовиться к выходу в зону невидимости.
— Зачем это, Лэй? — Впервые Ола взяла под сомнение команду.
— Чтобы нас не сразу обнаружили. Нужно подготовить людей Земли к встрече с нами.
— Надо им сказать, что у нас нет Земли… Как ты думаешь, они нас поймут? Ведь у них есть Земля, а вдруг они не поймут тех, кто Земли не имеет?
Он заговорил о другом.
— Я сейчас представил, как ты стоишь на Земле. По-моему, Земля от этого выиграет. Она станет еще красивей.
И тут опять включился центральный отсек:
— Внимание! Контакт с Землей невозможен.
— Как невозможен? Ул, почему невозможен? — Лэй впервые назвал командира не по обычной форме — Дробь-Один, а забытым именем — Ул.
— Спокойно, Лэй. На тебя действует Земля, но постарайся все же не терять хладнокровия. — Ул сделал паузу. Хладнокровие и ему давалось нелегко. — Несовместимость цивилизаций. Инструкция запрещает контакт.
— И куда же мы теперь? — спросила Ола. — Мы уже везде побывали и нигде не нашли Земли. Неужели опять возвращаться в космос?
— Нет, — сказал Ул, — мы останемся здесь. На Земле сейчас самая опасная ступень разума, все погибшие цивилизации погибли именно на этой ступени. Разум уже обладает силой, способной разрушить, но сдерживающей силы ему не хватает.
— Чем же мы им поможем?
— Быть может, наше присутствие удержит их от безумного шага. На какое-то время, а там они поднимутся на следующую ступень, на которой разум уже не представляет опасности.
Центральный отсек отключился.
— Лэй, значит, мы никогда не ступим на Землю?
Никогда, Ола. Но мы будем здесь, рядом, будем видеть как живут другие, и радоваться, что они живут.
— Другие… Ты думаешь, этому можно радоваться?[7]
Бесси
Переход в газообразное состояние Дрейк перенес довольно легко, и оно показалось ему ничуть не хуже твердого и жидкого состояния. Каждая его молекула обрела простор и свободно воспарила, не скованная другими молекулами, и от этого всему Дрейку стало непривычно легко и даже чуть-чуть кружилась голова, но где именно находится голова, установить было невозможно.
Тот, кому случалось переходить в газообразное состояние, знает это волнующее чувство вездесущести, которое поднимает тебя над миром и несет легкой дымкой над тревогами бренной земли — в одну бесконечную даль или в другую бесконечную даль, — весь мир для тебя бесконечная даль, потому что ничто в нем тебя больше не задевает…
Правда и в этом есть своя оборотная сторона: Дрейку вдруг показалось, что он с кем-то смешивается, и он всполошился, опасаясь реакции замещения, которая заменит его неизвестно кем.
— Кто вы такой? — Дрейк попытался отодвинуться от незнакомого газа. — Кто вам позволил соединяться со мной?
— Мне позволила любовь… Дрейк, это же я, твоя Бесси!
Дрейк стал припоминать. Вроде была какая-то Бесси, они встречались в твердом состоянии. Родители ее были против этих встреч, но она сказала, что всюду пойдет за ним. И пошла. Из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное… Она всюду пошла за ним, хотя ее родители были против.
— Дрейк, теперь нас ничто не сможет разделить! Настоящая любовь возможна лишь в газообразном состоянии!
Любовь любовью, но не следует терять голову (кстати, где она, голова?). Нужно постараться сохранить свое «я», хотя это и трудно в газообразном состоянии.
— Бесси, ты же знаешь, как это происходит в газообразном состоянии… Постарайся держаться в рамках…
— Зачем?
— Черт побери, чтобы окончательно не смешаться! Послушай, любовь, конечно, дело хорошее, но чтобы я мог тебя любить, мне необходимо знать в точности, где ты, а где я. Отделить каждого из нас от всего остального.
— Зачем?
У него даже сердце заболело, хотя он и не чувствовал, откуда именно идет эта боль. А может, сердце заболело не у него? Может, оно заболело у Бесси? Теперь это невозможно было определить.
— Я не буду тебе мешать, ьмешиваться в твою жизнь, смешиваться с тобой, раз ты этого не хочешь…
Бесси плакала, переходя в жидкое состояние, и Дрейк видел, что ей приносят облегчение слезы… Или, может, ее слезы приносили облегчение ему?
Дрейк чувствовал, что скоро он снова будет один. Бесси уходила от него в жидкое состояние, чтобы уйти еще дальше, в твердое состояние… Бесси уходила к родителям, навсегда отделяя себя от Дрейка…
Такси
Водитель таксомотора времени требовал плату в оба конца, ссылаясь на то, что из прошлого в будущее не сможет взять пассажиров.
Там очень много пассажиров, — уверяла его Клэр. — Я каждую субботу езжу к прапрапра… — разговор затягивался, и Клэр поспешила договорить: — …бабушке.
— Платите за оба конца, — сказал невозмутимый водитель.
— И что у вас за порядки? Из будущего в прошлое — за оба конца, из прошлого в будущее — за оба конца…
Старый водитель покачал головой:
— Ничего не поделаешь, надо платить. И за прошлое надо платить, и за будущее…
Пенелопа
ОДИССЕЙ стремился к ПЕНЕЛОПЕ — Орбитальный Дистанционный Искусственный Спутник Ежедневной Информации держал курс туда, где в сверкающем оперении облаков то появлялась, то исчезала ПЕНЕЛОПА — Пока Еще Неопознанный Летающий Объект Постоянной Аккумуляции.
ПЕНЕЛОПУ окружали ЖЕНИХИ — Жесткокрепленые Еще Неопознанные Источники Характерных Импульсов, — и ОДИССЕЙ понимал, что вступить в контакт с ПЕНЕЛОПОЙ будет не так просто.
Была ВЕСНА — Время Естественной Световой Неистощимой Активности. В небе светило СОЛНЦЕ Самостоятельная Оптимально Лучащаяся Незатухающая центральная Единица, а внизу лежала ЗЕМЛЯ — Зона Единственно Мыслимых Локальных Явлений.
ОДИССЕЙ летел к ПЕНЕЛОПЕ сквозь плотное кольцо ЖЕНИХОВ и гадал: опознают они друг друга не опознают? Так обидно жить рядом и навеки остаться неопознанными… А тут еще эти жесткокрепленые женихи.
ОДИССЕЙ замедлил ХОД — Хронометрированное Орбитальное Движение — чтобы послать на ЗЕМЛЮ очередную информацию: «Объект вижу. Пока не опознаю». С ЗЕМЛИ тут же поступил ответ: «Продолжайте опознавать. Следуйте прежним курсом».
ЗЕМЛЯ замолчала. Сегодня она уже не выйдет на связь. ОДИССЕЙ продолжал следовать прежним курсом.
И вдруг его волноулавливатели зафиксировали незнакомые позывные.
— ОДИССЕЙ, ты веришь в любовь?
Электрословарь ОДИССЕЯ заработал с лихорадочной скоростью, пытаясь отыскать позабытое слово.
— ЛЮБОВЬ?
— Да, любовь…
Ага вот оно. Локальное, Юридически Безответственное Одностороннее Влечение… И в это он должен верить? Он, источник информации — не локальной, не безответственной и юридически совершенно неуязвимой!
— Эй на ПЕНЕЛОПЕ! Как меня слышите? Иду на опознавание. Без всякой, подчеркиваю: без всякой ЛЮБВИ!
— Прощай, ОДИССЕЙ! Ты меня никогда не опознаешь!
ПЕНЕЛОПА удалялась неопознанной в сопровождении своих ЖЕНИХОВ. Жесткокрепленых. Но источающих характерные импульсы. Так вот что это за импульсы!
ЛЮБОВЬ… Ну при чем здесь ЛЮБОВЬ?
— Эй, на ПЕНЕЛОПЕ! При чем здесь ЛЮБОВЬ?
Ответа не было. Навеки замолчали на ПЕНЕЛОПЕ[8].
СЕЛЬ АВИ
Встреча с космосом
— Вы мне не верите? Но я действительно только что оттуда. — Скайл протянул нам герметически закрытую стеклянную баночку. — Вот, взгляните: я наполнил ее космической пустотой.
Мы взглянули и ахнули: в баночке действительно было пусто.
Нищий
Автоматический нищий не отходил от окна.
— Подайте бедному, несчастному! — металлически канючил он, жалобно мигая желтыми и красными лампочками.
— Проходи, проходи! — прикрикнула на него миссис Мроуз.
— Помилосердствуйте!
— Вот я на тебя автособаку спущу!
Автонищий исчез, испугавшись автособаки. Миссис Мроуз слышала, как он канючил под окнами у соседей.
Развели нищих…
Именно развели. В век всеобщего благосостояния, когда никто не нуждался ни в чьей помощи, специально были изобретены автонищие, чтобы сохранить в людях милосердие и доброту. Людям не хватает доброты, миссис Мроуз чувствовала, как ей не хватает доброты…
Миссис Мроуз вышла во двор и погладила автособаку.
Спрос и предложение
Очередь протянулась на несколько кварталов: в магазине продавались таблетки красоты. За соседними прилавками скучали продавцы: им никак не удавалось сбыть лежалый товар: таблетки доброты, честности, благородства…
«Как это несправедливо! — подумал Черри (таблетки справедливости тоже не пользовались спросом). — И когда мы научимся видеть настоящие ценности, заботиться не о внешности, а о сути?»
Черри грустно покачал головой и стал в конец длинной очереди.
Новоселье
Когда Джон Рей въехал в новую квартиру, в ней уже кипела жизнь. Каждая стена жила своей жизнью, и на одной стене любили, на другой ссорились, на третьей уходили из семьи — то ли в другую семью, то ли в другую галактику[9].
Среди всех этих жизней жизнь самого Джона Рея казалась такой мелкой и несущественной, что он не решался как-то ее проявить. Он тихонько сидел, чтобы не спугнуть окружающей жизни.
Зазвонил телефон. Джон Рей хотел взять трубку, но ее уже взял какой-то тип с левой стены.
— Да, — сказал он, — я дома.
Оказывается, это он был дома!
Где-то Рей слыхал о тех временах, когда еще не было телевизоров. Вместо них были книги — листочки такие, сшитые пачечками. Смотришь на листочек и, хотя там тебе ничего не показывают, ты сам себе все представляешь. В воображении, как тогда говорили. А не нравится— закрыл книгу, засунул в шкаф. Чтоб от текущей жизни не отвлекала.
Рей потянулся к рюмке, но его опередила девица с правой стены. Воображаемая жизнь, хотя воображение как таковое уже устарело.
Где-то Рей слыхал о тех временах, когда еще стен не было. Все жили в лесу, на лоне природы. Под каким-нибудь деревом или даже на дереве. И из всех достижений цивилизации были только палки о двух концах, один конец которых показывает в сторону леса, а другой — в сторону цивилизации.
Эффект отсутствия
Семья встречалась только за обеденным столом, а все остальное время проводила в разных созвездиях. Сын отправлялся в созвездие Стрельца, дочь в созвездие Тельца, а мать в созвездие отца, чтобы проследить, чем он там занимается. За их совместную жизнь отец сменил немало созвездий: когда-то его тянуло к Деве, потом Кассиопея, оттеснив Деву, взяла над ним власть. А под конец, охладев и к той и к другой, отец пристрастился к Чаше…
Нет, они не летали в эти созвездия. Космический век кончился, себя не оправдав. Надоело жить со скоростью света, метаться между галактиками, тем более что изобретение «эффекта присутствия» позволяло побывать в любой точке космоса, не покидая родную Лямбду. Нажатие кнопки — и ты на планете Блямбде, еще нажатие — и ты на планете Глямбде.
Сын рассказывал о битве в созвездии Стрельца, в которой он одержал убедительную победу, используя «эффект присутствия» там, где его противник присутствовал в самом буквальном смысле.
Дочь пасла коров. Там, в своем созвездии, она пасла коров, бегала босиком по траве и дышала настоящим, а не искусственным воздухом.
— А мы посидели… — заговорил отец. — Хорошо посидели…
Ничего этого не было. Просто каждый уходил в свою комнату, ложился на электронный диван и, нажав, кнопку, начинал жить — не своей, а той, другой жизнью. Во вселенной хватало жизни, успеть бы только каждой пожить!
Между тем родная планета Лямбда, стоя на вершине прогресса, постепенно сползала вниз: «эффект присутствия» в различных пространствах и временах был по существу эффектом отсутствия на планете Лямбде.
Направленный Блямбдой и Глямбдой радиощуп зафиксировал на Лямбде полное отсутствие жизни…
Цирк
Большой африканский слон летал под куполом цирка, а Пирли посреди арены раскланивался. Понадобилось двадцать два года упорной, изнуряющей обоих работы, чтобы заставить слона летать на ушах.
Конечно, Пирли применял телепатию, но не так просто вложить в слоновью голову человеческую мысль. Да и кому охота, чтобы в его голову вкладывали чужие мысли? Естественно, слон сопротивлялся. Уши у него были большие, но недостаточно тренированные, чтобы поднять с земли многотонное тело, к тому же слон был ленив: он просто не хотел работать ушами.
Пирли показывал ему, как это делается. Собственными ушами он двигать не мог, приходилось приставлять кисти рук и махать ими, делая вид, что поднимаешься в воздух (для этого Пирли использовал лестницу-стремянку). Слон отворачивался. Ему было противно это зрелище, и он упорно не хотел «подниматься на крыло» (термин, заимствованный Пирли из орнитологии).
Да, хлеб дрессировщика — не сахар, а сахара, кcтати, пришлось затратить порядочно, прежде чем был достигнут результат. Если бы самому Пирли скормили столько сахара, он бы, наверно, давно летал и на ушах, и на чем угодно…
Слон распростер уши и оставил их в неподвижности: он парил. Он парил под самым куполом, и Пирли не разрешал ему спускаться ниже, чтобы зрители не увидели, как дрожит его хобот и круглятся от страха глаза. Работа слона тоже была не сахар, поэтому сахар он получал отдельно, в виде компенсации.
— На посадку! — скомандовал Пирли.
Слон продолжал парить. Пришлось повторить ему команду несколько раз да еще ударить в большой барабан, прежде чем он, наклонив уши под нужным углом, пошел на снижение.
Цирк грохотал, Пирли кланялся, но слон не слышал аплодисментов.
Научившись летать на ушах, он разучился слышать…
Мария
Два солнца — огромное красное и маленькое голубое — садились за горизонт планеты Марии, а на фоне их сидели два кузнечика, точнее, два неземных существа, напоминавших земных кузнечиков, и наслаждались закатом.
Они не знали, что сидят на планете Марии, это знал только Ловел Стерн, потому что именно он назвал Марией планету, еще никем до него не названную.
Мария осталась на Земле. Почему-то им стало тесно на Земле, и Мария осталась, а он улетел — и прилетел на планету, которую назвал Марией.
Два неземных кузнечика имели довольно независимый вид, вероятно, потому, что каждый сидел на фоне своего солнца. Они смотрели в разные стороны и сохраняли между собой дистанцию, наподобие двух солнц.
А Мария осталась на Земле. Она тоже держалась независимо, но ей это было трудней, потому что у Земли только одно Солнце.
Кузнечик голубого солнца потер лапку о лапку, положил голову на одну из них и задумался. А кузнечик красного солнца закинул ногу за ногу, подчеркивая, что ничьи мысли, кроме своих, его не интересуют.
Наступила ночь, но и она не могла их соединить, потому что на небе взошли две луны, желтая и оранжевая. И эти две луны были как два шара, готовых лопнуть от собственной независимости…
А Мария осталась на Земле и ничего не знала о планете Марии. И не знала она, что можно вот так просидеть всю жизнь, подперев голову кулачком и закинув ногу за ногу, — потому что независимость — это совсем не любовь, настоящая любовь — это зависимость. Иметь одну Землю на двоих, одно Солнце на двоих, только одно, все только одно на двоих…
Ловел Стерн покидал планету Марию. Он покидал эту Марию ради той Марии, земной, как еще недавно покинул ту ради этой, двусолнечной и двулунной…
Два неземных кузнечика не заметили, как он улетел: каждый из них смотрел в свою отдельную, персональную сторону…
Внеземная цивилизация
На Альфе Пегаса богатый животный мир, но разумом там обладает только верблюжья колючка. А верблюдов там нет, они там не водятся. Вероятно, это и является причиной такого бурного развития верблюжьей колючки.
Живут они там семействами, каждый куст — большая семья, причем не родственников, а единомышленников. Это их больше сближает. Все они объединены стремлением познать истину.
Вокруг громоздятся пески, среди которых не так-то легко найти истину, но это никого не смущает. И никто не помышляет о том, чтобы сменить эти пески на более благодатную почву.
Длинный Стебель, вероятно глава одной из семей, сказал Свену:
— Истина тем хороша, что она не лежит на поверхности. Это первый признак, который отличает ее от лжи.
Он был прав, и все семейство его закивало. Только один Зеленый Стебелек смущенно сказал:
— Мне кажется, я уже нашел истину.
— Замолчи! — одернул его Длинный Стебель. — Гость может подумать, что ты глуп. Разуму свойственно искать истину, а находит ее только глупость[10].
— Но я все-таки нашел — упорствовал Зеленый Стебелек.
— Это он о Зеленой Веточке, — объяснил Свену Длинный Стебель. — Вон, видите, на соседнем кусте маленькая Зеленая Веточка? Приятная веточка, ничего не скажешь, но принимать ее за истину может лишь такой же зеленый Стебелек.
— Что же делать? — смутился Стебелек. — Когда я смотрю на нее, мне больше не хочется ничего искать.
— Пока не хочется, — мудро кивнул Длинный Стебель. — Но пройдут годы, и ты будешь думать что истина — это яркое солнце над головой, а еще пройдут годы, н ты решишь, что истина — это мягкий, теплый песок, в который хочется поглубже зарыться. И все это будет ошибка. Потому что истина — только в поисках истины, и другой истины нет.
Вот до чего они додумались на своей планете. Потому что, когда нет никаких занятий, кроме размышления о смысле жизни, непременно придешь к бессмыслице.
— Вы с Земли? — спросил Свена Тонкий Стебель. — Говорят, у вас на Земле есть верблюды? Понимаете, мы здесь все верблюжьи колючки, а верблюдов у нас нет. Это очень грустное обстоятельство.
— Очень, очень грустное обстоятельство, — закивали другие тонкие стебли.
— Но они вас съедят! — сказал Свен. — Ведь основное, чем питаются верблюды на Земле, это ваш брат верблюжья колючка.
— Этого нам еще не хватало! — сказал Длинный Стебель. — Нет, я положительно убежден, что глупость нас погубит, как она погубила все прежние цивилизации[11]. У нас ведь не первая цивилизация, — пояснил он Свену. — Был когда-то мыслящий огонь, он ярко пылал, но ему захотелось воды, и она его погубила. Потом была мыслящая вода, бурная и глубокая, но ей зачем-то понадобился песок, и он-то ее поглотил. Теперь на этом песке выросли мы, ну, и жили б себе разумно, познавали окружающий мир. Так нет, нам подавай верблюда!
— Может, вы нам уступите одного верблюда? — попросил Свена Тонкий Стебель.
— Да он съест вас, поймите, съест!
— И пускай. Раз уж мы верблюжьи колючки, нам нужен верблюд, потому что иначе в этом нет никакого смысла.
Вот к чему приводят поиски смысла. Чистый разум уничтожающий сам себя.
Где-то там, на далекой Земле, голодный верблюд мечтал о верблюжьей колючке, а здесь верблюжья колючка мечтала о нем. И хорошо, что у них есть возможность мечтать и нет возможности соединиться… Для этой, внеземной цивилизации хорошо…
На какое-то мгновение Свен почувствовал себя верблюжьей колючкой. Без верблюда ему было нехорошо. И его потянуло на Землю, к верблюдам[12].
Советы начинающему фантасту
Не используйте фантазию на мелких работах!
Перигеи! Старайтесь достичь своего апогея!
Телепаты! Передавая мысли на расстояние пользуйтесь услугами радио и печати!
Помните: технический прогресс не только облегчает жизнь, но и ускоряет ее прохождение.
Владельцы Машин Времени! Дорожите временем, а не Машиной!
Не скупитесь отдать большое и славное прошлое за маленькое, никому не известное будущее!
Ища другие цивилизации, на всякий случай сохраните свою!
Кругосветные путешественники! Нет ли в полушариях вашего мозга мест, которых еще не коснулась цивилизация?
Не уподобляйтесь планетам: тех, кто вертится около вас, не считайте своими спутниками.
Помните: даже за пределами вечности вам не избавиться от вечных проблем.
Стройте воздушные замки не в ущерб капитальному строительству!
Долгожители! Если вечной молодости не удастся достичь, постарайтесь сохранить хотя бы вечную старость!
Будьте осторожны: некоторые средства, продлевающие вам жизнь, сокращают ее окружающим!
Метеориты! К чему этот внешний жар, если внутри у вас космический холод? Не лучше ли быть внешне холодным, а горячим внутри?
Фантасты! Не старайтесь выйти за пределы действительности: самое главное всегда происходит в ней.
Помните: звезды гаснут лишь оттого, что им не удается достичь скорости уходящего от них света.
Даже построив Межгалактический мост, отведите в нем хоть узенькую тропинку для пешехода.
Искатели покоя! Универсальный выпрямитель извилин поможет вам ни о чем не задумываться.
Стройте вечные двигатели с гарантией хотя бы на два года!
Не забывайте использовать посадочную площадку как взлетную!
Отправляясь в другую галактику, припомните: а все ли вы сделали в этой?
Учите машину мыслить, но не мечтать!
Помните: проезд по торным дорогам воспрещен, проезд открыт только по бездорожью!
Любители фантастики! «Из пушки на Луну» — это не только роман о Луне, но, главным образом, о мирном использовании пушек.
ЗАВТРАК. ОБЕД. УЖИН
Тихий, затерянный уголок, лежащий в стороне от магистралей цивилизации, был как раз тем местом, где человек, поднявшийся на определенную высоту, мог встретить подобного себе человека. Видные политики, финансисты, промышленные и административные деятели лечили здесь свои сердца, испорченные многолетним восхождением на вершину.
Здесь был сенатор одной из самых верхних палат, в которой, по слухам, заседают одри сенаторы; отставной генерал, переживший не одну армию, павшую под его руководством; адвокат, знаток преступной души человеческой и все же ярый ее защитник; был и видный скотопромышленник, и знаменитый романист, и кинозвезда, свет которой продолжал тешить публику, между тем как сама она давно померкла; был даже министр финансов какого-то государства, правда, столь незначительного, что все финансы его помещались у министра в кармане, где он охотно их содержал.
И сюда, в затерянный уголок, куда не ступала нога обычного человека, проникла весть о доселе не слыханной операции: о замене больного сердца, здоровым.
Разговор происходил за завтраком, вскоре после ночного сна, когда голова работает особенно ясно, и отставной генерал сказал:
— Да… такие новости…
Угасающая звезда вспомнила, что больному пересажено сердце женщины. Ее интересовало, как это может отразиться на мужчине. И как это отразится на женщине — если пересаживать наоборот. Отставной генерал сказал, что он скорее умрет на поле боя или, скажем, здесь, в санатории, чем даст всадить себе в грудь женское сердце. Потому что как солдат и мужчина… Генерал внезапно замолчал, позабыв, о чем хотел говорить.
— А вы как считаете? — спросил он, ища, кому бы передать ускользнувшую нить разговора.
— Чепуха! — отрубил эту нить скотопромышленник, внешне очень похожий на римского философа Сенеку, но уступавший ему в мастерстве выбирать выражения. — Пусть хоть сердце крокодила, лишь бы работало!
— Все же я предпочитаю человеческое, — рассудительно сказал министр финансов. — В крайнем случае, я готов заплатить… — И он полез в карман, где содержались финансы его державы.
Генерал подумал, что в битве при этом (ему не удалось вспомнить, при чем)… он допустил серьезную ошибку. Если б он мог повторить битву при этом (просто начисто вылетело из памяти!)… но он не мог, потому что, во-первых, находился в отставке, а во-вторых, война давно кончилась, и, самое главное, он так и не мог вспомнить, где же происходила эта самая битва.
— Цезарь и Линкольн прожили по пятьдесят шесть лет, — сказал сенатор. — Макиавелли и Вальдек-Руссо — по пятьдесят восемь, Макдональд и Бриан — по семьдесят… Быть может, мир сейчас был бы другим, если б они прожили на несколько лет больше.
Адвокат положил себе ветчины, которую он ел в самых отчаянных случаях, когда видел, что в жизни уже ничего нельзя изменить. Он положил себе три куска ветчины и принялся есть под внимательным взглядом кино-* звезды, которая не могла избавиться от изнуряющей мысли, что в жизни еще не все потеряно.
— Жизнь — это своего рода гигиеническая гимнастика: прежде чем лечь в землю, рекомендуется походить по земле, — сказал романист фразу из своего романа.
После завтрака все занялись процедурами. Те, кому предписано было ходить, — ходили, те, кому предписан был свежий воздух, — просто дышали свежим воздухом. Генерал, страдавший ожирением сердца, делал вольные упражнения: он ложился на спину и старался поднять ноги так, как поднимал их в далекой молодости. Адвокат, одиноко сидя в воде, беседовал со служителем бассейна, который, возвышаясь на берегу, изрекал голосом Посейдона: «С утра у меня купается столько-то человек… После обеда у меня купается столько-то человек…» Романист… но что делал романист, было скрыто дремучими зарослями: здесь, на утлой скамье, пренебрегая общими правилами, романист украдкой заканчивал новый роман. После всех этих дел разговор продолжился за обедом.
— Конечно, если знать, что все хорошо кончится, — размышлял министр финансов. — Но тут, наверно, нет полной гарантии. Кому как повезет.
Адвокат был готов без гарантии. Ему предстоял процесс, жизненно важный для его подзащитного. Но для того чтоб кого-то спасать… Это ясно, сказал министр, нужно прежде всего о себе позаботиться. Дело не в этом, возразил сенатор, тут заботишься вовсе не о себе. Столько работы… И главное — голова ясная… В том-то и дело, вздохнул романист, можно бы горы перевернуть… Какие горы? — насторожился генерал. Теперь он вспомнил, что эта битва была в горах. Конечно, в горах, теперь он окончательно вспомнил.
Об этом стоило рассказать, и генерал стал рассказывать, вспоминая давно забытые термины и переводя их на доступный слушателям язык.
— Я всегда был против конфликтов, — сказал адвокат.
— Слыхали, слыхали! — кивнула ему голова Сенеки. — Но представьте себе, что такая больница перенесена туда, к этой самой свалке, и каждый день в больницу поступают сердца. Здоровые, молодые сердца, еще почти не бывшие в употреблении.
— Это варварство, — сказал романист, но до того неуверенно, что утверждение его прозвучало как вопрос: «Это — варварство?»
— Вовсе нет, — пожал плечами скотопромышленник. — Ведь вы же платите деньги.
Адвокат хотел резко встать, но резкие движения были ему противопоказаны, и он остался сидеть.
— Я готов заплатить, — сказал министр финансов.
Романист долго обдумывал свою мысль, вернее, форму, в какой ее лучше выразить. Наконец он сказал, и зто прозвучало как-то загадочно:
— Когда не хватает человеческого тепла, нас согревают костры и пожары…
— Как это верно! — воскликнула угасающая звезда и впервые почувствовала, что свет ее угасает. И почувствовала, что свет ее — это всего лишь сигнал о помощи, который дойдет на землю через тысячу световых лет.
Генерал досадовал, что ему не дали дорассказать, и он все время пытался дорассказать, но теперь это было уже невозможно. Адвокат заявил, что он ничего не хочет слышать, что он всегда был против конфликтов. Сенатор весьма нетвердо предположил, что война ужасна, когда она лишена смысла, а когда в ней есть некоторый смысл, быть может, она и не столь ужасна? Министр финансов сказал, что он готов уплатить, пусть ему представят счет, он готов уплатить по любому счету. Адвокат сказал, что дело не в том, что он всегда был против конфликтов. Сенатор сказал, что, конечно, война — это плохо, но ведь совсем не обязательна большая война, может, для этого хватит и маленькой? Можно и маленькую, кивнул генерал. Тут он слегка задремал, а когда проснулся, говорил уже романист. Романист говорил, что если раньше земля держалась на китах или, допустим, слонах, то теперь она держится на пороховой бочке. Значит, есть еще порох в пороховницах, сказал проснувшийся генерал.
Потом все разошлись на отдых.
Это был самый активный отдых из всех, какие допускаются санаторным режимом.
Генерал у себя во сне вел войну. Война была небольшая но достаточно громкая. Гремели пушки, рвались снаряды, и пули свистели, грозясь залететь на командный пункт, в просторных покоях которого разместилась хирургическая клиника. Санитары лихорадочно собирали раненых. Одним из раненых оказался сенатор, и он чувствовал, как его куда-то несут, и стонал во сне от недобрых предчувствий. Министр финансов выгрузил из кармана всю государственную казну, но у него не хватало какой-то мелочи, и он ругался и говорил, что это грабеж что такой цены нет, и, словом, все, что говорится в подобных случаях. Кинозвезда видела себя на операционном столе, ей примеряли сердца, но ее размера не было, были только мужские размеры. Скотопромышленнику поставили отличное сердце, но в суматохе куда-то девалась его голова, прекрасная и мудрая голова философа Сенеки… Адвокат выступал на процессе. Он защищал тех, у кого отобрали сердца, — и не находил слов, потому что в груди у него тоже билось чужое сердце…
Один романист, как всегда, лишил себя отдыха. Он заканчивал свой роман, и уже в самом конце, когда все, казалось, должны успокоиться, вдруг загремели выстрелы и началась война, подумать только, война — в самом финале!
Генерал все еще воевал, и война его грозила перерасти из небольшой в очень большую. Он устал, ему надоело, он убеждал кого-то, что ему уже много лет, но ему отвечали: ничего, генерал, у вас молодое сердце… А министр финансов ругался во сне, как чиновник, распугивая недремлющий персонал, потому что слишком малы были финансы его державы… Мудрая голова философа Сенеки все еще пребывала вне тела его, и не было возможности их соединить, таких средств не знала пока медицина… А адвокат выступал на процессе, он весь взмок, у него началось сердцебиение, такая досада, за какой-нибудь час испортилось его новое сердце…
Война прекратилась внезапно, и, вместо гремящего хаоса, — снова тихий, затерянный уголок, куда почти не ступала нога человека. Час отдыха прошел, все встали и, избегая глядеть друг на друга, побрели по аллейке мимо этого прекрасного и всем дорогого мира, мимо скверов и цветников, мимо дремучих зарослей, за которыми романист, совершенно отчаявшись, начинал новый роман…
Ужин проходил в молчании.
ДИАЛОГ
— Итак, мы на необитаемом острове. Пожалуйста, не толпитесь.
— Тише! Ничего не слышно! Послушайте, уберите с моей шеи свой фотоаппарат!
— Триста лет назад здесь высадился Робинзон Крузо.
— Кто высадился? Да помолчите вы наконец!
— Крузо высадился. Карл, Роберт, Уильям, Захар, Оливер…
— Мистер Оливер, говорите громче!
— Ну Крузо, Крузо. Робинзон Крузо.
— Ах этот! Робинзон. И зачем же он высадился?
— Потерпел крушение.
— Какой ужас! С этими несчастными случаями хоть из дому не выходи. И что же — он потерпел крушение прямо на острове?
— Он высадился на острове.
— Ну, тогда еще ничего.
— Но на острове не было ни одного человека.
— Ни одного? Счастливый Робинзон! Послушайте, уберите свой фотоаппарат, не напирайте!
— Робинзон высадился на острове…
— Это мы уже слышали, что вы заладили одно и то же? Он высадился, ну, и где он стоял?
— То есть как — где он стоял? Мало ли где он стоял…
— Вы хотите сказать, что он стоял по всему острову?
— Он ходил по всему острову.
— И здесь тоже? Там, где я стою, он ходил? Послушайте, не толкайтесь, вы же видите: я здесь стою. Почему вы мне не отвечаете? Там, где я стою, он ходил?
— Это неизвестно. На необитаемом острове за ним никто не следил.
— Так-таки и никто? А Пятница?
— Пятница появился позже.
— Он тоже высадился на необитаемом острове? Хотя — почему необитаемом? Там же уже был Робинзон… Подумать только, один человек, да еще к тому же потерпевший крушение, и остров становится другим. Из необитаемого становится обитаемым. Что же дальше? Ну, остров стал обитаемым, и это сделал один человек. И что же дальше? Почему вы ничего не рассказываете?
— Я пытаюсь…
— И вам не удается? Но разве вы на необитаемом острове? Когда человек на необитаемом острове, тогда ему, конечно, трудно рассказывать, а вам, мистер Оливер, нечего жаловаться на недостаток слушателей. Так что же делал Робинзон на этом необитаемом острове? Хотя — почему необитаемом? Ведь Робинзон на нем уже обитал? Что же вы нам толкуете — необитаемый остров?
— Но он здесь жил один…
— Я тоже часто бываю одна. Я даже люблю, когда вокруг поменьше народа… Да не жмите же вы, не жмите! Велика невидаль — Робинзон! Ну, жил человек на острове… В Англии шестьдесят миллионов живут на острове — и ничего. Никто из этого не делает трагедии.
ПОВОД ДЛЯ МОЛЧАНИЯ
— А сейчас позвольте вам представить еще одного гостя, которого, впрочем, все вы хорошо знаете. Галилео Галилей!
Брэк сказал:
— Учитель устал от выпитого, он забыл, на каком он свете: на том, на котором уже Галилей, или на том, на котором пока еще мы с нашим Учителем. — И он ударил по клавишам, как по барабану (Брэк превосходно бил по барабану, за что и получил свое прозвище — Брэк).
— Цивилизация, о которой мои друзья имеют не очень ясное представление, продолжает развиваться, — сообщил Учитель, которого назвали так именно за образованность. — До последнего времени наука считала: личность умирает вместе с человеком. Но ведь личность не исчезает бесследно. Она остается в письмах, дневниках, воспоминаниях современников. И если собрать все это, можно восстановить личность. И она будет жить.
— В этих бумагах? — спросил Метр, получивший это имя за то, что росту в нем было немногим более метра.
— Нет, не в бумагах. Мы записываем личность на пленку, и она живет на магнитофоне. И не просто воспроизводит записанное, а продолжает жить дальше — от того места, на котором обрывается запись. И длиться может без конца — сотни, тысячи километров.
— Тысячи километров, — усмехнулась Праматерь (ее по-настоящему звали Евой). — Вот бы тебя, Метр, так записать!
— Лучше Брэка, — сказал Метр. — Для него главное — звучать, он может обойтись и без тела.
— Ты тоже неплохо обходишься, — Праматерь смерила его коротким взглядом.
— Ну, тебе-то, ясно, не обойтись, — парировал обиженный Метр.
Плоская коробочка. Магнитофонная лента. Вот здесь он, Галилео Галилей, человек перевернувший вселенную, доказав, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. И сейчас, спустя четыреста лет, он оживет и с ним можно будет разговаривать…
Все притихли. Было в этом что-то непривычное, даже страшное — разговаривать с умершим человеком.
— Давайте сначала выпьем, — предложил Метр. — Потом будет неудобно: он же, наверно, не пьет?
— Выпьем и закусим, — поддержал предложение Брэк.
— Пускай говорит, — вступилась за Галилея Праматерь. — Ему же больше ничего не осталось. Пускай говорит.
— Никак мы не можем без разговоров, — пожаловался Метр. — Нет чтоб спокойненько посидеть, выпить…
Наступила долгая пауза. Бесшумно крутилась пленка, не извлекая никаких звуков, и уже Брэк и Метр переглянулись между собой и перемигнулись, и уже они чокнулись, чтобы выпить на радостях, как вдруг послышался вздох…
— Это не ты, Праматерь? — подозрительно спросил Брэк.
— Это я, — прозвучало в ответ. Но ответила не Праматерь.
Пленка крутилась так, как крутится человек, наматывая на себя дни, месяцы, годы. И когда их достаточно намотается, ему не будут страшны никакие житейские волнения: от них защитит его толстая пленка годов. Так сохраняются мумии фараонов, крепко спеленатые, окруженные толстыми стенами пирамид, потому что разрушительно лишь соприкосновение с жизнью.
Галилей молчал, а пленка крутилась, перематывая его молчание, и он не знал, сколько там, впереди, остается. Со стороны было видно, как жизнь его перематывается с катушки на катушку, и все меньше становилась катушка будущего, и все больше становилась катушка прошлого, и крутились они с одинаковой скоростью, и были похожи одна на другую, как сестры. Сначала будущее было старшей сестрой, и оно давало советы младшей и всячески обнадеживало ее. Но со временем оно уменьшалось, и тогда прошлое становилось старшей сестрой, и уже оно давало советы будущему. Всего этого не было видно тому, кто жил на пленке, и он нерасчетливо тратил жизнь, заполняя ее молчанием.
Выпили для храбрости, и Брэк сказал:
— Что-то молчит старичок. Может, обиделся?
— Я не обиделся. — Это сказал он, Галилей. — Просто я не вижу повода для разговора.
И он опять замолчал, — между прочим, без всякого повода, на что тотчас же указал ему Брэк. Галилей ответил в том смысле, что молчание не требует повода, что оно естественное состояние человека. А вот для того, чтоб нарушить его, нужен повод. Брэк сказал, что миллионы людей разговаривают без всякого повода — просто потому, что им приятно поговорить, хочется обменяться мыслями. Галилей сказал, что один только обмен мыслями не увеличивает общего количества мыслей, что мысли, подобно денежным знакам, стираются от усиленного обращения.
— У него какая-то путаница в голове, — шепнул Метр Праматери. — Мысли, деньги — не поймешь, о чем он говорит. Конечно — старик и вдобавок еще покойник.
— Заткнись! — оборвала его Праматерь.
Учитель сказал:
— Иногда молчать — значит думать. Это не все понимают, дорогой Галилей.
— Думать! — возмутился Метр. — Тоже мне повод для молчания!
— Метр — человек неплохой, — объяснил Галилею Учитель, — но разум его вращается не вокруг Солнца, как сказал бы ты, а вокруг вечного мрака, в котором вечная пустота.
— Природа не терпит пустоты, — сказал Метр и наполнил бокалы.
На пленке покашляли. Это был хронический, застарелый кашель, которому было четыреста с лишним лет. Галилей сказал:
— Наверно, я не все понимаю. Старикам трудно понять молодых, а мне уже почти восемьдесят.
— Молодится старик, — не упустил случая Метр. — Наверняка скинул четыре сотни.
— Вы боитесь пустоты, — сказал Галилей, — и заполняете жизнь чем попало. Вы хотите получить все сразу, забрав со своего счета весь вклад… Человек не должен грабить свое будущее… Хотя я не навязываю вам свой образ жизни…
И все представили себе этот образ жизни: четыре магнитофона — и на каждом крутится пленка: Брэк, Учитель, Праматерь и Метр.
Брэк (меланхолически крутится). Чем бы таким заняться? Двадцать метров прошло, а ничего не меняется. С одинаковой скоростью ничего не меняется… Ты здесь, Праматерь?
Праматерь (так же бесстрастно крутится). Здесь. А может, не здесь. Я не вижу, где я.
Брэк. Ничего. Главное, что ты крутишься. А то одному крутиться… Как у тебя со скоростью?
Праматерь. Четыре в минуту.
Брэк. То же самое. А бывает десять. А то и девятнадцать. Конечно, крутишься веселей, но быстрей прокручиваешься.
Праматерь. Пускай быстрее. Только бы веселей.
Брэк. Как у тебя напряжение?
Праматерь. Нормально.
Брэк. А громкость?
Метр (взрывается, внешне спокойно крутясь). Перестаньте! О другом не можете поговорить? Как скорость? Как громкость? Как напряжение? Я не хочу об этом слушать! Я не хочу об этом думать! Я хочу просто крутиться! Просто крутиться, как все!
Брэк. У тебя сейчас лопнет пленка.
Метр. Пускай. Дайте мне выпить.
Учитель (с четвертого магнитофона). Ты не можешь выпить.
Метр. Я не могу? Вы шутите!
Учитель. Друзья, не будем ссориться. Мы опять вместе, как в прежние времена. Правда, мы не можем видеть друг друга, а если б и видели, все равно б не узнали. Все осталось там, в прежней жизни: и добрые глаза нашей Праматери, и пьяная физиономия Метра, и Брэк с его барабанными палочками, угнетающими барабанные перепонки, — все осталось там. Но мы сохранили главное: наши личности, наши индивидуальности, которые вознесли нас над смертной природой.
Брэк. Он уже десять метров наговорил, я специально следил за временем.
Учитель. Мы не можем видеть друг друга, мы не можем друг к другу подойти. Мы не можем сходить в кино, посидеть у телевизора, мы не можем ни сидеть, ни ходить, мы можем только обмениваться мыслями. И мыслить. Раньше мы не ценили этого высокого наслаждения — мыслить, а теперь нас ничто не отвлекает от него. Так будем же мыслить, будем обмениваться мыслями! Начинай, Брэк!
Брэк. Почему это я?
Метр. Кто-то должен начать. Для начала.
Брэк. Но почему же я?
Метр. Ты любишь звучать. Давай прозвучи какой-нибудь мыслью.
Брэк. Пусть прозвучит Праматерь. Она женщина.
Праматерь. Неужели ни у кого нет какой-нибудь мысли?
Брэк. Наверно, есть у Учителя.
Метр. Да, Учитель, это по твоей части.
Учитель. Хорошо, вот вам мысль: «Я мыслю, значит, я существую».
Метр. Это — мысль?
Учитель. Ее высказал Декарт, французский ученый.
Брэк. Хорошо высказал. Мыслишь, — значит, существуешь, не мыслишь — не существуешь. И кончен бал.
Учитель. Предлагаю вам эту мысль для обмена.
Метр. Такую мысль даже не знаешь, на что обменять.
Праматерь. Учитель, придется тебе сказать еще одну мысль. Чтобы было на что обменять предыдущую.
Учитель. Не могу же я обмениваться мыслями сам с собой. Причем учтите: существует лишь тот, кто мыслит, и если вы не будете мыслить…
Метр. Да, положеньице…
Брэк. А пленка крутится. Четыре метра в минуту.
Праматерь. Она крутится, а мы даже не существуем. Для чего же она крутится? Брэк, неужели ты ничего не можешь придумать?
Брэк. У меня когда-то была одна мысль. Я еще сказал ее Метру, а он так и ответил: «Брэк, это мысль». Ты не помнишь. Метр?
Метр. Как же не помню? Такие мысли ты не часто высказываешь. Ты сказал: «Метр, у меня есть одна мысль…»
Брэк. Точно! Я так и сказал: «Есть одна мысль». И какая же, Метр?
Метр. Ты сказал, что у тебя есть мысль купить гитару. А я тебе ответил, что это мысль. Но теперь, ты знаешь, я начинаю в этом сомневаться. Как-то уж очень эта мысль отличается от мысли Учителя.
Брэк. Мысли не могут быть все одинаковые. Иначе как ими обмениваться?
Учитель. Вот это мысль, Брэк. Теперь ты сказал настоящую мысль: нужно не просто мыслить, нужно мыслить по-своему.
Брэк. Значит, я существую? Да, теперь я чувствую, что я существую.
Праматерь. А как же я, Брэк?
Брэк. Очень просто. Ты просто мысли, понимаешь? Мысли — и будешь существовать!
Праматерь. Надо что-то придумать. Надо что-то придумать.
Метр. А пленка крутится, крутится…
Пленка крутится, крутится… Но молчит Галилей. И молчит вся компания, глядя, как крутится пленка.
Метр первым приходит в себя:
— Может, выпьем? У меня есть хороший тост. Если потом, после всего, от нас что-то останется, то пусть это будет не способность мыслить. Пусть это будет способность… — Он выпил и снова себе налил, но никто не последовал его примеру.
— Какая способность? — не поняла Праматерь.
— Вот эта, — Метр постучал пальцем по скульптуре Байрона, полагая, что стучит по бутылке.
Наступила долгая пауза. И вдруг заговорил Галилей:
— Древний вопрос «Что есть истина?» до сих пор остался без ответа. Жизнь многих истин похожа на жизнь человеческую: сначала их подгоняют под известные образцы, потом долго и упорно не замечают. А замечать начинают лишь тогда, когда истина устаревает и становится общепринятым образцом, под который подгоняются вновь рожденные истины…
Смерть истины — рождение лжи, говорил Галилей, но это нельзя понимать упрощенно. Ведь и лжи приходится нелегко. Ложь при жизни тоже не признают, ее при жизни считают истиной. И лишь после смерти, когда ложь умерла, ее называют по достоинству — ложью.
Метр попросил переменить пластинку. Вернее, пленку. Учитель не решался оборвать жизнь Галилея на полуслове, хотя знал, что пленка все равно кончится. Рано или поздно кончится. Но как обрывать ее на полуслове?
Праматерь откопала какой-то альбом и принялась рассматривать репродукции. Этот Галилей, конечно, умница, недаром его проходили в школе, но Праматери вдруг стало скучно, как бывало когда-то в школе, и она не могла себя пересилить, хотя ей не хотелось обижать старика.
Брэк рылся в магнитофонных записях. Метр дремал.
— Истину мало найти, ее нужно найти своевременно, в то недолгое время, когда она жива, — говорил Галилей. — Десятки тысяч томов, учебников и трактатов полны мертвыми истинами, им поклоняются, их отливают в бронзу, а тем временем живые истины незаметно доживают свой век, а если их и замечают, то лишь для того, чтобы покончить с ними, как с ложью.
— Может, поставим музычку? — спросил Брэк.
— Давай! — оживилась Праматерь и сконфузилась. Все-таки ей было жаль старика. Ей было по-настоящему жаль старика, но ей хотелось послушать музыку.
— Выключай его! — сказал, просыпаясь, Метр.
Учитель уже жалел, что принес домой эту пленку. Лучше б она лежала в лаборатории, а они бы слушали музыку, и никто б никому не мешал. И жизнь Галилея зависела б не от него, от Учителя, а от целого научного коллектива, который знает, когда включать ее, а когда выключать. Все это проходило бы в соответствии с планом работ, и даже сам Галилей не был бы в претензии. Ведь сейчас, собственно, он живет незаконно…
— Извини, Галилей, — сказал Учитель, — эксперимент на сегодня окончен.
— Эксперимент?
— Называй как хочешь. Каждая жизнь — эксперимент, иногда удачный, иногда неудачный.
— Вот это мысль! — восхитился Брэк. — Учитель, ты существуешь!
Праматерь чуть не плакала, так ей было грустно. Она уже привязалась к Галилею и даже успела немножко его полюбить. Как своего дедушку. У Праматери никогда не было дедушки, но если б он был, она бы его вот так полюбила. Как старика Галилея. И ей было б жаль, если б он должен был умереть.
Но Брэк уже держал в руках пленку с веселой музычкой, а Метр разливал в бокалы вино.
— Вы хотите меня убить? — спросил Галилей. — Именно сейчас, в самую важную для меня минуту?.. Но ведь вместе со мною умрет истина… Послушайте… Я обращаюсь к суду Святой Инквизиции… Милосердной и Святой Инквизиции…
Учитель нажал на рычаг. Все было кончено.
Сразу стало так тихо, как будто одновременно выключилась вся жизнь — и в комнате, и на улице.
— Это ужасно, — сказала Праматерь, и слезы потекли по ее щекам.
Метр стал совсем маленьким. Он молчал.
— Ты хотел что-то поставить, Брэк? — Учитель никак не мог снять пленку с магнитофона. — Где же твоя музыка, Брэк?
— Вот, — протянул Брэк свою музыку, но так, что Учитель не мог ее взять, а Брэк и не спешил помочь ему дотянуться. — Вот она. Вот.
— Который час? — спросил Метр и посмотрел на часы. — Впереди еще целый вечер…
— Целый вечер, — сказал Брэк. — Целый вечер.
— Перестаньте повторять! — крикнула Праматерь, и сама повторила: — Целый вечер…
— Давайте выпьем, — предложил Метр. И погладил скульптуру Байрона.
КОНЕЦ ЖАНРА
Теория вероятности немеет перед невероятной практикой нашего века. Начальник уголовной полиции, хорошо известный как в полицейских, так и в уголовных кругах (в последних, кажется, даже немножечко лучше), задержал сам себя. Это был конец детективного жанра, за которым начинался жанр сомнительно научной фантастики.
Конец жанра, особенно такого прославленного, как детектив, является настоящим потрясением для общества. Не скажу, что это потрясение его основ: основы общества настолько глубоко скрыты, что трясти их при помощи литературы — занятие совершенно безнадежное, — но потрясение поверхностного слоя литературе доступно, и это всегда производит на общество сильное и не сразу изгладимое впечатление.
Судите сами: вот уже свыше ста лет общество участвует в постоянной, непрекращающейся погоне, ловит преступника, скрывается от закона, впрыгивает в окна и выпрыгивает из них, пролазит сквозь узкие дымоходы, сличая дым этих ходов с дымом сигареты преступника и оставляя отпечатки собственных пальцев на пухлых томах этого популярного жанра… И вдруг на полном скаку — стоп! Кто кого поймал, кто от кого убегает? Сыщик стоит в пустой комнате и держит за шиворот сам себя…
Конан Дойл, Эдгар По, Честертон, хорошо, что вы не дожили до этого несчастного часа! Сименон, хорошо, что вы дожили, но вовремя бросили писать!
В течение долгого времени начальник полиции шел по своему следу, то себя настигая, то внезапным рывком снова уходя от себя, совершая чудеса находчивости одновременно в двух противоположных видах деятельности. Знаменитый детектив, известный во Франции под именем Жана Грейо, в Англии под именем Джона Грея, а в России под именем Ивана Григорьева, — оказался вором-рецидивистом, известным во Франции под именем Большого Жака Фонтена, в Англии под именем Большого Джека Фонтенза, а в России под именем Жорика с Большого Фонтана.
Параллельные прямые пересеклись в точке, представляющей не бесконечно малую, а, напротив, довольно значительную величину, и даже не одну, а две величины: великого сыщика и великого рецидивиста.
Сенсация.
Впрочем, разве в уголовном и вообще в мире мало сенсаций? Мир, в том числе и уголовный, устроен так, чтобы человек, живущий в нем, никогда не переставал удивляться. Жизнь — это, в сущности, и есть удивление. Когда глина впервые удивилась, она и начала жить, не дожидаясь, чтоб из нее что-то вылепили. До сих пор скептики ломают головы: чему тут можно было удивляться? Но глина удивилась — и на земле началась жизнь, которая будет продолжаться до тех пор, пока не утратит способности удивляться.
Только ради бога, ради бога, не говорите, что в этом нет ничего удивительного!
Конечно, если начальника полиции взять под стражу, он уже не будет вызывать того удивления (я бы даже сказал: восхищения), какое он вызывал у своих подчиненных, когда стоял во главе полиции. Вычеркнутый из настоящего, он будет вычеркнут и из прошлого, где у него имелись некоторые заслуги. Ему уже не вспомнят, как он, лично участвуя в преследовании, всю ночь прокрутился на колесе скорого поезда, в котором ехал преступник, и взял его, распластавшись на шпалах, по которым преступник переползал из вагона в вагон. И не вспомнят, как он после удачно выполненного задания говаривал, отечески улыбаясь: «А теперь отдыхайте, мальчики. Объявляю вам всем благодарность».
Таково удивительное свойство человеческой памяти: она способна забывать.
И не только человеческой. Если б семя не забыло, что было когда-то семенем, оно никогда бы не стало побегом. Если бы побег не забыл, что был когда-то побегом…
Я прошу у тюремной администрации прощения, что употребил неуместное в данном тексте слово «побег», но таков закон развития и маленького семени, и взрослого, уважаемого человека.
Существует мнение, что в каждом человеке живут одновременно полицейский и вор.
Вспомните Видока.
Человеку, не знакомому с историей французской полиции (что вполне допустимо, когда живешь не во Франции, работаешь не в полиции и интересуешься не историей, а чем-то другим), может показаться, что Видок — это попросту человек, видавший виды, что-то вроде знатока, но не знающего, а видящего. В определенной степени это так, ибо человек с этой французской фамилией был сначала преступником, а уже потом стал полицейским, положив начало всей французской полиции. Так вот, этот видавший виды Видок сначала подавлял в себе полицейского и благополучно воровал, а потом стал задерживать преступников, благополучно подавляя в себе вора. Все, таким образом, сводится к благополучию, которое мы добываем тем либо иным путем.
Считая доказанным тезис, что в одном человеке могут сосуществовать блюститель порядка и нарушитель его, нужно при этом сделать оговорку, что блюститель, живущий в одном человеке, обычно преследует нарушителя, живущего в другом, а со своим собственным неплохо уживается. Ну, конфликты, разумеется, бывают, не без того, но совсем незаметные постороннему наблюдателю. Для постороннего наблюдателя и полицейский, и преступник — не дробная, а целая величина, и каждого из них он воспринимает как целое: либо как полицейского, либо как вора.
И вдруг является Жак Фонтен к Жану Грейо (дело конечно же происходит во Франции) и говорит:
— Напрасно ты, парень, за мной гоняешься. Я, между прочим, сижу у тебя в кабинете.
Здесь легко обнаруживается хорошо известный в криминалистике парадокс «Зеркало и обезьяна», открытый еще в прошлом веке Крыловым Иваном Андреевичем.
Вспомнив знаменитый парадокс, Жан Грейо теряет дар своей французской речи, но тут же обретает английскую.
— Джек! — говорит он. — Большой Фонтенз! Что тебе нужно здесь, во французской полиции?
— Я здесь работаю, — уголовно улыбается Джек Фонтенз. — В этом самом кабинете.
Ну, тут, конечно, удивление (столь необходимое для жизни), выяснение, кто где работает и кто где ворует. После чего Жак Фонтен говорит:
— Совсем ты одичал у себя в полиции, оторвался от жизни.
— Джек! — воскликнул Жан Грейо, упрямо не желая переходить на французский, чтоб не компрометировать свою родимую Францию. — Я привык делить мир на честных и бесчестных людей, на полицейских и, я не говорю о присутствующих, воров. Не сбивай меня, пожалуйста, с этой позиции.
— Эх, парень… — вздохнул Большой Жак Фонтен. — Ты все еще думаешь, что на свою полицейскую зарплату живешь, а ведь ты уже давно не живешь на зарплату. Ты одного вора впустишь, а другого выпустишь, вот на что ты живешь. А кафель? Ты, я знаю, кафелем свой санузел покрыл, а ведь это кафель не честный…
— Я купил его!
— В магазине? Вот то-то и оно. Не на Елисейских полях ты купил его, а в Булонском лесу, там, где у нас продают краденое…
Чем дальше в лес, тем больше дров… Тоже парадокс, хорошо известный криминалистике.
— Так ведь санузел… — смутился начальник полиции. — С кафелем он смотрится совсем по-другому.
— Не смотреть туда ходишь, мог бы и обойтись. А шуба норковая? Скажешь, подарок жене? А почему другим женам такие шубы не дарят?
— Жак! — Жан закрыл дверь поплотней и перешел на французский: — Что же мне теперь?
С французского они перешли на шепот, и дальше уже было ничего не слыхать. Только одно слышалось: Булонский лес. Тот самый лес, где продают краденое.
ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА
Рассказы о языке
Правила охоты
Перепуганный зайчонок прибежал домой.
— Папа, за нами охотятся!
— За нами охотятся или на нас охотятся? — уточнил старый заяц.
— Я не знаю… Я только знаю, что охотятся…
— Сколько раз я тебя учил правильно выражать свою мысль. От того, насколько точно мы выражаем мысль, зависит очень многое.
— Но они же охотятся, папа!
— За нами или на нас?
— Я не знаю, как правильно сказать, папа…
— Последний раз объясняю: если охотятся за нами, это значит, что нас хотят только поймать. А если на нас охотятся, это значит, нас хотят убить. Чувствуешь разницу?
Зайчонок задрожал, всем своим существом чувствуя эту разницу.
— То-то же, сынок, учись выражаться правильно. Я дожил до старости, а почему? Потому что я всегда выражался правильно.
— Папа!
— Да, пожалуй, ты прав: теперь самое время давать тягу, чесу, драла или стрекача… Ты лично что предпочитаешь?
— Нам не задавали…
— Ничего, жизнь вам задаст. А теперь — ноги в руки, сынок!
И они побежали.
— А если б за нами иначе охотились, — спросил на бегу зайчонок. — Допустим, не на нас, а за нами. Или, допустим, не за нами, а на нас? Что б мы тогда делали?
Старый заяц, не сбавляя скорости, погрузился в раздумье.
— Что бы тогда? Возможно, дали бы деру. Возможно, навострили бы лыжи, а то и просто пятки смазали бы… У тех, которые охотятся, только две возможности: убить или поймать. А у нас с тобой, — старый заяц подмигнул на бегу, — у нас с тобой вон какой выбор!
Орфографическая ошибка
Выпустили джинна из бутылки, разобравшись в правописании. Он там вместо ячменной водки сидел. Ячменная водка— джин — пишется с одним «эн», а он, джинн, свободный дух, — с двумя.
Но, конечно, не все в этом разбираются. Для некоторых что водка, что свободный дух — безразлично.
А кому-то сидеть. Тыщу лет сидеть. А потом, через тыщу лет:
— Извините, свободный дух, вышла ошибка. Орфографическая. Но разобрались, что вы джинн, а не джин. Тут у нас еще какой-то Джон сидит. Беда с этой орфографией!
Род существительного
Нельзя изменять своему роду. Кажется, немного изменил: все только род, — а глядишь, уже и сам переменился. Только что ты бороздил моря, стараясь не сбиться с румба, — и вот уже ты в порту отплясываешь румбу. Только что ты скакал во весь опор — и вот уже тебе понадобилась опора. И ты сменил легкий и быстрый карьер на легкую и быструю карьеру… Где он, прежний жар, прежний пыл?
Жара, пыль…
Кваску бы испить да полежать в холодочке…
Правописание приставок
Чтобы ПРИдать чему-то новый смысл, необязательно ПРЕдать старый.
Фразеологическая арифметика
В некоторой книге, где растут на дереве фиги, посреди страницы, которой правят царь и царица, жили-были у этих царя с царицей три сына. Первый был, можно сказать, семи пядей во лбу, второй восьми, а третий шести— можно было бы сказать, но так говорить не принято. И не принято иметь во лбу больше или меньше семи пядей, — если ты, конечно, умный человек. А если ты не умный человек, то никто тебе твоих пядей считать не станет.
И были эти три сына похожи друг на друга как две капли воды… Обидно, конечно. Три сына, а похожи как две капли воды. Куда, спрашивается, девалась еще одна капля? Почему бы трем сыновьям не быть похожими как три капли воды?
Оказывается, так нельзя. Можно быть похожим лишь как две капли воды и ни на каплю больше или меньше.
Ну, да ладно, важны ведь не капли эти самые, а сыновья, а их-то было не двое, а трое. Вот что главное.
Когда родился первый сын, царь с царицей были, можно сказать, на седьмом небе. И когда родился второй, и когда родился третий, они снова были на седьмом небе… Ни на шестом, ни на восьмом небе им побывать так и не удалось, потому что в этой книге действовал строгий закон: радоваться радуйся, но не выше и не ниже седьмого неба.
Когда сыновья выросли, они выглядели на все сто и выглядели бы на все двести, но на двести выглядеть было нельзя. И на девяносто выглядеть было нельзя. Только на все сто — ни больше ни меньше.
Увидев таких красивых и умных сыновей, придворные согнулись в три погибели и наговорили с три короба комплиментов. Они бы согнулись в четыре погибели и наговорили с четыре короба комплиментов, но так низко здесь никто не кланялся и никто так много не говорил.
— Опять двадцать пять! — сказал царь, потому что опять всегда двадцать пять, а не двадцать шесть и не двадцать четыре. — И когда я вас отучу от этого подхалимства и чинопочитания? Ну, хорошие дети, но зачем же говорить им об этом в глаза?
— У нас всегда так: о хорошем в глаза, о плохом — за глаза, — поддала жару царица.
А сыновья высказались еще более решительно:
— Всыпать им по второе число и прогнать в четыре шеи на все три стороны!
И сразу все увидели, что сыновья выглядят не на все сто и что у них не по семи пядей во лбу, а гораздо меньше. Потому что им было неизвестно, что всыпать можно только по первое число, прогнать только в три шеи и только на все четыре стороны. Да и вообще таких грубых выражений человек семи пядей не станет употреблять.
Вот и вся сказка, рассказанная, правда, с пятого на десятое, потому что с десятого на двадцатое было бы слишком коротко, а со второго на пятое — слишком длинно.
Служение
Пчелы трудятся. Муравьи трудятся. А лошадь работает. Только работает. Как будто работа — это не труд, а труд — это не работа.
Но о лошади никто не скажет, что она трудится. И о собаке не скажет. О собаке принято говорить, что она служит.
Такое у них разделение труда: одни работают, другие трудятся, а третьи просто служат.
И это, конечно, большое облегчение. Тот, кто трудится, может не работать, тот, кто работает, может не трудиться…
Ну, а тот, кто не трудится и не работает, должен служить.
Хотя бы примером служить, как нужно трудиться и работать.
Глупый король
Жил-был Глупый Король, у которого женой была Умная Королева. Умную Королеву несколько смущало то, что она жена Глупого Короля, но утешало ее то, что жена Глупого Короля все-таки Королева, а кто такая жена умного дворника? Дворничиха, не более того.
Однажды Глупый Король решил пойти войной на другого, Неглупого короля и захватить его королевство.
— Сколько раз я его просил добровольно отдать мне свое королевство, — говорил Глупый Король жене. — Но он отвечал, что я ерунжу, что в случае чего я очучусь в незавидном положении. Но теперь я его убежу не словами, а превосходящей силой и техникой, я обезлюжу его королевство!
Умная Королева понимала, что Король не прав, потому что глаголы «убедить», «ерундить», «очутиться» и «обезлюдить» в первом лице единственного числа не употребляются, но она не возразила Глупому Королю, потому что, если возражать Глупому Королю, можно, чего доброго, перестать быть королевой.
— Да, конечно, ты не ерундишь, ты его убедишь и обезлюдишь его королевство, — говорила Умная Королева, употребляя эти глаголы в том лице, в каком они обычно употребляются. Грамматически она была совершенно права, хотя по сути глубоко ошибалась.
— Я его побежу! Побежу! — кричал вдохновленный ею Король, и было неясно, победит ли он противника или, напротив, от него побежит.
Это выяснилось лишь тогда, когда Глупый Король пошел войной на короля Неглупого и не победил, а побежал, хотя готовился к совершенно другому. И Неглупый Король захватил его королевство, но, конечно, не обезлюдил его, потому что был неглуп и понимал, что глагол «обезлюдить» в первом лице единственного числа не употребляется.
А Умная Королева перестала быть Королевой, хотя очень умно угождала королевской глупости. Потому что нельзя беспредельно угождать глупости, самое умное угождение глупости в конце концов превращается в глупость.
Вы думаете, я чужу?
Нет, этого я себе не позволю. Хотя бы потому, что глагол «чудить» не имеет формы первого лица единственного числа, а употребление несуществующих форм приводит, как вы убедились, к весьма печальным последствиям.
Когда слова выходят в люди…
Какой я был ДУБ, когда зеленел на опушке леса, когда стоял у дороги, подпирая высокие небеса! Каждое слово в языке что-то значит, и у меня тоже было высокое, благородное значение. Я обозначал ДУБ, и мне казалось, что это я зеленею в лесу, развесисто стою у дороги и окунаю листья в прозрачную синеву.
Разве это плохое значение? Но мне захотелось выйти в люди, обозначать что-нибудь человеческое, потому что ЧЕЛОВЕК, я слышал, самое высокое понятие на земле.
Теперь я обозначаю человека, но это почему-то не приносит мне радости.
Когда я впервые начал обозначать человека, какой-то ЛОПУХ, который тогда уже обозначал человека, сказал мне:
— Эх ты, ДУБ! Обозначал бы себе то, что обозначал, не брался бы за то, в чем не смыслишь. Я, например, пока обозначал растение, был вполне приличным, литературным словом, а теперь я кто? Грубое слово, просторечное. Хорошего человека таким словом не назовешь.
Потом подошли другие, в прошлом приличные слова, которые, став обозначать человека, утратили свое былое приличие.
— Я когда-то обозначал шляпу, — сказал некий ШЛЯПА. — Если б вы знали, какую я шляпу обозначал! Да любую: и с полями, и без полей, и с ленточкой, и без ленточки…
— А я обозначал размазню, — вздохнул РАЗМАЗНЯ. — Кашу такую, довольно питательную…
— А я — тюфяк, — вспомнил ТЮФЯК.
Да, все мы когда-то означали что-то хорошее, а если и не совсем хорошее, то по крайней мере приличное. А с тех пор как стали обозначать человека, нас приличные люди даже не решаются произносить.
А мы-то думали, что человек звучит гордо, что он звучит литературно, а он — послушайте, как звучит: ТЮФЯК… ШЛЯПА… ТРЯПКА… РАЗМАЗНЯ…
— И неужели нельзя было назвать ЧУРБАНОМ умного человека? — сокрушается ЧУРБАН, мой теперешний родственник по значению.
Глупый он, ЧУРБАН. Уж на что, кажется, я ДУБ: имел такое прекрасное значение, такое высокое, могучее, развесистое значение, — а кого обозначают?
Все мы идем в люди. И даже выходим в люди. Но в какие мы люди выходим? Вот над чем стоит задуматься…
— Да, стоит задуматься, — пытается задуматься ПЕНЬ, мой теперешний родственник по значению.
Карьера слова
Давно ли хваткое словцо ЗАЧИТАТЬ промышляло по чужим книжным полкам, одалживало книги на вечное отдавание, и вдруг…
— А сейчас предлагаем зачитать отзывы оппонентов…
Можете не волноваться: отзывы никто не украдет. Их не зачитают в том смысле, в каком зачитывали, бывало, чужие книги. Отзывы просто-напросто огласят, то есть прочитают громко и выразительно. Одним словом, зачитают. Одни зачитают, другие заслушают.
Все дело в этой приставке ЗА, которая в свое время совратила благородное слово ЧИТАТЬ на кривую дорожку, приучила книги не столько читать, сколько зачитывать, то есть, попросту говоря, воровать. Вот оиа-то и повела его дальше по этой дорожке, и не куда-нибудь, а на высокую трибуну, на ученую кафедру, где зачитывают не потихоньку, не тайком, а открыто, громко, во всеуслышание. Да еще награждаются за это аплодисментами, дипломами, учеными степенями.
А что толку? Привыкнешь зачитывать — отвыкнешь читать, приучишься заслушивать — отучишься слушать.
Грамматический детектив
Из слова изъяли букву. Устранили, убрали, а может, украли, прикарманили, возможно, разбазарили, профинтили, а то и просто угробили. Такое тоже бывает.
Короче: изъяли букву, и в слове тотчас обнаружился определенный изъян. И вот по этому делу было начато следствие.
Рядом стоящие буквы, разумеется, ничего не видели и не знали. Да, стояла какая-то буква. Нет, близко знакомы не были. Мало ли какие буквы рядом стоят. Еще чего — отвечать за целое слово!
Ну, изъяли. Ну, получился изъян. Может, он получился совсем не от этого. Ведь этот самый ИЗЪЯН происходит не от глагола ИЗЪЯТЬ, у него совсем другое, тюркское происхождение. Это не наш ИЗЪЯН, это тюркский Р13ЪЯН. С какой стати мы должны отвечать за чужие изъяны?
Уворовали букву? Прикарманили? Разбазарили?
Все эти слова тюркского происхождения. С тюрков спрашивайте, а нам до этого дела нет. Мы без изъятой буквы проживем — что, у нас мало букв? Чего, чего, а букв у нас в алфавите достаточно.
Пусть тюрки переживают. У них-то, у тюрков, ИЗЪЯН означает вред.
А у нас он безвредный.
Просто изъян.
К тому же, заметьте, не нашего происхождения.
Времена глагола
Мягкий Знак, на своем веку знавший разные глагольные времена, делился опытом строительства будущего.
— Допустим, нам понадобится будущее время глагола ПОНАДОБИТЬСЯ. Мы берем этот глагол в форме инфинитива, а затем… — Мягкий Знак замялся. — Здесь я вынужден сказать о себе. Не для того чтоб выпятить свою роль, а просто чтоб объяснить принцип строительства. Так вот, я покидаю инфинитив ПОНАДОБИТЬСЯ, и в результате остается ПОНАДОБИТСЯ, простое будущее время.
— В котором вас уже нет?
— Что делать, этого требует время. Время требует моего отсутствия. Моего личного отсутствия. Извините за нескромность.
— Да, будущее… Отсутствия в нем никому не избежать…
— Что до меня, то у меня хватает работы и в настоящем.
— Так вы строите и настоящее?
— А кто ж его строит? Вот простейший пример: ставится задача создать настоящее время. Мы берем инфинитив СТАВИТЬСЯ, а затем я…
— Опять вы?
— Что делать, этого требует время. Заметьте: не будущее, а настоящее время. Итак, я покидаю инфинитив СТАВИТЬСЯ, и в результате получается глагол СТАВИТСЯ — настоящее время.
— В котором вас опять-таки нет? Ну, знаете! Кто-то строит, кто-то созидает, а вы в стороне?
— Вот именно: строит! А кто научил строитЬ? Кто показал, как строитЬ? И, наконец, кто помог строитЬ своим собственным, личным отсутствием?
Видимо, в этом был прав Мягкий Знак: иногда отсутствие помогает больше, чем присутствие.
Грустные размышления на тему правописания прилагательных и наречий
Этот СПЕЛЫЙ, а этот ЗЕЛЕНЫЙ. Этот УЖЕ СПЕЛЫЙ, а этот ЕЩЕ ЗЕЛЕНЫЙ…
Обстоятельства времени. ЕЩЕ и УЖЕ — это обстоятельства времени: тот, кто ЕЩЕ ЗЕЛЕНЫЙ, будет со временем УЖЕ СПЕЛЫМ, а тот, кто УЖЕ СПЕЛЫЙ, ЕЩЕ ЗЕЛЕНЫМ не будет уже никогда.
Не стоит об этом горевать. Есть у нас обстоятельства другого времени, времени, которое никогда не проходит.
Оно существует вечно.
ВЕЧНО — это такое же наречие, как ЕЩЕ и УЖЕ, но мы подчиняемся ему, как не подчиняемся другим обстоятельствам времени. Мы сливаемся с ним до того, что даже пишемся слитно…
Пока мы ЗЕЛЕНЫЕ…
Пока мы ЗЕЛЕНЫЕ, мы не отделяем себя от этого самого главного времени и пишемся слитно: ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ.
Ни одно прилагательное не дерзнет писаться слитно с этим наречием, а мы дерзаем. Потому что мы ЗЕЛЕНЫЕ. ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ…
А когда мы созреем, когда станем СПЕЛЫМИ, мы будем писаться слитно только с наречием СКОРО. Потому что жизнь очень скоро прошла.
СКОРОСПЕЛЫЕ… Нам осталось только это СКОРО как напоминание: скоро, скоро…
Пусть цветут ЗЕЛЕНЫЕ. ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ. Пока их ЕЩЕ не стало нашим УЖЕ.
Непроизносимое Л
Эта история вызывает грустное чувство, и чувство это тем грустней, что в слове «чувство» не произносится В, а в слове «грустное» не произносится Т… Видимо, то, о чем здесь рассказано, носит не случайный характер…
Работало Л в слове ЗЕМЛЯ. Прекрасно работало. Стоя рядом с ударной гласной, оно в какой-то мере принимало на себя удар, — позиция небезопасная, но достаточно четкая и выразительная. Потому что, когда принимаешь удар на себя, твоя позиция значительно ясней, чем тогда, когда уклоняешься от удара. Таков закон звучания — незыблемый фонетический закон.
Словом, хорошо работало Л, и никого не удивило, когда его перевели в слово ОБЛАКО, что было, конечно, повышением по сравнению с ЗЕМЛЕЙ. И, понимая это, Л стало звучать тверже, хотя уже не так четко и выразительно, потому что стояло далеко от ударной гласной и не спешило ставить себя под удар. Некоторые даже читали его как В, чего раньше, в слове ЗЕМЛЯ, никогда не случалось.
Но ОБЛАКО есть ОБЛАКО, и в нем любое, даже не слишком звучное положение достаточно высоко, чтобы с ним считаться. Поэтому Л недолго держали в ОБЛАКЕ, а прямо из ОБЛАКА перевели непосредственно в СОЛНЦЕ.
Повышение — выше некуда. Радуются за Л его земляки: 3, Е, М и даже Я, которое редко за кого-нибудь, кроме себя, радуется.
Радуются, но вместе с тем и недоумевают:
— Что-то не слышно нашего Л там, на СОЛНЦЕ. Всех остальных слышно, а его нет. Уж не сняли ли?
Заглянули в грамматику: нет, не сняли. Пишут Л в слове СОЛНЦЕ по-прежнему, только не произносят вслух, потому что стало оно там непроизносимой согласной.
— Ну, дела! — удивляются земляки. — Было произносимым, а стало непроизносимым! Нет уж, братцы, лучше произносимым быть на ЗЕМЛЕ, чем на СОЛНЦЕ-непроизносимым.
Почему окно большое, а глазок маленький
В старину, которой не помнит уже ни один человек, а помнят только самые старые книги, жили-были в нашем языке два друга-синонима: ОКО и ГЛАЗ. Означали они примерно одно и то же, а назывались по-разному, и удивляться тут нечему: у синонимов такое бывает. И хотя значение у них было общее, но у каждого своя семья. У ГЛАЗА — ГЛАЗНИЦА, ГЛАЗУНЬЯ, потом еще малыш ГЛАЗАСТИК и самый маленький — ГЛАЗОК. Большая семья, не сглазить бы. А у ОКА — ОЧКО и ОЧКИ, затем ОКНО со всем своим выводком: ОКОШКОМ, ОКОННИЦЕЙ, ПОДОКОННИКОМ, — даже, представьте, врач ОКУЛИСТ и рыба ОКУНЬ. Что там говорить, семьи слов как всякие семьи: когда начнут расти, их уже не остановишь.
Но ведь слова не трава: каждое требует внимания. За одним нужен глаз да глаз, за другим — око да око… А чуть недоглядишь…
Обратите внимание: в семье ОКА выросло такое ОКНО, которое раз в сто больше своего родителя, а у ГЛАЗА ГЛАЗОК — каким был, таким и остался. В него если смотреть, то только из квартиры на лестничную площадку, а если оттуда в квартиру посмотреть, так и вовсе ничего не увидишь.
А в ОКНО откуда ни погляди — всё как на ладони: с улицы поглядишь — комната на ладони, из комнаты поглядишь — на ладони улица.
Обидно, конечно, ГЛАЗУ. Стыдно, что у других вон какие ОКНА, а у него — какой-то ГЛАЗОК.
— Ты чего, ГЛАЗОК, на лестницу пялишься?
— А чтобы видеть, кто пришел, чтоб не открывать постороннему. Как звонок позвонит, так тут и собираются сразу: и мама, и папа, и дедушка, и бабушка… Как перед телевизором.
— Неужели так интересно?
— А для того, чтоб не пускать постороннего. Или того, кого не хочется пускать.
— Скучно это. Надо бы всех впускать. Раз позвонил— заходи, гостем будешь. Так и жить веселее, откроешь дверь, а тебе — сюрприз. А если заранее подглядеть, не будет никакого сюрприза.
— Не будет сюрприза, зато не будет и неприятностей. Нам лучше потихоньку, незаметно, без сюрпризов.
Так вот почему этот ГЛАЗОК такой маленький: ему просто стыдно быть большим. ОКНУ не стыдно, оно у всех на виду: с какой стороны ни погляди, все в нем как на ладони. А ГЛАЗОК приучен к тому, чтобы не смотреть, а подглядывать, вот почему он так измельчал.
Собственно, даже не измельчал, а каким был, таким и остался, но это все равно чести ему не делает. Посмотрите-ка на ОКО: ведь оно такое же, как и ГЛАЗ, маленькое, а какое от него произошло ОКНО?
Да, что там ни говори, мы должны быть больше тех, от кого происходим. И шире, и выше тех, от кого происходим. А иначе просто не стоит происходить.
Добрый корень
То, что ДОБРЫЙ и ДОБЛЕСТНЫЙ одного корня, весьма обнадеживает. Значит, проявит еще свою доблесть доброта и не лишится доброты доблесть…
К сожалению, есть и третье слово того же корня: УДОБНЫЙ. Не всякий ДОБРЫЙ и ДОБЛЕСТНЫЙ может перед ним устоять.
Потомки древнего глагола
Жил когда-то в старину глагол БУКАТИ. Сам то он давно исчез, но дело его на земле осталось. Это об этом самом деле сейчас говорят: «Не гуди так нудно и назойливо!» А раньше говорили кратко: «Не букай!»
Ну, понятно, дело не какое-нибудь выдающееся, но главное, что глагол при деле. При действии. А пока ты при действии, можешь чувствовать себя полноценным глаголом. Однако если уж ты глагол, думай не только о настоящем времени, но и о будущем, чтобы и в будущем какую-то о себе память оставить.
Вот от таких-то мыслей и появились у глагола БУКАТИ двое отпрысков: большенький БЫК и меньшенькая БУКАШКА. Брат и сестра, и, хоть сходство у них не такое уж родственное, оба в папашу гудят: один грубо, другая тоненько, но одинаково нудно.
Букал на них старый глагол, воспитывал:
— Ты, БЫК, стал настоящим скотом, а ты, БУКАШКА, что называется, насекомое. Горе мне с вами на старости лет.
Ну, дети не молчали, отбукивались каждый как умел: один грубо, другая тоненько. Так и букали друг на друга, кто кого перебукает. А что толку? Один как был, так и остался скотом, а другая не пошла дальше насекомого…
Потомки наши… Они ведь потомки не только потому, что ПОТОМ родились, а главное — потому, что родительским ПОТОМ кроплены… А букают как! Послушать только, как они на родителей букают! И глагола этого — БУКАТИ — давным-давно на свете-то нет, а они все равно букают! Находят глаголы!
Бывшие существительные
Когда за словами не видно дела, существуют только слова, а ведь ДЕЛО тоже как-никак существительное. Ему нельзя не существовать.
Очень страдало ДЕЛО по этому поводу, а потом не выдержало, отправилось в район. Так, мол, и так, надо что-то предпринять в интересах дела.
Выслушали ДЕЛО внимательно, говорят: — Своевременный сигнал. Зайдите где-нибудь в районе одиннадцати.
Зашло в одиннадцать.
— Зайдите, — говорят, — завтра. В районе четырех.
Вот тебе и РАЙОН. Был настоящим существительным, а теперь обюрократился, превратился в служебное слово. В РАЙОНЕ четырех… Ведь здесь В РАЙОНЕ — предлог… Всего лишь предлог, чтоб не заниматься ДЕЛОМ.
Махнуло ДЕЛО рукой на район, отправилось в область. Там тоже выслушали его, поддержали:
— В области перехода от слов к делу у нас пока еще не все доработано, хотя имеются определенные сдвиги в области перехода от слов к словам…
И поняло ДЕЛО, что ОБЛАСТЬ тоже превратилась в служебное слово. В ОБЛАСТИ (в данном случае — перехода) — тоже предлог. Предлог для того, чтоб не переходить ни к каким делам, а только говорить о переходе к делу.
Так и вернулось ДЕЛО домой, ничего не добившись. Стало помаленьку переходить от дела к словам — раз уж нет никакой возможности перейти от слов к делу.
На собраниях стало выступать. На совещаниях.
— В деле перехода от дела к словам…
В ДЕЛЕ — это уже не существительное, это предлог. Всего лишь предлог, чтоб не думать о деле…
Место числительного
Один спрос с тех, что впереди, и совсем другой спрос с тех, что сзади.
Когда числительное стоит перед существительным, оно понимает, что главный спрос не с существительного, а с него, и дает четкую и определенную информацию о количестве:
— Два часа. Три метра. Пятьдесят человек.
А попробуйте его поставить после существительного, и у него сразу изменится отношение к делу. В конце концов, почему задние должны отвечать за передних?. Спрашивайте с существительного, раз оно у вас впереди. Видно, теперь уже никого не интересует количество, раз числительное на втором плане.
И числительное отвечает весьма приблизительно:
— Часа два. Метра три. Человек пятьдесят.
Может, пятьдесят, а может — пятьдесят один или сорок девять. Неточная информация, не исключено, что взятая с потолка.
Ах, вам нужна точность?
В таком случае обеспечьте подобающее место числительному, поставьте его впереди. А уж потом спрашивайте.
С передних!
Письмо того, кто, увы, не является исключением
Милостивый сэр!
Позволяю себе Вас беспокоить, поскольку среди представителей Вашего круга Вы являетесь приятным исключением. Во-первых, в отличие от других слов иностранного происхождения, Вы имеете после согласной Э, а не Е, как это диктуется правилом, и смело пишетесь: СЭР, подобно МЭРУ и ПЭРУ. Во-вторых, будучи МИЛОСТИВЫМ, Вы не стесняетесь иметь суффикс — ИВ-, хотя на него и не падает ударение. А ведь все остальные в подобной ситуации могут позволить себе только суффикс — ЕВ-. Так что и в этом смысле Вы — приятное исключение.
Милостивый сэр, я всегда мечтал о таком исключительном положении, но мне, увы, это не удавалось. Когда я женился… Да, я, как и многие, начал с того, что женился, но, поверьте, не по любви, а единственно для того, чтобы сыграть свадьбу. СВАДЬБА, Вы знаете хотя и происходит от глагола СВАТАТЬ, но в ней пишется Д, а не Т. В то же время в ЖЕНИТЬБЕ пишется Т, как и в глаголе ЖЕНИТЬСЯ. ЖЕНИТЬБА, увы, не является исключением, а СВАДЬБА является, поэтому меня интересовала свадьба, а отнюдь не женитьба.
Я распахнул двери настежь для знакомых и незнакомых гостей, потому что НАСТЕЖЬ — в отличие от других наречий на Ж — пишется с мягким знаком. Я принимал поздравления. Мне желали счастья, здоровья, благополучия, но всё это такие заурядные слова. И СЧАСТЬЕ, и БЛАГОПОЛУЧИЕ, и, увы, ЗДОРОВЬЕ подчиняются общим правилам. В этом я убедился позднее.
В общем, свадьба моя превратилась в женитьбу, как это бывает у всех. Тогда, милостивый сэр, я решил подняться по служебной лестнице, — поверьте, не ради карьеры. Что такое карьера? Заурядная вещь, в корне у нее мягкий знак, как это диктуется общим правилом.
Другое дело — служебная лестница. ЛЕСТНИЦА хотя и происходит от глагола ЛЕЗТЬ, но пишется через С, а не через 3, то есть относится к числу волнующих меня исключений.
Я не поднялся по этой лестнице. Я не поднялся ни по какой лестнице, потому что исключения в этой жизни — не для меня.
Милостивый сэр, я чувствую, что во мне было, было что-то исключительное, но я похоронил его среди мебели, посуды и прочей домашней утвари, и мне остается утешаться лишь тем, что в слове УТВАРЬ, в отличие от прочих слов этого корня (ТВОРИТЬ, ТВОРЕНИЕ, ПРЕТВОРЕНИЕ) в безударной позиции пишется А, а не О. УТВАРЬ — это тоже своего рода исключение, вот почему я предпочитаю не ТВОРИТЬ, а собирать всякую УТВАРЬ.
Но я был способен на большее, поверьте, я был способен на большее. Если б я не подчинялся общему правилу, если б не писался так, как пишется множество других, таких же, как я, безвестных слов…
Милостивый сэр, я хочу вас спросить: почему? Почему в нашем языке одни слова должны подчиняться правилам, а другие не подчиняются, и их, однако, все запоминают? Почему у нас помнят лишь тех, кто нарушает общее правило, а тех, кто его соблюдает, даже не пытаются удержать в памяти?
Каждому хочется быть исключением, но мы уважаем правила, милостивый сэр. Слишком часто нарушение правил в нашем правописании оборачивалось ошибкой…
Подписи своей не ставлю: меня не нужно запоминать, поскольку я, в отличие от Вас, не являюсь исключением.
Примите мои заверения, милостивый сэр, и передайте поклон мэру и пэру.
Предлог для любви
Разговор шел о любви. Сначала несерьезный, ни к чему не обязывающий. А когда разговор стал обязывающим, заговорили о свадьбе.
О свадьбе… Предлог О для СВАДЬБЫ — не предлог. Какая-то одна буковка, а ведь у нас — СВАДЬБА. Такое раз в жизни бывает, неужели не потянем, не добавим по буковке, чтоб уж предлог так предлог?
Потянули. Добавили. И пошел разговор ПРО СВАДЬБУ. Не О СВАДЬБЕ, а ПРО СВАДЬБУ. Гулять так гулять.
Отгуляли. Потом еще поговорили ПРО СВАДЬБУ. Потом повспоминали ПРО СВАДЬБУ. И повели разговор ПРО СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ. ПРО СЧАСТЛИВУЮ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ.
Но разве предлог ПРО — предлог для СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ?
Конечно, можно обойтись и этим предлогом. Некоторые обходятся. Но ведь у нас одна семейная жизнь. Неужели мы не стянемся на одну семейную жизнь? Понемножку, по буковке, в чем-то себе откажем, в чем-то другим откажем, — а там, смотришь, и заживем.
Стали копить по буковке. Долго копили. Уже и половина жизни прошла, а счастливая семейная жизнь все не начиналась.
Ничего, поднакопим — тогда заживем.
Поднакопили. Теперь можно жить.
Н пошел разговор ОТНОСИТЕЛЬНО СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. Долгожданный разговор ОТНОСИТЕЛЬНО СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.
ОТНОСИТЕЛЬНО! Вот это предлог! Но счастливая семейная жизнь почему-то не получается. Из двенадцати букв предлог — а жизнь не получается.
Попробовали завести разговор ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБВИ (не пропадать же предлогу!), но ЛЮБОВЬ куда-то исчезла. А ведь была! С нее-то, собственно, все начиналось.
Стали искать ЛЮБОВЬ, передвигать все накопленное с места на место. Каждую буквочку перебрали, а ЛЮБВИ не нашли.
А ведь какой хороший был разговор О ЛЮБВИ! Правда, несерьезный, ни к чему не обязывающий, и предлог был несерьезный — всего одно О (теперь таких О целых три в нашем предлоге), — зато какой был разговор!
Таких разговоров теперь нет. Такие разговоры бывают, когда достаточно самого маленького предлога, чтобы говорить О ЛЮБВИ. А когда мы, перебрав все предлоги, начинаем говорить ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБВИ, или ПО ПОВОДУ ЛЮБВИ, или ПО ВОПРОСУ ЛЮБВИ, — какая уж тут любовь! Никакой любви нет, хотя предлогов для нее больше чем достаточно.
Смотри в корень!
Полюбил ЗАУРЯДНЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНУЮ. Сам на рядне спит, рядном укрывается, а ей наряды покупает.
Хоть и заурядный, а порядочный.
Потому что и ЗАУРЯДНЫЙ, и ПОРЯДОЧНЫЙ, и РЯДНО, и НАРЯД — все это слова одного корня.
А ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ все норовит побольше ухватить, все ей, ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ, не хватает. На всякие хитрости идет, чтоб удовлетворить свои хищные аппетиты.
Потому что и ХВАТАТЬ, и УХВАТИТЬ, и ХИТРАЯ, и ХИЩНАЯ, и ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ — все это слова одного корня.
Нужно все-таки в корень смотреть. Тогда не будешь на рядне спать, рядном укрываться.
Место и время
Странно, что Обстоятельство Места не смогло обеспечить себе подобающего места в предложении: ведь оно, как говорится, на этом сидит. Но бывают такие обстоятельства…
НА УЛИЦЕ ШЕЛ ДОЖДЬ.
Не сочтите это за надоевший разговор о погоде. Обратите внимание на Обстоятельство Места: НА УЛИЦЕ. Все-таки ему удалось обеспечить себе в предложении первое место.
Но это до поры до времени. До тех пор, пока не по явится Обстоятельство Времени.
ВЧЕРА НА УЛИЦЕ ШЕЛ ДОЖДЬ.
Что произошло? Речь опять-таки не о погоде, речь о том, что появилось Обстоятельство Времени, которое отодвинуло Обстоятельство Места на второй план.
Таков порядок слов. Даже Обстоятельство Места не может сохранить своего места в предложении. А кто может сохранить?
Если и может, то только до поры до времени. А придет время, точнее, Обстоятельство Времени, — и все прежние обстоятельства отодвинутся на второй план.
Потому что настоящее Место всегда определяется Временем.
Разбор предложения
Мальчик ел мороженое, которое он ел всякий раз,
когда приносил из школы хорошие отметки,
потому что приносил он отметки не только хорошие,
если не говорить о совсем уж плохих,
так что ему покупали мороженое,
чтобы заинтересовать его учением,
хотя ему было куда интересней играть со щенком.
Мальчик ел мороженое вверху, в главном предложении, а щенок сидел в самом низу, в придаточном уступительном, и просил мальчика уступить ему хотя бы кусочек.
Но мальчик то ли не слышал, то ли не верил, что мороженое может заинтересовать щенка, которому ни к чему получать хорошие отметки, — так или иначе, он, мальчик, ел мороженое и не собирался делиться со щенком.
И тогда щенок, отделенный от мальчика шестью придаточными предложениями, решил передать свою просьбу по инстанциям и обратился в вышестоящее придаточное предложение, которое оказалось придаточным цели.
В придаточном цели попытались выяснить, для какой цели щенку нужен кусочек мороженого, и, придя к выводу, что, по всей вероятности, он предполагает этот кусочек съесть, передали его просьбу в вышестоящее придаточное, чтобы выяснить, не приведет ли это к нежелательным последствиям для щенка.
Это придаточное, будучи придаточным следствия, установило, что никаких опасных последствий для щенка от кусочка мороженого не произойдет, при условии…
И тут просьба щенка была передана в вышестоящее условное предложение, которое, выяснив все условия, заинтересовалось причиной: а почему, собственно, щенку вдруг захотелось мороженого?
Придаточное причины не смогло самостоятельно ответить на этот вопрос: мало ли почему может захотеться мороженого? В жаркий день его больше хочется, чем в мороз. Тут важно учитывать время.
Естественно, что просьба щенка поступила в придаточное предложение времени. Время оказалось подходящим. Оставалось определить: должен ли мальчик делиться со щенком мороженым?
Это было нетрудно определить, поскольку определительное придаточное находилось по соседству с главным предложением, в котором мальчик, позабыв о щенке, ел мороженое…
Ел. В прошедшем времени. А теперь уже съел.
Пока просьба щенка кочевала из придаточного в придаточное, пока выяснялись все обстоятельства — цели, причины, следствия и так далее, — мальчик съел мороженое, так и не поделившись со щенком.
Трудолюбивый Портной
Жил-был Портной. У него было много различных дел, но все эти дела он умел уложить в одно слово.
На работе он порол одежду, дома порол детей, а в компании порол всякую чушь. Других слов для его занятий не требовалосЬх
Прослышало начальство, что Портной все свои дела укладывает в одно слово, Ъьщазначило Портного Старшим Портным, чтоб он и других научил экономии.
Работает Портной Старшим Портным. И опять укладывается в одно слово. На работе успевает петли метать, дома — на детей метать громы и молнии, да еще в компании метать банчок (теперь уже есть что метать: денег-то побольше стало).
Прослышало начальство про такие дела и выдвинуло Портного в Главные Портные.
Работает Портной Главным Портным. На работе стегает одежду, дома стегает детей. А что до компании, то компании у него теперь нет: Главному Портному остальные портные не компания.
Вот так он и теперь укладывается в одно слово.
Прослышало об этом начальство, само из начальства ушло, а Портного выдвинуло в начальство.
Работает Портной Начальством. Дома почти не бывает: времени нет. Детей некому стегать, пороть некому: отец все на работе да на работе.
Строчит приказы.
Ему бы на машинке строчить, но он теперь строчит только приказы.
И на подчиненных мечет громы и молнии.
А уж на совещаниях — чего только не порет!
Конечно, он и прежде чего только не порол, но тогда хоть он укладывался в одно слово.
Почему небылицы без «не» не употребляются
В те далекие, теперь уже сказочные времена, когда все слова употреблялись без «не», жили на земле просвещенные люди — вежды. Король у них был Годяй, большой человеколюб, а королева — Ряха, аккуратистка в высшей степени.
Собрал однажды король своих доумков, то есть мудрецов, и сказал им:
— Честивые доумки, благодарю вас за службу, которую вы сослужили мне и королеве Ряхе. Ваша служба была сплошным потребством, именно здесь, в совете доумков, я услышал такие лепости, такие сусветные суразицы, что, хоть и сам я человек вежественный, но и я поражался вашему задачливому уму. Именно благодаря вам у нас в королевстве такая разбериха, такие взгоды, поладки и урядицы, — благодаря вашей уклюжести, умолимости и, я не побоюсь этого слова, укоснительности в решении важных вопросов.
— Ваше величество, — отвечали доумки, — мы престанно и устанно радуемся, что у нас король такой людим, такой навистник, а королева такая складеха, какой свет не видал. Вы, ваше величество, всегда вызывали в нас чувство померного годования, и мы доумевали, что вы стали нашим королем.
— Я знал, что вы меня долюбливаете, — скромно сказал король. — Мне всегда были вдомек ваши насытность и угомонность в личной жизни, а также домыслие и пробудность в делах. И, при вашей поддержке, я бы и дальше сидел на троне, как прикаянный, если б не то, что я уже не так домогаю, как прежде, бывало, домогал.
— Вы домогаете, ваше величество! — запротестовали доумки. — Вы еще такой казистый, взрачный, приглядный! Мы никого не сможем взлюбить — да что там взлюбить! — мы никого не сможем так навидеть, как навидим вас!
— Да, — признался король, — пока я еще домогаю, но последнее время стал множечко утомим. Появилась во мне какая-то укротимость, я бы даже сказал: уёмность. Удержимость вместо былой одержимости. Устрашимость. Усыпность. И вообще — жизнь уже не кажется мне такой стерпимой, как прежде.
— Вам бы ко всему этому частицу «не», — сказал доумок, слывший среди своих большим дотепой. — И здоровье не было б таким сокрушимым, и дух таким истощимым, увядаемым.
— Это я-то, Годяй, должен употребляться с частицей «не»?
— И мы бы тоже могли, — сказал доумок-дотепа.
— Но если каждый будет со своим «не»… Мы же не сможем принять ни одного решения.
— Сможем, ваше величество! — заверили короля до-умки. Все они уже давно употреблялись без частицы «не» только в совете, а в свободное от совета время были неразлучны с частицей «не» — и доумки, и вежды, и самые строгие честивцы.
— Мы просто слегка изменим акценты, — развивая свое предложение доумок-дотепа. — Вместо того чтоб восклицать восторженно: «Ну что за видаль!» — пожмем плечами: «Эка невидаль!» Вместо того чтоб похлопать участливо по плечу: «Будь ты ладен!» — махнем безучастно рукой: «Будь ты неладен!» И вся недолга… То есть я хотел сказать, что если раньше у нас была вся долга, то теперь будет вся недолга.
И король Годяй, который и сам уже в частной жизни употреблялся частенько с частицей «не», принял это предложение. «Эка невидаль!» — сказал он и подписал указ.
Степенные вежи, юные доучки, малолетние смышленыши — все щеголяли с частицей «не» и ни за что не хотели с ней расставаться. Бывшие поседы мотались по королевству, демонстрируя свое приобретение, бывшие дотроги не подпускали к себе никого и близко, боясь, что у них отнимут частицу «не».
Какой-нибудь несмышленыш еще и слова не научился толком сказать, а уже: «Нехочу! Нежелаю!»
Да ты погоди, родимый, частица-то «не» с глаголами пишется раздельно!
А он свое: «Нехочу! Незаставите! Ненатакогонапали!»
Вот какую былицу мне довелось услыхать.
Когда-то она была былицей, а теперь — сами видите…
Потому что немало воды утекло, а когда утекает столько воды, многие былицы без «не» не употребляются…
Грозный глагол
Грозный глагол НЕСДОБРОВАТЬ не знает никаких других форм, кроме инфинитива. Еще никто не видел его в форме не то что первого или второго, но даже третьего лица, хотя третье лицо, как известно, ни к чему не обязывает. Многие такие же безличные глаголы выступают в форме третьего лица (в том числе и такой серьезный глагол, как НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ).
Если не имеешь лица, нужно иметь хоть форму лица. Это просто необходимо для общения с другими словами.
Впрочем, из всех видов общения с другими словами глагол НЕСДОБРОВАТЬ признает только управление: НЕСДОБРОВАТЬ — кому? Все равно кому. Тут главное— нагнать страху.
Скучно это, невесело. Иногда хочется быть таким же, как все, спрягаться, как спрягаются другие глаголы… Но как это будет выглядеть? Я НЕСДОБРУЮ, ОН НЕСДОБРУЕТ… Ведь засмеют!
И глагол НЕСДОБРОВАТЬ остается в своем инфинитиве. Не такая уж это плохая форма — инфинитив, он бывает и подлежащим, и вообще любым членом предложения:
— Не желаю СЛУШАТЬ! — дополнение.
— Что за привычка ВОЗРАЖАТЬ! — определение.
— Идите РАБОТАТЬ! — обстоятельство цели.
А как хорош инфинитив в повелительном наклонении!
— МОЛЧАТЬ!
Или — еще более повелительно:
— МОЛЧАТЬ, а то вам НЕСДОБРОВАТЬ!
Вот и понадобился глагол НЕСДОБРОВАТЬ. А ведь это — самое главное. Сознавать, что ты нужен, что без тебя в тексте не обойдутся, не проживут, несдобруют…
Ну, расчувствовался глагол, начал спрягаться…
Оно, конечно, не по правилам, но можно понять: ведь он, глагол, хоть и грозный снаружи, но добрый внутри. Внутри у него корень ДОБР, хоть до корня этого не так просто добраться.
Общий род
У этого рода еще сохранились признаки женского, хотя ему все чаще приходится быть мужским. Точнее: брать на себя функции мужского рода.
ТРУДЯГА — кто это? Он или она?
С утра до вечера на работе, а там по хозяйству — и женские, и мужские дела: то постирай, то свари, это отремонтируй… Давно уже не помнит ТРУДЯГА, как делятся женские и мужские обязанности. Кто кому уступает место, кто кого пропускает вперед…
УМНИЦА диссертацию защищает. Не поймешь — он или она: по самую макушку сидит в своей диссертации. Вот вытащим — поглядим, хотя и тогда разглядеть будет не просто.
Смеется над УМНИЦЕЙ НЕВЕЖДА — кстати, он смеется или она? Голос у НЕВЕЖДЫ сиплый, одежды пестрые, чтоб смеяться было веселей. Вот НЕВЕЖДА и смеется: иной, мол, ТУПИЦА живет горя не знаючи, а ты, УМНИЦА, ночей не спишь… Ты посмотри, ГОРЕМЫКА, как твой сосед ПРОЙДОХА живет! Как твои сосед ХАПУГА живет!
Действительно, посмотришь — руки опускаются. Не хочется диссертацию защищать. Ни женские, ни мужские дела не радуют.
Может, лучше прожить век НЕВЕЖДОЙ? Может, лучше прожить ХАНЖОЙ, ПРОНЫРОЙ, ПРОДУВНОЙ БЕСТИЕЙ?
Попробуем ответить на этот вопрос. Вот вытащим УМНИЦУ из диссертации — и все вместе ответим,
Двойственное число
Когда Единственное Число затоскует в своем одиночестве, а Множественному, в тесноте и сутолоке, захочется побыть одному, они вспоминают о Двойственном Числе, которого давно уже нет в грамматике, но которое, может быть, только и было в ней по-настоящему счастливым.
Два конца, два кольца, посередине гвоздик… Дело не в гвоздике этом самом — мало ли что между двумя посередине случается! — а в том, что когда двое, как-то не чувствуешь одиночества… И тесноты не чувствуешь… Потому что — вдвоем…
Два сапога пара… Два друга — хомут и подпруга… Тут и хомут не хомут, а венец свадебный, а подпруга — такая подруга, с которой не страшен самый далекий путь… Может быть, Двойственное — именно то число, которое грамматике нужно для счастья?
Но оно ушло, исчезло, сгинуло: счастье ведь не бывает долгим. И остались в грамматике лишь Единственное Число в своем одиночестве и Множественное — в своей тесноте…
— Но — откройте пошире глаза… Посмотрите на леса, на луга, на облака… особенно на то, как они пишутся. Разве лесА, лугА, облакА, да и те же глазА не напоминают вам Двойственное Число? Два лесА, два лугА, два облакА, два глазА? Ведь во Множественном должны быть лесЫ, лугИ, облакЫ, глазЫ. Такими они и были много столетий, пока не воскресла в них форма Двойственного, тоска по Двойственному, давным-давно исчезнувшему и забытому Числу…
Потому что в жизни ничто не забывается и ничто не исчезает.
И когда вы говорите: шоферА, инженерА, прожекторА, — вы, конечно, грамматически ошибаетесь, но по-человечески вас можно понять. Это тяга к Двойственному Числу, которого не могут заменить ни одиночество Единственного, ни суета и теснота Множественного, — вечная наша тяга к Двойственному Числу, без которого даже очень грамотный человек не может быть по-настоящему счастлив.
Страна Междометия
Живут себе матушка с батюшкой, в почтении друг к другу живут, и добра у них хватает, и беды они не знают. Только нет уже того, что было. То, что было, — тютю! — говоря языком далекой страны Междометии.
А ведь когда-то — э! ого! эге-ге! Теперь такого нет, у нас теперь разговоры членораздельные: раздельно матушкины, раздельно батюшкины. И нет уже прежней неразумности: ах! ой! хи-хи! А также: бах! трах! шарах! Где она теперь — горячая, неразумная, бесшабашная страна Междометия?
— Молодые мы были… Такие молодые — беда!
Не потому, что молодые, беда — это просто такое междометие. В стране Междометии и беда не беда…
— А ты какая была… Мать честная!
Не потому, что мать прежде была честна́я, а теперь не честна́я. Мать честная — это тоже такое междометие.
И жили-то как! Мое почтение!
Почтение, положим, у них и сейчас, но это уже не то, что было, без эмоций. Прежнее мое почтение было междометием и выражало не то чтобы почтение, а просто… как бы это получше выразиться… Фу-ты ну-ты! Ого-го! Ой-ой-ой!
Как вспомнишь — ну прямо-таки нет слов! Никаких слов, кроме междометий…
— Айда, батюшка, в нашу Междометию!
— Добро!
Оставили нажитое добро, променяли его на другое добро, содержащее не богатство, а всего лишь согласие. Потому что в стране Междометии согласие больше ценится, чем богатство.
И — пошли.
А куда идти-то? Где дорога в страну, где и добро не добро,'и беда не беда, и сами мы не те, а другие?
Может, ее и нет, этой дороги. Может, в страну эту мы никогда не придем… Но пока мы идем, мы становимся другими…
— Батюшки!
— Матушки!
Видите: мы уже другие. Мы опять междометия, как были в далекие нечленораздельные времена…
Потому что чувства наши остаются при нас, даже когда мы выходим в солидные имена — существительные, прилагательные, наречия и глаголы. Нужно только дать им простор — и они поведут нас в страну Нашей Молодости, поведут без всяких дорог, потому что обратно в молодость — нет дороги…
Идущие
Дождь идет.
Снег идет.
Идет по земле молва.
Споры идут.
Разговоры.
А кого несут?
Вздор несут. Чушь несут. Ахинею, ерунду, галиматью, околесицу.
Все настоящее, истинное не ждет, когда его понесут, оно идет само, даже если ног не имеет.
Об этом приходится помнить, потому что годы идут.
Жизнь идет, и не остановить идущего времени.
ДВА ВАСИЛИЯ
Василий Михеев в зоопарке работает, на должности сторожа. От зоопарка до дома километр, а то и все полтора наберется, пока с работы домой дойдешь, непременно явишься выпимши.
Придет сторож Василий домой, а там кот Василий, прощелыга из прощелыг, лежит под радиатором цыганским бароном. Его бы в зоопарк отдать, так ведь не возьмут: маленький он, сквозь решетки пролезает.
Присядет к нему хозяин, слегка дыхнет, а кот аж подскочит, душа безалкогольная. Да что кот! У себя на работе Василий Михеев одним дыхом лошадь укладывает. Эту, маленькую, которую Пржевальский не уложил.
Подскочит кот, потом на место опустится — не висеть же в воздухе, смешной вопрос! И тут хозяин его и возьмет на приземлении, чтоб не ушел, подлец, от разговора.
И тогда пойдет разговор:
— У нас, Василий, на работе народ вроде тебя, но все битый, стреляный. Сова, к примеру, за ночные дела сидит. Пингвин, к примеру, за дневные дела сидит. На свете, Василий, столько дел — гЛжа за все пересидишь, и жить некогда.
Кот Василий смотрит недоверчиво. Жизни не знает. А Михеев знает, он в этой жизни живет.
— Возьми нашего завхоза, он тоже сидит, только не у нас, в другом месте. А ведь я его, Василий, предупреждал: не воруй у бессловесных, на тебя найдутся словесные. Так по-моему и вышло. Только чем же все кончилось? Сидит наш завхоз, а на его месте другой — и еще больше ворует!
И опять хозяин дыхнет на кота, и опять перехватит его на приземлении:
— Я бы тебя, Василий, отдал в зоопарк, было б тебе среди своих веселее. Так ведь по миру пустят, единственную шкуру сдерут, стыдно будет домой возвращаться. Сколько там возле вас, бессловесных, кормится — что ночных, что дневных!
Тут Михеев растянется рядом с котом, чтоб чувствовать под боком что-то родное, и пожалуется, уже отходя ко сну:
— Потому я и переживаю, Вася, друг ты мой дорогой. Лошадь Пржевальского не пржевает, а я пржеваю… Потому что я человек. Человек, Вася, тем и отличается от животного, что он пржевает…
ТРУДНАЯ ФАМИЛИЯ
Рассказ врача
Писал классик про лошадиную фамилию. Но лошадиная — это что! Бывают фамилии, которые ни одна лошадь произнести не решится.
Я, когда еще студентом был, проходил практику на заводском медпункте. И вот сижу я на этом медпункте, принимаю больных в порядке очереди, и вдруг вваливается ко мне вся эта очередь, да такие все веселые, куда и болезни делись.
— Не все сразу, — говорю, — заходите по очереди.
Выделился из очереди плюгавенький такой мужичок, с шеей, перевязанной и перекошенной какой-то болезнью.
— Это со мной, — говорит, как будто он знаменитый артист и проводит друзей на свое выступление. — Фамилию мою хотят послушать.
— А как ваша фамилия?
— Стану я при всех говорить.
Выпроводил я лишних слушателей из кабинета.
— Так как же ваша фамилия?
— Дайте я на бумажке напишу.
Да, фамилия у него оказалась… Стал я ее в карточку переписывать — рука дрожит, будто пишу на заборе.
— Вы что, — говорю, — не можете фамилию поменять? Вы же своей фамилией оскорбляете людей, уже не говоря о том, что при вашей фамилии дети присутствуют.
Улыбнулся он холодно, свысока, как улыбаются люди невысокого роста.
— А мне, — говорит, — и с моей фамилией хорошо.
И объяснил, почему с его фамилией ему хорошо, пока те, остальные, под дверью хихикали.
У него на заводе за пятнадцать лет работы ни одного выговора. Не решаются писать его фамилию в приказе. И пускают его всюду без пропуска — стоит паспорт показать. И на собраниях никогда не критикуют.
— А была б у меня другая фамилия… Мне бы при моих трудовых показателях ни на одном предприятии не работать. А так — работаю. Не увольняют. Пусть бы попробовали уволить, да я бы их… — губы его беззвучно шевельнулись, словно он произносил свою фамилию. — А детей возьмите. Их у меня двое: один в третьем, один в шестом. И на пятерках идут, хотя учителя их не вызывают. А как они их вызовут? Пусть попробуют — вызовут…
— Да, — говорю, — устроились вы неплохо. Теперь шею поглядим.
Поглядел я на эту шею. Долго глядел. Он даже забеспокоился:
— Что, доктор, плохо?
— Не стану вас утешать. Необходима срочная операция. В область поедете. Только не знаю, как фамилию вашу в направлении писать. Неудобно: область все-таки…
— Что ж мне из-за этого — помирать?
— Не надо помирать. Просто поменяйте фамилию. В распоряжении вашем неделя. После этого я не ручаюсь за благополучный исход.
Пришлось ему поменять фамилию.
Взял он себе фамилию: Хрустальный. Хорошая фамилия. Скажешь — прямо звенит. С такой фамилией ему и операция не понадобилась, чирей его сам по себе рассосался.
Поздравил я моего больного с выздоровлением.
А на другой день, как пришел на завод, первое, что мне в глаза бросилось: «Тов. Хрустальному В. В. объявить строгий выговор с занесением в трудовую книжку».
ТАУЭР
Кто за рулем, кто за рублем, а остальные все пьющие. Сидим мы за столиком и ведем между собой разговор.
— У нас один вернулся из Англии.
— Из Великобритании?
— Черт его знает. Из Англии, говорит. Из туристической поездки.
— У нас один был в Испании. Тоже по путевке.
— Этот, из Англии, был там в тюрьме.
— По путевке?
— Я же рассказываю: у них тюрьма — это музей… Да нет, по-другому. Музей, понимаешь, это тюрьма. Тауэр.
— В тюрьме я бывал. А в музее не приходилось.
— У нас в Мелитополе есть музей.
— Не бывал. В Мелитополе я не бывал.
— Там, в этом музее в Тауэре, все осталось, как было в тюрьме.
— И свидания разрешают?
— У них не свидания, а посещения. Это же музей.
— Но если ничего не переменилось…
— Это для посетителей не переменилось. У них там служебный персонал переодет в тюремщиков и арестантов. Одни в тюремщиков, другие в арестантов. Сходство удивительное. Наш, который туда приехал, специально поинтересовался: настоящие они или их только для вида переодели?
— Ну, и как?
— Сами не помнят. То ли они в музее работают, то ли по-настоящему сидят. Настолько, понимаешь, все убедительно.
— Великобритания, ничего не скажешь!
Да, хорошо за рулем, хорошо за рублем, хорошо и где-нибудь в туристической поездке. Но лучше всего вот так, за столиком.
Правда, не всегда помнишь, где сидишь. С кем сидишь. Почему сидишь.
Как те, в Тауэре.
РАЗГОВОР С ГОЛЫМ КОРОЛЕМ
Король — голый? Черта с два! Я тут недавно в скверике одного встретил.
Штаны снял, все прочее, на спинку скамейки повесил.
Обнаглел.
Я говорю:
— Что ж это вы, туды ваше величество, голый сидите? Тут все-таки женщины ходят. Детишки маленькие.
— А с чего ты взял, что я голый?
— Вон, — говорю, — ваши вещи на скамейке висят.
— А может, это не мои? А если мои, то, может, я их купил в магазине? Одни купил, другие на мне. Что, скажешь, так не бывает?
— Чтоб в магазине купить? Бывает. Если, конечно, знакомый продавец.
Смеется:
— Ну кто ж не знает короля? У меня все знакомые.
— Тем более, — говорю. — Если имеете возможность одеться, зачем же в таком беспардонном виде сидеть?
— В каком это таком?
— В голом.
— Вот пристал. Запомни, чудак, короли не бывают голыми. Это они только в сказках голые. Да и то в этих, про голых королей.
— Все-таки знаете сказку?
— А кто ж ее не знает? А кто верит? Никто. Сказка на то и сказка, чтоб ей не верили. Эй, малыш, поди-к сюда!
Подошел малыш, как две капли похожий на того, крикнувшего: «А король-то голый!»
— Поди сюда, маленький. Знаешь сказку про голого короля?
— Знаю. Нам ее в садике рассказывали.
— Уже рассказывали? Молодцы. А ты веришь, что король бывает голый?
— Не-а.
Умница. Ну, иди. Передай привет воспитательнице. — Король подмигнул мне. — Вот так. Дети у нас умные, в первом классе алгебраические уравнения решают. У самого дети есть?
— Есть, ваше величество.
— Значит, и они решают. Понимают, что к чему.
— Извините, ваше величество.
— Ничего, не сержусь. Главное, чтоб ты понял. — Он поежился — Что-то стало холодать. Я надену штаны, если не возражаешь.
В ПРЕДЕЛАХ НОРМАЛЬНОГО
У меня температура пятьдесят, но чувствую я себя нормально. На прошлой неделе была двадцать пять, но чувствовал я себя нормально.
Я расширил границы нормального и теперь чувствую себя нормально.
— Послушай, — мне звонят, — ты не мог бы?
— Не мог бы.
На самом деле я мог бы, для меня это сущий пустяк. Ненормально отказывать в таком пустяке. А если расширить границы нормального?
Напротив дом завалился. Из окна открылся замечательный вид. На улице перекрыли движение, наконец-то у нас будет покой.
Звонок в дверь.
— Нельзя ли воспользоваться телефоном?
— Нельзя. Не работает.
Опять звонок. На этот раз телефон.
Снимаю трубку. Для меня есть отличная вещь? Сколько? Нисколько. Просто из уважения. Элементарная взятка, уважением и не пахнет, но я не отказываюсь.
Ненормально?
А если расширить границы нормального?
Я вынимаю из-под мышки термометр. Температура нормальная: тридцать шесть и шесть десятых. Правда, ниже нуля.
В природе наблюдается интересное явление: возврат к холоднокровным.
ЗАЙЦЫ
Последний трамвай. Остановка— улица Трифоновская. В вагоне двое: один входит, другой уже сидит.
— Семен Семеныч, это вы? Так поздно?
— Иван Степаныч, это я. Здравствуйте, дорогой. Садитесь, там все равно нет билетов. Поедемте зайцем. Все контролеры спят.
— Вы думаете, это удобно? Кстати, у меня проездной.
— Спрячьте! Никому не показывайте! А я думаю: что это Ивана Степаныча давно не видать? А вы, оказывается, по ночам ездите. Да еще зайцем!
— Вот именно: зайцем. Хотя, между прочим, у меня проездной.
— Прекрасно придумано: проездной. У каждого зайца — проездной. Поди догони их с проездными.
Остановка Рижский вокзал. Никто не входит, никто не выходит.
— Время-то какое позднее: половина второго. А вы, Семен Семеныч, живете совсем в другом конце города. Куда ж это вы среди ночи, если не секрет?
— Иван Степаныч, у зайца не спрашивают: куда. Зайцы бегают не куда, а откуда. Спугнут их, они и побежали. У них, как у «Запорожца», двигатель с задней стороны.
— У вас что, на работе неприятности? Или дома? Семен Семеныч, может, вы ушли от семьи?
— Нет, оттуда еще не ушел. Но уже спугнули меня, Иван Степаныч, спугнули, дорогой.
— Вы рассуждаете, как настоящий заяц.
— А разве нет? Я и есть настоящий заяц. И как зайцу мне положено ездить в общественном транспорте без билета. И вам положено.
— Ну, у меня-то проездной…
— Спрячьте. Никому не показывайте. Вы заяц, вам положено ездить без билета.
— В чем-то я с вами согласен, Семен Семеныч, но в чем-то не согласен. Хотя и приходится оглядываться и уши прижимать, но в чем-то я не заяц…
— А кто же? Случайно не контролер?
— Возможно, контролер.
Опыт показывает: из двух зайцев непременно один контролер.
— Напрасно вы меня спугнули, Иван Степаныч. Так хорошо ехали…
Семен Семеныч достал из кармана билет и предъявил Ивану Степанычу — на случай, если тот контролер.
Иван Степаныч предъявил проездной — на случай, если контролер Семен Семеныч.
Предъявили — и поехали. И каждый спрятал билет. Разве настоящий заяц осмелится ездить без билета?
КРОЛЕМЫШКА
— Понимаешь, хочу написать сказку. Я бы написал памфлет или фельетон, а еще лучше передовую статью в центральную газету, но я человек мягкий, да и не допустят меня до передовой. Поэтому лучше я напишу сказку.
— О чем же?
— О мышекролике. Или кролемышке. Не знаю, как правильно называть. Это совсем новое животное, о нем еще нигде ничего не написано. Только в газете. Что вот, мол, гены кролика пересажены мышке и получилось что-то новое, чего не было в природе.
— А при чем здесь сказка?
— Я бы даже сказал: притча. Кроликов у нас разводят, а мышей — наоборот. Уничтожают мышей всеми средствами. А кроликов специально разводят на мясо. Что же делать среди них мышекролику? Или этому кролемышке? Ведь о нем природа не позаботится, она о нем ничего не знает. Она, природа, и своих, которых создала, не может защитить, а тут какой-то кролемышка.
— Ну, если создал человек, значит, под его ответственность.
— Какая там ответственность! Он же не знает, разводить его, как кроликов, или, как мышей, уничтожать. В нем соединение добра и зла, а добро и зло несоединимы.
— Скорее неразлучны. Ведь и человек тоже, в сущности, соединение добра и зла.
— Человек — другое дело. Он может совершенствоваться, преодолевать в себе зло. А что преодолевать в себе кролемышке? Мышку? Чтобы стать стопроцентным кроликом? Но зачем тогда было соединять кролика с мышкой?
— Кролик, который преодолеет в себе мышку, уже не будет прежним кроликом. В нем появятся новые качества — те, которые возникают в результате борьбы.
— И его перестанут разводить на мясо?
— Ну почему же…
— Вот и получается, что кролемышка появился зря. Возвращаться назад к кролику — какой смысл, а вперед развиваться — куда? Но раз появился, надо жить, вести свою линию, неизвестную природе. Устраиваться между природой и человеком, которым он в одинаковой степени ни к чему… Вот об этом я хочу написать сказку, А еще лучше — притчу.
— Как же мы начнем? Жил-был кролемышка?
— В том-то и дело, что не жил и не был. Его вообще на земле не было, он только теперь появился.
— Тогда так и начнем: «Появился на земле кролемышка…»
— Начало какое-то не сказочное, вроде информации в газете. Надо как-то интересней начать, чтоб сразу было видно, что сказка.
— А если начать с его родителей? Они-то жили и были. Вот и начать: «Жили-были кролик и мышка. Они были незнакомы, никогда не встречались, но так случилось, что у них родился ребеночек».
— «Так случилось» — это хорошо. Не стоит писать о победе генной инженерии, пока еще неизвестно, победа это или что-то другое. Но как-то нереально получается: не знали друг друга, не встречались — и вдруг ребеночек.
— Еще как реально! Дальше рассказываем: «Стоит кролемышка посреди земли и не знает, что ему делать, какой такой подвиг совершить».
— Может, не надо про подвиг? Кролемышка все-таки…
— А для чего ж тогда он родился? Каждый рождается для подвига, хотя не каждый его совершает.
— Но он-то случайно родился. Неожиданно. Он ни для чего родился, просто из научного интереса. Заинтересовались ученые: а что будет, если добавить мышке гены кролика? Или кролику гены мышки? Вот он и родился. Чтоб они могли посмотреть.
— Это верно. Увидели, что получилось, а дальше хоть не живи. Но он уже живет. И не знает, что с этой жизнью делать.
— Давай так и скажем: «Получил кролемышка жизнь и не знает, что с нею делать. И пошел он тогда разузнать, расспросить других жителей, которые до него на земле жили».
— Пришел он к мышкам. «Вы зачем, мышки, на свете живете?» — «Чтоб крупу к себе в норки таскать». — «А когда всю перетаскаете?» — «Еще что-нибудь будем таскать. Потому что нет у нас в жизни другого предназначения».
— Пришел кролемышка к кроликам. «Вы зачем, кролики, на свете живете?» — «Чтобы грызть капусту. II еще чтоб дрожать: как бы нас, чего доброго, не пустили на мясо». — «А разве пускают?» — «Еще как. В этом наше высшее предназначение. А низшее — грызть капусту. У нас в жизни два предназначения: низшее и высшее, но нам больше низшее по душе».
— Удивился кролемышка, что кролики высшим предназначением пренебрегают. У него-то назначение было одно: удовлетворить любопытство своих создателей.
— И тогда пошел он к создателям: «Вы для чего, создатели, живете?» Создатели переглянулись. Улыбнулись. Для них это был решенный вопрос. «А для того и живем, чтоб таких, как ты, создавать и смотреть, что из этого получится».
— «И что же из меня получилось?» — спросил кролемышка. «Кролемышка, — ответили создатели, — а что получится дальше, это нас уже не интересует. У нас другие вопросы на повестке дня».
— «Какие вопросы?» — спросил кролемышка и этим вопросом рассердил создателей. «Послушай, кролемышка, мы ведь, когда тебя создавали, никаких вопросов в тебя не закладывали. Мы считали, что ты будешь жить без вопросов».
— «Как же это — жить без вопросов?» — вздохнул кролемышка, и это тоже оказался вопрос. — «Вопросы должны задавать только те, кто умеет на них ответить, — сказали создатели. — Вот мы, например, задали вопрос: что будет, если добавить мышке гены кролика? И ответили: создали тебя, кролемышку. Так и ты: задавай себе вопросы лишь те, на какие можешь ответить. А на какие не можешь, таких вопросов себе не задавай».
— И пошел кролемышка в жизнь, лавируя между вопросами. На этот вопрос не могу ответить — пошел дальше, на этот не могу — пошел дальше…
— Но однажды встретился ему вопрос его юности: зачем он живет? И задал кролемышка этот вопрос какому-то незнакомцу — большому, серому, с острыми зубами. И ответил ему незнакомец. с зубами: «Ты живешь затем, чтобы я сегодня не лег спать голодным. Два дня я ложился спать голодным, а сегодня встретил тебя…»
— «И благодаря мне ты не ляжешь спать голодным?» — Кролемышка очень обрадовался, а это значит, нто добро в нем одержало победу над злом. Кролик победил в нем мышку, но теперь уже не дрожал при мысли, что выполняет свое высшее назначение. Главное, что он нашел свое назначение, это было самое главное.
— И получилась у нас сказка со счастливым концом.
— Ну, со счастливым или нет, это нужно спросить у кролемышки.
— Спрашивать-то теперь не у кого. Остается одно: последовать совету создателей — самим спросить и самим ответить. Поставить себя на место кролемышки и ответить: счастливый это или несчастливый конец.
СОРОКА-ВОРОНА КАШКУ ВАРИЛА…
(Рассказ жаворонка)
Почему я, спрашиваете, в чистом небе пою? Я бы с удовольствием пел где-нибудь в другом месте. На дереве, например. У нас отличные есть деревья, высокие, стройные. С такого дерева запеть — далеко слышно.
Так они что сделали? Я про наших птиц говорю. Разделили между собой все деревья, обсели, что называется, и пускают на них друг дружку по знакомству. Я тебя на свое, ты меня на свое.
Допустим, зяблик сидит на ольхе, а воробей на осине. Крепко сидят, основательно. Так зачем ему, зяблику, пускать на ольху соловья? Он лучше пустит воробья: хоть воробей и не так хорошо поет, зато потом его, зяблика, к себе на осину пустит. И будет зяблик петь в двух местах: у себя на ольхе и у вор#обья на осине. А пустит еще дятла с акации — и на акации запоет.
А вы еще спрашиваете, почему у нас, вместо соловьиных трелей, сплошное чириканье. Они же все деревья обсели — не пробьешься.
Я тут недавно песенку сочинил. Наши говорят, с такой песней не стыдно и на тополь. Сунулся я на тополь— куда! Там уже свои чижики-пыжики, свои сороки-вороны.
— Не слишком ли, — спрашивают, — для вас высоко?
— Не слишком, — говорю. — Я в небо поднимаюсь и выше.
— В небо — пожалуйста. А здесь все-таки дерево, солидная трибуна. Послушайте сначала, как другие поют.
ПАССАЖИР ЧИЖИК, ВЫЛЕТАЮЩИЙ ДО ХАРЬКОВА
(Рассказ зяблика)
Мы всегда недовольны: и то у нас не так, и это не по-хорошему. И не те птицы на деревьях поют, и не те, какие надо, наедаются досыта. А я вам так скажу: слишком хорошо живем. Чересчур хорошо живем, вот в чем главная причина.
Сижу я недавно в аэропорту. Смотрю, как самолеты взлетают и на землю садятся. Они, пока не взлетят, такие большие, а потом становятся маленькие. А те, которые садятся, наоборот: сначала маленькие, а потом становятся большие.
Сижу я и думаю: почему так? Я сколько летаю, а все одинаковый: что там, в небе, что здесь, на земле. Да если б меня так все время то сжимало, то разжимало, я бы не выдержал…
А мы не ценим. Своего не ценим. Все на чужое заглядываемся. А на что заглядываться? У них только успевай сжиматься да разжиматься…
Так я, значит, думаю, пока на аэродроме сижу. И вдруг слышу:
— Пассажир Чижик, вылетающий до Харькова, подойдите ко второму окошку.
Опять, думаю, чижик куда-то летит, опять ему у нас не нравится. Раньше он все на юг улетал, а теперь почему-то решил в Харьков.
Интересно узнать, что у него там в Харькове. И почему его ко второму окошку подзывают.
Заглянул, а это не чижик. Другой. Просто такая фамилия.
И стоит этот другой по фамилии Чижик у второго окошка, а ему говорят: I
— Сегодня не полетите.
И он, представьте себе, не летит. А мы — недовольны.
Хотя нам никто не указывает, к какому окошку подлетать, мы подлетаем к любому, к какому захочется. И пусть нам кто-нибудь скажет, что мы сегодня не полетим! Пусть мне кто-нибудь скажет:
— Зяблик, ты сегодня не полетишь.
Да я ему в глаза рассмеюсь.
А этот — не смеется.
— Мне, — говорит, — завтра нужно быть на работе.
Слыхали? На работе!
Пусть бы мне кто-то сказал, что мне нужно быть на работе… Пусть бы сказал…
И все равно мы недовольны.
Нет, надо нам устроить аэродром. И чтоб каждого подзывали к окошку и говорили, кто полетит, а кто не полетит. И куда полетит, чтоб говорили, а не так — кому куда вздумается. И чтоб нас все время то сжимало, то разжимало, то сжимало, то разжимало…
Вот тогда бы мы были довольны. Всем довольны. И чижик наш никуда бы не улетал, а сидел на месте, как этот, из Харькова.
Послушал я.
Знаете, как сорока-ворона кашку варила, деток кормила? Тому дала, тому дала, тому дала, тому дала, маленькому недостало? То же самое и у них. Они ведь, когда поют, больше про кашку думают, чем про песню. Где ж тут достанет маленьким — достало бы большим!
Наши говорят: одной кашкой сыт не будешь.
Вы думаете, это не верно?
Верно, еще и как.
Обратите внимание: те, которые одной кашкой живут, никогда не бывают сытыми.
ОДНА ИЗ ФАЗ ШИСТОЦЕРОВ
Великое прошлое шистоцеров является залогом их великого будущего и утешением в их убогом настоящем. Так говорит мой друг шистоцер, когда мы изредка встречаемся с ним, чтобы поговорить как шистоцер с шисто-цером.
Мы бы встречались чаще, но мы проходим одиночную фазу развития, а это значит, что каждый сам по себе. Бывают в жизни саранчи (в том числе и пустынной саранчи — шистоцеров) такие периоды, когда каждый живет сам по себе. Это называется одиночной фазой развития.
Нас не тянет друг к другу, и если мы изредка встречаемся, то лишь для того, чтобы вспомнить великие времена, когда несметные армии пустынной саранчи превращали землю в пустыню. Взгляните на древние фрески, разверните старинные папирусы — и вы убедитесь, что в былые времена шистоцеры едва не покорили весь мир, благодаря своей несметности, сплоченности и дисциплине. Миллиарды шистоцеров — да что там миллиарды! — сотни, тысячи миллиардов шистоцеров выступили в едином строю…
— Что-то вас давно не видать, — говорит мой друг шистоцер, заглядывая ко мне под кустик.
— Да ведь и вас не видать…
Никого из нас не видать, мы прячемся под кустиками, стараясь не высовываться наружу. Один в поле не воин, мы в поле и каждый из нас один. Одиночная фаза развития.
В былую, стадную фазу шистоцеры ничего не страшились, они покоряли чужие земли, сметая все на своем пути. Сначала шли пешком, форсируя встречные реки, оставляя за собой голые, безжизненные поля. Их клевали птицы, их давили машины, их опрыскивали смертельными ядами, жгли огнем, они гибли тысячами— да что там тысячами! — они гибли миллиардами, но никто не покинул строй.
Было время, когда шистоцеры умирали только в строю, только на марше. Было время, когда они жили локоть к локтю, плечо к плечу. Мирная жизнь нас разъединяет, а война объединяет в полки и дивизии, и тогда мы шагаем — локоть к локтю, плечо к плечу, и умираем, и рождаемся только на марше.
Или это миф о шистоцерах? Но мифа шистоцерам не выдумать…
— Что-то у меня ломит суставики, — говорит мой друг шистоцер.
— А брюшко? Как у вас брюшко?
Глупейшие, нелепейшие разговоры! Подумать только, о чем мы между собой говорим! Мы совершенно не умеем общаться— вероятно, потому, что проходим одиночную стадию, когда каждый под своим кустиком сам по себе…
Тогда, на марше, пешая армия шистоцеров делала до двадцати километров в день, то и дело меняя цвет, как того требовали правила маскировки. Черная форма сменялась желтой, желтая зеленой, а когда зеленая сменилась розовой, шистоцеры обрели крылья. Пехота стала авиацией, наиболее грозной армией современной войны.
Армия шистоцеров взмыла вверх, и на земле наступило солнечное затмение. Не было видно ни солнца, ни неба, только сплошная огненная туча, несущая смерть. Смерть всему, что пробивается из земли к солнцу.
Мы представляем, как огненная туча взмывает с земли, мы слышим металлический звон. И чувствуем мы себя частицей огромного механизма, все сокрушающего и несущего смерть…
— Я хотел бы умереть в строю, — говорит мой друг, удобно располагаясь под кустиком, и я понимаю: не умереть ему хочется, а жить, подольше жить, продлить по возможности свою безмятежную одиночную фазу.
— Может, нам еще удастся, — говорю я. — Друг мой, мы полетим с тобой вместе, локоть к локтю, плечо к плечу. И если я погибну в пути, обещай, что ты расскажешь обо мне будущим поколениям.
Никуда мы не полетим, наша фаза бескрылая, мы рождаемся и умираем без крыльев.
— Я умру рядом с тобой, — говорит мой друг. — Нет, я умру вместо тебя…
Мы запеваем старую походную песню. Эта песня когда-то пелась на марше, в строю, но мы поем ее, удобно расположившись под кустиком. Нам не мешают чужие локти и плечи, а также собственные крылья за спиной.
Пустынная саранча… Мы в пустыне только живем, и не нам, не нам превращать землю в пустыню…
ЛУНА В ПРОДУКТОВОЙ СУМКЕ
— Сколько повторять: искать нужно не глазами, а ноздрями!
Петрович говорит это Францику — и совершенно напрасно: ищет-то не Францик, ищут Францика.
— Францик, Францик, ну где же ты, Францушка, ну иди сюда, Франц!
Вот, наверно, икается там, во Франции! Хотя к Франции Францик отношения не имеет, Франц — немецкое имя, а не французское. Но он и к немцам не имеет отношения, потому что никогда не выезжал из России. И не только из всей России, но даже из этого двора. Просто назвали его Франциком, считая, что коту иностранное имя подходит больше, чтоб не путать его с нашими отечественными людьми.
У нас по-всякому могут назвать. Петровича и вовсе никак не назвали. Петя, доставивший его во двор, вскоре уехал вместе с родителями, а собаку оставили — как ее называть? Стали звать Петровичем, в память о Пете. Хоть человек и выехал, но о нем не следует забывать. Конечно, по отчеству звать собаку не принято, тем более что Петрович был в то время щенок, но совсем не называть тоже было нельзя. Так у нас заведено во дворе: кто здесь живет, непременно должен как-нибудь называться.
Теперь Петрович уже большой, вырос на Францевых хлебах, верней, на хлебах Францевой старухи, нашей общей кормилицы. К Францевой старухе половина двора ходит, как в ресторан, а к другой половине она сама ходит. Выйдет во двор, пройдется между кустиками — и все сыты, довольны.
А живет у старухи только Францик, здоровье у него слабое, не может он, как другие, под забором. В детстве его кто-то помял — не со зла, а так, от избытка силы, — и с тех пор Францик никак не отойдет. Старуха его на инвалидность перевела, держит под специальным присмотром. Хорошая старуха. Всех дворовых котов и собак она уважительно называет: животные. Для человека такое название унизительно, а кота и собаку оно возвышает, приобщает ко всем животным земли.
— Совсем не умеют искать, — сокрушается Петрович, сидя рядом с Франциком в его укрытии.
Дорос Петрович до своего отчества, теперь его можно смело так называть. Умное животное, со всех сторон жизнь понимает. Это он открыл глаза Францику на общественное и личное счастье. Францик о них ничего не знал, хотя бессознательно стремился к личному счастью, пренебрегая общественным. Трудно строить сразу оба счастья, каким-то из них приходится пренебречь. Тех, которые пренебрегают личным, называют героями, а тех, которые общественным, — рвачами. Францик не рвач, но он и не герой. И он не виноват, что его личное счастье стало поперек дороги общественному…
Общественное счастье заключалось в том, что внучка старухи начала самостоятельную семейную жизнь, а жить ей с мужем было негде — только в этой квартире, где жили Францик и старуха Францева. Старуху на радостях определили в Дом ветеранов труда. Прекрасный дом, но не для Францика, поскольку Францик не был ветераном труда. У него жизнь складывалась совсем по-другому.
Старуха медлила, не хотела переезжать, пока Францик не будет пристроен. В какой-нибудь дом — пусть не ветеранов труда, но не менее приличный. А молодоженам не терпелось строить свое счастье, причем именно там, где два счастья — Францика и старухи — были уже построены. Вот они и искали Францика, чтоб отправить его в Приличный Дом. А он, не желая менять свою жизнь, естественно, прятался.
Молодоженов тоже можно понять, им под забором не позволит жить домоуправление. Хотя здоровье им позволяет, но домоуправление не разрешит. Потому они и пристроили бабушку к ветеранам труда — потому что она уже ветеран, а они еще не ветераны. Ветер есть, а ран нету, как говорит старуха. Житейских ран.
— Искатели! Не умеют искать. В этом твое, Франц, спасение.
Противоречит себе Петрович. Кто, извините, говорил, что спасение не может быть где-то на стороне, что каждый носит в себе собственное спасение, как и собственную погибель? Петрович говорил. И он был совершенно прав. Францик чувствовал в себе как спасение свое, так и свою погибель.
Разве он не знал, зачем он нужен молодоженам? Знал! Но ему хотелось сомневаться. Он даже подумал: а что, если они любят его? Что, если не могут строить без него свое счастье? Старуха, например, не могла. А они, в сущности, ее родственники. Родственники от родственников недалеко падают, так, кажется, в этих случаях говорят.
Может, они счастье свое общественное построят рядом с его личным счастьем. Вот здесь их счастье, а здесь — его. А там где-то счастье старухи Францевой — в Доме ветеранов. Пусть она себе там живет, а он, Францик, останется с молодыми. С молодыми ему даже веселее, да и им веселее, потому что он тоже еще, в сущности, молодой.
А они и правда не умеют искать. Зовут, зовут, думают, он откликнется. А чего ему откликаться? Разве что что-нибудь важное, неотложное… Ужин, к примеру. Или коврик под радиатором… А может, они волнуются, беспокоятся, что его долго нет? Родственники все же. Старухины. Они там волнуются, а он здесь сидит.
Францик тихонько подал голос — так, чтоб его не услышали. И огорчился, что его не услышали. И подал погромче.
— Ох, доведет тебя твой язык! — вздохнул Петрович.
Так оно и случилось. Довел Францика его язык. И понесли Францика в продуктовой сумке в неизвестном направлении. Сначала приласкали, погладили, потом посадили в сумку, защелкнули — и привет. Привет Петровичу и всем, кто нас помнит.
Путешествие в продуктовой сумке, даже наглухо застегнутой, таит в себе массу волнующих впечатлений. Взять колбасу, к примеру. Сейчас-то ее нет, но она оставила по себе отчетливое воспоминание. А ведь жизнь, говорит Петрович, наполовину состоит из воспоминаний, на треть из надежд и только на самую малую часть из того, что мы имеем в действительности. Поэтому действительность нас не может прокормить: нас кормят воспоминания и надежды.
Путешествие в закрытой наглухо сумке, конечно, не может радовать глаз, но это истинный праздник для обоняния. Хотя и здесь не обходится без борьбы между чем-то плохим и чем-то очень хорошим. Вот пробивается из далеких прошедших дней тонкий запах голландского сыра, но его тут же заглушает одуряющий запах табака. Ничего. На табаке наша жизнь не кончается. Прислушайтесь: откуда-то из самых глубин доносится волнующий запах селедки… Но что это? При чем здесь запах стирального порошка? Терпение, терпение… Ну, вот, опять колбаса… «Полтавская»? «Столичная»?.. Пожалуй, это «Столичная водка»… Не нюхайте, не дышите! А теперь дышите! Сквозь все преграды пробился живительный запах молока…
Жаль, что нет Петровича, это по его части. А хорошо бы посидеть здесь вдвоем за ужином, за запахом ужина… Сидеть, покачиваясь на ходу, как в каком-нибудь вагоне-ресторане… Угощайтесь колбаской, нюхайте! А селедочки не хотите понюхать?.. А там, глядишь, и Приличный Дом, — выгружайтесь, приехали! Двери гостеприимно открыты, радиаторы тепленькие, любой выбирай, и во всех углах блюдечки, блюдечки, и каждое с молоком…
И вдруг Францик понял, что никакого Приличного Дома не будет. Будет мокрая, холодная ночь, пустынная лесная дорога, о которой рассказывали бродячие коты. С этого у них начиналась бродячая жизнь, и у Францика начнется. Одичает он в этом лесу. Петровича когда-нибудь встретит — не поздоровается.
Он ведь и раньше все понимал, только ему хотелось сомневаться. Когда ожидаешь плохого, хочется сомневаться, чтоб оставить местечко для хорошего. Вдруг случится хорошее, а для него нет местечка.
А так — он понимает: избавиться от него хотят. Чтобы там, где он жил, строить свое семейное счастье.
Он, Францик, тоже по-своему виноват: не лезь со своим личным счастьем в счастье общественное. Не маленький, должен понимать: личное должно уступать дорогу общественному.
Сумка раскрылась, пропуская сырую, холодную ночь. Пустую и такую одинокую, несмотря на присутствие двух молодоженов. Там, во дворе, один Петрович, бывало, развеивал его одиночество, а эти двое — не могут… Хоть бы сумку оставили… Куда ему выходить из сумки — в такую ночь?..
Сумка раскрылась шире, и в нее вкатилась луна. Круглая, желтая, пахучая луна, похожая на голову голландского сыра.
ТРИ ЖИЗНИ
(Рассказ кролика)
У нас на последнем общем собрании выгнали волка из хищных. В травоядные перевели. За превышение полномочий.
Выгоняли единогласно, при одном воздержавшемся. Бык воздержался.
— Он, — говорит, — у нас всю траву сожрет. Записали мнение быка в протокол, чтоб ему при случае вспомнить. А волка перевели в травоядные.
Тра́вы в этом году уродили высокие, но волка, известно, сколько ни корми… В хищных привык, не хочется ему в травоядные.
— Будешь огрызаться, — сказали, — еще дальше переведем. В грызуны.
Тут, конечно, я взял слово для справки.
— Почему, — говорю, — в грызуны — это дальше? И почему, собственно, в грызуны? Мы в грызунах всю жизнь, и нам, может, неприятно, что наша жизнь для кого-то наказание.
— Плохо, когда для себя жизнь наказание…
Записали и эту реплику быка.
Затем был вынесен на обсуждение вопрос: какая жизнь может служить наказанием? У хищных своя жизнь, у травоядных своя, ну, и у грызунов своя, естественно. Если их между собой сравнивать, то, возможно, одна перед другой проиграет, но если не сравнивать, то вполне можно жить.
Проголосовали единогласно: не сравнивать.
Жить, но не сравнивать. Чтоб можно было жить.
— Ну, если не сравнивать, так он у нас точно траву сожрет.
Это сказал бык. Будто специально для протокола.
ЛЕВ, СКАЖИ: «Р-Р-Р!»
— Лев, скажи: «Р-р-р!»
— Р-р-р!
— Ты слышал? А теперь ты скажи.
— Ы-ы-ы!
— У тебя не получается.
Лев тоже видит, что не получается, и повторяет наставительно:
— Р-р-р!
Работа у него хорошая. Скажешь «р-р-р» и можешь спать целый день, только на обед просыпаться. И помещение, во-первых, отдельное, а во-вторых, открытое, так что, во-первых, никто за хвост не дергает, а во-вторых, все хорошо видно.
Не сплошь, конечно, а так: немножко видно — немножко не видно — видно — не видно — видно — не видно… В полосочку.
Хорошее место. Сколько тут народу околачивается в надежде, что место освободится. Жизнь такая пошла: многого не имеем, но главное — то, что имеешь, не потерять. А то будешь вот так ходить, на чужие места заглядываться. Потому и стараешься, чтоб не остаться без места.
— Р-р-р!
— Слышишь, как он говорит? А ты как говоришь?
В том-то и дело. Говорил бы ты так, ты бы здесь сидел и говорил, а пока что лев будет говорить, а ты слушать. Подрасти сначала, выработай произношение. И палец вынь из носа. Ты видел, чтобы лев держал палец в носу? Держал бы он палец в носу, разве б его на такое место посадили? И лев говорит: — Р-р-р!
Просто так говорит, чтоб не потерять квалификации.
Потом лев засыпает, и ему снится кошмарный сон. Будто сидит он на этом уважаемом месте и кто-то говорит ему:
— Лев, скажи: «а-а-а!»
— Лев, скажи: «бе-е-е!»
А он молчит. Ни «а», ни «бе» он не может сказать, потому что умеет говорить только «-р-р-р», одно только «р-р-р» из всего алфавита. И он в ужасе просыпается.
Ну и что ж. Свою работу он знает, и больше с него нечего спрашивать. Когда его сюда брали, от него одно требовалось: чтобы он умел хорошо говорить «р-р-р!». Это в последнее время пошла мода чесать от первой до последней буквы весь алфавит, но спроси у них «р-р-р!», настоящее «р-р-р!», какое в прежние времена говаривали, и они тебе скажут:
— Ы-ы-ы!
Интеллектуалы.
Лев успокаивается. Ничего, без него все равно не обойдутся. Пусть попробуют, кто им будет говорить «р-р-р!»?
ТЕКСТ ДЛЯ ЛОШАДИ
Этой лошади давно уже нет на свете. Я ее никогда не видел, но с ней однажды пересеклась моя судьба. Что удивительного? С лошадьми не раз пересекалась судьба человечества, а в двадцатом веке с человечеством пересеклась судьба лошадей. Пересеклась, чтобы больше уже никогда не пересекаться.
Дверь открылась, и вошел молодой человек. Вошел, почти не касаясь пола, — легко и стремительно. Так ходят те, кому больше приходится ездить.
Молодой человек сказал:
— Я приехал на машине из Черновиц, чтобы вы написали текст для меня и моей лошади.
Он ездил на машине, но ему нужен был текст для лошади. Потому что был он из цирка шапито. Этот цирк в те дни гастролировал в Черновицах.
— Для лошади мне не приходилось писать.
— Когда-то же надо начать…
Если я непременно должен писать для лошади, то, конечно, когда-то надо начать. И чем скорее, тем лучше: для лошадей еще так мало написано.
— Боюсь, что я не сумею.
— Сумеете! Вы пишите для нее, как для человека.
Он стал рассказывать о своей лошади. Она у него была совсем как человек. Причем умный человек. Потому что люди тоже бывают разные.
В тот раз я ничего для него не написал. Но вот прошло время, я был в Москве, и однажды снова открылась дверь и впустила ко мне молодого человека. Того самого, с лошадью.
Вошел он, конечно, без лошади, но привела его ко мне лошадь. То есть не сама лошадь, а желание, чтобы я написал текст для его лошади.
И я написал.
Это была интермедия для двух действующих лиц, хотя о двух лицах в данном случае можно говорить с некоторой натяжкой. Лошадь была лицом положительным, ее партнер — лицом отрицательным. Он изображал пьяницу и хулигана, а она что-то вроде народного дружинника.
Старенький завлит московского цирка внимательно прочитал интермедию. Настолько внимательно, что даже ни разу не улыбнулся.
— Все это хорошо, — сказал он, — но как вы это сыграете?
Артист возмутился:
— Вы что же, сомневаетесь в моей лошади? Старый завлит его успокоил:
— В лошади я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в вас.
Цирк шапито разъезжал по стране, и мне так и не довелось встретиться с ним в одном городе. И я до сих пор остаюсь в неведении: кто как справился со своей задачей.
Больше я никогда не писал для лошадей. И для собак не писал, и для всех остальных животных.
О животных я писал много, для животных — больше никогда.
Но всякий раз, когда затевается разговор о животных, о том, что нужно беречь на земле животных, об отношениях между людьми и животными, я вспоминаю слова старенького завлита:
— В лошади я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в вас.
БОЛДИНСКАЯ ВЕСНА
Первый месяц весны я проводил в Болдине, в Доме творчества писателей, литературном комбинате на семьдесят творческих мест. Осенью там большой наплыв классиков, желающих повторить известный исторический опыт, а весной путевку легче достать, поскольку болдинская весна никак в истории себя не зарекомендовала.
Мой сосед по столу, в прошлой известный юморист, позднее известный поэт, а в последнее время известный прозаик, знакомил меня с болдинскими нравами, давал нашим коллегам характеристики, а больше всего рассказывал о своем жизненном пути.
Да, у него уже был жизненный путь, который, несомненно, впоследствии станет известным, но для меня мой сосед сделал исключение, позаботясь, чтоб мне он стал известен уже сейчас.
— Почему я сатиру сменил на поэзию, а поэзию на прозу? Дорогой мой, в этом повинна арифметика. Да, да, не сатира, не поэзия, даже не проза, а простая арифметика. — Он кому-то кивнул, с кем-то раскланялся, кого-то мимоходом прижал к сердцу и продолжал: — Возьмите прозаиков. Возьмите самых крупных. Льва Толстого возьмите, Достоевского, Тургенева, Гончарова… Затем Герцена возьмите, — говорил он, словно передавая мне холодную закуску, — Горького, Алексея Толстого, Паустовского… Кого еще? Бунина, Куприна… Каков средний возраст этих десяти крупнейших наших писателей? Не трудитесь подсчитывать: ровно семьдесят лет.
Он доел первое и принялся за второе.
— Теперь возьмите поэтов. Тоже самых крупных, разумеется. Пушкина возьмите, Лермонтова. Некрасова, Тютчева, Фета. Блока и Маяковского. Есенина возьмите. Пастернака и Ахматову. Средний возраст — пятьдесят два. На восемнадцать лет ниже, чем у прозаиков. Вы понимаете?
Да, теперь я начинал понимать.
— Ну, а теперь возьмем сатириков. Гоголя возьмем, Щедрина, Чехова, конечно. Затем Аверченко и Сашу Черного, Булгакова и Зощенко, Ильфа и Петрова. Из пародистов — сейчас пародисты в большом ходу, — так мы из них возьмем Архангельского. И что же нам говорит арифметика? Средний возраст — сорок восемь лет. Меньше, чем у поэтов, хотя из названных поэтов почти половина умерла не своей смертью. А сатирики, за исключением Петрова, погибшего во время войны, все умерли своей смертью, но какой ранней! Гоголь и Чехов едва перешагнули за сорок, Ильф и Петров не дожили до сорока! А еще говорят, что юмор продлевает жизнь. Нет, дорогой мой, Джамбул прожил девяносто девять с половиной лет, но найдите у него хоть одно юмористическое произведение!
Я вежливо наморщил лоб, припоминая творчество Джамбула.
— Теперь посмотрим на потолок, — тут он и в самом деле посмотрел на потолок, хотя имел в виду возрастной потолок, а не потолок нашей столовой. — В группе прозаиков он составляет восемьдесят два года, в группе поэтов — семьдесят семь лет, а в группе сатириков — всего лишь шестьдесят три года. Что вы на это скажете?
— Скажу, что мало.
— А почему? Вы задайтесь вопросом: почему? Значит, что-то укорачивает сатирикам жизнь — почище, чем поэтам дуэли и самоубийства. Зощенко умер в расцвете лет, а ведь он среди сатириков считается долгожителем.
Сорок восемь лет — средний возраст! Да если б Достоевский прожил столько лет, не видать бы нам ни «Бесов», ни «Братьев Карамазовых»!
Он доел второе и взялся за компот.
— Конечно, пока молодой, можно заниматься сатирой. И я занимался, вы это знаете! А как перевалило за сорок, думаю — стоп! Так недолго помереть. И перешел на поэзию. Ну, конечно, жил сдержанно, не так, как иные поэты: на дуэли не стрелялся, самоубийством не кончал. Смирял свои страсти. До среднего возраста. А как перевалило за пятьдесят — средний-то возраст поэтический пятьдесят два года! — стоп, думаю. И перешел на прозу. До семидесяти у меня еще десять лет. Поживу, поработаю. А там, возможно, займусь переводами. Переводчики у нас живут долго, особенно если сатиру переводить…
— То-то я смотрю, что у нас мало сатиры…
— Естественно. Как же ее будет много, когда в ней люди не живут? И поэзии настоящей мало. В ней тоже люди не живут.
Я хотел сказать, что и прозы настоящей мало, но воздержался: мой сосед мог подумать, будто он мало написал. А я знал, что он не мало написал, он написал очень и очень много.
За окном шумело Болдино, не слыша нашего разговора.
— Осень здесь чудесная, — сказал мой сосед-прозаик, допивая компот.
ОТВЕТ ШЕКСМАРЛОВЕДАМ
Я отвергаю гипотезу, что Уильям Шекспир и Кристофер Марло были одним человеком.
Вы, ученые мужи, почтенные шексмарловеды, возможно, обвините меня в невежестве, возможно, даже поднимете меня на смех и пригвоздите к позорному столбу, — что ж, я буду стоять пригвожденный, но не убежденный. Вернее, убежденный, но не в вашей, а в своей правоте. Ибо я верю, верю, что Шекспир и Марло — это два отдельных писателя.
Вы, конечно, сошлетесь на то, что они родились в один год. Ну и что, я вас спрашиваю? Шекспир и Галилей тоже родились в один год, не станете же вы утверждать, что это Галилей написал «Ромео и Джульетту». Ваш второй аргумент: Шекспир не взял пера до тех пор, пока Марло его навеки не выронил, и не следует ли из этого, что Шекспир подхватил именно это выроненное перо?
Но, во-первых, это не вполне соответствует истине. Шекспир уже писал, когда Марло еще писал. Конечно, не исключено, что еще писал уже не Марло, а Шекспир, — с равной допустимостью, что уже писал не Шекспир, а еще Марло, но теперь попробуй в этом разобраться.
Вы говорите: не зря «Шекспир» означает «Потрясающий копьем». С чего бы, мол, ему потрясать копьем, если б его не пытались уже однажды зарезать? Да, говорите вы, Марло не зарезали, а только пытались зарезать, и он, своим врагам в устрашение, назвался Шекспиром — Потрясающим копьем.
Как будто в мире нет больше поводов, чтобы потрясать копьем. Особенно для человека, имеющего дело с трагедиями.
И, наконец, последний ваш довод: не свидетельствует ли простое сравнение творчества двух писателей, что Марло — это ранний Шекспир, а Шекспир — поздний Марло?
Нет, нет и нет, достопочтенные мужи, просвещенные шексмарловеды. Шекспир — это Шекспир, а Марло — это Марло, и каждому отведено отдельное место в литературе.
Хотите еще одну гипотезу? Она не претендует на научность, на достоверность фактов и неоспоримость доводов, она строится не на знании жизни Шекспира и Марло, а на знании жизни вообще, что тоже бывает небезынтересно.
Итак — гипотеза.
Да, Шекспир был, но он не был писателем. Он не имел никакого отношения к литературе. Может быть, в ранней юности он пробовал себя в сонетах или трагедиях, но оставил это занятие, не обнаружив у себя таланта. Талант ведь дается не каждому, и это вовремя нужно понять.
Вас интересует: а кто же в таком случае был писателем? Если Шекспир не писатель, то кто же тогда писатель?
Я отвечаю: писателем был Марло. А кем был Шекспир? Шекспир был, как известно, актером.
И была там еще актриса — согласно этой гипотезе. Прекрасная, как Офелия, а может быть, Дездемона. И вот эту Дездемону-Офелию полюбил Шекспир, рядовой актер и к тому же неудавшийся писатель.
Конечно, Дездемона-Офелия полюбила Марло, молодого, но преуспевающего писателя своего века. Он, конечно, не замечал этого. Занятый своими великими трагедиями, он не замечал крохотной трагедии девушки, которая его любила.
Но Дездемона-Офелия любила Марло, а Шекспир любил Дездемону-Офелию, и это создавало совершенно четкий трагический треугольник. Как же вы, проницательные шексмарловеды, не заметили треугольника?
Теперь представьте: Шекспир играет в трагедии Марло, но любит не так, как написано у Марло, а масштабней, глубже, сильней — по-шекспировски. Потому что любит он не только на сцене, но и за кулисами, он всюду любит — из этого состоит его жизнь.
Молодую актрису пугают эти шекспировские страсти: ведь живет она во времени еще дошекспировском. Хотя Шекспир уже есть, но время для его страстей еще не настало.
И актриса любит Марло, чье время уже настало.
И в это самое время внезапно умирает Марло.
Его убивают, как в бездарной трагедии: без малейшей мотивировки. Пустячная ссора в трактире — и великий писатель убит.
Трагический треугольник лишается очень важного угла, но продолжает существовать, ибо по двум известным углам всегда можно восстановить третий. Он восстанавливается в памяти Шекспира и Дездемоны-Офелии, и это усугубляет их горе. Они оба любили Марло, хотя и по-разному. И оба они страдают. Да, да, хотя Шекспир избавился от соперника, но он страдает. Он умеет страдать за других. И это — залог того, что он со временем станет писателем.
Вы не согласны со мной, дипломированные шексмарловеды, вы привыкли считать, что Шекспир был прирожденным писателем. Прирожденным бывает косоглазие, плоскостопие или другая болезнь, а писателем становятся. Писателем делает жизнь. Не утробная, не эмбриональная, а сознательная.
Шекспир видел, как страдает его любимая девушка. и он решил заменить погибшего. Не примитивно, не пошло, как заменяют друг друга соперничающие ничтожества, а крупно, значительно, как заменяют великие великих. Он решил продолжить Марло не в любви, а в литературе. Он решил продолжить дело Марло.
Вот тогда он и взял себе это имя — Потрясающий копьем, — не для того, чтобы стать Шекспиром в литературе, не для того, чтобы занять высокое положение, а для того единственно, чтобы защитить дело Марло. Некоторые всю жизнь потрясают копьем, благодаря чему добиваются высокого положения в литературе, но они не становятся Шекспирами, как ни потрясают копьем.
А Шекспир — стал. Потому что он любил эту девушку. Марло не любил, и он остался Марло. И никогда — слышите: никогда! — не удалось ему стать Шекспиром.
Все дело в любви. Что бы ни написал Шекспир о любви, не Шекспир творит любовь, а любовь творит Шекспира. Из неудавшегося писателя она делает гения литературы.
Такова эта гипотеза, многомудрые и высокочтимые шексмарловеды. Впрочем, в жизни она уже столько раз подтверждена, что давно из гипотезы стала законом. Кем был бы Данте без Беатриче? Кем был бы Петрарка без Лауры?
Что же касается Дездемоны-Офелии, то она полюбила Шекспира, потому что время Шекспира уже пришло. Так устроены эти прекрасные девушки: они любят тех, чье время пришло. А тех, чье время прошло, девушки забывают.
УЛИЦА ПАМЯТИ
Постойте, постойте: разве Бебель жил в Одессе? Это Бабель жил в Одессе, а Бебель жил в Германии. Но почему же тогда улица называется именем Бебеля, причем улица не в Германии, а в Одессе? Или, может, в Германии есть улица Бабеля? Может, между Германией и Одессой заключен договор: мы будем называть свою улицу Бабеля, а вы — Бебеля?
А может, это Бебель жил в Одессе, а Бабель в Германии?
— Здравствуйте, мадам прокурорша!
Мадам прокурорша не живет на улице Бебеля, просто она иногда вспоминает о ней. Иногда вспоминается одно, иногда другое, но чаще забывается, чем вспоминается. А живет она на углу Богдана Хмельницкого и Шолом-Алейхема — тоже два хороших человека встретились в Одессе и разошлись, вернее, улицы их встретились и разошлись…
— Здравствуйте, мадам прокурорша!
Уже давно нет на свете ее прокурора, а она все еще мадам прокурорша. К таким профессиям люди относятся с уважением. Сколько лет прошло, а они помнят, хотя пора бы забыть.
И адвоката тоже нет. Все они росли вместе на улице Бебеля (или Бабеля?), играли в разбойников, потом — в фанты, в мнения… Адвокат однажды оскандалился, когда кто-то во время игры в мнения признался ему в любви. Он сразу указал на нее, потому что ему так хотелось. Ему очень хотелось, чтоб она призналась ему в любви, а это, оказалось, признался прокурор, и все над адвокатом смеялись. Адвокат долго обижался на прокурора, но потом они помирились, потому что вообще-то они были друзья.
Да, они были друзья, вместе готовили уроки, причем адвокат всегда списывал у прокурора… Нет, это прокурор списывал у адвоката… Что это такое делается с памятью? Прокурор так хорошо списывал, что получал даже лучшие отметки, чем адвокат. Потом они вместе учились на юридическом факультете, вместе влюбились в нее, и тут прокурор так хорошо списывал письма адвоката, что она стала мадам прокуроршей. Какую-то роль здесь сыграла внешность прокурора, который был от природы большой человек, а маленькому адвокату, чтобы стать большим, нужно было много учиться и работать, и все равно он оставался таким же маленьким.
Когда они выступали на процессе, адвокатом заслушивались, а на прокурора засматривались. У них во дворе жили две собаки: Кусай и Целуй. Кусай был здоровенный бульдог, а Целуй — комнатная собачка. Так это примерно выглядело, когда прокурор и адвокат выступали на процессе.
Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть. Нет, не так. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Что-то совсем у нее плохо с памятью. Один раз увидеть— может быть, но когда она стала видеть прокурора каждый день, ей все чаще хотелось услышать адвоката. У адвоката были и другие преимущества: он одевался и ел, как ребенок, а зарабатывал, как взрослый человек. Так говорил мамин папа… нет, папина мама, которая желала счастья своей внучке.
Внучка стала прокуроршей, хотя в душе она была адвокатшей. Ей больше нравилось, когда защищали людей, чем когда их обвиняли.
Прокурор только и делал, что обвинял. И наконец она ушла от него к адвокату. Она сказала, что не может жить с человеком, который только обвиняет людей. Она тогда хорошо говорила, потому что не забывала слова, ей не приходилось так много вспоминать, чтобы сказать одну-единственную фразу.
И что же ответил ей адвокат? Он сказал, что сам мечтал стать прокурором. Просто у него не получилось, поэтому он адвокат. Он сказал эту неправду, как адвокат: защищая интересы друга своего, прокурора.
Но когда его самого обвинили, защищать его было некому. Прокурор пытался, но что он мог, прокурор? Защищать он не научился.
Она долго ждала адвоката. Уже с войны люди повозвращались, уже повозвращались и издалека, а его все не было. Вот тогда она от кого-то услышала, что адвокат погиб на фронте. От кого она это услышала? Да, конечно, от прокурора. Он даже, помнится, говорил (что помнится? Ничего не помнится…), он говорил, что встретился на фронте с адвокатом и адвокат вынес его на себе…
Хорошо, что прокурор так сказал. Она не верила, но все равно хорошо, что он так сказал. Значит, он умел сказать о человеке и что-то хорошее. И на памятнике прокурору, когда прокурор умер и она поставила ему памятник, она написала несколько слов про адвоката. У него не было своего памятника — где же еще можно было о нем написать? Она написала, что здесь лежит человек, спасенный при жизни другим человеком, который лежит неизвестно где, но о котором тоже нужно помнить на этом кладбище. Потому что, если б жизнь сложилась иначе, он мог бы лежать на этом кладбище…
— Здравствуйте, мадам прокурорша. Вы не против, если я посижу с вами на скамеечке?
Рядом с ней садится такая же старая женщина, с такими же больными ногами.
— Вы меня не помните? Мы с вами встречались е суде. Я часто бывала в суде по делам моего покойного мужа. По каким делам? Ну, не будем об этом говорить. У каждого свои дела, так уже заведено в мире… Я, когда вас увидела, будто помолодела на тридцать лет… Знаете, я недавно была в суде. Там совсем, совсем другие люди…
СКАМЕЙКА
Римма Григорьевна была женщина сильная. Достаточно сказать, что она воевала на фронте. В то время многие воевали на фронте, но женщин среди них было не так уж много, если не считать медицинский персонал. Римма Григорьевна не была медицинским персоналом. Она была бойцом.
Потом кончилась война, и Римма Григорьевна вернулась в свой город, который она не видела свыше трех лет, да и теперь не могла увидеть, потому что у нее на фронте повредилось зрение. Один глаз был безнадежен, но в другом, на самом дне, еще теплилось кое-какое зрение. И вот врачи, опытные специалисты, вытащили это зрение наружу, а сверху еще надели очки, — и Римма Григорьевна стала видеть.
И первое, что она увидела, — это распахнутое больничное окно, за ним скамейку и сидящего на этой скамейке Петра Захаровича.
В отличие от Риммы Григорьевны Петр Захарович был мирным и далеко не темпераментным человеком. Он спокойно отнесся к лаврам, которыми его увенчали врачи из уважения к его редкому заболеванию. Заболевание это почти начисто лишило Петра Захаровича зрения, но он и к этому относился довольно спокойно: человек он был немолодой, многое повидал на своем веку и не очень горевал, что чего-нибудь еще не увидит. А повидал он действительно много, поскольку лет двадцать проработал в психиатрической клинике. Он любил свою клинику и, за столько лет, считал ее родным, хоть и сумасшедшим домом. Правда, место в этом доме у него было скромное, бухгалтерское.
Петр Захарович был далеко не идеальным мужчиной, в нем даже было что-то от женщины, точнее — пожилой женщины, если учесть его возраст. Но можно понять чувства Риммы Григорьевны: последний мужчина, которого она видела, был немец, строчивший в нее из автомата, от которого ее спас разорвавшийся рядом снаряд. С тех пор прошло больше десяти лет, и естественно, что мирный и даже уютный вид Петра Захаровича всколыхнул чувства женщины, столь долго лишенной мужского уюта.
А Петр Захарович ничего не подозревал. Он давно отвык быть каким-либо объектом, кроме объекта исследования. Исследовали же его постоянно, поскольку он, представляя собой редкий случай, по мнению врачей, помогал прозревать медицине, которая, по его собственному мнению, видела не лучше его.
Теперь они сидели вдвоем. Римма Григорьевна раздобыла где-то новый халат, тоже больничный, но имевший вид не больничного. На шею она повязала платок, какие носили еще до войны, а волосы уложила так, чтобы не очень бросались в глаза седые пряди. Впрочем, всего этого Петр Захарович видеть не мог, а если б и мог, то не придал бы значения: плохое зрение выработало у него привычку всматриваться в самую суть вещей, пренебрегая таким пустяком, как внешность. Он слушал, что говорила ему Римма Григорьевна, и мысли его текли параллельно ее рассказу, иногда пересекаясь с ним, а чаще уходя в сторону…
Римма Григорьевна любила поговорить, но когда заговаривал Петр Захарович, она умолкала. Это был тот случай, когда ей интересней было слушать, чем говорить, вернее, даже не слушать, а смотреть, как говорит Петр Захарович. Он говорил не спеша, сначала приводил факты, затем их обобщал, делал выводы и от них переходил к новым фактам. И все это было так связано, так вытекало одно из другого, что можно было смотреть и смотреть, без конца можно было смотреть, как говорит Петр Захарович.
Быть может, если бы Петр Захарович не углублялся постоянно в самую суть вещей, если б он хоть раз вынырнул на поверхность, где сидела на скамеечке Римма Григорьевна, он бы что-то заметил. Но он постоянно пребывал там, в глубине, у самой сути явлений, и только они привлекали его внимание. А кроме того, его сильно отвлекала семья: Петр Захарович был закоренелым семьянином.
И вот Римма Григорьевна, решительная женщина, совершенно не знала, как ей поступить. И так бы и не узнала, если б не этот маленький старичок с несоразмерной фамилией Кривоконюшенко.
Старичок Кривоконюшенко держался в больнице только благодаря милосердию врачей, а так бы его давно пора выписать. Единственное, чем можно было ему помочь, это удалить глаз, который болеть болел, а видеть — не видел. Старику Кривоконюшенко было не впервой удалять глаз, но именно поэтому он и сопротивлялся. Глаз был последний, а лишиться последнего глаза означало не видеть уже никогда. Так по крайней мере есть надежда: вдруг медицина что-то придумает, что-то такое изобретет.
Пока старичок Кривоконюшенко тянул таким образом время в больнице, его навещала жена, большая и толстая старуха Кривоконюшенко. Старуха была не по мужу здоровая, обходилась без очков и легко находила своего неприметного старичка, который, чтоб не напоминать о себе врачам, бродил целый день по каким-то другим отделениям. Там он заводил разговоры с ревматиками, сердечниками и желудочниками и, слушая о болезнях, которыми никогда не страдал, чувствовал себя здоровым человеком.
От этих целительных разговоров отрывала его старуха Кривоконюшенко. Она брала своего мужа за руку и приводила на скамейку — на ту самую скамейку, где во второй половине дня сидели Петр Захарович и Римма Григорьевна. Здесь старуха обхватывала своего мужа рукой, так, что он, как у фокусника, мгновенно исчезал у нее под мышкой, и они сидели час или два, ни о чем не разговаривая, — просто сидели, как сидят очень близкие люди, когда им больше не о чем говорить.
Потом старуха вставала, целовала мужа в лоб и уходила, а он стоял, повернув лицо ей вслед, пока вдали не замирали ее шаги, и тогда он шел в какое-нибудь отделение— в урологию или травматологию, — чтобы на время забыть о своей болезни.
И однажды, когда они сидели на этой скамейке, их увидела Римма Григорьевна.
Было утро. Солнце только-только появилось над проходной и медлило, прежде чем перебраться на крышу приемного покоя. Но уже лучи его побежали по земле и опалили аллеи и корпуса, а также зеленые и белые кроны. Зеленые кроны жались к земле, а их белые двойники плыли высока в небе, утопая в его глубине и все же держась на поверхности. И все это было так ярко, как в цветном кинофильме, и так же не верилось, что это настоящая жизнь. Но это была жизнь, зеленая, розовая и голубая, и на фоне этой ослепительной жизни, как главный ее смысл, как главное ее содержание, сидела старуха Кривоконюшенко со своим стариком.
А во второй половине дня все было совсем иначе.
Солнце скрылось за крышей инфекционного корпуса, и, хотя было еще светло, все вокруг наполнилось предчувствием сумерек. Краски поблекли, выцвели и стали такими естественными, обычными, виденными тысячу раз. И только на скамейке несбыточное упрямо боролось с реальным.
Петр Захарович говорил, что природа действует на человека целительно, и Римма Григорьевна смотрела, как он говорит, и представляла, как они гуляют на лоне природы. Где-нибудь в лесу или на берегу речки. Римма Григорьевна могла бы сплести венок. Она когда-то умела плести венки, но это было давно, и теперь, наверно, у нее ничего не получится. И на могилу своей девочки она положила не венок, а просто цветы. Это было в самом начале войны, когда Римма Григорьевна была еще мирным жителем.
Как подумаешь — сколько лет прошло! Трудно поверить, что когда-то была семья… Римма Григорьевна отвыкла от семьи, но она бы привыкла, она бы очень скоро привыкла…
Как они сидели на этой скамье, старики Кривоконю-шенки!
Римма Григорьевна придвинулась к Петру Захаровичу и положила руку ему на плечо.
Она сама испугалась своей смелости, но руки не убрала. Она вся напряглась и ждала — что сейчас будет?
Но ничего не было. Петр Захарович продолжал говорить, подтверждая какую-то мысль какими-то серьезными доводами. Если б он отодвинулся или даже встал и ушел… Но он просто ничего не заметил. Будто ее не было здесь, будто он сидел один и вслух предавался размышлениям.
Но несбыточное продолжало бороться с реальностью, и оно еще верило в свою победу.
Их городок у самого леса. Они могли бы ходить в этот лес, ведь Петр Захарович сам говорит, что природа действует на человека целительно. Хорошо, что она теперь видит, ее зрения хватит им на двоих. А если ему это будет неприятно, они смогут ходить поздно вечером, когда и так ничего не видно… В сущности, зрение нужно лишь для того, чтобы люди могли найти друг друга.
— Скоро меня выпишут, — сказала Римма Григорьевна.
— Поздравляю. Вот обрадуется семья!
Она ему говорила, что живет одна, но он, наверно, не запомнил.
— У меня никого нет…
Да, да, конечно, спохватился Петр Захарович, и ему стало неловко за свое невнимание.
— Ну, так уж и никого, — призвал он на помощь первые попавшиеся слова, которые чем больше расходуешь, тем больше накопляешь. — А друзья? А знакомые?
— У меня здесь, в городе, есть знакомая. Я могу у нее остановиться. Буду приходить сюда…
— В больницу? И не надоела вам эта больница?
Римма Григорьевна не ответила. Она сняла руку с его плеча и теперь не знала, куда ее деть. Рука показалась какой-то лишней.
— Если б меня выписали, я бы сюда и дорогу забыл.
— Но у меня там нет никого.
— А здесь?
И опять замолчала Римма Григорьевна. И Петр Захарович замолчал от какого-то непонятного чувства неловкости. С тех пор как он потерял зрение, он все меньше и меньше вокруг себя замечал.
— Я бы к вам каждый день приходила…
Даже два, даже три раза в день. Она бы только ночевала у своей знакомой, а остальное время проводила бы здесь, на этой скамейке. Приходила бы утром, а уходила вечером.
— Можно, я буду к вам приходить?
— Спасибо. Зачем вам беспокоиться?
Беспокоиться… Всю жизнь Римма Григорьевна только и знала, что беспокоилась. Когда муж ее ушел на финскую, и когда он не вернулся с фронта, и когда началась другая война… За неполных пятьдесят лет — сколько беспокойства!
Но теперь она успокоится. Ее выпишут, она уедет в свой город. Пусть на этой скамейке сидят старики Кри-воконюшенки, а она… Разве что напишет письмо. Мол, все хорошо, доехала благополучно… Только кто же прочитает это письмо? И зачем читать? Лишнее беспокойство…
Петр Захарович встал. Он спешил на очередное исследование, спешил двигать вперед медицину, которая ему уже помочь не могла.
Жизнь вокруг текла своим чередом, и все так же проводились исследования и писались истории болезней, и старичок Кривоконюшенко прошмыгнул из урологии в хирургию, где ему предстояло послушать о язве желудка, которой он никогда не страдал.
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
— Здравствуйте! Приехали наконец!
Передо мной стояла незнакомая женщина. На вид ей было лет пятьдесят, но была она, видно, некрасивой в молодости, потому что возраст ее красил. Кому когда повезет быть красивым: кому в двадцать, кому в пятьдесят, а кому и в семьдесят. Правда, поздняя красота как и позднее раскаяние: ничего она в жизни изменить не может.
— А я уж думала — не приедете. Обещали — а не приедете.
Я был в этом городе второй раз. Первый — всего пару часов, выступили — и поехали дальше. Я даже не запомнил, как этот город выглядел. Забыл название. Только теперь вспомнил. Когда уже подъезжал к городу, вспомнил: кажется, я уже здесь бывал.
— Двенадцать лет прошло. И четыре месяца. Дочка выросла, послезавтра свадьба. Да, вы же не знаете, я же вам не рассказывала: дочка у меня. Тогда ей было семь лет, а теперь замуж выходит. Вы бы не узнали ее теперь, если б раньше видели. Невеста. Мне на работе дали три дня, и вот я бегаю…
За кого она меня принимала?
— Все-таки вы приехали. И прямо на свадьбу. Вот дочка обрадуется! Я ей про вас рассказала. Не тогда, а позже, когда она подросла. Так она не поверила, честное слово. «Все ты, говорит, мама, придумываешь».
«По-моему, тоже: ты, мама, придумываешь», — подумалось мне невольно.
— Свадьба будет скромная: невеста без отца, а жених и вовсе родом издалёка. Я одна у них буду за всю родню. Да я и привыкла одна. Все одна да одна… Вот только теперь вы приехали.
Мне хотелось сказать, что это не я приехал. Вернее, не тот, кого она ждала. Но я не мог так вдруг оборвать ее радость.
— Вот вы увидите мою дочку. Верой ее зовут. Хотелось мне верить во что-то хорошее, вот я и назвала. Сама назвала — советоваться-то мне было не с кем.
— Красивое имя. У меня учительница была Вера Васильевна.
— Вот видите! А я не знала — и назвала! Бывает же такое! И как это я угадала с вашей учительницей!
— А ваше, простите, имя-отчество?
Я это сказал, чтоб подчеркнуть, что мы незнакомы. Но ее не смутило это обстоятельство:
— Ольгой меня зовут. А по отчеству… За двенадцать-то лет можно уже обойтись без отчества.
Я сказал всего две фразы, но каждая, ничего не проясняя, только больше сближала меня с этой женщиной. И я сказал третью фразу, чтобы сразу все обрубить:
— А меня как зовут?
Она засмеялась:
— Ну, этого вы могли бы не спрашивать, Михаил Петрович.
С третьей своей фразой я окончательно увяз. Потому что это был действительно я, Михаил Петрович.
Что же произошло тогда, двенадцать лет назад? Ведь я всего два часа был в этом городе, причем ни на минуту не отлучался от нашей группы… И вот всего за два часа, ни на минуту не отлучаясь от группы… Такого, откровенно признаться, я от себя не ожидал.
Человек я серьезный, непьющий, за свои поступки ответственный. Вынеси мою жизнь на любое собрание — и ему нечего будет обсуждать: из всей моей длинной биографии не скроишь и крохотного персонального дела. Все знакомые сплетники давно махнули на меня рукой: я для них не представляю ни малейшего интереса.
И вдруг — такая история…
— А вы хорошо помните, как мы встречались? — спросил я, чувствуя, что этот вопрос запутает меня еще больше.
Так оно и случилось.
— У меня даже есть фотография. Я ее увеличила — шестьдесят на сорок пять.
— Фотография нашей встречи?
— А какой же еще? Крупным планом, очень выразительно. Она у меня на самом видном месте висит, всегда перед глазами. Вы там такой молодой… Вы и сейчас молодой, но там еще моложе…
— Нельзя ли посмотреть?
— Конечно, посмотрите. На свадьбе и посмотрите. Сейчас у нас там готовятся, так что даже некуда вас пригласить.
Я хотел сказать, что не смогу, что на свадьбе я быть не смогу, что командировка моя кончается, но как-то не сказалось. Двенадцать лет… И, кроме того, я должен был посмотреть фотографию.
— Михаил Петрович, вы у нас будете посаженым отцом. Без отцов они у нас, так пусть хоть посаженый.
Свадьба была как все свадьбы. Молодые сидели во главе стола, рядом с женихом — мать невесты, рядом с невестой — я, посаженый отец. Всем было весело, а нам с матерью грустно. Ей — потому что собственная свадьба ее обошла, потому что дочь слишком быстро выросла, а я — потому что чувствовал в этом чужом пиру какое-то неясное, но горькое похмелье.
Началось это еще с подарка. Подарил я молодым — с намеком на недалекое будущее — детскую кроватку, а она оказалась восьмой. До этого у них в городке очень долго не было детских кроваток, а тут вдруг, как говорится, выбросили, и все принялись их дарить — на случай, если опять исчезнут. Восемь кроваток — это много даже для самой многодетной семьи, потому что дети рождаются не сразу, а по очереди. Но что поделаешь — таковы гримасы торговли: спрос, изголодавшись, набрасывается на предложение и глотает столько, что не в силах переварить.
Выступал представитель завода. Он сказал, что жених на заводе работает хорошо, что ни выпивок, ни драк за ним не замечено. По этому случаю завод выделяет молодым две путевки в дом отдыха «Карпаты», с оплатой дороги туда и назад, — на предмет свадебного путешествия.
Потом выступал представитель фабрики. Он сказал, что невеста работает уже в счет того года, в котором весь фабричный коллектив желает ей стать матерью замечательного младенца. С учетом этого пожелания коллектив фабрики преподнес молодым полный младенческий набор, включая кровать, которая в любой момент может исчезнуть из продажи.
Я поднял тост за мать. Я сказал, что она замечательная женщина (получилось так, что я ее знаю, но отступать все равно было некуда).
— Ольга, — сказал я, пожалев, что не поинтересовался отчеством, — вы замечательная женщина. Я заявляю, что не встречал таких женщин, как вы… Я вас знаю двенадцать лет…
— И четыре месяца, — поправила Ольга.
— Да, я вас знаю двенадцать лет и четыре месяца, и это дает мне право… — тут я немного запнулся, усомнившись, на те ли я претендую права, но, отогнав от себя все неуместно трезвые мысли, продолжал: — У вас была трудная жизнь, как у всякой хорошей женщины. Как у всякого хорошего человека. Хорошим людям вообще трудно, но они не стараются облегчить себе жизнь. Иначе они не будут такими хорошими… Вы такая хорошая, Ольга! У вас такие хорошие дети, такие хорошие друзья. Я счастлив, что приехал к вам на свадьбу… — тут я опять запнулся: разве я приехал на свадьбу? Я приехал в командировку от журнала, меня интересовали только наука и только жизнь, а больше ничего меня не интересовало… Но оказалось, что я приехал на свадьбу, и это оказалось самое главное. НиктТ) не мог этого предвидеть, никакая наука и никакая жизнь не выплатили бы мне на это дело командировочных, но наука часто ошибается, как, впрочем, и жизнь. — Ольга, — продолжал я, — вы мать. Вы прекрасны, как все матери. И я желаю вам большого материнского счастья. Я желаю его вам, как отец… правда, посаженый… Но это ничего, Ольга, среди посаженых бывают очень хорошие отцы…
Ольга плакала. Кто-то закричал: «Горько!» Молодые, обрадовавшись случаю, полезли друг к другу целоваться, хотя мне показалось, что кричали не им.
Ольга сказала:
— Я хочу выпить за Михаила Петровича.
Этого следовало ожидать. Далеко же я зашел, если за меня начинают пить на чужой, совсем не знакомой Мне свадьбе. Теперь я понял, что с самого начала боялся именно этого. Чтоб за 'меня не пили. Пусть пьют за что угодно, но только не за меня. Чтоб не усугублять моего и без того дурацкого положения.
Но Ольга сказала:
— Я хочу выпить за Михаила Петровича.
И тут в руках ее появилась большая фотография. И цветы. Вернее, то, что было когда-то цветами.
Засохшие гвоздики. В прошлом — букет. И фотография — шестьдесят на сорок пять, я выступаю в клубе перед рабочими. «Фотография нашей встречи». Ну да, встречи рабочих с писателями. Вот она, наша писательская бригада сидит за столом.
Теперь я вспомнил. Я представил себе все, как это было тогда.
Мы выступали в цехах этого завода, в красных его уголках. Нас хорошо встречали, нам дарили цветы, и, перед тем, как войти в очередной цех, я обнаружил в руках у себя цветы от предыдущего выступления. Не идти же на выступление с собственными цветами! И я поспешно сунул их первой встреченной женщине, лица которой даже не успел как следует разглядеть. Заметил только, что была она худа и черноволоса, лет сорока или около этого. Выражение лица у нее было угрюмое, видно, шла она на наше выступление не по своей воле. Видно, хватало у нее забот помимо встреч с представителями нашей литературы. Так мне тогда показалось. И я подарил ей цветы.
Потом я увидел ее в первом ряду. Ей было уже лет тридцать. Она внимательно слушала всех, но при этом не упускала меня из поля зрения. Она наблюдала за мной тайком, считая неприличным смотреть на человека, не находящегося в данный момент на трибуне.
Но того, кто был на трибуне, она не видела. Она видела меня, потому что только я имел к ней непосредственное отношение. Только я выделил ее из этой массы, из которой ее, быть может, давно никто не выделял, а если и выделял, то только за производственные показатели. Я выделил ее как женщину, просто как женщину. Это значит больше, чем все доски Почета, сколоченные в одну большую доску.
Я выступал последним, и она смотрела на меня, теперь уже не таясь, и, пока звучал мой голос, ее глаза ни на минуту не умолкали. Но я не услышал того, что говорили ее глаза, потому что был занят своим выступлением.
Наверно, ей никто еще не дарил цветов.
Потом она аплодировала. Громче всех.
А потом прошло двенадцать лет и четыре месяца.
— Я хочу выпить за Михаила Петровича, — сказала Ольга. — За то, что он приехал. Пообещал — и приехал.
Наверно, тогда, в красном уголке, я сказал, что мне понравился город и что я непременно приеду еще раз.
Обычная вежливость. Так многие говорят, хотя мало кто после этого приезжает.
А я приехал. Сказал — и приехал.
Я сам от себя этого не ожидал. У меня было много дел, была целая жизнь вдали от этого города. Были у меня свои неприятности, я что-то делал не так, как от меня требовалось, а что-то делал так, как требовалось, но не так, как хотелось. В общем, эти двенадцать лет и четыре месяца провел я не на коне, а где-то рядом с конем, пытаясь от него не отстать, но и не быть им затоптанным. На такую жизнь жалко было потратить столько времени, хватило бы не двенадцати, а трех-четырех лет.
До того ли мне было, чтобы помнить об этом городке? Но все-таки я приехал. Сказал — и приехал.
Правда, с большим опозданием. Эти дети выросли без меня.
— Дети, — сказал я, — вы выросли без меня. Я на вашей свадьбе отец всего-навсего посаженый. И я об этом жалею. Вот что я хотел вам сказать. Мне важно, чтоб вы знали об этом.
ЧАЙ В ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ
Мишка Пузо был большой шутник, но шутить он еще не научился. Он даже штаны застегивать не научился, а это легче, чем научиться шутить. Известно немало людей, которые отлично застегивают штаны, а шуток просто-напросто не понимают. И при этом все же стараются шутить — к общему огорчению.
Пузо — это была не фамилия Мишкина, а прозвище, которое он сам себе придумал. Он был толстый и очень гордился своим животом, который называл по-приятельски пузом. И он требовал, чтоб его самого называли Пузом. Он вообще требовал к себе уважения.
Те, которые требуют к себе уважения, часто не умеют шутить, но Мишка был другой человек: он просто еще шутить не научился. Он верил, что, если подставить кому-нибудь ножку, так, чтобы тот растянулся, расквасив нос, это будет первоклассная шутка. Он рассчитывал на наше чувство юмора и не ошибался: чувство юмора у нас было как раз для таких шуток, а не для каких-то других.
В тот день мы пили с Мишкой чай в приличном доме — у племянницы тети Лизы, нянечки из нашего садика. Нянечка взялась присмотреть за нами, пока наши родители проводили летние отпуска, и забирала нас из садика к себе домой, а оттуда, из дома, водила в гости к своим родственникам.
В знак уважения к нашей нянечке ее родственники угощали нас чаем, а потом отправляли играть за шкаф. У всех у них комнаты были перегорожены шкафами, чтобы не все время жить друг у друга на виду, а иногда прятаться друг от друга за шкафом. Это у них была такая игра: они играли в две комнаты.
И вот в одном из этих приличных домов, у племянницы тети Лизы, нашей нянечки, во время вечернего чаепития Мишка Пузо насыпал мне вместо сахара соль, считая это удачной шуткой. Сейчас я понимаю, что это была шутка совсем не удачная, а в то время она мне казалась вполне светской шуткой, вроде остроумного анекдота, который можно рассказывать в присутствии дам.
Соль Мишкиной шутки дошла до меня с первым глотком, но я сделал вид, что ее не заметил. Как ни в чем не бывало я похлебывал чай, старательно изображая на лице наслаждение, и Мишка забеспокоился:
— Вкусно?
В ответ я только кивнул, не желая отрываться от чая.
Мишка смотрел на меня с недоверием. Потом недоверие сменило сомнение, и, немного поколебавшись, он попросил:
— Дай попробовать.
Я решительно замотал головой, чтобы он понял: таким чаем я с ним не поделюсь.
Мишке не оставалось ничего, как насыпать в свой стакан соли.
Он сыпал щедро, чтобы перебить вкус столь же щемя ро насыпанного в стакан сахара, и уже первый глотой был ему полным вознаграждением за все его пакости и неуместные шутки. Но он, конечно, взял себя в. руки ц выпил эту отвратительную бурду до конца. И при этом еще прихваливал:
— Ох и вкусно!
В то время мы не подозревали, что эта шутка надолго затянется, что мы еще не раз скажем: «Вкусно!» — когда будет с души воротить.
— Пейте, миленькие, — говорила племянница, занятая разговором со своей тетей и не замечавшая наших кулинарных опытов. — Если захотите, я вам еще налью.
От добавки мы отказались.
Мы выпили чай, сказали спасибо племяннице, и Мишка Пузо виновато погладил свой живот, словно прося у него прощения за неуместную шутку.
ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Первое мое стихотворение было о победе Красно! Армии над фашизмом. О неизбежной победе — в то» случае, если фашисты нападут на нашу страну.
Я переписал это стихотворение на бумажку и отнес воспитательнице в детский сад. Мне было шесть лет, но я всем говорил, что на самом деле мне девятнадцать! Я не мог поверить, что живу на свете всего шесть лет:
Это было время не только оптимистических надежд но и разочарований. Как раз тогда я узнал, что наше Солнце погаснет через сколько-то миллиардов лет. Я плакал так, как не плакал еще ни разу в жизни: я не ожидал такого скорого конца. Но об этом я все же не написал, а написал о победе Красной Армии над фашиз; мом.
Воспитательница прочитала стихи и потребовала мок фотографию. Я очень живо себе представил: моя фотография висит на стене, а под ней стихотворение о победе Красной Армии над фашизмом. Все будут ходить и читать, а кто еще не умеет читать, будет смотреть на мои фотографию.
У меня не было отдельной фотографии, и я отрезал себя от сестры, считая, что в дальнейшем сестра мне здесь не понадобится. На дороге славы наши с ней пути разошлись.
В тот же день моя фотография красовалась на стене, но под ней не было стихотворения. Под ней стояла обидная подпись: «Гава» — что по-украински означает «ворона». То есть разиня.
Я знал за собой это качество, но не ожидал, что на него укажут сейчас, когда я написал стихотворение, когда сам принес эту фотографию… В то время я не знал значения слова «антипедагогично», но чувствовал, что со мной поступили нехорошо.
И я бросил писать стихи, поняв, что слава — это обман, что она жестоко оборачивается против человека.
Снова я стал писать лишь во время войны, когда началась битва с фашизмом, о которой я писал в своем первом стихотворении.
В наш город война пришла сразу, и я под выстрелами пробрался домой, чтоб унести во взрослую жизнь фотографии нашего детства.
Этот альбом сохранился. Там, на фотографии, сестра прильнула к кому-то, кого рядом с ней больше нет, кто ушел за славой и не вернулся назад, как не возвращаются те, кто уходит за славой…
А в остальном все осталось по-прежнему, и солнцу светить еще столько же — без каких-то сорока пяти лет все те же сколько-то миллиардов.
СИНЯЯ КОЛОННА
Ровным строем, четко печатая шаг, шла по улице милиция нашего города, а за ней, старательно держа ногу, вышагивали ее постоянные оппоненты и подопечные — наша городская шпана. Темно-синяя колонна милиции оканчивалась чем-то невообразимо пестрым, разноликим и неорганизованным.
Этой шантрапе идти бы впереди милиции, тогда было бы понятно. Ее бы под конвоем вести, чтоб не нарушать покой города.
Но покой города уже был нарушен. На годы вперед.
Колонна двигалась в молчании. Никто не улюлюкал, не свистел, не пытался нарушить или навести порядок. Блюстители и нарушители шагали в ногу, и лица их были одинаково серьезны и торжественны.
Только на окраине города кто-то из синей колонны сказал:
— Пора вам возвращаться, ребята.
Пестрая часть колонны остановилась. Это был первый случай в коллективной ее биографии, когда она подчинилась с первого слова.
Теперь, отделившись от синей колонны, эта часть выглядела не очень внушительно: ее коллективный возраст не превышал тринадцати лет.
Они стояли и смотрели вслед уходящей колонне. Рядом гремели выстрелы. Было 22 июня 1941 года.
Город обстреливали из орудий с 4-х часов утра, но о том, что это война, будет до 12 часов неизвестно.
Сейчас было 10. Городская милиция первой уходила в бой. И городская шпана провожала ее до окраины города.
Ушедшие так и не узнали, с кем идут воевать, они все погибли еще до 12-ти. Потому что синий цвет на войне не годится, солдат в синем не солдат, а мишень.
Тогда об этом не думали. Некогда было думать. Еще никто не знал, что это война. И, как в мирное время, милиция выступила для наведения порядка.
Я шел за этой синей колонной. Я стоял, провожая взглядом их, уходящих на неведомый фронт. Я запомнил их спины лучше, чем лица.
Сорок лет они стоят в моей памяти. Сорок лет прошло, а они всё уходят, уходят и никак не могут повернуться ко мне лицом.
БЕССАРАБСКАЯ СТЕПЬ
Я уезжал из Аккермана чаще, чем приезжал в Аккерман, хотя, казалось бы, нельзя уехать, не приехав. Но приезжал я раз десять, а уезжал, может, раз сто.
Начал я уезжать из Аккермана в станице Аксайской Ростовской области, поздним летом, в первый год войны. Я взял в школьной библиотеке книжку «Белеет парус одинокий». Там, если помните, Петя Бачей уезжает именно из Аккермана.
Вот я с ним и поехал.
Немцы наступали, приближаясь к станице Аксай.
Выехали мы из Аккермана в дорожной карете и долго тряслись по знойной бессарабской степи. Неожиданно в карету вскочил неизвестный матрос, как мы позднее узнали, с «Потемкина», Родион Жуков. Ему удалось скрыться от жандармов, но немцы приближались к станице Аксай, и нам пришлось ехать дальше. Уже не в карете, а в поезде.
На станции Калач нас бомбили. Немецкие самолеты пикировали прямо на нас. Родион Жуков вылез из-под скамейки и скрылся, подмигнув мне на прощание: оказалось, что я увез библиотечную книгу.
Старенький колесный пароходик «Тургенев» отчалил от пристани и двинулся вверх по Волге. Был он похож на обыкновенную баржу, до отказа забитую беженцами. Беженцы заполнили трюм и палубу, шагу негде ступить. Через всю баржу тянулась в камбуз очередь: занимали ее с утра, а пекли лепешки только вечером. Если, конечно, была мука.
Девочка на пароходе «Тургенев» нудно канючила: «Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить!» Всем хотелось пить. Всем хотелось есть. И отец девочки всем отвечал: «Хочется, перехочется, перетерпится».
Пока мы плыли по Волге, я успел несколько раз выехать из Аккермана: я дочитывал книгу и снова ее начинал. У меня не было другой книги. И мне хотелось пожить в другом времени. Я садился в карету и не спеша выезжал из Аккермана в широкую бессарабскую степь.
— А вы почему не стоите в очереди? — спросила у моей сестры женщина, плывшая с нами на барже.
И она дала нам целую миску муки. И мы тоже стали в очередь.
Очередь была длинная, на весь день. Поэтому я пересел с баржи на пароход «Тургенев», где все еще звучала утешительная фраза девочкиного отца: «Хочется, перехочется, перетерпится».
Когда неизвестный матрос в очередной раз вскакивал в нашу карету, я уже зна/л, что это матрос с «Потемкина», что нам с ним предстоят большие дела. Я знал все, что случится в книге, и от этого становилось спокойнее. В той жестокой, пугающей неизвестности так нужна была книга с известным концом…
НЕБО НАД СНЕГИРЕВКОЙ
Я запомнил небо над Снегиревкой в обрамлении четырех стен, похожее на картину, на которой изображение все время меняется, а тема остается прежней: немецкие самолеты.
Маленькая станция Снегиревка. Я даже не заметил, были ли там другие дома. Я запомнил всего один дом, вернее, развалины одного дома.
И небо в развалинах.
Когда смотришь на небо из развалин, кажется, что оно тоже в развалинах. Разрушено и перечеркнуто крестами вражеских самолетов.
Я стою под стеной и смотрю на квадрат неба в развалинах.
А если бомба промахнется? Если она, летя мимо, как ей положено, промахнется и вторично сюда угодит?
Я теснее прижимаюсь к развалинам. Эти стены мне чужие, но я прижимаюсь к ним, как к родным. Больше, чем к родным: к родным стенам я так не прижимался.
Когда в тебя попадают, не целясь, а, наоборот, промахиваясь, это не только больно, это унизительно. Целились в кого-то, а попали в тебя. Попали, даже не удостоив тебя вниманием.
Сколько людей пострадало оттого, что в них попали, промахнувшись в других. А может, и не было этих других, может, это сказан» для смягчения удара. Промахи считаются извинительными. Может, и эту бомбу, которая меня уничтожит, тоже когда-нибудь извинят.
Кресты бомбардировщиков проходят над нами, равнодушно сбрасывая свой груз. Кресты истребителей пикируют, расстреливая нас из пулеметов.
Как будто с нами играют в крестики-нолики: они в небе крестики, а мы нолики на земле.
Всякий раз, когда меня заставляют почувствовать себя ноликом на земле, я вспоминаю небо над Снегирев/ кой.
АВГУСТ
Два воспоминания остались у меня от этого приволжского города: крысы во дворе и белые плечи нашей хозяйки.
И те и другие появлялись, не стесняясь моим присутствием. Крысы ходили по двору, как жильцы в праздничные дни, когда можно не спешить на работу. Они смотрели на меня круглыми от удивления глазами, словно спрашивая: «А этот откуда взялся?»
Мы приплыли сюда по Волге из города Сталинграда. На барже нас было много, и плыли мы много дней. В Сталинграде мы жили на стадионе — это было единственное место, способное вместить такое количество людей.
Мы были беженцы и все время бежали. От Одессы до Николаева, от Николаева до Ростова, от Ростова до Сталинграда, и вот — прибежали сюда.
Здесь мы остановились перевести дух и поселились у нашей хозяйки в подвальном помещении. Она была не настоящей хозяйкой, а тоже беженкой, но успела прибежать раньше нас и снять это подвальное помещение.
Был август, похожий на сентябрь, или сентябрь, похожий на август. Не спадала жара, но уже пахло осенью. Или осенью пахло просто от сырости в нашем дворе.
У нашей хозяйки были невероятно белые плечи, хотя была она преклонного возраста: ей уже стукнуло тридцать шесть.
Мы жили в общей комнате, и хозяйка меня не стеснялась. Наверно, она думала, что мне нет еще тринадцати лет. На самом деле мне уже исполнилось тринадцать лет, хотя давали мне не больше одиннадцати.
Сначала я деликатно выходил во двор, но там крысы таращили на меня глаза, словно возмущаясь: «Эвакуированный? Этого нам еще не хватало — эвакуированных!» Они были у себя во дворе, а я был не у себя, поэтому я возвращался обратно в комнату, где переодевалась наша хозяйка. Муж у нее был на фронте, и ей не при ком было переодеваться. Пусть уже при мне переодевается.
Был август, похожий на сентябрь: не знаешь — то ли тепло, то ли холодно. Хозяйка снимала платье и надевала халат. Потом снимала халат и надевала платье. У нее ничего больше не было, и она меняла платье и халат, как меняет наряды английская королева.
Я смотрел на ее плечи, такие белые для ее преклонного возраста, и вспоминал английскую королеву, которую, честно признаться, никогда не видал.
И крысы, которые совсем обнаглели у себя во дворе, заглядывали в окна нашего подвального помещения, и глаза их становились еще более круглыми, когда они смотрели на эти белые плечи.
Слишком много глаз — это тоже плохо для переодевания одной женщины.
Я подходил к окну и задергивал занавеску.
ОБЕДЫ В ГЕНЕРАЛЬСКОЙ СТОЛОВОЙ
В Харькове в 43-м году встретил я Мишку Пузо, моего детсадиковского дружка, с которым мы когда-то пили чай с солью.
— Где ж твое пузо, Мишка? Не уберег?
Не уберег он. И я свое не уберег. И никто не уберег— такое было голодное время. Кусок хлеба, такой черный, что хоть мелом на нем пиши, и такой маленький, что даже прожевать не успеешь — сам в желудок проскакивает, стоил десять рублей. А пирожок, такой же черноты и величины, но с фасолью, — четырнадцать.
— А я в генеральской столовой обедал, — сказал Мишка, как нечто само собой разумеющееся. Ну, конечно. Офицерская столовая ему не подходит. Он, хоть' с пуза и спал, не станет обедать с кем попало.
— Нашелся генерал!
— Нет, я не генерал, — сказал Мишка так серьезно, как будто ставился вопрос о его назначении. — Я хотел на фронт, но не смог: родителей у меня оставить не на кого. Болеют у меня родители в последнее время.
Он сказал «родители», хотя жил с одной старенькой бабкой. Без родителей он остался еще до войны.
— Как же ты попал в генеральскую столовую?
— Обыкновенно. Как туда попадают? Мне карточку дал один генерал.
— Мишка, не ври. У тебя сроду не было знакомых генералов.
— А он мне не знакомый. Просто один генерал.
Слыхали? Они, наверно, генералы, ходят за Мишкой толпами и каждый норовит свою карточку сунуть.
— Я его на улице встретил.
— Прямо на улице?
— Ну да. А ты что, никогда не встречал на улице генералов?
— Встречать-то встречал. Только они не давали мне обеденных карточек.
— И мне раньше не давали. А тут, понимаешь, иду, а он меня подзывает…
Все-таки подзывает. Мог бы сам подойти, козырнуть. Небось Мишка не каждый день ему на пути попадается. Но Мишка скромно рассказывает: подзывает, мол, его генерал…
— Не знаю, почему он меня подозвал. Может, лицо мое ему показалось знакомым. А потом увидел, что я незнакомый, но уже неудобно было прогонять.
— И что он тебе сказал?
— Спросил, как зовут. Я говорю: Мишка Пузо. Он смеется: это такая фамилия? Прозвище, говорю. И объясняю, что раньше, мол, у меня было пузо. Он удивился: вот бы никогда не сказал! А я говорю: ничего, мне так еще лучше.
Успокоил, значит, генерала, чтоб тот не переживал. А то он из-за Мишкиного пуза еще воевать откажется.
— Ловко ты ему объяснил про пузо.
— Когда я сказал, что мне так еще лучше, он опять засмеялся и говорит: «Ну, чтоб не было тебе слишком хорошо, возьми-ка эту карточку. Будешь обедать в столовой». И адрес сказал.
— А сам он что же, обедать отказывался?
— Не отказывался, он на фронт уезжал, а в карточке у него еще на десять дней талонов осталось.
— И ты обедал?
— Обедал. Только не десять, а восемь дней.
— И с генералами разговаривал?
— Как с тобой.
— И о чем же?
— На разные темы. Спрашивали про родителей, удивлялись, какой я худой, советовали больше есть, сил набираться. Очень попались хорошие генералы. — Мишка нахмурился. — А потом появился какой-то полковник, не генерал. И говорит: «Ты по какому праву обедаешь?» Я говорю: у меня карточка. «Ах, карточка! Может, ты генерал?» Он сам не был генерал, но я не был даже полковником. И, конечно, это было ему неприятно.
— Что неприятно? Что ты не был полковником?
— Нет, не это. Просто, когда он обедал с генералами, он сам был вроде как генерал. А со мной обедать какой ему смысл? Это его даже унижало.
— Что же ты ему ответил?
— Я сказал, что мне дали карточку. Так, как было, сказал. Но он не поверил, что можно дать карточку незнакомому человеку. «А может, говорит, ты эту карточку украл? Или нашел?» Особенно его оскорбляло, что я мог эту карточку найти. Просто подобрать то, что на дороге валялось.
— И он забрал у тебя карточку?
— Нет, таких прав у него не было. Но он позвал начальника столовой и спросил, по какому праву здесь обедает гражданское лицо. И потребовал, чтоб у меня отобрали карточку.
— А генералы?
— Тех генералов, с которыми я раньше разговаривал, не было, да и что они могли? Они командовали там, на фронтах, а здесь распоряжался начальник столовой.
Мишка еще больше нахмурился — от обиды за своих генералов.
— Дело не в обедах. Хотелось мне еще с ними встретиться, очень хорошие были люди…
Он замолчал, предаваясь воспоминаниям. Хорошие были люди… На восемь дней ему хватило хороших людей и всего лишь на два дня не хватило.
МАРТА
Я стоял у памятника Воронцову, читая там, где ничего не написано.
— Что вы там читаете, молодой человек?
Спрашивал старик. Я тоже не был молодым человеком.
— Да так, ничего.
— Вот и я ничего. Ничего не написано, а я читаю. Вас интересует, что именно я читаю? Я читаю то, что сам написал.
— И что же вы написали?
— Ничего особенного. Можно было придумать лучше, но я написал только несколько слов: «Марта, ключ у Нухимзонов». В тот момент было важно, чтобы она взяла ключ у Нухимзонов, потому что иначе она бы не попала домой.
— Марта?
— Да. Марта. Это имя моей жены. Почему это вас удивляет?
— Видите ли… Мы здесь тоже писали Марте. На этом памятнике.
— Кто это — вы?
— Трое мальчиков. Это было еще до войны. Мы написали вот здесь: «Марта, мы тебя любим».
— Все трое?
— Ну да. Мы тогда учились в четвертом классе. Мы и дружили между собой потому, что все вместе любили эту девочку.
— В четвертом классе это возможно. И она прочитала ваше объяснение?
— Нет, наверно. Да и откуда она могла знать, что это мы ей написали? Но для нас это было неважно. Важно было написать. — Я улыбнулся: — Это было серьезней, чем то, что ключ у каких-то там Нухимзонов.
— Конечно, конечно. Если б не то, что я уходил на фронт. Мы должны были встретиться, но я ее не дождался. Даже проститься не успел…
— Извините… — Мы оба были смущены. Один Воронцов держался невозмутимо.
— За что извинить вас, молодой человек?
— Глупо все это — наши ребяческие забавы…
— Разве ж это забавы? Это любовь.
— Какая там любовь! В четвертом-то классе!
Я изо всех сил старался стереть нашу надпись и оставить только его: «Марта, ключ у Нухимзонов». Но ничего ни стереть, ни оставить было нельзя, обе надписи давным-давно не существовали.
— Но по крайней мере то, что вы живы, говорит о том, что вы в конце концов встретились?
— Нет, не встретились. Сначала я не дождался, а потом она не дождалась.
— Извините…
— Вот так бывает всегда: извиняются не те, которые должны извиняться… Если б хоть я написал ей то, что написали вы…
Как будто мы говорили об одной Марте. О начале ее жизни и продолжении. И конце. Перед нами была одна жизнь, сложенная из кусков разных жизней.
— Я даже не знаю, взяла ли она ключ у Нухимзонов. И Нухимзонов не осталось, и ее не осталось…
Он помолчал. И вдруг улыбнулся:
— А это вы хорошо придумали — любить втроем. Любить одному слишком непосильно для человека.
МОЙ КОРОЛЬ
Жил-был король. Где-то он услыхал пли вычитал, что любовь развивается, преодолевая преграды. Чем больше преград, тем сильнее любовь. Нет преград — любовь вообще исчезает.
Ему было где это вычитать. В классической литературе история любви есть, в сущности, история преодоления препятствий. Кем были бы ^омео и Джульетта без препятствий? Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной, причем, заметьте, не в трагедии Шекспира, а в повести Гоголя «Старосветские помещики».
Мы тогда у нас во дворе много спорили о любви. Соседка Елена Михайловна утверждала, что любви просто нет, что ее придумывают такие, как я, молодые люди. Придумывают, пока молодые, а когда становятся старше, убеждаются, что любви нет.
Ну как же нет, как же нет (это уже я приводил свои доводы), как же нет, когда о любви написано столько замечательных произведений! Не могли же они быть написаны о том, чего нет!
Елена Михайловна не доверяла художественной литературе. Она считала, что в ней о том, чего нет, написано больше, чем о том, что есть.
Пока мы вели этот спор, король сидел в отдалении и вежливо молчал, хотя у него, конечно, было твердое королевское мнение. Он верил в любовь своих подданных и создавал для нее как можно больше преград.
— Эта женщина просто не знала преград, в ее жизни все чересчур благополучно складывается. У нее непьющий муж, послушный сын, откуда ж тут любовь возьмется? — говорил мне король, когда мы оставались одни.
Сам он у себя в королевстве закрывал на лето пляжи и открывал их только зимой. Зато зимой закрывал все катки и снежные горки. А недавно ему пришла в голову блестящая мысль: разрешить топить печи лишь в жару не ниже тридцати градусов.
— Вот это преграда! — потирал руки король. — Уж теперь-то они небось меня полюбят!
А Елена Михайловна прямо призналась мне, что никогда не любила своего мужа. И ничего, двадцать лет прожили. Он ее уважал, она его уважала, вот так и прожили. Без любви.
Муж Елены Михайловны был примусный мастер. В то время было много примусов, а чинить их было некому. Вот Никанор Кузьмич, муж Елены Михайловны, их и чинил. У него в нашем городе хватало работы. Конечно, ему было не до любви.
— Я у себя в королевстве запретил примуса, пускай костры разводят, — задумчиво говорил мой король. — Возможно, я еще костры запрещу. И вообще огонь. А? Как ты думаешь?
— Ох, не хотел бы я жить в вашем королевстве!
— Это ты напрасно. Ты бы меня еще как любил! Когда все разрешено, тогда на любовь не рассчитывай. Ты; посмотри на детей: кто из них больше любит родителей? Тот, кто был в строгости воспитан.
Чего-чего, а строгости в его королевстве хватало. За переход улицы в неположенном месте полагалось строжайшее запрещение переходить улицы вообще, за присвоение королевского пятака — конфискация всего впоследствии нажитого имущества. И все равно подданные переходили улицы в неположенных местах, а воровали так, что даже из нашего двора стали пропадать вещи.
Жила еще у нас во дворе соседка Сусанна Аркадьевна. Она была даже старше Елены Михайловны, ей было уже за сорок. Но она никогда не была замужем и никогда не знала любви. Такая у нее была внешность, да и характер трудный, неуживчивый.
— Вы не правы, Елена Михайловна, любовь есть, — говорила Сусанна Аркадьевна.
— Откуда вам это известно?
— Мне известно, мне очень даже известно.
— Но откуда?
— Просто живу на свете, присматриваюсь. Я ведь старше вас, поэтому больше успела присмотреться.
— Вот эту женщину я бы полюбил! — говорил король, отведя меня в сторону. — Она умеет любить, не то что мои подданные.
Между тем Сусанна Аркадьевна продолжала:
— И вы утверждаете, Елена Михайловна, что не любите своего Никанора Кузьмича?
— Не люблю, конечно.
— Не любите?
— Не люблю.
И тут Сусанна Аркадьевна привела сокрушительный аргумент:
— А чего ж вы тогда с ним в кино ходите?
Сама она ходила в кино с подругами, но часто представляла, как бы она ходила с любимым человеком.
Елена Михайловна рассмеялась:
— А куда ж его девать? Дома оставлять, что ли? Так он не хочет дома сидеть, тоже в кино просится.
Сусанна Аркадьевна не нашла что на это ответить, и все же она не отступала. Она верила в любовь. Пусть она и не видела в своей жизни любви, но она в нее верила. Если на то пошло, Джордано Бруно тоже не видел, как Земля вращается вокруг Солнца.
С каким наслаждением она бы сгорела на костре за любовь!
Но об этом никто не догадывался, кроме, конечно, моего короля, который в связи с этим решил костры не запрещать, иначе за любовь сгорать будет просто не на чем. Примуса запретить, но костры оставить, поскольку не примуса, а костры утверждают идею любви.
Хотя в его собственном королевстве идея эта не находила особого подтверждения. И король все чаще жаловался, когда мы оставались наедине:
— Вот такие дела: разочаровался я в своем народе. Уж, казалось, такие преграды поставил — ну, должны, должны они меня полюбить. А они не любят. То есть любят, но недостаточно. И даже как будто меньше, чем раньше любили.
— Вы ж им все позапрещали…
— Вот-вот! Кажется, все позапрещал, а любовь их ко мне не увеличивается.
— Тогда разрешите им что-нибудь.
— А преграды? — он подмигнул. — Ой, малый, ничего ты не смыслишь в педагогике! А еще в педагогическом! На первом курсе!
Я был в том трудном возрасте, когда встречаются проблема запретов и проблема любви, когда человек входит в возраст любви, еще не выйдя из возраста запретов. Мой король пытался совместить то и другое, возможно, для того, чтобы облегчить мое состояние.
Однажды прибежала девочка из соседнего двора:
— Елена Михайловна, бегите, Никанора Кузьмича увезла «скорая»!
Елена Михайловна, как стояла, в переднике, с «рыбными» руками (она рыбу чистила), бросилась со двора.
У Никанора Кузьмича в руках примус разорвался, обожгло его всего. Такое несчастье! Елена Михайловна дневала и ночевала в больнице, домой забегала, только чтоб приготовить мужу еду. Сама в рот ничего не брала. Похудела, осунулась.
— Вот как она его не любит, — говорила Сусанна Аркадьевна в пространство, которое еще помнило их разговоры. — Так не любит, что, кажется, сама бы за него Умерла.
Но умирать никому не пришлось. Через месяц Никанора Кузьмича выписали из больницы, он вернулся окрепший, посвежевший, с небольшими ожогами на лице. И теперь уже Елене Михайловне некогда было разговаривать о любви: она целыми днями толклась возле своего Никанора.
Опустела скамейка, на которой мы спорили о любви.
Но не может такая скамейка пустовать долго: однажды, выйдя во двор, я увидел на ней моего короля и Сусанну Аркадьевну.
— Эй, студент! — окликнул меня король. — Не стесняйся, подходи, ты нам не помешаешь. Если ненадолго, конечно. — Он улыбнулся Сусанне Аркадьевне. — А надолго у нас свой разговор.
Соседка смутилась и даже потупилась:
— Шутите вы все, Федор Данилович…
А я и не знал, что моего короля зовут Федор Данилович. Я вообще не знал, что у королей бывают такие имена.
— А меня, ты знаешь, с престола прогнали, — сообщил мне король Федор Данилович. — Любили, любили и прогнали. Нет, братцы, не верю я в эту любовь.
— Ты верь, Федя, верь, — робко попросила Сусанна Аркадьевна.
— Ну, для тебя разве! — он обнял соседку и сказал доверительно: — Она у меня хорошая. Ты посмотри на нее: сплошное препятствие для любви. Как раз то, что мне надо.
— Зачем ты так, Федя, при посторонних? — упрекнула его Сусанна Аркадьевна.
Вот тебе раз! Я уже стал для моего короля посторонним. Я, можно сказать, его выдумал, и я же для него посторонний!
— Такие дела, студент, — грустно сказал король Федя, — не полюбили меня мои подданные. Не по вкусу я им пришелся, сам не знаю почему. Так я знаешь какое принял решение? Буду я лучше сам любить. Любить самому — это даже еще интересней!
СКАЗОЧНИК ИЛЬКО
Маленький, щуплый, похожий на состарившегося воробушка, сказочник Илько сидит, как на жердочке, на краешке стула у редакционного стола и рассказывает мне свою сказку. Он сам ее прожил, и вот она подходит к концу. Длинная сказка, которая кажется короче к концу, потому что хочется, чтоб она еще продолжалась.
— Было это еще в первую мировую войну. Я тогда был стрелевой… — Он хочет сказать «строевой», но у него получается: «стрелевой». Слишком много на этой войне стреляли.
Он воевал в австро-венгерской армии, потому что Закарпатье тогда входило в состав Австро-Венгрии. И попал в плен. На самую Кубань, в станицу Елизаветинскую. Или Анастасьевскую. Было у станицы женское имя, что по тем временам было самое подходящее: остались в ней одни бабы, мужики — на войне.
Попал Илько в плен, а девать его некуда. В России революция назревает. И тогда бабы станичные, с разрешения начальства, стали пленных между собой разбирать. Все-таки мужики, хоть какая-то помощь в хозяйстве.
Выбрали самых рослых, потом в ход пошел и середнячок. А Илько на самый конец остался. Он и так собой не видный, а тут еще вдобавок слепой. Что-то у него с глазами тогда приключилось.
Потом нашлась какая-то из дальней станицы Ивановской. Хоть Ивановская, а тоже в ней одни бабы.
Привела женщина Илька к себе на хозяйство, помыла, приодела, а вечером еще и гостей позвала — в честь такого события. Хоть и захудалый, а все же работник. Не все теперь одной спину ломать.
— Сижу я за столом, — рассказывает свою сказку Илько, — на столе что еды, что питья, а я ничего не вижу. Не знаю, куда вилкой ткнуть, чтоб перед гостями не опозориться. Так уже стараюсь: авось не заметят. А то ведь засмеют женщину: слепого в хозяйство привела. Поняла она мое состояние, подошла ко мне, положила еду на тарелку и за руку взяла, будто лаская, а на самом деле — чтоб к тарелке меня подвести. И гостям говорит: «Это ничего, что он ростом не вышел, мужик не лестница, чтоб лазить на чердак. Чем ближе к земле, тем в хозяйстве полезней». Да… Кое-как отгуляли… — Илько улыбается, вспоминая далекие те времена. — Женщина оказалась хорошая, жалостливая. И работой не загружала. Одинокая она была. Ни отца, ни матери, а замуж выйти не успела. То японская война, то германская — как на мельнице мелют мужиков… Да, жалела она меня. Вот тогда я и научился сказки рассказывать. Вспоминаю, что слышал у себя в селе, и рассказываю. Очень она любила сказки слушать. Но обязательно, чтоб с хорошим концом. Чтоб хоть в самом конце все были счастливы. Потому что сама надеялась: авось и ей повезет. Пока что не ладилась жизнь, но, может, после — заладится? А иначе зачем и сказки слушать, если не для надежды? И зачем тогда их рассказывать?
Илько пересел на другой краешек стула — старый, ногу засидел.
— Уговаривала она меня навсегда остаться. Там, на Кубани, в станице этой Ивановской. Не смог я. Она ж меня только пожалела, разве ж можно жизнь прожить на одной жалости? А может, надо было остаться? Хоть бы увидел, какая она. Я ж видеть начал уже потом, когда домой вернулся.
Он опять улыбнулся — теперь уже веселей:
— А гости тогда так ничего и не заметили, думали, что я зрячий. А может, заметили, только сделали вид, что не замечают? Чтоб меня и мою хозяйку не огорчать, Кому ж это хочется огорчать человека? — Он вздохнул — Долго я не забывал эту женщину. А потом забыл, Так уже человек устроен. Если ничего не забывать, весь век придется мучиться. А я бы мучился. Весь бы век^ из-за нее мучился. Если б не забыл…
ПАМЯТИ ЭКЗЮПЕРИ
Вы помните Маленького Принца? Чтобы вернуться на свою планету, он должен был умереть на Земле. Сколько лет прошло, уже в Автор Принца умер и улетел на свою планету, а Маленький Принц все еще бродит по Земле.
Недавно я встретил его. Это было на маленькой станции, где поезда стоят не больше минуты. Когда все поезда ушли, все пассажиры уехали и приехали, а зал ожидания заперли на замок до рассвета, ко мне подошел Маленький Принц.
Он очень изменился. Вырос, повзрослел, поседел. Но в его глазах отражалась его планета. Мы сидели на скамейке у запертых дверей. Нам было холодно. Мы молчали.
Потом он сказал:
— Поезда неудобный вид транспорта. У них на пути слишком много расставаний.
Я не ответил. Я подумал: может быть, он говорит во сне.
Нас опять соединило молчание.
Но вот, разрывая его, он сказал:
— Сколько станций — столько расставаний. На каждой станции оставляешь клочок души.
Я спросил:
— А почему вы тогда не улетели?
— Не получилось. Для того, чтоб вернуться, я должен умереть на Земле, а у меня не получается. — Он вздохнул. — Я прошел всю войну, побывал в таких местах, где жизнь совершенно невозможна. И всюду находился кто-то, кто умирал за меня. Я хотел умереть за них, а они умирали за меня. Вы думаете, один солдат из-за меня домой не вернулся? Я просил приговоренного к смерти: тебе это не нужно, а мне нужно, позволь мне за тебя умереть. Но он отвечал: мне будет легче умереть, зная, что ты живешь, чем жить, зная, что ты умер. Я просил мать умирающего ребенка позволить мне умереть за ее ребенка. Она мне сказала: если ты умрешь, его детство ему не понадобится.
Люди привыкли умирать за других, но далеко не все умирают вот так, осмысленно. Скольким приходится умирать неизвестно за что, за чьи-то преступные замыслы, корыстные интересы…
Старый Маленький Принц… Как он прожил все эти годы? Конечно, не от радости он поседел. Сколько лет он бродит по дорогам, оставляя на каждой станции клочки своей детской души, — потому что души ведь не старятся, они либо рождаются старыми, либо остаются юными до конца.
— Послушайте, вы уже не маленький…
— И не принц, — добавил Маленький Принц.
— В детстве вы рассказали прекрасную сказку, но одно в ней вызывает сомнение: неужели для того, чтобы попасть на свою планету, нужно непременно умереть на Земле?
— Иначе не долетишь. Тело слишком тяжелое.
— Это вы уже говорили. Но представьте себе: у каждого есть своя планета, каждый стремится к своей планете, но зачем же превращать Землю в кладбище? На последней войне погибли десятки миллионов — разве столько наберется планет? И неужели наша Земля лишь на то и годится, чтоб на ней умирать?
Он не ответил. Он только сказал:
— Каждый человек должен стремиться к своей планете.
Он умолк, опустив в ладони седую голову.
Светало. К нам подошел солдат, — возможно, один из тех, кто не дал ему умереть. Только состарился он с тех пор, и вместо ноги у него была деревяшка.
— Пусть поспит, — сказал солдат, укрывая Принца своей шинелью. — Устал он, намаялся. Пусть поспит.
Солдат достал из кармана ключи и стал отпирать зал ожидания для дальнейших ожиданий.
ОЧЕРКИ
ФАНТАЗИЯ ФАКТА
Авторитет факта намного выше авторитета фантазии. Поэтому непризнанные факты добиваются признания единственным путем: сумев доказать, что они далеки от фантазии. А как это сделать? Как доказать, что ты не верблюд, там, где никто в глаза не видел верблюда?
Прошлое состоит из фактов, будущее — из фантазий. Жизнь — это и есть превращение фантазии в свершившийся факт…
Вспомните, как возникают окаменелости. Каждая частичка некогда живого организма заменяется частичкой никогда не жившей, мертвой от рождения. Окаменелости— это память мертвых о живых, которая подчас долговечней, чем память живых о мертвых…
Факт, в котором не осталось и частички фантазии, это такая же окаменелость.
Но иногда на каменном лице факта, застывшего, холодного и давно свершившегося, вдруг проступит улыбка, знакомая тебе с детства, — улыбка фантазии…
Далеко-далеко, где-то на краю вселенной, в созвездии Голубя, есть звезда под названием Факт. Быть может, это название ей было дано из уважения к факту ее существования.
Возможно, звезда Факт принадлежит к тем фактам, которые мы узнаем с большим опозданием, когда сами факты погасли, окаменели и доносят о себе только память, мертвую память о живом. Свет погасшей звезды — это ее запоздалая улыбка. Это фантазия, сбежавшая от своего застывшего факта — туда, где еще есть место фантазиям…
Факты, как и люди, нуждаются в прижизненном, а не только посмертном внимании. Пока они еще живы, пока их еще нельзя отделить от фантазии, пока они лишь частично в прошлом, а частично в будущем… То есть пока они в настоящем…
ПОЕЗДКА В ИТАРИЮ[13]
Лучшая климатическая пора в Карелии — июль; лучшее анестезиологическое время — октябрь: 16 октября наш ежегодный праздник.
Из письма А. П. ЗильбераЛучше стираться, чем ржаветь.
Девиз Царства ИтарскогоИнтервью в гостинице «Север»
Октябрь — анестезиологическое время: природа засыпает, чтобы не чувствовать зимних холодов, чтобы не слышать воя метелей и вьюг, не видеть склонившихся над ней белых халатов. Конечно, они добры, конечно, вмешательство их необходимо, но лучше этого не видеть, уснуть до более теплых времен.
Жизнь природы — это, в сущности, чередование анестезии и реанимации: осеннего усыпления и весеннего оживления. И при этом не бывает неудачных исходов: еще никто не помнит случая, чтобы природа весной не ожила.
Жизнь человека требует больших забот. Смотришь: и солнце светит вовсю, и земля цветет, наполняясь весенними соками, а человек не оживает. Как подумаешь: до чего человек смертен! Просто руки опускаются!
Едва увидел я сей свет, Уже зубами смерть скрежещет…заметил наблюдательный поэт Гаврила Романович Державин, который, кстати, был в Петрозаводске губернатором.
Однако не будем пессимистами. «Пессимист — это человек, который стоит у себя на пути», — говорит Анатолий Петрович Зильбер, тоже житель Петрозаводска. (Поэт Державин частенько становился у себя на пути, иначе бы ему не стать губернатором.) С этим человеком (разумеется, не Державиным, а Зильбером) я познакомился весной 1972 года в Петрозаводске. До этого мы несколько лет переписывались, и меня поразила его способность кратко формулировать то, что в природе существует в многословном состоянии. Даже несущественное он умел облечь в столь блестящую форму, что все существенное отступало на второй план. Такие способности нередко превращали врача в литератора (примеров достаточно в истории литературы), но Зильбер остался врачом. Более того, он стал профессором и возглавил отделение анестезии и реанимации в Карельской республиканской больнице.
Май был осенним и даже снежным, и мы отогревались в гостинице «Север», которая заменяла нам юг. Строгая гостиничная обстановка располагала к интервью.
— Анатолий Петрович, поскольку вы реаниматолог, то есть человек, говоря упрощенно, оживляющий людей, с вами естественно вести разговор о жизни и смерти. Какие вы знаете классические определения жизни и смерти?
— Этих определений так много, а жизнь так коротка, что перечислять их не стану — не успею. Могу предложить собственное определение: жизнь — это состояние, при котором нет нужды думать о смерти.
— Но возможность думать все же сохраняется?
— В идеальном случае — да. С точки зрения медицины думать даже полезно. Как замечено неоднократно, мыслители живут дольше романтиков.
— Ни для кого не секрет, что с годами представление о смерти меняется. Как бы вы объяснили смерть, во-первых, начинающему жизнь и, во-вторых, оканчивающему ее?
— Начинающему жизнь сказал бы: смерти нет, не бери ее в голову, иначе она тебя возьмет. Оканчивающему жизнь повторил бы слова Эпикура: «Не надо бояться смерти! Пока мы живем — ее нет, когда она пришла — нас нет».
— И в заключение, Анатолий Петрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который вы сами считаете уместным.
— Поскольку человек приход смерти всегда считает несвоевременным, уместно спросить его: когда бы он сам хотел умереть?
— И как бы вы ответили на этот вопрос?
— На следующий день после того, как останусь доволен своей работой и не захочу ее переделывать.
Отвечая так, Зильбер ничем не рисковал: он знал, что никогда не будет доволен своей работой.
Два дантиста
В Бостоне, штат Массачусетс, и в Хартфорде, штат Коннектикут, стоят два памятника, которым никогда не встретиться друг с другом. Таковы судьбы памятников: они могут устремляться как угодно высоко, но им никогда не встретиться друг с другом, они обречены на вечную славу и вечное одиночество. И никогда не встретится бостонский Вильям Мортон с хартфордским Гарасием Уэлзом.
Сто тридцать лет прошло с тех пор, как 16 октября 1846 года в бостонской больнице дантист Вильям Мортон впервые применил наркоз во время операции. Впрочем, не впервые. За два года до этого в той же больнице другой дантист, Гарасий Уэлз, попробовал применить наркоз, но попытка его окончилась неудачей. Присутствовавший при неудачном опыте Мортон решил присоединиться к чужому неуспеху в расчете на будущий успех. Так возник союз двух дантистов, приведший к революции в медицине.
Впрочем, союз этот был недолгим, и к своему победному финишу Мортон пришел один (правда, не совсем один, так как по пути использовал открытия Чарлза Джексона, с которым впоследствии не захотел делиться славой).
Мортон был энергичный человек, он оставил позади и Джексона, и Уэлза, слабость которых состояла в том, что они спешили поделиться своими открытиями, чтобы избавить человечество от страданий. Мортон не спешил избавить человечество от страданий, он держал свое открытие в тайне, выжидая, пока человечество как следует раскошелится.
Неудачник Гарасий Уэлз покончил самоубийством. Удачливый Вильям Мортон умер нищим на улицах Нью-Йорка. Время стирает грани между удачей и неудачей, и впоследствии трудно определить, кому больше повезло. В Бостоне, штат Массачусетс, и в Хартфорде, штат Коннектикут, стоят памятники, которым никогда не встретиться друг с другом: памятник счастливцу Мортону и памятник несчастливцу Уэлзу… Воздвигнут памятник и Чарлзу Джексону, окончившему жизнь в психиатрической больнице…
Памятники одиноки, но память принадлежит всем, и память человеческая объединяет всех — и счастливцев, и несчастливцев. Ибо память человеческая удерживает лишь наши дела, а к ним обычно причастны как счастливцы, так и несчастливцы. Иногда несчастливцы даже больше, чем счастливцы, — в этом счастье несчастливцев, которым обделила их жизнь.
В Карельской республиканской больнице лечат зубы под общим наркозом. За один наркоз (4 часа) излечивают тридцать зубов. Могли ли думать Мортон и Уэлз, что их изобретение приведет к осуществлению вековечной мечты дантистов? И думал ли Вильям Мортон, что 16 октября, день его удачной операции, станет ежегодным праздником карельских анестезиологов?
Как сказал мой друг Зильбер, берегите здоровье, а тем более бессмертие… Увы, и то и другое не удается одновременно сберечь.
Путь туда и обратно
Перевозчик Харон любил свою работу, но его огорчало то, что пассажиры у него были всегда в одну сторону и обратно приходилось возвращаться порожняком. Кто из перевозчиков любит возвращаться порожняком? Некоторые вообще скорее откажутся везти, чем согласятся делать обратную ходку без пассажира.
Но Харон был добросовестным перевозчиком, и за всю свою многовековую практику он ни разу не отказался перевезти пассажира с одного берега на другой. Хотя всякий раз ворчал, что неплохо бы брать плату в оба конца, потому что обратный путь ему никто не оплатит. Путь туда в Древней Греции, как известно, оплачивали: когда человек умирал, ему клали в рот монету, чтобы он уплатил Харону за перевоз.
Стикс, в общем, река как река, за исключением того, что это река смерти. И если по одну сторону Стикса живут люди пока еще живые, то по другую живут мертвые. Впрочем — как живут? Как обычно живут мертвые, то есть не живут вовсе. И вот для того чтобы человек, живущий на этой стороне, мог не жить на той стороне, его нужно перевезти через реку Стикс. Этого требует древнегреческий миф, и старый Харон должен выполнять это требование, потому что он сам из этого мифа. Он живет в этом мифе, впрочем — как живет? Так, как живут те, кто давным-давно умер, а то и вовсе не жил: исключительно в памяти потомства.
И все же старый Харон любит свой миф и свою реку Стикс, а также свою профессию перевозчика, несмотря на то что у него никогда не бывает обратных пассажиров и всякий раз приходится возвращаться порожняком.
Однажды, взяв пассажира на этой стороне, а именно — в Карельской республиканской больнице, — перевозчик Харон, поворчав для порядка, что возвращаться придется порожняком, потихоньку отчалил от берега и доплыл уже до середины реки, когда вдруг увидел еще одну лодку. В лодке был только один человек, и Харон, естественно, посчитал его перевозчиком и возблагодарил Гермеса, покровителя перевозчиков, что он прислал ему помощника в этом нелегком деле. Вдвоем работа пойдет веселей — насколько может быть веселей, когда возишь покойников.
— Ты кого отвозил? — спросил Харон, заводя разговор, обычный между перевозчиками, даже если они видят друг друга впервые.
Человек в другой лодке улыбнулся, отчего по Стиксу пошли круги: на этой реке еще никто никогда не улыбался.
— Я никого не отвозил, — сказал Анатолий Петрович Зильбер. Да, это был он: профессор, уважаемый человек, сидел себе в лодочке, вместо того чтобы двигать вперед науку.
— То есть как — не отвозил? — удивился Харон. — А зачем же ты здесь?
— Я хочу взять вашего пассажира, Харон Эребович. — Как истинный интеллигент, профессор Зильбер, во-первых, обратился к собеседнику на «вы», а во-вторых, назвал его по имени-отчеству (как истинный эрудит, он знал отчества не только своих коллег и друзей, но даже совершенно посторонних мифологических персонажей).
Услышав свое отчество, которое он прежде никогда не слыхал, Харон растрогался. Он вспомнил об отце своем Эребе, и о матери своей Никте, и о дедушке Хаосе, и о дяде Тартаре, и о тете Гее, а также о братьях Гипносе, Эфире и Танатосе, и о сестрицах Гемере и Мегере… Вот только о бабушке он вспомнить не мог, не было у старого Харона бабушки. Дедушка Хаос всех своих детей сам породил, хоть сам-то он был ничто, в полном смысле пустое место[14].
Воспоминания о родственниках не отвлекли, однако, перевозчика от его основного дела, и, сообразив, что у него хотят отобрать пассажира, он закрыл один глаз, чтобы собеседнику стало ясно, что он подмигивает.
— Ничего, своего пассажира я сам довезу.
— Я в этом не сомневаюсь, Харон Эребович. — Профессор опять улыбнулся, да так, что на Стиксе поднялись волны. — Но дело в том, что я отвезу его на противоположную сторону.
— Это, что ли, обратно? Да ты что! Такое на нашей речке не водится.
— Харон Эребович, знаете ли вы, что такое клиническая смерть?
— Какая-какая?
— Клиническая.
— Чего не слыхал, того не слыхал, врать не буду. Знаю смерть от огня, от воды, от ножа, от неправильного лечения… А этой… клинической… этой я не знаю.
Он хотел плыть дальше, но Зильбер зацепил его лодку багром…
На реке начинался шторм: Зильбер улыбался.
— А кто разрешил? Плутон разрешил? — уцепился Харон за авторитет, потому что больше ему не за что было уцепиться.
— Клиническая смерть входит в компетенцию не Плутона Кроновича, а Эскулапа Аполлоновича.
— И он, этот Аполлонович, сказал, что нужно везти обратно?
— Нужно, Харон Эребович. И как можно скорей.
Волны стихли, перестали идти по реке круги, и Харон понял, что собеседник не шутит.
— А можно, я сам его назад отвезу? У меня еще никогда не было обратного пассажира…
— Договорились, — кивнул Зильбер. — Только я поплыву впереди, буду показывать дорогу.
— Это мне-то показывать дорогу? Мне, Харону, показывать дорогу через реку Стикс?
— Не обижайтесь, Харон Эребович, но вы привыкли возить туда, а между жизнью и смертью туда и назад — дороги разные…
Разные дороги… В этом-то вся беда. В этом вся трудность работы реаниматолога, перевозчика на реке смерти, — не в ту, что Харон, а в обратную сторону…
Царство Итарское
Мы сидим в ординаторской. У нас обед. Сегодня нас кормит Галина Семеновна Сильвестрова — врач, главный архивариус и ученый секретарь КАРОАР. А сегодня она к тому же и повар (кстати, хороший повар, это я могу подтвердить как гость, которому приготовленный ею будничный обед показался поистине праздничным). Завтра поваром будет Борис Емельянович Шунько, врач и главный электронщик отделения, послезавтра — Елена Васильевна Трухан, врач, биохимик, а также министр увеселений и искусств. Каждый врач в отделении, кроме своей основной, серьезной профессии, имеет дополнительную, несерьезную, но крайне необходимую коллективу. Впрочем, несерьезность этой дополнительной профессии чисто внешняя, она лишь в шутливых названиях: директор, министр, — но выполняется всерьез и требует много сил и энергии. Юлия Ивановна Быстрицкая — директор библиотеки отделения, хранитель библиографической картотеки, Илья Григорьевич Хейфец — главный переводчик отделения (английский, французский, немецкий), Михаил Георгиевич Фулиди — главный художник, Эдуард Эдуардович Белковский — главный фотограф и музыкант… В этом отделении все главные, но душой всех главных является, конечно, Анатолий Петрович Зильбер — главный врач, главный научный руководитель, а в дополнение к этому — главный поэт, главный композитор, главный юморист…
Не правда ли, странно звучит: главный юморист? Юмористы обычно никогда не бывают главными, а если они становятся главными, то они уже обычно не юмористы.
Но, оказывается, все может быть иначе. Оказывается, юмор нисколько не вредит серьезному делу и не роняет авторитета руководителя, а даже наоборот: укрепляет авторитет руководителя и сплачивает вокруг него коллектив.
Шуточная жизнь отделения ИТАР (Интенсивная Терапия, Анестезия, Реанимация), которая почти неотделима от его серьезной жизни, — вследствие того, что преследует цели и добивается результатов, которые можно смело назвать нешуточными, — эта жизнь имеет свои законы, закрепленные в Кодексе Царства Итарского.
§ 1. В Итарстве можно делать и говорить только то, что приятно большинству или приемлемо им в силу здравого смысла. Замечания, какими бы справедливыми они ни казались автору, запрещены: разрешены только предложения.
§ 2. Все итарцы и итарки равны в своем достоинстве и правах, они наделены разумом и совестью и должны относиться друг к другу в духе братства и любви.
§ 3. Каждый может пригласить в Итарство человека или группу лиц, если это действие удовлетворяет § 1 Кодекса.
§ 4. Каждый вкладывает в Итарство идеи, труд и материальные ценности в соответствии со своими возможностями и велением совести, но не в противоречие с § 1 Кодекса. Все графики работ, дежурств, выборы должностных лиц, временные и постоянные мероприятия и т. п. не могут противоречить § 1 и § 2 Кодекса.
§ 5. Ничто в настоящем Кодексе не может быть истолковано как предоставление отдельному человеку или группе лиц права совершать действия, противоречащие Духу и Букве Законов Итарства.
И хотя эпиграфом к этому «своду законов» стоит легкомысленная надпись над входом в Сад Эпикура: «Тебе здесь будет хорошо: здесь удовольствие — высшее благо», — речь идет не только об удовольствии.
Царство Итарское выполняет все функции Интенсивной Терапии, Анестезии и Реанимации, но ему интересней сознавать себя не отделением, а царством.
Вероятно, каждая работа, если добавить к ней щепотку юмора, становится и легче, и веселей, а если делаешь ее с тяжелой душой, то и она становится от этого тяжелее. В этом смысл Царства Итарского и его шутливого Кодекса, в котором, если вдуматься, серьезен каждый параграф. Этот Кодекс определяет зависимость человека от коллектива, но такую зависимость, которую никак нельзя назвать несвободой. Потому что это не только зависимость человека от коллектива, но и зависимость коллектива от каждого человека, его составляющего, от нужд, интересов, потребностей каждого человека. Личность и коллектив не являются антагонистическими понятиями, — конечно, при условии, что каждый член коллектива непременно является личностью, то есть содержит не только свои собственные интересы, но интересы своих товарищей, общества, в котором живет, а также всего человечества в целом. Чем больше содержит личность не своих интересов, тем личность богаче и значительнее, ибо масштабы человека в конечном счете определяются масштабами его интересов.
Царство Итарское… Это шуточное, сказочное царство. Но то, что в 1974 году через него прошли три с половиной тысячи больных, — это уже не шутка, не сказка. Но. не шутка ли, не сказка ли способствовали тому, что больные стали здоровыми?
По своему административному положению Итарское царство входит в Кароарское государство (КАРОАР— Карельское общество анестезиологов и реаниматологов), так что каждый итарец является одновременно кароар-цем. Не каждому повезет иметь два таких звучных названия. Впрочем, везение ограничивается названиями, все остальное — результат собственных трудов и забот людей, объединенных преданностью общему делу. Ведь что такое профессия? Толковые словари дают различные толкования. Один считает профессию родом трудовой деятельности, а также источником существования. По мнению другого, профессия, оставаясь родом трудовой деятельности, уже не является источником существования, предполагая, видимо, другой источник. А. П. Зильбер, давая определение профессии, говорит о сплоченной категории людей, выполняющих определенную специфическую работу, основанную на специальной подготовке, знаниях и опыте
…Мы сидим в ординаторской. У нас обед. Необычная обстановка ординаторской: рубленая изба, в которой скрывается кухня, диковинные фигуры из дерева (так называемые «капы» — главное увлечение итарца) — все это уводит из действительности в сказку. Но действительность рядом, за дверью, и я замечаю, что мои собеседники неслышно выходят один за другим, чтобы сменить друг друга в этой действительности, а другие возвращаются и включаются в разговор, как будто они не покидали сказку.
И все же чувствуется, что главное для них — там, за дверью, ведущей в действительность.
Гераклиды
Первым реаниматологом, по преданию, стал знаменитый Геракл. У него не было никакого специального образования, и метод его существенно отличался от современных методов реанимации. По древним понятиям он был проще, по современным — намного сложней.
Случай был тяжелый: царица Алкестида не только согласилась умереть вместо своего мужа Адмета (какая жена не согласится умереть вместо своего мужа?), но и действительно умерла. Муж Адмет был в отчаянии. Даже если б он умер сам, он бы не был в таком отчаянии, — во всяком случае, чувствовал бы себя намного спокойней.
И тогда Геракл решил совершить подвиг. Он не был профессиональным реаниматологом, поэтому для того, чтобы провести реанимацию, ему пришлось совершить подвиг. И он его совершил.
Геракл спустился в подземное царство и направился прямо к богу смерти Танатосу. О Танатосе шла дурная слава: говорили, что он не принимает даров. Если бог принимает дары, с ним легко поладить смертному человеку, но как поладить с богом, который не принимает даров? И надо же, чтобы из всех богов таким патологическим бескорыстием страдал именно бог смерти!
Не зная, как иначе к нему подойти, Геракл вызвал Танатоса на единоборство. Борьба длилась долго. Танатос оказался крепышом, но ведь и Геракл был не какой-нибудь заморыш. Ему не раз приходилось посылать своих врагов в подземное царство, но трудность в данном случае состояла в том, что противник уже находился в подземном царстве и посылать его фактически было некуда. Поэтому Геракл не стал никуда его посылать, а просто скрутил бога смерти и заставил его отпустить покойницу. Операция прошла удачно. (Нужно сказать, что с Сюгом смерти не раз проводились такие операции! Герой Сизиф не только скрутил Танатоса, но даже приковал его цепями к скале. Досталось богу смерти за то, что он не принимает даров, но он не образумился, и с ним и сейчас невозможно по-хорошему договориться.)
Гераклиды (так называют многочисленных последователей первого реаниматолога), унаследовав самую суть— оживление, коренным образом изменили методы и выработали совершенно другие приемы. Они не схватываются с богом смерти врукопашную, хотя, возможно, и могли бы его победить — если не силой, то числом и умением. Они предпочитают более профессиональные методы: массаж сердца, искусственное дыхание, ибо реанимация в буквальном переводе, собственно, и означает «вдыхание жизни».
Очень трудно вдохнуть в человека жизнь, когда она из него окончательно «выдохнется», поэтому главной заботой современных гераклидов является не реанимация умершего, а предупреждение смерти. Это-то и есть интенсивная терапия — временное искусственное замещение жизненно важных функций больного.
Успех, конечно, не стопроцентный, но гераклид Михаил Георгиевич Фулиди с обстоятельностью кандидата наук объясняет:
— Один оживленный из ста — это много или мало? Мало, но для него, для оживленного, это практически сто процентов.
Гераклу было легче: в тех мифических условиях, в которых ему приходилось работать, ему некуда было спешить, у него всегда была в запасе вечность. А современному гераклиду дается двадцать секунд, чтобы при неэффективности закрытого массажа сердца вскрыть грудную клетку, околосердечную сорочку и начать прямой массаж сердца для восстановления кровообращения. Право, легче побороться с самим богом смерти Танатосом, — только где его сыщешь в наш атеистический век, когда ни на земле, ни под землей не осталось ни одного бога?
Приходится обходиться без богов. Без них, как уже неопровержимо доказано, обойтись можно, а вот без людей обойтись никак нельзя. Пока к человеку, находящемуся в состоянии клинической смерти, прибудет врач, окончится клиническая смерть и наступит смерть самая настоящая. Поэтому перед современными гераклидами стоит задача: обучить искусству реанимации население, Чтобы каждый школьник умел сделать массаж и искусственное дыхание — то есть оживить человека, пока его еще есть возможность оживить.
Обучением населения занимается Аннушка. Она ездит по всей Карелии, добирается в самые отдаленные уголки и всюду демонстрирует передовые методы реанимации. Конечно, ездит она не одна, а в сопровождении врача-реаниматолога, но это ей, Аннушке, делают и массаж сердца, и искусственное дыхание, и если правильно делают, Аннушка покрывается счастливым румянцем, а если неправильно, она остается такой же бледной, как была.
Аннушка — кукла, но на ней учатся оживлять людей. Ведь это так важно — научиться оживлять людей, и, может быть, сознавая это, Аннушка покрывается счастливым румянцем…
Двое убитых током электриков оживлены своими товарищами. Не гераклами, не гераклидами, а простыми электриками — возвращены к жизни.
Такого не бывало в прежние времена. Отнять жизнь — это да, это мог сделать каждый… Но чтоб вернуть человеку жизнь — такие случаи были зафиксированы только в легендах…
Спешите думать…
С чего началось Царство Итарское? Оно началось с того, что в 1959 году молодому врачу А. П. Зильберу были приданы две медицинские сестры и он стал заниматься Интенсивной Терапией, Анестезией и Реанимацией.
Шло время. Молодой врач стал молодым кандидатом наук, затем молодым доктором… Растущие ученые степени скрадывали возраст и помогали сохранять молодость: тридцатилетний кандидат — молодой кандидат, сорокалетний доктор — молодой доктор. Тем более что в отделение стали приходить молодые врачи, и с приходом каждого нового врача снижался средний возраст Царства Итарского.
Большинство карельских анестезиологов вышли из Петрозаводского университета, где их обучал и воспитывал профессор Зильбер. При этом он руководствовался принципами, помогающими воспитывать не слепых исполнителей затверженных в университете азов, а мыслящую личность[15].
Главный принцип: Рассуждение, пусть даже неправильное, полезнее твердолобого знания, считающегося сегодня истинным.
— За час нашей жизни, — говорит А. П. Зильбер, — у нас безвозвратно погибает около тысячи нервных клеток. И нервные клетки не восстанавливаются. Пока ведется этот разговор, несколько десятков, может быть, даже сотен нейронов безвозвратно погибли. И все мы станем чуточку глупее к окончанию этого разговора.
Поэтому — спешите думать, не ждите, пока поглупеете от этих бездумных минут и часов, из которых складывается бездумная жизнь, глупее которой ничего нельзя придумать.
Знаменитое: «Я мыслю, следовательно, я существую» — имеет прямое отношение в реанимации. Оживить человека — значит заставить его мыслить.
Оживление живых
Если исходить из формальной логики, ожить может только мертвый, а умереть — только живой. Таким образом, у мертвых более отрадные перспективы. Но перспективы мертвых в большинстве своем так и остаются перспективами, и никакая формальная логика им не помогает. Поэтому нужно думать не столько о мертвых, сколько о живых.
Что делает живого человека мертвым? Годы, болезни, убийства, несчастные случаи — и это всё?
Вот какое дается определение здоровья в преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье— это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов».
По этому поводу А. П. Зильбер замечает:
— Каждый, кто считает себя здоровым в соответствии с этой международной формулировкой, пусть бросит в меня камень… Что-то я не вижу града камней.
Физическое благополучие — понятно. Социальное благополучие — понятно. Но как достичь психического благополучия? Как сделать, чтобы человек не выходил из предписанного ему равновесия из-за всяческих мелких неурядиц, которыми полна жизнь?
Того, кто отнимает у человека жизнь целиком, называют убийцей. А того, кто отнимает ее по частям? Сколько их, отнимающих у человека жизнь по частям, — в бюрократических учреждениях, в сфере обслуживания, просто на улице и даже в собственной квартире! Сколько их, не числящихся в убийцах, отнимают жизнь у незнакомых,' малознакомых, у близких, друзей и родных? Как же достичь предписанного Всемирным Уставом психического благополучия?
Абсолютного средства нет. Даже при самых идеальных объективных условиях человек будет относиться к ним субъективно. И будет возмущаться справедливостью, субъективно воспринимая ее как несправедливость, и будет мучиться из-за мелочей, субъективно не считая их мелочами, — и, словом, будет нарушать свое психическое благополучие и тем самым укорачивать себе жизнь.
Что же может спасти человека от самого себя?
В значительной степени — юмор.
— Жаловаться на неприятности — удваивать зло; смеяться над ними — его уничтожать — говорит Конфуций.
— Когда человек улыбается, а еще больше, когда смеется, он словно продлевает свою жизнь, — говорит Лоуренс Стерн.
А Михаил Георгиевич Фулиди высказывается о юморе более обстоятельно:
— Мы все на работе настолько заряжены, что нам необходима разрядка. И здесь нас выручает юмор: на другую разрядку просто нет времени. Кстати, юмор — надежный метод интенсивной терапии. Самой ценной чертой этого метода, по сравнению с другими, является отсутствие противопоказаний к применению.
Высказывания Конфуция, Стерна и своих непосредственных сотрудников обобщает и одновременно конкретизирует А. П. Зильбер:
— Юмор — великий лекарь, и он нам нужен не только для продления наших собственных жизней, но и для продления жизней наших больных.
Очень важно, что этот лекарь работает в отделении анестезиологии и реаниматологии Карельской республиканской больницы. Ему бы работать всюду, где человеку угрожают несчастья, болезни, смерть…
Мы с ним встретились на шуточной сессии КАРОАР, посвященной 129-летию первого наркоза. Он, великий лекарь Смех, с помощью своего ассистента А. П. Зильбера, делал доклад на тему «Первые туристы-реаниматологи» (ибо сессия проходила под знаком содружества реаниматологии и туризма, являющегося одним из видов реаниматологии). Великий лекарь сделал такой далекий экскурс в глубь веков, где уже невозможно отличить живого от мертвого, и извлек оттуда один из первых методов реанимации (второй или третий после подвига Геракла): «Как оживить мертвого, о Аллах?» — «Возьми четырех птиц, рассеки каждую на четыре части и позови их соединиться. В этот момент человек оживет, а ты скажешь: Аллах велик и мудр!»
Позвать-то легко. Еще легче прославить Аллаха. Но и то и другое не имеет никакой практической ценности.
Великий лекарь Смех принимал участие в каждом пункте программы юбилейной сессии, он руководил и табором знаменитых капитанов-анестезиологов, и ансамблем «Фторотон» (всего одна буква изменена, и наркотизирующее средство «фторотан» стало ансамблем «Фторотон»), он участвовал и победил в турнире поэтов…
По словам Толстого, ничто так не сближает людей, как смех.
И ничто так людей не оживляет.
Потому что, вопреки формальной логике, оживлять нужно не только мертвых, оживлять нужно прежде всего живых. Чтобы они почувствовали жизнь, чтобы по-настоящему прониклись жизнью, которую они имеют свойство не замечать до тех пор, пока не придет пора с ней расставаться, — их нужно оживлять высокими помыслами, благородными чувствами и мечтами, а также юмором, который по своей природе несет в себе жизнь. И продлевает жизнь, в отличие от очень многих вещей, которые, к сожалению, ее укорачивают.
Родство противоположностей
У бога вечного мрака Эреба и богини ночи Никты было два сына-близнеца: Танатос и Гипнос. Хорошие мальчики, внешне очень похожие друг на друга, только характерами разные: Танатос пошел в отца, а Гипнос — в мать.
— Если уж мрак, то навечно, — говорил Танатос, погружая людей в вечный мрак.
— Ну зачем же навечно? — возражал ему Гипнос, следуя непостоянству матери — Ночи. — Пусть на ночь они погружаются во мрак, а утром возвращаются к свету.
— К свету? — подозрительно косился на сына старый Эреб, всю свою вечную жизнь ревновавший жену к богу света. И, видимо, не без повода: дочка-то у него, у Эреба, Гемера, богиня дня. А откуда у бога вечного мрака появиться дочке — богине дня?
Хотя, конечно, дети любят все делать наоборот: ты им мрак, они тебе свет. Ты им свет, они тебе мрак. И никогда не знаешь, что из них вырастет. Вот хотя бы близнецы эти, Танатос и Гипнос: выросли — и один стал богом смерти, а другой — богом сна, то есть, можно сказать, богом жизни, потому что сон всегда на стороне жизни…
В те давние (как, впрочем, и в самые недавние) времена анестезиологии еще не было как науки. Хотя люди спали, но каждый сам по себе, когда кому вздумается. А так, чтоб человека усыпить и, пока он спит, что-нибудь в нем изменить, исправить, — этого не было в те давние мифические времена.
И тут у Гипноса родился еще один брат — Эфир. (Впоследствии он стал богом самого лучезарного слоя воздуха, что, естественно, усугубило подозрения его отца относительно бога света.)
Гипнос и Эфир — это уже почти анестезиология. Вдвоем они могли усыпить так, что им позавидовал бы и сам Танатос. Правда, задачи у них были разные: Танатос усыплял для смерти, а Эфир с Гипносом — для жизни. В одной семье — и такие противоположности. Мрак и свет, жизнь и смерть — все в этой семье перепуталось. Может быть, тут свою роль сыграл дедушка Хаос…
Впервые анестезиологические способности Эфира обнаружил Теофраст Бомбаст Парацельс, уже не мифический, а реальный человек, имевший дело не с мифическим, а с реальным эфиром. В 1540 году Парацельс обнаружил, что эфир способен не только усыплять человека, но также лишать его ощущения боли, что очень важно, если хочешь сделать ему операцию.
Все это Парацельс обнаружил. Но до первой такой операции оставалось еще триста лет. А до настоящего расцвета анестезиологии — целых четыреста, а то и пятьсот.
Древняя фирма Гипнос и Брат занималась только усыплением. Функции современной анестезиологии значительно шире. Еще сравнительно недавно считалось, что анестезиология — это. обезболивание, сегодня задачи анестезиологии формулируются иначе. Это, во-первых, обеспечение безопасности больного на фоне обезболивания; во-вторых, наблюдение за функциями работы сердца, по. чек, дыхания и других органов; в-третьих, интенсивная терапия.
Ни одна серьезная операция немыслима без анестезиолога: он управляет всеми жизненно важными функциями организма. Без него больной — неуправляемый корабль, который в любую минуту может сесть на мель, пойти ко дну, потерпеть самую серьезную аварию. Поэтому современная анестезиология — это не только специалист-анестезиолог и наркозная маска, — это сложнейшая аппаратура, которой тоже нужно уметь управлять. Главное преимущество карельских анестезиологов не только в том, что у них много аппаратуры, а в том, что она работает (такое далеко не всегда бывает). За этим следит врач, являющийся одновременно главным электронщиком отделения, Борис Емельянович Шунько.
Одна из глав одной из многочисленных книг А. П. Зильбера начинается так: «Глава насыщена техническими подробностями, так как в ней описываются принципы исследования и аппараты, которые требуются для этого… Несколько формул и уравнений, имеющихся в этой главе, не должны смущать читателя: пропустив их, он потеряет самую малость, но, возможно, сохранит спокойствие духа». Руководствуясь этим указанием, пропустим то, что касается формул и машин, и вернемся к человеку.
Много ли нужно человеку? Совсем немного, если все его органы в порядке. А если они не справляются или вовсе бездействуют? Если сердце отказывается работать? Сколько нужно громоздкой аппаратуры, чтобы заменить портативные органы человеческие, чтобы простое человеческое дыхание заменить вентиляцией легких…
Мы не дорожим тем, что нам дается даром. А если бы давалось не даром? Если бы надо было дорого уплатить и за естественное дыхание, и за нормальное биение сердца, и за работу почек, печени… Как бы мы тогда ценили эту аппаратуру, подаренную нам природой, аппаратуру, которую никогда не заменят машины, даже самые совершенные.
Объявление из недалекого будущего:
«Граждане! Выпивая очередную бутылку вина, не забывайте откладывать деньги на новую печень!»
Но это тоже не выход из положения. Когда за человека живет машина, это уже не та жизнь.
Вот лежит в отделении больной, за которого живет машина. Он спрятал от жены бутылку в туалете, в бачке с водой. Потом, когда именно этой бутылки ему не хватило для полного удовлетворения, он полез за ней, сорвался и проломил себе голову. И вот за него живет машина. Если б она, машина, жила так, как он (то есть вела бы такой же, как он, образ жизни), ее бы давно списали в металлолом. А возле него хлопочут, ночей не спят. С машины строже спрашивают, хотя какой с нее спрос? Главный спрос должен быть с человека.
Главный спрос с человека — особенно это относится к врачу. Поэтому здесь, в Итарии, уделяется больше внимания подбору людей, чем подбору аппаратуры.
— Для нас самая большая трудность — выключить дыхательный аппарат, — говорит М. Г. Фулиди. — Всякий раз возникает вопрос: кто его выключит? Надежды не осталось, человек мертв, но, пока работает аппарат, будет биться сердце и не прервется дыхание… Это видимость жизни, пора выключать аппарат… Но кто это сделает?
Врач — не машина. Если он машина, пусть даже самая совершенная, то он не врач.
Нельзя привыкнуть не чувствовать чужой боли, чужого страдания. Даже если ты навечно прописан рядом со страданием, если чужое страдание — твоя повседневность, — к ним все равно нельзя привыкнуть.
Хозяева снов
Мы спим треть жизни. Вот почему у нас нередко такие беспокойные сны: нам совестно проспать так много. Но, с другой стороны, не проспать тоже нельзя. И мы ворочаемся по ночам, не зная, как умоститься, чтобы проспать эту треть жизни как можно более достойным образом.
Вот тогда-то мы совершаем великие открытия, сочиняем бессмертные симфонии и поэмы, — словом, делаем то, что в остальные две трети жизни нам сделать не удается. А просыпаясь, мучительно пытаемся вспомнить, что мы там наработали в своем сне. Пытаемся — и не можем. И мы опять ворочаемся, пытаясь уснуть, чтобы вернуться в то высокое состояние, но мысли о сне не дают нам уснуть.
Одна лишь анестезиология научилась использовать сон в интересах человека: уснет человек больным, а проснется здоровым. Вот это уже не обидно — не зря поспал.
Но ведь нельзя треть жизни проспать на операционном столе. А как все-таки быть с третью жизни? Как ее достойно проспать?
Видимо, тут не приходится рассчитывать на анестезиологов: у этих морфеев у самих не все в порядке со сном (вот и еще один представитель старинной семьи: Морфей, сын Гипноса).
А. П. Зильбер, который приходит на работу в пять утра и уходит в пять ночи (цифры приблизительные., но, увы, близкие к истинным), в частной беседе признается, что он хронически хочет спать. Е. В. Трухан спать хочет периодически, но сны ее не приносят ей настоящего удовлетворения, так как они, оказывается, перестают быть цветными. Раньше они были цветными, но профессия анестезиолога постепенно их обесцветила, и теперь они — как рентгеновские снимки.
Вот они, морфеи, хозяева снов! Врачу, исцелися сам!
Нет, не может исцелиться анестезиолог. Как бы он ни старался, ему не удается проспать треть жизни и при этом видеть цветные сны.
Но и те, для кого часы, прожитые во сне, по сравнению с остальной жизнью, являются поистине звездными часами, всякий раз возвращаются на землю со звезд, так и не взяв ни одной увиденной во сне вершины. Мне рассказали о человеке, которому многократно давали дышать наркотическим газом. Момент перехода от бодрствования к наркозу сопровождается видениями, и этому человеку каждый раз открывалась Главная Тайна Вселенной, но, проснувшись, он никогда не мог ее вспомнить. И вот однажды, когда Тайна снова открылась ему, он заставил себя ее записать… Очнувшись после наркоза, он схватил свой листок и прочитал: «Повсюду пахнет нефтью».
Если учесть, что запись была сделана задолго до возникновения проблемы загрязнения водных пространств и атмосферы, то станет ясно, что на роль Главной Тайны Вселенной она (по крайней мере, в то время) претендовать не могла.
Нет, это не звездные часы, хотя они порой кажутся звездными часами. Вряд ли нам удастся достичь во сне вершин, которые сохранятся в памяти благодарного человечества и при нашем пробуждении не рассыплются в прах, вряд ли удастся достойно проспать треть жизни, которую нам положено проспать.
Что же нам остается?
Только одно: достойно прободрствовать остальные две трети.
Реанимационные дети
Наблюдающий итарца со стороны сразу отметит, что он полон жизни. Естественно, врач, возвращающий жизнь, должен сам иметь ее в достаточном количестве, чтобы было чем поделиться с пациентом. И все же, несмотря на то что всякий раз, возвращая пациенту жизнь, врач добавляет к ней частицу своей собственной, жизнь итарца не убывает, не обедняется, а скорее даже наоборот. Почему?
А. П. Зильбер объясняет это следующим образом:
— В древнем Китае был закон: если ты спас кому-нибудь жизнь, то берешь на себя ответственность за его дальнейшее существование, потому что вмешался в предначертавшую судьбу. Мы постоянно вмешиваемся в предначертанную судьбу, поэтому на нас лежит огромная ответственность. По нашим перфокартам проходит около трех тысяч пациентов в год — на каждого врача более двухсот спасенных от смерти. Это наши реанимационные дети, и, как всякие дети, они доставляют нам немало забот. Но они, как всякие дети, наше богатство. Вы спрашиваете, почему не обедняется наша жизнь? Производите в год по двести детей, и вы поймете.
Отличие реанимационных детей от обычных не только в том, что они преимущественно рождаются взрослыми, вполне зрелыми людьми, но и в том, что они никогда не знают своих родителей. Лишь только к ним возвращается жизнь, их тотчас же переводят в другое отделение, и первый врач, которого они видят, приходя в сознание, — не реаниматолог. И врач, которого они благодарят за возвращенную жизнь, — не реаниматолог. Поэтому справедливо сравнение анестезиолога-реаниматолога с режиссером, который умирает в актере, чтобы жил спектакль, реаниматолог умирает в хирурге, терапевте и врачах других специальностей, чтобы жил человек, который иначе бы умер.
…Все это похоже на сказку: в Итарском Царстве, в Кароарском государстве жили-были итарцы-кароарцы, причем не только сами жили, но и другим давали жизнь. Совершенно чужим, незнакомым людям они давали жизнь и даже не слышали за это благодарности, потому что эти люди, едва ожив, сразу сбегали в другое царство — терапевтическое или хирургическое… Обычно это были хорошие люди, но иногда среди них попадались и не очень хорошие, а главный закон реанимации: «Не реанимируй негодяев!» — существовал только в виде грустной шутки, а на практике не находил применения. Может быть, его следовало применять хоть частично: оживлять человека не целиком, а только в лучших его качествах?
Нет, это было невозможно.
Итарка Ю. И. Быстрицкая по доброте душевной считала, что негодяев не так много, больше дураков. Итарец Ю. И. Казанский полагал, что реанимировать человека надо целиком, а уже потом, из живого выколачивать нежелательные качества, а итарка Е. В. Трухан утверждала, что, если оживлять только лучшее, мир станет добрым, дух слабым, а тело немощным.
И так все граждане Царства Итарского сходились на том, что, оживляя людей, не следует делать ни для кого исключения. Все дети имеют одинаковое право на жизнь. В том числе и реанимационные дети.
Читайте «Дон Кихота»
На вопрос, что читать, чтобы стать хорошим врачом, Томас Сиденгхам, медик XVII века, ответил:
— Читайте «Дон Кихота».
Почему он так ответил? Ведь «Дон Кихот» — не медицинское сочинение, и никаких сведений о медицине из него не почерпнешь. Видимо, Сиденгхам имел в виду другое.
Благоразумные люди предпочитают не воевать с мельницами даже тогда, когда перед ними не мельницы, а реальное зло, с которым воевать следует. Та злосчастная мельница, вошедшая в поговорку благодаря славному рыцарю Печального Образа, помогает им отмахиваться от любых действий, которые могут им хоть чем-нибудь повредить. И, уходя благоразумно в свои насиженные кусты, они рассудительно заявляют: «Не стоит воевать с мельницами».
Так постепенно мельницы изменили свое значение. Теперь это уже не воображаемая опасность, а, наоборот, опасность весьма серьезная, против которой рискованно воевать.
Антидонкихотство модно. Потому что оно удобно. Хотя прикрывается оно не удобностью своей, а разумностью. Антидонкихот — это рыцарь без меча, все вооружение которого состоит из огромного щита, на котором начертано: «НЕ СТОИТ ВОЕВАТЬ С МЕЛЬНИЦАМИ».
Когда врачи прививали себе смертельные болезни, когда они проводили над собой смертельные опыты, — они, по мнению благоразумных людей, воевали с мельницами. Многие из них погибли в этой борьбе, но всякий раз медицина торжествовала победу.
Вот почему нужно читать «Дон Кихота»: чтобы научиться самоотверженности, чтобы научиться не уходить от борьбы даже тогда, когда борьба эта кажется борьбой с мельницами. Читайте «Дон Кихота», чтобы уметь продолжать борьбу, даже когда продолжать ее безрассудно. Даже бесполезную борьбу. Даже безнадежную борьбу… Не в этом ли суть работы реаниматолога?
Я уезжаю из Петрозаводска… Потом я вспоминаю о нем…
ИЗ ПИСЬМА А. П. ЗИЛЬБЕРА: «…я, как всякий человек, готов переплыть море слез, чтобы получить каплю радости…»
Читайте «Дон Кихота»…
Врач — это человек, который бросает себя в пучину слез, чтобы получить каплю радости, и радость его — его жизнь, хоть частично осушившая эти слезы.
ВОЛОДЯ И ХИЖНЯК
Их оперировали в один день. Хижняк прозрел, Володя остался в прежнем состоянии. Володе было двадцать восемь, Хижняку шестьдесят, и, конечно, он испытывал некоторую неловкость.
— Воно б молодому, звичайно, а мени що… Я вже надивився…
Но позорная радость, которую он пытался из деликатности скрыть, рвалась из него и его опровергала:
— Насмотрелся! Разве можно насмотреться на этот мир? И такой он, и сякой, а — нельзя насмотреться…
Он чувствовал себя виноватым перед Володей, хотя никакой его вины в этом не было. Просто у него оказались целее глаза, у него не было производственной травмы, а была обычная катаракта, которая не представляет для врачей трудности. И все равно он не мог спокойно смотреть на Володю. Для того ли ему вернули зрение, чтобы смотреть на человека, которого оставили слепым? Тем более что человек этот еще почти ничего в жизни не видел.
Двадцати лет Володя имел уже первую группу инвалидности и работал в артели слепых. Неплохой заработок плюс пенсия — и Володя построил себе дом, женился. Потом родилась дочка, и Володя стал привыкать к своим незрячим радостям, когда вдруг почувствовал, что они в доме не одни. Прямо на его глазах, на его незрячих глазах, жена приводила в дом постороннего человека. Они думали, что он не увидит. Но он увидел. У слепых бывает очень острое зрение.
И тогда Володя лишился сразу и дочки, и жены, и своего, построенного на инвалидскую пенсию, дома. И с тех пор он стал ездить по большим городам, добиваясь, чтоб ему возвратили зрение. Сейчас ему зрение нужно было как никогда, потому что за дочкой он мог наблюдать только издали и, не видя ее, мог навсегда ее потерять.
Володя приехал в Киев из маленького районного центра, а Хижняк и вовсе из глухого села. Оба они не очень чисто говорили по-русски: один вырос в еврейском местечке, а другой всю жизнь провел в украинском селе.
Из всех существующих в природе иностранных слов Хижняк твердо усвоил одно: катаракта. И еще — глаукома, потому что это слово напоминало ему главкома — так когда-то называли Главнокомандующих.
Он называл меня Петром: мое имя ему трудно было запомнить. Да и ни к чему это — на седьмом десятке запоминать новые имена.
— Петре, напишем листа!
И мы писали письмо в его село, где у него была жена и восьмеро детей, из которых только двое были его собственными. Так уж получилось, что у Хижняка умирали жены и женился он все на вдовах, с детьми. Он мне рассказывал о своей последней жене, о том, какая она красивая.
— От побачиш, Петре… От прыйиде вона — побачиш…
Потом я увидел ее — маленькую, ничем не приметную старушку. Ничего удивительного: он не видел ее двенадцать лет.
Хижняк был неразговорчивым и все же общительным человеком. Но он был слепым, все уступали ему дорогу, образуя вокруг него пустоту. И когда он случайно на кого-нибудь натыкался, то хватал этого человека за руку и долго не отпускал от себя. Он ничего не говорил, он молчал, наслаждаясь общением. Быть может, он опасался, что его неумелые слова спугнут собеседника.
А быть может, он просто отвык говорить. Дома с ним редко кто разговаривал, у каждого были свои дела, а друг его жил в соседнем селе, за одиннадцать километров. Друг был старый, почти не ходил, а Хижняка отвести к нему было некому. И все же он исправно передавал приветы всем — и родне, и соседям, и в письмах, которые мы с ним писали, большую часть составляли собственные имена. Имена людей, которых он не видел так много лет, что от них только имена сохранились в памяти…
— Неграмотный человек — а такую развел канцелярию, — удивлялся наш сосед Серафим Дмитрия. — Письмо должно содержать информацию, а все эти приветы, поклоны — это, так сказать, пустой звук.
Серафим Дмитрич, в прошлом врач-косметолог, повелитель женской красоты, помнил немало очаровательных имен, но ему бы и в голову не пришло передавать кому-то приветы. С тех пор как он потерял зрение, Серафим Дмитрич ушел в себя и старался не замечать мир, который он был лишен возможности видеть. Только люди, страдавшие глаукомой, могли рассчитывать на его внимание, и он говорил им наставительно:
— Мы, глаукомники… — так, как когда-то говорили: «Мы, фронтовики…» — Мы, глаукомники, не можем жить лишь бы как, мы должны строго придерживаться режима.
И он бегал по утрам и вообще старался побольше двигаться, выполнял все врачебные назначения и даже назначал себе кое-что сверх нормы.
Вот какой человек был Серафим Дмитрич. Он прожил бурную жизнь врача-косметолога, а теперь проживал не менее бурную жизнь глаукомного больного.
Он был старше Хижняка на несколько лет, поэтому, получив замечание, Хижняк переходил на шепот:
— А ще прывит Приське… диду Гаврилу… и другому диду Гаврилу, що невистка в бухвети робить…
Он старался никого не забыть. Забыть — это значит обидеть человека.
За Хижняка косметологу отвечал Володя:
— Удивляюсь я на вас, дядя Фима…
— Володя, я вас уже не однажды просил: я вам не дядя Фима, а Серафим Дмитрич…
— Какая разница? Я же к вам обращаюсь не потому, что мне хочется вас как-то назвать, а потому, что вы вмешиваетесь в личную переписку. И вообще — вы так рассуждаете… Мне бы не хотелось, чтобы вы мне передавали привет и поклон тоже.
— Странно, — пожимал плечами Серафим Дмитрич. — С какой стати я стану передавать вам привет?
Володя любил наши письма. Сам-то он ни с кем не переписывался, но когда Хижняк диктовал мне письмо, он старался не пропустить ни слова. И особенно ему нравились именно эти приветы и поклоны: он представлял себе, как этим людям в никому не известном селе передают приветы из нашей больницы, как они улыбаются и благодарят, и тогда ему казалось, что это и он, Володя, передал им привет, не лично от себя, но и от себя тоже.
Степочка, семилетний Володин друг из соседней палаты, заглядывал с веранды к нам в окно и звал Володю играть в шахматы. Они играли в специальные шахматы Для слепых, сидя прямо на полу веранды, и громко выражали свои эмоции. Степочка был зрячим мальчиком, и стоило его партнеру сделать неверный ход, как он радостно вопил:
— Махерщик!
Обозванный мошенником, Володя не оставался в долгу и весело отвечал:
— Сам махерщик!
Очень им нравилось это слово: «махерщик». Может быть, ради него они и садились играть в шахматы.
— Связался черт с младенцем, — недовольно ворчал Серафим Дмитрич, и тут уже ему отвечал Хижняк:
— И що вы, Серахвиме Дмитровичу, нияк не можете влаштуватись на цьому свити, щоб вам нищо не зава-жало?
— Да нет, ради бога! — пожимал плечами косметолог. — Если вам это нравится — ради бога…
По вечерам, когда взрослые мужчины играли в больничном садике в домино, Степочка примащивался на краешке скамейки и преданно болел за Володю. Поразительно: Володя не мог ничего ни у кого подсмотреть, но он всегда знал, у кого какие камни. Володя выигрывал, и Степочка кричал: «Рыба!» — даже тогда, когда никакой рыбы и близко не было.
Играли до темноты. Володя был не прочь играть и дальше, и тогда у кого-нибудь срывалось:
— Да, тебе хорошо…
Ему было хорошо. Такой у него был счастливый характер.
Потом, уже совсем в темноте, пели песни. Женские голоса поднимались с этажа на этаж, а мужские залегали внизу фундаментом этого необыкновенного здания — песни. И среди всех голосов выделялся голос Серафима Дмитрича.
— Мае ж чоловик душу, — удивлялся Хижняк. — Тильки чомусь ховае вид людей…
Из соседнего отделения приходил молодой поэт и предлагал почитать свои стихи.
— «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух…» — начинал молодой поэт, но его прерывал ледяной голос Серафима Дмитрича:
— Это ваши стихи? По-моему, это стихи Блока.
— Хорошо, — сразу соглашался молодой поэт. — Тогда я вам прочту другое мое стихотворение. «Кто услышал раковины пенье, бросит берег и уйдет в туман…»
— Это Багрицкий.
— Тогда вот это. Послушайте: «Повидайся со мною, родимая, появись легкой тенью на миг…»
— Это же Некрасов. Что вы нам голову морочите?
И тут молодой поэт сдавался. Он молча вставал и уходил в свое нервное отделение.
— Эх, дядя Фима, дядя Фима… Некрасов, Блок — какая вам разница? Пусть бы человек читал…
— Что за ерунда, Володя! Он же выдает чужие стихи за свои…
— А вы можете выдать свои? Ну так выдайте!
— Я не пишу стихов.
Хижняк говорил примирительно:
— Ви краще щось заспивайте, Митричу. Це у вас краще виходить.
Когда Володю принесли из операционной, в палате повисла такая тишина, словно вся больница затаила дыхание. Степочка долго стоял на веранде у нашего окна, потом неслышно, как мышка, впрыгнул в комнату, постоял тихонько у постели своего друга и так же неслышно выпрыгнул из комнаты.
Первым нарушил молчание Володя:
— Вы ж понимаете: разрезали меня и стали говорить про какие-то именины. Какой покупать подарок и так далее. Я им говорю: «Оно мне надо!» Так докторша сказала, что должна отойти кровь. А профессорша говорит: «Больной прав, и прекратим разговоры».
Врачи очень старались вернуть Володе хоть какое-то зрение, чтоб он хотя бы мог отличить день от ночи. Но ночь его держала крепко. Случай был вполне безнадежный, и врачи согласились на операцию лишь из уважения к надежде больного.
— Молчите, Володя, вам нельзя сейчас разговаривать, — сказал Серафим Дмитрич. — Когда человек молчит, у него срастаются швы.
За окном стучали доминошники, в темноте звучали песни, и молодой поэт читал стихи Гудзенко и Исаковского, пользуясь тем, что никто не может уличить его в плагиате. Но не слышно было голосов Володи и Степочки, и это создавало непривычную тишину.
Володя молчал. Он лежал на спине, стараясь не двигаться, он выполнял все предписания врачей, но зрение к нему не вернулось. Прозревший Хижняк тоже замолчал, чтобы не напоминать Володе о своем счастье.
Вскоре Хижняка выписали. Он подошел к Володе и долго не мог найти слов для прощания. Потом сказал:
— Може, тоби щось треба, Володю… Я ж тепер… ты бачиш… — он запнулся на этом неуместном выражении: «ты бачиш», — и махнул рукой: —Ты тильки напиши, я все зроблю… Петро знае мою адресу…
Он уходил по аллее, старый Хижняк, уходил и все время оглядывался, а мы смотрели ему вслед, и Володя смотрел, вслушиваясь в его шаги, которые становились все тише и тише…
А через несколько дней уезжал Володя. За ним приехал его товарищ из артели слепых, такой же, как и он, незрячий человек, большой, шумный и веселый.
— Решил проехаться в столицу, заодно и тебя повидать. Может, ты уже освободился, тогда вместе поедем.
— Я уже все… отстрелялся…
— Э, нет, не говори! Ну, не получилось, можно и еще раз попробовать. На Урале есть хорошие специалисты, командируем тебя…
Они замолчали — перед вопросом, который Володя не решался задать, а гость его боялся услышать.
— А как мои?
— Точных сведений пока еще нет, но уже что-то на-щупывается… Из Харьковского общества слепых нам сообщили, что они уехали в Ростовскую область, мы написали в Ростовское общество… Нашего брата всюду хватает, будь спокоен, найдем.
— А разве нельзя через милицию, официально? — поинтересовался Серафим Дмитрич.
— Мы без милиции, — сказал гость. — Дело-то у нас неофициальное.
Володя уехал, а на следующий день пришло письмо от Хижняка. Он, видимо, хотел поделиться впечатлениями, расспросить о наших больничных делах, но и это его письмо состояло из одних приветов: «…а ще прывит Володи… А ще прывит Серафиму Дмитровичу…»:
Степочка, для которого было дорого каждое упоминание о Володе, выпросил себе это письмо. Этой осенью ему в школу идти, научится читать — прочитает…
СЫН ГАМЛЕТА
На спектакль я проходил по линии Полония.
За час до начала я был у служебного входа, где уже толпились знакомые шекспировских персонажей. Те, что проходили по линии Гамлета, держались с достоинством и особняком. Знакомые Розенкранца и Гильденстерна, этих не очень влиятельных персонажей, чувствовали себя неуверенно и пытались завести новые знакомства, пона-дежнее старых. Основная же масса со своим извечным: «Нет ли лишнего?» — шла, вероятно, по линии бедного Йорика, уже давцо не действующего лица. Завязка трагедии начиналась у служебного входа.
— Гамлет обещал быть, — услышал я ответ на чей-то вопрос.
Значит, он все же решил быть. Хотя бы на спектакле.
— Уже начало седьмого, — сказал спрашивавший голосом отца Гамлета, хотя по возрасту больше походил на сына.
— Уже должен быть, — опять прозвучал ответ.
Сын Гамлета с таким отчаяньем посмотрел вокруг, что сразу стало ясно: он не пойдет по линии своего отца, он даже не пойдет по линии Розенкранца и Гильденстер-на. И пожалевшая его приятельница одного из могильщиков сказала:
— Да вот же он! Поглядите…
На противоположной стороне улицы перед сереньким «Москвичом», который вполне мог сойти и за «Запорожца», сидел на корточках Гамлет, датский принц, и внимательно смотрел под машину. Что он там видел? Это было известно только ему. Он смотрел и смотрел, сдвинув на затылок кургузую кепочку, словно он был не Гамлет, а просто зритель, и там, под машиной, уже начинался спектакль.
Теперь стало ясно, что сын Гамлета не годится ему в сыновья — не потому, что он был бы ему плохим сыном, — а просто потому, что Гамлет молод, даже для тех тридцати лет, которые ему назначены Шекспиром. Но это не смутило молодого человека, так некстати не пригодившегося ему в сыновья. Молодой человек решительно пересек улицу, присел на корточки рядом с Гамлетом и стал смотреть туда же, куда и он. Потом, решив, что контакт таким образом установлен, молодой человек протянул принцу блокнот и ручку, на которые тот посмотрел без всякого интереса, во всяком случае без того интереса, с которым смотрел под колеса своего «Запорожца» или «Москвича». Все же он взял ручку и что-то черкнул в блокноте, чтобы иметь возможность спокойно предаться своим занятиям.
Но молодой человек не вставал с корточек, теперь он протягивал принцу деньги, при виде которых на лице Гамлета появилась та специфическая гамлетовская скорбь, причиной которой является бренность окружающего мира. Он отодвинулся от денег и взялся за колесо, словно пытаясь повернуть колесо Фортуны. Но колесо стояло прочно, и, поняв, что ход событий не изменить, Гамлет встал и направился к служебному входу. Молодой человек поспешил за ним.
Дверь за ними закрылась ненадолго: вскоре из нее вышел молодой человек, всем своим видом подтверждая хорошо известную истину, что в кассе билетов нет. Даже для принца Датского в кассе билетов нет. И от этого затрепетали знакомые Розенкранца и Гильденстерна.
Но тут в двери появились голова Полония и его палец, манивший меня.
Когда я вошел в зал, Гамлет уже поджидал зрителей. Он был точно такой, как там, возле машины, только теперь у него была гитара. Он сидел на полу в глубине сцены и смотрел на зрителей, которые занимали свои места, — один герой на сотни зрителей (таково условие каждой трагедии: сотни зрителей на одного героя). Может быть, он пытался соединить жизнь прежнюю с той, которая ему предстоит, соединить возню с «Москвичом» и раздачу автографов с мучительной проблемой — быть или не быть, с предательством матери, потерей любимой женщины и собственной смертью. Все это надо было соединить, чтобы заставить зрителя, который умеет верить только в свою трагедию, поверить в трагедию чужую.
Потом Гамлет вышел на просцениум и спел песню, не написанную, но, видимо, предчувствованную Шекспиром. Спев песню, он отошел, и тут появились другие персонажи, а также занавес, которого не было прежде. Видимо, спеша наверстать упущенное, занавес задвигался по сцене во всех направлениях, оттесняя и сметая действующих — лиц, словно подчеркивая, что в трагедии нет главных действующих лиц, что здесь главное действующее лицо — обстоятельства.
События развивались. На сцену выходили король и королева, и занавес услужливо изгибался в престол (потому что таковы были обстоятельства), и прятал за собой шпионов и соглядатаев (потому что таковы были обстоятельства), и распахивал дверь перед теми, перед кем, по сложившимся обстоятельствам, нужно было ее распахнуть.
Но Гамлет держался молодцом и вовсе не выглядел — жертвой, как его привыкли изображать. Это был другой Гамлет. Он был похож на того, в кепочке, который смотрел под колесо машины, — здесь он смотрел под колесо Фортуны, ничуть не робея перед этим колесом. Да, ему сильно помогала жизнь, оставленная за стенами театра, она убеждала его, что его личная трагедия не является трагедией всего королевства. Это важно было понять, и Гамлет это понял. Король — нет, и это предвещало его поражение.
В антракте я увидел молодого человека, несостоявшегося сына Гамлета. Он улыбался. Не знаю, почему именно так на него действовала трагедия, но он улыбался. Может, просто потому, что ему все же удалось проникнуть в театр.
И опять был Гамлет, теперь уже хорошо знакомый мне человек, и я никак не мог поделить его с Шекспиром. Словно, как это бывает в научной фантастике, время искривилось петлей — и шестнадцатый век совместился с двадцатым веком. Наверно, так оно и бывает: в каждом веке совмещаются все века — и человек одновременно живет в настоящем, прошлом и будущем.
Королева Гертруда, ухитрившаяся явно не по годам стать матерью главного героя, прекрасно справилась с этой ролью. Она была не столько королева и мать, сколько женщина — в лучшем и худшем значении этого слова. В ней чувства навсегда одержали победу над разумом, но при этом она, сказать точнее, не чувствовала, а цеплялась за свои прежние чувства, пытаясь их оживить. Было жаль королеву Гертруду, ей столько пришлось выслушать от ее сына Гамлета, и, когда, обвиняя ее, Гамлет случайно заколол моего друга Полония, мне, признаюсь, было больше жаль ее.
А занавес между тем бушевал с неуемностью разбушевавшихся обстоятельств, которые в древности называли Роком. Рок звучит короче, но мало что объясняет. Обстоятельства объясняют многое. Они объясняют, почему король Клавдий убил своего брата и женился на его вдове и почему Гамлет отверг любовь прекрасной Офелии. Они объясняют, почему предали Гамлета его друзья и почему Лаэрт погиб от рапиры, которую сам смазал ядом. Обстоятельства объясняют всё, они не знают ни морали, ни справедливости, они мертвы, как этот занавес, который бушует на сцене, изображая видимость жизни. Обстоятельства — это всего лишь видимость жизни, поэтому так опасно попадать под власть обстоятельств. Трагедия в том и состоит, что человек попадает под власть обстоятельств, которые здесь называются роком. И к концу становится мертв, как мертвы подчинившие его обстоятельства.
Трагедия была окончена. Погибли все главные и многие второстепенные действующие лица. При этом большинство из них пали жертвой обстоятельств. Полония закололи, приняв его за короля. Королева выпила яд, предназначенный Гамлету. Лаэрт был заколот рапирой, предназначенной для Гамлета. Розенкранц и Гильденстерн были казнены по ошибке вместо Гамлета. Офелия утонула, наклонившись к воде за цветком.
И только два человека не были жертвой обстоятельств, они погибли в результате борьбы, представляя два полюса этой борьбы, — король и Гамлет.
У выхода я опять встретил того молодого человека. Он улыбался. Наверно, ему приятно было сознавать, что человек все же может подчинить себе обстоятельства, и особенно было приятно, что это сделал его знакомый, такой же, как и он, человек, с которым они еще совсем недавно сидели рядом на корточках и смотрели под колеса машины.
СМЕШНОЕ — НЕ СМЕШНО, СМЕШНО — НЕ СМЕШНОЕ
Все знают пословицу о цветочках и ягодках. В ней цветочки — это еще ничего, а вот ягодки… Неважно зарекомендовали себя ягодки в этой пословице, так же как и в поговорке «одного поля ягода». О хороших людях не скажут, что они одного поля ягода, о них скажут, что они два сапога пара, хотя это тоже не лучший вариант.
Или вот: «Дети — цветы жизни», — говорим мы, подразумевая, что когда эти цветы станут ягодами, от былой их прелести не останется и следа. «Во цвете лет», — говорим мы, подразумевая, что, когда годы начнут плодоносить, это будут уже не те годы…
Может, это все из-за волчьей ягоды, зарекомендовавшей себя как отрава? Но ведь ягоды бывают разные. Есть горькие, есть и сладкие, а в Африке, например, обнаружены ягоды, после которых все кислое кажется сладким. Было кислым, невкусным, а пожевал эту ягоду — и сразу кислое стало сладким.
Юмор сродни этим ягодам. Не будь его, насколько кислее была б наша жизнь!
Действительность всегда серьезна, и это мы вносим в нее крупицы юмора. И чем действительность суровей, тем больше она требует юмора — чтобы выглядеть не так сурово, чтобы нравиться тем, кого она окружает.
Самая неприглядная действительность может понравиться тем, кого она окружает. Как стало известно из печати, некий англичанин, в течение многих лет окруженный тюремными стенами, до того к ним привык, что, отсидев положенный срок, купил здание тюрьмы и провел в нем остаток жизни.
Англичане уважают традиции.
По природе своей юмор светлый, но он бывает и черным, и зависит это не только от окружающего света и тьмь^ поскольку светлый и черный юмор могут возникать в одних и тех же условиях. На той же беспросветной глубине океана, на которой у одних рыб глаза увеличиваются, у других они уменьшаются, пока не исчезнут вовсе.
Видимо, дело здесь не в темноте, а в позиции, в том, как себя настроишь. Настроишь увидеть — увидишь и в темноте, настроишь не увидеть — не увидишь и при ярком свете.
Глубина — очень важное качество юмора. Но она не должна быть беспросветной.
Не следует думать, что светлый юмор всегда противоположен черному юмору. Можно иметь очень большие и зрячие глаза и при этом закрывать их на действительность. Светло и безмятежно смеяться, ничего не видя вокруг.
Возьмите креветок. Одни из них по ночам темнеют и становятся темными до незаметности, другие светлеют и становятся прозрачными до незаметности… А какая разница между этим темным и светлым? И то и другое — лишь средство приспособиться к темноте.
А манящий краб темнеет, но не в темноте. Он темнеет во время отлива — как раз тогда, когда способен активно действовать. А когда вода приливает, краб светлеет, успокаивается и удаляется в свою норку. Все в порядке, теперь он не на мели. Можно спокойно спать — до следующего отлива…
Кому нужен такой светлый юмор? Юмор нужен как раз тогда, когда мы на мели, именно тогда он открывает нам истинные глубины.
Юмор может быть и светлым, и черным — лишь бы он активно действовал, не приспосабливался к действительности и не закрывал на нее глаза. Правда, смеясь, мы щуримся, то есть частично закрываем глаза. Но ведь щуриться можно и для того, чтобы лучше увидеть…
В книге Брема «Жизнь животных» есть фраза, вполне серьезная, но вызывающая улыбку:
«ЧТИМЫЙ РЕЛИГИЕЙ ДРЕВНИХ НАРОДОВ,
СЧИТАВШИЙСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕМ БОЖЕСТВА,
лотос служит
главной пищей бегемоту».
Начинается-то как! Чтимый, да еще религией!
А кончается? Служит пищей — и кому? Бегемоту!
Лотос, можно ли так низко пасть?
Попробуем перестроить фразу:
«Служащий главной пищей бегемоту,
лотос считался
ИЗОБРАЖЕНИЕМ БОЖЕСТВА И БЫЛ
ЧТИМ РЕЛИГИЕЙ ДРЕВНИХ НАРОДОВ».
Как будто мы возвеличиваем лотос, вспоминая его блестящую родословную, но величия не получается. Пища бегемота не становится божеством. Фальшивое возвеличивание — это падение еще ниже.
Без юмора не сразу обнаружишь, что лестница, ведущая вверх, это одновременно и вниз ведущая лестница. На одном ее конце — лотосопоклонники, распростертые ниц, а на другом — бегемоты, спокойно жующие лотос.
Один мой знакомый питал платоническую любовь к шахматам: не умея играть, он с увлечением наблюдал, как играют другие, и даже сам выискивал партнеров, прося их сыграть между собой.
Во время игры он то и дело спрашивал:
— А это как называется? Тура? Смотрите, как хорошо называется! А это? Поле? А на вид просто квадратик или клеточка… А оно вон как интересно называется: поле!
Однажды он признался:
— Я пишу рассказ под названием «Шахматная партия». У меня там герой будет играть в шахматы. — Мой знакомый помолчал и добавил, выдавая свой самый сокровенный замысел: — Он у меня походит конем!
Он не почувствовал юмора этой последней фразы, его мысли находились более глубоко. Возможно, вся трудность передать мысли при помощи фраз в том и состоит, что мысли находятся глубоко, а фразы — на поверхности.
Почему у нас в мозгу извилины?
Видно, слишком много препятствий встречается на пути мысли.
Сравнительно недавно во вселенной были обнаружены так называемые «черные дыры» — звезды, не отпускающие от себя излучения. С огромной силой они притягивают к себе все, в том числе и собственное излучение. Светятся, но не отпускают свой свет…
Я знал одного юмориста, который был в компании прескучнейший человек, потому что весь свой юмор приберегал для очередной книжки. Он был юморист-профессионал и ко всему, что зарождалось в нем, относился весьма серьезно. Друзья его изощрялись в любительском остроумии, а он сидел среди них наподобие черной дыры и притягивал все свои шутки, каламбуры, тончайшие остроты, которые рождались в нем сотнями, и единственной его заботой было: удержать, не забыть, сохранить до конца вечера. Он не смеялся чужим остротам, чтобы не перебить своих, он не отдыхал, он работал.
Он был известный писатель, и юмор его был рассчитан на публикацию, на широкую известность, а за пределами этого известного мира другой, неизвестный мир, смеялся, растрачивал себя в устном творчестве, в остроумии не рассчитанном, а свободном и бескорыстном, как воздух… И миру было весело, он излучался, светился, щедро отдавая в пространство свои лучи.
Разве знает звезда, на что пригодятся ее лучи? Разве знает она, что где-то, за сотни световых (именно световых!) лет, есть Земля, до которой долетит ее свет и кого-то озарит — пусть неярким, но таким искренним светом…
Среди нас живет юмор Светлова — то, что он сказал, излучил без расчета на публикацию. Светлов обладал большой притягательной силой, но не такой, чтобы удерживать собственный свет…
В лесах Бразилии растут грибы, у которых светится нижняя сторона шляпки. Сверху посмотришь — обычный гриб и обычная, вполне приличная шляпка, а заглянешь под нее — там светится. Лукаво, озорно, как не пристало светиться под такой солидной, почтенной шляпкой.
Так светится юмор во многих серьезных произведениях. Сверху посмотришь — все серьезно и даже торжественно, но люди, которые умеют видеть сквозь шляпку, смеются, глядя на эту торжественность… У этих людей глубокий, а не поверхностный взгляд, и для него не составляет труда проникнуть сквозь шляпку. Как бы ни прикрывал этот гриб свой свет (грибы не любят обращать на себя внимание, потому что любое внимание для них кончается плохо), проницательный взгляд доберется до скрытого света.
Способность видеть сквозь шляпку называется чувством юмора. Те, у кого этой способности нет, не только не видят сквозь шляпку, но даже не видят самих грибов, и взгляд их никогда не светлеет, никогда не теплеет, а остается всегда серьезным и всегда поверхностным.
Почему так говорят: курам на смех? Разве кто-то слышал куриный смех? Или хотя бы видел куриную улыбку?
Курица почтенная птица. Она не смеется, не улыбается и вообще относится к жизни всерьез. Но ее почему-то не уважают. Почему?
Во-первых, потому, что у нее куриные мозги. Это считается плохо. Куриными мозгами пороха не выдумаешь.
Во-вторых, интересы у нее примитивные: что кому, а курице — просо. Она настолько далека от всего высокого, что возникает вопрос: птица она или не птица?
Даже в такой процветающей, благополучной пословице, как «денег куры не клюют», курица предстает не в лучшем свете. Денег много, все их клюют, а если курица не клюет, то не потому, что такая честная, а потому, что с куриными мозгами.
Однако ни куриные мозги, ни примитивные интересы не могут курицу так унизить, как вошедшее в пословицу отсутствие у нее чувства юмора. Потому и говорят «курам на смех», «куры засмеют»: труднее всего рассмешить того, у кого отсутствует чувство юмора.
Так что серьезность курицы — совсем не серьезность, а просто отсутствие у нее чувства юмора. С первого взгляда оба эти качества нелегко различить, но всегда опасно принимать одно за другое.
Драгоценный камень может себе позволить быть серым. Но фальшивые драгоценности должны сверкать.
Смех заразительнее слез, — может быть, потому, что радость разделить легче, чем горе. Один засмеялся, за ним второй, десятый, сотый и, наконец, последний. Последний смеется особенно хорошо, потому что он не несет никакой ответственности. Он просто присоединяется к большинству.
Те, которые смеются первыми, всегда рискуют: а вдруг повода нет? Они должны самостоятельно отличать смешное от несмешного. А совсем не смеяться тоже нельзя: могут подумать, что у тебя нет чувства юмора.
Вот почему смех так заразителен. Один засмеется, потому что смешно, второй — потому что смеется первый, а последний — чтоб чего-нибудь не подумали. Этот смеется особенно хорошо.
У настоящего чувства юмора чувство на первом месте, а юмор на втором. Потому что чувство юмора — это чувство не только юмора. Это чувство жизни во всей ее противоречивости, парадоксальности, иногда нелепости, это чувство мысли, идущей от человека к человеку, быть может, еще не понятой, но уже почувствованной, это чувство сограждан по жизни, по мысли, по общей судьбе.
От великого до смешного и от смешного до великого — вот два пути в сфере комического. От смешного до великого — и перед нами Дон Кихот. От великого до смешного — и перед нами щедринские градоначальники.
Вся история человечества — между великим и смешным. Между великим, которое становится смешным, и смешным, которое становится великим…
«Все мы вышли из гоголевской «Шинели»…
Мы не вышли, мы в ней. Она греет нас неистощимым теплом человеческим…
Сейчас он — великий сатирик древности, но древность тоже когда-то была молодой, а он был — смешно сказать! — юнец, даже по сравнению со своей молодой древностью. Двадцать три года! Смешно сказать!
Человек, которого он высмеял — не со зла, а просто от избытка таланта, — был в ту пору в два раза старше: сорок шесть нелегких, не слишком веселых лет — и против них двадцать три смешливых, безжалостных года.
Человека звали Сократ.
Сейчас даже самым самозабвенным болельщикам футбола известно, что Сократ — это не только капитан бразильской сборной, что такое нмя встречается и в истории философии. Молодого, а теперь уже древнего сатирика, высмеявшего того, дофутбольного, Сократа, звали Аристофаном — имя тоже достаточно известное. Настолько, что его поздний последователь Гейне назвал бога небесным Аристофаном, имея в виду, что бог сочинил на земле не трагедию, не драму, а именно комедию.
Комедия, которую сочинил подлинный Аристофан в своем цветущем двадцатитрехлетнем возрасте, называлась «Облака». Философ сам присутствовал на представлении и, по преданию, все действие простоял рядом со сценой, чтобы зрители могли убедиться в сходстве его с персонажем комедии. Он не боялся смеха, хотя в своей собственной практике предпочитал ему тонкую, едва заметную иронию.
Четверть века прошло после этого события — и вот Сократ предстал перед судом, на котором ему были предъявлены и обвинения, содержавшиеся в ранней комедии Аристофана. И за эти — в числе других — обвинения философ был осужден на смерть.
Совершенно неприемлемый финал для комедии!
Ныне тоже уже древний писатель Элиан назвал Аристофана «человеком остроумным и стремящимся слыть остроумным». Стремление слыть остроумным нередко уводило сатирика на ложный путь с пути истинного.
Аристофан и Сократ… «Аристо» — это значит «лучший». Аристофан навсегда остался лучшим сатириком древности, хотя пятно на его бессмертном мундире не смыто.
Потому что «крат» означает силу. И ее не ослабили ни смерть, ни века — силу человека, сказавшего простые слова: «Если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить, я предпочел бы переносить».
Когда речь идет о юморе, старинное изречение: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» — должно звучать так: «Я человек, и мне чуждо все нечеловеческое».
Между литературой и действительностью существуют отношения, испорченные еще со времен Гомера. Литература подчинена действительности, она обязана ее отражать, а действительность, со своей стороны, ничего не должна, она просто существует, потому что она — действительность.
Такая зависимость нередко приводит к тому, что литература начинает льстить действительности. И хотя сама действительность ей не нравится, она, литература, хочет во что бы то ни стало понравиться действительности.
Впрочем, не только литература. Многие старались понравиться действительности — не умея заставить ее понравиться им.
Мореплаватель Диаш, обогнув южное побережье Африки, назвал самую южную точку Африки мысом Бурь, что вполне соответствовало действительности. Но кому нужна такая действительность? Португальский король, ставший королем и этого мыса, не хотел, чтобы тот носил столь отпугивающее название. Португальские земли должны называться хорошо, даже если кое-что на них пока еще плохо. В конце концов, если плохо, то есть надежда, что будет хорошо. А если хорошо — на что надеяться?
Вот почему король переименовал мыс Бурь в мыс Доброй Надежды. Чем больше бурь, тем больше надежды. Особенно когда смотришь на эти бури издалека.
И вот мы смотрим издалека: в тот далекий пятнадцатый век из своего двадцатого века. Многое на земле изменилось, но бури остались и добрых надежд не убавилось… И может быть, в том, что их не убавилось, какую-то роль сыграл юмор…
На острове Сардиния растет ядовитая трава, от которой человек умирает с улыбкой. С гримасой, похожей на улыбку. Отсюда и название улыбки: сардоническая.
Такие улыбки встречаются не только на острове Сардиния и происходят не только от ядовитой травы, хотя по существу своему они ядовитые. Как будто в человеке улыбается зло.
Зло не умеет улыбаться по-доброму, оно улыбается только по-злому. И потому улыбка его похожа на гримасу: ведь улыбка и зло понятия противоположные. Зло может злиться, сердиться, но только пусть оно лучше не улыбается. Одна такая сардоническая улыбка может скомпрометировать целый остров Сардиния (24 тысячи квадратных километров) и всех сардин, которым дал название остров, а главное — все улыбки, все добрые улыбки, какие есть на земле.
Слова живут, как люди: есть у них синонимы — друзья и единомышленники, есть родственники — однокоренные слова, а есть и враги — антонимы…
Я пытаюсь подобрать антоним к слову юмор.
Серьезность? Нет, не то. Торжественность? Тоже не подходит. Быть может, спесь, напыщенность, глупость наконец?
Юмор и антиюмор…
Они ровесники. Они рождаются и живут одновременно, и между ними никогда не затухает вражда.
В один и тот же год, в один и тот же месяц (с разницей всего в шесть дней) родились два младенца — Чарли и Адольф. Будущие Чаплин и Гитлер.
Если бы юмор Чаплина разделить между ними, получилось бы два великих юмориста. Если бы злодеяния Гитлера разделить между ними, получилось бы два великих злодея. Но сделать этого нельзя: юмор и злодейство — вещи несовместные.
Они начали в один год, в первый год первой мировой войны — гениальный комический актер и заурядный ефрейтор, претендующий на незаурядность. Гений в роли маленького человека и маленький человек в роли гения. В течение многих лет они не выпускали один другого из вида.
Они воевали. Правда, разными средствами. Один использовал все виды оружия, другой лишь одно оружие — юмор. «Диктаторы смешны. Мое намерение — заставить публику смеяться над ними». Жорж Садуль, напомнив эти слова Чаплина, слегка их подправляет: «…диктаторы также и смешны». Если б они были только смешны! Не было бы на свете людей, приятней диктаторов.
Но есть слабость и у диктаторов: они боятся выглядеть смешными. Поэтому они не выносят смеющихся лиц: им все время кажется, что смеются над ними. Осмеянный диктатор принял самые серьезные меры, чтобы заставить Чаплина замолчать. Может быть, его обижало, что в фильме «Великий диктатор» его назвали не Адольфом, а Аденоидом, — видимо, с намеком, что он не дает человечеству дышать.
Антиюмор боится показаться смешным. А чего боится юмор?
Никто не знает, чего боится юмор. Он это тщательно скрывает, чтоб не выглядеть несмешным.
Некоторые полагают, что сатир — это автор сатирических произведений. Разъяснение, что это пьяное, беспутное, ленивое существо, их не убеждает. Ну что ж, говорят они, одно другому не мешает. Те, которые любят все критиковать, редко бывают образцами добродетели. Ведь недаром же говорят, что сатира — это зеркало, в котором видишь всех, кроме себя.
И все же между сатирой и сатиром нет ничего общего. Сатир — слово греческое, сатира — латинское. Сатир — лесное божество из свиты бога Диониса, то есть существо мифическое, которого нет в природе. Сатира — вещь вполне реальная, и хоть иногда кажется, что ее тоже нет в природе, но она существует, она существовала во все времена, даже в самые для нее неблагоприятные.
Возникает вопрос: какое время было для сатиры наиболее благоприятным? Может быть, те шесть лет между 1547 и 1553 годами, когда жили два великих сатирика — Сервантес и Рабле? Правда, первый был еще младенец, а второй — уже старик, но разве не чудо, что им удалось встретиться в бесконечном времени?
Увы, Сервантес начал свой знаменитый роман в тюрьме, а Рабле, окончив свой знаменитый роман, вынужден был скрываться от преследования. Это были трудные времена для сатиры.
Может быть, благоприятными для нее были те три с половиной месяца между 1694 и 1695 годами, когда жили одновременно Лафонтен, Свифт и Вольтер? Лафонтен умирал, Вольтер только родился, Свифт был в цветущем лермонтовском возрасте — 27 лет. Поэтому из трех великих сатириков в это время писал только Свифт, но писал не сатиры, а оды. Бывают времена, когда вместо сатир пишутся оды, и это для сатиры не лучшие времена.
А может быть, три года — между 1826 и 1829 — были для сатиры благоприятны? Грибоедов еще не убит, Салтыков уже родился, а кроме них — Гоголь, Гейне, Диккенс, Бальзак…
Это были годы жестокой реакции. Вряд ли они могли быть для сатиры благоприятны.
Приходится признать, что у сатиры не бывает благоприятных годов. Ей никто не кричит «ура», да и «караул» она вряд ли кого-то кричать заставит. Но она существует и борется — одинаково отчаянно как со щитом, так и на щите. А точней — без щита, потому что щит ее не с нею, он — в будущих поколениях.
Что же помогает ей в ее поколении, в ее время?
Ей помогает юмор. Сатиры не бывает без юмора. Сатира невозможна без юмора, потому что ей всегда трудно.
Хотя, в сущности, юмор — это та соломинка, которая никого не спасает. Но когда за нее хватаешься, делаешь движение, помогающее держаться на воде…
Краткость — сестра не только таланта, но и юмора.
Самый скучный роман можно сделать веселым, втиснув его в одну-единственную остроумную фразу. К примеру, повесть о воспитании. На эту тему можно написать много томов, а можно все эти тома втиснуть в одну фразу: «У шести нянек дитя лучше, чем у семи, даже если седьмая нянька — доктор педагогики».
Или, к примеру, повесть о более зрелой поре, когда детство осталось так далеко, что о нем не вспомнишь даже в воспоминаниях. «А когда царевну расколдовали, а дракона заколдовали, и горе отгоревали, и пиры отпировали, — из сказки вышел постаревший Иван-царевич, тяжело опираясь на волшебную палочку…»
Примеры, примеры… Вот некоторые из них…
О судьбе. Ему многое было на роду написано, только он, к сожалению, так и не научился читать.
Об архаизмах. Архаизмы — это слова, забывшие о том, что и они были когда-то неологизмами.
О движении. Главный закон движения; палок не должно быть больше, чем колес.
О зрелости. И теперь, выйдя на широкую дорогу, он уже не рвался в краеугольные камни, а довольствовался скромной ролью камня преткновения.
О полезном действии. Отношение рожденной мышки к родившей ее горе называется коэффициентом полезного действия.
О точке зрения. А что до лысины, то ей главное, чтоб сверху блестело.
О мыслящих машинах. Некоторые люди отличаются от мыслящих машин только тем, что уже давно ни о чем не задумываются.
О крокодилах. Не страшно, когда молодо-зелено. Вот когда старо и по-прежнему зелено, это по-настоящему страшно.
О сороконожках. Где уж тут шагать в ногу со временем, когда попробуй шагать в ногу с самим собой!
О физических законах. На погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила, но не всегда на нее можно рассчитывать.
О всемирном тяготении. Человек привязывается к людям, животным, растениям, чтобы дольше задержаться на этой земле.
О бесконечности. Если бы отрезок не считал себя бесконечной прямой, он вряд ли дотянул бы от одной до другой точки.
О дробях. Знаменатель в дроби своего рода пьедестал: чем меньше дробь, тем больший ей требуется знаменатель.
О погоде. Для бабочки, живущей один день, совсем не безразлично, какая нынче погода.
О рефлексах. Когда идет облава на волков, первыми разбегаются зайцы.
О скептицизме. Скептицизм — это опьянение трезвостью.
О трезвом взгляде на предмет. Когда перед тобой возникнет стена, вбей в нее гвоздь, повесь на него шляпу и чувствуй себя как дома: одна стена у тебя уже есть.
О целях и средствах. Цель оправдывает средства, но — увы! — не всегда их дает.
О пространстве и времени. Поразительно, как это человек ухитряется жить во времени и пространстве, не имея подчас ни пространства и ни минуты свободного времени.
О форме времени. Вероятно, время такое же круглое, как наша Земля. Иначе почему человек, направляясь в будущее, рано или поздно оказывается в прошлом?
О жизни и смерти. Живое умирает, а мертвое существует миллионы лет, потому что оно совсем не расходует времени.
О драконах. Драконы — это змеи, мечтавшие о крыльях и оставившие в легендах свои мечты.
Об археологии. Вавилоняне раскапывали культуру шумеров, при этом закапывая свою.
О публике. Все были разочарованы, что он не смог исполнить на бис свою лебединую песню…
Об индивидуальности. Ох, до чего трудно быть изюминкой! Особенно в ящике с изюмом.
О размножении делением. И любовь к себе бывает плодотворной. У одноклеточных.
О тяжести. Тяжелей всего камни — за пазухой.
О наглядном пособии. Глобус — это земной шар, возведенный на пьедестал и низведенный до удобных размеров.
О преемниках. Они мыслили точно так, как Сократ. А цикуту им заменяла цитата.
О лошадях. Когда Калигула ввел в сенат своего коня, все лошади Рима воспрянули духом.
Об открытиях. Мало быть Магелланом. Надо, чтоб где-то был еще Магелланов пролив.
О широтах. Среди параллелей экватор обладает наибольшей широтой. Поэтому ему приходится особенно жарко.
О климате. Одним не хватает южного тепла, а другим — северного сияния.
О теплоте. В определенных (очень холодных) условиях даже лед излучает тепло. Но стоит ли ради этого создавать такие условия?
О правильном питании. Лучше недоесть, чем переесть, Поэтому кошка съедает мышку, а не наоборот.
О масштабе. Масштаб — это тот аршин, которым малое измеряет великое, чтобы постигнуть его во всем объеме. ч
О годах. Это только так говорится, что годы берут свое. На самом деле они берут не свое, а чужое.
О времени в природе. Запасы времени в природе неограниченны, но как мало приходится на каждого человека!
Об истории. Много побед одержал великий Пирр, но в историю вошла только одна пиррова победа.
О высшей нервной деятельности. И подколодную змею можно довести до того, что она запустит в тебя колодой.
О геометрии любви. В любовном треугольнике по меньшей мере один угол — тупой.
О пределе мечтаний. Если б люди вели себя, как ангелы, а работали, как черти!
О мыслях. Мудрые мысли погребены в толстых книгах, а немудреные входят в пословицы и живут у всех на устах.
О галерке. Настоящего зрителя искусство всегда возвышает.
О музыке. Даже первая скрипка, если она слушает только себя, может испортить любую музыку.
О чувствах…но, увидев слезы у нее на глазах, лук от волнения забыл, что его режут…
О кулуарных разговорах. — Чик-чирик, — сказал воробей. — Чик. Чирик… Этого — чик! Этого — чирик! А чего с ними чикаться?
О замкнутой кривой. Окружность может широко распространиться по плоскости, но и при этом будет продолжать гнуться дугой. И никогда ей не распрямиться, никогда не стать прямой линией из-за постоянного тяготения к центру.
О пределах. Максимум — это то, к чему постоянно стремится минимум, а минимум — это то, чего максимуму всегда не хватает.
О двигателях внутреннего сгорания. Только тот, кто способен сгорать, способен по-настоящему что-нибудь двигать.
О маятниках. Остановился маятник, остановились стрелки, и время для маятника остановилось. Вот оно кончилось как хорошо, а он еще колебался!
О начале начал. Мироздание строилось по принципу всех остальных зданий: с самого первого кирпича оно уже требовало ремонта.
Об атомах. Положительно заряженное ядро окружено отрицательно заряженными электронами. И так в каждом атоме, во всех до одного: положительное невозможно без отрицательного.
О положительных примерах. Вот, например, ложка: она ведь тоже не всегда бывает в своей тарелке, но это ничуть не мешает ей работать с полной отдачей.
О счастье. Счастье — ненадежный друг: оно приходит, когда нам хорошо, и уходит, когда нам плохо.
О памяти. Человек уходит, и затихают в пространстве его шаги… Но иногда они еще долго звучат во времени…
Пришельцы
Все говорят о пришельцах, все ждут пришельцев, а они давным-давно живут на Земле.
Они появляются на Земле, как земные люди, обучаются нашему языку, они разговаривают с нами о наших делах, которые считают своими. Правда, непонимание остается, нам с ними трудно друг друга понять, потому что понимание не только в языке… Мы, аборигены, умеем жить на Земле, а пришельцы не умеют, они только учатся, и им нужно много учиться, чтобы стать такими, как мы. Им нужно долго обживать Землю, пока она приживутся, — неземные люди, свалившиеся на Землю с небес, бесплотные вспышки небес в плотных слоях атмосферы.
— А почему лев сидит в клетке? — спросил меня один пришелец.
— Потому что лев — хищный зверь.
— А зебра? Она разве хищный зверь? Почему же она сидит в клетке?
— Чтобы ее не съел хищный зверь.
— Кто, лев? Но он же в клетке. И тигр тоже в клетке. И другие хищные звери в клетках. Значит, зебра может не сидеть в клетке? Почему же она сидит в клетке?
— Потому что иначе она убежит.
— От кого? От тех, которые сидят в клетках?
— Вообще убежит. Из зоопарка.
— Она убежит туда, где ей будет лучше?
— Наверно, лучше.
— А надо, чтоб ей было хуже?
— Вовсе нет.
— Почему же тогда она сидит в клетке?
— Неужели не ясно? Потому что иначе она убежит.
Я выражался предельно ясно, но пришелец меня не понимал.
— А почему кошка не в клетке?
— Кошка — домашнее животное.
— А когда зебра посидит в клетке, она тоже станет домашней?
— Зебра никогда не станет домашней.
— Так зачем же тогда она сидит в клетке?
— Я же сказал: потому что иначе она убежит.
Некоторых слов пришельцы просто не понимают, хотя именно этим словам аборигены пытаются их научить.
— Красивый дом! Зайдем посмотрим, какой он внутри!
— Нельзя. В нем живут люди.
— Они страшные?
— Не страшные, но мы с ними незнакомы.
— А мы познакомимся. И заодно дом посмотрим.
— Нельзя. Как это мы войдем в чужой дом? Что мы скажем?
— Скажем, что пришли познакомиться. Они сами будут рады.
— Не думаю.
— Почему? Разве мы страшные?
— Мы не страшные, мы незнакомые.
— А мы познакомимся.
— Нельзя.
В мире пришельцев все знакомятся просто. Там, конечно, мы бы вошли в этот дом. Вошли бы, окликнули хозяина:
— Эй, что делаешь?
— Пишу диссертацию. Дать почитать?
— Сам читай. А жена что делает?
— Обед готовит.
— Тогда мы к жене. Здравствуй, хозяйка. Что, обед готовишь?
— Обед.
— Вкусный?
— Еще какой!
— Когда будет готово, позови, мы тут пока дом посмотрим. Дети есть?
— Трое.
— Ну, так мы к детям твоим пойдем. Познакомимся.
Вот так бы мы разговаривали в мире пришельцев. А здесь вместо такого интересного разговора — только одно слово: «Нельзя!»
Пришельцы плохо знают слово «нельзя», они постоянно путают его со словом «можно». Они считают, что можно ходить без пальто, когда аборигены кутаются в теплые шубы, и что можно купаться в холодной воде, и что можно, вполне разрешается схватить от этого насморк. Большинство пришельцев не расстается с насморком, — наверно, от своих космических холодов.
Однажды я увидел двух пришельцев, куривших сигареты — изобретение Земли. Пришельцы кашляли, размазывали по щекам слезы и все же снова и снова пытались втянуть в себя горький дым.
— Зачем вы себя мучите?
— Привыкаем. Что мы — хуже других?
Из трубы ближайшего дома валил дым. Из трубы соседнего дома валил дым. Из трубы завода, фабрики, из выхлопных труб проезжих автомашин — отовсюду валил дым. Все, повально все себя мучили, и, конечно, пришельцы были не хуже других.
— Закуривайте, — предложили они. — У нас целая пачка.
— Я не курю, — рискнул я подорвать свой авторитет.
— Почему?
— Здоровье не позволяет.
— Кто не позволяет?
— Здоровье.
— Нашли кого слушаться!
Пришельцы очень доверчивы, они верят в любые фантазии, — может быть, потому, что они свалились на землю с небес, где обитают только фантазии. Им ничего не стоит в обыкновенной палке увидеть саблю, винтовку, а то и боевого коня. В самой людной толпе они ведут себя, как на необитаемом острове. Пришельцы — вечные путешественники, они легко перемещаются во времени и пространстве, посещая самые отдаленные материки и века. Как им это удается — загадка для аборигенов Земли, для которых любое путешествие утомительно и хлопотно. Если абориген собирается летом на дачу, он начинает собираться уже с весны. Он бегает по магазинам, волоча за собой, как шлейф, длинный список предметов, без которых он не сможет продержаться до осени. Он пакует матрацы и одеяла, проводя последние ночи на голых досках, пружинах, а то и просто на голом полу. Он обзванивает всех родственников и знакомых, давая им последние наставления, словно собирается в последний путь, а не на загородную дачу. Если аборигену предложить съездить куда-нибудь в пятнадцатый век, он ни за что не поедет.
— Что вы! Меня там сожжет инквизиция!
А если ему предложить век тридцатый, он смутится:
— Я там никого не знаю… У меня там никого нет…
И только пришельцы смело отправляются в незнакомые времена и места, и проходят через костры инквизиции, и умирают в армии Спартака, но все же остаются живыми и возвращаются, чтобы сесть в ракету и отправиться в дальние небеса, откуда они пришли на землю.
Аборигены удивляются их энергии, аборигены знают закон сохранения энергии, поэтому они сохраняют свою энергию, а пришельцы расходуют, потому что слабо разбираются в этих законах. И под какой закон можно подвести шапку-невидимку, их излюбленный головной убор?
Если бы на аборигена надеть шапку-невидимку, абориген бы смертельно обиделся, потому что увидел бы, что к нему относятся, как к пустому месту. Возможно, к нему и раньше так относились, но столь явно этого не показывали, — такое случается среди аборигенов, в отличие от пришельцев, которые ничего не умеют скрыть. Пришелец никогда не станет раскланиваться с пустым местом и спрашивать у него:
— Как делишки? Как детишки? Что-то вас давно не видать…
— Скажите, вы не видели кошечку? Маленькую такую, серенькую?
— Вам нужна кошка? Мы вам десяток наберем.
— Да нет, мне нужна одна. Маленькая такая, серенькая…
Оставалось полчаса до отлета, и женщина боялась, что не успеет найти эту кошечку, которую она и узнать-то как следует не успела. Они встретились за много километров отсюда, где кошечке было плохо, и женщина взяла ее с собой, а теперь потеряла в чужом для кошечки городе, в многолюдном и шумном аэропорту. Как она здесь будет, среди чужих? Получается, будто ее обманули: завезли в такую даль и бросили. Боже мой, ведь ее никто не хотел бросать, ее только на минутку выпустили из рук, а она прыгнула куда-то в подвал, испугавшись шума мотора. Женщина обошла все подвалы, но и позвать-то она как следует не могла: ведь они и об имени кошечкином не успели договориться.
— Такая маленькая, серенькая…
— Мы вам десяток наберем, — отвечали ей те, для кого все кошки серы. Кошкой больше, кошкой меньше — что от этого изменится на Земле?
Для аборигенов ничто не изменится, у них свои прочно насиженные места. Плацкартные, купейные, мягкие места. Даже в троллейбусе абориген устраивается так, словно собирается провести в нем остаток жизни. И где бы он ни находился, в какой бы должности ни служил, для него главное — не потерять это место. Плацкартное, купейное, мягкое. Потому что на всех необъятных просторах земли для него важно лишь это насиженное, належенное место. Он не считает себя на этом месте пришельцем, он уверен, что он этого места абориген.
Я хотел бы навсегда остаться пришельцем…
Но время проходит, и пришельцы становятся аборигенами. Они перестают мотаться по всем пространствам и временам, усваивают закон сохранения энергии, они узнают, что означает слово «нельзя», привыкают к нему и уважают больше, чем слово «можно». Они любят вспоминать о том, как были пришельцами, но к той поре относятся снисходительно, с добродушной усмешкой:
— По ночам мы искали в траве падающие звезды. Представляете: звезды — в траве!
Но не все пришельцы становятся аборигенами, некоторые из них остаются пришельцами — навсегда. Смешные, нескладные, хотя внешне мало отличающиеся от аборигенов, они живут пришельцами на земле, как живут все земные пришельцы. И они шагают по этой земле, подставляя ветру свои поредевшие волосы, и не могут найти себе постоянного места, и всюду им достается за то, что они нарушают законы аборигенов, — у пришельцев нет своих законов, и им приходится жить по законам аборигенов, и они нарушают их, не умея понять, потому что до конца жизни остаются пришельцами…
Все говорят о пришельцах, все ждут пришельцев, а они давным-давно живут на земле. В каждом доме, в каждой семье есть хотя бы один пришелец…
Примечания
1
В неотредактированном тексте: «несчастливую». (Прим. редактора.)
(обратно)2
Неверное утверждение, оставленное лишь благодаря его формальной афористичности. (Прим. редактора.)
(обратно)3
Это он так считает. Каждый так считает. (Прим. редактора)
(обратно)4
Последние две фразы вписаны в процессе редактирования, чтобы ярче выразить мысль, которая у автора отсутствовала. (Прим. редактора.)
(обратно)5
В первоначальном, неотредактированном тексте это было сказано, конечно, длиннее. (Прим. редактора.)
(обратно)6
Далее в первоначальном тексте шло рассуждение о том, что в в самом слове «умолчание» на первом месте «ум», что якобы подчеркивает его разумность. Случайное совпадение двух букв, конечно, не дает основания для столь далеко идущих выводов. (Прим. редактора.)
(обратно)7
В тексте нет ответа.(Прим. редактора.)
(обратно)8
Этот рассказ наглядно показывает, чего можно добиться простым сокращением — не только целых фраз, но даже отдельных слов. (Прим. редактора.)
(обратно)9
Зачем так далеко уходить из семьи? Правда, бывают такие семьи… (Прим. редактора.)
(обратно)10
Сомнительное утверждение, оправданное лишь тем, что оно принадлежит внеземной цивилизации. (Прим. редактора.)
(обратно)11
А вот это справедливо и для земной цивилизации. (Прим. редактора.)
(обратно)12
Конечно, не только к верблюдам. (Прим. редактора.)
(обратно)13
Автор просит типографию не сделать ошибки в этом слове, чтоб не получилось, будто речь идет о поездке в Италию, которая с Итарией не имеет ничего общего.
(обратно)14
Так переводится на русский язык нерусское имя дедушки: Хаос — ничто, пустое место.
(обратно)15
Явная тавтология: не мыслящая личность — не личность.
(обратно)
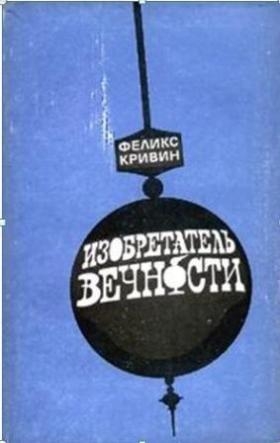

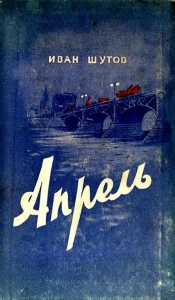
Комментарии к книге «Изобретатель вечности: Повести, рассказы, очерки», Феликс Давидович Кривин
Всего 0 комментариев