Рудознатцы
БИБЛИОТЕКА РАБОЧЕГО РОМАНА
…Старые привычки живучи, они сидят в нас, их нужно преодолевать. Новые времена — новые песни. Этим песням надо учиться!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Машину сильно тряхнуло на глубокой выбоине. Северцев открыл глаза. Проселок петлял мимо гигантских золотистых кедров, и через приспущенное стекло передней дверцы в кабину пахнуло теплым смолистым воздухом. Михаил Васильевич на мгновенье снова зажмурил глаза, с удовольствием втягивая в себя стойкий аромат тайги. Потом достал папиросную коробку и зажигалку. Предложил папиросу шоферу — рыжему плутоватому парню с поповской гривой, закурил сам.
— Далеко еще до Кварцевого, Ваня?
— Рукой подать, километров тридцать.
Северцев привалился боком к дверце машины, устало провел крупной ладонью по серым волнистым волосам, по высокому морщинистому лбу. Между желтовато-коричневыми стволами корабельных кедров дрожали столбы солнечной пыли. В них кружились мошки.
…Вот уже восемь лет колесит он по дорогам своего совнархоза. Ему подвластны лес и уголь, бумага и текстиль, обувь и электроэнергия, золото и железо… всего не перечислить! Чтобы управиться со своими обязанностями, нужно быть всезнайкой. Притом знать надо каждую отрасль этого большого хозяйства досконально, по-инженерному. Да возможно ли это, в конце концов?.. А ведь именно он, Михаил Васильевич Северцев, искренне приветствовал создание совнархозов! В начале их организации они пользовались правами министерств, могли, например, утверждать проекты и сметы на крупные новостройки или изменять титульные списки объектов, теперь это может делать лишь Москва. Основные вопросы снабжения предприятия оборудованием и материалами решаются также только в Москве и решаются крайне туго. Защитив заявки на оборудование, ты не уверен, что они будут удовлетворены поставщиком, потому что кое-где местнические интересы берут верх над государственными. Что греха таить, и мы местничаем — второй месяц наш угольный комбинат не отгружает на металлургический завод соседнего совнархоза коксующийся уголь под предлогом необходимости создания его запасов для своих предприятий.
Выходит, самоуправство совнархозов и порождает ограничение их прав.
Теперь трудно понять: как же это тогда он, далеко не новичок, опытный хозяйственник, поверил в необходимость такой перестройки руководства народным хозяйством, которая была основана лишь на волевом решении? Оказался нарушенным отраслевой принцип руководства, отказ от специализации постепенно привел к техническому застою. Совнархозы бесправны, они зашли в тупик. Время от времени выносятся подбадривающие решения: недавно разрешили совнархозам передавать друг другу мелкое оборудование. Но эти частичные улучшения ничего по существу-то не меняют…
Крупные капли дождя прервали безрадостные размышления Михаила Васильевича. Он покрутил ручку и поднял оконное стекло.
— Грибной, — с удовольствием заметил шофер, подставляя ладонь теплому дождю.
Тайга внезапно отступила, осталась позади. Рядом замелькали коттеджи вперемежку с трехэтажными зданиями, фасады которых были расцвечены торговыми вывесками.
Кварцевый строился одновременно с золотым рудником и теперь растянулся километра на два по берегу мелкой, с каменистыми перекатами речки Гольцовки. Строители сохранили таежных красавцев — медноствольные кедры, голубоватые пихты и пятнистые березы шагали вдоль поселковых улиц.
Шурша колесами по накатанной гальке, «Волга» остановилась у двухэтажного каменного здания. Северцев невольно улыбнулся: считай, что дома! Золотой рудник — это тебе не обувная фабрика…
Совсем иное чувство охватывало его, когда он приезжал на предприятия других подчиненных ему, как зампреду совнархоза, отраслей хозяйства. Там он вынужден был держать себя все время настороже, чтобы — упаси бог! — не обнаружить перед специалистами слишком уж явно свою неосведомленность в делах далеких от его прямой специальности.
— Минуту обождите, — сказал шофер, — узнаю, где директор. Его редко застанешь в кабинете.
Северцев осмотрелся. Пестрая цветочная клумба, скамейки в тени тополей, фонтан, дорожки, усыпанные серой галькой, — все сработано по-хозяйски, добротно, надолго…
Иван, выйдя из конторы, пожал плечами. Это значило, что возникают какие-то затруднения в поисках Степанова. Да ведь Михаил Васильевич и не предупредил его о дне своего приезда, так как не знал, когда закончит дела на угольной шахте. А дела эти были нелегкими. Начальник шахты отказался выполнить указание о немедленной отгрузке эшелона коксующегося угля металлургам соседнего совнархоза. Северцев познакомил его с тревожными телеграммами металлургов, требовавших во избежание срыва плана немедленно отгрузить кокс, но эти телеграммы не тронули начальника шахты. Он оправдывался тем, что металлурги в прошлом году не выручили его металлом для копра вспомогательной шахты и поэтому он не обязан выручать их в ущерб своим предприятиям. Только после настойчивого вмешательства Северцева эшелон кокса ушел к металлургам.
— Директор на карьере. Вас отвезти в заезжий дом? — спросил Иван.
— Отвезите, пожалуйста, на карьер.
Объехали яркую клумбу, фонтан, серебром искрящийся на солнце, и по широкому асфальту помчались снова в глубь тайги.
Навстречу двигались, надсадно рыча, КрАЗы, доверху груженные желтой рудой.
Северцев завидовал Степанову: вот человек, который ежедневно видит результаты большого труда, может гордиться содеянным… А что похожее на это мог бы вспомнить он, Северцев, за последние годы? Бесконечные докладные по разным вопросам, совещания, прожекты? Правда, его коллеги говорят, что он «внес вклад в науку», но ему-то известно, что не сломай он ногу в автомобильной катастрофе, не проваляйся в гипсе два месяца, никогда у него не нашлось бы времени, чтобы завершить научное исследование, начатое еще на Сосновском горном комбинате. В общем, как говорится, не было бы счастья…
И семейной жизни теперь нет. Одинок как перст. Виктор вырос без него…
Невеселы были мысли Северцева о сыне. Два года тому назад Виктор окончил Горный институт и сразу остался в аспирантуре. По этому поводу и произошла у отца с сыном первая серьезная размолвка. Виктор написал Михаилу Васильевичу в Зареченск радостное письмо. Он считал, что ему крупно повезло: остаться в Москве да еще сразу на научной работе!.. Отец вылил ему на голову ушат холодной воды. Горным инженером человек становится на горных работах, писал Михаил Васильевич, а за институтским или канцелярским столом, без производственного опыта и знаний, вырастает лишь чиновник от науки. Отец настоятельно советовал сыну поехать на несколько лет на рудник, закрепить институтские знания на производстве, а уж потом думать о науке! Виктор обиделся и сухо ответил, что работой своей доволен, она открывает перед молодым инженером широкие горизонты, куда более широкие, чем любой рудник. Кроме того, он часто бывает в командировках на многих предприятиях и обобщает опыт их работы.
Он писал и о другом. Кому-кому, а отцу-то следует знать, что у Виктора есть обязанности перед матерью. Она стала прихварывать, часто жалуется на сердце. Оставлять ее одну было бы жестоко. Впрочем, вряд ли отец почувствует это… Пусть уж извинит за откровенность, но лучше сразу правильно понять друг друга, чем находиться в счастливом неведении.
Михаил Васильевич не смог ответить на это письмо. Он считал себя виноватым перед сыном: уйдя из дома, он не мог влиять на Виктора. Так какое право имеет он теперь осуждать его?
Анна тоже написала Михаилу Васильевичу, что ей стоило больших трудов оставить Виктора в Москве, рядом с собой. Его отцовские советы запоздали, нужно было о судьбе Виктора подумать раньше, но у отца, к сожалению, не нашлось времени для своего сына.
Что он теперь предлагает Виктору — повторение своего романтического бродяжничества? Современная молодежь стала умнее и пытается устраивать хорошую жизнь смолоду, а не под дряхлую старость, когда сама жизнь становится обузой. Материально сыну сейчас нелегко, но и на рудниках в первые годы бывает не сладко, пока не заработаешь процентных надбавок к зарплате за выслугу лет, да и эти надбавки съедаются перекупочными ценами на дефицитные товары! Михаилу самому хорошо известно, что московский рубль стоит полтора сибирских. В конце письма Анна просила его не бередить душу сыну и оставить их в покое.
…За крутым поворотом показался карьер — огромная серо-голубая впадина с желтыми каемками дорог по бортам. Это гигантское блюдце лежало у подножия заросшей лесом синей горы, сливавшейся на горизонте с таким же синим небом.
Синие горы… Вот в таких же синих-синих горах на Кавказе началось трудное счастье Северцева, оказавшееся столь коротким… С Валерией они расстались восемь лет назад, в тот памятный день, когда Михаил Васильевич получил развод и когда вернулся из ссылки Павел Александрович, ее муж. Она скрылась на даче у Шаховых, и Северцев больше уже не видел ее. Она написала прощальное письмо, которое передал Шахов на другой день после ее бегства. За долгие годы много раз пытался Северцев найти Валерию.
Уехав тогда с Шаховым сюда, в совнархоз, сразу начал поиски. Вспомнив разговор с Павлом Александровичем об алмазах в новом районе, Северцев первым делом запросил Северный совнархоз — где работает чета Малининых? Ответ пришел неутешительный: в геологических партиях совнархоза таких не значилось. При первой же командировке в Москву Северцев побывал в Геологическом комитете. В отделе кадров что-то помнили о каком-то ссыльном инженере, давно носившемся с идеей разведки северных алмазных районов, но, поскольку должность начальника партии не комитетская номенклатура, сказать ничего определенного не могли. Посоветовали обратиться в территориальное геологическое управление.
И вот недавно Северцев все-таки нашел след Малининых: они разведывали «белое пятно» — отдаленный район, почти у самого Ледовитого океана. В геологическом управлении весьма лестно отзывались об их работе, удивлялись их упорной вере в то, что новые месторождения будут открыты в этом краю белого безмолвия. Северцев узнал также, что связаться с ними можно пока только по радио: самолеты туда сейчас не летают, нет посадочных площадок, нужно ждать зимы. Реки обмелели, им тоже нужны морозы, вот тогда можно будет проехать автозимником, вместе с грузами, которые туда завозят на год вперед.
По радио Северцев связался с геологической партией быстро. Он попросил пригласить к микрофону геолога Малинину. Знакомый хрипловатый мужской голос ответил, что геолог Малинина «находится в маршруте». Что ей передать?
— А с кем я говорю? Кто у аппарата? — крикнул в микрофон Михаил Васильевич.
— Начальник партии Малинин. С кем имею честь? — тихо донеслось издалека.
— Я вас не слышу, — поспешно ответил Северцев и выключил микрофон.
Ему стало стыдно за свою трусливую выходку, но он оправдывал себя тем, что не хотел своим именем тревожить Малинина.
Узнав адрес Валерии, Северцев тут же написал ей письмо. Ответа не последовало. Он написал вновь. Она не откликнулась. Потом он летал к ней…
…— Приехали! — вернул его к действительности возглас шофера.
2
«Волга» остановилась у отвесного борта карьера.
Северцев вышел из машины и, спасаясь от июльского солнца, надел соломенную шляпу.
В карьере четко различались уступы, образовавшие нечто вроде лестницы. Желтели серпантины дорожных лент, по которым катились самосвалы. Торчали вышки буровых станков, стрелы экскаваторов, стояли под погрузкой машины, тарахтели тракторные бульдозеры, зачищавшие забой. Белые кварцевые жилы наискось рассекали обнаженные борта карьера. «Выпирают белые кости земли», — подумал Северцев.
Он увидел идущего навстречу крупного седого мужчину в серых брюках, брезентовых, того же цвета, сапогах и белой толстовке. У него все было большим: толстовка, сапоги, руки, черты лица, улыбка…
— Начальству низкий поклон. Я вчера ждал, — крепко пожимая Северцеву руку, проговорил он хрипловатым голосом.
— Угольщики задержали. Им нужно вспомогательную шахту проходить, а в совнархозе нет оборудования! — объяснил Северцев.
Степанов взял его под руку, подвел к самому краю разреза.
— Не шахты проходить надо, а карьеры открывать. Смотри: десятки миллионов тонн руды ежегодно черпаем из этого блюдечка. Наш Кварцевый уже сейчас один из самых крупных золотых рудников. А нужно еще больше расширяться!.. Ты, Михаил Васильевич, давай нам импортное оборудование, только хорошее, только новейшее, ведь мы валюту стране добываем!.. — попросил Степанов.
— Совнархоз беден, как церковная крыса, а ты еще импортного захотел. Опять Москва снизила нам лимит капиталовложений, которые утверждает совнархоз. У нас осталось одно право — просить да жаловаться. Для твоего рудника, конечно, попрошу по импорту, готова заявку… На какой глубине работает? — спросил Северцев, оглядывая широко раскинувшийся глубокий карьер.
— На двухсотом метре. По проекту сможем отрабатывать вдвое глубже. Еще недавно о таких глубинах на открытых работах мы лишь мечтали, сидя в темной и душной шахте… А теперь и горнякам светит солнце!
В голосе директора звучала гордость, и Северцев знал, что это по праву: Степанов самолично отстаивал и отстоял во всех утверждающих инстанциях открытый способ работ на Кварцевом — вместо шахтного, предусмотренного первым проектом.
Северцев достал из портфеля фотоаппарат «Зенит», сделал несколько снимков. Он с удовольствием предвкушал, как удивит в Москве кое-кого из Госкомитета: там еще немало принципиальных противников открытых работ.
— Виталий Петрович, — спросил он директора рудника, — что тебе нужно для реконструкции горных работ?
А уже задав вопрос, сразу пожалел об этом, опасаясь, что толковый Степанов воспримет даже этот вопрос как согласие совнархоза на реконструкцию. Со всеми вытекающими отсюда обязательствами… Но вот брать-то на себя эти обязательства Северцев был не в состоянии!
— Оборудование большей мощности. Ты же знаешь, что из тысячи мышей не сложить одного слона… А уж мы тогда численность рабочих сократим, производительность труда повысим. Согласен?.. Есть еще одна проблема, которую нам с вами придется по-серьезному решать, — закуривая, говорил Степанов.
Северцев терпеливо ждал, пока он чиркал спичкой о коробок. Наконец Степанову удалось закурить, и он продолжал:
— Был у нас на днях проездом один московский генерал. С Лубянки. Каким его ветром сюда занесло, сам не знаю. Генерал этот, видать, мужик толковый. Он-то и подсказал проблему… Ты смотри — уже сейчас дно карьера покрыто дымкой от выхлопных газов автомашин, — Степанов показал широким жестом руки в центр карьера. Там и вправду словно бы легло сизое облачко. — А после взрывных работ, как ты сам понимаешь, газов скапливается в карьере еще больше. А дальше вниз — еще удушливее. Правда, людей на смене у нас мало, они лишь управляют машинами, но они и решают программу… Словом, генерал соображает! — Степанов подмигнул Михаилу Васильевичу.
— Интересно, что же он предлагал?
Северцев понимал остроту этой проблемы для горняков.
— Проветривать забой с помощью мощных авиационных двигателей, ставить на машины газоочистители, применять троллейвозы — какой-то гибрид грузового троллейбуса с автосамосвалом…
Они продолжали шагать вдоль борта карьера.
Слушая, Северцев думал: генерал, к сожалению, не учитывает того, что его предложения потребуют долгих экспериментов и больших конструкторских разработок. Подобные предложения, к сожалению, лежат за пределами чисто горняцкой науки. Это проблемы конструкторов и машиностроителей…
— А фамилии генерала не помнишь? — спросил Северцев.
— Помню, Яблоков.
— Петр Иванович?
— Кажись, он самый.
Северцев остановился и, улыбаясь, сказал:
— Так я его хорошо знаю. Он горный инженер, работал директором Сосновского комбината, я принимал дела у него. Помню, любую свободную минуту он в шахте, потому что сердце у него наше, горняцкое. Яблокова тогда взяли на партийную работу, он был секретарем обкома партии, председателем соседнего совнархоза. Видал, какие коленца выкидывает жизнь!
Степанов с уважением вспоминал московского гостя. Разговаривали они, как ни странно, на горняцком языке и понимали друг друга с полуслова. Интересовался генерал причинами простоя импортного оборудования, его новизной, надежностью, квалификацией обслуживающих рабочих. Потом перевел разговор на приписки в объемах работ, на то, что числилось в отчетах, но не выполнялось в натуре…
Степанов и до сих пор не мог разгадать истинной причины появления на Кварцевом необычного гостя.
— Генерал о приписках у меня выпытывал, — озабоченно рассказывал директор Северцеву. — Конечно, с золотыми концентратами у нас ажур, а вот с заготовкой леса иногда туфту в отчетах показываем: для выполнения валовки.
Северцева такое признание заставило даже внезапно остановиться.
— Разве ты, Виталий Петрович, не читал Указа Президиума Верховного Совета об уголовной ответственности за приписки?
— А ты читаешь планы, которые подписываешь предприятиям? — усмехаясь, спросил Степанов, останавливаясь рядом с Северцевым.
Михаил Васильевич промолчал: он видел, как лицо Виталия Петровича багровело, и знал, что в таком состоянии Степанов теряет над собой контроль и может наговорить лишнего.
Молча подошли они к крупной, на гусеничном ходу, выкрашенной в желтую краску буровой установке. На стенке ее было написано: «Майнинг корпорэйшн». Установка бездействовала. Под стрелой качалась, как труп повешенного, колонковая труба. Степанов толкнул трубу рукой, давая хоть какой-то выход кипевшему в нем возмущению: «Хорош гусь!.. Сам планирует туфту, а потом изображает этакую невинность…»
Северцев примирительным тоном признался:
— Бывает, подмахнешь не читая какую-нибудь канцелярскую муру, а потом самому стыдно становится… — И не удержался: — Но и ты не на высоте!.. Надуешься, как мышь на крупу, смотреть смешно… Ну ладно, — добавил он, — не поминай лихом! Отдам тебе единственный пока в совнархозе новый экскаватор — гигант ЭКГ-8.
— С восьмикубовым ковшом? — с удивлением переспросил Степанов, и когда Северцев утвердительно кивнул головой, лицо директора осветила добрая улыбка.
У кабины буровой установки стоял, скрестив на груди руки, светловолосый, кудрявый, как барашек, широкоплечий молодой мужчина. Он в раздумье разглядывал громоздкую машину.
— Все колдуешь, волшебник? — дружелюбно обратился к нему директор.
Когда тот обернулся, Северцев воскликнул!
— Фрол!.. Здравствуй! И ты здесь?..
— Знакомы со Столбовым? — удивился Степанов.
— Как же, на Сосновке вместе пуд соли съели! — улыбаясь, ответил за Северцева Фрол.
Северцев обнял его. Они расцеловались.
— Помнишь, Фрол, у Чертова камня, когда мы дорогу на Сосновку строили, — после первых возгласов и расспросов заговорил Михаил Васильевич, — один рыжий старик девицу-красу от тебя вицей отваживал?.. Как он поживает?
— Живет по-прежнему на пасеке, внука пестует, — усмехаясь, ответил Фрол и лукаво подмигнул: дескать, все образовалось…
— Дело прошлое, можно рассказать директору? — спросил Северцев.
Фрол, продолжая улыбаться, кивнул.
— В этой романтической истории и я тоже принимал косвенное участие, — признался Северцев. — Экзекуция, которой подверглась от суровой отцовской руки Елена Прекрасная, рассеяла мои колебания: я дал коня, отпустил Фрола с перевала, и в ту же ночь он похитил эту самую Елену Прекрасную из отчего дома.
— История, достойная описания в старинном романе, — заметил Степанов и одобрительно похлопал Фрола по плечу.
— Как Лена, дети? Сам-то что делал эти годы? — спросил его Северцев.
— Лена учительский институт окончила, малышей учит в здешней школе. Сын — настоящий башибузук… весь в деда! Ну, а дочка степенная, в мать. Я вскорости вслед за вами из Сосновки уехал. В горный техникум — учиться. По окончании сюда распределили. Вот и все мои дела…
— Конфликтуем мы с товарищем Столбовым! — не скрывая недовольства, заметил Степанов. И пояснил: — И вот что получается; работает буровиком, хорошо работает, но дальше расти не хочет. Предлагал я ему назначить и мастером, и начальником участка… Нет! Уперся, как бык…
— Работа у меня интересная. Я свое рабочее дело люблю и бросать его не собираюсь, — возразил Столбов. — Станки новые получили, вместо пяти — семи метров скважины за смену пятнадцать — двадцать проходить стали! За троих работаем теперь… А чем занимается, к примеру, горный мастер Пихтачев? Достает материалы да клянчит транспорт, чтобы можно было эти материалы привезти…
— Тебе государство среднее образование дало, с тебя и спрос другой! — пустил в ход свой козырь Степанов.
Но у Столбова были заготовлены веские аргументы:
— Я один такой? Рабочих-то со старой наукой — поднять да бухнуть — днем с огнем не скоро сыщешь! Среднее образование, оно теперь каждого коснулось. — И, меняя тему разговора, кивнул на буровую установку, спросил: — Так как, товарищ директор? Может, все-таки оживим мертвеца?
Степанов замотал головой:
— Не трогай! Гарантийный срок еще не прошел, будем вызывать представителей фирмы. — И, покрутив пальцем у виска, повернулся к Северцеву: — Торговцы наши… возьмут да потратят иной раз валюту на морально устаревшие механизмы… фирмачи-то рады сбагрить нам всякую заваль…
Втроем подошли они к бурому отвалу пустой породы, где тарахтел тракторный мотор.
Степанов заметил под гусеницами бульдозера, разравнивавшего пустую породу, бухту нового троса. Витки троса размотались, вмялись в глину, концы размочалились.
— Как тебе не стыдно, Цыганов! — крикнул Степанов чернявому бульдозеристу с землистым лицом. — Этот трос на валюту куплен, понимаешь? — И, схватив рукой конец троса, попытался вытянуть его из-под гусеницы.
Бульдозерист равнодушно обернулся.
— Это не в моей смене наехали на бухту, — спокойно заметил он.
Фрол тоже попробовал высвободить трос.
— Эх, Костя… рабочий человек, а так варварски относишься к своему, народному добру…
— Добро казенное. Мне с него корысти нет. Экономлю или трачу — харч мне один и тот же, — соскочив на землю и нехотя помогая тянуть трос, гундосил бульдозерист.
Кое-как трос все же удалось вызволить.
— Зайдешь ко мне после работы, — сказал Косте Столбов и, попрощавшись с начальством, спустился в карьер.
— Надысь парторгом его избрали, так замучил проповедями. Все ангела из меня хочет сделать, а я и чертом хорош… — буркнул Костя, когда Столбов исчез за бортом карьера.
Степанов, ругаясь, обматывал носовым платком палец, который уколол о проволоку троса.
— Цыганов! А почему не работает второй бульдозер? — спросил он.
Костя пожал плечами, процедил сквозь зубы:
— Из ремонта не вышел. Слесарь Варфоломей… того самого… загубил.
— Алкаш проклятый! — вскипел Степанов. — Завтра же выгоню с работы!
Костя насмешливо покосился на него и, взбираясь на сиденье бульдозера, бросил:
— А кому будет хуже? Он в леспромхоз подастся, а тут бульдозеры и тракторы стоять будут… Я, между прочим, тоже туда могу податься… На нашего брата везде спрос! — Вздымая облако желтой пыли, он погнал свою машину на заправку.
Северцев с досадой подумал: «А ведь совсем неплохо было бы таких квалифицированных летунов сделать хоть на некоторое время безработными!..»
Степанов смотал с пальца платок, пососал ранку, сплюнул.
— Вот таким образом, на такой манер каждый день… То лекции читаю, то припугну… А вот насчет того, чтобы поощрить хорошего работника, скажем, за экономию… этого, брат, не моги! Списать могу испорченных материалов на десятки тысяч… а в поощрение премировать бережливого человека десяткой не имею права: сметой не предусмотрено! Сметой! Не предусмотрено!.. Ну и все тут. Разговорам конец. Не рыпайся, товарищ директор…
К ним подошла высокая блондинка в синем спортивном костюме, с брезентовым рюкзаком за плечами. Поклонилась незнакомцу и обратилась к Степанову:
— Папа, ты в контору? Подвези, пожалуйста! Рудные пробы мне плечи оттянули…
— Моя дочь Светлана, студентка-геолог, проходит здесь производственную практику, — представил ее Виталий Петрович. — А это мое начальство — Михаил Васильевич Северцев.
— Северцев? — переспросила Светлана и внимательно посмотрела на Михаила Васильевича.
Он увидел большие голубые глаза, с насмешливой искринкой скользнувшие по его модного покроя пиджаку, модным туфлям.
Девушка отошла к бухте троса, спустила по рукам брезентовые ремни заплечного мешка, с облегчением уселась на рюкзак и занялась своим делом: достав из кармана брюк маленькую лупу, принялась сосредоточенно рассматривать кусок молочного кварца.
Степанов, уже пришедший в себя после очередной вспышки, и Северцев углубились тем временем в проблему загазовки карьера, выдвигая и отбрасывая различные варианты решения…
На дороге показалось облачко пыли, словно догонявшее скачущего всадника. Северцев невольно проводил верхового взглядом, пока тот не скрылся за каскадным зданием обогатительной фабрики, что примостилось на Кварцевой горе, неподалеку от разреза. Вскоре послышался приближающийся конский топот, и верховой показался уже у здания электроподстанции. Приближаясь к карьеру, он перевел коня с галопа на крупную рысь, потом круто осадил коня на задние ноги. Серый конь дал «свечку», блеснул наборной сбруей и, тяжело фыркая, замер на месте. Всадник, придерживая рукой висевшую за плечами на узком ремне берданку, соскочил с седла, взял коня под уздцы, подвел к ближайшей березе. Конь протестующе заржал, рванулся в сторону. Тогда он, сняв с плеча берданку и аккуратно прислонив ее к стволу березы, достал из кожаной переметной сумы волосяные путы, ловко обвязал ими передние ноги коня. Расседлав его, заботливо отогнал рукой паутов с его мокрой шеи. Потом сорвал несколько листков подорожника, осторожно протер ими черные подпалины на боках у коня.
— Кто этот сибирский джигит? — заинтересовался Северцев.
— Павел Алексеевич Пихтачев, старейший приисковый рабочий. Был старателем-золотоискателем. Все таежные профессии ему знакомы. Личность приметная, считай, что он последний из могикан-золотничников.
Управившись с конем, Пихтачев, прихрамывая, направился к Степанову. По внешности Павел Алексеевич был все таким же старательским Чапаем, как в давние времена, только поседел добела да малость ссутулился.
«А ты не смотри, что у меня грудь впалая, зато спина колесом!» — шутил сам над собой Павел Алексеевич. По-прежнему он был человеком без возраста, по-прежнему не следил за своей внешностью, утверждая, что «золото чистеньких не любит». Выглядел он явно непрезентабельно — небритый, нечесаный, в измятом куцем пиджачке, в заскорузлых, сделанных из сыромятины броднях… Странные сложились отношения у него со Степановым: на Южном они недолюбливали друг друга, по-разному смотрели на артельные дела, а когда Степанов уехал строить Кварцевый, Пихтачев не раздумывая поехал за ним. Был на хозяйственных работах, потом Степанов назначил его бригадиром лесозаготовительного участка. Пихтачев буквально завалил стройку лесом, его неоднократно премировали, ставили в пример. Но сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Так и Павел Алексеевич думал лишь о золотишке. Однажды на песчаной косе реки, по которой сплавляли на Кварцевый заготовленный лес, он промыл — интереса ради! — несколько лотков песка и намыл доброе золотишко… Показал Степанову. Тот распорядился поставить там разведку. Бригадиром на разведке стал Пихтачев… Вскоре геологи установили, что россыпь существует за счет выноса золота с рудного месторождения. Что же делать с этой россыпушкой? Виталий Петрович сам составил схематичный проект отработки. Лучшим оказался вариант с драгой. Но драги на Кварцевом не было! Вопрос этот Степанов собирался решить со своим шефом…
Пихтачев с трудом разогнул спину, поздоровался за руку с Виталием Петровичем и с его гостем, приветливо кивнул Светлане. Девушка встала, шутливо сделала реверанс и пошла к «Волге», открыла багажник, стала укладывать туда свой рюкзак.
— Утискался, аж белый свет мне не мил. А тут опять ишак схватил, или как его там, ишас… — Павел Алексеевич раскрыл кожаную полевую сумку, достал из кармана ручку с вечным пером.
— Ого, канцелярией обзавелся, — заметил Степанов.
— Нельзя начальнику без штанов, хоть худенькие, да с пуговками, — скороговоркой ответил Пихтачев. Протянул листок бумаги. — Нарисуй-ка резолюцию, чтобы, значит, выдали нам трос, — поглаживая левой рукой себе спину, попросил он.
— Две недели назад я подписал тебе требование на тысячу метров!.. Куда же ты его девал, Павел Алексеевич? — возвращая бумажку, спросил Степанов.
Пихтачев, переступая с ноги на ногу, пробурчал:
— Я трос не глотаю, небось рвется на буровой.
— А я слышал, что ты пятьсот метров троса выменял на кровельное железо в соседнем леспромхозе. А оно тебе на буровую не нужно…
— Оно на крышу бараков для разведчиков нужно. А ты не даешь!
— Железо я получил только для обогатительной фабрики. Ты об этом знаешь.
— Тогда дай труб железных! — вытаскивая другую бумажку, перестроился Пихтачев.
— Ничего не получишь. Партгосконтроль нашей работой интересуется, — предупредил Степанов.
— Их дело — вынюхивать, наше — строить, — сказал Пихтачев, спускаясь в карьер.
— За цыганские дела тебя прижмут!
— Не пугай вдову замужеством!.. — огрызнулся Пихтачев, задерживаясь на склоне карьера.
— Не любишь ты критики, Павел Алексеевич…
— А что она, баба, что ли? Любить ее…
— Как был заполошный, таким и остался! — Степанов махнул рукой.
— А ты на меня напраслину не возводи! Железную критику приму, а без железа на кой она мне сдалась? Маета одна!
Пихтачев скрылся за густыми кустами тальника.
— Пошел шуровать добытчик, что-нибудь добудет. Сколько знаем друг друга и все время спорим… — Степанов, садясь рядом с дочерью, пожал плечами.
Светлана нагнула голову над щитком, повернула ключ зажигания, осмотревшись по сторонам, медленно тронула с места.
— Лихой мужик, законы не для него писаны! — Продолжая разговор, Северцев покачал головой. — Впрочем, по совести сказать, на Сосновке я тоже далеко не всегда их придерживался.
Михаилу Васильевичу, сидевшему позади, были видны в смотровое зеркало голубые глаза Светланы. Она внимательно всматривалась в дорогу и лишь один раз поглядела в зеркальце — не догоняет ли кто машину. На миг глаза их встретились, и Северцеву показалось, что девушка улыбнулась ему.
3
Северцев сидел в полутемной комнате у телевизора, наблюдая за бегающими по полю игроками. Рядом с ним «болели» хозяева дома — Виталий Петрович и его жена Лидия Андреевна.
— Нравится вам у нас на Кварцевом? — спросила Лидия Андреевна.
Ответить Северцев не успел — Виталий Петрович разразился проклятиями по адресу нашего нападающего, не попавшего в пустые ворота итальянцев.
— Довольно бесцветная игра. — Хозяин отодвинул свой стул подальше от телевизора.
Не удержался Виталий Петрович и ударился в воспоминания — ему довелось повидать на своем веку немало хороших игроков и действительно хорошие команды…
— Папа, не нужно воспоминаний… они признак старости! А ты у меня моложе самых молодых, — обняв отца за шею, сказала вошедшая в комнату Светлана.
— Ладно, стрекоза, иди накрывай чай, — недовольно буркнул Виталий Петрович.
— Что ты ворчишь, Виталий? Спасибо, что хоть такую игру смотришь… Скучно здесь, единственное развлечение — телевизор, — обратилась Лидия Андреевна к Северцеву.
— Почему единственное? Вы здесь в гостях побываете за месяц больше, чем в городе за год, — возразила Светлана.
— Верно, ходим в гости, только уже надоели эти сборища, больно похожи они одно на другое. Я теперь точно знаю, в каком доме чем нас будут кормить: у кого хорошие пироги с рыбой, у кого жареный гусь с яблоками, у кого фаршированная щука. Могу сказать, какой тост произнесет хозяин после второй, пятой и десятой рюмки, когда и чья жена начнет ревновать своего мужа, какие песни будут спеты, какие страшные истории расскажут о далекой таежной старине… — посетовал Виталий Петрович.
Вскоре игра закончилась, хозяин выключил телевизор и зажег свет. Лидия Андреевна поднялась со стула. Светлана очень походила на мать, и Северцев подумал, что в молодости Лидия Андреевна, наверно, была такая же красивая.
— У нас не холодно? — кутаясь в теплый платок, спросила хозяйка.
— Что вы, очень тепло, даже, пожалуй, жарко, — удивившись ее вопросу, ответил Северцев.
— Мне всегда теперь холодно, вы уж не обращайте на меня внимания, — проговорила Лидия Андреевна и вышла из комнаты.
Степанов, заметив недоумение Михаила Васильевича, рассказал ему, что когда началась война, Лидия Андреевна поспешила поехать за родными в Ленинград, но их уже эвакуировали, а ей выехать не удалось — осталась там до открытия Дороги жизни. Пережила самую тяжелую блокадную зиму. Очень страдала от холода, но старинную мебель красного дерева берегла как семейную реликвию, не топила ею. А однажды на месте дома она нашла пепелище… И вот с тех пор постоянно мерзнет…
Мужчин пригласили в столовую. Здесь Светлана уже накрыла стол. Виталий Петрович подошел к холодильнику, достал бутылку, подержал в руках и поставил, потную, на стол, чтобы полюбовались. Потом вытащил длинную пробку и разлил вино в чайные стаканы. Лидия Андреевна осуждающе посмотрела на мужа, но он оправдался:
— Это же токай, рюмками руку отмахаешь… Со свиданьицем, как говорят чалдоны! — И, выпив, скорчил кислую мину.
Северцев смотрел на стакан, покрывшийся бусинками влаги.
— Михаил Васильевич, помогай нам — давай драгу! Мы разведали богатую россыпушку, как-нибудь свожу тебя туда, сам убедишься.
— Возьмите с Матренинского прииска: там драга третий год на консервации, полигон отработали, — предложил Северцев.
— Я заготовлю распоряжение за твоей подписью, но боюсь — банк не согласится, — усомнился Степанов.
— Его это не касается, это наше дело… Откровенно скажу: завидую я тебе, Виталий Петрович, — каждый день у тебя по-настоящему творческий. Вот надумал ты драгу построить — это будет весомый довесок к твоей золотой программе. Признаюсь, в последнее время ко мне все чаще приходит мысль изменить работу, хочется не командовать, а создавать самому. Это Рудаков? — спросил Северцев, разглядывая висящую на стене фотографию.
— Он самый. Мы давно знаем друг друга. Еще на Южном прииске вместе спину гнули, комиссаром у меня был. Я передал ему Южный, когда сюда приехал. Но Сергей Иванович недолго директорствовал на Южном, его избрали секретарем райкома партии. Потом учился в Москве, в Высшей партийной школе. Теперь он секретарь у нас в горкоме… Светлана, пельмени варишь? — крикнул Виталий Петрович дочке.
— Скоро будут готовы! — откликнулась она.
Перед пельменями Степанов принес бутылку спирта, но налил только себе. Северцев категорически отказался. Степанов был недоволен гостем — пельменей он съел только двадцать штук. Хозяину пришлось доедать свою сотню в одиночестве.
— Ты, Михаил Васильевич, ешь как птичка, небось фигуру бережешь, — иронизировал Степанов.
— Зато ты, Виталий, свою давно не бережешь, — заметила Лидия Андреевна, убирая со стола.
— Мне она ни к чему, я женатый, а Михаилу Васильевичу нужно блюсти, — подмигнув, заметил он.
Долго беседовали гость с хозяином. Разошлись только под утро, когда зарозовел восток.
Степанов долго не мог заснуть, ворочался со спины на бок, думал о дочке. Из последнего туристского путешествия Светлана вернулась совсем другим человеком. Будто подменили ее… Влюбилась? Вот и дожили! Дочка уже влюбилась… А ведь еще стоит перед глазами Виталия Петровича встреча, положившая начало другой любви…
Виталий тогда был на последнем курсе Горного института, а Лида только начинала учиться в Консерватории. Там они и встретились на студенческом вечере. Хорошенькая, как сейчас Светка, она была окружена толпой поклонников-студентов, на которых бесцеремонно покрикивала и заставляла выполнять любое, самое взбалмошное, ее желание. А вот перед Виталием Лида как-то сразу присмирела… Забавно все это вспоминать!.. Так в кого же все-таки влюбилась дочка? В Валентина Рудакова?.. Нет, вот уж не Валентин герой ее романа… В кого бы она ни влюбилась, как научить ее быть счастливой?.. Да и вообще — можно ли этому научить?..
Счастье не игра в бабки на майдане: свинчаткой счастливый кон не выбьешь.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Виктор Северцев сидел в майке и трусах за письменным столом в своей маленькой комнате и сосредоточенно читал очень скучную брошюру, придвинув ее к настольной лампе. Этот курносый и веснушчатый парень, длинный, угловатый, совсем не был похож на Михаила Васильевича, мало общего у него было и с Анной, — словом, уродился он, как говорится, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца…
…Почти год собирал Виктор материалы по транспорту руды наклонными скипами и вот теперь убедился, что материалов у него все-таки недостаточно. Работа над диссертацией заходила в тупик. Винил он во всем своего научного руководителя: поставил проблему, нужную народному хозяйству, но «малодиссертабельную», как выражались в институте.
Особенно огорчалась его мать, твердившая, что главное в жизни аспиранта — поскорее «остепениться»: ученая степень приносит с собою деньги, должность, открывает научную перспективу. Только тогда и можно браться за народнохозяйственные проблемы…
Виктор, собственно говоря, понимал, что ни он, ни его молодые сверстники сейчас ничем не смогут обогатить науку потому, что сами-то ничего не имеют за душой. Но мать называла подобные рассуждения философией бездарностей, стыдила сына, любыми средствами стараясь оставить его служителем храма науки.
С горечью все чаще сознавался себе Виктор, что он, вероятно, попусту теряет годы, что отец был, должно быть, прав, советуя уехать куда-нибудь на рудник, чтобы там набираться опыта.
…В ночной тиши телефонная трель резанула ухо, Виктор вздрогнул.
— Господи, даже ночью нет покоя! — раздраженно откликнулась из другой комнаты Анна.
Виктор плотно прикрыл дверь в комнату матери и, сняв трубку, прошептал:
— Слушаю.
Звонила, конечно, Рита. Только она могла додуматься звонить ночью, придя из своего театра… Ну зачем связался он с ней?.. Вот сейчас она грозила трагической развязкой!
— К чему эти фокусы? Ведь ты прекрасно понимаешь, что семейный очаг не для нас с тобой… Да, да, я влюбился! И звонить мне больше не следует!.. Всего хорошего, Рита, — прошептал Виктор и повесил трубку.
Пожалуй, он сказал правду: влюбился!..
Виктор прошелся по комнате, почесывая затылок. Все-таки это правда или нет?.. Сон?.. Да нет же! Какой уж тут сон…
Он наяву был в Закарпатье, наяву спустился в вестибюль гостиницы, прошел в ресторан и увидел ее: она сидела за столом с двумя такими же молодыми девушками, как она сама. Он сел напротив и уставился на нее. Она же ни разу на него не взглянула и что-то все время рассказывала своим спутницам, а вот те украдкой изредка поглядывали в его сторону. Чем больше он смотрел на нее, тем труднее становилось отвести от нее глаза. Пышные, цвета спелой пшеницы волосы ниспадали на плечи, прикрытые ярким полосатым платком. Рассказывая, она часто смеялась, и казалось, что смеется она не над тем, о чем рассказывает, а над чем-то совсем другим, над чем — известно ей одной. Ее большие голубые глаза глядели прямо и смело, и только когда она слегка щурилась, взгляд становился мягче. На высоком лбу, справа, пшеничный локон чуть прикрывал приметное родимое пятно.
Девушка не выдержала бесцеремонных взглядов Виктора. Пересела спиной к нему. Теперь ему была видна узкая талия и длинная красивая нога в белой туфельке, которой она притопывала в такт музыке. Только теперь Виктор заметил, что в ресторане заняты все столики, негромко играет джаз-оркестр и несколько пар танцуют в центре зала, освещенном разноцветными прожекторами. К Виктору подошел официант в черном костюме и с вежливой улыбкой принял заказ, успев окинуть неодобрительным взглядом его синюю спортивную куртку.
Девушки по-прежнему весело болтали, потягивая из высоких бокалов светлое вино. Оркестр играл модный танец, ее приятельниц пригласили танцевать, и она осталась за столом одна. Она сидела неподвижно, слегка повернув голову вправо, и смотрела на танцующих. Виктору очень хотелось пригласить ее, но он долго не решался подойти. А когда встал, было поздно — оркестр умолк…
Но отдыхал оркестр недолго. Девушки снова ушли танцевать, и Виктор сразу подошел к ее столу.
— Разрешите пригласить вас! — Он поклонился, с надеждой глядя в большие голубые глаза.
— Благодарю вас, я не танцую. — Она неумело затянулась папиросой и, закашлявшись, отвернулась.
Он почувствовал на себе со всех сторон иронические взгляды и решил, что надо поскорее убраться из ресторана…
Стараясь не поднимать глаза от тарелки, он то и дело косился, однако, на золотистые локоны, которые сейчас почти ненавидел. Он поймал на себе любопытные взгляды ее подруг. Видимо, они говорили о нем… Опять заиграл оркестр, опять забегали разноцветные огни по темному залу, опять она осталась одна, и он опять не знал, как ему поступить. А знал он одно: если сейчас отступит, то никогда больше не увидит ее! Вот эта мысль и придала ему смелость.
— Я уже поблагодарила вас, — холодно ответила она.
Снова возвращаясь под насмешливыми перекрестными взглядами, он вдобавок ко всему увидел, что за его столом успели расположиться посторонние люди. На его стуле сидел, точнее — лежал, откинувшись на спинку и вытянув длинные ноги в лакированных туфлях, пожилой мужчина. Глаза его глубоко запали, бледный лоб был покрыт каплями пота. Он был мертвецки пьян. На другом стуле восседал толстяк с темными густыми бровями, мясистым носом, круглыми розовыми щеками и маленькими, осоловелыми глазками.
— Этот столик занят, — обращаясь к толстяку, сказал Виктор.
Тот не удостоил его ответом. Подошел официант, виновато развел руками:
— Я говорил — нельзя, но они не слушали.
— Хорошо, принесите мне стул, — попросил Виктор, еле сдерживая желание сбросить на пол толстого нахала.
Длинноногий мирно похрапывал. Толстяк шарил глазками по залу. Завидев официанта, несущего Виктору стул, рявкнул:
— Тащи водки, сукин сын!
— Вам хватит, вы уже ругаетесь, — возразил официант.
— Кто ты такой, чтобы учить меня? Попей с мое, тогда и учи, сосунок, — огрызнулся толстяк. И снова стал требовать водки.
Официант скрылся на кухне и долго не появлялся. Толстяк поднялся и, пошатываясь, отправился его разыскивать.
Виктор хотел рассчитаться и уйти, но официант все не возвращался. Появился шатающийся толстяк и, плюхнувшись за стол, принялся тормошить за плечо спящего приятеля:
— Дай закурить! Сигарету дай!..
Тот, никак не реагируя, негромко похрапывал. Наконец пришел официант с пустым подносом и объявил толстяку, что водки больше нет. Толстяк, схватив его за полу пиджака, принялся громко, долго, мерзостно сквернословить. Видимо, ему доставляло особое удовольствие, изрыгая самые грязные ругательства, поглядывать при этом в сторону столика, за которым сидели девушки…
Виктор не выдержал, схватил плюющегося руганью толстяка за шиворот и потащил к двери. Толстяк пытался упираться, но Виктор не выпустил его, пока не выволок на улицу.
Когда вернулся, то не застал и длинноногого — этого, должно быть, вывел официант.
Рассчитавшись с официантом, Виктор пошел к выходу.
А вот уж дальше многое в воспоминаниях застилалось туманом. Во всяком случае, Виктор совсем не мог вспомнить, как же так получилось, что их взгляды встретились, что она как будто улыбнулась ему, что он подошел, она что-то сказала ему, как произошло, что они вышли из ресторана вместе, шли по темной улице, как очутились в старом парке. Они сидели на деревянной скамейке у стеклянного пруда, от которого тянуло сыростью, смотрели на молодой, похожий на остриженный ноготок месяц. Вот месяц запомнился ясно! О чем говорили они в этот вечер? Кажется, о смысле жизни…
Но говорилось и чувствовалось им так, словно они знают друг друга и все друг о друге очень давно. Просто вот встретились после долгой разлуки…
Хотя он только что узнал, что зовут ее Светлана Степанова, что она студентка-геолог, отец ее всю жизнь на приисках работает и она там родилась, выросла…
На другой день Светлана уезжала дальше со своей туристской группой, а Виктор должен был еще три дня заседать на научном симпозиуме по рудничному транспорту.
На обратном пути Светлана остановилась в Москве у своей двоюродной сестры и позвонила Виктору по телефону. Он пригласил ее в театр. Потом они сидели на подоконнике открытого окна и смотрели на подсвеченные кремлевские башни, соборы. Болтали о пустяках, им было хорошо. Светлана читала нараспев стихи…
Внезапно он притянул ее к себе и стал целовать в губы. Она отвечала на поцелуи. Он почувствовал сильное волнение. Руки его стали горячими и тревожными.
— Не надо этого, Витя… Ничего этого не надо между нами… — осторожно отстраняя его руки, проговорила Светлана.
В дверь постучали — Свету звали к телефону.
Пробормотав что-то невнятное, Виктор быстро ушел. Он решил: раз так, видеться не следует!.. К чему все это приведет? Захотел парень хомут на шею?!
Но не думать о ней он уже не мог.
Почему? Да разве кто-нибудь может ответить на такой вопрос! Сегодня ходит себе девчонка стороной, самая обыкновенная, неотличимая от сотен других… а завтра она уже единственная, ни на кого не похожая, самой судьбой одному счастливцу предназначенная…
…Виктор вскочил со стула и отшвырнул брошюру. Что за ерунда! Что же это такое происходит! Так они могут навсегда потерять друг друга… Почему они все еще врозь — он в Москве, а Светлана на руднике?.. Надо вот так, сразу, не раздумывая попусту, не откладывая, ехать к ней! Ехать, пока еще не поздно… Пока еще она помнит о нем!..
Чувствуя огромное облегчение, пришедшее вместе с принятым столь, казалось бы, внезапно решением, не желая медлить ни дня, ни часа, ни секунды, он снял телефонную трубку и набрал номер междугородной станции.
В Москве ночь плотно припала к земле, а в Сибири было уже утро.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Михаил Васильевич поднялся на второй этаж по широкой мраморной лестнице старинного особняка, миновал доску с названиями управлений, отделов совнархоза и, подойдя к резной дубовой двери, на которой была прибита стеклянная дощечка «Заместитель председателя совнархоза М. В. Северцев», рывком открыл ее.
— Здравствуйте, Марья Станиславовна!
Миловидная блондинка с накрашенными ресницами, выдвинув из стола ящик и положив в него книгу, с увлечением читала. Услышав голос начальника, она торопливо задвинула ящик и встала.
— Наконец-то приехали! Здравствуйте, Михаил Васильевич… — засуетилась она. Взяв со стола ключ, поспешила открыть дверь кабинета.
Михаил Васильевич выжидательно посмотрел на нее. Поняв, о чем он хотел бы первым делом спросить ее, она, отрицательно покачав головой, тихо сказала:
— Нет, никто не заходил…
В кабинете все было по-старому. Тяжелая, красного дерева мебель, вывезенная из бывшего министерства, в царившем здесь полумраке казалась еще более массивной. На высоких стенах — карта совнархоза, таблица Менделеева… Полукруглые окна, выходящие на людную площадь, затянуты бархатными шторами, не пропускающими ярких лучей солнца. На столе, рядом с медведями на чернильном приборе каслинского литья, синяя вазочка с тремя красными гвоздиками (он знал — это подарок Марьи Станиславовны).
Северцев устало опустился в глубокое кожаное кресло. Опять «нет». Никто не был. Уже восемь лет вот так…
Михаил Васильевич чувствовал себя неважно: не выспался, да к тому же переложил лишку на затянувшихся проводах у Степанова. Опять покалывало в печени. Давно пора воздерживаться от маломальских излишеств, перейти на строгий режим…
Нужно бы с дороги и отдохнуть, но Северцев с такой неприязнью подумал о своей запущенной холостяцкой квартире, что решил остаться здесь. Вздохнув, налил в стакан затхловатой газированной воды, пригубил и отставил стакан подальше. Посмотрел на откидной календарь: «6 мая 1965 года». Перелистал его до 9 июня. Закурил. Снял трубку телефона.
— Николай Федорович, здравствуйте!.. Я только что приехал с аэродрома… Да, объездил всю нашу совнархозовскую епархию… Что ж сказать… Вы знаете не хуже меня: предприятиям нужна серьезная помощь, а мы бессильны оказать им эту помощь… Да, за эти годы наши мечты развеялись как дым… Почему? Потому, что нам, местным работникам, мало доверяют, совнархозы стали бесправнее министерств. В эту поездку я вновь десятки раз краснел перед производственниками! За свою… если так можно выразиться, начальническую импотентность: одни советы — и только!.. Краснел, вы угадали: мне все это осточертело. Ругайте меня, дорогой Николай Федорович, но дело руганью не изменить… Яблоков? Как же, конечно, помню… Хорошо, я буду у вас ровно в пять. — Северцев положил трубку.
Он снял пиджак, засучил рукава сорочки, придвинул к себе толстую папку с бумагами и задумался…
Зачем он так разговаривал с Шаховым, самым близким ему человеком, которому столь многим обязан! Одно «дело Северцева» чего стоило, и окончилось оно благополучно только благодаря Шахову…
Эти события относились еще ко временам министерства. Северцева оговорил его бывший товарищ по Горному институту Птицын, увидавший в нем возможного претендента на должность начальника главка — ту самую должность, которую занимал Птицын. Много крови тогда попортил Птицын директору Сосновского комбината Северцеву, обвинил его во всех смертных грехах — технических (перевод рудника с подземных на открытые работы) и моральных (сожительство с подчиненным — геологом Малининой). Добился отстранения его от должности, более того — пытался состряпать уголовное дело… Принципиальность и мужество Шахова поставили все с головы на ноги в искусно сфабрикованном «деле»…
Вошла секретарша:
— К вам директор третьего горнообогатительного комбината.
— Филин? Пусть заходит.
В раскрытую дверь еле протиснулся полный, рыхлый мужчина в рубахе-косоворотке. Он тяжело опустился на стул напротив Северцева.
— Ну как, Пантелеймон Пантелеймонович? Львиная шевелюра-то еще не вылезла! — присматриваясь к Филину, констатировал Северцев.
— Куда там! После каждой стрижки — новые валенки. С фигурой хуже. Голодаю, всякие разгрузочные дни, а разносит, видишь, как на дрожжах… Выход один — ищи работу с окладом шестьдесят рублей.
— Как идет жизнь?
— А так она идет: хожу у вас здесь из двери в дверь — ответ один: «Мы не можем». Хорошо, хоть один тут мой знакомый есть, обещался посулить!.. План давай, давай, давай… И ничего под него не проси! Хороша перестроечка. — Филин, тяжело поднявшись, подошел к столику, налил из сифона воды, залпом выпил.
— Помнишь, мы все приветствовали перестройку руководства промышленностью? Что ж ты теперь жалуешься? — Северцев включил настольный вентилятор.
— Перестройка проходила под девизом «доверие местам». А что получилось? Вот ты, зампред совнархоза, можешь выделить мне полмиллиона на достройку обогатительной фабрики? — наступал Филин.
— Формально у меня есть такое право, а фактически без Москвы не могу.
— Тогда зачем же ты здесь, дружище? Сам зря деньги получаешь да еще новых бездельников плодишь! По всему Зареченску объявления развешаны о приеме на работу в совнархоз…
Северцев прошелся вдоль стены. Потом ответил:
— Об этом я сегодня примерно то же самое скажу Шахову. Аппарат разбухает, раздувается… Чиновники сидят в знаменателе, — увеличивая его, они уменьшают результат. А как его увеличить, никто не знает. Есть одна идейка…
— Да неужто? — шумно вздохнув, насмешливо бросил Филин.
— Что ты такой недоверчивый сегодня? Лучше послушай: разнообразие техники сейчас так велико, что нельзя управлять экономической жизнью страны без машин… Никакие Госпланы, министерства и комитеты справиться с этим не в состоянии. Согласен?.. Вот я только что с Кварцевого рудника приехал, ты знаешь его. Там работают десятки буровых станков, экскаваторов, самосвалов, обогатительная фабрика, энергетическое хозяйство, ремонтные цехи, огромные лесозаготовки, водоснабженческие станции, компрессорные, отвальные хозяйства, транспорт и прочая, и прочая, и прочая… Все это должно работать слаженно, синхронно, управляться автоматически из одного центра — тогда будет толк. Так вот! Машины нужны уже не только для экономии человеческого труда, они необходимы для самого существования экономической системы. Системы! Понял? Без них не обойтись. Так же, как без электронной вычислительной машины невозможно управление спутником или космическим кораблем…
Прервал Северцева телефон. Звонил секретарь обкома партии Кусков, ведающий промышленностью. Ему только что сообщил управляющий банком об очередном «художестве» Северцева: драгу с Матренинского прииска передал на Кварцевый, когда нет ни проекта, ни сметы… Даже посоветоваться ни с кем не пожелал. Налицо очередной рецидив самоуправства! Северцев, видно, забыл, что за подобные дела он уже наказывался еще на Сосновке. Придется ему об этом напомнить!..
— Товарищ Кусков, но драга уже три года ржавеет. И она еще столько же лет будет ржаветь, пока спроектируют, согласуют и деньги выделят! — возразил Северцев.
Кусков потребовал, чтобы Северцев информировал его об итогах месячной поездки.
— Вряд ли я скажу вам что-нибудь новое… Нужно помочь комбинатам деньгами, материалами, оборудованием. Но совнархоз этого сделать не может… Наказать руководителей? За что? Директора делают невозможное, а план выполняют. Чем думает помочь обком?.. Критикой? Тогда зачем же слушать на бюро? Для «галочки»?.. Да, я так считаю.
Напоследок Северцев кратко доложил секретарю обкома о своей поездке на угольную шахту, о перипетиях с отгрузкой кокса, и эта его информация вызвала новое недовольство Кускова. Конечно, нужно помогать соседям, но прежде всего следует думать о нуждах предприятий своей области, за которые мы все отвечаем головой, и с этих позиций щедрость Северцева неоправданна. Северцев ссылался на телеграммы металлургов, указания Москвы, наконец на решения партийных органов. Но Кусков сказал, что он, Северцев, ничего не понял, и повесил трубку.
Северцев с досады чертыхнулся.
— Ты, Михаил Васильевич, пошел на красный свет, — с опаской заметил Филин, проведя по волосам скомканным платком.
Звонок секретаря обкома расстроил Михаила Васильевича: он оказался в дурацком положении перед Степановым и его сотрудниками. Как он будет смотреть им в глаза, как ему дальше работать с ними?..
В экономике страны законы и инструкции особенно дают себя знать. Их не перепрыгнешь, их можно только обойти, и к этому приходится нередко прибегать, если хочешь сдвинуть дело с мертвой точки, указанной инструкцией… Ну, а что можно сделать в данном случае?.. Кусков прав: централизованных капитальных вложений на драгу без полной и очень долгой процедуры оформления не получить! Где же искать выход?..
— Что замолчал? — прервал его размышления Филин. — Похоже, что твоя машина будет считать тонны металла, километры кабеля, миллионы рублей… убирать квартиру… а не управлять экономикой!..
— Пока — да! Но скоро ученые создадут единую автоматическую систему управления экономикой. И громоздкий управляющий аппарат из людей будет резко сокращен. И ты не будешь больше задавать мне дурацкий вопрос: что я могу? — огрызнулся Северцев.
Марья Станиславовна принесла два стакана чаю и удалилась. Помешивая ложечкой в стакане, Михаил Васильевич медленно проговорил:
— А самое главное — этой системой нельзя будет командовать произвольно. В зависимости от того, с какой ноги ты сегодня встал… Заданный алгоритм исключит бездумное вмешательство в экономику, свидетелями чего, к сожалению, мы порою являемся.
— А что будем делать сейчас… пока не изобретена единая автоматическая система управления? — снова шумно вздохнув, осведомился Филин.
— Видимо, опять реорганизовываться, искать новые пути… — начал было Северцев, но взглянув на часы, извинился перед Филиным и вышел из комнаты.
2
Ровно в пять Северцев вошел к Шахову. Его кабинет был копией северцевского, только этажом выше, и отличался лишь числом разноцветных телефонов — на столе председателя совнархоза их было намного больше. Шахов сидел в кресле в свободном белом чесучовом костюме, из левого рукава виднелась черная перчатка протеза. Яблоков, слегка припадая на правую ногу, прохаживался вдоль окон. Генеральский мундир хорошо сидел на его широкоплечей, приземистой фигуре.
— Конечно, режим на этом заводе должен быть усилен. Я помогу вам обеспечить его безопасность, — закончил Яблоков и посмотрел сначала на старинные, с длинным маятником, часы, стрелка которых стояла на пятерке, а потом на вошедшего Северцева. Услышанная Северцевым фраза объяснила ему причину, во всяком случае одну из них, появления здесь Яблокова. — По моему сменщику, как всегда, можно проверять часы, — обнимая Северцева, заметил Яблоков. — Помнишь, Михаил Васильевич, Сосновку? Мы были помоложе тогда… — пожимая руку Северцеву, шутливо посетовал Яблоков.
— Ну как? — спросил Шахов.
— Орел, — оглядывая Северцева, ответил Яблоков. И улыбнулся. — Ну и жара у вас! Вторые Сочи… Непонятно, почему вы здесь всякие сибирские льготы имеете…
— Не волнуйтесь, ваше превосходительство, уже подготовлено решение об их отмене. Постепенно все усовершенствуется, кадры все разбегутся, — ответил Северцев.
Яблоков рассмеялся.
— Язви тебя, Михаил Васильевич, с твоим превосходительством! Но вижу — вам солоно достается… Как ты-то живешь-поживаешь, старина?
— Плохо. Говорят, у генералов денег много. Дай мне полмиллиона на достройку драги! — Северцев протянул руку, как за милостыней.
— При себе таких денег не вожу — опасно, — отпарировал Яблоков. — Но могу указать адрес, где их получить: Всероссийский Совет Народного Хозяйства. Больше того (это пока между нами!), заместитель председателя ВСНХ присутствует здесь, — он кивнул в сторону Шахова.
— Вот так новость! Вы, Николай Федорович, дали согласие?
Шахов подошел к окну и, отдернув гардину, посмотрел на площадь, на брызги фонтана, переливающиеся радугой.
— За время твоего отсутствия я много думал. И решил принять предложение: может, мне удастся там, в Москве, что-то сделать, как-то помочь совнархозам…
— Может быть, может быть, пока еще не развалились отрасли!.. Желаю вам удачи, Николай Федорович, и поздравляю! — без энтузиазма закончил Северцев.
Шахов неловко поклонился. Он был явно смущен этим разговором: боялся, чтобы его согласие не было истолковано товарищами как заурядное бегство. Москва, конечно, манила его все эти семь лет, но он ни разу и нигде не заикался о возвращении… Выдвижение ко многому обязывало! И он размышлял о том, что же нового предложит он там, в Москве… Конечно, надо уничтожить прерывистость в планировании, от нее идут многие беды…
Он был уверен в том, что именно прерывистость в планировании практически приводит к бесплановости. Планы для промышленности в целом и промышленных предприятий в отдельности составляются на определенный срок — год, квартал, месяц. По истечении этих сроков действие соответствующих им планов прекращается, а для последующих периодов вступают в силу новые планы. Таким образом, план не является чем-то целым, а представляет собой сумму отдельных элементов, то есть прерывистым. Предприятие живет лишь сегодняшним днем, без перспективы.
Шахов ловил себя на том, что всякий раз, когда начинал думать о проблеме планирования, очень волновался: ходил из угла в угол по кабинету, машинально задвигая стулья, обрамляющие стол для совещаний, дыхание становилось шумным, сердце начинало стучать быстрее. Нет, так нельзя, думал он, кладя под язык таблетку валидола, — надо спокойней, хладнокровней, тогда его слова будут еще более убедительными. Там, в Москве, он начнет этот разговор прежде всего с того, что из многолетнего опыта известно, что планы утверждаются с большим запозданием. Это объясняется трудностями существующей системы согласований. А как же не быть трудностям, если, помимо плановиков-профессионалов, на планирование массу времени тратят почти все, без исключения, работники аппарата, созданного для руководства промышленностью. Создается положение, при котором весь этот аппарат тратит больше времени на планирование как таковое, чем на организацию работы по выполнению планов.
Как бы читая его мысли, Северцев заметил:
— Очень сложно и долго мы планируем свою работу. Годовые планы разрабатываем практически все второе полугодие каждого года, и все это время идет сложный процесс увязок, что называется, по вертикали и горизонтали. Увязываются между собой смежные отрасли, определяются поставщики и заказчики, объемы поставок, оцениваются возможности предприятий. Если даже планы удается подтвердить до начала года, пусть за месяц или два, то по мере их переработки на предприятиях немедленно возникают хлопоты по уточнению, которые затягиваются по крайней мере на все полугодие.
Его поддержал Яблоков:
— Это не считая так называемых дополнительных или неплановых заданий. По ним-то, конечно, идет работа в течение всего года. Планы приобретают полную достоверность — и с точки зрения возможностей предприятия, и с точки зрения материального обеспечения — примерно к концу планируемого периода. Таким образом, когда промышленность наилучшим образом овладевает ими, кончается срок их действия и на смену приходят новые планы, которые надо заново осваивать.
В кабинет без стука ввалился Филин и, раскрыв свой пухлый портфель, обратился к Северцеву:
— Хожу с сумой, выклянчиваю совнархозовские подаяния. Михаил Васильевич, напиши бумажку на цемент!
— Выдадут и так.
— Нет! «Без бумажки я букашка, а с бумажкой человек…» Пиши, пиши!
Северцев написал на бланке распоряжение.
— Отдай в канцелярию.
— Отдавать нельзя: к бумажке нужно приделать руки-ноги, а то она лежать будет! — Филин подмигнул и ушел.
Шахов посмотрел ему вслед и заметил:
— Дядя из тех, кто работает локтями…
Яблоков спросил Михаила Васильевича:
— Тебя не радует шаховское назначение?
— Честно говоря, нет. Во-первых, я мало верую в удачу благих намерений Николая Федоровича. Во-вторых, его отъезд — большая утрата для нашего совнархоза.
— По-моему, опыт Николая Федоровича в Москве нужнее, чем здесь! Многое у нас в хозяйстве оказалось запутанным… Ты правильно заметил, к примеру, что теперь исчез отраслевой принцип руководства, специализации… Многие вопросы экономики нас беспокоят, нужны поиски новых путей-дорог… Что ты по этому вопросу скажешь? — спросил Яблоков.
— Что сказать? — присаживаясь к столу, спросил Северцев и рассказал злополучную историю с отгрузкой кокса металлургам другого совнархоза.
— Сломали вы ведомственные перегородки, подчас мешавшие государственным интересам, а теперь нагородили территориальные, — осуждающе заметил Шахов.
— Есть на Матренинском прииске драга, но нет дражного золота, месторождение отработано, и третий год матренинская драга бездействует и ржавеет, — продолжал Северцев рассказ о своей последней поездке. — На Кварцевом найдено хорошее месторождение дражного золота, но нет драги для его отработки. Степанов, опытный, толковый, энергичный директор, — одним словом, хозяин, а не авантюрист какой-то, — берегся перевезти драгу, смонтировать ее и начать добывать золото, но нужны разрешение, бумажки — проекты, планы, титула и так далее и тому подобное. Я хотел помочь Степанову, дал ему разрешение, но моя бумажка, как разъяснил мне Кусков, незаконная, требуется только московская. Я понимаю, что основные пути развития народнохозяйственного производства должны планироваться в центре, но инициатива мест в выполнении этих планов не должна сковываться, иначе начинает действовать принцип — нерешенный вопрос не содержит ошибок, — возмущался Северцев.
Шахов спросил, что же он предлагает.
— Не насиловать экономику, она должна разрешать или запрещать ту или иную хозяйственную деятельность предприятия: покупать ли крепежный лес для шахты в леспромхозе, или заготовлять его в два раза дешевле на своей делянке. Лучше эти вопросы решать Степанову, а не девице из райфо, которая оплачивает счета леспромхоза и не дает денег на самозаготовки леса. Хватит водить директора на сворке различных инструкций и указаний! — запальчиво ответил Северцев.
Слушая своего взволнованного заместителя, Шахов думал о том, что же все-таки нужно будет предложить там, в Москве, по этим наболевшим вопросам. Вместо десятков плановых параграфов-ограничителей установить предприятию три показателя: объем продукции по номенклатуре, фонд заработной платы и себестоимость продукции? В идеале это, конечно, лучший вариант планирования, но сегодня рискованный. Степанову или Северцеву можно доверить предприятие, работающее на принципах полного хозрасчета, а Филину нельзя, не тот уровень. К тому же наша хозяйственная система сегодня не готова для подобной перестройки… Нужно начинать с эксперимента на отдельных предприятиях, изучить все «за» и «против» и только тогда предлагать проверенное опытом. Решающее слово должна сказать экономика.
Шахов убежденно заговорил:
— В первую очередь нужно брать за шиворот экономистов, они занимаются чем угодно, только не экономикой… Я где-то читал сказку о том, как жили-были при одной мельнице три образованных старичка. Жили они недружно. Первый считал, что вода должна падать обязательно сверху. Второй старичок соглашался, что она должна падать сверху, но добавлял, что при этом она непременно должна падать на лопасти мельничного колеса. Третий утверждал, что упомянутая вода не должна по возможности падать мимо колеса. Кроме того, старички живо интересовались влиянием головастиков и водяных жуков на работу мельницы. На интересе к этим обитателям пруда они все сходились… Шло время. Первый защитил диссертацию на тему «Куда течет вода после мельницы?». Второй собирался защищать свою; «Вода — как элемент образования брызг». Третий собирал материалы к еще не написанной работе «Вода прежде и теперь». Как бы там ни было, при разных творческих устремлениях авторов, вода составляла основу их глубочайших исследований. Три старичка без конца топтались вокруг мельницы по своим излюбленным тропинкам и так горячо спорили о том, является ли вода просто полезной или весьма полезной для перемалывания зерна, что и не заметили, как значительная часть воды стала вытекать сквозь промоину в плотине прямо в реку, минуя мельничное колесо. Чем больше спорили старички о воде, тем больше ее утекало, и пруд стал заметно мелеть…
Яблоков задумчиво покачал головой:
— Нечего греха таить, не год и не два изрядное число экономистов занималось примерно тем же, что и старички из твоей сказки!..
— Нужны серьезные экономические преобразования, а не бесконечные административные перестройки. Чем больше подобных перемен, тем дольше все остается по-старому, — сказал Северцев, взглянув на Яблокова, как бы ожидая от него продолжения разговора.
Петр Иванович, утвердительно кивнув, сказал:
— Мы скоро, я в этом глубоко убежден, будем вынуждены по-новому смотреть на материальную заинтересованность и рентабельность. Будем по-хозяйски считать каждую копейку!.. Наши недруги не преминут поднять по этому поводу вой. Вновь станут кричать о «перерождении коммунистов», «отступлении», «возврате», «сближении с капитализмом», «индустриальном обществе»… Думаю, что нам не следует пугаться очередной истерики зарубежной княгини Марьи Алексевны. Да и своих начетчиков пора поставить на место! Ретивые цитатчики все еще пугают нас словами. Например, слово «прибыль» они ставят только рядом с «эксплуатацией». Все это чепуха! Все это, я бы сказал, из области экономических предрассудков…
Дверь открылась, и секретарша обратилась к Шахову:
— Извините, Николай Федорович, вас по моему телефону вызывает Москва.
Шахов вышел.
— Расскажи, как генералом-то стал! — попросил Северцев Яблокова.
Петр Иванович поудобнее устроился на кожаном диване, расстегнул китель.
— Ты знаешь, — начал он свой рассказ, — что при укрупнении совнархозов мой совнархоз влился в соседний. Обком собирался вернуть меня на партработу, но в Москве решили иначе: мобилизовали в органы безопасности. Подучили, конечно, разным чекистским премудростям…
— Горного инженера? Зачем там горные инженеры? — усомнился Северцев.
— У нас люди разных специальностей. Чтобы не допускать ошибок, нужны знания.
Северцеву хотелось узнать, по душе ли Петру Ивановичу новая работа, освоился ли он с ее спецификой, зачем приехал в Зареченск… Но он ни о чем не спросил, посчитав эти обычные для друзей вопросы теперь по отношению к Петру Ивановичу бестактными. Яблоков оценил деликатность собеседника и, отвечая на незаданные вопросы, сказал:
— Приехал познакомиться с вашей областью. Уже побывал на Кварцевом. Советую: проверь сохранность данных о золотодобыче по совнархозу и прими нужные меры. Ну, а что касается моей работы вообще, то она у меня сложная, но очень важная, дружище… Как сын-то, жена?
— Сын окончил Горный, пошел в науку, бывшая жена учительствует, — нехотя ответил Северцев.
Яблоков все-таки решился еще спросить:
— А Малинина? Где она, горемыка?
Северцев не успел ответить, его выручил вернувшийся, заметно возбужденный Шахов.
— Москва торопит с отъездом. Просят назвать преемника. — Шахов замолчал и выжидающе посмотрел на Северцева.
Яблоков подмигнул Михаилу Васильевичу, спросил:
— Догадываешься?
— О чем мне следует догадываться? — насторожился тот.
— Давай начистоту: рекомендую тебя на должность председателя совнархоза. Обком партии, думаю, поддержит мою рекомендацию. Что скажешь ты? — в упор глядя на Северцева, спросил Шахов.
Михаил Васильевич невольно улыбнулся, вспомнив разговор с Кусковым. И, недолго помедлив, ответил:
— В подобных случаях принято говорить: «Спасибо за доверие!» Но дело в том, что такого доверия я не заслужил.
— У нас другое мнение, — возразил Николай Федорович. И глухо добавил: — Ты помнишь, Михаил Васильевич, наш разговор в Москве, перед переездом сюда? Я пригласил тебя к себе на смену, учил, чему мог.
— Все помню и могу сказать вам за все только спасибо! Но будем откровенны: все мы, сторонники перестройки, тогда представляли ее совсем по-иному… А что получилось? Совнархоз, не родившись, помер…
— Ну, это уж ты слишком! — прервал Яблоков. — Совнархозы сыграли и положительную роль!
— Он что-то особенно стал брюзжать после этой поездки, — заметил Шахов.
— Возвратившись из командировки, я решил просить у вас, Николай Федорович, отставки, — объявил Северцев, — и направления опять на какой-нибудь рудник. Там хоть и трудно, но видишь плоды своего труда… Степанов-то какое кадило раздул! Аж завидки берут… А какие здесь «плоды»? Растущая изо дня в день переписка, тысячи ненужных бумаг, посылаемых наверх и вниз по пустяковым вопросам, которые не могут, однако, решать ни предприятия, ни совнархозы?.. Нет уж, увольте!..
— Толкует о руднике, как старик о богадельне, — засмеялся Яблоков и покачал головой.
— Ты считаешь, что работники аппарата… — начал было Шахов, но Северцев взмолился:
— Не надо, не надо, Николай Федорович, агитации и пропаганды… Я ничего не считаю. Но согласия на пост председателя не даю. Прошу освободить меня от должности заместителя и использовать на производстве. Где угодно, по вашему усмотрению. Это мое последнее слово. На костер пойду, гореть буду, но от своего убеждения не откажусь, — смягчил он свой отказ шуткой.
Помолчали. Шахов с некоторой обидой заключил:
— На правах совнархозовского инквизитора предлагаю новоявленному Джордано Бруно поразмыслить над сказанным! Мы еще вернемся к этому разговору.
— Нет, Николай Федорович, прошу вас; очень прошу вас считать наш разговор на эту тему законченным!..
На том и распрощались.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Трое мужчин вышли из облицованного гранитом здания и остановились на тротуаре под раскидистой липой.
— Вам куда, месье Бастид? — нагнув лысую голову, спросил Птицын, с большим усилием застегивая пуговицу на плаще «болонья», который спеленал его ожиревшие телеса.
— Я живу в отеле «Метрополь», — по-русски ответил месье Бастид.
Французу на вид было около сорока. Среднего роста, полный, как Птицын, с очень белым лицом, живыми, умными глазами, тонкими чернявыми усиками, он производил приятное впечатление.
— Мы вас проводим, если разрешите… — сказал третий собеседник. — Между прочим, должен вам сделать запоздалый комплимент: вы хорошо говорите по-русски, во всяком случае, лучше, чем я по-французски: забывается без практики.
Высокий, немного сутуловатый, профессор академического института Проворнов старался держаться прямо, откинув назад голову с крашенными хной волосами. Любезно улыбался желтым с синими прожилками лицом.
Они пошли по улице Горького к Центральному телеграфу.
— Как вам нравится летняя Москва? — спросил гостя Проворнов.
— Я очень люблю Москву, а еще больше — Ленинград. Я бывал туристом в России раньше, студентом Сорбонны, — ответил Бастид.
Вышли к проспекту Маркса и вскоре оказались в сквере Большого театра. Бастид предложил посидеть на скамейке у фонтана.
На кирпичного цвета дорожках играли в лошадки три карапуза под неослабным надзором что-то вязавшей бабушки. На соседней скамейке целовалась влюбленная парочка.
— О! Жизнь везде одинакова: в Париже, как в Москве, люди тоже влюбляются, рожают детей, стареют — независимо от того, коммунисты они или буржуа…
Птицын и Проворнов дипломатично промолчали. Бастид изменил тему:
— Я доволен результатами совещания, хотя — прошу меня извинить! — у вас на совещаниях или заседаниях разговаривают очень много и очень долго. Ваша речь, профессор, в пользу нашего сотрудничества, — обращаясь к Проворнову, заметил он, — была логична и научно аргументирована. Спасибо! Теперь дело за вами, месье Птицын, помогите быстрее оформить контракт!
— Я всего лишь исполнитель, от меня мало что зависит, — сказал Птицын.
Они поднялись со скамейки и, миновав здание Малого театра, перешли улицу. На углу, у «Метрополя», Проворнов поклонился, пытаясь распрощаться. Бастид удержал его:
— Время обеда! Французы никогда и ни при каких обстоятельствах его не пропускают. Прошу оказать мне честь!
Птицын ссылался на неотложные дела, Бастид ничего не хотел слушать. Взяв своих провожатых под руки, потащил их в гостиницу.
В просторном номере с окнами на Малый театр уже был накрыт стол, в центре которого красовалась фарфоровая ваза с крупными красными розами.
…Бастид лихо пил «Столичную», нахваливал семгу, икру, признался, что очень любит русскую кухню вообще, а у себя дома, в Париже, часто обедает в ресторане «Максим».
— Говорят, что человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Но мы, французы, с этим не согласны! — шутил он.
Посреди застольной болтовни успел рассказать кое-что о себе: окончил два факультета, имеет ученую степень доктора наук, его призвание коммерция, он возглавляет французское отделение международного концерна «Майнинг корпорэйшн», женат, двое детей, семья живет постоянно в Вене.
— Скучаете, вероятно? — учтиво осведомился Птицын.
— В Париже одному жить веселей, — подмигнув, ответил Бастид.
Предпринимателем стал месье Бастид по настоянию отца жены, крупного промышленника, хотя душа лежит больше к гуманитарной деятельности. Что поделаешь, мы не всегда вольны в своем выборе…
Бастид предложил тост за коллегу — профессора Проворнова, за развитие контактов ученых всех стран.
Проворнов сегодня пил мало: к шестидесяти годам нажил кучу всяких болезней и поэтому стал воздерживаться от спиртного, — но после такого тоста не осушить бокал было нельзя.
Бастид пил много, но не хмелел.
— Друзья! — торжественно начал он, когда атмосфера разогрелась, и поднял бокал. — Сегодня я не чувствую себя в гостях, мне кажется — я дома, в Париже. Так мне хорошо с вами… Думаю, что всем нам надоело при встрече угрожать друг другу только потому, что один поклоняется Христу, а другой — Марксу… Мы живем в шестидесятые годы просвещенного двадцатого века, когда люди не верят никаким пророкам, кроме науки… В наше время индустрия гордо шагает по всей планете, преобразуя старые, традиционные общества, меняя многие их черты… Мир вступил в новую эпоху — эпоху тотальной индустриализации. Эта цель сближает Восток и Запад… Предлагаю выпить за единый мир!
— Простите, месье… Единый мир!.. Такой ли он единый? — возразил Проворнов.
— А как вы относитесь к тому, что современное индустриальное общество уже, собственно говоря, не состоит из рабочих, получающих жалованье, и предпринимателей, получающих прибыль? При корпоративной экономике все рабочие и служащие участвуют в прибылях, производством управляет совет директоров, не являющихся собственниками. Частная собственность, так сказать, «расщеплена»: кто обладает ею, тот не управляет, а кто управляет, тот не обладает ею… А как вы смотрите на то, что индустриализация, научно-техническая революция автоматически ведут к интегрированию, синтезу всех стран и их общественных систем?.. И вы у себя, и мы у себя для материального преобразования используем одну и ту же технику — экскаваторы, бульдозеры, буровые станки… Индустриальное общество — всемирное общество. Наука и технология, на которых оно базируется, не знают границ. Они, так сказать, говорят на интернациональном языке. Да! Индустриальное общество — единый, неразделенный мир. Например, различия в языке, в одежде, которые значительно сгладились, не соответствуют общей, как бы это вернее выразиться… — Бастид щелкнул пальцами, — культуре народов! Культуре, создаваемой повсюду автомобилями, самолетами, электрическим светом, мощной энергетикой… Хотим мы этого или не хотим, идет взаимное сближение капитализма и социализма… Но не будем сегодня спорить! За последние десятилетия мы устали от споров, не правда ли? Лучше поговорим о том, что нас сближает! О торговле, например… Месье Птицын, как вы полагаете, когда будет подписан контракт между нашей фирмой и вашим объединением?
Птицын откашлялся, погладив ладонью лысую свою голову, пробурчал:
— Трудно сказать… Это зависит не только от нашего объединения, но больше, — он кивнул вверх, — от министерства то есть…
— Да, я знаю, у вас это все очень сложно! Много хозяев, — улыбнулся Бастид.
Потом разговор перешел на московское мороженое, постановки здешних театров и так далее.
— Когда вы приедете в Париж, — говорил Бастид, — то убедитесь, насколько был прав ваш Маяковский, воскликнувший: «Я хотел бы жить и умереть в Париже». Правда, он добавил: если б не было Москвы! Но это понятно: родина… Я покажу вам Париж днем и ночью. Вы узнаете и полюбите его так же, как Москву. Конечно, урбанизм портит Париж, но автомобили не сломаешь и людей на коней не пересадишь…
— Вряд ли мы попадем в Париж, — заметил Птицын.
— Фирма будет счастлива пригласить вас и господина профессора для продолжения переговоров. Мы сегодня сделали лишь первый шаг к установлению деловых контактов. Ответный визит за вами… Простите меня, я отлучусь на минутку.
Выйдя из-за стола, Бастид скрылся в соседней комнате. Вскоре он вернулся и положил на стол две небольшие коробки.
— Нам пора. Разрешите рассчитаться, и мы пойдем, — сказал Проворнов, доставая из кармана пиджака бумажник.
— Нет, нет, нет! Спрячьте свое портмоне, приглашал вас я.
— Нужно на паритетных началах, — вставил Птицын, хватаясь за карман.
— Прошу принять от нашей фирмы маленькие сувениры — в знак глубокого уважения!
— Что вы, что вы, месье! — отстраняя коробку, запротестовал Проворнов.
— Да это все-навсего портативные транзисторы. Чтобы вы лучше слышали нас! — пошутил Бастид.
Проворнов усмехнулся:
— Объяснение прямо-таки из сказки о Красной Шапочке…
Бастид развел руками:
— О ля-ля! Неужели я похож на волка, месье Проворнов?!
Проворнов достал из портфеля свою книгу «Геология», на первом листе сделал дарственную надпись: «Французскому коллеге дружески от автора» — и вручил Бастиду. Тот рассыпался в благодарностях.
Проворнов обвел глазами переднюю и скрылся за невысокой дверью.
— Я завтра улетаю домой, — сказал Бастид Птицыну, — но в скором времени Москву посетит представитель нашей фирмы. Не могли бы вы дать мне ваш телефон, чтобы при необходимости он мог с вами связаться?
Птицын вырвал листочек из записной книжки, написал на нем номер своего телефона и передал листочек Бастиду. Тот вручил взамен свою визитную карточку.
Возвратился Проворнов. Стали прощаться.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Вертолет-стрекоза плавно опустился на бревенчатый настил. С железной лесенки Северцев спрыгнул на землю. От еще крутившегося винта несло прохладой, Михаил Васильевич поежился и огляделся: стена кедровой тайги окружала маленькую посадочную полянку, где одиноко стоял рубленый барак — материальный склад геологоразведчиков. Вслед за Северцевым из вертолета спустился московский профессор-геолог Проворнов, с трудом удерживая на ветру мягкую шляпу.
— Здравствуйте, Михаил Васильевич, — услышал Северцев девичий голос и, обернувшись, увидел голубоглазую Светлану Степанову.
Она была все в том же спортивном костюме, с брезентовым рюкзаком за плечами. В руках держала геологический молоток. Северцев познакомил девушку с профессором и спросил:
— Виталий Петрович и Филин здесь? Я вызвал их в экспедицию.
— Отец здесь, но занят, все воюет с вашим ревизором, потому встречаю вас я. Филина ждут со следующим рейсом.
Светлана пошла вперед по торной тропе, ведущей в глубь тайги, за нею гуськом направились гости. Их обступили со всех сторон высоченные деревья, в таежном лесу было сумеречно. Кое-где голубели влажные стволы осин, выше них, словно колонны, поднимались медные стволы кедра, пикообразные пихты. Под легким ветром лес умиротворенно шумел.
«Посмотрим, посмотрим, что за новое золото открыл Степанов», — думал Северцев, шагая по мшистой тропке. Правда, эта россыпь открыта, как утверждает Степанов, еще несколько лет назад Пихтачевым и сейчас ее только усиленно доразведуют, но запасы ее увеличены в несколько раз и драга сама просится на эту речку.
Важно знать и мнение профессора о дальнейших перспективах этого района на рудное золото, его консультация будет весьма кстати.
Собственно говоря, приезд профессора и помог наконец Северцеву выбраться в геологоразведочную партию Кварцевого комбината, о делах которой он много слышал от Степанова. Партия работала в труднодоступной, болотистой части тайги, дорог к ней не было, связь с внешним миром пока поддерживалась вертолетами. Степанов торопился с разведкой нового золоторудного месторождения, оно могло удвоить сырьевую базу рудника, после чего, как он утверждал, можно расширить и обогатительную фабрику. Оптимистические расчеты местных геологов были встречены с недоверием в Геологическом комитете, куда они были направлены на апробацию, и вот профессор Проворнов вылетел в совнархоз знакомиться с геологическими материалами.
Северцев решил лететь вместе с профессором в партию, рассчитывая одновременно выяснить все о строительстве прямой дороги на дражный полигон, — он не сомневался, что Степанов так или иначе драгу построит. Северцев усмехнулся, вспомнив о вынужденной авантюре, которую они задумали с Виталием Петровичем Степановым: матренинская драга будет списана, как пришедшая в негодность, на металлолом. Северцев на законном основании утвердит акт о ее списании, Степанов же сдаст на базу Втормета старый металл, а драгу перевезет к себе на прииск. Судить их за подобное бескорыстное нарушение закона никто не будет, а выговора драга, конечно, стоит. Дорогу должен помочь строить Филин, для этого Северцев и вызвал его сюда.
Светлана была легка на ногу. Северцев и Проворнов давно взмокли и сняли пиджаки, а она шагала все так же быстро, всматриваясь по привычке в камни, что лежали на их дороге. Северцеву видна была за ветвями то справа, то слева от него пестрая косынка девушки.
— Куда ты ведешь нас, Светлана? Не видно ни зги… — тяжело дыша, спросил Северцев.
Светлана внезапно остановилась и, приложив палец к губам, показала рукой вправо.
Северцев тоже остановился, но ничего, кроме ручья со взбаламученной водой, не приметил. Светлана продолжала стоять на месте, не опуская руки. Наконец Михаил Васильевич увидел: метрах в двадцати от них выше по течению стоял лось. Животное было крупное, темно-серого цвета, с раскидистыми рогами, на высоких ногах. Оно стояло по колени в ручье, к которому пришло на водопой. Напившись, лось поднял голову, с губ его стекали серебряные капли. Почуяв людей, он потянул раздувшимися ноздрями воздух, потом прыжком очутился на берегу ручья и тотчас же исчез в таежной чаще.
Никто из спутников не сказал ни слова, любые слова могли только испортить впечатление от сказочной встречи.
— Веду я вас прямо на новое золотое месторождение, — ответила девушка. — Еще километра три пройти придется. Есть тракторная дорога — возить грузы от вертолетной площадки до стана разведчиков, — но она плохая, пешком скорее дойдем… Вы не устали?
Северцев поглядел на профессора, еле передвигавшего ноги, и предложил немного передохнуть.
Присели на трухлявую валежину. Светлана достала из рюкзака армейскую флягу, направилась к большому замшелому валуну, из-под которого бил сильный, весь в хрустальных пузырьках, ключик. Припала к струйке, с наслаждением глотая ключевую воду. Потом набрала полную флягу, принесла Проворнову. Северцев последовал примеру Светланы, напился прямо из ключика, умыл лицо, смочил волосы. Девушка приложила руку ко лбу козырьком и, задрав голову, внимательно вгляделась в потемневшее небо. Где-то погромыхивало. Проворнов отдышался и, растянувшись на ковре из пихтовых и кедровых иголок, наслаждался лесной тишиной. Может быть, от этого блаженного ощущения, а может, желая оттянуть минуту подъема с привала, он разговорился. Не заботясь о том, интересна или неинтересна другим его импровизированная лекция, он, словно любуясь течением своей мысли, своей прекрасно отработанной дикцией, все больше настраивался на философский лад:
— Вот, друзья мои… столетия, тысячелетия, десятки тысяч лет назад, как и сейчас, вершины гор золотило солнце, шел дождь, пенились ручьи и реки в глубине мрачных ущелий, и так же, как мы сейчас с вами, медленно шли по каменистым осыпям и крутым обрывам отважные исследователи — рудознатцы… Они, наверно, как и наша Светлана, присматривались к обломкам горных пород, искали взглядом красные, желтые и зеленые выцветы на скалах, задумывались над незнакомым минералом, пытались разгадать его тайну… Поиски полезных ископаемых породили геологию как науку. Но на это ушли тысячелетия. Первые металлы пришли в жизнь человека в самородном виде — я имею в виду золото, серебро, медь, железо. Занимаясь их добычей, человек замечал, что медь под воздействием воды покрывается зеленью, а железо — буроватой ржавчиной. Так окраска послужила первым поисковым признаком… Кстати, этот признак сохранен геологами до наших дней! Я часто думаю: какая же долгая и напряженная работа мысли потребовалась человеку, чтобы научиться извлекать из руд металлы! Он подвергал их действию самой страшной силы, какой только обладал в то время, — силы огня. Но камень прежде, чем огонь, вошел в жизнь человека. Из камня человек и научился добывать огонь… а потом уж использовал он этот огонь для добычи из камня металлов…
Тут застучал по листьям и веткам деревьев дождь — сначала небольшой, потом сплошной. Разразилась гроза. Путники укрылись под огромной, густой пихтой, куда дождь почти не проникал. Лекция, разумеется, сама собой прекратилась.
Но и дождь был недолгим. Тут же проглянуло солнце, в глаза ударил ясный свет, особенно ослепительный в белых стволах березовой рощицы, куда привела путников таежная стежка. Пестрая косынка Светланы то пропадала в логу, заросшем высоченной осокой, то вновь появлялась на пригорке.
Северцев думал: какая милая выросла дочурка у Виталия Петровича! И геолог из нее, видать, будет хороший…
Вспомнились свои молодые годы, вспомнилась встреча с Валерией… Разве забудутся когда-нибудь первые дни на проходке сверхударной штольни, куда он прибыл уже инженером! Только на восьмые сутки ранним утром поднялся он на дневную поверхность. И, сделав несколько шагов, упал в стог свежего сена. И заснул, как богатырь в сказке. Проснулся, когда солнце уже пряталось за лесом и облачное небо было алым. В красноватых лучах стояла незнакомая высокая девушка. Она что-то говорила ему. Северцев зажмурил глаза, потом снова открыл их. Видение не исчезло. Он вскочил, одернул смятую куртку.
— Кто вы? — спросил он.
— Геолог. Валерия, — улыбнувшись, ответило видение.
Так и остались на всю жизнь в его памяти большие карие глаза, ямочка на подбородке, маленькая родинка на горбинке носа и красная косынка, которая, казалось, готова была вспыхнуть, облитая алыми лучами…
…— Стан уже виден! — раздался впереди голос Светланы, и пестрая косынка опять нырнула в ложок.
Нудно мельтешила перед глазами мошкара. Казалось, что все вокруг дергается и болтается. Но совсем близко, на солнечной опушке леса, стояли, как подружки, три молоденькие пихты, протянув друг другу руки-ветви. Рядом с ними Северцев насчитал с десяток брезентовых палаток. Навстречу по узкой стежке быстро шел, почти бежал, кругленький человечек с огромной лысиной, обрамленной светлым пушком, он размахивал почти детскими ручками. Северцев сразу узнал ревизора из производственного отдела совнархоза. Ревизор чуть не налетел на Северцева. А увидев, кто перед ним, с возмущением закричал:
— Представляете себе? Вы только представьте себе!.. Этот сумасшедший выгнал меня. Выгнал! Сорвал окончание ревизии. Уж этого я так не оставлю! Придется ему ответить сразу за все его художества!..
Северцев сказал:
— Успокойтесь! Пойдемте к Степанову и разберемся во всем.
— Не пойду я к этому медведю! Нечего мне у него делать…
— Идемте, идемте.
По дороге ревизор жужжал и жужжал, как шмель, перечисляя все факты отмеченных им в акте нарушений финансовой дисциплины.
У трех молоденьких пихт-подружек встретил пришедших Виталий Петрович. Крепко, и вправду по-медвежьи, пожал руку Северцеву, профессора своим рукопожатием заставил зажмуриться от боли. Пригласил гостей в палатку. На ревизора даже не взглянул, будто того и не было с ними.
— Отдыхайте, небось уходились, — отдергивая полог, предложил Степанов.
В палатке две кровати-раскладушки, между ними канцелярский стол, заваленный листами ватмана с продольными и поперечными профилями разведываемого месторождения. У входа — ящики с пыльными образцами пород. В углу — двухкурковая централка.
Гости положили пиджаки на раскладушки. Северцев закурил, а Проворнов принялся перебирать в ящике обломки молочного кварца.
— Профессор, извините нас, но мы несколько минут будем заняты с ревизором! — выдыхая табачный дым, сказал Михаил Васильевич.
— Сделайте одолжение. А я пройдусь по стану, — ответил Проворнов и, низко нагнувшись, вышел через треугольное отверстие палатки.
Северцев внимательно посмотрел на директора. Тот с вызовом спросил:
— Что уставился? Не узнаешь, что ли?
— Ревизора выгнал? Правда? — Михаил Васильевич глубоко затянулся дымом и не спешил его выдохнуть.
— Правда. Выгнал, — с тем же вызовом ответил Степанов, потирая потные ладони.
— Все резвишься, старина… Пригласи сюда ревизора! — с трудом сдерживаясь, попросил Михаил Васильевич.
— Мне за вас стыдно… когда вы… подобными актами собираетесь поучать предприятия!.. руководить ими!.. — вскипел Степанов. — Что же дальше-то будет, я тебя спрашиваю?.. Молчишь?.. Это проще всего, дружище… — Степанов подошел к отогнутому пологу палатки, крикнул: — Товарищ ревизор, вас просит зампред!
Ревизор тотчас появился. Северцев указал ему на табуретку. Человечек достал из кармана пиджака сложенные вдвое листы бумаги, развернул их и заново стал перечислять все в них записанное.
— Согласен? — спросил директора Северцев.
Тот утвердительно кивнул головой.
— Тогда с чем же ты не согласен?
Степанов усмехнулся, глаза у него весело заблестели.
— С технологическими замечаниями, если их так можно назвать.
Ревизор, чувствуя поддержку начальства, решил прижать директора:
— На обогатительной фабрике тоже неполадки. Процент извлечения золота из руд крайне низок, всего девяносто четыре процента, о чем мною записано в акте ревизии. Я думаю, что вы, Михаил Васильевич, предложите директору поднять процент извлечения к празднику Октябрьской революции минимум до ста пяти — ста десяти процентов. Это же не технология, а политика! — подняв кверху палец, назидательно закончил ревизор.
Наступило неловкое молчание.
— Вы кто, простите, по специальности? — переглянувшись со Степановым, спросил своего подопечного Северцев.
— Деревообработчик, — последовал ответ. Ревизор как-то съежился, его почти не стало видно, только лысина возвышалась над столом.
— Да, шутка горькая, — задумчиво проговорил Северцев. — Как бы это вам пояснить? У меня в кармане рубль, и я могу истратить девяносто четыре копейки, девяносто четыре процента наличности. Но, имея тот же рубль, я не смогу, при всем моем энтузиазме, истратить рубль пять или рубль десять копеек. Понимаете?
Ревизор молчал, и у Северцева было время подумать, что и он сам, наверное, несет подобную чушь при разговоре, например, с текстильщиками… Но что поделаешь, долг есть долг. Поэтому Северцев поспешно прочел Степанову никому не нужную нотацию на тему, что может и чего не может директор, и наконец, теперь уже с чувством исполненного долга, отпустил ревизора.
— Извини, Виталий Петрович! Но я был обязан «отреагировать», как говорят. Поработать над тобой, — усмехаясь, оправдывался Северцев. — Поверь, что я бюрократ поневоле…
— Знавал я в прежнем министерстве одного деятеля… сундук с клопами, иначе не назовешь его… но и он не идет в сравнение с этим пещерным человеком! — сказал Степанов, мотнув головой вслед ушедшему ревизору.
— Разве в нем дело? — возразил Северцев. — Дело куда страшнее: нарушена отраслевая специализация. А это неминуемо ведет к техническому параличу, застою.
Степанов согласно кивнул и добавил:
— А помнишь, Михаил Васильевич, наш спор в пятьдесят седьмом году в Госплане? Я тогда тебе доказывал, что в совнархозах потеряется специализация отраслей, а ты в ответ говорил о наступлении экономического ренессанса. Или забыл?
Северцев смущенно улыбнулся и, вздохнув утвердительно, кивнул.
Степанов сердито закончил:
— Вроде как дальше ехать некуда! Перманентная реорганизация нашего дела доведена до абсурда: отрасли разорваны на клочки… Что из Москвы слышно?
— После октябрьского Пленума ЦК работает большая правительственная комиссия. Говорят о двух вариантах — о расширении ВСНХ и превращении госкомитетов в его главки, говорят и о воссоздании министерств. Конечно, речь не будет идти о простом возврате к прежним министерствам — времена другие, условия другие, новые министерства не могут походить на старые. Началась дискуссия в печати по этому вопросу. Экономисты оживились… — Северцев вспомнил притчу Шахова о трех старцах и улыбнулся.
— А как будет называться новый хозяйственный центр? — спросил Виталий Петрович.
— Разве дело в названии — совет народного хозяйства или министерство? Назвать можно и так и этак. Дело пойдет на лад, когда предприятия получат настоящую самостоятельность в решении хозяйственных вопросов на базе хозрасчета… Вот каким образом! И еще на базе личной заинтересованности всех членов коллектива… Убежден, просто убежден, что половина вопросов, ныне так долго и трудно решаемых, отпадет сама по себе. Ну, что сказать? Поживем — увидим.
Северцев разложил на столе большую карту с обозначенными на ней предприятиями области. Нашел красные кружочки с надписями «Матренин прииск» и «Кварцевый рудник».
— Я все думаю о драге… Золотишко неплохое — грамм на кубометр… И оборудование отличное зря ржавеет. А получается — «мому ндраву не препятствуй!». Вот что получается… — с досадой проговорил Северцев и спросил: — Как повезем ее?
— До золотого карьера дорога нормальная, а дальше нет никакой, топи. Если дорогу строить в обход болота, она километров тридцать крутить будет. Напрямки не больше десяти, но придется просеку рубить и подсыпать топи, — ответил Степанов.
— Варианты эти обсчитывал? — поинтересовался Северцев.
— Конечно, считал. Прямая дорога по капитальным затратам дороже будет примерно на миллион, зато на эксплуатации значительно дешевле круговой дороги. Изыскатели трассу прокладывают, пикеты ставят по прямому варианту, — доложил Степанов.
— Молодец. А сколько попросишь денег?
— Не попрошу, спишу затраты на себестоимость грамма золота, она у меня ниже плановой, выдержит. Попрошу у совнархоза только машин на стройку дороги, — ответил Степанов.
— В совнархозе машин нет, попробуем с третьего комбината взять, — в раздумье сказал Северцев.
Степанов улыбнулся.
— Раз у совнархоза, как говорит Пихтачев, могутности нету, то уж с нас-то и вовсе спроса не может быть… — заметил он.
Раздался телефонный звонок. Степанов снял трубку.
— Москва?.. Здравствуйте, Николай Федорович!.. Слышно хорошо, радиотелефон установили здесь… Слушаю, слушаю!.. — громко повторил он и несколько раз нажал на рычаг телефона. — Вот опять хорошо слышу, продолжайте, Николай Федорович!.. Здесь. Передаю ему трубку.
Северцев взял трубку. Поздоровался с Шаховым.
— Эксперимент?.. Лучше на горном предприятии… Да!.. На каком? — Северцев подмигнул Виталию Петровичу и ответил: — На Кварцевом руднике. Согласны?.. Договорились! Это очень интересно!.. Над вашим предложением я, конечно, думаю. Боюсь только, чтобы товарищи не восприняли его как умышленно организованное бегство… Конечно, клюют, конечно, и одиночество не сладко… Верно, институт не канцелярия… Хорошо, я позвоню вам… До свидания!
Северцев сидел некоторое время неподвижно. Только начав дымить папиросой, заговорил:
— Молодец старик, действует! Предлагает провести интересный хозяйственный эксперимент — о чем-то подобном мы мечтали с ним еще в начале организации совнархозов…
— Это что же такое будет, если не секрет? — полюбопытствовал Степанов.
Северцев передал все подробности разговора и, как бы резюмируя, подчеркнул:
— Освободить директора от мелочной опеки. Расширить его права!.. Вот скажи: что тебе нужно?
Степанов подумал и ответил:
— Вместо бумажных простыней с планируемыми показателями всего три цифры: объем производства по реализации в номенклатуре, себестоимость продукции, фонд заработной платы. И точка.
— Пока это намечается осуществить в опытном порядке. На нескольких предприятиях страны. А позже, надо думать, их опыт распространят повсеместно… Думай, думай, дружище! Теперь думай вовсю: у тебя на руднике начинается, можно сказать, новая экономическая эра! — хлопнув Степанова по плечу, закончил Северцев.
— Это хорошо, что будет время заглянуть в святцы… Слушай… А может, под шумок и драгу двинем… а, верно?.. Ну, как у тебя, старый друг, личные-то дела?
— Подумаем и о драге… Личные дела? — с горечью переспросил Северцев. — Какие у меня личные дела… Сын, кажется, влюбился. Вот и все мои новости.
— И моя дочка тоже нашла своего принца. А кто он таков, откуда родом, какого племени, это, по теперешним обычаям, родителям неведомо. Обо всем этом они узнаю́т последними…
2
Разведочный стан был разбит на пологой террасе широкой, заросшей лесом долины, где виднелись вышки буровых станков, слышался равномерный стук механизмов.
У заверочного шурфа, пройденного над разведочной скважиной, на груде желтого песка и гравия сидели Северцев, Проворнов, Степанов с дочкой и участковый геолог Александр Курилов — высокий брюнет в очках, недавно окончивший Горный институт. Участковый геолог смущенно докладывал профессору, тыча пальцем в планкарту:
— Этот шурф тоже с промышленным золотом… А в седьмом шурфе так сыпануло!.. Проба ураганная… трехзначная! Словом, россыпное месторождение уже можно оконтурить!
Проворнов согласно кивал головой, бегло просматривая колонки цифр на планкарте.
— А коренные месторождения могут быть в этом районе? — спросил он.
Молодой человек только пожал плечами. Руду они не подсекали ни одной скважиной.
— Могут, — уверенно ответил за него Степанов. — Правда, мы пока не подсекали рудных жил, но ведь и бурим мелко, считай — только верхний слой…
Проворнов посмотрел на карту и опять-таки согласился.
Подошел буровой мастер Фрол, держа в руке круглый, схожий с ученическим пеналом кусок молочного кварца, и передал его директору.
— Никак руда? Она самая, ура! Не зря я сюда лучшего буровика направил! С меня магарыч! — закричал Степанов, сгреб в охапку Фрола и поцеловал его в пыльную щеку.
Все оживились, разом заговорили, потянулись к керну.
— Ну, что, Саша, кто оказался прав? — обращаясь к геологу Курилову, спросил Степанов.
— Генезис месторождения… — начал было оправдываться молодой человек, но директор прервал, замахав на него рукой:
— Ты нам, дружок, голову всякими своими генезисами, девонами, палеозоями не захламляй, талмуды твои без техники ничего не стоят. Года три назад здесь была геолог Быкова, она у меня еще на Южном прииске работала, так она сразу сказала: «Бурите глубже и подсечете рудную зону». Даже глубину называла — не менее ста метров, — и пожалуйста, на сто двадцатом подсекли, верно? — доказывал Степанов.
Проворнов внимательно осмотрел через лупу керн, задал несколько вопросов Фролу, поводил карандашом по геологической карте и попросил Степанова срочно отправить кварц на анализ в рудничную лабораторию.
— Пусть этот образец будет без золота или с непромышленным содержанием его, — добавил Проворнов, — важен сам факт подсечения здесь рудной зоны. Считайте, что есть новое месторождение. Как оно, кстати, называется? — Профессор, подслеповато прищурив глаза, поискал название на карте.
— Пока никак не названо, — ответила Светлана.
— Окрестим его Степановским, — предложил профессор.
— Нет, нет, уж скорей Пихтачевским или Быковским, — возразил Степанов и, показав в сторону речной долины, густо заросшей красноватой рябиной, предложил: — назовем его Рябиновым.
Все согласились, и Степанов вывел на планшете красным карандашом: «Рябиновое».
— Разведку нужно вести в глубину! Нельзя бросать такое богатство, сняв с него лишь сливки… Месторождений становится все меньше: после отработки-то они матушкой природой не возобновляются. Их не посеешь, как пшеницу или кукурузу… Металлы уходят из рудных недр и уж больше туда не возвращаются… Ведь никогда не бывало, профессор, чтобы металлы снова превращались в руду? — спросил Степанов Проворнова.
— Вы правы. Все меньше становится «легко открываемых» месторождений, выходящих на земную поверхность. И перед геологами встает сложная задача поисков глубинных — так называемых «слепых» — залежей… У вас, Виталий Петрович, огромный производственный опыт. Идите к нам, в науку, передавайте его молодым!.. Что скажете на это?
Степанов, переглянувшись с дочкой, ответил:
— Однажды я уже был связан с наукой. Увольте!
— Это что-то для меня новое… А ну-ка, расскажи, — попросил Северцев.
Степанов махнул рукой:
— Чего рассказывать-то?.. Написал я несколько лет назад диссертацию — о главных параметрах разработки россыпей. Использовал огромный производственный материал прииска Южного, собранный, когда там работал. Члены ученого совета жали руку, поздравляли… Объявляют результат тайного голосования: «за» — один, и каждый в отдельности соболезнующе шепчет: «Вот негодяи…» Наука не по моей части, мое место — в тайге.
— В нашем институте подобное исключается, смею вас заверить, — сказал профессор. — Но, как говорится, была бы честь предложена…
Спускаясь по лестнице-стремянке, он исчезает в шурфе-колодце. Геологическим молотком Светланы стал отбивать борозду на сыпучей, незакрепленной стенке…
Михаил Васильевич показал Степанову глазами на шурф, укоризненно покачал головой. Но Виталий Петрович сделал вид, что слушает профессора. Проворнов в это время уже объяснял геологу Курилову и Светлане, что они пришли сюда, чтобы безжалостно и любовно, как хирурги во время операции, проникнуть своими инструментами в тело земли… Они буравят ее скважинами, нащупывая залежи ископаемых, они рассекают горными выработками рудные жилы!.. Все дальше и дальше проникают они в глубину, вырывая у природы ее сокровенные тайны.
С особым удовольствием заговорил профессор о своей любимой геофизике: сейсмические методы широко применяются при поисках газа и нефти, магнитометрия — при оконтуривании железных руд, радиометрия — для обнаружения руд урановых… Нужно шире внедрять геофизику и на золоте!
Северцев взглянул на ручные часы. Проворнов понял намек и попросил оставить его с молодыми геологами: чтобы написать заключение о направлении разведочных работ, он должен посмотреть все выработки.
Степанов проводил Михаила Васильевича до своей палатки, а сам, ругая десятника за нехватку крепежного леса, ушел с ним на лесосеку, крикнув на ходу Северцеву:
— Реорганизации там реорганизациями, а дело-то делом!..
Как только Северцев вошел в палатку, снова раздалась телефонная трель. Это Виктор. Интересуется отцовской жизнью. До него дошли слухи, что отец собирается уезжать из совнархоза. Правда ли это?
Михаил Васильевич ответил уклончиво: дескать, все под ЦК ходим, пока ничего определенного сказать возможности нет. В свою очередь спросил: до Зареченска, мол, тоже дошли слухи о серьезном увлечении Виктора Северцева. Если не секрет, кто же она?
В некоей ошеломленности слушая взволнованного сына, Михаил Васильевич в раздумье сказал:
— Да, конечно, я ее знаю. Немного, но знаю. Прошу об одном: не торопись, проверь себя — можешь ли ты быть ей хорошим мужем. Я бы не хотел, Витя, повторения тобою моей судьбы в этом плане… Решать — тебе, к думать перед решением — тоже тебе!
Положив трубку, Михаил Васильевич глубоко затянулся папиросой. Что же такое получается: если у ребят это серьезно, то он, выходит, породнится с Виталием Петровичем… со своим подчиненным!.. Уж хотя бы по этой причине придется бежать из совнархоза!.. Все это, конечно, шутки… А вот как слепится жизнь у ребят?.. И как ему со Степановым, — нет, все-таки действительно, что ли, они станут сватами? — начинать эксперимент, которого он так ждал, о котором теперь как о деле решенном сказал Шахов? Это же может иметь огромное значение, тут люди могут найти ответы на многие беспокоящие их сегодня вопросы…
— Можно? — послышался голос.
В палате появился Филин. Он вертел в руках кожаную папку, и вид у него был несколько смущенный.
— Почему задержался? Или указания начальства для тебя уже не обязательны? — полушутя спросил Северцев.
Филин снял куртку, причесал растрепанные волосы и сел рядом с Михаилом Васильевичем. Нервно откашлявшись, спросил:
— Зачем вызывал сюда?
— Нужно помочь Степанову достроить местную дорогу, здесь будет добывать золото драга.
Филин отрицательно покачал головой.
— Не могу. Автомашины с моего комбината все на уборочной, да тебе драгу строить все равно не разрешат. Я знаю мнение отдельных товарищей, — вздохнув, посетовал Филин.
— Это не твоя печаль, — возразил Северцев.
Филин в ответ лишь пожал плечами и смущенно спросил:
— Скажи честно: ты не дашь согласия на утверждение тебя председателем совнархоза?
— Нет, не дам. Не хочу временной работы, — ответил Северцев, сразу поняв причину его смущения.
— Вызывали в обком и предложили мне, — виновато глядя в глаза собеседника, сказал Филин.
— Неужто согласился? Прямо скажу — не по Сеньке шапка.
— Попросил времени на раздумье. Вот прилетел к тебе за советом. — Пантелеймон Пантелеймонович с облегчением вздохнул: тяготившее его признание позади!
— Эта должность даст тебе, конечно, блага. А даст ли она моральное удовлетворение?
— Полной гармонии в жизни не бывает. Она состоит из мудрых компромиссов и приспособлений, к сожалению. Во всяком случае, из-за какого-то там кокса я бы не стал портить отношения, — не поднимая глаз, ответил Филин, он был доверенным лицом Кускова и потому знал все.
— Что кокс? Местничество страшно! — с горечью сказал Северцев.
Он молча глядел на пылинки, которые плясали в полосе солнечного луча, пробившегося в окно палатки. Филин поерзал на табуретке и продолжал:
— Но нужно не забывать, что на партучете мы тоже состоим по месту… Ты красноречиво молчишь. Я знаю, ты осуждаешь меня. Я знаю тебя!.. И должен сказать, что ты представляешься мне неисправимым мечтателем… И это совсем не плохо!.. Мы все мечтали, и я в том числе… Но надо все-таки помнить, каждому из нас надо помнить, что реальность никогда не соответствует нашим мечтам. Вот если мы эту истину признаем и приемлем, тогда никакое зло в окружающем мире не в силах будет нас огорчить!..
Северцев со все растущим удивлением слушал Филина. Он не верил своим ушам… Он считал Пантелеймона Пантелеймоновича человеком, разумеется, с недостатками, но принципиальным. А сейчас перед ним сидел циничный карьерист, который рассчитывал использовать обреченный совнархоз как трамплин для прыжка в руководящую номенклатуру, и помешать этому прыжку уже было поздно…
Филин уловил настроение собеседника.
— Мечтать-то по нонешним временам недосуг!.. А соглашаюсь потому, что свято место пусто не бывает — я или кто-то другой займет его. И он, и я будем лишь блюсти инструкции, положения, постановления… от них шкафы ломятся на каждом предприятии… В любом циркуляре много, много страниц типографского текста. Убористого! Все поделено на параграфы, внутри каждого параграфа — еще на буквы. Алфавита не хватает, чтобы перечислить все запреты и указания: этого не делай, а это делай!.. Но делай при соблюдении вот таких-то и таких условий. А в других условиях… Словом, запеленут наш брат, как новорожденный. Лучше уж не брыкаться! Молчать! — Филин провел ладонью по лбу, вытирая обильный, липкий пот.
— Поздравляю, — сказал Северцев. — Ты, кажется, переборол самого себя. У меня это не получается.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
После сытного обеда Птицын дремал за своим рабочим столом, предусмотрительно обложив стол пухлыми папками. Остальные три стола, с трудом втиснутые в маленькую комнату, пустовали: двое сотрудников болели, один был в командировке. Поэтому Птицын чувствовал себя сегодня вольготно — как когда-то в кабинете начальника главка.
Мягкое осеннее солнышко приятно пригревало лысину, Александр Иванович разомлел и, закрыв глазки-щелки, погрузился в дрему. Очнулся он от громкого женского голоса. Открыв глаза, увидел перед своим столом маленькую изящную Асю, секретаршу объединения, и незнакомого мужчину с блестящим черным портфелем. Прилизанные металлически-серые волосы, густые брови над синими впалыми глазами, лицо очень худое, кости скул напоминают ключицы. Впалая грудь, впалый живот… Доска доской! Возраст определить трудно, можно дать и тридцать, и пятьдесят. Сух, серьезен, держится с каким-то напряженным спокойствием.
— Александр Иванович, это по вашей части? — Ася передала Птицыну бумажку с десятком разноцветных резолюций.
Птицын быстро пробежал глазами бумажку. Рекламация на низкое качество бурового станка фирмы «Майнинг корпорэйшн».
— Да, сейчас я занимаюсь этими делами, — ответил он, посмотрев на пустой соседний стол: эксперт по оборудованию еще болел.
— Знакомьтесь! Господин Смит, представитель этой фирмы. Александр Иванович Птицын, старший инженер. Я отлучусь на минутку, а вы, Александр Иванович, пока уточните, пожалуйста, претензии к фирме! — С этими словами Ася скрылась из комнаты.
— Господин Птицын? Вам привет от Жана Бастида, — произнес охрипшим голосом пришелец.
Птицын от неожиданности чуть не подскочил. Поспешно придвигая к столу еще один стул, для гостя, тараторил:
— Спасибо за привет! Передайте, прошу вас, от меня тоже. Прошу вас, садитесь! Месье, месье?.. — замялся Птицын.
— Рональд Смит, консультант известной вам фирмы. Приехал по делам фирмы. К сожалению, они идут слабо: контракт с вашей стороны все еще не подписан, — монотонно объяснил Смит.
Птицын откинулся на спинку стула.
— К сожалению, все оказалось сложнее, чем представлял себе месье Бастид.
— Что же?
— У вашей фирмы нашлись серьезные конкуренты. Они предлагают контракт на лучших для нас условиях. Кроме того, на качество вашей продукции нередки жалобы… — Птицын для убедительности постучал указательным пальцем по бумажке с разноцветными резолюциями. — Морально устаревшая продукция, так сказать… — натянуто улыбнулся он.
— Фирма пришлет на Кварцевый рудник своего представителя, и разберемся, кто виноват в аварии станка. Может быть, ваши люди не умеют с ним обращаться и поломали его? — Смит оскалил длинные зубы. — Этот рудник в Сибири? Я бы сам поехал туда, на свою родину, но не имею времени. Я сибиряк, это чистая правда. Мой папа владел там Южными приисками, потом сбежал с Колчаком и японцами во Владивосток, оттуда — в Америку. Мне очень хочется посмотреть на свои прииски. Говорят, там все еще добывают мое золото…
Птицын рассмеялся.
— Ваше? У нас говорят так: что с возу упало, то пропало… Вот как оно получается, господин… сибирский золотопромышленник! Прошу простить эту шутку… Итак, вернемся к нашей злобе дня… Что могу я вам сказать? Вы сами, вероятно, понимаете, что поддержать вас в такой невыгодной для фирмы ситуации трудно. Очень трудно! — Птицын многозначительно кивнул на акт.
— Я был принят сегодня вашим шефом. Он сказал, что теперь все ясно, скоро подпишут контракт, — сухо, чеканя каждое слово, сообщил Смит.
Птицын иронически улыбнулся:
— Тогда ждите. — Он стал перебирать на столе раскрытые папки.
— Месье Бастид рекомендовал обратиться к вам за компетентным советом. Что вы мне посоветуете?
Дверь открылась, вошла курьерша и, положив на стол две бумажки, внимательно оглядела посетителя. Расписываясь в ее тетрадке, Птицын нарочито громко сказал Смиту:
— Как сказал вам мой шеф, нужно ждать!
Когда дверь за курьершей закрылась, явно взволнованный Александр Иванович сказал:
— Вам сюда больше не следует заходить, господин Смит…
— А как я смогу вас повидать? — понизив голос, спросил Смит. — Я имею передать небольшой сувенир от Жана Бастида.
— Подарка я не возьму. Прошу вас не затруднять себя. Всего хорошего! Позвоните, прошу вас, через несколько дней. Может быть, появятся новости.
Взявшись за дверную ручку, Смит остановился.
— Чтобы потом долго не объясняться по телефону, может, мы сейчас условимся о часе и месте встречи?
— Господин Смит, вы разве не поняли? Встречаться нам никакой надобности нет. — Птицын нервно крутил пуговицу своего пиджака.
Но отделаться от гостя было не так-то легко.
Дверь открылась, и запыхавшаяся Ася спросила:
— Рекламацию обсудили?
Смит утвердительно кивнул головой. Птицын промолчал, сосредоточенно роясь в папке.
— Я провожу вас, — сказала Ася Смиту и первой вышла из комнаты.
— До свидания, господин Птицын. — Смит поклонился и вышел вслед за Асей.
— Прощайте!.. — выдавил из себя Птицын, когда дверь уже захлопнулась.
Александр Иванович не на шутку расстроился. Этот Смит пытается втянуть его в опасную игру. Это что, детская забава — какие-то сувениры, встречи? Ишь, заранее все придумал… Ох, смахивает это на детективный роман. Это хорошо смотреть по телевизору… Следует пойти к шефу и в партком — рассказать, как и что, но превратив все в шутку. А как сделать из этого шутку? И требуется ли торопиться? Не поздно будет и завтра. Не поздно и завтра. Не поздно ли? Кто бы посоветовал, научил уму-разуму? Интересно, а что за подарок прислал Бастид? Правильно ли было отказываться от сувенира? Конечно, Птицын знал, что этого требует долг. Но искал оправдания, убеждая себя в том, что тут нет ничего противозаконного. Личные подарки вправе принимать любой. И распоряжаться ими по своему усмотрению. Ох, подарки, подарки…
— Александр Иванович, нет ли у вас экземпляра стенограммы встречи с английской фирмой? Нигде, ну нигде не можем найти!
Это еще раз вошла Ася. Хорошая девчонка! Это же надо так — неизвестно для чего приподнять пальчиками, этак легонько, длинную черную челку, едва не закрывающую глаза. Не поймешь, что обозначает такой жест, а красиво! Капризно как-то…
— Стенограммы нет. Конфетку — пожалуйста. — Александр Иванович выдвинул ящик стола.
— Дайте лучше сигаретку! Вчера был прием поляков, перебрали лишку, голова как чугун, не дождусь, когда рабочий день кончится. — Она села на стул, одернула рукой короткую юбку, открывающую длинные, стройные ноги. — Спасибо! А почему вы на приемы не ходите?
— Когда-то ходил, а теперь не положено по должности. Кстати, как там дела насчет подписания контракта с французами? В чем задержка? — безразличным тоном спросил Птицын.
— А зачем это вам знать? — погрозив ему пальцем, в свою очередь спросила Ася.
— По старой дружбе мне звонил по телефону из Восточного совнархоза Северцев и спрашивал, когда начнутся поставки импортного оборудования. Обозвал меня, конечно, бюрократом: дескать, срываются все планы подготовительных и добычных работ. Ну, я и обещал выяснить, — непринужденно импровизировал Птицын.
— Я знаю, что контракт готов к подписи, в цене наконец сошлись. Но загвоздка в каких-то процентах: наши настаивают на десяти, французы соглашаются только на пять. Сегодня я сама слышала, как шеф распорядился еще раз поторговаться и, если французы упрутся, принять их условия: нам очень нужно их оборудование, и дальше тянуть нельзя. Так что можете обрадовать приятеля: скоро получит свое оборудование! — Ася встала, погасив о край пепельницы недокуренную сигарету.
— О рекламации шефу докладывали? — поинтересовался Птицын.
— Это уж лучше сделаете вы сами. — Ася зевнула и прикрыла красиво нарисованный ротик тонкими длинными пальцами.
— Вначале нужно разобраться. Вызвать их представителя. А то, может, мы сами угробили станки? Так-то вот. А вы весело живете, спать, видать, некогда? — с улыбкой заметил он.
— Квартиру получила, гости замучили, — ответила Ася.
— Пригласили бы на чаек!
Ася с удивлением посмотрела на него.
— Некогда и чаю попить! Нужно приводить квартиру в порядок, доставать всякие вещи… Одним словом, морока. — И ушла.
Птицын откинулся на стуле и заложил руки за голову.
Ну как правильно решить задачу? Докладывать шефу о плохом оборудовании фирмы Бастида и этим сорвать контракт? Честно, но бездарно. Проще — затерять бумажку, она адресована не ему, а отсутствующему сейчас соседу, и ждать развития событий, — может быть, и благоприятных наконец для него, Птицына? Ведь жизнь давно его не баловала. Считай, с того самого времени, когда получился этот прокол с «делом Северцева», обернувшийся прямо-таки катастрофой… А уж как все было ладно задумано! Вот, еще и еще раз скажем: воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь… А что бы эта-кое-такое принести этой куколке к чаю, когда она позовет?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Виталий Петрович шел по главной улице Зареченска и, останавливаясь у телефонных будок, безрезультатно звонил в общежитие Светланы и в приемную первого секретаря горкома партии Рудакова — первый телефон молчал, по второму отвечали, что товарищ Рудаков выехал в организации.
Зареченск, когда-то заштатный городишко с грязными, кривыми улицами и приземистыми деревянными домиками, уже на памяти Степанова превратился в крупный промышленный и культурный центр огромного сибирского края. Степанов видел прямые проспекты с новыми высотными домами, зеленые бульвары и скверы, яркие витрины магазинов, красочные рекламы кинотеатров, бегущие троллейбусы, автобусы, такси, потоки людей на улицах. Ему казалось, что он попал чуть ли не в столицу.
Зайдя в универмаг и выполнив поручения жены, Степанов вышел к площади Гагарина. У магазина «Гастроном» резко затормозила черная «Волга», и кто-то окликнул:
— Виталий Петрович!.. Сколько лет, сколько зим!..
Обернувшись, Степанов увидел вылезающего из машины Рудакова. Рудаков обнял Степанова, потом долго тряс его руку.
— Сергей Иванович, а я тебе сегодня полдня звоню!.. Все молодеешь и модничаешь? — пошутил Степанов, оглядывая белого как лунь Рудакова.
Сергей Иванович кивнул головой и дружески улыбнулся, видно было, что он очень рад встрече.
— Приехал с Кварцевого для «разгона». — И Степанов подробно рассказал о встрече с Северцевым в геологоразведочной партии… — Мужик-то он дельный, сам все понимает и переживает, а нахлобучку для галочки, как мероприятие, провернул, — смеялся Степанов.
— А ты, сев в его кресло, разве иначе поступил бы? — спросил Рудаков. И, взяв Степанова под руку, рассказал: — Северцев хороший работник, хороший специалист, хороший человек. Но живет трудно. Достается ему и в обкоме с тех пор, как отказался от председательского кресла. Очень принципиален во всем, а не каждому начальнику такие нравятся. Наверное, скоро уедет от нас…
Они вошли в магазин, прошли по всем отделам. Рудаков интересовался ассортиментом товаров, спросом. С ним охотно беседовали продавцы: его хорошо знали.
— Бедноват выбор, хотя товары на базах есть, я только что оттуда. Ссылаются на транспорт, Иван кивает на Петра, — рассказал Рудаков Степанову.
У входа в магазин, на улице, с лотка продавали молоко. Стояла очередь.
— В этом году дела в нашей области идут туго. Обком, на мой взгляд, слишком увлекается резолюциями и постановлениями, а землю ими одними не поднять, ей любовь и руки людские нужны, — в раздумье проговорил Сергей Иванович.
Подошли к машине. Рудаков открыл дверцу, сказал шоферу:
— Поезжай домой, отпускник, мы пройдемся пешочком. Как, Михаил Иванович, отдыхалось-то? Где был?
— На родине, в нашей области, — ответил загорелый парень.
— Как в вашей деревне живут? — спросил Виталий Петрович.
— Не совсем ладно, — ответил уклончиво шофер.
— Все время реорганизуемся, хлеб сеять некогда? — усмехнулся Степанов.
— Это вы верно подметили… Мне в деревне одну рыбацкую байку рассказывали! Был в селе, значит, маленький пруд, и водилась в нем маленькая рыбешка — караси, пескари, плотвичка. Люди тамошние ловили рыбку — когда сетью, когда бреднем, иной раз верши ставили, — значит, соображали, как лучше, и завсегда с рыбешкой бывали. В недобрый час задумало начальство усовершенствовать, значит, ловлю и разослало бумагу: всем рыбакам ставить переметы, острожить и ловить на спиннинг. Рыбаки плачутся: дескать, карась и тот же пескарь на живца не клюют, а хищной рыбы в нашем пруду нету… А им приказ: ловить, как сказано в бумаге! Так, мол, один ученый рыболов велел!
Степанов рассмеялся.
— Так, так, рассказывай дальше! — подбодрил он умолкнувшего было шофера.
— Ну, тут же план спустили — касаемо живцов и крючков, отчетность завели, сводки в кратчайший срок строжайше справлять стали. Начали рыбаки с острогой на пескаря ходить, на плотву переметы ставить и, главное, сводки слать. Рыбацкое начальство довольно, хвалит. В общем, все хорошо, только рыба не ловится. И рыбаки стали в лес глядеть, на охоту собираться. А другие верили, что придут люди добрые и скажут: «Вы рыбаки, вам и сети в руки, сами решайте, как лучше ловить, но чтобы рыба была…» Ну, извиняйте! — Шофер поднял на прощанье руку и осторожно тронул машину с места.
Рудаков со Степановым обошли вокруг площади и направились к новому, из стекла и алюминия, двухэтажному зданию, на котором горела неоновая вывеска: кафе «Самородок».
— К сожалению, у нас еще немало людей, которые преуспевают только на почве бюрократизма. Кстати, ты замечал, что он состоит в интимном родстве с невежеством?.. Трудно себе представить маститого ученого в роли бюрократа, правда, Виталий Петрович? Эрудированный человек не боится чего-то не знать. А сегодняшний бюрократ больше всего боится уронить свой престиж и обнаружить невежество… поэтому на всякий случай знает все. Особенно охотно участвует он в любых реорганизациях… Зайдем, посмотришь новое кафе, только на днях открыли, — предложил Рудаков.
— Зайдем.
Степанов с интересом рассматривал на стенах просторного вестибюля мозаичные панно с сюжетами из приискательской жизни. На одном — здоровенный бородатый бродяга, стоя по колено в желтой жиже, держал в высоко поднятой руке огромный золотой самородок.
— Все еще о фарте мечтаем, — усмехнулся Рудаков, поднимаясь по широкой лестнице в зал, уставленный рядами красиво убранных столиков.
Выбрали столик, сели. На все заказы — боржома, виноградного сока, кофе — молодая официантка лаконично отвечала «нет».
— Что же есть? — поинтересовался Рудаков.
— Коньяк, — ответила девушка.
Рудаков вызвал директора. Толстяк извинился и сообщил, что уже послал в гастроном за боржомом. И тут же, защищаясь от рудаковского попрека, принялся с горячностью доказывать, что выполнять план товарооборота он не сможет чаем ценой в три копейки стакан. Вот коньяк — другое дело.
Рудаков повел беседы с другими работниками кафе, а Степанов в это время прохаживался по залу, все любуясь красочными панно, пытавшимися передать романтику геологической разведки.
Когда выбрались на улицу, Сергей Иванович стал рассказывать о новостройках города, показывал, где будут стоять новые здания — строительного института, городской филармонии, кондитерской фабрики, где будет разбит новый сквер, где выроют пруд…
— Как я тебя помню, ты все такой же — всему миру печальник, — проговорил Виталий Петрович.
— Должность у меня такая, как бы тебе сказать… сердечная, — нашел слово Рудаков и молодо рассмеялся. А потом насупился. — Откровенно скажу — тяжело мне достается, нет еще контакта с некоторыми членами бюро горкома. Они меня не всегда понимают, а я их подчас понять не могу. Что-то вроде разговора между глухими получается. Наверное, сказывается инерция прошлого…
Долго шли молча. Сергей Иванович что-то насвистывал и, казалось, забыл о своем спутнике. На улице было пустынно, редкие машины шуршали по асфальту да иногда с визгом тормозили перед светофором.
— Сергей Иванович, — прервал молчание Степанов, — вот ты мне тут рассказывал про свои служебные дела, а как семейные-то?
— Это дела сложные. Их тоже постановлениями не урегулируешь. Мамаша моя — ты ее помнишь?..
— Как же не помнить Варвару Сергеевну?..
— Совсем плоха, полгода в больнице уже.
— Что с ней?
— Куча болезней и, конечно, возраст… Жена все по заграницам мается. Словом, пока бобылем живу. Валька меня беспокоит — учится плохо, футбольный мяч гоняет. Вечерами приходит домой навеселе, компанию стал водить с лоботрясами. А ты по-старому ершишься или убрал колючки? — тепло улыбаясь, спросил Рудаков.
— Успокоился, как смыли клеймо вражьего сына. Ты помнишь, что мой отец, старый чекист, пострадал невинно? Помнишь, как ты передал мне на Южном извещение прокуратуры и сказал: «Ударили по своему»? Ершился я тогда еще и потому, что тоже удара ждал. Спасибо тебе, оберегал меня. Это не забывается.
— Да, трудное время пережили, — задумчиво ответил Сергей Иванович.
Они подошли к пятиэтажному дому. Поднялись на третий этаж, Сергей Иванович отпер ключом дверь. В прихожую вышел русый, с волнистой шевелюрой, паренек. От него попахивало вином. Сергей Иванович молча прошел в столовую. Валентин виновато посмотрел на него и, понурив голову, попытался скрыться в своей комнате.
— Здравствуй, Валя! Ты что, не узнал? — вернул его Степанов. И, взяв за плечи, спросил: — Что с тобой?
— Ничего! Только, прошу вас, не говорите, что я на Южном был пай-мальчик, а теперь стал бякой! — с вызовом ответил Валентин и ушел в свою комнату.
— Смотреть бывает противно, а слушать — и того хуже… — проронил Рудаков, отправляясь с чайником на кухню.
— Не ругай его, — заступился Степанов.
— Утром отругал. Не знаю, что делать с парнем… Беспокоят меня его взгляды на жизнь. Я бы назвал их потребительскими, что ли… Рос без матери, а я был вечно занят, приходил домой, когда он спал. Бабушка избаловала его своей любовью…
Рассказывая о своей боли давнему другу, Сергей Иванович снова и снова, в который уже раз, мысленно допрашивал себя: а может быть, все-таки причина разлада с сыном — решение соединить свою судьбу с Екатериной Васильевной?.. Ревность сына?..
На стене висел групповой снимок выпускников Уральского медицинского института. Там среди многих лиц счастливое, смеющееся лицо Зины, жизнерадостное, нежное. В верхнем левом ящике письменного стола лежал пожелтевший конверт с номерным штампом воинской части. Этим письмом командование с прискорбием извещало о гибели на боевом посту капитана медицинской службы Зинаиды Рудаковой. Письмо нашло Сергея Ивановича в госпитале под Кенигсбергом, двадцать лет тому назад…
— Как поживает Екатерина Васильевна? Помню, как ее провожали на Южном… — сказал Степанов.
…Геолог Катя Быкова уезжала с Южного прииска за границу, и ее пришли проводить все геологи и горняки. Легковая машина утопала в цветах, кругом раздавались задорные молодежные песни. Прощались шумно… А последним расставался с ней Сергей Иванович. О чем говорили они, Степанову не было известно, но уже тогда стало ясно, как дороги они друг другу. Разошлись провожавшие, скрылась из виду и машина, оставив за собой на дороге чуть заметную серую струйку пыли, а Рудаков все стоял и смотрел, смотрел ей вслед…
Сергей Иванович отвернул кран, налил в чайник воды, зажег газ, поставил чайник на конфорку.
— Работала в Чехословакии, потом в Болгарии. А теперь — в Мавритании. Знаешь такую страну?
— Мавританию? Ну, это где-то в Западной Африке. Кажется, богата недрами — вот, собственно, и все, что знаю. Зачем Екатерину-то Васильевну туда понесло? Что, мужиков не могли подобрать?
— Ну, характер Катин помнишь? Потому и отправилась, что в этой стране никогда не был ни один русский и ни один советский человек! — усмехнулся Сергей Иванович.
— Все ясно.
— Пока я тут собираю ужин, на, читай, от тебя секретов нет, — передавая письмо, предложил Сергей Иванович.
Виталий Петрович взял письмо, но читать медлил. Вспомнилось первое появление Кати Быковой на руднике Новом, сразу же после студенческой скамьи, первый «любезный» разговор с ней о работе: шахта, мол, не детский сад… или что-то в этом роде! Потом совместная работа на Южном, стройка рудника, Миллионный увал, пропажа Кати, розыски, переживания Рудакова. Можно не сомневаться, они уже тогда любили друг друга! Ну, о чем же она пишет ему теперь?.. Степанов стал читать вслух:
— «Мой дорогой Сережа! Неожиданно выяснилось, что в отпуск к тебе я не еду, а срочно лечу в Мавританию в числе советских экспертов, выезжающих туда впервые. Нам предстояло лететь в неизведанную страну, и это настораживало и заинтересовало.
Уже на парижском аэродроме Ле Бурже мы почувствовали близость Африки — здесь встречалось много пассажиров с сине-черной кожей. С Европой попрощались на марсельском аэродроме и через пять ночных часов приземлились в Дакаре.
В аэровокзале, где мы ждали мавританский самолет, в откидных удобных креслах читали толстые газеты пожилые белые господа с прилизанными волосами и нафабренными усиками. В баре, разукрашенном бутылками с пестрыми наклейками, вертлявые белые девицы в высоких, до колен, сапогах и с невероятно пышными прическами пили соду-виски. А чернокожие пассажиры сидели на полу, поджав к подбородку колени…
Пишу тебе, мой дорогой, так подробно умышленно: не знаю, удастся ли мне еще отправить тебе отсюда весточку.
Мавританцы говорят, что аллах наделил их в избытке лишь солнцем и песком. За два месяца мы не видели на небе ни одного облачка, и нас всюду преследовали пески — ведь почти вся территория страны покрыта ими.
Народное хозяйство страны находится на уровне XII—XV веков. В сельском хозяйстве и сейчас основное орудие производства — кол, им мавританец пробивает ямку, в которую бросает пару семян, — вот и вся агротехника!
В стране нет дорог, нет театров, клубов, кино, стадионов, они имеются лишь на французских предприятиях. Много неграмотных и мало школ, высшего учебного заведения нет ни одного. Почти нет больниц, широко распространены различные болезни, в том числе туберкулез. У большинства мавританцев нет жилья, ютятся в палатках, нет электрического света, воды, топлива. Всему сказанному, я понимаю, нам трудно поверить…
После каждой поездки по стране мы возвращаемся в столицу для знакомства с геологическими документами. К сожалению, это нелегко сделать: французские советники не торопятся с выдачей нужных материалов или просто не выдают их без объяснения причин. Когда закончится эта игра в кошки-мышки, сказать трудно. Но работу мы обязаны выполнить в полном объеме, — нам хочется помочь мавританцам. Отчаянно тянет домой. Иногда вечерами, когда остаюсь одна, хочется, глядя на луну, завыть по-собачьи от тоски. Только здесь, на чужбине, я по-настоящему поняла, что значит для меня родина…
Я хочу, чтобы эта наша разлука стала последней…
За меня не беспокойся, все будет хорошо. Нежно обнимаю. Твоя Катя.
P. S.
Разведал ли Виталий Петрович «мое» месторождение? Передай ему от меня большой привет и скажи: вернусь — обязательно доразведаю».
Степанов аккуратно сложил странички письма.
— Узнаю Екатерину Васильевну.
— Вот жду, теперь скоро вернется, — рассеянно ответил Рудаков и улыбнулся.
Накрыв на стол, он подошел к комнате сына, постучал, позвал ужинать. Но Валентин уже спал или притворился спящим.
— Вот так и живем, — опускаясь на стул, сказал Сергей Иванович и разлил по рюмкам вино.
— Не объезженный еще, обкатается… Ну, со свиданьицем, старина!
Чокнулись, выпили. Степанов задумался, и ему стало немного жалко этого доброго человека с не совсем уж доброй судьбой.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Георгиев прилетел в Париж хмурым утром, и огромное бетонное поле аэродрома Ле Бурже, залитое дождем, показалось ему стеклянным. С какой-то внезапно возникшей нежностью окинул он взглядом полупустой салон Ту-104, последнюю пядь родной «земли», и спустился по трапу.
Он был высок, строен, на вид можно было дать лет пятьдесят. Коротко остриженные черные волосы аккуратно зачесаны назад, лоб с залысинами, лицо продолговатое, нос длинный, с горбинкой, глаза большие, слегка выпуклые, серые.
— Вы Василий Павлович Георгиев? Из консульского отдела МИДа? — остановил его у стеклянной двери измокшего аэровокзала низкорослый, с окладистой седой бородой человек, державший раскрытый черный зонт.
— Да. А вы кто, простите?
— Разрешите представиться: Воронов Сергей Владимирович, переводчик из консульства, — крепко пожимая руку Георгиева, ответил незнакомец.
— Спасибо, что встретили, — улыбнулся Георгиев, проходя в маленький зал ожидания.
У контрольного выхода полицейский чиновник внимательно перелистал его паспорт, долго смотрел на въездную визу французского посольства в Москве и наконец, поставив свой штамп, вернул документ.
Георгиев и Воронов прошли ярко освещенный вал, где гость взял с конвейера чемодан, и очутились на улице. Здесь среди сотни разноцветных машин Воронов отыскал голубую «Волгу» и сел за руль. Георгиев занял место рядом. Дождь усиливался, вода заливала стекла машины.
— Не бывал я до сих пор в Париже, а приехал — ни черта не видно! — посетовал Георгиев.
— Не огорчайтесь, еще успеете устать от Парижа! — утешил Воронов, ловко выруливая из автомобильного потока в маленькую пустую улочку. — Я вас отвезу сейчас в отель «Модерн», что у знаменитых Больших бульваров, о которых французы говорят: «Когда богам становится скучно на небе, они открывают окошечко и смотрят на парижские бульвары»… Приведете себя в порядок, а через два часа я буду у вас.
В вестибюле отеля было шумно. Большая группа туристов — судя по говору, американских — оформляла номера, туристы толкались у меняльной кассы, внимательно пересчитывая бумажки, мелочь, спешили к киоску с сувенирами, громко смеялись над брелком для автомобильного ключа в виде ночной посудины… Все курили, окурки бросали прямо на пол. Не стесняясь выражали свое удивление библейской бородой Воронова…
— Янки держатся как у себя дома, — сказал Воронов, вручая Георгиеву тяжелый бронзовый ключ.
Номер оказался небольшим, но уютным. Был обставлен старинной, в позолоте, мебелью. За окном блестели мокрые черепичные крыши с оконцами мансард и чердаков.
Убрать номер еще не успели, в нем все оставалось так, как было при уехавшем постояльце. Пришедший администратор извинился:
— Как на грех, болеют горничные! Но через несколько минут номер будет убран.
Георгиев оглядел комнату и подумал: человек, проведя в комнате хотя бы день, оставляет в нем частицу своего характера.
Усевшись в кресло, он попытался представить себе образ своего предшественника. Он живет, наверное, в Лондоне — на столе лежала оборванная книжечка с одним оставшимся билетом Лондонского метро. Под столом, на ковре, валялось недописанное письмо. Его писали по-английски:
«Дорогая Жозефина! Дела с покупкой товаров заканчиваются успешно. Думаю на этой неделе заработать тебе виллу. Здесь во время летних отпусков ужасная скука, хочется скорее домой. Купил тебе в Лувре славный парижский подарок, но не скажу, какой, — попробуй догадайся! Писать кончаю, пришел старина Мишель Кроше, ты его должна помнить. Извини, но бизнес прежде всего…»
Его счастье, что Жозефина не приехала к нему внезапно, чтобы развеять скуку. В гости к нему приходил не старый коммерсант. Это была блондинка (около тумбочки Георгиев заметил заколку с запутавшимися в ней белыми волосами), которая пользовалась яркой губной помадой — кончик сигареты в блюдце и край коньячной рюмки были красными. Они пили мартель и шампанское. На окошке стояли пустые бутылки и ведерко для льда. Ее, наверное, зовут Сюзанной. На почтовой бумаге это имя выведено несколько раз. В Сюзанне чувствовался опыт, она не напилась, что могла бы сделать начинающая девочка. Рюмка ее была пуста, но от вазы с гвоздиками попахивало коньяком. А вот его предшественнику не следовало злоупотреблять коньяком: видать, утром встал с тяжелой головой — таблетки от головной боли он забыл на ночном столике.
Георгиев включил электробритву и долго водил ею по обветренному лицу. Прочищая бритву, сдул с ножей порошок из седых волос, похожий на пепел, и, невесело усмехнувшись, подумал: «Сгораем постепенно!» Что-то хрустнуло под ногой. Судя по обертке, он раздавил пилюлю от желудочной боли. Его предшественник на каждом шагу напоминал о себе.
2
Ровно через два часа появился Воронов в элегантном темном костюме. Они спустились в ресторан.
Мрачный, без единого окна, зал. Зеркальные стены отражают тусклые старинные люстры, пустые столики и около них официантов в черных фраках.
— Я только что с вокзала, встречал еще одного своего подопечного, — говорил Воронов, разливая вино по бокалам, — кстати, он ваш земляк, москвич.
— Хлопотная у вас должность, Сергей Владимирович: каждого встреть, устрой, покажи город, помоги в делах. А тут уже сразу двое пожаловали, один за другим, — сказал, улыбаясь, Георгиев.
— Я очень люблю свою работу. Это ниточка, связывающая меня с родиной. Я вырос во Франции, воевал за ее свободу в Сопротивлении, но никогда не переставал мечтать о возвращении в Россию, всегда чувствовал себя русским. Думаю, моя мечта скоро осуществится. Вот я гляжу на вас и думаю: передо мной человек, который еще утром ходил по Москве.
— Я вас очень хорошо понимаю. — Лицо Георгиева стало задумчивым и почти строгим. — Человеку нельзя без родины.
Они помолчали, думая каждый о своем. Потом Георгиев улыбнулся, поднял свой бокал.
— Вот и давайте выпьем за родину. Пусть первый наш тост здесь, в Париже, будет за нее, за нашу с вами родину.
Они выпили стоя. Вино понравилось Георгиеву, он наполнил бокалы вновь.
— Жаль, что профессора Проворнова мне пришлось отвезти сначала к этому Бастиду, — говорил Воронов, смакуя вино, — очень симпатичный старик, но, знаете ли, немножко не от мира сего, как все ученые.
— Профессор Проворнов? Знакомая фамилия. Он медик?
— По-моему, он геолог. Его пригласила «Майнинг корпорэйшн». Это довольно солидная фирма по производству и продаже горного оборудования, со смешанным капиталом. Сегодня я познакомился с месье Бастидом, президентом ее французского отделения. Мне он показался занятнейшим субъектом.
— Чем же он вас так заинтересовал? — спросил Георгиев, протягивая собеседнику пачку советских сигарет. — Прошу.
— О, спасибо, это превосходные сигареты. — Воронов с удовольствием затянулся. — Видите ли, Василий Павлович, торговля — это прекрасно, это мир, деньги, хорошая жизнь для народа. Но чем больше дельцов едет в Россию, чем шире она открывает двери, тем чаще среди людей, устремляющихся туда, можно встретить довольно пеструю публику, кого угодно — от реакционных философов и литераторов до матерых разведчиков.
— Ну, а этот месье… Бастид? Кто же он, по-вашему, философ или делец? — Георгиев улыбнулся. — Сдается, вы к нему испытываете нелюбовь, не так ли?
— Да, не скрою, он мне не понравился. Я не люблю людей, которые не смотрят в глаза и слишком много говорят. Да и помощники у него эдакие молчаливые, широкоплечие парни, напоминающие скорее персонажей гангстерских фильмов, чем горных инженеров. Одним словом, мне как-то стало тревожно за Проворнова. Он так по-интеллигентски благодушен. Вот вы увидите его и поймете, что я имею в виду. Для собственного удобства и поселил его в этом же отеле.
Когда они вышли на площадь Республики, над ними синело небо. «Волга» помчалась по Большим бульварам. Воронов перечислял их названия, давно знакомые Георгиеву по книгам французских классиков: бульвар Сен-Мартэн, бульвар Севастополь, бульвар Сен-Дени, улица Ришелье, Итальянский бульвар. На оживленной площади Воронов остановил «Волгу».
— Вот она, знаменитая Гранд-Опера. Правда, чем-то схожа с Мариинкой? Впрочем, я никогда в Мариинке не бывал, возможно, и путаю, — с грустной ноткой в голосе признался Воронов.
— Прошу снизить темп осмотра! Все мелькает, как в калейдоскопе, — взмолился Георгиев.
— Темп туристский, иначе и бегло ничего не увидите. А Парижа вы все равно знать не будете. Не знаю его и я, хотя живу здесь всю жизнь, — ответил Воронов, плавно трогая машину с места.
Узенькая улочка Гренель, старый особняк с маленьким внутренним двориком.
— Я подожду вас здесь, — сказал Воронов.
Георгиев кивнул и зашагал к главному входу советского посольства. Вернулся он через полчаса, озабоченный, и молча сел в машину.
Они влились в разномастный поток автомобилей, который впереди растекался на несколько рукавов. Вскоре показалась величественная площадь Согласия.
Воронов остановил машину у фонтана.
— Осмотр Венеции принято начинать с моста Риальто, на Рим смотрят обязательно с холма Пинчо. Знакомство с Москвой начинается с Красной площади, с Парижем — непременно с площади Конкорд. Она прекрасна, не правда ли, Василий Павлович?..
Георгиев пощелкал фотоаппаратом, и они поехали дальше. Остановились у красного светофора, Воронов обернулся к Георгиеву.
— Сегодня от вас я поехал в фирму и там случайно услышал, что Смит, видимо, готовит какую-то, мягко выражаясь, проделку с профессором Проворновым, — озабоченно предположил Воронов.
Георгиев в ответ пожал плечами.
Быстро смеркалось. Потянуло влагой, по реке Сене медленно плыл освещенный пароходик чуть побольше московского речного трамвая. Слышалась музыка, смеялись люди: туристы «работали» и вечером.
— Я угощу вас старым бургундским, которое можно достать только в одном кабачке — «У Пирата», — резко поворачивая руль, предложил Воронов.
Вдалеке, подсвеченный прожекторами, собор Нотр-Дам де Пари казался сказочно прекрасным. Освещенная Эйфелева башня горела, словно золотая стрела, готовая к полету.
А вот и маленький кабачок, на вывеске которого красуется одноглазый разбойник.
В крохотном зальчике кабачка почти впритирку стояли четыре пустых столика. За дубовой стойкой, опустив голову на грудь, дремал старик. При звоне дверного колокольчика он встрепенулся, поклонился посетителям и деловито начал протирать полотенцем стаканы. Гости сели против телевизора. На его экране мужчины в черных масках, стоя на карнизе высокого дома, стреляли друг в друга из пистолетов. Один из них схватился руками за живот, но не упал — гангстерский фильм перебила рекламная передача о зубной пасте. Воронов переключил на другую программу: из мюзик-холла передавали стриптизный номер — девица неопределенного возраста раздевалась перед телекамерой.
— Уж извините старого греховодника. Беспутство от безделья.
— Вам ли просить извинения за беспутство, вы же коренной парижанин! Расскажите о себе, — попросил Георгиев.
— Родился здесь в декабре семнадцатого года: отец эмигрировал во Францию сразу же после Октябрьской революции. Он был известным ученым, профессором Петербургского университета. Либерально настроенный, он восторженно приветствовал падение самодержавия. У меня сохранился его красный бант, который он носил на отвороте пальто в февральские дни, сохранилась фотография трибуны с трехцветными знаменами и лозунгами в защиту Керенского и Учредительного собрания. Свою революционную деятельность отец закончил поспешным бегством на извозчике по темным улицам Петрограда к Финляндскому вокзалу…
— И как же дальше складывалась ваша жизнь? — спросил Василий Павлович.
— Как? Отец все ждал скорого падения узурпаторов-большевиков и нашего возвращения на родину, да так и не дождался. Вспоминая сейчас отца, я вижу, что это был типичный российский интеллигент своего времени, без устойчивых убеждений… И вот передо мной встал вопрос — подпевать в эмигрантском хоре или петь своим голосом? Решаться было нелегко, с ними многое связывало: общая судьба, личные отношения, привязанности, словом, чужбина. Но я порвал со всем, что было моим прошлым, твердо решив сделать все, чтобы вернуться на родину.
Воронов замолк. Георгиев налил в стакан вина.
— Простите… Всегда очень волнуюсь, как вспоминаю об этом. Ну вот. Теперь следуют иные, более легкие этапы моей биографии. Когда начиналась гражданская война в Испании, я, еще мальчишкой, сразу же записался в Интернациональную бригаду и уехал в Мадрид. Воевал вместе с русскими. Под Гвадалахарой меня ранило, но я был счастлив — каждый прожитый день сближал меня с отчизной. После поражения республиканцев бежал из Испании, и мне досталось, разумеется, солонее других: «человек без родины». Уехать в Россию не удалось. Вскоре вспыхнула вторая мировая война. Петэновская Франция была разбита в две недели, но началось упорное сопротивление французского народа. Возглавили его коммунисты, и я пошел к ним — Испания многому научила, выбирать позицию мне не требовалось. В нашем отряде маки́ сражались бежавшие из гитлеровских лагерей советские люди. Они уверяли меня, что после воины мне разрешат вернуться на родину, ведь я завоевал себе ото право. И это право за мною признали, только значительно позже. Теперь я советский гражданин, скоро осуществится мечта моей жизни — я уеду на родину.
Чтобы не смущать его, Георгиев старался не глядеть на его взволнованное лицо, на увлажнившиеся глаза. Подумал: вот как добывается ранняя седина…
— Я уверен, что будет так, Сергей Владимирович. Я помогу вам, это по моей части, — сказал он.
— Еще недавно мне казалось, что это невозможно… — проговорил, поднимаясь, Воронов. — Мы опаздываем в театр.
3
Воскресным утром, когда Проворнов спустился в ресторан, там царило нервное возбуждение — все обсуждали какую-то тревожную новость.
Знакомый официант приветствовал его и о чем-то быстро, возбужденно заговорил, тараща глаза и взмахивая руками. Семен Борисович уловил слова: «ОАС», «бомба» — и понял, что французские фашисты устроили еще какую-то провокацию.
В зал вошел щеголеватый, праздничный Бастид, держа в руке пачку воскресных газет.
— Доброе утро, профессор! Вы уже слышали о покушении на господина президента? И на этот раз с ним обошлось все благополучно, он у нас заколдованный! — шутил Бастид, перелистывая «Юманите диманш». И без всякого перехода спросил: — Почему все-таки месье Птицын не приехал? Мы приглашали и его.
Проворнов недоуменно пожал плечами. Он действительно не знал, почему Птицын не воспользовался приглашением.
Сели за столик. Теперь Проворнов задал вопрос:
— Вы читаете коммунистическую прессу в силу ваших убеждений или из деловых соображений?
Бастид пригладил пальцами редеющие, тщательно прилизанные черные волосы с широким пробором посредине.
— Вы, русские, в своих суждениях очень прямолинейны: по одну сторону вашей линии все хорошо, а по другую — плохо. Черное и белое. Но существуют ведь и еще краски. Как вы могли заметить, я сторонник новой теории «интегрального общества». Приверженцы этой теории склонны думать, что если мир избежит новых уничтожительных войн, то господствующим типом общества и культуры, видимо, будет не коммунистический и не капиталистический, а своеобразный гибридный тип, который мы сможем назвать интегральным. Он будет средним между капиталистическим и коммунистическим образами жизни. Он будет объединять наиболее положительные ценности и будет свободен от серьезных недостатков обоих типов. Так я пытаюсь представлять себе завтрашнее человечество… — миролюбиво заключил Бастид, намазывая джемом кусочек булочки. — Что меня укрепляет в моей вере? Вот мы с вами, два человека, представляющих столь различные социальные порядки, сидим за одним столом в парижском ресторане, так же, как недавно сидели в московском ресторане, и сидим потому, что нуждаемся друг в друге, в каком-то смысле мы дополняем друг друга… Я считаю, что лучше сидеть за столом, чем лежать в окопах… тем более с моей фигурой! — Бастид, хохоча, похлопал себя руками по круглому животу.
Они вышли на пустынную площадь.
— Поразительная тишина. В чем дело? — спросил Проворнов.
— Сегодня люди спят долго после самого длинного дня — субботы, ведь она тянется до самого воскресного рассвета: кабаре, мюзик-холлы угомонились только под утро.
По пустынным воскресным улицам серый «мерседес» Бастида мчался без помех, ведь теперь у водителя было лишь одно препятствие — красный свет.
Серебристую дымку, затянувшую утром небо, пробивали косые лучи солнца. Они позолотили деревья в Тюильрийском саду. Сена дышала испариной. Елисейские поля опустели. Закрылись фешенебельные рестораны, погасли разноцветные огни ночных реклам.
— Это воскресенье я посвящаю вам, дорогой Семен Борисович, я буду вашим гидом. Я не буду рассказывать о том, что можно прочесть в любом справочнике. Один из них у вас в руках, и вы сами узнаете, например, что Вандомская колонна отлита по приказу Наполеона из тысячи двухсот пушек, захваченных при Аустерлице. Я буду говорить вам о том, что вы далеко не всегда найдете в справочниках… — Бастид остановил машину у тротуара и заглушил мотор.
Они пошли через площадь к Триумфальной арке. Бастид рассказывал:
— Наполеону так и не удалось пройти как триумфатору под ее сводами, арку не успели закончить к возвращению его из России, после которого фортуна навсегда покинула Бонапарта. Лишь в тысяча восемьсот сороковом году французы пронесли его прах под сводами новенькой арки… Но парижане знают события другого рода. Известно, что у Триумфальной арки, на могиле Неизвестного солдата, в тысяча девятьсот двадцатом году был зажжен Вечный огонь. И вот недавно два шалопая пришли сюда ночью, прихватив с собой сковородку и сырые яйца, и приготовили яичницу на Вечном огне. От него же американский солдат прикурил сигарету. Разве это не события? — с грустной иронией закончил Бастид.
Они молча постояли у темно-серой плиты могилы Неизвестного солдата, поглядели на голубое, мечущееся на ветру пламя Вечного огня.
— Планировка геометрически точная, как в Ленинграде, — заметил Проворнов, разглядывая двенадцать лучей, расходящихся во все стороны от площади Звезды.
— Эти широкие проспекты появились после Парижской коммуны. Их проложили прежде всего из стратегических соображений: чтобы восставшему народу впредь стало труднее возводить баррикады и чтобы проще было стрелять в него из пушек. Как видите, я объективен в своих оценках…
— Куда мы теперь?
— Заедем в кафе, немного отдохнем и — конечно, к Эйфелевой башне.
Вот и кафе со столиками и стульями, выставленными на тротуар. Проворнов и Бастид присели за столик на террасе, затянутой полосатым тентом.
— Террасы кафе — это растворенные окна, в которые можно наблюдать Париж, — сказал Бастид, устраиваясь поудобнее на желтом металлическом стульчике, на котором умещался с трудом.
Проворнов с интересом присматривался к сидевшим рядом людям. Одни пили кофе, другие просто смотрели перед собой на улицу — спокойно и бесстрастно. Проворнову показалось, что худенькая дама с седыми буклями сидит здесь всю жизнь. Она неторопливо курила сигарету, и во взгляде ее устало прищуренных глаз было полное безразличие ко всему окружающему. А напротив нее курил сигарету усатый господин, похожий на оживший экспонат из музея восковых фигур. Бастид заказал по бутылке оранжада и кока-колы.
— Нравится вам в Париже? — спросил он.
— Да, впечатлений уйма.
— Я не могу себе представить, почему вы раньше не бывали в Париже! Вы, крупнейший в своей отрасли ученый, сидите затворником у себя дома, вас не знают в других странах… хотя право на это вы заслужили уже очень давно!
— Да, у меня много работ в моей области науки. Они, видите ли, даже еще не все изданы. Третий год, например, лежит в издательстве мой новый капитальный труд… Не знаю, когда выпустят. Надо признать, что у нас все это делается очень долго и сложно! — вздохнул Проворнов.
— У нас вы давно уже исколесили бы весь мир. Вас знали бы в Старом и Новом Свете, ваши труды печатались бы нарасхват, вы были бы славой нации, стали влиятельным человеком. Вы смогли бы думать только о науке… Ну-ну! — Бастид взглянул на часы. — Пора на башню. Эйфелева башня уже старушка, она трудится три четверти века, ей пора уйти на пенсию. Но куда там! Старушка кормит министерство финансов да еще и наследников инженера Эйфеля, живущих в Нью-Йорке. Они получают треть дохода, собираемого башней… Правда ведь, недурной бизнес? — спросил Бастид, поднимаясь со стула.
Опять за окном автомобиля замелькали улочки и проспекты. До башни еще ехать и ехать, а она уже загородила половину парижского неба, накрыла Сену островерхой шапкой. Бастид долго искал места, где бы поставить «мерседес». Площадь перед башней была буквально запружена машинами и автобусами — Париж проснулся, позавтракал и двинулся на прогулку.
Бастид и Проворнов стали в очередь на лифт и вскоре втиснулись в кабинку вместе с американскими туристами. Быстрый подъем — и Париж оказался под ногами…
— На башне три площадки. Но самоубийцы пользуются только первой: полтора франка — это не пять, которые надо заплатить за третью, а результат один и тот же, — говорил Бастид. Прислушавшись к американским туристам, он добавил: — Янки недовольны Эйфелевой башней, их «Эмпайр стэйтс билдинг» выше, самоубийства там чаще, зрители, как в театре, ходят в ресторан на сто втором этаже.
Башня осталась позади, но почти всю дорогу она глядела на них, от нее было трудно скрыться.
Подъехали к Пантеону. По крутой лестнице Бастид и Проворнов прошли вниз. Полумрак и тишина. Звенящий шепот шагов. Приглушенные голоса и имена, имена…
— В Пантеоне триста мест, а похоронено всего лишь пятьдесят семь человек и шесть сердец. Тут при желании и для вас найдется местечко, — мрачно пошутил Бастид.
Покинув подземелье, они вышли на слепящий, шумный воздух и влились в беспрерывный людской поток.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Грузовик замедлил ход и остановился у двухэтажного каменного здания. «Управление Кварцевого рудника», — прочел Виктор, взял чемоданчик и, став на борт грузовика, спрыгнул на землю, чуть не угодив при этом в клумбу с жухлыми цветами. Достал из кармана рубль, сунул его шоферу и зашагал к конторе.
В конце длинного коридора он нашел дверь с прибитой дощечкой «Директор» и вошел в комнату. В приемной никого не было. Виктор открыл левую дверь и без разрешения протиснулся в квадратную комнату с большим столом и рядом стульев вдоль стены с двумя окнами. За столом сидел грузный седоволосый мужчина и громко вопрошал в микрофон селектора:
— Фабрика? Фабрика? Отвечайте!
Виктор посмотрел на стенные часы — было десять минут девятого.
— Я, фабрика, рапортую: во вторую смену задолжали по обработке триста тонн руды. Дробильное отделение работало с недогрузкой, руду возили через час по чайной ложке. Еще простаивала вторая мельница, мехцех затянул ее ремонт, — басил селектор.
— Суточный выполнится?
— Горняки во вторую и третью смены должны увеличить отгрузку руды минимум на двести тонн, а мехцех — пустить вторую мельницу, тогда перекроем недостачу ночной смены.
— Руда идет кондиционная? — спросил седоволосый.
— Не совсем. Содержание понизилось на грамм, — еще более низким басом ответил селектор.
— Каков процент извлечения?
— Не дотянули на два процента.
— Плохо, прими меры. До свидания, Иван Васильевич.
— До свидания, Виталий Петрович.
— Вы ко мне? — обратился Виталий Петрович к стоявшему у двери Виктору.
— Видимо, к вам, мне нужен товарищ Степанов.
— Придется обождать, у меня оперативка сейчас. Присаживайтесь и подождите, — предложил седоволосый и стал вновь взывать в микрофон: — Горный цех, горный?
Виктор сел рядом с горбатым стариком в красной русской рубахе и стал терпеливо ждать.
— Слушаю, Виталий Петрович. — На этот раз селектор отвечал дискантом.
— Почему недодали фабрике в ночную триста тонн руды? — спросил Виталий Петрович и, ожидая ответ, уставился взглядом на Виктора.
— У ковша третьего добычного экскаватора полетели зубья, на пятом уступе руда крепкая пошла, а зубья мехцех из «стали-три» поставил, считай — из чугуна. Вторая причина — транспортный цех самосвалов не дал, всего шесть штук работало.
— Иван кивает на Петра. Приеду разбираться сам к тебе, Василий Иванович. Пока. — Степанов, нервно помяв папиросу, закурил от зажигалки. — Транспортный?
— Слушаю, — тихо ответил микрофон.
— Почему ночью на подвозке руды работало только шесть самосвалов, а где были остальные? — кричал Степанов.
— Стояли. Горючего нет, техснаб плохо шевелится.
Степанов покачал головой и, не ответив, нажал кнопку. Виктор видел, как лицо его покраснело, глаза стали злыми.
— Мехцех! Мехцех! — гремел его голос.
— Я слушаю, я слушаю, — испуганно раздалось в микрофон.
— Почему не закончен ремонт второй мельницы? Ты мне, Петрович, вчера божился или нет?
— Подшипник при установке рассыпался, а запасного в техснабе не оказалось, ей-богу, ремонт закончим завтра.
— Слушай меня, Петрович, внимательно: не болтунам такой эксперимент проводить, понял? — предупредил Степанов и вызвал отдел снабжения.
Начальник техснаба винил во всем совнархоз, который еще не спустил на новый квартал фонды на материалы и горючее.
Степанов в сердцах выругался, сказал, что за такую работу нужно всех гнать к чертовой матери, и позвонил в разведочную партию, Столбову.
— Слушай, парторг, нужно нам с тобой собрать для разъяснительной работы наших командиров. Фабрика простаивает, а они все правы, все до одного… Когда? Сейчас подумаю: утром я поеду разбираться на карьер, потом — на строительство драги, да, сегодня еще придется к трем ехать на заседание райисполкома, вечером обещая заехать на фабрику. Сегодня не получится, давай на завтра в три, согласен? Договорились, привет. — И, положив трубку, вопросительно посмотрел на старика.
— Виталий Петрович, опять я пришел насчет жилья, теперь, значит, как к депутату. Вырешишь аль нет? — почти нараспев спросил старик.
— Не обижайся, браток, не могу: у нас ты на прииске не работал, приехал к дочке — и живи у нее. Я о своих кадровых рабочих должен думать.
— Двадцать лет я отмантулил на Матренинском прииске, а это разве за границей? Буду жалиться, прощевай. — И обиженный посетитель ушел из кабинета.
Степанов повернулся к Виктору и в раздумье сказал!
— Вот еще нажил врага. Я понимаю его, но помочь пока не могу.
— Разрешите представиться: Виктор Михайлович Северцев, младший научный сотрудник. Прибыл из Москвы в командировку по делам реконструкции горных работ вашего рудника, — протягивая руку, сказал Виктор.
— Степанов Виталий Петрович. Очень приятно познакомиться. Садитесь, — пожимая руку и осматривая гостя с головы до ног, ответил директор.
Виктор сел, вежливо улыбнулся.
— Так, значит, вы сынок Михаила Васильевича? Слыхать слыхал, а не признал бы: конструкцией не в батю, хрупковат, — пробасил Степанов.
— Видно, в мать. Скажите, что нового у отца? Не смог застать его в Зареченске. Он где-то на предприятиях? — спросил Виктор, раскрывая перед Степановым портсигар.
— Вчера он был здесь и уехал к угольщикам. У меня гостил с неделю. Мы с ним экономический эксперимент здесь внедряем… — попыхивая папиросой, доверительно рассказывал Степанов.
— Не пойму я никак — отец уезжает из Зареченска?
— К сожалению, уезжает. Шахов хочет перевести его в Москву, директором нашего научно-проектного института… Вот такие у нас дела, одним словом, сложные… Мне тоже пора уезжать отсюда. Почти полтора десятка лет на Кварцевом. Когда приехал с Южного прииска, тут тайга шумела. Около этой клумбы, — Степанов показал рукой в сторону окна, — доброго сохатого уложил, месяц лосятиной питались. Отстроил Кварцевый, можно сказать, своими руками… Потому и уезжать досадно! Ну, теперь-то экономический эксперимент задержит. Завершить его надо обязательно мне самому. Конечно, драгу надо бы построить у нас: выгодное дело! — убежденно сказал Степанов и подвел Виктора к самодельной карте Кварцевого рудника, висевшей на стене кабинета.
Тыча пальцем в разноцветные кружки, называл объекты:
— Это карьер рудника. Вот обогатительная фабрика с законченным циклом обработки. Вот дражный полигон, к нему мы начали на днях прокладывать дорогу. А здесь гидравлические работы, геологи все находят доброе золотишко… Трудно уехать от такого богатого дела! — признался Степанов.
Виктору определенно нравился его новый знакомый. Светлана была права, когда говорила о какой-то юношеской увлеченности ее отца новыми делами, задумками…
— Вы начали подготовительные работы под драгу, но, мне помнится, отец говорил, что ее вам строить запретили… А вы все-таки начали? — переспросил Виктор. Такое бунтарство ему было особенно по душе.
Степанов хитро подмигнул.
— В этом и существо экономического эксперимента: ретивый администратор запретил, а расчетливая экономика разрешила!.. Тот же банк, что не давал денег на драгу, теперь предлагает нам ссуду. Правда, под проценты. Но мы не торопимся брать! Может, обойдемся своим фондом расширения предприятия. Мы такой фонд накопили за счет сверхплановых прибылей… Словом, теперь денежки не брать, а считать нужно!..
Они поехали на карьер. Виктор не смог отказаться от предложения директора, хотя у него были совсем другие планы… По дороге он не раз хотел спросить Степанова о Светлане — здесь ли она, где он может ее увидеть, — но так и не решился.
Молчал и Степанов, изредка бросая изучающие взгляды на будущего зятя (так он про себя называл Виктора после того, как Михаил Васильевич поделился с ним новостью — его сын влюблен в дочь Степанова).
Золоторудный карьер произвел на Виктора большое впечатление — прежде всего масштабами горных работ. Таких карьеров он еще не видел. Не меньше удивили его необычные транспаранты с крупными надписями, алевшими на рудовозных дорогах:
«Товарищ, экономь во всем! Один кубометр досок стоит 25 руб. 70 коп. Один метр кабеля стоит 7 руб. 18 коп. Один квадратный метр транспортерной ленты 190 руб. 16 коп. Сэкономленные рубли пойдут в фонд твоего предприятия, тебе лично!»
— Новые формы агитации, — усмехнулся Виктор.
— Предложение вашего отца. Пока рабочие еще не верят, что начислим им проценты за экономию материалов, но скоро убедятся.
Виктор смотрел на ползущие по дну карьера самосвалы, отсюда похожие на крупных жуков, и думал, что ему следует узнать мнение этого опытного горного инженера о наклонных скипах, — может быть, таким путем удастся что-нибудь почерпнуть для своей диссертации.
— Как вы относитесь к возможному внедрению у вас наклонных скипов на подъеме руды? — задал вопрос Виктор.
— Важно, как отнесется к этому экономика. Мы выдаем в сутки несколько тысяч тонн руды. А какова производительность одного скипа? Сколько их потребуется? Каков будет расход электроэнергии? Какой завод их выпускает? Стоимость их? — сыпал в свою очередь вопросами Степанов.
Виктор не мог сразу ответить на них.
— А что вы будете делать с крупными кусками, с негабаритом? — задал встречный вопрос Виктор.
— Негабарит не проблема: поставьте в карьере передвижные дробилки, и этим ликвидируете крупное дробление на фабрике. Конечно, нужно все подсчитать, и не один раз подсчитать… Притом есть вопросы, над которыми не властна даже экономика: я говорю о здоровье горняков!..
Виктор слушал Степанова внимательно. Не без тревоги задавал себе вопрос: какова практическая ценность его диссертации? Желая рассеять свои сомнения, как бы между прочим заметил:
— Я пишу научную работу именно на эту тему.
— Да какая же это наука! Не теряйте времени попусту, молодой человек! — с досадой ответил Степанов.
Прямой, честный ответ не обескуражил Виктора. Нечто подобное он уже слышал от своего отца, но ученые мужи и мать говорили ему иное. Кому верить?
Подошел технический руководитель горного цеха, безбровый, среднего роста брюнет, и молча поклонился. Степанов сердито посмотрел на него, тот мрачно насупился, ожидая разгона.
— Докладывай, — непривычно тихо сказал Степанов и облокотился на штабель буровых труб и штанг.
— Экскаваторы старые, больше ремонтируются, чем работают, — буркнул технорук.
Степанов внимательно посмотрел на карьер-блюдце, посчитал про себя экскаваторы на каждом уступе, потом развернул план разреза и предложил:
— Перегони один экскаватор с вскрыши на погрузку руды.
— Главный инженер перед отъездом на курсы письменно запретил мне снимать технику с вскрышных работ, — парировал технорук.
— Главный в Свердловске, ему неведомо о срыве плана отгрузки руды, теперь ты, Василий Иванович, должен соображать, что делать, — недовольно заметил Степанов, но технорук, пожав плечами, промолчал.
Опять, уже в который раз, сталкивался Степанов с извечной проблемой горняков: чем заниматься сегодня — дальнейшей подготовкой руды к добыче или увеличенной добычей руды?
Главный инженер по-своему прав — нужно вести работы так, чтобы вскрыша опережала добычу на пять-шесть месяцев, тем более что за план добычи в свое отсутствие он не отвечает. Но жизнь, к сожалению, не всегда следует инструкциям и учебникам.
— Так что будем делать? — в раздумье спросил Степанов.
— Ремонтировать ковш, — безразличным тоном ответил технорук.
Степанов взорвался и, не сдерживаясь, закричал:
— Ты бы лучше спорил со мной, матерился, но не пялил на меня свои рыбьи зенки. Пьяницу, прогульщика, что наносят нам рублевые ущербы, мы судим, и правильно делаем, а казенное безразличие инженера к своему делу оборачивается десятками тысяч, поэтому также не может остаться безнаказанным. По твоей вине недодала фабрика многие килограммы золота, и, чтобы ты был злее в работе, я лишу тебя месячной премии.
Степанов вытащил из кармана блокнот и письменно распорядился перегнать экскаватор на погрузку руды. Вспомнив утренний разговор с начальником обогатительной фабрики, распорядился:
— Организуйте в карьере рудный склад и шихтуйте руду — она у нас в правом и левом флангах карьера разная по содержанию. Некондиционная руда расстраивает технологический процесс на фабрике и снижает процент извлечения золота, — значит, приносит убытки. Это наш немалый резерв производства, которым мы плохо еще пользуемся. О перегонке экскаватора доложишь мне вечером.
Степанов с Виктором оставили у карьера «Волгу» и пошли пешком на дражный строительный участок.
Они шли по тракторной колее, пробитой вдоль берега мелкой вертлявой речки, через заросли рябины. Виктор рвал недоспелые ягоды, и, морщась, жевал их. Путь их загородил прицеп на железных полозьях, груженный металлическими буровыми трубами и штангами. Обойдя его, они направились к деревянному вагончику, где помещалась раскомандировка.
Обшарпав о железную скобу глину, налипшую на подошвы, Степанов поболтал сапогом в низком деревянном бочонке с грязноватой водой и только после этого поднялся по лесенке вагончика.
В тесной комнатке сидели за деревянным столом Пихтачев и чернявый, весь перепачканный в грязи тракторист Костя. Они громко переругивались. Костя встал со скамейки и, уступив место Степанову, обратился к нему с жалобой:
— Виталий Петрович, что же такое происходит, когда мы опыт важный проводим?! Издевка, да и только!
— Не издевка, а инструкция. Ясно? — оборвал его Пихтачев.
— Подожди, Павел Алексеевич, не горячись. Продолжай, Костя, — попросил Степанов, открытая окошко — табачный дым висел у потолка.
— Так вот, я и говорю: буровой мастер Светлана Витальевна дала мне наряд подвезти горючее к буровому станку, — знаете, что у трех шахточек? Я повез. Встречает меня начальник участка, отменяет ее распоряжение и велит корчевать лес на дражном полигоне, — знаете, за разведочным станом? Бросил я на дороге бочки с горючим, поехал на полигон и, как на грех, наткнулся на технорука. Этот начальник велел сворачивать за опорой высоковольтной линии. Пока разворачивался, застрял в болоте, только что вылез оттуда, как свинья, грязный. День прошел, а ничего не сделал, — сокрушался Костя.
Степанов взял со стола брошюру, полистал ее и, найдя нужный параграф, обращаясь к Пихтачеву, громко прочел:
— «Мастер является полноправным руководителем и непосредственным организатором производства и труда на своем участке и т. д. и т. п. Все указания на рабочие места даются мастером и являются обязательными и т. д. и т. п. Давать указания на участке помимо мастера запрещается». Ясно, Павел Алексеевич? Придется за самоуправство отнести за твой личный счет стоимость дневного простоя трактора и зарплату тракториста.
Пихтачев подскочил на стуле, выхватил из рук Степанова брошюру и, быстро полистав ее пальцем, заявил:
— Не выйдет по-вашему! Что записано в этой инструкции о начальнике цеха, участка? Все эти права и ему предоставлены. Читайте, молодой человек. — Пихтачев, как арбитру, передал брошюру Виктору.
Виктор стал читать, и оказалось, что все вышестоящие начальники могут требовать от всего работающего персонала безусловного выполнения своих распоряжений.
— Что же в таком случае остается от правила, запрещающего давать распоряжения на участке через голову мастера? — недоуменно спросил Виктор.
Степанов в ответ рассмеялся и махнул на Пихтачева рукой. Обиженный Пихтачев, сопя носом, объявил:
— Сымай меня с начальников, потому — не хочу быть пеньком, над которым каждая собака поднимает ногу. Это я не про тебя, Петрович, а вообще.
— Теперь так дело не пойдет. Завтра же издам приказ по комбинату: запрещу вышестоящим начальникам отдавать приказы подчиненным через головы их непосредственных начальников. Каждому должностному лицу определим исполнительные функции и гарантированные права. Это должно относиться и к разделению ответственности: руководитель должен отвечать за своих подчиненных, но не за подчиненных своих подчиненных. Там, где эти принципы не соблюдаются, к исполнителю поступают противоречивые команды, как было с Костей… — закончил Степанов и поднялся.
Пихтачев, покачав головой, заметил:
— Против инструкции попер, — значит, получается так: либо рога пополам, либо ворота вдребезги!..
2
Вечером Виктор до блеска начистил остроносые ботинки, отгладил смявшийся в дороге модный костюм, надел белую рубашку с пестрым галстуком и отправился к Степановым, прихватив с собой московский подарок Светлане — флакон духов «Каменный цветок». Но не было живых цветов, их не продавали на Кварцевом. Виктор твердил себе, что из любого положения можно найти выход, и нашел. Как только стемнело, он пошел к рудоуправлению и на плохо освещенной знакомой клумбе второпях нарвал букет жестких, высохших цветов. Кто-то заметил его, крикнул, и Виктор быстро побежал к дому директора рудника, что стоял невдалеке от конторы. Кто-то бежал за ним вдогонку, но Виктор успел проскочить в калитку маленького палисадника и позвонить. Дверь открыла Светлана. Он молча протянул ей разноперый букет.
Светлана, узнав Виктора, залилась румянцем.
— Папа, к тебе пришли!.. — в растерянности крикнула девушка и, тихо сказав Виктору «здравствуй», спряталась у себя в комнате.
— Входи, входи. Знакомить не нужно? — с усмешкой спросил Виталий Петрович.
— Старые знакомые, — подтвердил Виктор.
— Жаль, что супруга моя в отлучке, в Ленинграде у своих гостит. Светланка, чисть скорей свои перышки да ставь самовар, чаевничать будем! — распорядился Степанов.
В угловой комнатке Виталия Петровича Виктор застал Пихтачева, который что-то писал на листке бумаги, положив на колени полевую сумку. Стол Степанова был завален бумагами. Виталий Петрович жестом показал молодому гостю на стул и, продолжая прерванный разговор, спросил:
— Ну, подсчитал, Павел Алексеевич?
— Нет еще, — буркнул тот.
Степанов взглянул на пихтачевские каракули и, покачав головой, заявил:
— Можешь не считать. Тебе нужно сто человек, и ты уложишься в срок с монтажом драги. Сколько людей у тебя на участке сегодня?
— Восемьдесят или восемьдесят один, — роясь в сумке, ответил Пихтачев.
Но Степанов остановил его руку.
— Примерно восемьдесят процентов, так? Пошли дальше. Весь фонд заработной платы на оставшийся объем работ составляет… составляет… — Степанов взял со стола лист бумаги и, поводив по крайней правой колонке цифр карандашом, после небольшой паузы ответил: — …десять тысяч с рублями, грубо — десять тысяч рублей. Считая по действующим расценкам, я должен дать тебе под наличный состав людей примерно восемь тысяч рублей, верно? — спросил он.
Пихтачев утвердительно кивнул.
На пороге комнаты появилась в коротком цветастом платьице Светлана и, стрельнув взглядом в сторону молча сидевшего Виктора, объявила:
— Чай готов, пошли, а расчетами, Павел Алексеевич, нужно заниматься на работе.
— А ты попробуй поймать своего батьку в кабинете, только вечером, дома, и застанешь его, — парировал Пихтачев.
— Сейчас, дочка, закончим… Ну, так слушай дальше: считая по-новому, я предлагаю тебе девять тысяч, и ты управишься со своими людьми точно к сроку. Конечно, качество работ в полном ажуре. Согласен?
— Погоди чуток, паря… — Пихтачев снова взялся за карандаш и вывел на бумаге цифры 100 и 80. Немного подумав, переписал сто в числитель, восемьдесят — в знаменатель, а рядом вывел новую цифру: 125 процентов.
Степанов и Виктор с интересом наблюдали за арифметическими упражнениями Пихтачева, которые, судя по его напряженному лицу, давались ему не легко. На бумаге появилась новая цифра: 9 000. Он стал делить ее на восемьдесят. Получилось сто двенадцать с половиной процентов… Пошевелив губами, он еще раз проверил счет. И спросил:
— Значит, производительность труда мы подымем на двадцать пять процентов, а барышу ты нам сулишь в два раза меньше? Бобовина получается, паря, — недовольно буркнул Павел Алексеевич.
Степанов улыбнулся расчетливому Пихтачеву и заметил:
— Давай оголим вопрос — обнажим все его причины! Производительность труда непременно должна опережать рост заработной платы, иначе на что же мы будем строить новые драги, рудники, фабрики? Ты в старательской артели, бывало, не все заработки проедал, часть их в общественные, неделимые, фонды отдавал. Иначе не по-хозяйски было бы, верно?
— Верно. Только тебе банк и девять тысяч не вырешит, — усомнился Пихтачев.
Степанов усмехнулся и, положив свою здоровенную руку на худенькое плечо Павла Алексеевича, вкрадчиво объяснил:
— Теперь это мое дело, а не банка. Я трачу фонд заработной платы, как нахожу целесообразней. Подумай сам: зачем тебе нанимать еще новых двадцать человек, когда небось твои мужички с удовольствием подработают, так ведь? Это целесообразно для всех нас, согласен? Новичков еще нужно учить, нужно где-то поселить их семьи, нужно строить новые квартиры, еще потребуются дополнительные школьные и больничные места, придется завозить лишние продукты, и так далее, и тому подобное… А я хочу обойтись своими людьми, просто им придется больше попотеть! Потолкуй, Алексеич, со своими мужичками… А теперь чайкю с медком не вредно! Или медовушки желаешь? — предложил Степанов.
— Другому бы не поверил, подумал, что на притужальник берет, а твое слово — хозяйское. — Это последнее слово Пихтачев произнес с особым уважением, даже с любовью, и, уложив записи в планшетку, поднялся.
От угощения отказался, сославшись на неотложные дела, и быстро исчез из комнаты.
Прошли в столовую. Хозяин предложил Виктору кресло, а сам поудобнее уселся у стола на диван, подтянув под себя правую ногу.
Гость достал из кармана телеграфный бланк, Степанов прочел вслух:
— «Связи сокращением ассигнований ваша тема «Проблема реконструкции Кварцевого» исключена плана научных работ института точка Обязываю десятидневный срок завершить все дела Кварцевом вернуться в Москву замдир Скунсов»… Да, новость, малоприятная. Что намерен предпринять?
— Хочу просить вас опротестовать от имени рудоуправления решение выжившего из ума замдира, — возмущенно ответил Виктор и взглянул на Светлану. Ее большие голубые глаза весело смотрели на него.
— Не кипятись. Почему выжившего из ума? Без денег ты работать не будешь. Второе: если науку считать не простым удовлетворением любопытства отдельных лиц за счет государства, то от нее должна быть практическая отдача. С моей точки зрения, твоя тема далека от науки, поэтому ходатайствовать не буду, чтобы не подводить в первую очередь тебя, — убежденно сказал Степанов.
— Вы просто не знаете, на какую наукообразную муру деньги находятся! А на подобную работу, имеющую, по-моему, и научный, и производственный интерес, их нет! — запальчиво возразил Виктор, не спуская взгляда со Светланы, которая накрывала на стол.
— Говоришь о себе нескромно… Что могут подумать о тебе товарищи? — осуждающе заметил хозяин.
— Меня мало интересуют чужие мнения.
Но Виктор говорил неправду. На деле они его интересовали, да еще как. Больше всего на свете ему хотелось вести себя достойно, пользоваться, как и отец, всеобщим уважением! Поэтому он всегда был настороже и поэтому-то напускал на себя иронию.
— В нашей науке порядка не больше, чем в той инструкции, которую мы обсуждали с Пихтачевым! — хорохорился Виктор.
— Эх, паря, мозги у тебя набекрень сдвинулись… Как же мы с такой наукой первыми в космос полетели? — опуская затекшую ногу, спросил Степанов.
— Ну, при чем здесь космос? Я говорю о том, что старики ответственны за наше отставание от Запада. Идти в ногу с веком — это удел молодых, — кипятился Виктор, взглядом ища поддержки у Светланы.
Но она не смотрела на него, занявшись мытьем стаканов.
— «Старики» — это наше поколение? — уточнил Степанов.
— Да, сейчас вы стоите у власти: директора, начальники, секретари и председатели — люди вашего поколения. И вы отвечаете за все. — Виктор говорил так больше для Светланы, он хотел, чтобы она оценила незаурядность его мышления. — Считайте, что обмен мнениями у нас не состоялся. Вы знаете, что такое обмен мнениями? Это когда подчиненный входит к начальству со своим мнением, а возвращается с мнением начальника! — Виктор криво улыбнулся, но Степанов не обратил внимания на его остроту.
— Добавь еще одну вину нашему поколению: мы успели вывести нашу державу только на второе место в мире, — спокойно сказал Степанов.
Виктор как-то сразу остыл и начал сосредоточенно рассматривать висевшую на стене копию шишкинскои «Корабельной рощи».
— Молодость всегда горяча, хочет ворочать горы. Вот и, перебирайся к нам на Кварцевый! Ворочай золотые горы, вытрясай из них валюту, твори, дерзай!.. Наука здесь тоже быстрее родит богатыря. Сумеешь вершить — будешь директором, начальником, председателем и секретарем.
— Эти должности для партийных, а не для нас, — заметил Виктор: он злился на себя за то, что не мог логично возразить Степанову.
— Коммунисты — запомни это навсегда — лишних прав не имеют, у них лишь больше обязанностей, и главная — быть всегда на передовой. Они в ответе за все плохое и хорошее, их есть за что критиковать и есть чему завидовать… Ну, согласен на Кварцевый? Сейчас продиктую телеграмму с просьбой откомандировать тебя к нам в связи с исключением темы, — серьезно предложил Степанов, берясь за трубку телефона.
Пока все ограничивалось лишь раздумьями, гимнастикой ума, Виктор чувствовал прилив мужества, ему казалось, что он способен решиться, что сделает немедленно нужный шаг. Но когда нужно было приступить к действиям и брать на себя ответственность за них, его охватывал непонятный страх, похожий на тот, что он испытывал ребенком, когда мухи казались ему чудовищами или когда его чуть не забодала корова, или несколько лет назад, когда на него надвигался поезд с глазом циклопа… Виктор не знал точно, чего именно он боялся — неудавшейся научной карьеры или презрения приятелей? Даже себе он боялся признаться в самом страшном — неверии в собственную персону.
— Извините, Виталий Петрович, но такие дела с ходу не решаются, нужно все обдумать, взвесить, посоветоваться… — Виктор, как спасительной соломинке, обрадовался урчавшему самовару. Выхватил его из рук у Светланы, поставил на стол. И заговорил о достоинствах чая именно из самовара…
Чувствовал себя Виктор неловко, как мальчишка, которого отодрали за уши… Он ловил на себе взгляд Светланы и старался не смотреть на нее. Не мог он сейчас сказать ей, что, полюбив ее, хотел стать достойным ее любви! Он хотел стать рыцарем науки, человеком, каким его избранница могла бы гордиться!..
Ради нее, Светланы, просил он сейчас о восстановлении своей темы. Теперь он многое делал ради Светланы, порою — и не признаваясь себе в этом. Стал серьезнее работать. Ему поручили вести самостоятельную тему по реконструкции Кварцевого рудника — это было признанием его способностей! Все налаживалось… И вдруг телеграмма, а этому бурбону на все наплевать — бросай науку, приезжай простым инженером на Кварцевый, начинай ковырять землю!..
Виталий Петрович поблагодарил дочку за чай, посоветовал Виктору еще раз подумать о его предложении и, извинившись, ушел к себе в комнату. В открытую дверь виднелась его могучая спина, склоненная над столом, и было слышно, как он кого-то ругал по телефону. Виктор в мрачном настроении отодвинул от себя чайную чашку и снял со стены перевязанную красной ленточкой гитару. Перебирая струны, искоса поглядывал на Светлану. Ухом приник к грифу гитары, потом выпрямился и стал нараспев декламировать:
— «Всю ночь кричали петухи и крыльями махали. Как будто новые стихи, закрыв глаза, читали…»
Заметив, что Светлана слушает его, он спел про горы, лучше которых «могут быть только горы, на которых еще не бывал»…
Светлана захлопала в ладоши, но это не подняло его настроения, он все еще злился на себя: зачем, дурак, просил этого бесчувственного робота?..
Когда Виктор собрался уходить, Светлана пошла провожать его. У разбитого фонаря Виктор обнял Светлану и осыпал поцелуями ее пылавшее лицо. Она слабо упиралась руками в его плечи и вдруг сама обняла за шею и ответила на поцелуй…
Они долго ходили вдоль берега уснувшей реки и без конца говорили и говорили обо всем на свете. Наконец Виктор проводил Светлану домой. Но не пошел в гостиницу, а вернулся к реке, где только что был с нею. Уселся на деревянных ступеньках лодочного причала. На противоположном берегу было совсем темно. Слева от дальнего фонаря склада вилась по воде золотая змейка. Она хотела забраться на расколотую, деревянную ступеньку, но речная вода еще заметно дышала — то откроет ступеньку, то спрячет, — и змейка бессильно соскальзывала, скатывалась обратно в воду.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
В то время, когда Проворнов в приятном обществе месье Бастида знакомился с Парижем, на Птицына сыпались одни неприятности.
Александр Иванович сидел за своим столом хмурый, злой. Сегодня он получил выговор за путаницу, допущенную при подготовке договора с афганцами, а шеф в разговоре с глазу на глаз предупредил его даже о несоответствии занимаемой должности. Шефу легко давать указания да распекать! Птицын сам был когда-то в его положении, знает эту кухню. Труднее выполнять указания, когда не чуешь, куда дует ветер.
В парткоме заговорили о его возрасте… Будто он виноват, что бегут года. Лишних он себе не насчитывает. А сегодня знакомый кадровик намекнул, что на место Птицына уже подбирают работника…
Неужели начальству что-то стало известно?
Чему бывать, того не миновать, а пока надо взять бюллетень и отдохнуть недельку на даче, ведь «бабье лето» не долговечно. Но и это смешно! О каком отдыхе можно мечтать? Да Серафима загоняет на даче хуже, чем шеф на работе: копай, опрыскивай, обрезай кусты и деревья, чини забор и подполье — занимайся физическим трудом, он полезен, а некоторым так просто необходим!.. Нет, бюллетень сейчас брать не надо, лучше строчить бумажки, чем потеть на Серафиминой барщине.
Раздался телефонный звонок. Птицын вздрогнул. В эти дни он ждал звонка Смита. Припомнился разговор с болтливой Асей. Что там ни говори, а было бы с его стороны глупостью не использовать такой козырь для доказательства своей осведомленности и значительности… Он уже готов был пожалеть, что не снял трубку. Один-то раз можно встретиться и со Смитом. Тем более что дни работы Птицына в объединении почти сочтены…
Но Ася, сболтнув ему о сделке с французами, может с таким же успехом разболтать другим о его, Птицына, непонятной заинтересованности в этой сделке.
Телефон затрещал вновь. Птицын снял трубку и выжидающе молчал.
Смит был малословен: назвал число, час и место встречи. Птицын ничего ему не ответил и положил трубку. Стал прикидывать все «за» и «против». Первых было немного, но они были весомые, вторых было очень много, и многие из них выглядели устрашающе. Конечно, страшно. И даже очень! Но как быть-то? Как поступить правильно? Нужно-де поддержать контакты хотя бы здесь, раз его не пустили в Париж! Проворнову можно, а Птицыну нельзя?.. И так ведь всю жизнь: кому-то можно, а вот ему нельзя!.. Так хотелось думать Птицыну, так он оправдывал свое подлое решение.
Завтрашняя встреча со Смитом весьма своевременна. На этой встрече Птицын будет выглядеть солидно. Как настоящий бизнесмен. Смит должен это оценить.
Без пяти минут семь Птицын был у входа в метро на площади Дзержинского и читал «Вечернюю Москву», беспокойно поглядывая изредка на башенные часы большого здания за памятником.
Ровно в семь мимо него прошел Смит, взглядом предложив следовать за ним.
Они направлялись вниз. У памятника первопечатнику Федорову Смит оглянулся, проверяя, идет ли Птицын. Тот вышагивал с рассеянным видом, как бы прогуливаясь и любуясь яркими осенними листьями. Смит перешел улицу и свернул в сквер. Выбрал удобное место, опустился на свободную скамейку и сразу же углубился в журнал. Минут через пять появился Птицын. Постоял у огромной цветочной клумбы и сел на ту же скамейку.
— Нам следует быть осторожными, — вместо приветствия сказал Смит, не отрываясь от журнала.
Птицын промолчал. Он и без того был достаточно напуган подобной встречей. Смит понял его настроение.
— Извините и здравствуйте, господин Птицын. Я бы хотел знать: вам удалось помочь нашей фирме?
Глядя вверх, на освещенную солнцем старинную башню, Птицын ответил:
— Мне удалось убедить шефа отказать конкурентам и подписать контракт с вашей фирмой.
— О’кэй. Думаю, что, получив от меня такое приятное известие, фирма не замедлит достойно отблагодарить вас.
— Несогласованным остался один вопрос. Но, думаю, вы уступите? Вы бессовестно заломили лишку, — продолжал Птицын, украдкой поглядывая на Смита.
— Уступить вам пятьдесят тысяч долларов, не правда ли? Может, это сделаете вы? — усмехнулся Смит.
Птицын молча думал.
— Скажу вам доверительно, как приятелю Бастида: я получил указание фирмы соглашаться на семипроцентную скидку. Это устроит вашу сторону? — допытывался Смит.
— Полагаю, что нет.
— Вы нас берете за горло… Продукция лежит на складах, фирма терпит убытки.
Птицыну казалось, что еще одного нажима фирма уже не выдержит и согласится на все условия…
— Месье Птицын, а вы не смогли бы еще раз убедить шефа? Контакты успешно развиваются, вам следует пойти фирме навстречу!..
— Допустим… — Птицын опасливо посмотрел по сторонам.
Поблизости никого не было видно. Лишь на скамейке напротив сидела в обнимку влюбленная парочка. Чернокожий парень в толстых роговых очках что-то шептал рыжей девице, она кокетливо улыбалась.
— Мы с вами коммерсанты. А коммерсанты работают на процентах. Сколько? — деловито справился Смит.
— Бог с вами, что вы говорите!.. — изумился Александр Иванович.
— Бизнес есть бизнес. Я вправе гарантировать вам десять процентов, пять тысяч долларов. Но если вы настаиваете на большем, я запрошу фирму. Согласны? — напирал Смит.
Птицын твердил одно:
— Я не хочу этого слышать, я не хочу этого слышать…
— Я уверен, мы договоримся. Как должен я вести себя на заключительных переговорах с вашим объединением?
— Категорически настаивать на прежних… — Птицын осекся, поняв, что сболтнул лишнее.
— Благодарю вас. Через пятнадцать минут я подъеду на такси к гостинице «Москва». Вы подсядете в машину, я передам сувенир от месье Бастида.
Смит поднялся со скамейки и зашагал к «Метрополю».
Птицын медленно пошел к гостинице «Москва». Что теперь будет? Что произойдет?.. Еще можно все исправить… Завтра же рассказать руководству… Ведь он выпытал у Смита важные сведения о бедственном положении фирмы?.. А кто ему поручал вступать в контакт о фирмой? Как объяснить это?.. Объяснений и ждать не будут, немедленно выгонят с работы!..
Подойдя к гостинице, он стал внимательно разглядывать витрину фотохроники ТАСС.
Вот в стекле появилось отражение машины, из которой ему махал рукой Смит. Птицын сел в машину. Это было такси. У станции метро Смит попросил шофера остановиться и вышел, оставив на сиденье изящно упакованный магнитофон.
2
Все эти дни Птицын жил в тревожном ожидании какой-то беды. Мучительно думал о том, что он скажет, если начальство потребует от него объяснений по поводу встречи со Смитом. Как оправдать свою болтливость, которая обошлась стране в пятьдесят тысяч долларов? Он знал, что вчера подписан контракт на условиях французской фирмы. Назовут ли это только болтливостью?..
Он должен был сегодня раз и навсегда признаться самому себе, признать страшную правду, на которую всю жизнь он упорно пытался закрывать глаза, пытался спрятаться за удобными рассуждениями… Он лжец! Он лгал всем окружающим и, чтобы сохранить самоуважение, лгал себе… Но теперь ни оправдать, ни обмануть себя он уже не сможет! Да, это была не болтливость, а продуманная подлость. И хотя до конца жизни он сможет лгать близким и посторонним людям, себе лгать он уже не в состоянии. Теперь он всегда будет знать, кто он такой.
Но и теперь Птицын искал оправдания себе. Не объединение надо бы пожалеть: что оно потеряло? Только деньги, да и то не такие уж и большие… Жалеть нужно его, Александра Ивановича Птицына: он потерял гораздо больше, гораздо больше! Уважение к себе, вот что он потерял… Как бы он ни старался забыть, он никогда не сможет вычеркнуть это из памяти. Он не будет спать по ночам…
Размышляя таким образом, Птицын ехал в вагоне метро на встречу со Смитом. На станции «Кировская» он увидел Смита на перроне. Тот пропустил в вагон всех пассажиров и, оглянувшись по сторонам, вскочил в последний, с силой сдерживая закрывавшуюся дверь, защемившую его портфель.
Внимательно оглядев стоящих рядом пассажиров, Смит на секунду остановил свой взгляд на Птицыне и отвернулся.
Птицыну опять стало не по себе. Этот тип улетит завтра в свой Париж, только его и видели! А кто знает, какие последствия может иметь эта встреча для него, Птицына…
Выбравшись из вагона на станции «Сокольники», Птицын медленно пошел к выходу, незаметно наблюдая за Смитом. Тот вышел из вагона последним, перед самым закрытием дверей, двинулся сначала в обратном направлении, затем вернулся и, обогнав Птицына, поднялся к выходу. Птицын видел, как он зашел в магазин, его силуэт раза три промелькнул туда-сюда в окнах магазина, и, наконец, он опять вышел на тротуар и свернул в улочку, где совсем не было видно прохожих.
Смит поспешно удалялся. Вдруг обернулся и зашагал обратно к Сокольническому кругу. Остановился у перехода, пропустил все автомашины и, быстро перейдя улицу, уставился на доску объявлений. Лишь убедившись, что за ним никто не следит, пошел ко входу в парк.
Они нашли скамейку в поросшем кустами углу парка. Смит, внимательно осмотревшись, жестом пригласил Птицына присесть и опустился на скамейку сам. Поставил на колени портфель и, откашлявшись, сказал:
— Господин Птицын, наша фирма благодарит вас за оказанную ей услугу и поручила мне передать ваши комиссионные.
Нажав пальцем замок и приоткрыв портфель, он вынул сверток.
— Здесь пять тысяч долларов.
Птицын, двигаясь как во сне или под гипнозом, взял из рук Смита сверток, сунул в карман своей куртки. Карман заметно оттопырился. Александр Иванович снял куртку, небрежно сложил ее, перебросил через руку. Вытер платком пот с лысины.
По дальней аллее прохаживался русоволосый парень в пестрой клетчатой рубашке и серых брюках, с букетиком красных цветов в руке. Он медленно шагал взад-вперед по песчаной дорожке, кого-то терпеливо поджидая.
«Влюбленный студент… У всех свои заботы…» — снисходительно подумал Птицын и невольно дотронулся до кармана куртки.
Смит тоже увидел парня и позволил себе пофилософствовать:
— Как и везде в этом мире, у вас тоже влюбленные ждут, а возлюбленные опаздывают… — Взглянул на часы, покачал головой и продолжил деловой разговор: — Вам известно, что есть предварительная договоренность о новом контракте на дополнительную поставку нашего горного оборудования? На сумму шесть миллионов долларов.
Птицын утвердительно кивнул головой, хотя об этом он слышал впервые.
— Сегодня я улетаю. От имени фирмы прошу вас помочь нам и с этим контрактом. От вас многое зависит, мы в этом только что убедились. Само собой разумеется, фирма в долгу не останется.
Птицын молчал, глядя в сторону. Вдруг резко повернул голову и, уставившись на Смита глазами-щелками, решительно объявил:
— Я больше помогать вам не буду. Не могу. Оставьте меня в покое! Дело опасное. К тому же я скоро работу брошу, на пенсию уйду. На меня больше не рассчитывайте. Так и передайте месье Бастиду.
— Не смею настаивать, но опасности для вас я не вижу никакой.
— Да каждая встреча с вами мне чуть ли не инфаркта стоит!.. — Птицын еще раз вытер платком мокрую лысину.
— Я слышал, что вы были крупным работником.
— Был в свое время. Возглавлял главное управление одного министерства, — с достоинством ответил Птицын.
— Чем занималось это управление?
— Этого я сказать не имею права.
Смит пожал плечами.
— На каждом шагу у вас тайны, секреты. Мы, например, не скрываем, что в прошлом году в мире (без вас) добыто тысяча триста тонн золота и тридцать миллионов карат алмазов, сообщаем данные по каждой стране. А вы все играете в прятки… Вашему государству скоро пятьдесят стукнет, пора заниматься серьезными делами — сотрудничать с нами в перестройке мира на индустриальной основе!
— Эти вопросы не нам решать, — ответил Птицын и поднялся.
Смит тоже встал. Они пошли рядом.
— Конечно, но сотрудничество в личном плане зависит лишь от нас самих.
— Я уже оказал вам услугу. Дальше — не рискую.
— От вас нужно было бы очень не многое. Как говорят в Америке, кто владеет информацией, тот владеет властью. Сведения только о сугубо коммерческих делах: кто наши конкуренты, их условия, состояние переговоров с ними. Мы сможем принять меры к дискредитации конкурирующих фирм, только и всего! Таков закон бизнеса. Политики никакой. Ущерб только нескольким капиталистическим фирмам. Вашему государству — никакого.
— К чему весь этот разговор, если вы улетаете?
— Да поможет нам бог! — Смит осклабился. — На Воробьевых горах есть церковь. Пройдете ее узким коридором и с левой стороны увидите большое распятье. В церковь иногда ходят к заутрене наши люди. Вызов по этим двум телефонам. — Смит написал номера на обрывке газеты. — Запомните: говорить по телефону не нужно. Только ждать ответа абонента. Услышав фамилии «Стьюард» и «Коэлл», повесить трубку. Это будет значить, что вы вызываете в церковь за информацией. Нужны какие-нибудь еще пояснения?
Птицын отрицательно покачал головой.
— Допустим, у вас возникнет нужда встретиться с нашим представителем. Позвоните по тем же телефонам и трижды подуйте в трубку. Встретитесь там же. У нашего друга будет под мышкой такой же портфель, как у меня, а в галстук воткнута булавка с красными камешками. Ну, вот, мне кажется, все. Теперь нам надо расстаться. Желаю вам полной удачи!
— Подумаю, — пообещал Птицын.
Птицын держал путь, как уже не первый раз за последние дни, к шашлычной. Оттуда еще издалека приятно тянуло жареным мясом. Ему хотелось выпить, — последнее время он пил почти ежедневно, благо поводов было достаточно: неприятности по службе, скандал с женой из-за дачи, страх перед возможным разоблачением его связей с фирмачами. Странно, но после отлета Смита гнетущий Александра Ивановича страх лишь усилился. Последняя неделя вся прошла в этих тревогах…
— Александр Иванович! Вот встреча! Садитесь! — услышал он голос Аси.
Ася сидела за столиком у окна, с молодым человеком. В этот момент тот сдирал зубами кусок мяса с длинного шампура.
Кавалер Аси давно не стригся, рыжие лохмы бороды блестели от бараньего сала. С плеч свисал огромный клетчатый пиджак.
— Альберт Пухов, — представился он, протягивая Птицыну измазанную жиром руку.
— Студент из Зареченска. Правда, в Альберте есть что-то сибирское, медвежье? — прощебетала Ася.
— Возможно. — Птицын подозвал официанта, заказал шашлык и графинчик коньяку.
Альберт отменил его заказ: знакомый Аси — его гость, и он будет угощать гостя по своему усмотрению.
Пили и ели много. Говорил все время Альберт. Он никому не давал вставить слово. Хвастался охотой, рыбалкой, футболом, успехом у женщин…
— Пардон! — вдруг сказал он и, поднявшись со стула, пошел в конец зала.
— Александр Иванович, голубчик, пройдите с ним. Ему плохо. Не сочтите за труд!..
По запаху хлорной извести Птицын нашел дорогу. Бледный Альберт, согнувшись, стоял у раковины и лил на мохнатую голову холодную воду. Потом полоскал рот, шумно сморкался. Умывшись, утерся рукавом рубахи, спросил Птицына:
— Пахан, ты кто такой? Что-то я тебя не знаю. Но ты вроде свой. Помоги достать доллары… Позарез надо! А? Можешь? Мне нужно солидную сумму, тысячу, заплачу по трешке. Связь через Аську.
— Молодой человек, я пришел, чтобы увести вас отсюда. Вы обращаетесь не по адресу.
— Красная цена — три с полтиной… — Студент замолк: появился еще один подвыпивший посетитель.
Они вернулись в зал.
Ася уже расплатилась с официантом и ждала их у выхода.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
В квартире Северцева раздался звонок. Михаил Васильевич пошел открывать дверь. У порога стоял знакомый почтальон в мокром плаще. Он поздоровался, вытащил из сумки заклеенный телеграфный бланк и подал Северцеву. Михаил Васильевич прежде всего взглянул на пункт отправления: Усть-Пиропский… и, быстро порвав тонкую бумажную-заклейку, пробежал уже давно ставший знакомым телеграфный текст: «Ваша номер (назван исходящий номер) не вручена за отсутствием адресата».
Почтальон сочувственно посмотрел на него.
— Извините, я пойду. Сегодня воскресенье, нужно пораньше успеть домой.
Закрыв за ним дверь, Северцев вернулся в свою комнату. Сел на кушетку, еще раз перечитал телеграмму. Потом встал и спрятал ее в ящик письменного стола.
…Два года назад Северцев взял очередной отпуск с намерением провести его не на Черноморском побережье, а в этом богом забытом краю. О своем желании рассказал Шахову. Николай Федорович не одобрил его решения, советовал оставить Малининых в покое, не бередить души, но, видя, что Северцева переубедить невозможно, отпуск разрешил.
Неделю добирался Михаил Васильевич до места, где находилась экспедиция. Пурга задерживала на каждом аэродроме, словно не хотела пускать туда… В безлесной тундре, где полновластно хозяйничали ветер и снег, чернели три домика геологоразведчиков и две хозяйственные постройки, на одной из которых была укреплена радиомачта. Самолет встречали радистка и кладовщик в тулупах и валенках.
— Иван, принимай быстрей груз! Через час должен лететь обратно, иначе зазимую у вас. Клава! Сейчас же запроси прогноз погоды! — кричал им бородатый летчик.
Северцев вместе с летчиком вошел в темный барак, где топилась железная печка и на столе горела керосиновая лампа.
Летчик поглядел на тусклую электрическую лампочку у потолка:
— Что с энергией?
— Движок барахлит, на аккумуляторах работаю, — ответила радистка, надевая наушники.
— Где начальство? — спросил кладовщика Северцев.
— Я теперь здесь самый главный. А кого тебе надо, паря?
— Малининых.
— Однако поздно хватился, паря, они к Ленинграду небось подъезжают, — ответил кладовщик и вышел, плотно прикрыв за собой скрипучую от мороза дверь.
— Вот и кончился мой отпуск. Полетим обратно! — сказал Северцев летчику.
— Быстро управились. Как сводка, Клава?
Радистка сняла наушники и передала бумажку летчику.
— Надо торопиться с отлетом, ветер усиливается. Пойду помогу разгружать, — сказал летчик, выходя из барака.
Северцев тоже поднялся, но, оставшись наедине с радисткой, спросил:
— Скажите, как живет Валерия Сергеевна?
— Вы Северцев? — спросила в свою очередь радистка, внимательно всматриваясь в незнакомца.
— Да… Но как вы догадались? — недоумевал он.
— Ваши телеграммы для Валерии Сергеевны принимала я. По ее просьбе передавала ей в руки. Она часто спрашивала, нет ли ей от вас чего-нибудь, и огорчалась очень. Фотокарточку вашу показывала мне — у моря вы с ней сняты. Какая досада, что не застали…
— Ну как она?.. Расскажите!..
— Да что уж тут рассказывать, разве это жизнь? С утра до вечера образцы пород перебирает, ночью за мужем ходит, плох он, кровью харкает, вот, может, в Ленинграде врачи помогут. Ну, а сама здорова, только седая шибко стала да грустная, в глаза ей смотреть больно. Наказывайте: что передать-то ей от вас?
— Ничего. Впрочем, попросите ее написать мне, вот мой адрес.
— Адрес этот она знает, вы писали. А отвечать не хочет. Гордая. Наверное, обидели ее чем, вот и не прощает.
— Наверное, наверное… До свидания, Клава! — И Северцев тоже пошел разгружать самолет.
Когда Михаил Васильевич рассказал Шахову об этой поездке, тот еще настойчивей стал убеждать Северцева забыть Малинину. Не терзать ее своими письмами и телеграммами. И вдруг посоветовал жениться… даже сватовство брал на себя!
— Николай Федорович, вы только подумайте, что вы говорите!.. После того, что я узнал от радистки, — жениться?!
Со времени этого разговора между ними пробежала черная кошка. Северцев больше не откровенничал с Шаховым, держался с ним подчеркнуто официально.
Летели месяцы. Валерия молчала. Вновь Михаил Васильевич договорился об отпуске и решил опять добираться к ней. За день до его отъезда пришло письмо, написанное незнакомым почерком. На конверте не было обратного адреса, штемпель неразборчив, и Северцев долго гадал, от кого оно. Внезапно решил: от радистки Клавы!.. — и быстро разорвал край конверта.
«Здравствуйте, Михаил Васильевич! Пишет вам радистка Клава из Алмазной экспедиции. Мы меня помните? Ну, так вот, хочу рассказать про наши печальные дела. Начальник Павел Александрович в геологическую партию не вернулся. Весной на родине отдал богу душу. На его место назначили Валерию Сергеевну, но она отказалась. Побыла здесь месяца два, как положено, оформила запасы и все дела передала старшему геологу. Люди знающие говорят, что очень много Малинины нашли алмазов. Месторождение это Валерия Сергеевна назвала Павловским, в честь Павла Александровича. Я ей все рассказала о Вашем приезде, передала Вашу записку с адресом и просьбу. Она долго расспрашивала о Вас, какой Вы с виду, здоровы ли и прочее. Обещала теперь написать, даже заехать к Вам собиралась. Как пришел сюда первый пароход, так она с ним и уехала. Имущество все свое раздарила и подалась, сердешная, с одним рюкзаком за плечами, а куда — не сказала. Сама, говорит, не знаю, куда ветром теперь занесет. Написать мне обещала, но пока больше ничего не знаю. Если Вы знаете ее адрес, прошу написать о нем. До свидания, с поклоном к Вам Клава».
Каждый вечер, приходя домой, он механически допытывался у дежурной лифтерши — не спрашивала ли его приезжая женщина? И добавлял: такая интересная и седая. «Нет, не приходила», «Нет не спрашивала», — отвечала лифтерша, не дослушав его.
За последнее время в жизни Северцева произошли перемены. Он покинул Зареченск и, по предложению Шахова, был назначен директором Московского научно-проектного института, где работал его Виктор. Северцев колебался: его отъезд из Зареченска могли расценить как дезертирство, но и оставаться дольше там он не хотел. Во время командировки в Москву ему стукнуло пятьдесят, эту дату отмечали у Шаховых, пришел Виктор, и коллективно порешили, что Михаил Васильевич примет предложение Николая Федоровича… Через несколько дней Северцев уехал в совнархоз сдавать дела. И, зайдя домой, увидел сияющую лифтершу…
— Была, была твоя седая красавица, душевный ты мой человек!..
— Где она сейчас? Что сказала?
— Приказывала сказать, что, значит, приходила тебя поздравить. Потом телеграмму прислала. Вот, бери!
«Поздравляю пятидесятилетием желаю прожить долгую жизнь без седины в сердце Валерия».
— И еще тебе письмо от гражданки Северцевой, небось от супружницы.
Михаил Васильевич сунул письмо в карман.
— О чем вы говорили? Она хоть обещала зайти еще раз?
— Говорили про разные разности… про тебя, значит, что в Москве и скоро ждем обратно, про сына Виктора, что надысь приезжал… А больше, кажись, ничего. Так, про бабские печали всяко-разное болтали. Зайдет или нет — не сказывала, только я ее приглашала. Сидела она вот здесь на своем рюкзачке, бездомная, горемычная. Дала я ей ключ от твоей квартиры. Взяла, благодарствовала. А когда письмо от супружницы увидала, ключ вернула назад. Я ее на ночь у себя приютила, как сменилась.
— Ну что же, спасибо и на этом.
Северцев поднялся к себе. Бросив на пыльный стул пальто, открыл форточки. Свежий сквознячок продул затхлый воздух нежилой комнаты. Михаил Васильевич был рад, что Валерия помнила день его рождения. А вот он даже не знает точно, сколько ей лет… Видимо, теперь она вернется! Она уже вернулась бы, если бы не его отъезд в Москву… Теперь скоро, — может, через неделю, через день, через минуту, — раздастся звонок… Так и не дождался он в Зареченске ее звонка.
Расстался Михаил Васильевич с сослуживцами по совнархозу очень тепло и просто. Местные работники по-своему поняли его отъезд: все москвичи здесь птицы залетные, гнезда вьют временные, ждут не дождутся скорей улететь в родные края.
Валерии он написал письмо — назвал свои московские координаты, очень просил ее больше не исчезать. Письмо передал вместе с ключом от квартиры лифтерше. Та уверяла, что непременно передаст письмо седой красавице, как только та придет опять.
И вот снова Москва. Интересная — но малознакомая — научная и проектная работа, осваивать которую приходится с азов — на это уйдут дни и ночи многих месяцев, лет. Сколько теперь изменилось в жизни Михаила Васильевича! Неизменным осталось одно — ожидание Валерии. Он по-прежнему ждал ее, вздрагивал от каждого звонка в передней, в тревожном ожидании снимал трубку телефона…
И вот на днях он вновь напал на ее след. В институт пришла местная газета, где крупным шрифтом сообщалось об открытии геологом Малининой новой алмазной кимберлитовой трубки. Это открытие вызвало интерес в его институте — институт проектировал северные алмазодобывающие предприятия, и было решено запросить подробные параметры месторождения: запасы руды, среднее содержание алмазов в тонне, коэффициент вскрыши пустых пород, крупность алмазов (в каратах).
В этот же вечер Северцев послал в Усть-Пиропский вторую телеграмму — лично геологу Малининой — с просьбой откликнуться наконец. Ответ пришел без задержки: после оформления геологических материалов по новой кимберлитовой трубке они будут незамедлительно высланы институту в установленном порядке. Геолог Малинина в данное время находится в дальнем маршруте. Подписал телеграмму незнакомый геолог Кузовлев. Обрадованный Северцев пошел к Шахову за получением разрешения на командировку в Усть-Пиропский.
Николай Федорович просил с командировкой повременить: сейчас верстаются контрольные цифры пятилетки, Северцев очень нужен в Москве. Заметив, как помрачнел Михаил Васильевич, Шахов предложил лететь попозже вместе: он тоже хочет ознакомиться с новой трубкой. Если она надежна и интересна в промышленном, а не только в геологическом отношении, как часто оценивают месторождения геологи, то ее следует включить в наметки пятилетки.
Вчера Михаил Васильевич по дороге домой дал Валерии телеграмму с оплаченным ответом — сообщил о своем скором приезде. И вот сегодня пришел оплаченный ответ…
Михаил Васильевич достал из палехской шкатулки единственное письмо Валерии, полученное им через Шахова восемь лет назад.
«Любимый мой! Когда ты получишь это письмо, меня не будет в Москве, прости, что не смогла с тобой попрощаться: боялась — не выдержу. Теперь все кончено. Мы с тобой больше не должны видеться. Ты сделал все, чтобы мы были вместе. Но расстаться необходимо, и ты знаешь почему. Сейчас мы очень страдаем, наш разрыв душит меня, как тяжкий, тяжкий сон. Пройдет много дней, пока мы проснемся, долго нам будет еще больно. Там, далеко от тебя, я буду часто видеть тебя… Нас с тобой! Но наступит и выздоровление. Время сделает свое дело. Все на свете проходит, мой дорогой, и ты это знаешь не хуже меня. Может быть, мы еще встретимся, но когда это будет? Может быть, не будет и встречи. Кто знает, как еще сложится наша жизнь… Разве такой мы представляли ее вчера? Прощай, мой любимый, моя надежда в жизни, мое счастье».
Взяв со стола «Литературную газету», он прилег на кушетку. Невнимательно перелистал страницы, отложил газету в сторону. Он думал и думал над телеграммой… Валерия все еще не вернулась из дальнего маршрута или продолжает играть с ним в кошки-мышки… Как все нескладно у них получается!..
Теперь он может сказать себе — Валерия была его первой и единственной любовью, любовью больше несчастной, чем счастливой. На Орлином руднике, встретив ее, познал первое жизненное потрясение: его любимая внезапно вышла замуж за другого… То он хотел покончить с собой, то собирался застрелить ее и, чтобы положить конец своим мучениям, уехал с рудника. Новый прииск встретил его новыми друзьями. Многое стерло из памяти всепоглощающее время. По доходившим до него слухам, странный брак не принес Валерии счастья, жизнь рассчиталась с ней за ее вероломство, и где-то в душе он был даже доволен этим. Сейчас он признавался себе, что и тогда издали он ревниво следил за каждым шагом Валерии, на что-то надеясь в душе. Постепенно он узнал, что у нее были большие неприятности, арестовали мужа, и вскоре след ее потерялся в сибирской тайге. На новом прииске, когда тоскливое одиночество стало просто непереносимым, он познакомился с молодой учительницей Анной… Любил ли он ее? В то время ему казалось, что любил, хотя эта спокойная любовь совсем не похожа на ту, прежнюю. Родился сын, началась война. Фронт. Возвращение в семью, которая казалась прочной после всего пережитого… Так казалось до второй, спустя многие годы, встречи с Валерией на Сосновке, когда он понял, что обманывал себя, думая, что время излечило его от любовного недуга. Оно просто загнало его вглубь… Михаил Васильевич теперь знал, что и Валерия всю жизнь любила только его. Поэтому оставил семью, любимого сына… В день, когда получил развод с Анной, он вновь потерял Валерию: вернулся из ссылки ее муж, которого она долгие годы считала трагически погибшим. С того дня больше они с Валерией не виделись, она улетела вслед за больным мужем на Север. Тогда он вновь пережил тяжелое потрясение. Ему помог Шахов — забрал с собой, чтобы легче было справиться с горем.
Михаил Васильевич помнил дословно тот разговор с Шаховым:
— Ведь она уехала не с ним, а при нем. Неужели твоя глупая башка не способна уразуметь эту разницу? Она вернется к тебе, Миша.
— Когда?
— Есть вещи, о которых не принято спрашивать.
Шахов считал, что во всяком случае до конца дней Павла Александровича Валерия останется с мужем. Не любовь заставляет ее поступить так, а острое чувство долга и сострадания к обреченному. Но она вернется! Он верил в любовь…
И она вернулась. И лишь дурацкое письмо Анны, в котором та просила достать сыну пыжика или ондатры на модную теперь меховую шапку, опять разлучило их.
Но теперь он знает ее адрес, и как только она вернется из своего дальнего маршрута, он полетит к ней, за ней…
2
На письменном столе затрещал телефон. Михаил Васильевич с постоянным теперь тревожным ожиданием снял трубку. Говорил знакомый мужской голос.
— Здравствуйте… Яблоков? Здравствуй, дорогой Петр Иванович, здравствуй!.. Да, не видались с Зареченска… Да, в Москве, директорствую… Нравится ли? Работа интересная, бесспорно… Личная жизнь? — Северцев помедлил с ответом. — Все так же. Муторно одному, особенно в праздники, я стал их ненавидеть, а в рабочие дни — нормально… Жениться? Мне еще рано… Уж кто-кто, а ты знаешь, что я однолюб. За приглашение спасибо, но по какому поводу?.. Только за подарок не ругайся, принесу какую-нибудь полезную ненужность. Впредь предупреждай заранее!.. Зайдешь за мной? Запиши адрес! — Повесив трубку, он пошел на кухню и включил утюг.
Яблоков не заставил себя долго ждать. Пришел минут через пятнадцать, в сером костюме, с огромным букетом цветов. Сев в кресло и вытянув раненую ногу, с облегчением сказал, взглянув на Северцева, усердно гладившего брюки:
— Жена хандрит, не хотела праздновать день рождения, но я настоял! Будут только свои, так что можешь особенно не наряжаться, или, как говорит мой сын, не выпендриваться.
— Сейчас буду готов!
— Успеем… Не прожги дырку! Вроде паленым запахло… — сморщив нос, усмехнулся Яблоков. — Я вот так же китель прожег в зареченской гостинице. Только вчера оттуда вернулся…
— Что нового там? — брызгая водой на брюки, спросил Северцев.
— Совнархозовская машина еще крутится по инерции. Но сегодня слушай радио: передадут решение Пленума ЦК. А ты какими теперь проблемами занимаешься?
— Научными… К сожалению, науку подчас оценивают процентом защищенных диссертаций, а народнохозяйственные проблемы не решаются ею годами и десятилетиями!..
— Ладно, не брюзжи, науку ты еще не шибко знаешь, — усмехаясь, заметил Яблоков.
— Горячий, чертяка! Палец обжег… Вот, пожалуйста, наглядный пример!.. Все отрасли техники нужно подтягивать до уровня космической… — Северцев лизнул кончик пальца, приложил палец к утюгу, быстро отдернул руку и, улыбаясь, добавил: — …а не выпускать такие утюги, что обжигают пальцы!.. Мы больше говорим, чем делаем. Иногда я ловлю себя на мысли, что сам много критиканствую, кого-то обвиняю, чем-то недоволен… Это страшно и противно, как противен брюзжащий обыватель. Молодежь портим, любые наши шатания она чутко улавливает. Это я знаю по своему Виктору, — Северцев кивнул на висящую у зеркала фотографию сына.
Яблоков достал из кармана записную книжку и, раскрыв ее, сказал:
— Малинина открыла новое крупное месторождение алмазов. Усть-Пиронское, кажется, называется?
— Усть-Пиропское, — поправил Северцев.
— Возможно, я записал ошибочно. Знаешь, что у Малининой умер муж?
Северцев в ответ молча кивнул головой, перестал гладить, сел рядом с гостем.
— Ты виделся с ней? — откашлявшись, задал вопрос Яблоков.
— Нет.
— Что же теперь вам мешает встретиться? — Яблоков очень дружелюбно посмотрел на хозяина.
— Она заходила перед моим отъездом из Зареченска, но я был в командировке. А теперь, как мне кажется, она избегает меня. Дорожит своей свободой? — поделился горькими своими предположениями Северцев.
— Ее можно понять: она может теперь дорожить своей свободой, потому что устала ждать тебя, устала возиться с обреченным мужем, устала жить ожиданиями, — в раздумье, будто беседуя сам с собой, глухо сказал Яблоков.
Больше он вопросов не задавал, потому что хорошо знал историю их отношений еще с Сосновского комбината. Вскоре, взглянув на часы, попросил:
— Включи, пожалуйста, радио!
В комнате раздался голос диктора, читающего решение сентябрьского Пленума ЦК партии о перестройке руководства народным хозяйством.
— Так, значит, совнархозы закрестили и возродили министерства… — комментировал Северцев.
Он удивлялся, как спокойно воспринял эту новость, видимо, потому, что был подготовлен к ней ходом событий, давно ждал ее. Вспомнилось, как совсем по-другому, очень взволнованно, переживал он в 1957 году решение о создании совнархозов, оно тогда прозвучало как гром среди ясного неба, вызвав растерянность у одних, оптимистические надежды у других. Северцев был тогда в числе оптимистов. Теперь же стал более сдержанным в оценках экономических проблем.
— Я высказываю, конечно, свое сугубо личное мнение, но мне кажется, что не это главное в решении, а вводимая новая экономическая реформа! Порядка в экономике нельзя добиться с помощью лозунгов и диктата: это все равно что приказывать больному выздороветь… — заметил Яблоков.
— Экономика наша развивается, выдвигает все новые и новые проблемы! Нелегко они решались старыми министерствами, еще труднее — совнархозами. Будут трудности и у новых министерств. Дело не в вывесках, хотя и структура управления много определяет, а в самих экономических проблемах, — согласился Северцев.
— Поживем — увидим! А ты на новом месте пришелся ко двору или опять бунтуешь? — спросил Яблоков, поглаживая вытянутую ногу.
— До рукопашной с начальством еще не дошло, но стреножат меня во всем, начинаю брыкаться. Начальства над директором полно, все дают ценные указания.
Северцев захватил на кухню утюг и, принеся одежную щетку, стал снимать ею с отглаженных брюк какие-то нитки.
— Значит, вашим взводом солдат командует рота офицеров: один кричит: «Ко мне!», а другой: «Стой там»? — перебирая в букете розы, спросил Яблоков.
— Угу. Я уже заявил начальству протест, — повязывая галстук, рассказывал Северцев.
— И что же начальство?
— Назавтра я узнал, что оно потребовало к себе мое личное дело.
— Это потому, что ты недоволен начальством. А собой-то ты, крамольник, когда-нибудь бываешь доволен? — добродушно спросил Петр Иванович, поднимаясь с кресла.
— Очень редко. Ну, я готов. Пошли?
Яблоков, поправив на Северцеве галстук, со вздохом проговорил:
— А у Маши моей подозрительную опухоль в груди обнаружили, на днях положат в госпиталь… Никогда в жизни не болела!.. — Прихрамывая, он пошел вперед, потом повернулся к Северцеву и приложил палец к губам…
«У каждого свой крест», — думал Михаил Васильевич, натягивая на плечи плащ-дождевик.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В кабинете Бастида безраздельно царствовали алюминий, стекло и пластмассы: стены, потолок, дверные и оконные рамы, пол, люстры, шкафы, телефоны, стол и стулья — все было сделано только из них, и поэтому от кабинета веяло холодом. Зато Жан Бастид, как всегда, был радушен и любезен, внимателен и приветлив.
Он усадил Проворнова в глубокое низкое кресло и подкатил на колесиках столик с бутылками в ярких этикетках.
— Коньяк, виски, аперитив?
— Чуточку коньяку… Достаточно, достаточно!
— У меня есть приятные новости, выпьем за них! — подняв рюмку, сказал Бастид.
— Какие, месье Бастид?
— Сначала выпьем! — Бастид подмигнул и пригубил свою рюмку.
Проворнов последовал его примеру, но закашлялся, покраснел и схватился за бутылку с содовой водой. Придя в себя, он повторил вопрос.
Бастид достал коробку с сигарами, предложил гостю закурить.
— К сожалению, не гаванские. Их теперь курят в в Москве. Новость первая: наши дела продвигаются успешно. Сегодня вернулся из Москвы мой коллега Смит, он привез подписанный контракт. Теперь мы убеждены в ваших серьезных намерениях. Как вы догадываетесь, фирма пригласила вас не только посмотреть Париж, но и по деловым соображениям!
— Я догадываюсь, — сказал Проворнов, — речь идет о точных приборах для геофизических методов разведки руд? Геофизику в геологоразведке я предлагал еще до последней войны, писал о ней и в нашем журнале, но меня тогда не поддержали. У вас, на Западе, мою идею внедрили раньше, и вот я приехал к вам знакомиться о ней… Смешно, не правда ли?
Бастид не перебивал гостя.
— Это не единственный случай, когда на Западе воплощаются идеи русских инженеров, идеи, за которые мы потом платим валютой, — с горечью закончил Проворнов.
— За вас, крупнейшего русского ученого! — Бастид снова пригубил свою рюмку. — С приборами вас вчера ознакомили. Теперь дело за вашей рекомендацией объединению, покупать вам у нас лицензии или готовые образцы, — подытожил он беседу.
— Я убедился в том, что ваши приборы чувствительнее и точнее наших. Но и они пока не пригодны для выявления глубоко залегающих руд без проходки шахт и скважин, а лишь по физическим свойствам руд — по плотности, электропроводности, излучению продуктов радиоактивного распада и многим другим их свойствам.
Бастид сразу поднял руки.
— Однако, я думаю, нам следует… — продолжал было Проворнов.
Но Бастид замахал на него руками:
— Не торопитесь, ради бога, ведь это не любовная интрижка! — И он громко засмеялся, довольный своей шуткой.
— Я думаю, нам следует купить ваши приборы.
— Все, что могу сказать на это: я был бы счастлив иметь в нашей фирме сотрудников с таким истинно русским размахом! — непривычно серьезным для себя тоном заметил Бастид.
— Увы, это невозможно, — вежливо и холодно, как ему показалось, ответил Проворнов.
Бастид внимательно посмотрел ему в глаза и нажал на белом аппарате кнопку.
Вошел длинный, худой Смит. Бастид представил его Проворнову. Смит молча кивнул на красный телефонный аппарат, Бастид снял трубку.
— Месье Зауэр? Надеюсь, Смит рассказал вам о цели поездки? Очень хорошо, собирайтесь, собирайтесь. Да, конечно, я остался очень доволен поездкой в Россию, думаю — вам тоже понравится. До встречи. — Положив трубку, он на мгновенье задумался, но тут же озабоченное выражение сменилось улыбкой: — Мой коллега, — он кивнул в сторону Смита, — привез рекламацию на наши буровые станки. Это просто неслыханно! Подобное наша фирма получает впервые, клянусь вам. Это досадное недоразумение. Видимо, ваш персонал недостаточно обучен. Из нашего франкфуртского отделения выедет к вам инженер-механик Зауэр, он прекрасный специалист, и все будет налажено… Да!.. — спохватился Бастид. — Я не сказал вам о второй новости! Вашу книгу по геологии, которую вы так любезно преподнесли мне, согласилось переиздать на французском языке одно наше издательство. Смиту уже передали для вручения вам аванс, он вам пригодится, пока вы в Париже. — Бастид кивнул Смиту, тот вынул из кармана конверт и передал Проворнову.
Профессор, не зная, как надо поступить в его положении, оставил конверт на столике с бутылками и рюмками.
— Простите, но я не понимаю, что вас смущает… Это гонорар, небольшая часть гонорара за ваш научный труд…
— Насколько мне известно, советским авторам гонораров за рубежом, как правило, не платят…
— Да, но бывают исключения. По просьбе нашей фирмы его сделали и для вас.
— Ну, благодарю вас. Переиздание книги в Париже для меня большая честь.
Бастид взглянул на молчаливого Смита, тот понял его взгляд и удалился.
— Лучше без него, — сказал Бастид. И добавил: — Мы ошибаемся в выборе собственных жен, тем более можем ошибаться в выборе сотрудников. Особенно если не мы их выбираем… бывает иногда, что их нам навязывают… Итак, в заключение нашей деловой встречи я хотел бы просить вас, профессор, вашим огромным научным авторитетом поддержать нашу фирму там, у вас. Не скрою от вас: в коммерческом мире идет борьба многих компаний и корпораций. Вообще в нашем грешном мире все построено на войне: море воюет с берегом, зной — с морозом, ветер — с ветром, зверь — со зверем, человек — с человеком, общество — с обществом, фирма — с фирмой…
Этот день выдался для Смита трудным. С самого утра он возил московского гостя по достопримечательным местам Парижа, хотя лично ему, Смиту, все это — Сакре-Кер и Дом инвалидов, Нотр-Дам де Пари и башня Эйфеля — давно осточертело и вызывало лишь досаду, что он зря тратит время. Впрочем, он не так уж зря терял это время — Смит внимательно приглядывался к Проворнову, пытался понять, чем живет этот профессор, найти слабые стороны его характера, узнать, на что тот может «клюнуть». Он с удивлением заметил, что профессор совершенно равнодушен к магазинам, до сих пор его единственной покупкой была старинная пластинка Шаляпина. Смит предложил профессору еще деньги за переиздание книги. Проворнов отказался, сказав, что деньги у него есть, он к тому же не потратил ни цента из аванса.
Смит внимательно слушал сетования Проворнова на то, что еще до войны он писал в советском научном журнале о внедрении геофизики в геологоразведочные работы, но его тогда не поддержали, а на Западе его идею подхватили и воплотили в аппарате, за которые русские должны теперь платить валютой. Смит было обрадовался. Ему показалось, что это верный ключ к разговору. Он принялся развивать идею о том, что только здесь, в свободном мире, гарантируется свобода творчества такому крупному ученому, как господин профессор, недаром сюда стекаются самые талантливые научные умы отовсюду. Но он скоро пришел к выводу, что этот профессор болен коммунистическим склерозом мысли, он, видите ли, критикует прежние порядки в своей стране, но только так, как заботливый отец журит своего любимого сына, чтобы он стал еще лучше.
Поняв, что таким путем он ничего не добьется, Смит решил действовать своими методами. Душеспасительные беседы с красными интеллигентами не по его части. Пусть их ведет этот болтун Бастид, а он, Смит, не намерен больше возиться. Он-то знает, как надо обламывать таких типов, как этот профессор. Тут надо действовать быстро, не дать ему время анализировать, сопоставлять и в конечном счете догадаться, куда клонят его милые хозяева из «Майнинг корпорэйшн». Его нужно запугать. Он ведь трус, боится даже стриптиз в кабаке смотреть.
Размышляя таким образом, Смит остановил машину и, извинившись перед Проворновым, направился к телефонной будке.
— Привет, старина Чарли!.. Помнится, ты говорил мне, что не сможешь составить нам компанию в бридж, потому что сегодня вечером вы устраиваете облаву на этих ребят, что балуются наркотиками? Так не скажешь ли мне, где вы сегодня орудуете?.. Нет, нет, никого я не собираюсь предупреждать. Я, дружище, давно в эти игры не играю. Тут как раз наоборот — мне нужно припугнуть одного типа… Да. Чтобы он попал в протокол, а протокол ты мне потом вернешь… Ну да, да! Спасибо, друг! А? За мной не пропадет, ты же знаешь. Ну, привет, доктор.
Смит вернулся в машину и предложил Проворнову поужинать в одном монмартрском кабачке, это не роскошный «Лидо», но кормят неплохо, и здесь веселее, чем на Елисейских полях.
Усталый Проворнов с облегчением согласился. Вскоре они подъехали к кабачку, заняли столик в небольшом, слабо освещенном зале. За ужином Смит рассказывал о скаковых лошадях, он знал родословные всех призеров, много лет играл на скачках.
Исчерпав эту тему, Смит надолго замолчал, внимательно следя за всеми входившими в зал посетителями, — он, видимо, кого-то поджидал. Прикуривая сигарету за сигаретой, Смит не гасил спички, а аккуратно пристраивал их вертикально к борту пепельницы-гондолы и смотрел, как они корчатся в пламени горящего факела.
К их столу подошел волосатый парень, он что-то сказал Смиту и передал ему и Проворнову по пачке сигарет. Профессор машинально взял и сунул ее в карман, а Смит пошел звонить куда-то по телефону.
Проворнов, ожидая его, наблюдал за танцующими.
Внезапно оркестр умолк, танцоров как ветром сдуло, за соседними столиками тоже никого не осталось. «Облава, облава!» — услышал Проворнов встревоженные возгласы и увидел перед собой двух мужчин, высокого и низкого, они оба были в черных очках.
Парень, сунувший Проворнову сигареты, словно растворился.
— Предъявите ваш документ, — приказал высокий.
— На каком основании? — запротестовал Проворнов. — Кто вы такие?
Высокий показал удостоверение. Проворнов, пожав плечами, предъявил свой паспорт. Высокий внимательно посмотрел на Проворнова и, спрятав паспорт в карман, распорядился:
— Поедемте с нами.
— Позвольте! — воскликнул Проворнов, но ему молча вывернули руки, вывели на улицу и втолкнули в подошедшую машину. Там было еще несколько задержанных.
Низкорослый обшарил карманы Проворнова, достал пачку сигарет и, повертев ее под лучами карманного фонаря, сказал высокому:
— Марихуана.
Машина подъехала к темному зданию. Проворнова повели по длинному, плохо освещенному коридору. Он кончался массивной дверью, которую высокий отворил толчком ноги.
В большой комнате за столом Проворнов увидел толстого, с низким лбом и коротко стриженными рыжеватыми волосами мужчину.
— Задержан за торговлю наркотиками, шеф, — передавая толстому мужчине паспорт Проворнова и пачку сигарет, доложил высокий.
— Я протестую, я ничего не сделал дурного! — воскликнул Проворнов.
— Составьте протокол, — приказал шеф.
— Я требую, чтобы меня соединили по телефону с посольством! — заикаясь от волнения, сказал Проворнов.
— Сейчас оформим протокол, а потом звоните куда угодно! — оборвал его шеф.
Протокол был составлен быстро. Проворнов от подписи отказался.
— Это провокация, я буду жаловаться на ваш произвол! — возмущался профессор.
— Он к тому же еще и пьян! Надо пригласить врача для освидетельствования, — предложил высокий и вышел из комнаты.
Вскоре он вернулся с горбуном в белом халате, и тот, даже не взглянув на профессора, принялся писать заключение.
— Теперь можете звонить в свое посольство, — пододвинув телефон, насмешливо заявил шеф.
Проворнов не шевельнулся.
— Что теперь со мной будет, боже мой! — в отчаянии воскликнул он.
Шеф вежливо козырнул и вышел вместе с горбатым доктором. Проворнов услышал, как щелкнул дверной замок.
Полуживой профессор закрыл глаза и забылся. Из оцепенения его вывел Смит.
— Господин профессор, господин профессор, что вы наделали? Я сбился с ног, разыскивая вас!
Проворнов бессмысленно смотрел на Смита, не понимая, о чем тот спрашивает.
— Знаю, знаю! Очень неприятная история. Шеф показал мне протокол. Конечно, обвинение в торговле марихуаной абсолютно не убедительно, но то, что ее нашли у вас в кармане, — это скандал! — осуждающе качая головой, говорил Смит.
— Что мне теперь делать? — со слезами на глазах сказал Проворнов.
— Прежде всего вам надо выспаться, — щелкая зажигалкой, заметил Смит и натужно улыбнулся.
— Я арестован, — обводя взглядом комнату, ответил Проворнов.
— Вы свободны, я все уладил. Мне обещали никому не сообщать об этой истории, но поручиться не могу, джентльменов теперь мало, — закончил Смит, сопровождая Проворнова к двери.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Сергей Иванович Рудаков сидел с провожавшим его сыном в маленькой комнатке начальника аэропорта, стены которой были завешаны картами авиационных маршрутов, и внимательно прислушивался к аэродромному радио.
— Граждане пассажиры, рейс номер семьсот один задерживается по метеорологическим условиям, — прохрипел динамик и замолк. В комнатке вновь установилась глухая тишина.
— Отец, зачем летишь на Кварцевый? — спросил Валентин, надкусывая яблоко. — Ведь твоя епархия — город Зареченск.
Сергей Иванович прошелся по комнате, с тревогой посмотрел в окно: над мокрым взлетным полем неподвижно висела серая ватная туча.
— Как член бюро обкома партии, я получил задание: посмотреть, как идет экономический эксперимент на Кварцевом руднике. Степанов написал в обком партии, многие вопросы у него решаются туго, просит помощи. Ну, а меня, видишь ли, горные дела по-прежнему интересуют… А вот тебя, сынок, к моему огорчению, не очень.
Валентин бросил недоеденное яблоко в корзину и, сложив руки на груди, приготовился к объяснению, которого ждал уже несколько дней.
Валентин не терпел отцовских нравоучений, сводившихся, как он считал, к тому, что лучше быть хорошим, чем плохим, что его забота лишь отлично учиться, а не лоботрясничать, набираться знаний для последующей активной работы на благо человечества. Не раз отец напоминал ему, что свою жизнь начинал с шахты, голодал, холодал, воевал, чтобы ему, Валентину, и ему подобным молодым людям не пришлось познавать на практике, почем фунт лиха. Все это Валентин уже знал из многих других источников. Иногда ему становилось жалко отца, похоже, что и отцу не так уж легко и весело было пережевывать эту жвачку. Валентин видел, как отец мучился, пытаясь сказать хоть что-то новое, уйти от набивших оскомину фраз.
— Наверно, я сам виноват, что не сумел привить тебе любовь к нашей семейной профессии. По-моему, ты знаешь, что и дед твой был шахтером… (О деде-шахтере Валентин слышал от отца по меньшей мере уже раз двадцать.) Вот Степанову повезло: его Светлане такие нравоучения не нужны…
Валентин собрался было ответить, что и ему они не помогают, но сдержался. И вправду, Светлана совсем другая… Он помнил ее, девочку с косичками, еще по Южному прииску. Потом они разъехались в разные стороны. Степанова перевели на Кварцевый, а Рудакова послали на партийную работу. Виталий Петрович стал появляться в доме Рудаковых, когда бывал в командировке в Зареченске. И вот однажды привез с собой Светлану: она собиралась держать экзамены в Политехнический институт. Валентин уже сдавал туда экзамен, но провалился на сочинении и год после этого просто проболтался — вечерами занимался на курсах по подготовке в институт, а днем играл в заводской команде в футбол.
Светлана готовилась к экзаменам серьезно. Стал заниматься с нею вместе и Валентин. Экзамены они сдали, Светлана прошла по конкурсу, он же не добрал одного очка. Но зачислен был тоже: за футболиста ходатайствовала кафедра физкультуры. Наверное, и положение отца сыграло свою роль… Светлана пошла на геологоразведочный факультет, Валентин — на инженерно-физический: там был значительно меньше конкурс. Через год и он перебрался на геологоразведочный: на инженерно-физическом заниматься было трудно, заедали математика и физика, приходилось сдавать зачеты по нескольку раз.
Как-то за завтраком, когда шло очередное обсуждение учебы сына, Сергей Иванович узнал, что у Валентина есть «хвосты» по математике и физике и что он думает перейти после первого курса на другой факультет. Отец возмутился: так можно приучить себя вечно бегать от жизни! Чтобы ни о каком переходе Валентин не смел и думать, — он должен закалять свою волю!
Валентин промолчал. А после первого курса все же оформил свой перевод на геологоразведочный. Отец узнал только через несколько месяцев. У них состоялся неприятный разговор, но изменить что-либо было уже поздно.
На новом факультете ему пришлось своих однокашников догонять по минералогии и кристаллографии. И Светлана взяла над ним шефство.
Они занимались в институте, в общежитии у Светланы, иногда в квартире Рудаковых. Валентин ленился, занимался кое-как, лишь бы сдать зачет, не иметь «хвостов». На занятия в химической лаборатории он вообще не являлся, за него все анализы сделала Светлана. Валентин, как он сам оправдывался перед нею, готовился защищать спортивную честь института: предстоял розыгрыш кубка города для студенческих футбольных команд…
Он часто разъезжал по другим городам в составе студенческой сборной. Привозил кубки, медали, грамоты. О нем писали молодежные газеты как о способном спортсмене, ставили в пример.
Только одна Светлана пыталась, как могла, помочь Валентину: писала за него работы, делала курсовые проекты, заставляла перед экзаменом прочитать и хотя бы понять написанное ею. Каждый его экзамен был для нее сплошной трепкой нервов. Валентин портил итоговые показатели в соревновании с соседней группой, и Светлана упрашивала преподавателей разрешить пересдачу без выставления позорной оценки… Сколько раз она говорила с Валентином как комсорг — просила взяться за ум! Он тут же забывал о своих обещаниях. Она ругалась с ним, отказывалась ему помогать, добилась обсуждения его плохой успеваемости на комсомольском собрании факультета, — ему объявили выговор.
Он всюду объяснял «хвосты» спортивной перегрузкой, обещал всерьез взяться за учебу… Но, посидев два-три вечера за книгами и сдав очередной «хвост», опять пропадал на стадионе.
Недавно, перед самым началом сессии, Светлана не выдержала и все рассказала его отцу… Сергей Иванович наговорил сыну резкостей, унизил Валентина в присутствии этой девчонки, назвал тунеядцем. Валентин, хлопнув дверью, ушел из дома. Бабушке Варваре Сергеевне сделалось плохо, ее уложили в постель и вызвали «неотложку».
Три дня не появлялся Валентин дома, ночевал у ребят в общежитии и только после категорического требования «стукачки», как он теперь со злости называл Светку, вернулся к отцу с повинной.
Сергей Иванович настоял, чтобы он на время экзаменационной сессии бросил футбол и только занимался. С грехом пополам и с помощью Светланы он еще раз сдал зачеты. Правда, кроме последнего — осенью опять переэкзаменовка. Черт с ней, с этой переэкзаменовкой! Хуже, что сорвалось футбольное турне по южным городам… Валентина как «хвостиста» не включили в сборную. И теперь вместо Сочи придется скоро ехать на Кварцевый… Но он не одинок: у капитана сборной команды Пухова дела совсем плохи — три «хвоста» и последнее предупреждение об исключении из института…
Динамик громко закричал:
— Граждане пассажиры! Через несколько минут будет объявлена посадка на самолет, отлетающий рейсом номер семьсот один. Повторяю. Граждане пассажиры! Через несколько минут будет объявлена посадка на самолет, отлетающий рейсом номер семьсот один… Прошу приготовиться к посадке!
Рудаков встал и, застегивая плащ, сказал Валентину:
— Сынок, я уже не буду сегодня повторять свои советы и просьбы… как этот динамик.
Сергей Иванович взял чемоданчик и первым вышел на перрон.
2
Рудаков и Степанов шли по бетонной рудовозной дороге карьера и поминутно отступали в пыльный бурьян, пропуская груженные рудой самосвалы, с тяжелым гулом устремлявшиеся к прожорливой обогатительной фабрике, которую, казалось, никогда невозможно накормить рудой. Они поднимались к верхним уступам карьера, а дно его, опустившееся уже на триста метров, было закрыто легким газовым облаком.
— Вот еще одна нерешенная проблема, — кивнув в сторону газового облака, заметил Рудаков.
— Нерешенных проблем много, они обнажились полнее при новых условиях работы. Вот возьми Василия Ивановича — технорука: привык работать только по указке, пробежит ровно на столько, на сколько его толкнут, и остановится до следующего толчка, — таким, конечно, живется легче и спокойнее. Но кто-то должен взяться за веревку, качнуть язык колокола, ударить, — тяжело дыша, говорил Степанов.
На верхнем уступе карьера монтировался экскаватор-гигант, который Степанов решил использовать на вскрышных работах. По объему пустые породы уже в шесть раз превышали количество добываемой руды, и вскрышные работы в последнее время резко отставали от добычных. Монтажные работы велись по напряженному графику. Руководил ими Столбов. И когда бы Степанов ни приехал на карьер — и днем и ночью, — он заставал здесь Фрола: тот разбирал монтажные чертежи, помечал мелом сборные металлоконструкции, обсуждал со сварщиком, как лучше подварить трещину в плите, побитой при разгрузке. Экскаватор рос прямо на глазах, он достиг уже высоты многоэтажного дома.
На монтажной площадке, забитой железными балками, фермами, электромоторами и бухтами электрического кабеля, их поджидал Столбов.
— Хорош ли у тебя парторг? Он техник? — поинтересовался Рудаков.
— Тебя не устраивают корочки его диплома? Учится в заочном институте, удовлетворяет? — с каким-то вызовом ответил Степанов.
…Следуя за Столбовым, Рудаков и Степанов по крутой железной лестнице поднялись в просторную кабину. Там шел монтаж пульта управления — соединялись бесчисленные провода, зажигались и гасли разноцветные огоньки на пульте, пахнущем свежей краской.
Рудаков посмотрел из кабины на карьер: уступы, как гигантские ступени лестницы, спускались до дна карьера. Эти ступени почти сплошь были заставлены буровыми станками, экскаваторами, тракторами и бульдозерами. По желтым серпантинам-лентам почти впритык друг к другу катились груженные рудой и породой автосамосвалы, их цепочка, окутанная туманом от выхлопных газов, тянулась до огромного корпуса обогатительной фабрики.
— Крупное у тебя хозяйство, Виталий Петрович, не сравнить с нашим Южным, помнишь? В то время о таком руднике мы могли только мечтать… — сказал Рудаков.
— А о чем же мы, по-твоему, теперь должны мечтать? — поинтересовался Степанов.
— О новой, еще более мощной технике! Карьер весь забит техникой, подчас малопроизводительной, требующей множества людей. А вот этот один гигант… он ведь заменит четыре работающих у тебя двухкубовых экскаватора, а это значит, что ты сократишь двадцать семь машинистов и их помощников. А если вместо десятитонных самосвалов дать тебе сорокатонные, ты высвободишь не одну сотню шоферов… То же можно сказать и о буровых станках, бульдозерах, бесшаровых мельницах на фабрике… Скажешь, утопия?..
В кабину поднялся Пихтачев. Немного отдышавшись, он тепло, как со старым другом, поздоровался с Рудаковым.
— Время не властно над тобой, Павел Алексеевич! Малость ссутулился… а прическа все та же! — проговорил Рудаков, глянув на трепаные, свалявшиеся колтуном седые волосы Пихтачева.
— Не смотри, паря, что у меня грудь впалая! Зато спина колесом! Подчепуриться не успел, это верно, мороки полно. А ты тоже, язви тебя, все такой же, только голову побил морозец.
Пихтачев осмотрел кабину, мудреные приборы, что хитро подмигивали ему разноцветными огоньками, и сокрушенно сказал Столбову, внимательно следившему за работой монтажника:
— Значит, нам крышка.
— Кому это? — не понял Столбов.
— Приискателям, значит. Разве может рабочий человек тягаться с этой гидрой… У нее, посмотри… — Пихтачев за руку потянул Столбова к окну кабины и показал на огромный металлический ковш со стальными зубьями, который монтажники присоединяли к длинной металлической стреле экскаватора, — одно хайло размером с мою баньку. Зараз восемь кубов или двадцать тонн — хоть руды, хоть песка — мигом хватает. Это сколько же в сутки?
— Несколько тысяч, — подсказал Степанов.
— О-г-го-го, паря… Помню, в середине тридцатых годов я зачинателем стахановского движения у себя на прииске был. Старатели тогда давали за смену от полукуба до кубометра песков на человека, а я пластался по колено в глиняной жиже и до трех кубометров выгонял. С оркестром встречали! Портрет мой около резиденции — главной конторы, значит, — красовался. Человеком себя чувствовал среди людишек. А тут железяка эта тысячи давать будет! Тьфу ты, господи, помилуй нас!
Рудаков записал просьбы Столбова — экскаватор прислали некомплектным, не хватает электромоторов, кабель не того сечения, троса совсем не получали — нужно срочно досылать, иначе гигант будет стоять.
Пошли на обогатительную фабрику. Внутри фабрика напоминала Рудакову машинное отделение огромного океанского корабля: множество крутых железных лестниц и узких проходов, сотни работающих агрегатов и машин. Очень различные и шумливые механизмы, синхронно отлаженные в едином технологическом процессе, все выполняли одну задачу: извлекали из руды драгоценный металл. Прислушиваясь к ритмичному шуму, заполнявшему пространство под сводами многоэтажного здания, Рудаков невольно вновь вспомнил Южный прииск, его скромную золотую фабрику, что была первой вехой на творческом пути Степанова, Пихтачева и тысяч им подобных в творческом поиске, поиске, породившем ныне эту фабрику. Стоя у грохочущей мельницы, Рудаков интересовался содержанием руды, процентом извлечения золота, потерями его при обогащении, мощностью оборудования.
— Много мельниц занимают огромную площадь фабрики, и все потому, что маломощны, — заметил он начальнику фабрики. — Конечно, если заменить их на мощные бесшаровые, то на этих площадях без нового строительства можно вдвое-втрое поднять производительность труда и мощность фабрики.
— Но таких мельниц у нас пока не производится, — со вздохом добавил Степанов.
Рудаков внимательно слушал жалобы рабочих и мастеров — быстро выходят из строя насосы, мельницы, приходится держать большой штат ремонтников, оборудование не имеет автоматики — нужно почти у каждой машины держать человека. Рудаков уже почти исписал свой блокнот, а разговору, казалось, не будет конца. Последняя его запись — попросить Северцева конструировать мощное оборудование, оборудование и еще раз оборудование. Взглянув на часы, Рудаков заметил:
— Извините, но нам пора на партсобрание.
Они гуськом спустились по железной лесенке и пошли мимо флотационных машин к выходу. Красочные транспаранты призывали экономить при новой экономической системе электроэнергию, химические реактивы, воду, материалы, экономить всюду и во всем.
3
В рудничном Дворце культуры, что стоял рядом с конторой, шло открытое партийное собрание. Просторный зал заседаний был полон народа, шло обсуждение первых итогов работы рудника по новой экономической системе. Вел собрание Столбов, рядом с ним сидели Рудаков и Степанов.
Закончил свое выступление начальник транспорта и, спрятав бумажку в карман, сошел с трибуны, его остановил Степанов:
— Когда все-таки начнете выполнять план грузоперевозок?
— Стараемся, но не все машины выходят на линию, причины вам, Виталий Петрович, известны.
— Причина главная — нежелание работать по-новому! — выкрикнул кто-то из зала.
— Ваши шофера налево ездят охотнее, чем за рудой, — поддержал его другой голос.
В зале зашумели.
Столбов поднялся со стула и пригласил выступить начальника фабрики. Тот, подходя к трибуне, вынул из кармана скрученную трубочкой бумажку и полез в другой карман за очками.
— Не надо отредактированных речей, — поморщился Рудаков и попросил: — Расскажите своими словами о вашей нови.
— Оно и лучше, — согласился оратор и, скатав бумажку трубочкой, начал:
— Главная наша новь — исчезает равнодушие к делу. «Не мое дело», — такой ответ слышится все реже и реже. Вот, к примеру, скажу: извлечение золота на нашей фабрике недавно снизилось. Раньше ответ был один: горняки руду гонят некондиционную, с них и спрос, не наше дело! А недавно собрались мы с горняками вместе, сели рядком и поговорили ладком: сколько прибыли потеряли, почитай из своего кармана вынули. И такое друг другу сказали, что повторять, видать, больше не будем.
Потом говорил очкастый плановик. Он жаловался на самоуправство главка: утвержденные нормативы произвольно меняются, а стабильность нормативов — главное требование хозяйственной реформы.
Начальник техснаба утверждал, что перебои в техническом снабжении зависят от главка — планы производства часто меняются, конечно в бо́льшую сторону, и совершенно не увязываются с материальными фондами.
Выступление начальника ремонтного цеха вызвало оживление в зале: «Руководящий полубог», «Самый, самый». Оратор без конца «якал», не замечая настроения зала, и Рудаков вынужден был его прервать:
— Руководитель у нас не полубог, а человек среди людей, которому доверяют больше, чем другим, в расчете на его большой опыт, знания, способности, и только. Помните об этом всегда!
Собрание длилось долго, резолюцию, как никогда ранее, обсуждали придирчиво, вносили конкретные пункты решений, уточняли даты проверки.
Рудаков полистал записную книжку.
— Подведем итог, — сказал он. — Начальство на партийном собрании в основном оправдывалось, а рабочие предлагали улучшения. Вот что они говорили: токарь мехцеха Семенов загнал зря в стружку в прошлом году более трех тонн металла — обязуется теперь их сэкономить. Электрик Васев назвал цифру перерасходованной электроэнергии. Где же эта цифра?.. Ну, неважно, какова она, важно, что можно экономить и энергию. Экскаваторщик Суслов предлагает пустую породу не валить в отвалы, а дробить и использовать на дорожном строительстве. Это по-хозяйски, правда? Еще десятки разумных мыслей высказали рабочие. — Рудаков повернулся к Столбову и строго сказал: — Партийный комитет обязан рассмотреть их, наметить конкретные меры по использованию огромных резервов, к которым мы все еще относимся варварски.
— Хорошо, подготовим план партийно-организационных мероприятий, — согласился Столбов.
4
В директорской гостинице, или, как называли ее на руднике, в заезжем доме, ужинали Рудаков, Степанов, Столбов и Пихтачев. Разговор вертелся вокруг выступлений на партийном собрании.
Пихтачев опрокинул рюмку, утер ладонью масляные губы и задиристо сказал Фролу:
— Не ожидал я от тебя, Фрол, такой критики. Это я-то плохо забочусь о народе, то есть дражниках своих? — и по-петушиному выпятил свою хилую грудь.
Фрол усмехнулся воинственному виду Пихтачева и ответил:
— Палатки протекают, на котловое питание народ жалуется. Обижаться, Павел Алексеич, нечего, я это сказал попросту, по-рабочему.
Пихтачев взвился и закричал на Столбова:
— Какой ты, к дьяволу, рабочий?.. Ты стоял сутками в студеной воде? Перелопачивал до холодного пота пустую породу? Холодал под пихтой в дремучей-то тайге, голодал на одной моченой ежевике? Может, и человечины пробовал, паря?..
— Ты, Павел Алексеевич, того… меру знай! — пытался успокоить его Столбов.
Пихтачев продолжал кричать:
— Значит, вру я, да? Думаешь, что если техникум прошел, так больше меня, старика, знаешь? Придется тебя уму-разуму поучить, рассказать одну историю… Сергей Иванович и Виталий Петрович не дадут соврать, они ее тоже слышали на Южном, — уже тише и спокойнее продолжал Пихтачев.
Он достал коробку «Самородка», угостил всех папиросами, закурил. Несколько раз нервно откашлялся и начал свою историю.
— Расскажу я вам про жеребьевку… Приключилась она с одним приискателем… Максимычем, царствие ему небесное!..
Рудаков и Степанов переглянулись и присели рядом с Пихтачевым.
— Так вот, пошел он в тайгу золото искать. Без бурового станка, конечно, а с киркой да лопатой. Бил шурф за шурфом, и все пропадом — пустые. Собрался бедолажка домой, а тут на его шалашик набрели два таких же золотознатца. Божились, что знают богатый ключ, в компанию пригласили. Клялись, что и продукты завезли зимой на нартах и что еще один товарищ ждет их с лошадьми… Закопал Максимыч в заветном месте свой немудреный скарб и пошел с бродяжками. Топором на деревьях зарубки делал, чтобы не потеряться на обратном пути, да только они не понадобились им. Однако они двадцать пять дней до ключа добирались, но золото и вправду нашли… Шальное. Мох дери и золото бери… С зорьки дотемна не вылезали из мокрой ямы. Покемарят часок-другой, перекурят по очереди, всем сразу нельзя… вода топила, деревянной помпой все время выкачивали… И опять за кирки, лопаты… Однажды Максимыча завалило: грунт неустойчивый попался, а крепить некогда, — но все обошлось: одно ребро сломало.
— Ничего себе, называется, все обошлось: ребро сломало! — не удержался Фрол.
— Не перебивай! — недовольно буркнул Пихтачев и, погасив окурок о стоптанный каблук кирзового сапога, продолжал рассказ:
— На дурницу эти разговоры: горнотехнических инспекторов тогда не было, и профсоюз, помнится, нас не защищал, как теперь.
— Когда продуктов осталось только на обратный путь, они затопили шахтенку, закрыли накатником, незаметно подсыпали породой, чтобы весной опять вернуться. Вначале шли днем и ночью, зарубки на деревьях заместо светофоров им были, потом лошадь попала в старый шурф и сломала ногу, прирезали ее. Много ли утащишь на себе мяса, но, сколько смогли, нагрузили на себя. Шли только днем, боялись обезножить вторую лошадь, но спать не могли: каждый своим золотом дорожил, исчезло доверие друг к другу. Так шли они две недели, а зимовья, где были спрятаны продукты, не видали. Зарубки на деревьях исчезли в тумане, они сбились с пути. Потом зарядили дожди, еды не стало, кроме небольшого куска конины, протухшей за дорогу. К нему не прикасались, решили сберечь на худой конец. Шишковать стали, да медведь их обскакал. И вот решили назавтра законтромить коня — ему тоже нечего было жевать. Взбодрились бродяжки, потопали веселей. В сумерки добрели до бурной горной реки. А речка эта недалече от нашей фабрики течет, за смолокуркой брод они искали, право слово, — убежденно добавил Пихтачев. — Срубили, значит, березу, вершиной она легла на другой берег. Максимыч и еще двое, — допустим, Семен и Василий, я запамятовал, как их точно-то звали, — перебрались нормально. А последний, к примеру Санька, забодай его комар, который переплавлял коня через реку, сорвался с бревна и выпустил из руки узду. Коня понесло, ударило о корягу. Он нырнул, заржал, и больше они не видели его. Искали, да толку-то что? Поняли — пришла смерть. Жрать нечего совсем, даже последний кусок тухлятины-конины утонул вместе с лошадью. Пошел снег, деревья куржаком схватило, а одежонка летняя, ветром подбитая, пимов нет, в драных чириках остались. Последние силенки от голода пропали. Известно, богатый не золото ест, а бедный не камень гложет. Стало ясно: всем из тайги не выйти, кого-то нужно кончать. А кого? Кто послабже?..
Пихтачев сделал паузу и обвел взглядом слушателей. Рудаков и Степанов слушали внимательно, они вспоминали подробности этой жуткой истории, услышанной ими на одной свадьбе на Южном прииске. Пихтачев, как им казалось, излагал события не совсем точно… Столбов перестал иронически улыбаться. Вначале он считал, что слушает очередную пихтачевскую байку, теперь ловил каждое слово рассказчика.
— Так вот, первым, значит, начал Василий. «Кто, говорит, лошадь утопил, пусть и ответ держит». Максимыч возразил, предложил по-честному — пытать судьбу. Санька нашарил в кармане кусок закрутки — к чему она без табака — и разорвал на четыре части. На одном клочке углем крест вывел и передал все клочки слабейшему — Семену. Тот, перекрестившись, снял картуз, кинул поспешно в него бумажки, несколько раз нервно встряхнул. Василий, белее снега, снял шапку, тоже перекрестился, выхватил бумажку и подался в сторону. Развернул трубочку и облегченно выдохнул. За ним тянул Санька, он посмотрел бумажку сразу, — она была тоже чистая, без креста. Максимыч свою вытащил не торопясь. Семен наполовину развернул свою, последнюю, и завыл по-звериному.
— Так не могло быть, не могло, они ведь люди! — воскликнул Столбов, размахивая рукой перед Пихтачевым.
— У приискателей все могло быть. Известно, тайга по своим законам жила, медведь был ее прокурор, — со вздохом сказал Степанов.
— И что же было дальше? — непослушными губами выговорил Столбов.
— Дальше они пошли втроем, — глухим голосом продолжал Пихтачев. — Держались вдоль реки, она должна была вывести к людям. Брели по колено в снегу. Обессилели быстро, особенно Василий, значит. Разводили под пихтами костер, ложились ночевать ближе к огню, прямо в снег. И так день за днем, неделя за неделей. Однажды их засыпал буран, Василий упал в снег и не поднялся: «Здесь, под пихтой, и замерзну, смерть легкая по крайности». Долго уговаривали. Максимыч пошел на хитрость. «Отдай, значит, нам свое золото, на том свете оно не нужно. Не бросать же, почитай, пуд его». Василий от этих слов сразу опомнился и потопал дальше. Умереть решался, а отдать при жизни золото не мог, оно сильнее смерти для приискателя было! — подняв руку с вытянутым указательным пальцем, назидательно закончил Пихтачев.
Он раскрыл висевшую через плечо полевую сумку-планшетку и, достав несколько листков бумаги, подал их Степанову. Виталий Петрович сегодня не стал придираться к Пихтачеву и, вскользь бросив взгляд на бумаги, — это были только требования самых различных материалов, — молча подписал их. Пихтачев вздохнул с облегчением.
— Скажи, Павел Алексеевич, — попросил Столбов, — чем вся эта история закончилась… Не томи!
Пихтачев как бы нехотя добавил:
— Еще шли они много дней. Однажды остановились, развели костер последней спичкой, легли в снег — и не смогли больше подняться. Молчали. Только на костер со страхом глазели: потухнет костер, и жизни конец. Василий отморозил ноги и больше шевелиться не мог. Максимыч через силу все-таки заставил себя на корточках ползти за сухим хворостом. У старой пихты приметил следы лыж… Шатаясь, побрел один, наткнулся вскорости на капкан, чуть его не прихлопнуло. Ну, а капкан человек поставил, ясно? Обогнул Максимыч увал, принюхался — вроде дымком пахнуло. Значит, черная заимка недалече. Так оно и случилось, набрел он на охотничье зимовье. Звероловы нарты снарядили, собак впрягли и поехали за теми бедолагами. Привезли одного Саньку. Василий так и замерз, прижав к груди мешок с золотом. Вот и вся история.
Пихтачев собрался было уходить, но его задержал Столбов:
— Не уходи, Павел Алексеевич, давай выпьем пивка на дорожку. Ну, брат, тут уже нечего сказать, от твоей истории до сих пор мурашки по телу бегают!.. Зато, наверное, эти двое-то больше в тайгу носа не совали, озолотились на всю жизнь!.. — высказал предположение Фрол.
Пихтачев посмотрел на него с явным сожалением, словно думал: хоть ты и партийный наш секретарь, а в приискательских делах… ничегошеньки не смыслишь!
— Угадал, паря, попал в небо пальцем. Золото у них только до первого кабака задержалось. Максимыч просадил его все до грамма за одну ночь в карты, для куража трубку только ассигнациями раскуривал. Саньку гулящая бабенка обобрала, а целовальник-златоимец прикончил его на берегу, да и в реку скинул. Максимыч жалобу писал, приезжал, значит, из губернии следователь, но убийцу не сыскал: когда глаза золотом запорошат, ничего и не увидишь. — Пихтачев замолчал.
— Дикая жизнь была у приискателей, — пожав плечами, проговорил Фрол.
От этих его горьких слов Павел Алексеевич опять взорвался и закричал, взмахивая рукой:
— Дикая, говоришь?.. Смелая, геройская, не всякому по плечу! Понял? Теперь тебя, конечно, на работу и с работы в автобусе возят, кнопками экскаватора один тысячи тонн породы поднимать будешь, дома в ванне плаваешь и в телевизор на Америку глазеешь, по телефону харчи на дом заказываешь, прыщик на заду вскочит — так поликлиника с ног собьется, с бабой поругаешься — профсоюз курорту тебе: укрепляй нервы. Конечно, ты культурный, только не приискатель ты, Фрол, понятно? По нонешним временам любая городская барышня в приискателях ходить сможет! — презрительно фыркнул Пихтачев и умолк, считая, что одержал верх над «несмышленышем».
— И очень хорошо! — вступил в разговор все время молчавший Рудаков. — Твой, Павел Алексеевич, добытчик золота — индивидуалист, счастливчик или неудачник, стяжатель и враг всем окружающим. Труд его — тяжелый, адский труд — и жизнь беспросветны… дики, как правильно заметил парторг. Ты пытаешься облагородить романтикой мужества и геройства старое приискательство и сам же опровергаешь это своим рассказом… Убежден, что молодежь не захотела бы повторять жизнь твоих героев. У нас теперь иной пафос приискательства: пафос механизации и автоматизации, крупного промышленного производства… а не старательского фарта! Вместо твоего добытчика-счастливчика героем стал Фрол: рабочий-специалист, боец валютного фронта нашей страны!
— Какой он рабочий, он техник! — возразил больше из упрямства Пихтачев: в нем постоянно сидел дух противоречия, особенно когда он разговаривал с начальством…
Степанов, разливая по стаканам крепкий чай, заметил:
— Посоветуй, Сергей Иванович, как поступить? Ты знаешь, что рудник мы развиваем, придется строить новую фабрику или расширить эту. Нужно около трех миллионов, а денег не дают…
Рудаков, взглянув на полутемное каскадное здание обогатительной фабрики, спросил:
— Сколько смен работает дробильное отделение?
— Две, конечно.
— Так зачем же строить новую фабрику, зачем тратить деньги на реконструкцию! Загружай действующую фабрику в три смены.
Степанов отрицательно покачал головой:
— С новым мощным оборудованием рудник удвоит добычу. Поэтому лишняя смена на фабрике не решит проблемы. Да и людей на третью смену мы не наберем.
— Непонятно: а на новой фабрике будут работать не люди, духи святые? Руды у тебя флюсовые?.. — допытывался Рудаков.
Степанов невольно улыбнулся: как это такое до сих пор раньше-то не пришло в голову самому?..
— Флюсовые, — подтвердил Столбов, — и дефицитные. Думаю, их с удовольствием возьмет на флюсы соседний медеплавильный завод.
— Точно. Он и золото извлечет из ваших руд и еще деньги за флюсы дополнительно вносить будет, они пойдут в фонд предприятия. Я уж не говорю о трех миллионах капитальных вложений… считайте их моим подарком комбинату! — весело рассмеялся Рудаков: не зря побывал он на Кварцевом!..
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Профессору Проворнову не спалось. В коридоре то и дело слышались шаги, время от времени переговаривались глухие голоса. Вот опять шаги! Они замерли у его двери?.. Профессор напряженно прислушивался.
В конце концов он встал с кровати, открыл окно. Откуда-то снизу, как из колодца, неслись надсадные звуки ресторанной музыки. Свежий воздух немного успокоил. Профессор снова лег и вскоре задремал.
Он спал и не спал. Мозг не мог освободиться от цепких, настойчивых и словно пульсирующих мыслей: эти деньги — не гонорар… А почему, собственно, не гонорар?.. Никакую книгу никто не переводил… Зачем Бастиду обманывать?.. А зачем этот «сувенир» от Бастида, транзистор?.. Его хотят дешево купить?.. А за более дорогую цену он продался бы?.. Да что же это такое? А провокация с марихуаной? Кто дал право так думать о нем? А не он ли сам?.. Чем он мог дать это право?.. Чем же, как не поведением своим, своими неосмотрительными разговорами!.. Только ли неосмотрительными?..
Эта чехарда мыслей прямо-таки изнуряла.
Лишь к утру все будто провалилось куда-то.
Ранним утром в номер постучали. Профессор поднялся, пошатываясь, подошел к двери, открыл ее.
Извинившись за раннее вторжение, вошел Смит.
— Я пришел поговорить с вами, профессор, абсолютно откровенно, начистоту.
— Чем могу служить?
— Свои услуги хотим предложить вам мы. Я пришел пригласить вас остаться у нас. Через три дня у вас будет американский паспорт. Как только паспорт окажется у вас в кармане, мы устроим здесь вашу пресс-конференцию. Вас снимут для кино и телевидения, вы сразу станете всемирно известны. Я завидую вам! — Смит попытался изобразить улыбку на своем костлявом лице. Проворнов слушал в некоем остолбенении. Наконец он смог дать себе отчет в том, что, собственно, сейчас происходит.
— Уходите отсюда! Немедленно!.. — И задохнулся.
Смит, задержавшись на пороге, угрожающе сказал:
— Господин профессор, я уже говорил вам, что сейчас мало джентльменов. Протоколы у меня, и если они окажутся в советском посольстве или в редакции парижских газет, вас ждет Сибирь! Я оставляю вас одного. Но не тратьте время. Его очень мало. Полагаю, что другого выхода у вас нет, как нет другого выхода из этой комнаты: только через окно — на асфальт… Будьте здоровы. Я еще вернусь.
Проворнов, упав на кровать, закрыл глаза и долго лежал без дум, опустошенный.
В дверь снова постучали. На этот раз Проворнов увидел у порога совершенно незнакомого ему человека. Попросив разрешения, тот вошел.
— Моя фамилия Георгиев, я из советского МИДа. Привет вам от Воронова. Я вижу, вы себя плохо чувствуете, Семен Борисович? — спросил пришелец, предъявив свой документ.
— Мигрень, но это пройдет, — не зная, как держать себя с незнакомцем, ответил Проворнов и поспешно убрал со стола в ящик пухлую пачку голубых долларов.
Его действия не остались не замеченными Георгиевым, и он спросил:
— Вы наследство получили в Париже?
— С чего вы взяли? — растерялся Проворнов.
— Тогда откуда у вас такие крупные деньги в американских долларах?
— Какое, собственно, вам-то дело до моих денег? — с вызовом ответил Проворнов.
— Не хотите говорить? Напрасно, — закуривая сигарету, заметил Георгиев.
Они встретились взглядами. Проворнов не выдержал и опустил глаза.
— Я получил аванс за книгу, которую будут переводить на французский язык, — резко бросил Проворнов и ушел в ванную комнату.
Георгиев курил и думал. Вспомнил о жене: что она там делает? Небось дежурит у кровати тяжелобольного, борясь за его жизнь. И он должен спасти человека, еще не зная как, но зная твердо одно — он сделает все возможное. На бульваре, когда они сели на пустую скамейку под старым каштаном, Георгиев сказал:
— Здесь нас никто не подслушивает. Что с вами случилось, Семен Борисович? Сегодня я, возможно, смогу вам помочь. Завтра может быть поздно.
Он говорил так определенно и так спокойно, что Проворнов, сам не зная почему, доверился ему без оглядки. Не давая себе никакой пощады, не стараясь смягчить краски, он рассказал все. Он выворачивал себя наизнанку, бичевал так, как будто находил в этом болезненное удовлетворение. Он начал с московской встречи с Бастидом, не забыл его транзистор, пропаганду индустриального общества, продолжение тех же разговоров в Париже, угощения в парижских кафе и ресторанах, аванс за книжку, ужин в ночном кабачке, полицейскую провокацию, помощь Смита, предложение невозвращения, пресс-конференцию под девизом: «Я выбрал свободу».
Георгиев слушал внимательно эту исповедь, она тронула его своей искренностью, и он в свою очередь поверил ему. Поверил, что Проворнов не оставил ничего недоговоренного.
— Что мне делать с этими долларами? Это оказалось последней каплей…
— Не тратьте их. По возвращении в Москву сдадите в Госбанк, — усмехнулся Георгиев.
— Как мне держаться со Смитом? Как заказать срочно билет? Где провести время до поезда или самолета? Как быть со своими вещами?
— Самые нужные вещи — очень немного — перенесите сразу ко мне в мой номер, ненужные вместе с чемоданом оставьте в своем. Чемодан сейчас купите новый. И после этого в свой номер не возвращайтесь.
— Где же мне быть?
— Со мной.
2
Вечером, поджидая Воронова, Георгиев листал роман Золя.
«На тротуарах улицы Рамбюто возвышались гигантские кучи цветной капусты, разложенной с поразительной правильностью, точно пирамиды ядер. Белая и нежная сердцевина, похожая на исполинские розы, выглядывала из мясистых зеленых листьев, и кочаны капусты были точно букеты новобрачной, расставленные рядами в громадных жардиньерках».
В дверь номера постучали, вошел Воронов.
— Не спите? — осведомился он.
— Еще рано, нет двенадцати, — улыбаясь, ответил Георгиев и стал завязывать шнурки туфель.
— Чтобы попасть в «Чрево Парижа», нам придется идти к центру, — раскладывая на столе цветную карту, объяснил Воронов. — В квартал, ограниченный улицами Этьенн Марсель, Сен-Оноре, Лувром и бульваром Севастополь. Начиная с двенадцати часов ночи, сюда со всех концов Франции и даже соседних стран стекаются грузовые автомашины, везущие всевозможную снедь. Здесь, на Центральном оптовом рынке, за несколько часов перед вашими глазами пройдет все то, что огромный город поглотит за одни сутки.
Через пять минут они шли по затихшим коридорам отеля. Заспанный швейцар напутствовал:
— Не забудьте, господа, на рынке зайти в ресторан «Свиные ножки» и отведать лукового супа.
Вслед за ними спустился Проворнов.
Темная, замершая площадь Республики осталась позади. Чем ближе к рынку, тем люднее и шумливее становилось на улицах спящего Парижа. Где-то рядом двенадцать раз глухо пробили часы.
— В церкви Сент-Эсташ, она поблизости, — прислушиваясь, сказал Воронов. Он остановился и показал рукой куда-то в темноту, где Георгиев и Проворнов еле приметили очертания большого собора.
— Этот собор напоминает Нотр-Дам де Пари, но здесь готика сосуществует с ренессансом. Особенно хороши витражи, — позевывая, объяснял Воронов.
Теперь все чаще гулкие перестуки подбитых каблуков по скользкой брусчатке нарушали покой. Прилегающие к рынку ночные улицы были освещены и уже загружены разными овощами и фруктами, мешками с устричными раковинами. Здесь корзины с алыми помидорами и глянцевитыми грушами, там пирамиды из ароматных ананасов, огромные связки бананов, ящики с прозрачными гроздями винограда и, конечно, зелено-белые горы лука и цветной капусты, — один лишь вид этих даров земли вызывал бешеный аппетит.
Идти становилось совсем трудно, улицы забивались всеми видами транспорта — от мощных серебристых авторефрижераторов до допотопных ручных тележек с колесами, окованных цинковым железом. То здесь, то там слышался говор, перебранка, а то и просто громкая ругань подгулявших клошаров — парижских люмпенов. Чем ближе к рынку, тем все более светел и оживлен ночной Париж. Здесь почти в каждом доме хлопают двери ночных ресторанчиков и кафе, у порога которых толпятся ночные посетители, среди них много женщин.
— Вот наконец перед вами сердцевина «Чрева Парижа». Она не вмещает всего, что поглощает Париж за сутки, потому-то так и загружены ближайшие улицы. — Сонный Воронов показал на десяток мрачных корпусов-громад, напоминавших металлические ангары.
Они подошли к главному помещению рынка, где находились мясные, рыбные, овощные и молочные ряды. Овощи и фрукты Франции, а возможно, и всего мира, лежали здесь на прилавках. Рядом с пестротой фруктов — огромные красные пятна мясных туш.
— «Чрево Парижа» — это рынок для рынков. Отсюда в течение ночи развозят продукты по магазинам, лавкам, ресторанам, кафе. Бесчисленное множество мелких торговцев покупают здесь продукты по центнеру. Так называемые «свободные предприниматели» густо, как мухи, налетают на громадную тушу Центрального рынка, на перепродаже держится их бизнес, — пояснял Воронов.
Георгиев наблюдал, как всю ночь здесь шел жестокий торг. Париж еще спал, но его уже обкрадывали — торговцы прикидывали, сколько франков даст им утром удачная ночная сделка.
Заметно светлеет, но для спящих ночь еще продолжается, а тем, кто не спал, занятый рыночным бизнесом, утро кажется бесконечным. К пяти часам рынок удовлетворенно и облегченно вздыхает, откатывает рукава, снимает передники. Теперь помимо десяти огромных «ангаров» Георгиев заметил другие строения — ярко освещенные ресторанчики, кабачки, кафе, к которым устремляется целая армия ночных торговцев и грузчиков. Как по команде, мясник, только что бросивший на весы охапки свиных ног для студня, направляется с независимым видом в кабачок «Свиные ножки». Двери ресторанчика не успевают гостеприимно распахиваться, а на широкие пролеты между торговыми рядами уже выходят меланхоличные метельщики и ворчливые уборщицы. Вслед за покидающими рынок ночными тружениками выметают луковую чешую, растоптанные капустные листья, увядшие цветы…
— В заключение нам нужно последовать совету швейцара, — говорит Георгиев, направляясь к кабачку «Свиные ножки».
Они сели за стол и заказали луковый суп. В кабачок ввалилась компания хмельных заокеанских туристов и, с шумом рассевшись за столики, тоже заказала луковый суп.
— Светская знать и состоятельная богема, — а им подражают и богатые иностранные туристы, — после изрядных попоек в фешенебельных ресторанах «Лидо» и «Максим» приезжают сюда заканчивать ночные кутежи, лакомясь луковым супом, — поясняет Воронов на недоуменный взгляд Георгиева.
Им приносят глиняные горшочки с горловиной, замазанной тестом. Проткнув тесто и чуть не задохнувшись от лукового запаха, Георгиев стал энергично помешивать ложкой, рассчитывая поймать мясо, но все было тщетно — начинкой были лишь лук и крошеная булка.
На обратном пути они до рассвета бродили по улицам. Не однажды натыкались на спящих клошаров; зарывшись в лохмотья, они спят прямо на решетках метро, выходящих на мостовые и тротуары. На узкой улочке Сен-Дени вдоль облупленных стен покосившихся домов, под пятнами тусклых фонарей, выстроились, как на параде, размалеванные девицы. Блондинки и брюнетки, синеватые и зеленоватые, рыжие и красные, толстые и тонкие, белые, цветные и черные, — словом, женщины всех континентов мира предлагали себя первому встречному, демонстративно позевывая и потягиваясь.
— Месье, месье! — звали они Проворнова и, пройдя за ним несколько шагов, замирали у грязной стены, а Семен Борисович каждый раз с испугом прятался за спиной Георгиева.
Тут же прогуливается ажан, равнодушно оглядывая несчастных: законом проституция во Франции запрещена, — значит, все в порядке.
— А что женщины гуляют ночью по Парижу, это их частное дело, законом прогулки не запрещены, — дымя сигаретой, говорил Воронов.
Рассветало. Перед глазами все отчетливее проступали из темноты силуэты старых зданий, и Георгиев невольно вспомнил их описание:
«Дома теснились, покосившись на сторону, выпячивая свои навесы, точно беременные женщины животы… Крыши их оседали назад, и здания их как будто опирались одно на другое. Три или четыре из них в темных углублениях, наоборот, точно собирались упасть ничком».
— Да, многое в Париже предстает взгляду точно таким же, каким было во времена Золя, хотя нас от него отделяет тире в восемьдесят лет. Но в стареньких домах с облупленной штукатуркой живут внуки его героев, а они уже совсем иные люди, хотя, подобно своим дедам, любят луковый суп, — улыбаясь, сказал Георгиев.
3
Георгиев, Воронов и Проворнов подходили к магазинчику, находившемуся на углу какой-то улочки. За углом стояла машина. Шумел работающий мотор. Водитель не глушил мотора — кого-то ждал…
— Это товарищ из нашего посольства, — сказал Георгиев Проворнову, — он отвезет вас на аэродром, к внерейсовому самолету «Аэрофлота». Садитесь и спокойно поезжайте. Счастливого пути вам, Семен Борисович. — Он открыл дверцу машины.
— Товарищ Георгиев… я вряд ли сумею высказать вам… — начал было Проворнов.
Но Георгиев махнул рукой, и машина, рванувшись с места, быстро свернула в переулок.
В номере отеля «Модерн» Георгиев, глядя в глаза Воронову, говорил ему:
— Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. За все, что вы для меня сделали в Париже.
— Не благодарите, Василий Павлович. Вам я могу сказать, что это мой служебный долг. Если можно, оставьте ваш адрес, — попросил Воронов.
Георгиев достал записную книжку, вырвал листок, написал.
— Здесь мой телефон, адрес. Когда будете в Москве, непременно звоните, заходите! Обижусь, если забудете. И вот, прошу вас принять на память… — Георгиев достал из чемодана квадратный сверток. — Это записи Шаляпина, Рахманинова, концерты Чайковского. А это, — он протянул Воронову бутылку «Столичной», — пригодится вместо микстуры от простуды!
Георгиев собирался неторопливо, споро. На дно чемодана уложил все, что не потребуется до приезда на новое место, а сверху мыло, зубную щетку, электробритву, полотенце и журнал, который он будет читать ночью — в поезде или самолете.
— Какой вы счастливый! — с горечью проговорил Воронов. — Сегодня будете в Москве.
— Нет, сегодня в Москве я не буду. Командировка моя не кончилась, я лечу в другом направлении.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
В большой пятистенной избе было душно и дымно. В печи с треском пылали кедровые поленья, урча, парил закоптелый чугунный котел. За длинным столом, покрытым цветной клеенкой, сидели трое: тракторист Иван в красной рубахе-косоворотке с пестрым опояском и зеленых вельветовых штанах, студент-практикант Альберт Пухов в тельняшке и синих джинсах и заведующая магазином — пухлая блондинка в полосатом халатике. Половина стола была свободной, хозяйка скалкой тонко раскатывала тесто, потом рюмкой выдавливала из него кружочки и, положив на них мясной фарш, свертывала пельмени. Делала она это ловко, и ряды пельменей росли. Другая половина была заставлена тарелками с нарезанной медвежатиной-строганиной, глухарятиной, разными соленьями.
Иван с сосредоточенным видом пытался подцепить на вилку скользкий масленок, наконец ухватил его пальцами и, взглянув на две пустые бутылки из-под водки, сказал:
— Мань, закусь есть, а выпить, понимаешь, нечего.
— У меня не шинок, кержак ты разнесчастный. Скажи спасибо и за это дармовое угощенье. — Хозяйка зло посмотрела на Ивана.
Иван вытащил из кармана расшитый кисет, оторвал клочок газеты, смастерил длинную закрутку и закурил.
— Насчет дармовщины, шинкарка, лучше язык прикуси — с нас, приискателей, ты хороший привар имеешь.
Иван погрозил хозяйке кулаком, поднялся с лавки и обратился к Пухову:
— Пойдем?
Пухов отвернулся, включая стоявшую на комоде «Спидолу», и стал рассматривать висевшие на стене фотографии, пока не услышал, как за Иваном с шумом захлопнулась дверь.
Тогда Пухов выжидательно посмотрел на хозяйку. Она улыбнулась, отряхнула с ладоней муку и, взглянув на будильник, сказала:
— Сейчас придет мой сродственник, дядюшка Варфоломей, брат моей мачехи. Желтый песок, значит, по его части, я его упредила, пригласила на пельмени.
Во дворе залаяла собака, послышался топот в сенцах, и на пороге появился сутулый, бородатый старик. Черная повязка, прикрывавшая левый глаз, делала его похожим на пирата. Старик был длинноног, плоскогруд, куртка на его плечах висела, словно шкура на рогатине.
— Проходите, дядюшка Варфоломей, гостем будете. Знакомьтесь, — суетилась возле старика хозяйка, помогая ему снять куртку.
Пухов протянул руку, назвал себя. Варфоломей безразлично посмотрел — студент, не произвел на него никакого впечатления. Хозяйка ушла за печку. Варфоломей и Пухов присели к столу. Старик начал издалека — чей будешь, откуда прибыл, чем занимаешься, надолго ли сюда, — осторожно приглядываясь, что за фрукт.
— С Алтая я. Отец ветеринар и меня заставлял кобылам хвосты крутить, да только я в город подался. В футбол играю, считай, всю Россию объехал. Здесь практикуюсь на производстве, только два месяца не выдержу, смоюсь раньше — скукота у вас, — позевывая объяснял Пухов.
Хозяйка поставила на стол бутылку и сказала:
— Выпивайте и закусывайте чем бог послал. Водочка крепкая.
Варфоломей усмехнулся и, положив на свою тарелку пельмени, пробурчал:
— У тебя крепкой не бывает. Ты водицей разводишь.
— Вам-то, дядюшка, грешно так говорить. Для вас завсегда особую держу, — разливая водку по рюмкам, ответила хозяйка.
Варфоломей опрокинул рюмку, запил квасом, Пухов свою до конца не допил, поперхнулся.
— Бражничать тоже уметь надо. Ты, паря, думаешь споить меня, только это все напрасно — я могу аршин водки испить, а раньше и с аршином спирта управлялся. — Варфоломей подмигнул хозяйке, та поднялась и принесла деревянный аршин, который старик приложил к краю стола.
Хозяйка достала из буфета стограммовые стопки и поставила их в ряд — пятнадцать штук. Варфоломей, выпивая их по очереди, закусывал пельменями. Когда половина стопок была опустошена, Пухов схватился за щеку.
— Зубы болят? — участливо спросила хозяйка.
— Выпей — и пройдет, — посоветовал старик.
— Не помогает. Нужно рвать. Мост делать, коронки ставить, а где золото найдешь? — спросил он старика. Тот неопределенно пожал плечами. — Пахан, поможешь мне? — спросил Пухов и отнял от щеки руку.
Старик изучающе посмотрел одним глазом на собеседника и, отставив стопку, вздохнул.
— Рад бы, да как поможешь? Раньше у старателей на зубок завсегда в загашнике хранилось, а теперь народ не старается, все на казенных работах вкалывают. На отвалах иногда шуруют старички, да только баловство все это. Правда, надысь я тоже поднял самородку, только махонькую, внучке и той на зубок не хватило, — закончил старик, и Пухову показалось, что Варфоломей подсмеивается над ним.
— А если еще найдешь самородку, тогда договоримся? — напирал Пухов на старика.
— Если бы для меня, паря, ее кто посеял, тогда бы я как за положенным сходил…
— Хватит меня, пахан, разыгрывать, я дело говорю, — грубо оборвал Пухов.
— За такое дело я уже десять лет баланду хлебал. Ясно? Когда найду — привезу, оставь свой адрес. — Старик опрокинул очередную стопку.
Пухов понял, что сегодня разговор на эту тему закончен, хотя ему хотелось узнать о количестве, цене золота и сроках его получения.
Но всему свое время. Придет день, и он купит по дешевке золото, потом продаст его кавказским и среднеазиатским клиентам. Он представил себе, как приедет к Аське на новенькой голубой «Волге».
На небе желтел молодой месяц. Пухов посмотрел в темное окно и вспомнил, что в общежитии его ждет Валька Рудаков. Подперев руками хмельную голову, он уснул за столом.
2
Валентин приоткрыл один глаз, потом другой и часто замигал, силясь понять: где он?..
В комнате горняцкого общежития стало совсем светло. На полосатом матраце ушедшего на смену тракториста Ивана самодовольно урчал усатый кот. Кровать Альберта Пухова, с которым Валентин вместе проходил здесь студенческую практику, была заправлена — то ли ушел Альберт рано, то ли совсем не приходил ночевать.
В комнате держалась прохлада, вылезать из-под теплого одеяла не хотелось, и Валентин снова закрыл глаза, задумался.
…Вот они со Светланкой встретились у главного входа в институт. Спустились по широкой каменной лестнице к набережной. Над голубой рекой летел сигарообразный катер на подводных крыльях, пыля алюминиевыми брызгами.
— Эх, покататься бы, чем зубрить эти дурацкие премудрости, которые тебе никогда не пригодятся в жизни!.. — Валентин швырнул толстый учебник на скамейку и сел сам, откинувшись на спинку.
Светлана остановилась около него.
— Балда ты, Валька! Безалаберный ты парень, отца своего подводишь, подумал бы хоть об этом…
— Хватит! Ты стала говорить как мой предок. Он тоже иногда занимается моим воспитанием путем индивидуального собеседования. Знаешь такую форму терзания людей?
— Тебя-то воспитывать лучше батогом.
— Комсорг факультета проводит среди меня воспитательную работу, если не ошибаюсь?.. Пойдем, проповедница, в кафе-мороженое, — предложил Валентин, закуривая папиросу.
— Не пойду, нет настроения. Сегодня день памяти моего деда.
— Ну и что? — лениво позевывая и потягиваясь, спросил Валентин.
Она вскочила и быстро пошла вдоль набережной, не попрощавшись.
Валентину вспомнилось, что как-то в разговоре с отцом о культе личности Сергей Иванович приводил в качестве печального примера трагическую судьбу ее деда.
Валентин посмотрел ей вслед. Ладно скроенная, высокая, с копной пшеничных волос, она все больше нравилась ему, хотя он прекрасно понимал, что у такой девушки он никогда не будет иметь успеха, что их еще связывает просто детская дружба… Хотелось сейчас догнать Светлану: получилось как-то по-дурацки…
…Мимо комнаты вразнобой, как по мосту, протопали сапоги. В дальнем конце коридора зашумел душ. Валентин поднялся с постели, стал одеваться.
Сквозь дверную щель тянуло запахом каменного угля и жареного мяса. Он достал из тумбочки бутылку молока, румяную шанежку и, отпивая из горлышка, принялся наспех завтракать. Правильно он сделал, что поселился в общежитии, а не принял предложение Степанова остановиться у них! Так свободней дышится, сам себе хозяин… Жаль, что нет сейчас здесь Светланы… Что ей понадобилось именно в это время ехать на целину! «Комсорг строительного отряда». Подумаешь!.. Да, может, это к лучшему: меньше проработок…
Он поглядывал в окно и радовался хорошему дню: сегодня можно будет порыбачить в свое удовольствие…
Работа у него на практике несложная: взять пробы из разведочных шурфов гидравлических разрезов, отбить границы промышленного контура, следить за тем, чтобы не перемывалась зря пустая порода. Помогал он и на горных работах — мониторил, взрывал, бурил. Словом, работа эта ему нравилась.
3
Валентин выскочил на улицу и, на ходу застегивая ворот куртки, побежал без дороги, держа курс на взметнувшуюся в небо стрелу гигантского экскаватора, маячившего теперь над всей таежной округой. Все нарастал веселый гул гидравлики, и парень бежал навстречу ему все быстрей и быстрей. Запыхавшись, он остановился у подножия поросшей лесом горы и огляделся.
В глубоком разрезе прежде всего заметил водяные пушки — гидромониторы. Серебряные струи воды с гулом и свистом вылетали из жерл орудий, с силой вонзались в желтый забой: они разрушали породу, а потом гнали ее на обогатительный шлюз, на котором из песка извлекали золотины.
Подбежав к гидромонитору, Валентин поспешно отвернул штурвал задвижки, включил воду: следовало побольше обнажить забой перед опробованием. Натянул на себя длинный, не по росту резиновый плащ, нахлобучил на голову капюшон и начал мониторить: у него задорно блестели глаза, когда он нажимом кнопки автоматического устройства разворачивал водяную пушку и направлял упругую струю прямо в грудь красноглинистого забоя. Вруб ширился и углублялся, и наконец добрая сотня кубометров породы сползла к ногам Валентина. Он почувствовал в себе такую богатырскую силищу, что не удержался от радостного вопля:
— О-го-го-го!..
Он и не заметил, как, хлюпая болотными сапогами по мелкой воде разреза, к нему подошли Степанов и начальник участка Пихтачев. Они были в мокрых брезентовых куртках и белых фибровых касках. Виталий Петрович молча кивнул Валентину и, отойдя подальше от водяных брызг, присел на толстую железную трубу, по которой шла вода в гидромониторную установку. Пихтачев с понурой головой последовал за ним. Но рядом не сел, а, переступая, месил глину болотными сапогами…
— Вроде бы решили работать по-новому… а ты… по-старому туфту гонишь?! — громко возмущался Степанов, водя пальцем по исписанному листку в карманной книжке. — Ты отчитался за прошлый месяц в двадцати тысячах кубометрах. А контрольный маркшейдерский замер показал у тебя всего двенадцать тысяч. Это как прикажешь понимать? Про Указ Верховного Совета об уголовной ответственности за приписки помнишь?.. В тюрьму захотел?..
Пихтачев только виновато сопел.
— Вот почему у тебя содержание золота в песках на сорок процентов меньше разведочного выходит, зато рабочим чуть ли не по две нормы выводишь в отчетах! Ничего не скажешь: герой с дырой!..
Пихтачев хорошо знал, что вспыльчивому Виталию Петровичу лучшего всего дать выговориться.
— Если у тебя в кармане десятка, а ты будешь меня уверять, что четвертная, богаче от этого ты не станешь, — уже тише заговорил Степанов. Закурив, он решительно заявил: — Под суд отдавать тебя не буду. Но с работы выгоню. Ко всем чертям собачьим! Чтобы другим туфтить неповадно было!
Пихтачев наклонил голову набок, часто замигал выцветшими ресницами и тяжело опустился на холодную, влажную трубу.
— Я ведь все как лучше думаю… а ты истоптать меня задумал! Деньги-то народу по инструкции платят за промытый кубаж, а не за намытое золото, — тихо напомнил он и глубоко вздохнул.
Степанов сумрачно смотрел на растерянного, ставшего сразу жалким, пришибленным Пихтачева и думал о том, что, конечно, погорячился… Пихтачев виноват, и его наказать следует. Но нужно ли выгонять с работы?.. Он бескорыстен, не нажил себе палат каменных, ютится по общежитиям, а все его имущество при нем… Только у молодца и золотца, что пуговка оловца. А ловчил ради других, ради, как понимал он, дела! Вместо Пихтачева придет другой, он будет зависеть от тех же положений, которые заставят его так же ловчить и обманывать. Значит, дело не в Пихтачеве, потребителе «запретных плодов», а в самом змее-искусителе… все в той же злополучной инструкции! Это по ней так получается, что важны не урожаи, а отчеты об урожаях, не своевременная доставка грузов потребителям, а тонно-километры, не золото, а промытый кубаж… Пришло время не сетовать, а действовать! Будем платить за извлеченное золото! А кубажа пусть гонят меньше… Содержание драгоценного металла повысится, уменьшатся его потери, возрастут прибыли.
Степанов достал записную книжку и открыл заветную страницу, на которой заносил условным шифром суточную добычу руды, песков и золота по каждому объекту комбината. По горизонтали значились карьер, обогатительная фабрика, гидравлика, драга (здесь пока отмечались вскрышные работы), а по вертикали дни месяца. Первый столбец, обведенный красным карандашом, был принят за сто процентов и относился к последнему месяцу, перед введением новой экономической системы. Цифры колебались, но все они были выше ста. В последнюю декаду стабилизировались на ста тридцати, а гидравлика даже на ста тридцати пяти процентах, при сокращении числа рабочих на семьдесят человек.
Себестоимость за прошлый месяц снизилась на шестнадцать процентов за счет экономии материалов и топлива, а фонд предприятия вырос на десять процентов. Работаем, выходит, не плохо, и пихтачевский вклад здесь тоже есть.
Бросив окурок и затоптав его в глину, Степанов строго погрозил Пихтачеву пальцем:
— Тебе, туфтачу, объявлю в приказе выговор с последним предупреждением! И введу новый порядок оплаты труда: прогрессивку будете получать не за кубаж, а за извлеченный металл. Ясно? Выброси со шлюзов все чугунные трафареты, ставь везде самородкоуловители. Сокращай потери золотишка!
С этими словами Виталий Петрович направился в березовую рощицу, где щипал траву стреноженный вороной конь.
Когда фигура директора скрылась за деревьями, радостный Пихтачев, словно он получил не взыскание, а стотысячный выигрыш по лотерейному билету, вернулся к Валентину. Попыхивая в прокуренную трубку, он постоял, оценивающе посмотрел на обрушенную породу и громко, стараясь перекричать шум монитора, спросил:
— Опять проспал, гулеван?
Валентин сделал вид, что ничего не расслышал. Пихтачев подошел к нему вплотную, сказал еще громче:
— Девки до добра не доведут. Оженят! Ищи бабу, с ней спокойней, паря… Мне сейчас директор клизму битым стеклом из-за вас, варнаков, поставил, долго буду чувствовать.
— А мы-то при чем? — огрызнулся Валентин.
— Ты на работу опаздываешь, Альберт туфтит, а Пихтачев один всегда в ответе. Ступай-ка пособи чудо-машину, самородкоуловитель, значит, наладить! Намыв золота поднимать надыть, если хотим через фонд и в свой карман кой-чего положить. Я подменю тебя, народу теперь в обрез. Не мешкайте, к взрыву все готово!
Валентин молча уступил ему место, рывком головы откинул на плечи капюшон и, задрав полы резинового плаща, быстро зашагал. Он наступил на два обурка, поднял и понес — сварить их, и еще бурить можно! Недаром красочный транспарант напоминал ему, как дорого стоит тонна буровой стали… Раньше такие обурки бросали, а теперь подбирают — они рублями возвращаются в бригаду.
К промывочному прибору подъехал на бульдозере бывший шофер Иван. Одет он был красочно: синяя душегрейка, красная рубаха-косоворотка, зеленые вельветовые штаны. Туалет завершала широкополая фетровая шляпа, лихо заломленная на рыжей гриве.
Спрыгнув с трактора, Иван смачно выругался:
— Сердце, туловище у этой кобылы здоровые, а ног нет… гусеницы хоть лыком связывай… Система новая, а порядки пока старые: запчастей не найдешь днем с огнем, в ремонте торчишь больше, чем робишь. Раньше было: что ты куришь в ремонте, что ты робишь — приварок один, тогда-то филонить сподручней было. А теперь так не пойдет! Мы, трактористы, значит, в обком партии жалобу накатали. Пусть всыпают кому следует, а нас чтобы никто не тормозил!.. Какой монитор перевозить? — деловито осведомился Иван. Достал из кармана листок бумаги, стал его разглядывать. — Ишь ты, тридцатку за экономию материалов и горючего начислили! Не обманули, значит, — покачав головой, удовлетворенно сказал он и спрятал расчетный листок обратно в карман.
— Не знаешь, где Альберт? Я его два дня не видел, — сказал Валентин, бросая в кучу металла принесенные обурки.
— Вчерась у завмагши мы с ним бражничали, у нее и остался. Оно и верно: торопись, паря, любить, а то девки шибко быстро старятся!..
Наблюдая за тем, как двое парней проворно разболтили гидромонитор и уже махали руками трактористу, Иван одобрительно заметил:
— Ишь как бодро шевелится народ! А раньше бы возились, как сонные мухи, еще часа три. Одно слово — экономика! — многозначительно закончил он, включая рычаг скорости и разворачиваясь к гидромонитору.
Слегка покачиваясь, к трактору подошел Альберт, небритый, злой, с красными, воспаленными глазами. Тельняшка и джинсы были испачканы мукой, соломенная шляпа измята. Он отвел Валентина за обугленный кедр.
— Выручай, — загадочно улыбаясь, сказал Альберт.
— Что стряслось?
— Влип по запьянцовскому делу. Один тип спер в сельпо ящик водки, по дешевке — по рублю за бутылку — продал, а деньги мы пропили.
— Вот это бизнес!
— Расплатиться мне с ним нужно… — утирая кулаком нос, врал Альберт.
Валентин молча достал кошелек, вывернул его на руку Пухову. Тот недовольно свистнул — денег было мало.
Валентин подошел к самородкоуловителю, Пухов последовал за ним.
— Пошуруем, а потом в «Березку» махнем!.. — Он подмигнул Валентину.
Тот обругал его, сбросил мешавший плащ и присел на корточки у ящика.
Валентин знал, что не все золото улавливается на гидравлических работах, самородки покрупнее часто сносятся вместе с галькой в отвалы. До сих пор на приисках еще ходят легенды о счастливых находках в старых разрезах, там до сих пор ковыряются романтики золотого фарта.
Валентин быстро разбирал самородкоуловитель. Альберт зорко наблюдал за ним воспаленными глазами.
— А вдруг там застрял самородок? — тихо спросил Альберт, подвигаясь вплотную к Валентину.
— Премию получим! Вот и рассчитаешься с бизнесменом, — засмеялся Валентин, ловко орудуя ключом.
— Слушай меня! На золоте мудрость во все века одна: хватай больше, тащи дальше. Понял? — шепнул Альберт.
— Алкаш, ты в своем уме? Как тебе только не стыдно? — возмутился Валентин, погрозив слесарным ключом.
— За меня не беспокойся! Переморгаю!
Валентин включил аппарат и бросил в него железную гайку. Щелкнув, уловитель сработал: гайка лежала в ловушке. Валентин вынул ее и повторил опыт. Уловитель действовал нормально. Валентин сунул гайку в карман, подошел к Пихтачеву:
— Порядок!
Павел Алексеевич, приставив к обветренному морщинистому лбу мокрую ладонь, внимательно глядел поверх горы.
Валентин повернул штурвал задвижки, перекрыл воду, струя гидромонитора сразу потеряла упругость, уменьшилась и, наконец, совсем пропала, а с ней пропал и шум.
Подошел Иван и, показав Пихтачеву свой расчетный лист, буркнул:
— Видал? Без обману! С меня приходится. Сегодня спрыснем!
— Эх ты, рыжий кержак, забрали у тебя шоферские права по запьянцовскому делу, так теперь с бульдозера хошь слететь?
— Не шуми, Алексеич, как воробей в сухом венике. Вера моя кержацкая все запрещала. С миром не водись! Не кури! Не пей! Вышел я из нее и теперь догоняю вас, православных!.. — заржал Иван, приглаживая рукой рыжую гриву. Сложив пополам расчетный листок, он, прищурясь, тоже взглянул на гору. — Сейчас этот проклятый увал полетит вверх тормашками к чертовой матери…
— А почему он проклятый? — спросил Валентин, до отказа закручивая колесо штурвала.
Иван неторопливо достал из кармана бархатный кисет и, присев на вывороченный из земли, похожий на осьминога пень, стал скручивать «козью ножку».
— Мамаша сказывала, что вон там, у старой смолокурни, — он рукой показал на увал, где чернела покосившаяся избенка, — какой-то лиходей порешил моего батьку: глина увала, вишь, и сейчас красная. Вроде от его крови… — Иван тяжело вздохнул.
— За что кокнули-то? — небрежным тоном спросил Валентин.
— За золото. Будто батька здесь самородку крестовую поднял, ну, и выследили его… Через золото завсегда слезы льются.
Подошел Альберт.
— Под той избушкой на курьих ножках самородок лежит?.. Ты верно говоришь? — допытывался Пухов.
— А может, не там, может, в другом где месте… Кто знает! Вот взорвут увал, можно будет пошарить, — рассуждал Иван.
Пихтачев, приглядывавшийся к Альберту, посоветовал:
— Брось, паря, на фарт надежду иметь. Работай лучше — получишь больше. Ясно?.. Ты, однако, уже забутил кубиков пятьсот?.. А я думал, алкаши только на приисках водятся… Не вздумай сейчас пойти на увал, взрыв скоро! Я на драгу сбегаю — монтажников взбодрить надо!
Альберт панибратски похлопал Пихтачева по плечу:
— Я, папаша, прошел огонь, воду и медные трубы. Мне все до феньки, и твой взрыв тоже. Такие, как Рудаков, конечно, струсят! — громко сказал он и, взглянув на Валентина, исчез в кустарнике.
Ругаясь, Павел Алексеевич побежал за ним, но нигде его не обнаружил. А когда вернулся, не застал и Валентина у пня-осьминога. Несколько раз громко позвал исчезнувших парней. Но ответом ему был лишь пронзительный свист — условный сигнал к взрыву. И Павел Алексеевич вынужден был поспешить в укрытие.
4
Задетый за живое упреком в трусости, Валентин, не понимая, куда и зачем идет, быстро шагал к увалу. Остановился он лишь в непроходимом валежнике: прошлогодний бурелом завалил дорогу.
Здесь было жутковато: вокруг безлюдно, в тревожной тишине ветер доносил лишь шум ветвей старого кедра, одиноко торчавшего на обреченном увале. Только теперь Валентин сообразил, что надо бежать обратно, сейчас должен ударить взрыв…
Громыхнуло отчаянно. Справа земля встала на дыбы. И парень мигом привалился к замшелому валуну, замер. Он увидел, скорее — почувствовал, как над головой промелькнули со свистом комья земли, как вздрогнул, словно живой, древний увал и медленно сполз вниз, потащив за собой и ветхую избенку. Старый кедр неловко подпрыгнул, чуточку повисел в воздухе и тяжело рухнул где-то совсем рядом… В воздухе плыл синеватый дымок сгоревшей взрывчатки, перемешавшись с серой тучей мелкой пыли.
Когда прошел испуг и Валентин с радостью почувствовал, что цел и невредим, он забыл про обиду и думал только о том, как бы поскорее попасть на взорванную гору, чтобы опередить Альберта и раньше, чем он, узнать тайны этого увала, если они вообще существуют… Вот раздался протяжный свист отбоя, и Валентин уже бежал вперед, цепко хватаясь руками за обнажившиеся корни, все выше взбираясь по песчаной осыпи.
Он поднялся высоко и, сев на шершавый валун передохнуть, улыбнулся: отсюда люди в забое казались гномами, а постройки — игрушечными.
Валентин спрыгнул с валуна, неловко оступился и стал сползать вместе с галькой по рыхлому откосу. Машинально ухватился за торчавшее рядом гнилое полено и сразу понял, что это крепь шурфа-колодца, обнаженного взрывом. Под ногами чавкала грязь, — видно, в шурфе стояла вода и он был завален всяким мусором — гнилой щепой, покореженной крепью, грязной галькой.
Внезапно под сапогом что-то хрустнуло. Парень поднял ногу и еле удержался от крика: он наступил на желтую кость руки… Валентин попятился от страшного шурфа. Но остановился будто заколдованный: рядом с костью он различил крестовидный желтый камень. Он попытался носком сапога отковырнуть облепленный глиной камень и не смог — крест точно прирос к месту. Валентин еще раз пнул его ногой — получилось уже совсем неудачно: отодрал подметку, кирзовый сапог стал похож на разинутую щучью пасть с оскаленными зубами-гвоздями. В сердцах парень схватился рукой за странный камень и, к удивлению своему, лишь с большим трудом смог отодрать его от земли. «Неужели?!» — мелькнула мысль. Он испытал ощущение, похожее на внезапный приступ тошноты…
Почувствовав в руках тяжесть находки, он уже не сомневался в том, что это такое, и растерянно озирался по сторонам, не зная, что делать с крестовым самородком. Кругом ни души… Сунув его в карман, он внезапно вскрикнул: самородок мигом продрал подкладку и больно ударил по коленке. Пришлось снять кепку и положить в нее сокровище.
Валентин побежал по откосу, с опаской оглядываясь на проклятое место.
Мысли обгоняли одна другую: сколько может стоить это богатство?.. Десять тысяч, а то и больше?.. Ведь самородок весит несколько килограммов!.. Валентин попытался было сосчитать, но получилось так много, что он бросил это занятие. И побежал еще быстрей, неуклюже ступая изувеченным сапогом…
5
В вагончике-раскомандировке сидели за столом озабоченный Пихтачев и невозмутимый Альберт Пухов. Павел Алексеевич лишь недавно обнаружил его, но не на увале, а храпящим под сгоревшим кедром.
Пихтачев снял телефонную трубку и, ожидая разговора, в который раз уже прочел висевший на стене лозунг: «Выполним годовой план золотодобычи к годовщине Великого Октября!» Послушав трубку, он закричал:
— Дайте горняцкое общежитие! — Немного подождал, наблюдая, как Пухов на клочке бумаги рисует черта. — Общежитие? Дежурная?.. Взгляни, Валентин Рудаков не приходил со смены?
Услышав отрицательный ответ, он повесил трубку.
— Баламут ты, завел парня, а сам в кусты — дрыхнуть?! — возмущался Пихтачев.
— Кто знал, что Валька заводится с пол-оборота! — ответил Пухов, продолжая рисовать черта.
— «Кто знал»… Ишь нашел оправдание! У нас говорят: не знаешь — нюхай землю! — Пихтачев покачал головой и распорядился: — Задание тебе на завтра, шалопутный: опробовать гидравлические хвосты на снос золота.
— Я попросил бы выбирать выражения. В смысле «шалопутного». И вообще эта работенка меня не колышет, — рисуя уже второго черта, буркнул Пухов.
— Мотай отсюда, чурка с глазами! Кончилась твоя практика! — вспылил Пихтачев, указывая ему на дверь.
— К чему так грубо? Разойдемся красиво… А зачем хвосты-то опробовать? Они пустые. — Пухов порвал свой рисунок.
— Экономика велит. Раньше мы только за смытый кубаж горной массы деньги получали, а за намытый грамм золота нам не платили. Ну, мы не больно-то и старались его уловить. А теперь Степанов — по эксперименту этому — приказал за каждый дополнительный процент извлечения золота особую премию бригаде выплачивать. Понял, как по-хозяйски-то надо? Пойдем, полудурок, искать Валентина, чую — неладно с ним.
Прежде чем отправиться на поиски, Пихтачев еще раз позвонил в общежитие. Пухов вышел из вагончика. Кругом было тихо. Пухов глубоко вдохнул густой смолянистый воздух и сладко потянулся. Вдоль высоковольтной линии светились редкие золотые огоньки, а в конце просеки, на монтажной площадке драги, часто вспыхивали голубоватые сполохи огней электросварки.
«Машка ждет, а ты ищи этого дурня ночью по тайге», — со злостью подумал Пухов и услыхал чьи-то шаги. Включив карманный фонарик, он увидел Валентина — тот обшаркивал о железную скобу глину, налипшую на подошву сапог.
— Ты где шляешься до ночи? У меня чуть одно мероприятие не сорвалось из-за тебя, апостола! — крикнул Пухов и шагнул в темноту.
Посветив фонариком, он увидел около грязной скобы измазанную в глине кепку Валентина, в которой лежал желтый камень.
— Самородок, — устало пояснил Валентин и поднял с земли кепку.
— Куда ты его тащишь? — тихо спросил Пухов, преграждая Валентину дорогу к вагончику.
— Как куда? К Пихтачеву, — ответил тот.
— Поворачивай оглобли, пошли, — угрожающе прошептал Пухов, воровато оглядываясь на дверь вагончика.
— Отстань, — сказал Валентин и крепко прижал к груди грязную кепку. Пухов вырвал кепку из его рук. Самородок глухо стукнул о землю. Оба парня бросились за ним, осыпая друг друга тумаками.
Скрипнула дверь вагончика, и Пихтачев громко окликнул Пухова.
— Здесь, мы идем, — поднимаясь с земли и тяжело дыша, отозвался тот.
Валентин схватил самородок, сунул его в кепку и, вскочив на ноги, побежал к вагончику. На крыльце сплюнул кровь, вытер рукавом разбитую губу и, войдя в комнату, молча положил на стол измазанную кепку.
Пихтачев, иронически улыбаясь, ожидал развязки всегдашней шутки: на приисках игра в «самородки» была обычным делом. Эта улыбка исчезла с его лица, когда он увидел на серой подкладке кепки матово-желтый крест.
— Ишь ты, забодай его комар! Крест вроде поповского… Может, через него батьку у Ивана и порешили?.. — тихо выговорил Пихтачев.
Пухов не отрывал жадных глаз от драгоценной находки.
— Хорош, хорош крестик! Помню, на Южном прииске, когда мы с твоим батькой, Валя, еще там работали, тоже подняли самородок на Миллионном увале. Но этот много богаче. Фартовый ты, Валя, огромадная будет тебе премия! У молодца не без золотца, у красной девицы не без серебреца будет. — Пихтачев весело подмигнул.
Пухов и так и эдак ощупывал самородок, ковырял его ногтем, пока Валентин рассказывал о взрыве, о грязном шурфе, не умолчав и о кости, указавшей ему на сокровище.
Не выпуская из цепких рук тяжелого самородка, Пухов спросил:
— А ты, Валька, с ним с глазу на глаз повстречался?
— Конечно, — Валентин, сняв сапог, стал молотком прибивать подметку.
Пухов отошел к окошку, сел на табуретку, задумчиво покачал головой и отер рукой выступивший на лбу пот.
— За этот крестик наверняка не один золотоискатель богу душу отдал. И сейчас, смею вас заверить, такой на память прибрать не грех. Золото, оно, как известно, не ржавеет. — Он поднялся, подошел к Валентину. — Кретин ты, Валька, образцово-показательный кретин!
— Обратно ты туда гнешь, баламут! — оборвал его Пихтачев. — И другая присказка есть: рубище не дурак, а золото не мудрец. Я радуюсь, что души мы свои выправляем! Это ценней любого золота…
Он позвонил Степанову, рассказал о находке. Потом спрятал самородок в железный шкаф, положил в карман ключ и задумался.
— Вспомнил я, Валя, как твой батька объяснил мне про то, что Владимир Ильич сказывал, будто люди из золота отхожие места построят.
— Жди, построят! — бросил Пухов.
— А ты не прямо понимай: потеряет оно, значит, свою извечную власть над человеком. Так и будет!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Яблоков снял трубку, крутанул пальцем телефонный диск.
— Георгиев не появлялся?
— Нет еще, — ответила трубка.
— Где Снегов?
— На аэродроме, встречает Георгиева.
Яблоков нажал трубкой на рычажок и избрал другой номер. Этот оказался занят… Нет, не может быть, чтобы у его Маши, которая всего лишь раз в жизни была в больнице — даже не в больнице, а в родильном доме, — ни с того ни с сего оказалась злокачественная опухоль!.. Яблоков походил по просторному своему кабинету и снова позвонил. Трубка ответила:
— Сидоров слушает.
— Профессор, вас опять беспокоит Яблоков. Что дала пункция?
— Пока, к сожалению, ничего сказать не могу. Завтра возьмем повторно. Придется еще подождать. До свидания.
Яблоков закрыл глаза. Неужели это все-таки возможно?.. Чтобы отвлечься от тяжелых дум, он взял со стола папку, раскрыл ее.
Переводная статья из английского горного журнала давала оценку запасам и добыче золота и алмазов в нашей стране. По некоторым месторождениям запасы назывались, как показалось Яблокову, почти правильно. Он подошел к массивному сейфу, достал толстый скоросшиватель и внимательно еще раз посмотрел перевод. Автор статьи утверждал, что поскольку на мировом рынке спрос на золото превышает сейчас его годовую добычу, международные валютные организации проявляют особый интерес к возможностям добычи и продажи золота Советским Союзом на «свободный рынок». В статье приводятся цифры по годам и по отдельным районам золотодачи и даже отдельно по наиболее крупным предприятиям. Яблоков нашел в их числе Кварцевый комбинат, сверил цифры — они настораживали.
В статье назывались виды и способы золотодобычи, проценты дражной, гидравлической и рудной разработок, разведанные геологами новые золотые месторождения, в их числе упоминалось уже и Рябиновое, раскрывались государственные тайны, которые Яблокову доверено охранять. В этой папке, что лежала сейчас перед ним, был материал, который беспокоил его больше других. Это сообщение из Зареченска. Там на днях арестовали перекупщика ворованного золота. На допросе тот показал, что один тип, по кличке «Студент», просил собирать сведения о добыче на восточных приисках, обещал хорошо заплатить «зелеными». Так на жаргоне называются доллары. «Неужели, — думал Яблоков, барабаня пальцами по голубому переплету папки, — это одна из щелок, пробитых иностранной разведкой? Кому поручить заняться всем этим? Сегодня вернется с учебы полковник Георгиев, это будет ему по плечу». Яблокову стоило большого труда добиться откомандирования из МИДа к себе Георгиева, и он с нетерпением ждал его.
Яблоков опять снял трубку аппарата внутренней связи, крутнул диск. Ему ответили, что помощник полковника Снегов давно уехал на аэродром встречать шефа. Их ждут с минуты на минуту. Яблоков еще не закончил разговора, когда дверь распахнулась и в кабинет вошел сам Георгиев.
— Ну вот, а говорят, что телепатии не существует! — Яблоков, улыбаясь, показал на телефонную трубку, которую все еще держал в руке.
— Я рад, что не заставил вас долго ждать, — сказал Георгиев, здороваясь с генералом. — Теперь готов выполнять ваши задания, Петр Иванович.
— Садись, рассказывай, Василий Павлович, чему научился.
В это время раздалась приглушенная телефонная трель. Яблоков, сняв трубку, сказал:
— Яблоков слушает, — и жестом пригласил Георгиева садиться.
Разговор по телефону затянулся. Яблоков потянулся рукой к хрустальной пепельнице и машинально передвинул ее по полированному столу. От нее отразился солнечный лучик и веселым зайчиком пробежал по деревянной панели-стенке, забрался на портрет Дзержинского и замер бриллиантом на его френче.
— Согласен! — сказал Яблоков и поставил пепельницу на место. Продолжая слушать, он что-то записывал в блокнот.
Георгиев, оказавшись в кабинете Яблокова после такого долгого перерыва, задумался о том, почему, собственно говоря, выпала ему, Василию Павловичу Георгиеву, сыну простого резчика по кости, такая честь, как попал он в эти стены, в которых пестовал чекистов сам Феликс Эдмундович…
…Василий Павлович Георгиев вспомнил маленький северный городок, где он родился. Отец его и братья занимались художественным промыслом: вырезали из кости и дерева разных человечков и зверюшек, ими были заставлены все подоконники, лавки, даже полы. Никто из его родни до войны не видел паровоза, дальше районного центра никто никуда не выезжал… С малых лет Василий помогал отцу в его тонкой работе, но резчиком не стал: природу, людей он изображал не резцом, а кистью — писал картины, которые там никто не покупал… Пришло время подумать о выборе серьезной профессии, и Василий ушел на железную дорогу — учился, стал машинистом. Потом студенческие годы в Политехническом институте, диплом инженера-механика. Всего несколько месяцев проработал на Украине по новой специальности, как грянула война… Воевал все время в разведке. Войну закончил подполковником. Мирное время оказалось труднее, чем оно представлялось на фронте. Сменив офицерскую шинель на стеганую телогрейку, Василий Павлович вернулся на Украину и пошел рядовым инженером восстанавливать свой завод, почти стертый гитлеровцами с лица земли. Потом новостройки Сибири. Работа днем и ночью, ночью и днем, год за годом, без отдыха и отпусков.
Позже, когда жизнь наладилась и полегчала, когда стало возможным выкраивать время даже на увлечение молодости — писать для себя картины! — он был повторно мобилизован на дипломатический фронт.
Учеба в специальной школе, большой жизненный опыт помогут, как думал Георгиев, успешно освоить и новую специальность.
…Яблоков положил наконец трубку и, придвинув кресло к столу, сказал:
— Прошу извинения. Начальство! — Рассеянно поглядел в окно, на крупные капли осеннего дождя, барабанившего в стекло.
Яблоков рассказал, что происходило здесь в отсутствие Василия Павловича. О своих тревогах, сомнениях, предположениях об утечке информации… Взял со стола папку и вручил Георгиеву:
— Познакомься, пожалуйста! В условиях острого валютного кризиса на Западе — резкого удорожания там золота — этот материал представляет особый интерес. И — до свидания! На сегодня, пожалуй, хватит. Пора тебе и жену повидать!
Георгиев достал из кармана пиджака книжечку в кожаном переплете.
— Петр Иванович, это вам сувенир, как великому книголюбу, — одно из первых французских изданий «Онегина».
Яблоков взял книгу, посмотрел год издания и, возвращая ее, сказал:
— Ты с ума сошел? Дарить такую редкость… Ей цены нет! Понимаешь?
— Нет, не понимаю. Это не по моей части. И очень прошу вас: все-таки вез-то я ее вам, а не себе…
— Ну ладно, ладно. Спасибо большое! Но ты, брат, озадачил меня: придется теперь ломать голову над тем, чем же отдариваться… Тициана или Рафаэля у меня не найдется!..
Оба рассмеялись. И тут же Яблоков, насупив брови, предостерег:
— Держи в руках своего помощника. Больно шустер. Ему бы только хватать и не пущать. Недавно расконспирировался. Чуть не спугнул одного интересного типа. Торопится парень.
— Замечание учту. Но он квалифицированный работник, юрист, — заступился за Снегова Георгиев.
— Верно. Но чекисты двадцатых годов, простые рабочие, с классовых позиций решали дела вернее, чем кое-кто из наших дипломированных юристов, — сердито заметил Яблоков.
…Георгиев предполагал, не задерживаясь нигде, уехать домой. Но у двери своего кабинета увидел Снегова.
— Товарищ полковник, я жду. Может, буду нужен вам? — как-то виновато спросил тот.
Георгиев пригласил его зайти.
В кабинете с трудом помещались стол и стоявшие вдоль стен несколько стульев. Василий Павлович подумал, не уйти ли все-таки сейчас?.. Решил остаться и поговорить со своим помощником.
— Ну, раз сам напросился, входи, рассказывай, чем прогневал начальство!
Снегов носил очки в золотой оправе, был тонок в талии, белолиц и совсем не похож на мастера спорта по боксу. Спортом он занимался с детства, неоднократно побеждал на соревнованиях. Этим он особенно импонировал Георгиеву, который любил людей, чем-то увлеченных. Хотя полковник и видел, что Снегов излишне самоуверен и конечно же еще очень неопытен.
Снегов говорил о своем промахе как о деле, которому не стоит придавать никакого значения, оправдывая поспешность своих действий тем, что ему надоело возиться с явным негодяем.
— Если не хватает терпения и выдержки, если работа надоедает, то ее лучше оставить, — говорил Георгиев строго. — Но я надеюсь, Юрий Яковлевич, нам с вами предстоит много и хорошо потрудиться вместе.
Перелистав папку, Георгиев протянул ее Снегову.
— Здесь, — сказал он, — материалы по делу, которое мы назовем условно операция, ну, скажем, «Фирмач». Речь идет об известной вам «Майнинг корпорэйшн». Она завязала деловые контакты с одним нашим объединением. Сдается мне, Юрий Яковлевич, что одна разведывательная служба использует эту фирму в качестве прикрытия. Познакомьтесь с документами, с фотографиями действующих лиц. Завтра, если у вас появятся кое-какие соображения, поговорим подробнее. До свидания.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
1
Северцев поминутно поглядывал на часы, которые показывали уже пять минут третьего. Сегодня четверг, и в два он должен был присутствовать на заседании бюро райкома партии; ему час назад звонили, просили не опаздывать: внезапно заболел один член бюро, может не быть кворума. И, как на грех, заседание научно-технического совета института, которое Михаил Васильевич рассчитывал закончить в половине второго, все еще продолжалось, так как никто из выступавших не придерживался регламента…
На заседание совета были приглашены самые квалифицированные ученые и специалисты из смежных институтов, поэтому прервать заседание и перенести продолжение на другой день было невозможно. Еще раз собрать всех этих людей — дело весьма трудное. Вопрос обсуждался серьезный. Речь шла об основных технико-экономических положениях проекта крупнейшего алмазного комбината на заполярном месторождении.
Это месторождение был открыто геологом Малининой. Местная газета, жирным шрифтом оповещавшая об этом открытии, лежала сейчас на столе перед Северцевым.
Спорным был вопрос о достоверности запасов. Эксперты из ГКЗ — Государственной комиссии по запасам, ссылаясь на действующие инструкции, требовали доразведки месторождения. А это означало, что строительство предприятия будет отложено. Притом на неопределенный срок.
Михаил Васильевич еще раз взглянул на лист бумаги, где он записал фамилии желающих выступить: осталось еще двое, они займут не менее тридцати пяти минут. Вздохнув, он смирился с мыслью, что опаздывает безнадежно.
Вдоль длинного полированного стола сидели сотрудники института и рассеянно слушали консультанта из какого-то научного центра. Люди устали от многочасового неподвижного сидения и с грустью поглядывали на высокие окна, неторопливо бегущие куда-то облака.
Не разделял, казалось, общего настроения лишь консультант, хмурый, неопределенного возраста человек, который говорил уже пятнадцать минут и заканчивать даже не думал, все дальше и больше уходил от обсуждаемого вопроса.
— Я позволю себе напомнить, что гений человека развеял чудеса уральских сказов, скандинавских саг, мифов древней Греции, превратив шествие гномов за сокровищами в шествие науки и труда! Не всесильный божественный кузнец Гефест, герой греческих мифов, а ученые и инженеры в лабораториях и шахтах создают новые чудесные металлы. Не бажовская Хозяйка Медной горы, а человеческий ум распоряжается недрами, где прилежность гномов давно вытеснена упорством геологов, нашедших запрятанные природой сокровища…
— Ваше время истекло… — осторожно прервал оратора Северцев и кивнул в сторону стенных часов.
— Разве у нас профсоюзное собрание? Не регламентируйте, пожалуйста, меня так строго, я сам скоро закончу… Итак, я хотел сказать, что профессия горняка — одна из самых древних и почетных на свете, и человечество своим прогрессом во многом обязано именно горнякам. За последние пятьдесят лет горняки добыли людям полезных ископаемых значительно больше, чем за всю историю человечества. Сейчас в мире добываются каменный уголь, нефть, железные и цветные руды, редкие металлы, строительные камни и минеральные удобрения в таких объемах, что на каждого живущего на земле человека в день приходится до четырех-пяти килограммов полезных ископаемых. Теперь их добывается в мире каждый год миллиарды тонн — втрое больше, чем в начале нашего века.
Слушая консультанта, Северцев думал: за растраченные полсотни рублей государственных денег вас осудят, а миллионы рублей зарплаты, что растрачиваются впустую на зачастую бесплодных, ненужных для дела заседаниях и совещаниях, никого не беспокоят… Их относят к плановым «мероприятиям». Вот потому и этот консультант в пышном обрамлении преподносит горнякам набившие оскомину истины. Делает это, наверное, уже не один год подряд, будто находится в аудитории студентов-первокурсников. Все сказанное им справедливо, но никому не интересно не только потому, что общеизвестно, но и потому, что изложено без единой живой, своей мысли. А ведь он, наверно, непременный консультант многих комитетов, комиссий, член несметного числа научных советов.
— Профессор, прошу прощения, но то, что вы говорите, очень далеко от обсуждаемого вопроса. К сожалению, мы не услышали от вас ни одного делового замечания по проекту заполярного комбината. Извините, время ваше давно истекло, — вновь прервал оратора Михаил Васильевич.
Консультант, взглянув на стенные часы, схватил пузатый желтый портфель и, на прощанье кивнув, поспешно вышел из кабинета, видимо, торопясь на другое заседание.
Главный инженер проекта Парамонов, терпеливо молчавший, поглаживая рукой холеную бородку, одними глазами улыбнулся Северцеву и написал на белом листе бумаги, лежавшем перед ним на столе: «Волга впадает в Каспийское море, а лошади жрут овес». Директор и главный инженер были старыми знакомыми. В свое время Парамонов проектировал Сосновский рудник, а Северцев его строил. Они тогда съели вместе не один пуд соли. А теперь судьба свела Михаила Васильевича с этим умным, знающим инженером под одной институтской крышей.
В самом углу кабинета, между книжным шкафом и окном, Северцев заметил Проворнова и кивнул ему, тот ответно поклонился. Проворнов перед началом заседания научного совета был атакован Птицыным и сейчас обдумывал их странный разговор. Птицын просил его поддержать контракт с фирмой «Майнинг корпорэйшн» на покупку крупной партии геологоразведочной аппаратуры. Птицын ссылался на его, Проворнова, согласие, данное в Париже президенту фирмы, поддержать эту сделку и теперь просил письменной рекомендации профессора. Этот разговор смутил Проворнова: откуда известно Птицыну о его неосторожном разговоре с Бастидом и почему Птицын выступает ходатаем фирмы? Проворнов обещал подумать, и Птицын взял с него слово, что они вскоре встретятся. Опять всплывает эта парижская поездка, о которой он уже стал забывать…
Теперь выступал главный специалист из министерского бюро автоматики — разбитной лысоватый блондин:
— Я, конечно, проект не читал, но все же кое-что, с вашего разрешения, скажу об автоматике. Итак, в течение столетий человек в тяжелой борьбе с природой только и стремился набить свой желудок, прикрыть наготу да иметь над головой кров… Теперь, оседлав науку, он может позволить себе даже автоматику. — Он поклонился председательствующему, как артист после исполненного номера.
Северцев мысленно нещадно ругал себя за созыв этого совещания, задавал себе простой вопрос: поможет оно инженерному анализу проекта?.. И сам отвечал: нет! Все критические замечания были заранее письменно изложены в заключениях рецензентов, на совещании их только оглашали. Все остальные разговоры велись вокруг этих экспертных заключений, и ничего нового по существу никто не добавил. Зная заранее, что так и будет, зачем же он, директор института, все же собрал это никому не нужное совещание? Он признавался себе: только для формального обсуждения вопроса, стоявшего в планах научно-технического совета. Для протокола. Для бумажки, без которой нет веры ничему.
А лысоватый блондин говорил и говорил заученные истины — ведь разговоры и были его работой.
Плохо слушая оратора, Михаил Васильевич достал из кармана записку, в которой были перечислены неотложные нужды. Приходится теперь записывать, стала подводить память: 1. Встретиться с сыном. 2. Сходить к зубному врачу (этот пункт записан уже давно, да все недостает времени, и, признаться, страшновато: Михаил Васильевич терпеть не мог этой отрасли медицины, как, впрочем, и других). 3. Взять из прачечной рубашки (это придется сделать уже поздно вечером)…
Не давала ему покоя мысль: кто эта женщина, что звонила ему в начале заседания? Он не расслышал ее имени и отчества, разговор сразу прервала междугородная станция. Неужели Валерия?! Но голос показался незнакомым…
Вернул Северцева на заседание возглас «автоматчика»:
— Напомню вам, друзья, средневековую легенду о пражском искуснике, создавшем глиняного робота Голема — дровосека и водоноса! Древний изобретатель оживлял Голема, вкладывая ему в рот чудодейственную записку… В наше время, чтобы заставить электронную машину управлять каким-то производственным процессом, инженер вкладывает в нее не чудодейственную записку, а тщательно разработанную программу…
Северцев бросил тоскливый взгляд на часы — они показывали двадцать минут третьего, — потом сердито посмотрел на выступающего и постучал по столу карандашом. Оратор откашлялся, сделал длинную паузу и уставился глазами в пол, как бы вспоминая, чего, собственно, от него хотят.
— Да… Известно, что наши автоматические станции в космосе успешно трудятся на благо человека. Настала пора создать и автоматических разведчиков недр. Оборудованные специальной аппаратурой и сверхточными приборами, они с воздуха передадут свои показания на кибернетическую машину, которая своим электронным «мозгом» выберет из сотни вариантов оптимальный и сообщит номер условного квадрата с повышенной концентрацией полезного ископаемого… В общих чертах у меня все, благодарю за внимание. — Консультант вновь поклонился.
Северцев выжидающе посмотрел на Проворнова.
— Все, что мы здесь услышали, ужасно интересно. Но как быть с запасами сейчас, сегодня? Верите вы в них, профессор, или нет? — задал вопрос Северцев.
— Верю, но с доразведкой, — последовал уклончивый ответ.
После парижской истории, которая, правда, для всех осталась тайной, Проворнов старался не делать никаких заявлений, которые могли бы как-то повредить его авторитету, теперь уже, как он опасался, подмоченному.
Северцев понял, что ответственность за сырьевую базу ему придется взять на себя.
В конце длинного стола он увидел поднятую руку и сказал:
— Пожалуйста.
Поднялся Птицын, втянул животик, розовое, опухшее лицо расплылось в улыбке.
— Товарищ Птицын, из объединения, — представил его Северцев.
Птицын достал из бокового кармана пиджака очки и сложенную вчетверо бумажку.
Присутствующие недовольно зашумели, но Птицын, быстро развернув бумагу, сказал:
— Я понимаю настроение товарищей и потому буду краток. В чем основной вопрос? — спросил он, не отрывая глаз от бумаги, и сам себе ответил: — Не допустить донкихотства, да, да, донкихотства! Для размола руды вы заложили в проекте бесшаровые мельницы своей конструкции, работающие по принципу самоизмельчения. Но где, спрошу я вас, на каком руднике или в каком проекте, у нас в стране применен этот принцип? — победоносно поглядев на Северцева, спросил Птицын.
— Пока нигде, но кому-то нужно начинать первому, — устало ответил Северцев. Он понял, что начинается дискуссия по другому спорному вопросу, от которого ему не уйти, и на заседании бюро райкома партии ему сегодня не присутствовать…
— Мы все хотим быть первыми, — хихикнул Птицын. И продолжал читать бумажку: — В принципе бесшаровое измельчение не вызывает возражений, оно внедрено за рубежом. Но мы к нему не готовы. Давайте спустимся с заоблачных высот на нашу грешную землю: бесшаровых мельниц наша промышленность сейчас не выпускает. Как говорят, есть ножик, есть вилка, но нет рябчика, которого надлежит съесть. Значит, нужно заложить в проекте импортную мельницу. Скажу вам доверительно… — Птицын озабоченно посмотрел на дверь и продолжал тихо, почти шепотом: — Совершенно доверительно — нам с большим трудом через инстанцию удалось изыскать валюту, договориться с фирмой о поставке. И вдруг — пожалуйте бриться — ваш институт возражает: дескать, сами с усами! Вместо благодарности — оставили в дураках. Извинений мы не ждем, будем считать ваше заключение веселой шуткой. Объединение оборудование закупит, вы испытаете, переймете их опыт. Мы должны блюсти государственные интересы! — назидательно закончил Птицын и опустился на стул.
Люди удрученно молчали.
— Что же это получается, товарищи! Птицын — за государственные интересы, а институт — против? Ведь это же чудовищная ложь! — вскочив со стула, крикнул Парамонов. — Новый директор развивает у нас конструкторские работы, они были в загоне, и мы лишь с завистью смотрели на заграничные образцы машин. Мы создали проект своей мельницы; опытный образец ее проходит испытания, и товарищ Птицын дудит не в нашу дуду!..
Вошла пожилая секретарша и молча положила на стол директора записку. Северцев прочел: «Вторично звонит с аэродрома Малинина, сейчас улетает. Очень просит соединить с вами». Михаил Васильевич изменился в лице и, сказав: «Я на минутку», — быстро вышел в приемную. Схватил лежащую трубку.
— Валерия Сергеевна, не может быть, не верю, что это наконец ты!
Секретарша вышла, деликатно прикрыв за собой дверь.
Валерия торопливо рассказала: не могла ответить на телеграмму потому, что четыре месяца бродила по тайге, а по возвращении сразу полетела в Москву рассматривать запасы по Заполярному.
Северцев закричал в трубку:
— Перестань ты говорить про свои месторождения, ведь ты сейчас улетаешь! Я устал ждать тебя, ты это понимаешь?! При чем тут Анна?.. Что за чушь, какое письмо?.. Боже мой, что ты несешь, Валерка?..
Дальше Михаил Васильевич слушал не перебивая, лицо его становилось все более серьезным.
— Нам, как в книгах, Миша, всегда мешал третий… — слышал он печальный голос Валерии. — А теперь все может быть иначе! Только позови… — И она выжидающе замолчала.
— Зову, оставайся! Ты меня слышишь, Валерка?.. Ты меня слышишь? Я спрашиваю… — с тревогой переспросил он, сбитый с толку долгим ее молчанием.
— Да, слышу. Мне нужен месяц для завершения всех дел, через месяц встретимся, — глухо отозвалась она.
Северцев опять закричал в трубку:
— Хорошо! До свидания! Теперь уже скоро я прилечу за тобой! И увезу навсегда! Да, да, навсегда! Я крепко, крепко обнимаю тебя и тысячу раз целую!.. — Он еще долго держал в руке прерывисто гудевшую трубку.
В приемную заглянул Виктор и спросил, сможет ли он сегодня поговорить с ним. Михаил Васильевич рассеянно кивнул головой и вернулся в кабинет, где все еще бушевали страсти.
Он прислушался — спасительное «однако», часто звучавшее в споре, помогало болтунам (их директор знал наперечет) уйти от решения и при этом еще похвалиться своей «объективностью». Северцев не прерывал спорящих и пытался думать лишь о том, как ему завершить обсуждение: резко ответить Птицыну или не удостаивать его ответом? Да и что, собственно, отвечать ему, с кем полемизировать? Птицын остался Птицыным. Но это было бы полбеды. А беда в том, что птицыны еще сидят в государственном аппарате…
Северцев кратко продиктовал проект решения научно-технического совета: «Одобрить основные положения проекта» — и сказал себе, что подобных совещаний он собирать больше не станет.
2
Кабинет быстро опустел. Птицын подвинул свой стул к северцевскому и, дружелюбно улыбнувшись, спросил:
— Ты недоволен моим выступлением?
— Ты был в своем репертуаре. Главное — поставить вопрос, и пусть он стоит. Так?
— Сколько лет мы не виделись, семь или восемь? — раздумчиво произнес Птицын, словно не замечая резкости Северцева. — Я часто о тебе думал — хотел понять тебя, твои поступки… Вот и сейчас не понимаю, Миша! Ну, скажи ты мне: к чему тебе эта морока с конструированием своей мельницы? Помни, «всякая инициатива должна быть наказуема»… — Птицын укоризненно покачал головой.
— Откуда ты взялся, Свистун? — спросил Северцев, убирая в ящик письменного стола толстую папку.
— Все еще помнишь мое студенческое прозвище? Еще вчера был студент, оглянуться не успел, как превратился в пенсионера. Откуда, говоришь, взялся? И на пенсии побыл недолго, и на проектной ниве потрудился, везде успел. Теперь будем встречаться чаще, — веселым тоном закончил Птицын.
Но Северцев видел, что он чем-то озабочен, взволнован.
— А как у тебя партийные дела?
— Нормально, меня восстановили вскоре, как ты уехал в совнархоз. Ведь я тогда стал жертвой перегибов. Всех шагом марш на восток! А встретились опять на западе. Хочу дать тебе дружеский совет. Ты проектант молодой, так сказать, несмышленый, боже тебя упаси создавать свое оборудование; бери готовое, лучше, конечно, импортное — спросу меньше. Давай максимум типовых решений, станешь передовиком, премии за досрочность проектных работ будут тебе, Миша, обеспечены. Вот тебе и вся наука! — Птицын дружески похлопал Северцева по плечу.
— По-твоему, проектант — что-то вроде шабашника?
— Зачем же так!.. Просто не надо заниматься пустопорожними фантазиями. Фантазировать можно до первого хорошего подзатыльника, который получишь за срыв сроков строительства и т. д. и т. п. Когда подзатыльники станут для тебя системой поощрения научного проектирования, ты научишься ловчить, будешь заваливать стройки старыми проектами: ведь у проектантов, насколько мне известно, нет времени серьезно подумать над новым…
— Построить комбинат по старой технологии проще, но как потом смотреть в глаза эксплуатационникам?
— Смотреть спокойно. Ведь из философии известно, что все течет и все изменяется… Позже составите новый проект на реконструкцию комбината по новой технологии, — не отводя глаз, ответил Птицын.
— Вот слушаю тебя, Александр Иванович, и мне становится страшно. Такие люди, как ты, выступающие от имени и по поручению солидных инстанций, убивают все живое, новое, прогрессивное, утверждая на словах, что делают все во имя этого живого, нового, прогрессивного! — поднимаясь со стула, сказал Северцев.
— Демагогия чистейшей воды… — вяло начал Птицын.
— Подожди, дай мне закончить мысль. Смотрю я на тебя и многое постигаю. Бюрократ идет в ногу с временем. Классические бюрократы просто отрицали новое. Современный бюрократ любую хорошую идею может замордовать и удушить, «уточняя и улучшая» ее. Ваше предложение будет признано весьма ценным, но недостаточно научно обоснованным. Вам посоветуют доработать его… Это что-то вроде сегодняшнего разговора о доразведке запасов… И дело пойдет успешно: экспертизы, комиссии, заключения, визы… Хорошо отработан и такой прием: ваше предложение признается интересным, но… сами понимаете, надо посоветоваться. Так?
Птицын не успел ответить. Раздался телефонный звонок, и в трубке очень долго хрипел голос недовольного начальства.
Северцев, еле сдерживая себя, подчеркнуто спокойным голосом заговорил:
— Отменить мой приказ о командировке подчиненного мне сотрудника вы, Пантелеймон Пантелеймонович, не можете. И если попытаетесь это сделать, я не выполню вашего указания. Командировка обязательна именно сейчас, потому что связана с испытанием опытного образца бесшаровой мельницы, созданной в нашем институте.
В трубке что-то опять захрипело, засипело, но Северцев положил ее. Осуждающе покачав головой, Птицын заметил:
— И в старом министерстве, и в совнархозе, и в новом министерстве тоже все плывешь ты, Миша, против течения. Народ-то в вашем новом министерстве почти весь старый подобрался, они тебя бунтарем считают. Кто у тебя прямой начальник? — поинтересовался он.
— Некто Филин, из Зареченского совнархоза, ты его не знаешь, — ответил Северцев.
— Положение, вижу, у тебя сложное, тебе нужны верные помощники. Возьми меня к себе в институт, пригожусь. — Птицын знал, что его увольнение из объединения предрешено, что подготовлен приказ о его переводе на пенсию.
— Нет, Александр Иванович, после Сосновки нам вместе работать нельзя, и тебе не следовало даже говорить об этом. — Северцев взял папку с бумагами, давая понять, что разговор у них закончен.
Птицын поднялся и спросил:
— Значит, с мельницей ты решил оставить нас в дураках? Может, отзовешь свое заключение?
Северцев отрицательно покачал головой и углубился в чтение бумаг. Птицын понял, что сегодня контракт поставлен под удар, опять на его пути встал Северцев и он должен опять скрестить с ним шпаги. Вернулся за забытым портфелем Проворнов, и Птицын, не попрощавшись, удалился вместе с ним. Нужно было использовать их встречу, чтобы заставить Проворнова поддержать контракт на поставку хотя бы геологоразведочной аппаратуры.
Дел и забот у Птицына сейчас и без того было по горло. Роман с Асей был в самом разгаре, и начался он неожиданно просто, на деловой почве. Однажды Ася поинтересовалась у Птицына, не может ли он достать долларов, ее просил об этом один знакомый. Птицын вспомнил свою встречу в шашлычной с этим волосатым Альбертом и обещал подумать, тем более что он все еще не смог решиться продать ни одного смитовского доллара. Назавтра Ася назвала цену, и хотя она показалась Птицыну низкой, он не стал торговаться и этим победил равнодушную к нему Асю. Теперь голова его была основательно забита фасонами и размерами женского туалета, сертификатами — без полосы и с желтой и синей полосами… Жизнь есть жизнь. И даже такая была интересна Птицыну. Вот профессор путешествовал по Франции, не один раз небось слышал, как там говорят про это: такова, мол, сэ ля ви! Вот как обстоят дела, и вот каковы заботы.
Как только дверь за Птицыным закрылась, Михаил Васильевич сразу же позвонил Шахову.
— Как дела, Николай Федорович? Министерство набирает силы?.. Да, уже чувствую руководство, конечно! Прошу принять меня: нужен один совет, можно сказать по международному вопросу. Хорошо, спасибо!
Только сейчас Северцев заметил в папке с почтой письмо от Анны и вскрыл его. Письмо было о сыне.
Виктор задумал жениться, писала Анна, на какой-то студентке Светлане Степановой, собирается перевозить ее из Зареченска в Москву и брать в дом. Анна отговаривала сына, просила хотя бы повременить, лучше узнать друг друга, но Виктор и слушать не хочет. Михаилу нужно принять участие в решении судьбы сына.
Михаил Васильевич задумался. Вошла секретарша, спросила: может ли зайти на минутку младший научный сотрудник Северцев?
Смущенный Виктор появился тут же.
— Отец, ходят слухи, что ты собираешься «расчищать» план научных работ института, это правда? — с тревогой спросил он.
— Будем. С целью избавления от псевдонаучных тем. Кстати, когда твоя тема оказалась вновь включенной в план? — спросил Михаил Васильевич.
— Месяца два или три назад, — буркнул Виктор.
— Значит, когда я пришел в институт, она сразу приобрела научную актуальность? Ну, так, так. Ясно! А теперь вот прочти, — протягивая конверт, сказал Михаил Васильевич. И развернул «Правду» с крупными заголовками и портретами новых космонавтов.
Виктор быстро прочел письмо, молча вернул отцу.
— А может, мама права? Может, торопиться не следует? — спросил Михаил Васильевич, снова складывая газету.
Виктор помолчал, нервно кусая ноготь.
— С мыслью о ней я встаю утром, работаю, живу, — покраснев, признался парень.
Михаил Васильевич мягко проговорил:
— Лучшей невесты я тебе не желаю. А мать есть мать. Я приеду, сынок, к вам в Сокольники, и мы с тобой уговорим ее.
3
— Вы в какую сторону, Михаил Васильевич? — окликнул Проворнов, когда Северцев спустился к выходу.
— В сторону Разгуляя. Поехали, если по пути! — пригласил Северцев, усаживаясь рядом с шофером.
— Хотел поплакаться вам в жилетку на свою неудавшуюся жизнь и просить защиты!.. — шутливо начал Проворнов, развалившись на заднем сиденье.
— Вашей жизни можно только позавидовать, — заметил Михаил Васильевич.
— В нашей научной среде полно своих завистников, не завидуйте мне хоть вы, жизнь у меня воловья. Поверите ли, все время занят только наукой, кроме научной литературы, ничего не читаю… Вы знаете, Михаил Васильевич, сейчас, когда мне уже за шестьдесят, я начинаю задумываться: а правильно ли жил? Всю жизнь меня интересовали только проблемы, дававшие возможность познать научные истины, интересовали только люди, ставшие, вроде меня, подвижниками науки. Еще студентом я слышал от профессоров, что наука требует жертв, и ради нее я пожертвовал всем — у меня не было верных друзей, любимых женщин… — Проворнов сделал паузу. Не услышав сочувственных возгласов и вежливых междометий со стороны Северцева, со вздохом продолжил: — Мне даже не о ком хорошо вспомнить… Выходит, я всю жизнь страшно обкрадывал себя!.. Трудно смириться с этим, когда у тебя уже почти ничего не осталось, дорогой Михаил Васильевич…
— От кого же вы просите защитить вас?
— От завистников из вашего института. Они подставляют мне подножки! У меня большие научные заслуги в геологии, особенно крупные работы у меня, как вы знаете, в области геофизики. Группа ученых академического института сочла возможным выдвинуть меня в члены-корреспонденты Академии наук… Я, конечно, возражал, но, вопреки моему мнению, меня собираются выдвинуть… — разведя руками, сказал Проворнов.
— Вы правильно возражали, Семен Борисович. Мой вам совет: не стремитесь в академики, среди них по статистике самая большая смертность.
— А вот во Франции меня считают ученым с мировым именем… — Проворнов помолчал. — Мне вспоминается нашумевший лет десять назад роман о мытарствах изобретателя, — как видите, ничто не изменилось и сейчас в нашем прогрессирующем мире!
— У меня сегодня хорошее настроение, и я готов говорить на любые темы. Я тоже помню эту книгу. — Северцев уселся вполоборота. — Главные герой и героиня, школьные учителя — математик и географ, решили совершить переворот в металлургии с помощью изобретенной ими литейной машины, слабо представляя себе предмет своего изобретения. Тот изобретатель подает только идею, а аппаратурное оформление ее поручается специализированному институту. Специалисты института не соглашаются с идеей изобретения, и герои терпят всевозможные бедствия от работников института, главка, министерства. Я ничего не имею против педагогов, — наоборот, считаю их подвижниками в своей области. У меня перед глазами проходила самоотверженная работа моей бывшей жены, тоже педагога, но ей и в голову не приходило подавать идею, скажем, рудного комбайна. Известно, что идей существует на свете много. Например, идея полета на солнце. Вот я подал вам, Семен Борисович, эту идею, а вы думайте над ее аппаратурным оформлением… — закончил Северцев и, достав из кармана пачку папирос, предложил закурить Проворнову и шоферу.
— Весьма оригинально! Я вижу, у вас во всем свой взгляд на вещи. И в технике, и даже в литературе, — съязвил Проворнов.
— А вы разве против оригинальных мыслей?
— Вы говорите про оригинальные мысли, а меня до сих пор все еще не покинуло чувство какой-то скованности, пережитого страха, когда приходилось помалкивать и не говорить того, что думал, когда исход научных дискуссий предрешался указанием высшего чиновника, когда тебя обвиняли в идеализме за какую-нибудь сугубо техническую формулу… Нас, дорогой Михаил Васильевич, долго обучали во всем держаться только наезженной колеи, — печально заметил Проворнов.
На улице стремительно темнело. По кузову, по стеклам автомобиля вразнобой застучали крупные градины.
Шофер резко затормозил машину. Северцев окликнул его:
— Что стряслось, Миша? Чего это ты на все копыта осадил?
— Склизко, а частник, известно, нарушает… — недовольно буркнул шофер и, высунув голову наружу, кого-то смачно обругал.
У красного огонька светофора, на углу широкой мокрой улицы, моментально создалась запруда из легковых машин. Ее прорвало лишь при зеленом свете. Поток автомобилей разных марок и расцветок вновь спокойно двинулся вдоль улицы.
— Был я во Франции… — Проворнов и боялся любого упоминания об этой стране, и в то же время словно какой-то бес подзуживал его сделать еще шажок к пропасти, заглянуть туда: перехватит, мол, дыхание или нет? — Вот где каждый делает, что хочет.
Михаил Васильевич досадливо поморщился и попросил шофера остановить машину.
— Я выхожу здесь. Михаил довезет вас куда нужно. На прощанье я хочу дать вам товарищеский совет: хватит, Семен Борисович, критиканствовать и ставить в пример то, чему сами не верите! У меня есть предложение — переходите к нам в институт! Создается новая лаборатория подводной добычи полезных ископаемых. Нужны геологи для разведки подводных месторождений. Дело новое — ищите, пробуйте. Поддержим.
— Я очень благодарен вам, но хочу, чтобы вы знали всё. Во время последней поездки за рубеж я попал в очень скверную историю. Короче — был спровоцирован. Меня все еще гнетет эта история. А вас она не испугает?
Северцев на миг задумался, — его тоже провоцировали не раз, тоже хлебнул соленого, так почему же он должен бояться людей, с честью прошедших через трудные испытания своей жизни?
— Нет.
— Благодарю вас, я подумаю.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
1
Валентин Рудаков, весело насвистывая, завязал шнурок на замшевом ботинке цвета бордо и пошел по бетонной набережной к спортивному корпусу Политехнического института. Два месяца провел он на Кварцевом, на интересной производственной практике и только вчера вернулся домой. Зареченск встретил его золотистой листвой и моросящим дождем. Дул пронизывающий ветер, Валентин поднял воротник нейлоновой куртки.
Он спешил к Светлане, о которой часто думал там, на практике. В разлуке с ней он впервые отчетливо понял, что она занимает в его жизни совсем особое место. Светлана сильная, гордая — достоин ли он ее любви? Все твердят: любовь, любовь. А какая она? — задал себе вопрос Валентин. Он помнил, что сказал о ней отец, а мачеха утверждает, что любовь приходит тогда, когда один человек открывает в другом человеке то, чего до сей поры не замечал, ну, ничегошеньки, открывает в нем то богатство, о котором не подозревал и сам-то этот богач. А Светлана говорит, что любовь — чудо, и, как всякое чудо, она необъяснима. Это чудо приходит почти к каждому из нас, но не каждый бывает подготовлен, чтобы принять и осознать своевременно всю ценность этого дара, потому и любить дано не всякому. Вот и пойми, какая она, эта любовь.
Его кто-то окликнул. Обернувшись, он увидел Альберта Пухова.
— И ты приехал? Привет от бывшего студента! — небрежно бросил тот, машинально стряхивая ладонью табачный пепел со своего нового вельветового костюма — желтоватого пиджака и темно-зеленых брюк.
— Исключили? — спросил Валентин.
— Отчислили за неуспеваемость: четыре «хвоста», из них два старых, прошлогодних, плюс бегство с практики. Нужна твоя помощь, старик.
Они остановились, облокотившись на каменный барьер.
— Чем я могу тебе помочь?
— Попроси своего предка замолвить за меня словечко. Хочу войти в семейство позвоночников.
— Какое семейство? — не понял Валентин.
— Будто не знаешь! Так зовут ребят, которые попадают в институт по звонкам, — снисходительно пояснил Пухов.
— Этого я сделать не могу. Отец не станет меня слушать. К тому же у меня тоже один «хвост», еще придется сдавать после практики.
— Ясненько, старик. За себя не бойся: тебя-то не исключат, пока твой пахан первый секретарь горкома партии. Ректор у нас знает, как жить и как выть. — Альберт ловко, далеко сплюнул в реку.
— Потом отец сегодня улетает в Москву, вызывают в ЦК, наверно, он уйдет из горкома, — отговаривался Валентин.
— Ясненько, старик, сдрейфил. Еще вспомните обо мне: кто теперь в вашей футбольной команде капитаном будет?..
Валентин пожал плечами.
— Тоска в полоску. Отколоть что-то надо. Пошли ко мне, будет модный писатель из Москвы, он сейчас здесь, чудный парень, мой кореш. Может, еще кто зайдет, порезвимся на сходбище, — обдав Валентина винным перегаром, предложил Пухов.
— Не могу, я иду к Светланке, — отказался Валентин.
— Не шизи, зря обиваешь пороги, эта идейная цаца на тебя чхает. С писателем познакомлю. — Пухов безразлично что-то насвистывал.
— Сам ты шизик. А что он написал, этот писатель, какие у него книжки? Ты хоть название скажи, а то разговор зайдет — неудобно, если не читали.
— Написал он много. Но пока его не печатают. Пишет с душком, на любителя. А там, — Пухов кивнул вверх, — признают только свежее варево.
Больше возражать Валентин не стал, ему хотелось познакомиться с живым писателем, такое не часто случается.
— Ладно, бегу за Светланкой, жди нас.
2
Водитель троллейбуса объявил: «Конечная остановка — «Подгорная улица». Валентин вышел вслед за Светланой, любезно пропустив вперед себя старушку. Он огляделся — асфальтированный круг, на котором пустые троллейбусы ждали отправки в рейс, большой транспарант «Превратим Зареченск в образцовый город». Узкие улочки, приземистые одноэтажные домики за сплошными высокими заборами, деревянные тротуары сохранили еще облик старого губернского города.
Светлана и Валентин дошли до обрыва, внизу плескалась темная река, тоскливо поскрипывала лодочная цепь. За густыми деревьями появился домик с резными петухами на фронтоне. Валентин открыл калитку, прошел мимо облетевших кустов сирени, которые безжалостно трепал ветер, и, войдя в темные сени, прислушался, потом постучал в обитую дерматином дверь, распахнул ее.
В комнате за дубовым круглым столом, облаченный в шорты и тельняшку, сидел Пухов. Он кивнул Светлане, отодвинул на край стола грязную посуду, сполоснул у железного рукомойника два граненых стакана и откупорил поллитровку. Зябко поежившись, разлил водку в стаканы, нарезал колбасы, разломил пополам калач.
Валентин смотрел на него с сожалением — опухшее лицо, мутные глаза, очевидно в последнее время Пухов много пил.
— Будем, — наливая себе в железную кружку водку, предложил Пухов.
Но Светлана брезгливо отодвинула стакан. Валентин отрицательно покачал головой.
— Где же знаменитость? — спросил он.
Кто-то постучал в дверь, на пороге появился невысокий брюнет лет тридцати с аккуратной бородкой-шкиперкой. Он был в очках с толстой роговой оправой.
— Прошу любить и жаловать! Писатель, критик, литературовед Никифор Степанович Борзовский, — представил вошедшего Пухов. — Вот это мой друг Валентин — однокашник по институту и однокомандник по футболу. Светлана, его подруга.
Пухов взял у гостя зонт и прислонил к подзеркальному столику, на котором стояла глиняная пятнистая собака с розовой пастью.
— Очень приятно… Очень приятно… — Борзовский пожал руку Валентину.
— Я приятно удивлен, встретив здесь такую красавицу, — галантно кланяясь Светлане, ворковал Борзовский.
— Как дела? — без всякого интереса спросил Пухов.
— Написал новый рассказ, но не уверен, что опубликуют. Ты же знаешь, дорогой Альберт, я писатель по призванию, а по профессии корректор в газете. Мои произведения все еще никто не печатает. Для власть имущих я слишком левый, — поглаживая шкиперскую бородку, ответил Борзовский и вздохнул.
— Прочтите, пожалуйста, ваш новый рассказ, — попросил Валентин.
Борзовский уселся в старое плюшевое кресло и положил на стол небольшую стопку исписанных листов. Пухов, держа в руке стакан водки, сел на измятую постель. Валентин прислонился спиной к стене. Светлана опустилась на кривобокий стул.
— Маленькое предисловие: этот рассказ о молодом лесничем и его подружке написан мной на даче — так сказать, прямо на производстве, — откашливаясь, предупредил Борзовский.
Читал он нараспев, поэтому каждая страница казалась еще длиннее. Вначале слушатели были внимательны, вскоре стали переглядываться и перемигиваться, а потом сосредоточились на том, чтобы попытаться подсмотреть, насколько толста рукопись.
Борзовский, продолжая читать, уже и сам заглядывал, сколько еще осталось страниц. Наконец он умолк и некоторое время сидел согнувшись, глядя в пол. Потом сказал:
— Ну, друзья, теперь жду вашего беспощадного суда!
Наступило молчание. Светлана сосредоточенно глядела в окно. Пухов взглядом взывал к Валентину, но тот сделал вид, что не замечает этого. Тогда Пухов шагнул на середину комнаты:
— Рассказ, уважаемый Никифор Степанович, по-моему, очень сильный. Правдиво отражает быт и нравы лесничих. Позволю себе сделать автору только одно критическое замечание, вернее — задать ему вопрос… Извини, но ты сам просил об этом. Я, например, не совсем уловил: почему именно порывает молодая героиня с любимым?
— Он подонок и алкаш, ее любимый. Разве герой нашего времени таков? Разве ему мы, молодежь, должны подражать? — спросила Светлана и с недоумением взглянула на автора.
Тот ответил не сразу, продолжая безразлично рассматривать пол:
— Никто не понимает меня. Я не хочу примитивно учить кого бы то ни было, а хочу просто свободно мыслить и любить своих героев. — Борзовский обиделся и умолк.
Пухов предложил выпить за творческие удачи.
— Лучше за любовь, — перебил его Борзовский и натужно улыбнулся Светлане.
— А с чем ее едят, эту любовь? — чавкая, поинтересовался Пухов и добавил: — Я лично сторонник сексуальной революции.
— А что скажешь ты, Светлана, о любви?
— Здесь не место и не время говорить об этом. Думаю, что любовь дана не всякому, — поднимаясь со стула, ответила Светлана, она сожалела о зря потраченном времени и мысленно ругала Валентина за его приглашение на встречу со «знаменитым писателем».
Она шепнула Валентину: «Пошли отсюда». Он тихо ответил: «Сейчас пойдем». Пухов крикнул:
— Кончайте интим, идите в массы! — и включил магнитофон.
Модные ритмы сменяли друг друга, и Борзовский пригласил Светлану на танец. Она отказалась — ей уже нужно было уходить — и стала собираться. Обиженный Борзовский с кислой миной на лице в одиночестве встал у окна и, заложив за спину руки, покачивался, поднимаясь и опускаясь на носках. Все произошло внезапно. Обозленный Пухов бесцеремонно схватил Светлану за руку и насильно потащил танцевать, сильно прижал ее к себе, тяжело дыша в лицо перегаром.
— Отпусти меня, я не хочу с тобой танцевать, — высвобождаясь из его рук, сказала Светлана.
Но он еще крепче прижал ее к себе, легко приподнял и смачно поцеловал в губы.
Валентин бросился к Пухову, дернул его за руку, и когда тот ослабил свои объятия, Светлана высвободила правую руку и наотмашь ударила обидчика по щеке.
— Эта пижонесса избила меня, как самого паршивого пса, — растирая щеку рукой, бросил Пухов.
— Альберт, ты должен извиниться, — сказал Борзовский, но Пухов показал ему кулак и прошипел:
— Ты что ерзаешь, как клоп под одеялом? Гляди, раздавлю!
— Или ты, подонок, сейчас же извинишься, или я исполосую тебя, как…
Валентин, не договорив, сорвал со стены висевшую на гвозде старую кожаную плетку и двинулся к Пухову. Тот медленно отступал от Валентина. Валентин увидел в его всегда наглых глазах растерянность, потом она сменилась страхом, обыкновенным страхом. Припертый к стене Пухов внезапно рухнул на колени и, паясничая, запросил нижайшего прощения у прекрасной Дульцинеи.
Светлана сдернула с вешалки свой плащ и выскочила из дома. Когда захлопнулась дверь за Валентином, Борзовский прокричал ему вслед:
— Дуй, апостол, попутного тебе ветра! — и в бессильной злобе грязно выругался.
— Шерсть у тебя на загривке улеглась? Плюнь ты на этого дурака, и давай выпьем за твои литературные успехи, — предложил Пухов.
— Презренного металла привез? — деловито поинтересовался Борзовский.
Пухов выпил, закусил колбасой и лишь после этого утвердительно кивнул.
— Почем?
— Десятка грамм.
— Помереть можно! Красная цена — пятерка! — воскликнул Борзовский.
Он поднялся со стула и потянулся к зонту.
— Помни, мы с тобой одной веревочкой связаны, — угрожающе предупредил он, но Пухов молчал, уставившись тяжелым взглядом на глиняную собаку, и думал о своем. Думы его были горькими: из института выгнали, гонит его и Малявка из этой хаты, и только в казенном доме, наверное, ждут его… Нужно бежать из Зареченска на Алтай, к отцу, но вначале следует набить мошну, его духовный наставник Борзовский сам не забывает же об этом.
— Окончательная цена шесть, — услышал он новое предложение Борзовского.
— Не пойдет, — ответил Пухов и вновь потянулся к бутылке.
— Мои дантисты больше семи не платят, — ответил Борзовский и направился к двери.
У порога остановился, ожидая, что Пухов задержит его, но тот даже не повернул головы и затянул частушку:
Милый мой, я твоя, Куда хотишь девай меня, Хоть пропей, хоть проиграй, Хоть товарищам отдай.— Замолчи! Семь! — крикнул Борзовский, и когда Пухов не ответил, он вышел в сени, громко хлопнув дверью. Постоял, ожидая, что Пухов проводит его, и, не дождавшись, вернулся в дом: без золота он не мог возвращаться в Москву.
Хозяин сидел в той же позе, глядя в выпученные глаза пятнистой собаки.
— Восемь — это мое последнее слово, Альберт, прошу тебя, не скупись, — умоляюще проговорил Борзовский, вновь присаживаясь к столу.
— Сам ты жлоб, пристал как банный лист. Надоел ты мне, бери и мотай отсюда, скоро Малявка вернется, — махнув рукой, ответил Пухов.
Он достал из дубового комода аптекарские весы с костяными чашечками и разновески. Подошел к порогу и стал топтаться, словно пьяница у двери кабака, не решаясь ни войти, ни остаться. Потом нагнулся и, найдя под порогом кольцо на крышке подпола, резко дернул его на себя. Борзовский заметил, что из темноты подпола выпирали ржавые острия вил, по его коже пробежали мурашки.
— Зачем это? — испуганно спросил он.
— Чтобы непрошеные гости не шарили без меня, — осторожно спускаясь в подпол, ответил Пухов.
Вскоре он вылез, держа в руке грязный пузырек, выдернул из него деревянную затычку и высыпал на костяную чашечку горку тусклого желтого песка.
— Проба девяностая, товар богатый. Сколько возьмешь?
— Денег у меня только на сто граммов, поверишь в долг — возьму в три раза больше, — не отрывая глаз от золотой кучки, предложил Борзовский.
— Нет, только под наличные, — ответил хозяин и поставил на другую костяную чашечку медные гирьки.
Борзовский снял одну — пятьдесят граммов, проверил остальные — две по двадцать и две по пять — и поставил их обратно на чашечку. Пухов поднял пальцем крючок весов, гирьки перевесили золото. Осторожно досыпал из пузырька, золотая горка стала выше и шире. Теперь перетянуло золото. Пухов взял щепотку желтого песка, но Борзовский схватил его за руку.
— Не трогай, это на поход. — И стал отсчитывать деньги. Потом выдернул из зонта ручку, вытащил металлическую капсулу, отвернул на ней крышку и всыпал в капсулу золотой песок. Прикрутив ручку зонта и небрежно сказав хозяину: — Чао, — Борзовский поспешно удалился.
Пухов только успел убрать золотой пузырек, как пришла Малявка — маленькая девица в мини-юбке, с огромной вороной прической и синевой вокруг глаз.
— Опять дозрел? — глядя на пустую бутылку, заметила она, вытаскивая из сумки рыжие свертки.
— Делом занимался, — буркнул Пухов и развернул старую, оборванную газету.
— Навязался варнак на мою голову. С такими делами и я попаду за решетку, — вздохнула Малявка.
— Скоро съеду от тебя, будешь еще жалеть потом… Что нового в твоей «Березке»? — надкусывая огурец, поинтересовался Пухов.
— Ходовых товаров пока нет, золотишко попридержать следует, — обвязывая свою кудрявую прическу шелковой косынкой, заметила Малявка.
— С чего это ты такую прическу отчебучила? — поинтересовался Пухов. Малявка сегодня нравилась ему.
— У меня сегодня был экзамен по химии в заочном техникуме. Подружки зубрили с утра химию, а я пошла в парикмахерскую, хотела отдых мозгам устроить.
— Помогло?
— Мыкаюсь на экзамене я с формулой, а профессор посмотрел на эту мою прическу и говорит: «Вам, голубушка, надо бы не завиваться, а развиваться». И отправил домой. — Малявка отвернулась, скрывая слезы.
— Профессор прав — тебе развиваться нужно: с тобой скучно, с тобой спать хочется. — Пухов облапил Малявку.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Был первый час ночи, дома Кварцевого поселка погрузились в темноту, и лишь окно директорского кабинета, как маяк, светилось далеко за полночь. Моросил дождь, и редкие уличные фонари маслеными пятнами расплывались в мелких дождевых брызгах.
Хмельной Варфоломей, покачиваясь, ждал на темной улице поселка попутную машину на дражный участок — он уже опоздал в ночную смену. Варфоломей только что простился с иностранным инженером, что приезжал на Кварцевый проверять причины порчи буровых станков, — инженер говорил по-русски, и они лихо справили у Маши его отвальную — ее пельмени были выше всяких похвал.
Инженер за рюмкой водки из любознательности выспрашивал Варфоломея о Кварцевом комбинате, сколько добывает он золота, но Варфоломей, воробей стреляный, ничего ему не сказал, а дал зареченский адрес своего нового знакомого, Пухова, — инженер и Пухов, видать, одного поля ягоды.
С новым знакомым Варфоломей нашел общий язык, этот студент оказался из молодых, да ранних, под стать самому Варфоломею. Вначале они договорились о скупке золота: Варфоломей потихоньку скупал его у золотничников, что старались на брошенных отвалах, — иногда им фартило, намывали малость, а в кассу не сдавали — Варфоломей платил больше казны. Перепродавал он Пухову еще дороже, себя, конечно, не забывал, — неприметный с виду старичок в грязном ватнике подпольно ворочал тысячами, не вызывая ни у кого подозрений.
…Перекупкой золота у старателей Варфоломей занимался всю жизнь. Перед войной попался при переправке крупной партии в Маньчжурию, даже сидя в лагере, воровал золото, проигрывал его в карты и ни разу не попался. Выйдя на свободу, уехал с Дальнего Востока в Сибирь, здесь его не знали, он рассчитывал вначале обосноваться у сестры, что жила на Кварцевом руднике. По приезде на Кварцевый он пошел к Пихтачеву на лесозаготовки, а позже перешел на горные работы.
Кроме скупки золота Пухов требовал от Варфоломея информации о добыче золота на Кварцевом комбинате и обещал платить за эти сведения. Они долго торговались об оплате, Варфоломей боялся продешевить, доказывая, что Кварцевый комбинат дает больше половины золота бывшего совнархоза и плата ему должна быть наивысшей. При последней встрече они в цене сошлись, и Варфоломей начал обдумывать, у кого на руднике можно получить нужные сведения. Перебирая всех своих дружков и знакомых, он прежде всего остановился на бухгалтере Истомине, который, как он точно знал, вздыхает по его племяннице, потаскушке Машке. Истомин учитывает вес отгружаемых золотых концентратов, содержание их известно, отклонения бывают в два-три процента, поэтому картина рудной добычи яснее ясного.
Добычу россыпного золота можно узнать у варфоломеевского собутыльника фельдъегеря Серафима, что увозит золото после съемки с гидравлик и драги. Казалось, все очень просто и денежно, но на душе Варфоломея было почему-то неспокойно. Вот золотинка — это по его, варфоломеевской, части. На днях увез Пухову все свое наличное золото, и тот поручил достать еще больше. А где столько достать? Старатели приносят мало. Проданное золото он нашуровал на гидравлике — очищал самородкоуловители, а после портил их, чтобы не было подозрений: дескать, они просто не работали! Но теперь их стали специально пломбировать, и подобраться к ним невозможно. Проще пошарить на дражных шлюзах, там и улов побольше. Варфоломей нащупал в кармане плоскогубцы. На шоссе появились две яркие точки, Варфоломей вышел на дорогу и замахал рукой, но машина объехала его слева и, обрызгав из лужи грязью, умчалась дальше. Где-то пиликала загулявшая гармонь и визгливый женский голос выкрикивал:
Не гляди, что мала, Чуть повыше дышла, Я до женок не дошла, А из девок вышла.Опять на шоссе засветились фары, Варфоломей кинулся на середину дороги и, замахав руками, на этот раз остановил грузовик. Ехали молча, вскоре показались трехэтажные огни драги, они шевелились в темноте. Варфоломей вылез из кабины и быстро пошел в сторону огней. У берега качалась зачаленная веревкой лодка, в ней Варфоломей добрался до драги и, никем не замеченный, поднялся на понтон. Вздрагивала, зацепившись о камни, черпаковая цепь, монотонно шумели моторы, вращаясь, лязгали камни о железо дражной бочки — ночная смена работала нормально. Варфоломей прошел к шлюзам, здесь никого не было. Оглядевшись еще раз по сторонам, он нагнулся к головке шлюза и разодрал плоскогубцами ограждающую железную сетку. Варфоломей знал, что здесь, в головке шлюза, оседают самые крупные золотины. Не теряя времени, стал хватать руками камешки, песок и золотины и ссыпать их в висевшую через плечо торбу. Кто-то прошел на стакер, Варфоломей спрятался за шлюз и, сунув торбу под насос, поднялся к пульту управления. Здесь дежурил драгер Василий, молодой веснушчатый парень.
— Опоздал на смену, — заметил драгер и, внимательно посмотрев на осоловелые глаза Варфоломея, понял, что тот опять пьян. — И опять бусой, — добавил драгер. Подумав, решил: — К управлению драгой я тебя не допущу, постою за тебя вторую смену, а ты займись ремонтом запасного черпака — через час остановимся на съемку золота и в это время заменим аварийный черпак.
Варфоломей вернулся к шлюзу, забрал торбу и сплавал на лодке к берегу. Здесь он спрятал торбу в дупло осины, вернулся на драгу и, завалившись под слесарный верстак, громко, с присвистом, захрапел.
Его растолкал Василий:
— Что ты делаешь, варнак!
Варфоломей вскочил и по царившей на драге тишине понял, что идет съемка.
— Козырек для черпака искал, думал, может, под верстаком запасной найду, — врал Варфоломей, поспешно разворачивая гаечным ключом крепежный болт.
Василий выругался, погрозил Варфоломею кулаком и приказал:
— Чтобы через тридцать минут козырек стоял на черпаке, понятно? А завтра я напишу на тебя рапорт Пихтачеву, хватит, надоело прощать тебя, варнака.
Угроза подействовала, Варфоломей всерьез взялся за ремонт черпака. Когда дело подходило к концу, к нему подошел Василий и велел перевезти к берегу фельдъегеря Серафима.
Варфоломей, поеживаясь от холода, вышел к борту понтона. Светало, над водой дражного карьера стелился густой утренний туман. Сквозь обрывки летевшего над темной водой тумана Варфоломей увидел свою дуплистую осину и прыгнул в лодку. Вставил в уключины весла, оттолкнулся ногой от понтона и начал осторожно грести. Серафим сидел на опечатанном металлическом ящике, держа между ног автомат.
— Улов немалый, корма лодки просела почти до борта, — заметил Варфоломей.
— Обычный, как и в прошлый раз, — закуривая папиросу, ответил Серафим. В прошлый раз Варфоломей сам присутствовал на съемке и точно знал, сколько тогда сняли золота.
— А на гидравлике вчера снимали? — поинтересовался Варфоломей, причаливая лодку к берегу.
— Сымали. Привез столько же, — похлопав по металлическому ящику, ответил Серафим и спрыгнул на берег.
Варфоломей с трудом поднял ящик и со вздохом передал Серафиму.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
1
Ну вот, Виктор снова на Кварцевом! Здесь Светка пишет дипломную работу, и он наконец-то увидит ее! Скорее бы передать письмо отца Степанову. Но, как на грех, Виталия Петровича опять нет в конторе…
— Директор на обогатительной фабрике. Чай, скоро возвернется, — пояснила конопатая старуха, подметавшая веником дощатый пол.
Виктор вышел на улицу и присел на скамейку возле круглой клумбы. Он усмехнулся, вспомнив, как в прошлый приезд рвал здесь цветы для Светки… Послышался конский топот, серый конь галопом подлетел к конторе и у самого крыльца, сделав «свечку», замер словно вкопанный. Всадник легко соскользнул с седла, подвел взмыленного коня к деревянной коновязи и перекинул через нее длинный ремень уздечки.
— Хозяин у себя? — спросил Пихтачев уборщицу.
Узнав сидящего на скамейке Виктора, подошел к нему. Поздоровались, разговорились.
— Буду ждать Степанова. Премию посулил нам за пуск драги: на двадцать дён раньше графика запустили. Башковитый мужик! Помнишь, он присоветовал меньшим числом, а бо́льшим усердием драгу строить?
Виктор кивнул головой. Он хорошо помнил этот неприятный для себя вечер.
На боковой дорожке показался Степанов. Он подошел, приветливо поздоровался, присел на скамейку.
— Как двигаешь науку? — спросил Виктора.
— Родной отец собственной рукой вычеркнул мою тему из плана.
— Видал? Ведь мы с ним не сговаривались!.. Что же делать будешь?
— Есть чем заняться. Перед институтом поставили очень интересную проблему — разработку технологии подводной добычи полезных ископаемых, со дна морей и океанов. Придется начинать «с нуля», опыта никакого ни у кого нет в этом деле. Поэтому неопытной молодежи будут доверять побольше… — съязвил Виктор.
Степанов покачал головой.
— А что, паря, на суше ископаемых уже не хватает? В море за ними полезли?
— Многие земные месторождения, — например, оловянные, — уже на исходе. И олова за рубежом с каждым годом все больше и больше добывают со дна морей и океанов. Учитывая, что Мировой океан покрывает нашу планету на семьдесят процентов, можно себе представить, какие запасы минералов хранятся на его дне! — менторским тоном разъяснял Виктор. Но по глазам Пихтачева он видел, что тот не верит ему.
— А к нам за чем пожаловал? Здесь моря-окияна нет, — усмехнулся Виталий Петрович.
Виктор развел руками:
— Закрыть старую тему. Составить отчет о проделанной работе, вы должны будете его подписать. Так требует инструкция.
Пихтачев, не дождавшись, пока закончится этот диалог, протянул директору конверт:
— Из райкома партии велели передать тебе.
Читая решение райкома о работе партийной организации Кварцевого рудника, Степанов покачал головой. Дочитав, с удивлением воскликнул:
— Мне, хозяйственнику, теперь вроде и делать нечего! Буквально про все расписали, как в приказе: режим работы горного цеха, технологию извлечения золота на обогатительной фабрике — раздельно из сульфидных и окисленных руд, график ремонтных работ, автотранспорта… Почти всю инструкцию по технике безопасности изложили… А где меры партийно-воспитательной и организационной работы, гарантирующие выполнение этих решений? Словом, как в старой песне: «Пишет, пишет царь турецкий, пишет русскому царю…» — закончил Степанов, складывая бумагу.
Виктор передал Степанову свой конверт.
Прочитав письмо, Виталий Петрович обратился к Пихтачеву:
— Северцев пишет, что на днях в Центральном Комитете партии будут обсуждать первые итоги работ по новой экономической системе, видно, меня вызовут туда… А что я скажу? Как драга частенько простаивает из-за пьянки твоих людей? Что молчишь, бурундучий сын?!
— Варфоломей, якорь ему в глотку, точно, под заливом был, зато другие вкалывали дай бог, — поспешно согласился Пихтачев.
И, достав из планшетки еще одну бумагу, передал ее директору:
— Ты обещал — держи слово.
Степанов пробежал глазами длинный список и в левом углу бумаги написал наискосок:
«В приказ. 1. За досрочный пуск драги начислить поименованным работникам дражного участка премию в размере месячного оклада. 2. За простой драги премию снизить на 50 процентов».
— Неверную резолюцию нарисовал. Ты лиши напрочь Варфоломея, а других зачем обижать? — возразил Пихтачев, прочтя резолюцию директора.
— Давно следует всем отвечать за одного, и одному за всех, — поднимаясь, сказал Степанов и зашагал к конторе.
Пихтачев поспешил за ним, начав сызнова что-то доказывать директору.
Виктор не пошел с ними. «Надо сейчас же повидать Светку!» — решил он и, вскочив на подножку медленно проходившего мимо попутного самосвала, поехал на карьер, думая, что Светлана должна быть именно там…
Зачем он так спешил, Виктор не знал и сам. Но не повидать ее сейчас, немедленно, он просто не мог.
В огромном карьере-блюдце ее не было. Виктор подошел к знакомому бульдозеристу Ивану, намереваясь поговорить с ним о том о сем, но тот не стал поддерживать беседу.
— Извини, дружок! Теперь, при экономике, балакать некогда… Раньше в месяц я пять тысяч кубометров породы перелопачивал вот этим помощничком, — Иван пошлепал ладонью по корпусу тракторного скрепера, — а теперь уже восемь тысяч… Прощевай!
Шумно включая скорость, рыжий Иван успел еще крикнуть, что практиканты геологи сегодня получили задание взять пробы на хвостах новой драги, она отсюда километров пять…
Виктор вдруг задумался: а следует ли все-таки тащиться туда без дела, только затем, чтобы повидать ее? Решил было уехать в поселок. Но колебания были недолги. Он зашагал прямой тропой от карьера к дражному полигону.
Моросил противный осенний дождь, стекал каплями с плаща, глина налипала на ботинки, мешала идти. Вокруг стоял туман, неподвижный и упорный, словно дым в курилке. Виктор оглянулся — от карьера не осталось и следа, все исчезло, или притаилось где-то, или никогда не существовало вовсе. В тумане процокали лошадиные копыта и затихли впереди. Виктор подумал, что, верно, это Пихтачев верхом возвращается в свою бригаду.
Туман в лесу поднялся, Виктор стал различать тропу, обступившие его стволы кедров и пихт. Вот из драного тумана проступили синие горы, и Виктор с благоговейным удивлением глядел на них. Послышался скрежет металла о камень. Виктор сообразил, что драга близко. Из тумана выступила избушка, крытая тесом, около нее на сваленном кедре с необрубленными ветками сидели рабочие. Их собралось человек двадцать, они громко галдели — кого-то ругали.
Дражники были, как солдаты, в одинаковой одежде — резиновых, с высокими голенищами, сапогах, брезентовых брюках и куртках, фибровых горняцких касках. Одним лишь отличались они друг от друга — бородами. Тут были и седые, и огненно-рыжие, и козлиные, и лопатами…
В центре восседал Пихтачев. Перед ним стоял навытяжку сутулый Варфоломей. На шее старика торчал ярко-полосатый добротный шарф.
Пихтачев заметил Виктора, кивнул ему головой. Галдеж прекратился, все обернулись в сторону подошедшего.
— Причаливай, причаливай, гостем будешь! — пригласил Павел Алексеевич.
— Хотел бы драгу посмотреть, — придумал Виктор оправдание своему приходу.
— Это можно. Только погоди чуток. У нас тут свой трибунал заседает. Судим прогульщика, — пояснил Пихтачев.
— Точнее — товарищеский суд у вас, — подсказал Виктор.
— Он самый, — согласился Пихтачев.
И снова обратился к подсудимому:
— Ты сколько раз нам, друг ты мой Варфоломей, слово давал не хлебать на работе? А?
Вокруг опять загалдели. Послышались реплики:
— Тыщу раз.
— Ково там тыщу, мильён!
— И все до первого аршина водки.
— Что это за новая Мера для водки? — не удержался от вопроса Виктор.
— В аршине пятнадцать стопок по сто грамм шеренгой, — пояснил Пихтачев.
И, подняв руку, мигом установил тишину.
— Драга всю ночь простояла в субботу. Знаешь, сколько золота недодала?
Варфоломей молчал, склонив голову набок.
— Сказывай: с кем пил, кто тебе заморский шарф вырешил? — допытывался молодой рыжий бородач.
Варфоломей молчал, зыркая по сторонам глазами.
— Немец с ружейной фамилией, что буровой станок осматривал! Право слово, он! Я сам своими зенками видел, как он с Варфоломеем от Машки еле плелся ночью! — наседал рыжий.
— Верно, Зауэр. Он самый… Кто говорить про Варфоломея желает? — спросил Павел Алексеевич.
Дражники опять зашумели, перебивая друг друга:
— Знаем мы его сто лет, чего говорить о нем!
— Доброго не скажешь, решать давайте!
— Гнать его под зад коленкой!
— Хватит жевать онучу, заболтались лишку…
— Колготимся впустую.
— Давай приговор, и все тут!
— Слышал, что народ о тебе думает? Ну, говори, Варфоломей. Тебе последнее слово, — объявил Пихтачев.
Подсудимый осоловело захлопал глазами. И по-прежнему молчал.
— Ему небось кляп в глотку забили, — засмеялся рыжий.
— Ты что на меня матерщинными глазами смотришь?! Отвечай, когда начальство велит! — заорал Пихтачев.
Варфоломей через силу проговорил:
— Утык получился, верно. Немножко себе вчера позволил. Но нет такого права, чтобы без бумажки-акта, значит, постановлять. Расследовать надо, обратно, профсоюз спросить обязаны, инструкция есть такая. Газеты, обратно, читать надо… про чуткое отношение…
— Ишь ты… грамотей! — заметил Пихтачев.
— Все знает, прямо, как его… макулатурный работник, — поддакнул рыжий бородач.
— Какой? Какой? — снова не утерпев, переспросил Виктор.
Бородач растерянно посмотрел на Пихтачева, и тот за него ответил:
— По-вашему, значит — номенклатурный.
Виктор засмеялся, засмеялись и рабочие. А громче всех гоготал Варфоломей.
— У нас нет времени с тобой валандаться, на смену пора, золото добывать нужно. Так, значит, какое, народ, решение пропишем? — громко спросил Пихтачев.
— Премии нас лишил, окаянный! Вывезти шайтана на тачке!
— Верно! Кончать с нахлебником! Времена другие ноне подошли! — кричали со всех сторон.
Пихтачев поднялся. Подошел к Варфоломею.
— Считай — тебя нету. Это как бы зачерпнуть кружкой воды в пруду: никто и не заметит… Ребята, тащите тачку! — распорядился Павел Алексеевич.
Виктор встал, хотел пойти на драгу, считая, что необычный суд окончен. Но Пихтачев задержал его:
— Сиди до конца нашего приискательского суда. Потом в столице расскажешь про него. У вас в Москве нахлебников-то, я так смекаю, не меньше, чем в тайге! — закончил он под одобрительный смешок бородачей.
Двое стариков привезли тачку с железным колесом, на которой возили всякий мусор. Ее остановили перед Варфоломеем, и Пихтачев скомандовал:
— Ишь, дрожишь дрожмя, змея подколодная! А ну, садись!
— Алексеич, а мы за это самое не схлопочем?.. — с опаской спросил белый как лунь старик.
— Не боись! На Южном прииске я своими руками вывез одного такого паразита, — успокоил Пихтачев.
— Отвечать будешь, Алексеич. Ты ведь старшинка у нас временный, вроде Керенского. Ты такой же работяга, как мы, — насмешливо оглядев Пихтачева, предостерег Варфоломей.
Павел Алексеевич вскочил на валежину и, дернув Варфоломея за цветастый шарф, уже истошным голосом заорал:
— По-твоему, значит, работяга хуже чина какого, что портки в конторе протирает?! Да тебе известно, варнаку, что у меня образование незаконченное низшее, два класса церковноприходской школы прослушал? А подучи меня еще самую малость, я бы, может, директором стал. Ясно?
— Ково там дирехтором — министром! — поддержал рыжий.
Варфоломей, презрительно скривив лицо, буркнул:
— Верно, два класса. Только на двоих с братом.
Чтобы закончить затянувшийся с ним разговор, Павел Алексеевич зло бросил:
— Если бы я имел такую голову, как у тебя, я бы на ней сидел. Ясно?
Пихтачев подал рукою знак — в тачку! Варфоломей стал упираться, толкнул какого-то старика, но Пихтачев усмирил его одним свирепым взглядом. Варфоломей сел в тачку, неуклюже задрав длинные ноги на ее борта. Под громкое улюлюканье его повезли к дражному разрезу, заполненному мутно-желтой водой. Здесь тачку остановили, и Пихтачев назидательно сказал:
— В старину на приисках негодных людей в шахту бросали. А теперь времена культурней и наказание полегче. Прощай, друг Варфоломей, не поминай лихом! Не хотел шить золотом, так бей молотом. — И махнул рукой.
— Валяй, Алексеич, изгаляйся: ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак, — угрожающе предупредил Варфоломей.
Старики подкатили тачку к самому борту и вместе с Варфоломеем бросили ее в затопленный разрез. Послышался всплеск воды, Виктор увидел, как мокрый Варфоломей, стоя по пояс в мутной воде, стряхивал с куртки грязь. Он отчаянно матерился.
— Подчепурись, варнак, но не ругайся: некультурно это! — крикнул Пихтачев.
Варфоломей, погрозив ему огромным кулаком, побрел к противоположному берегу, на четвереньках вскарабкался на борт разреза и, присев на мокрую, сыпучую гальку, продолжал яростно ругаться.
— Артист, право слово, артист: как ладно кроет матом! Густо, в три слоя… — покачивая головой, с завистью проговорил рыжий.
Исчерпав, казалось, неиссякаемый запас отборных бранных слов, Варфоломей еще раз погрозил кулаком-кувалдой и, прихрамывая, скрылся в кустарнике.
— Вот так будет теперь с каждым, кто станет нам новую систему портить. Понятно? — грозно спросил Пихтачев.
Ответом ему было молчание.
— А теперь, братцы, за кого начальство просить будем заместо Варфоломея-захребетника? — обратился к сходке Пихтачев.
— Может, за Миколку? Мужик подходящий, непьющий, — поспешно предложил рыжий.
— Ково? Миколку? Ему в обед сто лет, а в ужин сто дюжин. Потому и непьющий. Сродственник он тебе, и вся в том его заслуга, — отрезал седой бородач.
— Может, Степку-мастерового? Парень на все руки! — выкрикнул кто-то позади Пихтачева.
— Пустобрех он, поллитры только сшибает. Штепсель мне исправил — погнал в казенку за пузырьком… — возражал теперь рыжий.
— А может, обойдемся сами? Окореняли теперь, бригада у нас добрая, поплотней работнем, — глядишь, и привару на каждый нос добавится. Так я говорю, мужики? — предложил седой бородач.
Все одобрительно загалдели, и Пихтачев поднял руку:
— Значит, на нашей сходке решаем: лишний рот не кормить!.. А теперь, други мои, вкалывать без оглядки!
2
Пихтачев и Виктор пошли вдоль разреза к плавучей золотой фабрике-драге. Она мерно покачивалась на поверхности запруды. Виктор осмотрелся: пирамидальные отвалы камней вдоль таежной реки указывали путь, уже пройденный драгой.
На лодке они подъехали к ней, и Пихтачев повел Виктора по драге.
Они посмотрели, как черпаковая цепь забирала в забое золотоносный песок, с грохотом загружала его в большую вертящуюся дырчатую бочку, откуда песок поступал на золотоулавливающие шлюзы, а пустая порода — галька по наклонному транспортеру — стакеру, прыгая, со стуком скатывалась в отвалы, которые Виктор видел в долине реки.
На ближайшем к драге пирамидальном отвале две девушки ковыряли лопатами гальку и складывали ее в деревянный ящик. В одной из них Виктор сразу узнал Светлану.
— Что там ковыряются девушки? — спросил Виктор, стараясь придумать повод, чтобы перетащить Светлану на драгу.
— Это практикантки. Одна из них дочка Степанова. Хорошая деваха. Да ты ее тоже знаешь! А я ее знал еще вот такой, — Пихтачев нагнулся и показал рукой. — Проверяют извлечение золота на нашей драге, не спускаем ли мы, часом, его в отвал! Теперь за повышение намыва золота боремся, рабочим платят за золото, а не за смытый кубаж, — объяснил Пихтачев.
— Небось девчонки вымокли на дожде, — предположил Виктор.
Пихтачев понял его и закричал вахтенному матросу:
— Возьми лодку и дуй за практикантками! Скажи — начальник кличет их на драгу, пусть шабашут!
Прислонившись к барьеру, они смотрели, как матрос отвязал веревку, прыгнул в лодку и быстро заработал веслами.
— Что это у вас за странный обычай — людей на тачке вывозить? — спросил Виктор.
— Со времени бергалов существует, — ответил Пихтачев и задымил трубкой.
— А кто это бергалы?
— Ох, вижу я, не знаешь ты совсем приисковой истории… Ну, тогда слушай, паря… Золото начали у нас в Сибири добывать ссыльные каторжане да бергалы. Каторжан приковывали цепями к тачкам — и вози, пока носом не ткнешься! А бергалы — те вроде по мобилизации на прииск попадали. Берг-коллегия царская, значит, горное ведомство, — их забирала. Таких бергалами и звали. Ну вот, в те времена частенько начальников-лихоимцев с тачкой в шахту скидывали… Судили, конечно, за это нашего брата приискателя, да все равно вывозили: жизнь, что вольная, что каторжная, одна другой стоила. Гроши зарабатывали, да и те, помню, управляющий запретил выдавать на руки, вместо денег талоны на лавку. А лавочник зверски обсчитывал нас, драл с рабочего человека три шкуры за всякую тухлятину, а деньги они делили между собой. Бунты бывали в тайге частенько, я сам бунтовал не раз…
Подъехала лодка, Светлана легко выпрыгнула на борт драги, подала руку подруге и, повернувшись, увидела Виктора. Растерянно кивнула ему головой, виновато посмотрела на свои вымазанные в глине кеды, зачем-то потерла грязным пальцем серое пятно на куртке, поправила на голове синюю с белыми горошинами косынку.
Счастливо улыбаясь, Виктор протянул ей руку, но она спрятала руки за спину.
— Испачкаю!
Чтобы скрыть смущение, с победоносным видом вынула из кармана куртки завязанный узлом шелковый платочек и, развязав узел, достала небольшой самородочек.
— Вот что я нашла. Ну, будете еще со мной спорить, что не теряете золото в отвалах? — спросила она Пихтачева.
— Ишь нашаманила, — то ли одобрительно, то ли осуждающе пробормотал он.
Пихтачев лишь мельком взглянул на самородок. Зато Виктор, впервые видевший самородное золото, долго вертел, взвешивал на ладони тяжелый желтый окатыш.
— Сколько весит? — спросил он.
— Граммов пятнадцать, не больше. Невелик, Света, твой самородок! — с напускным равнодушием говорил Павел Алексеевич.
— В кассе точно взвесят. А я и такому рада! Впрочем, нужно не радоваться, а печалиться: теряется крупное золото!.. За низкое извлечение вас рабочие не поблагодарят, — закончила она.
— Все поучают нас, дураков. Даже ты, Света, еще из института не вылупилась, а тоже учишь! — буркнул Пихтачев, демонстративно отворачиваясь от нее. Ему нечего было возразить.
Виктор переглянулся с девушкой и, чтобы разрядить обстановку, спросил Пихтачева:
— А вы, Павел Алексеевич, находили самородки и побольше этого?
Пихтачев задумался. Конечно, он находил всякие — побольше и поменьше, но ничего примечательного о них вспомнить не мог… И тут на память пришла история, которую слышал он не раз от своего друга Степана Кравченко, когда они вместе «старались» на Южном прииске. Приключилась эта история со Степаном, но могло такое случиться и с ним, Пихтачевым, поэтому возьмет он на свою душу не очень большой грех, если выдаст ее за свою собственную… Мало ли раньше баек о золоте ходило по приискам, может, и Степан рассказал не свою. А молодежи послушать интереснее, если рассказывает очевидец…
— Самородки всякие бывали, паря, и большие и малые, и круглые и плоские, только не было среди них счастливых. За них, окаянных, наш приискатель и бит нещадно бывал, и калекой, становился, а то и запросто богу душу отдавал. Фарт был приискателю и надежа, и проклятье, им все бредили, кто связал свою жизню с фартом. При встрече выживал тот, кто первый приметил путника и, значит, поспевал первым отправить на тот свет… Вот и расскажу об одной фартовой находке, такую не забудешь никогда. Мантулил я тогда на компанейских работах, их управляющий для нас каторжные порядки завел! Все жилы из нас вымотал. Но везучий он был, золото скрозь землю видел. Открылась, помню, одна россыпь — половина песка на половину золота, ей-богу. Там к передовому забою стражников приставили, кованую переборку сладили. Штейгер — горный смотритель, значит, — был к нам приставлен и денно, и нощно. Помнится, подбирал я кровлю под огниво и вывалом больно зашиб коленку. Чем, думаете? Полупудовой самородкой. Сунул ее за стойку и курю, жду, когда в рельсу ударят… — Пихтачев протяжно свистнул.
— Удалось? — засмеялся; Виктор.
— Погодь, паря. Стал мозгами шевелить, как бы скрыть от управляющего. Расчет простой: управляющий золотник в два с полтиной ценил, а знакомый перекупщик четыре отваливал и с наваром оставался, казне за пятерик сдавал. Золото молчит, да много творит. Зазевался стражник, сцапал я свою находку — и на выход. По откаточному штреку бежит дружок, как говорится, верный мне, что золото в огне: «У клети обыскивают всех. При нужде бери свечу и дери через запасный выход». Время я терять не стал, в темноте кромешной угодил в слепую шахту, там минут пять пузыри пускал и за самородку дрожал — не уронить бы. Еще и газов наглотался. Вылез, так меня наизнанку всего вывернуло, запашок-то вредный был. Лезу по лестнице людского ходка и соображаю, как бы скорей до лавки добраться… В те времена на приисках свои неписаные законы были. Известно, писаные-то все нарушали, а неписаные и начальство блюло. Главный был такой таежный закон: если донес до лавки золото — неважно, какое оно, хоть ворованное, хоть подобранное, — тебя тронуть не моги! А если тебя, растяпу, до лавки схватили — и золото отобьют, и тебя в острог, если на месте не прибьют до смерти. Знамо дело, редко кому фартило, ну, начальство, значит, и не перечило… Так вот, ребятки, вылез я из шахты и бегу сломя голову. У пруда оглянулся — никак погоня? Припустился что было мочи. Поредел лес, заимку видно стало, как избы курятся. А конский топот все слышней и слышней, страшно, когда стражники догоняют беглого. Делать нечего — перемахнул через поскотину да огородами к лавке напрямик сиганул. А лиходеи в обход в галоп скачут.
Светлана изумленно покачивала головой, у Виктора приоткрылся рот.
— Влетаю на крыльцо лавки и вдруг вижу огромный амбарный замок. А стражники тут как тут, скачут, нагайками со свистом замахиваются. Думать некогда, пан или пропал. Выхватил я самородку и запустил ее в окно лавки. Осколком стекла меня поранило, я упал прямо наземь. Стражники озверели — потеряли такую добычу — и давай стегать меня нагайками. Тут подоспели приискатели и с ними сам управляющий. Что же вы думаете? Собака человек, а тут взял меня под защиту: «Не троньте, вороны! Золото в лавке, — значит, его. Ведите купца, гулять будем!» Говорил я вам, что не было у меня счастливых самородков, потому что всегда действовал неписаный закон: сполна пропить. Помнится, пропивали мое золото всем прииском целую неделю. Старшинкой меня величали, ндраву моему потакали, выдумки одна чудней другой отчебучивали, как могли… Посуду всю как есть в кабаке перебили. Бархат мне на дорожки по грязи устилали, когда я в подпитии из кабака выползал. Оглянусь, а сзади меня бабы бархат на куски рвут и дерутся за него промеж себя. Еще я каждый день себе портянки атласные новые справлял и одеколоном их брызгал. И еще коней спиртом спаивали да гоняли их до запалки…
Пихтачев выбил о каблук пепел из трубки и виновато улыбнулся.
— Словом, всякое бывало среди нашего приискательского сброда. Даже управляющий до чертей упился, бросался на людей и все спирту требовал. Я поднес ему стаканчик. Он выпил и кричит: «Дай воды!» А дружок мой вместо воды опять чистым угостил. Тот и не дыхнул. На другой день я пошел в контору за авансом на хлеб — и потопал в рваных портах под землю за своей жар-птицей. Вот так-то, ребятишки, и жили в старину, — закончил Пихтачев.
— Пал Алексеич, Алексеич, подойди сюда! — взволнованно позвал драгер Василий и повел его в голову шлюза.
За ними пошли и Светлана с Виктором. Молодые люди остановились у широких, закрытых железной сеткой золотоизвлекательных шлюзов и пытались рассмотреть в сетчатые отверстия желтые золотинки.
— Эта? — спросил Виктор Светлану, указывая пальцем на желтый окатыш.
— Нет, кварц. Золотинка вон та, — кивнула Светлана куда-то в угол, но на это место просыпалась очередная партия гали и Виктор не увидел желанной золотины. У другого шлюза Пихтачев с драгером Василием громко о чем-то говорили, стараясь перекричать шум крутящейся бочки.
— Когда ты обнаружил? — спросил Пихтачев.
— Только что, как стали готовиться к сполоску шлюзов, — крикнул в ответ драгер.
Виктор посмотрел на шлюз и удивился: ограждающая сетка была порвана, россыпное золото желтыми лепешками покрывало дно шлюза.
— Смотри — самородки, их много-то как! — воскликнула Светлана и показала пальцем на покрытых водой желтых тараканов, такими показались Виктору эти самородки.
— Подозреваешь кого? — спросил драгера Пихтачев.
— Не пойманный не вор, напраслину на человека не возвести бы, — пожимая плечами, ответил Василий.
— Не первый это случай. Не за то вывезли гада на тачке, — тихо сказал Пихтачев: он думал, что золото своровал Варфоломей, ведь он уже сидел за эти дела раньше. Вздохнув, Пихтачев сказал, что нужно позвонить куда следует, и уехал с драги.
Молодые люди пошли к трапу.
— Что ты здесь делаешь? — улыбнулась Светлана Виктору.
— Пришел познакомиться с драгой. А если честно говорить, искал тебя, очень хотелось скорее увидеть… Поговорить…
— Ну, говори, — облокачиваясь на перила, разрешила она.
Виктору показалось, что в глазах девушки быстро-быстро, сменяя друг друга, промелькнули отблески различных чувств: сначала — удивления, возможно, потому, что лицо Виктора поразило ее своей оцепенелостью, неподвижно застывшими зрачками, лотом — приметная искорка иронии, потом — какой-то проблеск дружеского участия…
Но он молчал, молчал, не в силах выдавить из себя хотя бы слово, и растерянно улыбался.
— Зачем приехал? — спросила она с какой-то настороженной грустью.
— За тобой, — скорее выдохнул, чем сказал он.
Светлана взглянула на него, ее голубые глаза стали серьезны. Она ничего не ответила и быстро сбежала по качающемуся трапу на берег.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Ася сегодня сказала мимоходом в коридоре, что по объединению ходят слухи о его, Птицыне, увольнении с работы… о каких-то связях с французами, ради которых он якобы выступает против создания отечественных машин или что-то в этом роде, правда ли это?.. Она явно озабочена этими слухами! Он, конечно, отрицал. Задача каждого человека найти только собственное спасение, все остальное лишь наивное заблуждение. Смит неглуп, утверждая, что Христос, Будда, Магомет обрели свою чашу, но не смогли убедить человечество пить из нее с тем усердием и той верой, на какую рассчитывали. Неужели наши современные пророки серьезно надеются достичь того, что не удалось тем? Неужели мы все еще вправду считаем, что сумеем, глядя на мир глазами святого, повести всех людей на борьбу за свои идеалы? Всяк крестится, да не всяк молится. Он, Птицын, теперь даже не крестится, он игрок, разыгравший свое будущее в орлянку: достав из кармана монетку, подбросил ее в воздух, наступил на нее туфлей и, взглянув, какой стороной она легла, пошел дальше.
Вот и знакомое кафе со столиками прямо на тротуаре. Птицын заказал коньяку и конфет — теперь только коньяк поднимал ему настроение. Поспешно выпил, закусил конфеткой. Сразу стало тепло. Он понял, что люди пьют для того, чтобы вынести невыносимое. Заказал еще и, одиноко сидя за столиком, размечтался: через четверть часа он доберется до Асиного дома и еще через четверть часа уложит ее с собой в постель. Да четверти часа и не потребуется!.. Первый раз на это ушла вся ночь. Уступила она, когда он уже собирался послать ее к черту и вписать в свой список еще одну неудачу. Но с каждой новой встречей времени на уговоры уходило все меньше и меньше. Этому способствовали, конечно, подарки… и бизнес на перепродаже валюты. Она будет ему рада!
Роман их начался в тот счастливый, незабываемый для него вечер, когда объединение давало в ресторане банкет в честь не то бельгийской, не то голландской фирмы. Птицын знал, что на банкете будет Ася, Он долго прогуливался у входа в ресторан и наконец увидел ее. Ася распрощалась с шумной компанией и подняла руку, пытаясь остановить, такси. Птицын кинулся на перехват затормозившего неподалеку таксомотора, втиснулся на сиденье и подъехал к Асе.
«Вы, Александр Иванович, просто прелесть», — усаживаясь в машину и подставляя для поцелуя щеку, сказала Ася.
Она назвала шоферу свой адрес, а когда подъехали к ее дому, Птицын расплатился и отпустил машину. Взяв Асину сумочку и зонтик, он вошел за ней в кабину лифта. Открыв дверь квартиры, Ася остановилась у порога и сказала:
«Спасибо, что проводили. До свидания».
Птицын умоляюще смотрел на нее, не двигаясь с места.
«Поздно. В другой раз», — пообещала Ася.
«Водички хоть попить дайте», — попросил Птицын. Она пропустила его в прихожую и закрыла дверь. Сняла пальто, туфли и на цыпочках прошла в комнату, включила торшер. На столе у кушетки стояли бутылка вина, стаканы. Ася забралась с ногами на кушетку и закурила сигарету. Цедя сквозь зубы белое вино, она хмельно заговорила о себе, о своем одиночестве. Альберта выгнала, хотя он настаивал на женитьбе, ухажеров у нее полно, подружки завидуют, а мужчины ей не нужны, раз не тронули сердца…
Птицын был доволен их отношениями. Он знал, что представляет из себя Ася, и она знала, что ему нужно от нее. Обескураживала, правда, их последняя встреча. Ася вдруг разоткровенничалась, излила Птицыну боль своей души. Она считала себя неудачницей и утверждала, что жизнь на каждом шагу обманывает ее. Еще в школьной самодеятельности ей прочили артистическую карьеру, но в театральный институт поступить не удалось — там, кроме хорошенькой внешности, требовали еще и таланта. Не став, как сказала Ася, «звездой», она решила разбогатеть и поспешно вышла замуж за пожилого импозантного художника. Вскоре она поняла, что жизнь вновь обманула ее, — художник имел лишь модный костюм, пальто, шляпу и уйму долгов. Ася говорила, что своего добьется во что бы то ни стало. Писатели и ученые будут у ее ног, стоит ей только повести бровью, и насмешливо оглядывала неказистого Птицына. Слушая болтовню Аси, он заметил лучики морщин у нее под глазами, против которых бессильна даже даренная им импортная косметика. И все же Ася нравилась ему — нравились ее бойкость и стройная, как у манекенщицы, фигура. Он зайдет в магазин, и они поужинают у нее. Он не любит появляться в ресторанах с молодыми женщинами, а уж теперь-то надо особенно остерегаться.
Когда Птицын вышел из гастронома, над городом бушевала гроза. Темные диагонали дождя впивались в мостовую. Порывистый ветер гнул молодые тополя, рвал кусты сирени, раскачивал липы. Центр грозы был где-то близко: вспышки молнии и раскаты грома почти совпадали по времени, разрывая тьму, заглушая городской гул. На какое-то мгновение копья, трезубцы, змеиные жала голубого огня выхватывали из сумеречной мглы склоненные деревья, болтающиеся провода, нити проливного дождя и черную рябь пруда.
Не вполне отрезвевший Птицын, укрываясь под развесистой липой, думал о том, какие у него шансы быть убитым молнией… «Отличные!» — решил он, когда три языка небесного огня, переплетаясь, исчезли среди деревьев в конце аллеи и через мгновение раздался удар грома. Слишком поздно заткнул Птицын уши: голова загудела от страшного грохота. Тут ветер переменился. Теперь дождь бил прямо в лицо. Птицын прижался к шершавому стволу дерева и, сощурясь, смотрел, как белый фасад дома возникает и исчезает в моментальных вспышках света, похожий на старую фотографию, расплывчатую, передержанную.
Гроза не кончалась. Промокший до нитки Птицын вышел из своего укрытия, крепко прижимая к груди мокрые кульки, и подставил дождю лицо. Внезапно со звуком топора, расщепляющего дерево, голубая молния разорвала небо, бросив Александра Ивановича в дрожь, словно окутав его звенящей паутиной. Эта молния обожгла дерево неподалеку, и Птицын бросился через улицу наутек.
Набрав полные туфли воды, он бежал, как во сне, в котором не удается оставить преследователей позади себя.
Медленно, с трудом переводя дух, он стал подниматься по лестнице: из конспиративных соображений он в этом доме не пользовался лифтом. На пятом этаже отдышался и нажал кнопку звонка.
Дверь не открывалась. Он достал ключи и отпер дверь сам.
В прихожей было темно, в квартире тихо играло радио.
— Ася! Асенька… — позвал он.
Никто не ответил. Он прошел на кухню, положил на стол мокрые покупки и недовольно потянул носом, учуяв запах табачного дыма. На столе увидел недопитую бутылку коньяка, две грязные рюмки, тарелки с недоеденной копченой рыбой и колбасой, пепельницу, забитую окурками.
Прошел в комнату, не зная, что предпринять. В темноте белела смятая постель. Было слышно, как в ванной комнате булькает вода.
Вскоре скрипнула дверь, щелкнул выключатель, и появилась Ася — в ситцевом халатике, накинутом на голое тело.
— Александр Иванович?! — испуганно воскликнула она, торопливо запахивая халат. — Я сегодня вас не ждала…
— Меня-то не ждала, а другого уже проводила…
Он шагнул было к ней, не зная еще, что он сейчас сделает — сожмет ли ее лицо в ладонях и поцелует, или залепит пощечину. Но Ася отступила и сказала:
— Уходите, Александр Иванович, уже поздно.
Птицын растерялся от этой нелепой в ее устах фразы.
— Верните вторые ключи от моей квартиры и уходите. Уходите! — твердила она.
Птицын попытался обнять ее, она оттолкнула его острым локтем.
— Что случилось, Ася?..
— Ничего не случилось. Только поскорее уходите! Поняли?
— Куда же я пойду, такой мокрый? — глупо пробормотал Птицын, двумя руками растаскивая прилипшие к ногам штанины.
— К своей Серафиме.
Она посмотрела на него с такой ненавистью, что Птицын заискивающе улыбнулся.
— Асенька, опомнись! Умоляю тебя…
— Опомнилась, но с опозданием, — снимая дверную цепочку, сказала Ася.
Он взял ее за руку, она брезгливо отдернула свою руку и добавила:
— Я выхожу замуж.
— За кого?.. — только и нашел что спросить вконец растерявшийся Птицын.
— А какая вам разница, Птицын? Например, за профессора Проворнова… Знаете такого? — зло бросила она.
— За к-кого?! — чувствуя,, что окончательно тупеет, вздрогнув не то от презрения к ней, не то от жалости к себе, переспросил Птицын… Боже праведный, что творится на свете! Только неделю назад он познакомил Асю в этом доме с Проворновым, которого он затащил сюда, чтобы, как говорится, в семейной обстановке добиться его поддержки (оказалось, безрезультатно!) контракта с фирмой, — и вот такая новость!
Ася что-то говорила, но он не слышал ее, голос Аси показался Птицыну не настоящим, а как на ленте, которую прокручивают на магнитофоне в обратном направлении.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
1
Когда Рудаков вошел в приемную секретаря Центрального Комитета партии Сашина, там уже толпился народ. Рудаков нашел Степанова и Северцева, поздоровался с ними.
— Поздравляю! Недавно разворачиваю «Правду» и с удовольствием читаю: «На днях состоялся пленум Зареченского областного комитета партии, рассмотревший организационный вопрос. Первым секретарем обкома избран т. Рудаков…» Очень было приятно читать такое! — искренне сказал Северцев.
— Ты что же, Виталий Петрович, распускаешься, толстеть начал! На Южном был стройнее. Рановато, рановато… — Рудаков похлопал Степанова по брюшку.
— В горкоме ты, Сергей Иванович, тоже был моложе… Ничего не поделаешь, годы, — ответил Степанов, не без труда застегивая пуговицы пиджака.
Когда Михаил Васильевич вышел в коридор покурить, Степанов оглядел хмурого, показавшегося ему очень уставшим Рудакова, спросил:
— Что квелый? Еще не отдыхал?
— Нет. Сейчас не до отдыха, — вздохнул Рудаков. — В обкоме у меня началось с перекоса. Притираемся друг к другу пока туго. Беда, что не все работники правильно понимают смысл своей деятельности… Инерция, брат, сила страшная, каждого из нас цепко держит. Я часто думаю: что порождает у нас формализм? По-моему, он — результат недоверия. Вспомни: сколько ты проводил совещаний не для установления коллективно какой-то истины, а лишь для рождения бумажки? Дескать, согласовано!.. Или ненужная переписка лишь для того, чтобы снять с себя ответственность, потому что ты не доверяешь партнеру… — Рудаков с кем-то поздоровался, перекинулся двумя-тремя фразами об уборке урожая в области.
Степанов вскинул голову и продолжал:
— А контроль? Он тоже зачастую сугубо формален. Хозяйственную деятельность контролируют все без исключения — местные, районные и областные партийные, советские, профсоюзные организации, финансовые, санитарные, горнотехнические, архитектурные, рыбные и все прочие надзорные! Они дублируют друг друга, но никакого контроля по существу нет, лишь по форме, ради акта. Зачем же он такой нужен?
— Ты за полную бесконтрольность ратуешь? — усмехнулся Рудаков.
Степанов поднял руки, попросил Рудакова подписать бумагу в Совет Министров о выделении вне фондов Кварцевому руднику десяти автосамосвалов грузоподъемностью по сорок тонн. Сергей Иванович стал внимательно читать бумагу.
Степанов улыбнулся подошедшему Северцеву:
— Сват, привет тебе от сына!
— Спасибо. А ты зашел бы к свату в гости. Нам с тобой есть о чем поговорить… — в тон ему ответил Северцев.
— Домой или на дачу приглашаешь? — поинтересовался Виталий Петрович.
— На дачу?.. Не нужна она мне! Нагим пришел я в этот мир и нагим уйду из него, — пошутил Северцев.
Их пригласили в кабинет.
2
Сашин и Шахов, здороваясь, пожали всем руки. Сашин попросил устраиваться поудобнее: разговор будет долгим. Северцева потрепал по плечу:
— Рад, что опять встретились…
Когда приглашенные и работники промышленного отдела ЦК расселись вдоль длинного полированного стола, Сашин сказал:
— Мы собрались здесь, чтобы сообща обсудить основные вопросы, возникшие в связи с ликвидацией совнархозов, ибо воссоздание министерств не снимает автоматически всех наболевших проблем. Что такое управление производством? Это управление работниками, которые в свою очередь управляют средствами труда; управлять производством — значит управлять людьми и их производственными отношениями. Маркс говорил, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. У нашего дирижера-управителя много функций, он обязан планировать, организовывать, регулировать, то есть координировать, контролировать и учитывать. Гигантские масштабы нашего производства, превращение науки в непосредственную производительную силу общества, расширение экономических связей требуют сейчас не только квалифицированного, но и научного руководства экономикой. Давайте советоваться, как нам дальше строить хозяйственную работу в новых условиях!
Северцев оглядел кабинет — он просторнее того, где десять лет назад разбиралось «дело Северцева». За эти годы много утекло воды в жизни каждого…
Поднялся Рудаков.
— Планирование у нас должно обеспечивать гармоническое сочетание общенародных, коллективных и личных интересов, поэтому каждый трудящийся заинтересован в выполнении государственных планов и ответственен за них, за работу. Прежде всего — и в первую очередь это относится к партийным органам — следует объявить беспощадную борьбу перестраховке, боязни самостоятельно решать вопросы, желанию уйти от решения на совещания и заседания, забывая о ленинском наказе: обсуждение сообща, а ответственность единолична.
Что получается? Мы частенько сталкиваемся с фактами, когда партийный аппарат оказывается вынужденным расходовать силы и время на дела, которыми должны заниматься хозяйственники, вынужден подменять их. Иногда мы подменяем и там, где не следует, по инерции… — переглянувшись со Степановым, заметил Рудаков. — В результате ослабевает ответственность хозяйственника за свое дело и принижается роль партийного комитета как политического руководства.
Раздались одобрительные возгласы, кто-то сказал: «Совершенно верно!». Сашин улыбнулся. Попросил слова Шахов, он выглядел усталым, осунувшимся.
— Смешно сказать, но еще и теперь даже самый пустяковый вопрос решается только в Москве. Бумаг, речей, совещаний и теперь не уменьшилось, ими подменяется личная ответственность. Сейчас главный вопрос: будет ли директор директором, начальник цеха — начальником цеха, мастер — мастером или они останутся по-прежнему канцеляристами, сочиняющими и посылающими наверх и вниз бумажки по любому мелкому поводу? У нас уже есть первый положительный опыт работы в новых экономических условиях. На Кварцевом руднике. Например, вопрос о строительстве драги, который несколько месяцев не могли решить ни директор, ни совнархоз, ни ВСНХ, немедленно решили экономика и хозяйственный расчет.
После речи Шахова исчезла скованность, люди заговорили откровенно о том, что думали, что их волновало…
Принесли чай и печенье, Сашин открыл форточку и разрешил курить. Секретарь обкома, который разговаривал с Рудаковым в приемной о том, как идет уборка, убежденно сказал:
— Владимир Ильич придавал огромное значение хозрасчету. О хозрасчете мы и теперь много говорим и пишем, но он существует иллюзорно. Давайте разберемся: что же такое хозяйство? Хозяйственная расчетливость. А расчетливо хозяйствовать — это значит: проявлять рачительность, раскидывать умом, ломать голову, сопоставлять, сравнивать, подсчитывать, маневрировать, проявлять сметку, смотреть вперед, выбирать оптимальный вариант и — конечно, в разумных пределах — рисковать! Каждому ясно, что без элементарной самостоятельности основной производственной ячейки — рудника, фабрики, завода, мастерской — проявление всех этих качеств и достоинств хозяйственного руководителя совершенно немыслимо. Кое-кого из хозяйственников такое положение вполне устраивает, помогает пожизненно оставаться в руководящей номенклатуре, но дело важнее персональных благ!
— А лиши тебя этих благ, запоешь по-другому, — усмехаясь, бросил Рудаков, отхлебывая из стакана темный горячий чай.
— Лишат больших — останутся поменьше. С годами не страшно — врачи уже запрещают и пить и есть, — отшутился секретарь обкома.
Степанов непривычно нервничал. Он впервые был в этом большом доме, в этом кабинете и чувствовал себя провинциалом… Рудаков заметил его состояние и дружелюбно подмигнул ему. Приободрившись, Степанов решил тоже выступить.
— Принцип социализма: «От каждого по способностям, каждому по труду» — часто не согласуется с различными инструкциями, указаниями, циркулярами, сметами и лимитами, которые непрерывным потоком низвергаются сверху на производство. Практически у нас укоренилась некая слимитированная уравниловка: директор не может платить больше хорошему и меньше плохому работнику, рабочий лично не заинтересован в выпуске высококачественной продукции: ведь оценка работы ведется по валу. Нужно, чтобы каждый рабочий и инженер за хороший труд получал материальное вознаграждение! Тех, кто проявил расчетливость, бережливость, сноровку, кто обогатил производство новой техникой, новыми приемами труда, нужно вознаградить без оглядки на ревизоров и контролеров. Так поступили на Кварцевом. Обезличка и уравниловка наносят нам не только материальный урон, но еще больше — моральный, потому что портят хороших работников, подрывают веру в сам принцип социалистического труда.
Степанов коротко рассказал о первых результатах работы по новой экономической системе: сократились трудовые затраты на добычу грамма золота за счет экономии материалов и роста производительности труда, поднялась зарплата рабочих, резко возросла добыча золота, совершенствуется ее технология, повысилось извлечение золота из руд и песков. Экономика стимулирует и другое — сократились, хотя далеко еще не изжиты полностью, прогулы, уменьшился брак, люди стали дорожить рабочим местом, исчезает равнодушие. Но по-прежнему ждут решения многие важные проблемы: все еще мало выпускается новой мощной техники, хромает техническое снабжение, особенно запасными частями, нет порядка в капитальном строительстве.
Это выступление вызвало много вопросов, замечаний. Поделился своими мыслями и Северцев:
— Нам нужно определяться с технической политикой! Иногда диву даешься. Сегодня получаешь решение директивных органов, предписывающее составлять проекты по самой передовой технологии и закладывать в них новое оборудование, еще не выпускаемое серийно нашей промышленностью. Хорошо! Назавтра новое указание: в проекты впредь закладывать только серийно выпускаемое, то есть старое оборудование. Плохо! Такое шараханье из стороны в сторону приводит к техническому застою…
Выступили почти все приглашенные. Каждый жаловался на свое наболевшее. Сашин слушал всех ораторов очень внимательно, записывал предложения, отдельные интересные мысли.
Под конец он обратился к собравшимся:
— Характерная черта нашего времени — превращение науки в непосредственную производительную силу общества. Темпы роста экономики во все большей степени зависят теперь от темпов научных исследований и внедрения их результатов в производство, от расширения и углубления научно-технической революции. Речь идет о материально-технической базе коммунизма!.. Пора думать о дальнейшем совершенствовании методов руководства хозяйством!.. Может быть, товарищи, целесообразно создать в министерствах вместо администрирующих главков хозрасчетные отраслевые объединения?.. А специализированные фирмы? Тоже интересная форма хозяйствования… Итак, ждем ваших предложений, товарищи!
Сашин замолчал и обвел взглядом присутствующих. Они слушали по-разному: одни — внимательно, другие — рассеянно, что-то чертили на лежавших перед ними листках бумаги. Сашин прочел в глазах у одних доверие, у других — плохо скрываемую иронию, сомнение в необходимости еще одной встряски…
— Наша беседа была интересной, наш разговор был в чем-то спорным, но главное — он был заинтересованным. Все эти проблемы изучаются в Центральном Комитете и в правительстве: ведь пример-то нам брать не с кого, мы первыми прокладываем путь… Ваши замечания и пожелания будут внимательно рассмотрены, мы не зря потратили время! — сказал он.
Прощаясь, Сашин задержал Рудакова, Степанова, Северцева и заведующего отделом Алексея Сергеевича — седого мужчину с умными и добрыми глазами.
— Помнишь, Михаил Васильевич, как десять лет назад мы обсуждали те же проблемы? — спросил Сашин.
— Конечно, помню.
— И опять вернулись к ним… И, наверное, будем возвращаться еще не раз!
— Откровенно говоря, люди устали от беспрерывных перестроек, — со вздохом проговорил Шахов. — До сих пор получался крыловский квартет — пересаживаем по-всякому, с места на место, министерских, комитетских и совнархозовских работников, сохраняя за ними лишь одно право — писать бумажки…
— Обилие бумаг и отчетов не главное зло. Руководить большим хозяйством можно, лишь будучи хорошо информированным. А главный носитель информации на сегодня — бумага! — заметил Сашин.
— Какой же выход? Электроника? — улыбаясь, задал вопрос Северцев.
— Прежде всего — экономика. А потом уж кибернетика. Она подводит, кажется, черту под давнишним спором о том, что есть управление, — наука или искусство? Если наука, то человек со средними способностями может овладеть ею и добиться успеха. Сейчас, когда в сферу управления вовлечены миллионы людей, рассчитывать на природную одаренность не приходится, — ответил Михаилу Васильевичу Рудаков.
Сашин внимательно взглянул на него: секретарь ЦК дорожил людьми со своим взглядом, любил полемизировать с ними…
— Дайте права… — начал Северцев.
Но заведующий отделом жестом остановил его:
— Опять мы слышим о бесправии и ни слова — об обязанностях, ответственности. А верно ли, что так бесправны наши руководители? Здесь, правда, немало путаницы. Простая логика показывает: право, предоставленное директору завода, должно быть изъято у вышестоящего руководителя. Предположим, это не сделано, предположим, один и тот же вопрос попадает в компетенцию и директора и, скажем, министра. Возникает, как говорят юристы, коллизия прав, такое положение, при котором прав тот, у которого больше прав… Отсюда и неразбериха… Правильно? — спросил он.
Степанов согласно кивнул головой, вспомнив свой спор с Пихтачевым по этому же вопросу.
— Хорошо, поговорим о коллизии прав!.. — предложил Северцев.
Но заведующий отделом опять, протянув вперед руку, заговорил:
— Извините, что перебиваю!.. Суть, следовательно, не в бесконечном расширении прав, а в гарантии тех из них, которые строго необходимы должностному лицу для выполнения его обязанностей. Согласны? Значит, опять приходим к должностным инструкциям, молимся деревянному божку формализма? — продолжал он. — Я напомню вам мудрую сказку. Помните, как волшебник оживляет загубленного добра молодца? Сперва он брызгает на него мертвой водой, которая стягивает куски тела, а уже потом живой водицей… «Мертвая вода» инструкций вносит свой порядок в хозяйственный организм, и лишь вслед за этим рождается живое искусство руководства!..
Стали прощаться. Рудаков сказал:
— Когда в мозг человека поступают сигналы от сердца? Только если сердце не в порядке. В других случаях оно не нуждается в специальном вмешательстве высшей нервной системы. Видимо, по такому правилу надо строить и хозяйственное руководство: центральные органы вмешиваются в практическую деятельность предприятий лишь при сигнале неблагополучия…
Сашин напомнил:
— Экономические стимулы не должны заменять собою моральные. Нельзя превращать рубль в икону, как превратили в идола американцы свой доллар. У нас есть разные формы морального стимулирования работника — от доски Почета до правительственной награды, есть моральный кодекс коммунистического труда, об этом надо всегда помнить, внедряя новую экономическую систему! Как говорится, не только добра, что много серебра.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
1
Виктор лежал с широко открытыми глазами на копне сена. Сено больно кололо спину. Виктор лениво покусывал длинную пожелтевшую травинку. От копны исходил теплый, дурманящий запах разнотравья. Над нею протяжно шумела старая береза. Этот шум отличался от шума леса и не смешивался с ним, плыл вверху, как зеленый поток. На крутой излучине реки серебряной рыбой барахтался уходящий пароход. Солнца в небе не было — оно растеклось, расплавилось по белесому куполу. Стояла на месте — не текла, не струилась — река.
Рядом с Виктором, уткнувшись лицом в сено, лежала Светлана.
Виктор закрыл глаза и открыл вновь. Солнце не то садилось, не то пыталось удержаться на бездонном небе; никакие лучи по горизонту не бродили, так что время казалось неопределенным — то ли три часа дня, то ли шесть вечера.
— Светка, пойдем, до Кварцевого не меньше десяти километров. Может, твой отец уже вернулся из Москвы, беспокоиться будет, — погладив ее пышные, лежавшие на плечах волосы, сказал Виктор.
Светлана не ответила и не шелохнулась, словно спала. Он хотел обнять ее, но она резко дернула плечом и вскочила на ноги. Виктор увидел, что она плакала.
— Не трогай меня!.. Дура, что я наделала!.. — простонала она, закрыв лицо руками.
Виктор неловко поднялся, нечаянно опрокинув при этом плетеную корзинку, — желтые грибки, катясь вниз, попрятались в сене.
— Это должно было случиться, Светка… — попытался он утешить ее.
— Не говори пошлостей… Мы почти не знаем друг друга!.. Я не знаю тебя, не знаю!.. Да ты понимаешь ли, что это такое значит?! Ты понимаешь это?!
Виктор молча отряхивал с рубашки сено. Светлана, с трудом сохраняя равновесие, скатилась с копны, уже внизу натянула босоножки и убежала.
…Неделю они не виделись. Светлана не ездила на карьер, не бывала в конторе, сидела взаперти дома. Виктор бесновался. Буквально целыми днями дежурил у ее дома. Звонил ей по телефону. Но, узнав его голос, Светлана молча вешала трубку.
Наконец он встретил ее у конторы, она держалась с ним как чужая, только взгляд голубых глаз был тревожен.
— Звонила на днях артистка Рита. Наша телефонистка в поисках тебя соединила Зареченск с нашим домом. Рита просила передать тебе, что ее гастроли продлятся еще неделю и она непременно ждет тебя в Зареченске. Просила даже поцеловать.
Виктор обрадовался: так вот в чем причина ее отчужденности! Взяв ее за руку, он тихо сказал:
— До тебя было, но быльем поросло… Я люблю тебя, Светка, тебя люблю! Слышишь, что я говорю?..
После этой встречи Виктор настойчиво убеждал Светлану, что надо немедленно пожениться, переехать в Москву. Светлана несколько дней тянула с ответом — не могла решиться сказать об этом родителям, не знала, как отнесется к их женитьбе мать Виктора, боялась осложнений со своим переводом на учебу в московский институт. Но главным ее сомнением было: искренен Виктор или нет? Она верила ему и не верила…
В субботу под вечер Виктор, как условились, зашел к Степановым, решив про себя, что сам поговорит со Светланиным отцом.
Виталия Петровича он застал на кухне — Степанов мастерил донку и рассказывал сидевшему напротив него парторгу Столбову о совещании в Центральном Комитете партии. Фрол слушал внимательно, машинально поглаживая русую головку своей пятилетней дочурки, доверчиво прижавшейся к нему.
— Я не помешаю? — спросил Виктор, оглядывая рыболовные снасти, разложенные по всему полу.
— От тебя секретов нет. На рыбалку с нами поедешь?
Виктор не любил этого занятия, считал его лишней тратой времени, но тут сразу же согласился — так легче будет уладить семейные дела!
Когда Виталий Петрович закончил свой рассказ, Столбов предложил собрать партийное бюро и проверить, как выполняются решения партийного собрания, которое проводил Рудаков. Фрол осторожно отстранил дочку, поднялся и, достав из кармана сложенные вдвое листы бумаги, попросил:
— Написал статью для «Горного журнала»… Посмотрите, пожалуйста, Виталий Петрович! Может, замечания какие будут…
— Хорошо. А о чем статья? — поинтересовался Степанов, перелистывая схемы и графики, приложенные к рукописи.
— О механизированном комплексе горных работ. Посудите сами: получили мы отличный экскаватор, двадцать тонн сразу черпает. А автотранспорта под стать ему нет… Десятитонный самосвал забирает только полковша. Пока он отъедет да второй подойдет под погрузку, экскаватор простаивает. Это все равно как землю с лопаты сыпать в чайные стаканы: неудобно, долго, половину просыплешь… А двадцатипятитонному самосвалу одного ковша мало. Незагруженный самосвал тоже гонять нельзя: себестоимость перевозок возрастает на двадцать пять процентов… Словом, и в том, и в другом случае гигант наш простаивает до трети своего времени. Я сам хронометрировал. Нашему экскаватору в комплексе нужен сорокатонный самосвал, тогда я еще на треть повышу производительность. Согласны? — закончил Фрол, попрощался и, взяв за руку дочку, ушел.
— Видал, какой теперь приисковый рабочий стал, в эпоху научно-технической революции? — с гордостью заметил Степанов. И, взглянув в окошко, с усмешкой добавил: — А вот и другой приискательский герой припожаловал…
В кухню тихо вошел рыжий Иван. Переминаясь с ноги на ногу, стал у порога и с виноватым лицом чего-то выжидал. Синий кровоподтек под левым глазом сделал неузнаваемым лицо Ивана, забинтованная рука его висела на перевязи.
— Привет инвалиду любви, — усмехнулся Степанов, не взглянув на пришельца. Директор уже знал, что после пьянки с Варфоломеем Иван забрел ночью к своей дроле Машке и та, укрывая у себя бухгалтера Истомина, выпроводила непрошеного гостя увесистой скалкой…
— Вчера я захорошел, верно, но сегодня — завязал. Может, какое снисхождение будет? — со вздохом спросил он наконец.
— Не будет, Иван, не будет. Благодари своего нового дружка Варфоломея! — мастеря удилище, ответил Степанов.
— Напраслину возвели на меня, а вы сразу стружку сняли. Лечился я, — мне знакомый фершал говорил, что все болезни в человеке получаются из-за недостатка алкоголя в организме. Обидно небось!
— Это я от тебя уже слышал. Ты думал, опять обойдется агитацией да пропагандой? Нет, друг, мошной держи ответ. Во сколько тебе, Иван, обошлась бутылка водки? — поинтересовался Степанов, подмигивая Виктору.
— Тринадцатый оклад — это сто восемьдесят, квартальная премия — девяносто, это будет уже двести семьдесят, да путевки лишили, тоже деньги немалые. Больше трехсот рублей пол-литра мне стоила, — горестно подсчитал Иван.
Виктор посмотрел на Степанова, ожидая разъяснения.
— Еще квартиру не считал — получишь ее, после твоего загула, в последнюю очередь: такое положение при экономической реформе установлено, — напомнил Степанов.
Иван помолчал, подумал и уже с порога спросил:
— Значит, железно? Приговор обжалованию не подлежит?
— Нет, Иван, хоть и жалко мне твоих денег. Помни: новая реформа выравнивает человека со всех сторон, — заметил Виталий Петрович, наматывая леску на рогатку.
Иван потоптался на месте, никак не решаясь уйти.
— Увольняться будешь? — поинтересовался директор.
— Теперь нет. От добра добра не ищут, — буркнул Иван и скрылся за дверью.
Виктор в душе осуждал Виталия Петровича: мог бы и простить человеку! Преступление-то невелико: лишку выпил… Степанов казался ему каким-то роботом, который отлично выполняет свою работу и совершенно безразличен к людским слабостям.
«В семье с таким железобетонным тестем будет трудно», — подумал Виктор, поглядывая в окошко на огород, где Иван спугнул воробьишек, с шумным гомоном клевавших красную рябину.
— Жалко мне и тебя, паря, — обратился Степанов к Виктору, — горняк, а в водяные подался, мутить воду на морском дне!.. Был бы ты мой сын, батогом бы дурь из тебя выбил!.. Не хочешь под землю — иди начальником драги, там тоже можешь мутить воду. По рукам? — протягивая свою ручищу, предложил он.
Виктор с еще большей опаской задумался о настырном характере тестя…
— Я уже выбрал свой путь, — раздраженно ответил он.
Степанов досадливо махнул рукой.
— Слабак ты, паря. А я думал — потомки должны быть во всем сильнее своих предков!
Виктор обиделся: Степанов разговаривает с ним так же, как с Иваном, забывая при этом, что нравоучения часто приводят к обратным результатам. Надо поставить будущего своего тестя на место. Как жить ему, Виктору, будет решать Виктор. Будет решать сам.
2
Наутро, когда ехали рейсовым автобусом, Виктор ни разу не взглянул на Степанова, злился на этот унизительный разговор. Светлана что-то говорила ему, он смотрел в окно, не обращая на нее внимания, будто и она, заодно с отцом, была перед ним виновата… А что, если она унаследовала характер папаши? Тогда придется с ней солоно….
У Черной заимки вылезли из автобуса. Осеннее солнце припекало по-летнему. Дорога сначала шла полем, потом круто поворачивала к берегу, в тенистую прохладу леса. На опушке стояло заброшенное зимовье. Стены избушки почернели, как после пожара, она осела набок, разинув черную пасть двери.
Степанов приостановился у этого места и задумался о человеке, который поставил в глухой тайге вот эту избушку, что сохранила, наверное, жизнь многим таежным путникам!.. Возможно, он был бродяга-золотоискатель, который первым начал искать золото на том месте, где сейчас Кварцевый рудник… Это была, разумеется, лишь догадка. Тайну тех лет хранили деревянные развалины.
Хорошо в дороге думается. Никто не отвлекает. Виталий Петрович прикидывал в уме, какой дополнительный фонд для предприятия будет теперь создан на Кварцевом руднике за счет сверхплановых прибылей… Получалась невиданная цифра! Половину можно израсходовать на постройку новой гидравлики, жилья, второго детского сада… И все это сверх плана…
Степанов обернулся — Виктор с сумкой и Светлана со связанными длинными удочками плелись вдалеке.
— Светланка! Несите сумку вдвоем за ручки! — крикнул он.
Но Виктор продолжал тащить тяжелую сумку один.
В лесу стало прохладнее. Вот бы устроить роздых, поваляться под кедром на мягкой игольчатой постели? Но и так Пихтачев, наверно, уже давно ждет их.
Над небольшим обрывчиком у реки показалась брезентовая палатка, за ней дымил костер: Пихтачев приехал сюда с вечера. И вот он сам смотрит из-под ладони в их сторону и, узнав, идет навстречу. Забрав у Светланы удочки, недовольно ворчит:
— Явились, пропащие души на костылях! Погодка-то — вёдро! Чаевничать, опоздуны, будете?
— Чаи гонять после станем. Поехали! — распорядился Степанов.
Виктор присел на рюкзак, стянул через голову голубую «олимпийку» и, повернув лицо к солнцу, застыл в блаженном оцепенении.
— Виктор, тащи рюкзак! — услышал он команду Степанова, но оставил ее без внимания: сегодня он, слабачок, будет, назло будущему тестюшке, все делать по-своему…
Вмешался Пихтачев: выдернул из-под Виктора рюкзак и отнес к лодке, рядом с которой стояли берестовые туески с медовухой и березовым соком.
Виталий Петрович спрыгнул в лодку и принялся размещать вещи. Светлана подавала их с обрывчика. Виктор снял кеды, закатал выше колен спортивные брюки и, когда погрузка была закончена, тоже прыгнул в лодку, стал отталкиваться веслом, выводя ее на протоку.
По реке порывами носился ветерок, вода от него слегка морщилась.
— Здесь уже глубоко, греби! — сказал Степанов Виктору.
Виктор вытянул ноги, неторопливо достал пачку сигарет, вынул одну, раскурил и только после этого взялся за весла, начал легонько водить ими по воде.
Степанов иронически поглядывал на него, но Виктор всем своим видом показывал, что большей прыти от слабачка ждать не приходится.
— Ты не устал? — вскоре спросила его Светлана.
Степанов думал, что она подсмеивается над ним, но она спрашивала скорее озабоченно, чем иронически. Виктор неопределенно пожал плечами.
— Покури, а я пока сяду на весла, — сказала она.
Он оставил весла, перебрался на ее место и, привалившись спиной к носу лодки, зевнув, подставил лицо солнцу. Степанов только покачал головой и скомандовал:
— Греби левым, залезаем в кусты.
Светлана поспешно стала грести левым веслом. Выровняв лодку, спокойно заработала обоими.
«Гребет по-спортивному», — одобрительно подумал Виталий Петрович, видя, как быстро замелькали прибрежные кусты и как Пихтачев сразу отстал на своей лодчонке.
Светлана, выставив коленки, плавно нагибалась и отгибалась, гребя загорелыми руками, с лица ее не сходила счастливая улыбка. Виктор, прикрыв глаза, лежал на носу лодки, положив голову на спасательный круг, и тоже улыбался: он снова почувствовал ее губы на своей груди, ее пальцы в своих волосах, ее волосы на своем лице….
Очнулся он от всплеска воды — это Степанов выбросил за корму лодки якорь. Виктор с почти нескрываемой неприязнью наблюдал за Степановым. Виталий Петрович осматривался по сторонам, выбирая место, куда бы забросить снасть… Пожалуй, клев будет лучше всего за торчащей из воды корягой!.. Забросив леску, он стал терпеливо ожидать, тихонько насвистывая какой-то мотивчик…
Вдруг поплавок задергался и, поплясав, нырнул. Виктор видел, что Степанов снял окунька и, поправив червя, снова закинул удочку. Вскоре попался еще окунь, покрупнее. Степанов долго снимал его с крючка, и, зачерпнув ведром воды, опустил туда добычу.
— Удишь золотой удой! — заметил Пихтачев, наблюдая за Степановым.
— А ты что прохлаждаешься, рыбак? — окликнула Виктора Светлана. Она сидела, держа длинное удилище в руке, и неотрывно смотрела на поплавок.
Виктор неторопливо приготовил свою удочку, размашисто перекинул ее через нос лодки и повернулся лицом к солнцу. Жаль, не захватил с собой дорожные шахматы, от безделья решал бы задачи… Он достал из сумки очки с темными стеклами и, сказав: «Ловись, рыбка, большая и малая», — вновь отвалился на спасательный круг. На этот раз он очнулся от громкого окрика Пихтачева:
— Поедем к берегу, однако! В полдень рыба плохо клюет. На ушицу у нас хватит!
Виктор проголодался и готов был плыть к берегу немедленно. Он расторопно натянул на себя майку-«олимпийку» и поднял якорь.
— Садись на весла, — сказал ему Виталий Петрович.
Виктор потянулся, развел в стороны руки и нехотя сел. Закурил. И, медленно выдувая изо рта дым, неторопливо начал пошевеливать веслами.
У самого берега Степанов выскочил в воду и потянул лодку за нос. Но она застряла на мели, не дойдя до сухого берега. Виктор взял на руки хохотавшую Светлану и перенес на берег.
Павел Алексеевич наломал сухих дровишек и разжег костер. Тоненькая струйка дыма медленно поднялась над ветвями деревьев и разостлалась над ними прозрачным облачком.
— Надо чистить рыбу! — сказал Пихтачев.
Виктор достал из рюкзака складной нож.
— Витя, я почищу, это женское дело, — отбирая у него нож, запротестовала Светлана.
Виктор пожал плечами и лег лицом к небу.
— Не знал, что ты такой лодырь! — осуждающе заметил Виталий Петрович, разбирая сумку.
— Безотцовщина. Некому было научить вовремя. Я просто наслаждаюсь природой перед отъездом в суматошную Москву. Когда вы гребли, я наслаждался солнцем, ничегонеделанием. Есть такая редкая штука — свобода: когда делаешь то, что хочешь делать, и не делаешь того, чего не хочешь делать!..
— Это я заметил, и у меня не раз появлялось желание турнуть тебя из лодки!
Виктор не ответил. Он по-прежнему лежал на спине, раскинув ноги, подсунув руки под голову. Солнце било в лицо, черные очки отражали его лучи. От костра приятно тянуло дымком. Он поднимался дрожащим сизым столбиком и таял в голубоватом небе.
К костру подошла Светлана.
— Вот рыба, — сказала она. — Опускать в котел?
— А где картошка? — спросил Пихтачев.
Светлана взяла картошку и побежала к воде. Виктор перевернулся на бок и поглядел ей вслед.
— Трудно тебе будет карьеру делать, лежа на боку, — все более раздражаясь, заметил Степанов.
— Мы не боимся трудностей. Не выношу карьеризма. У нас все блага в руках государства: должности, оклады, квартиры, пенсии и прочая, и прочая. Хозяин один, к другому не уйдешь, его просто нет.
— Черт-те что городит, а еще наученный работник, — не выдержал Пихтачев.
Виктор окинул его ироническим взглядом и подумал: «Этот засушенный кузнечик тоже лезет в наставники».
Пихтачев стал на колени, хотел заглянуть в котел, да только дыма набрал в глаза, зажмурился и так, зажмуренный, мешал щербатой деревянной ложкой запашистую уху.
Подбежала Светлана.
— Вот картошка. — Она подала отцу мокрые картофелины, и он стал нарезать их тонкими ломтиками.
Потом Светлана достала из рюкзака лаврового листа, горошины черного перца, кулек с крупной солью.
— Уха будет рыбацкая! — объявила она. И подсела к Виктору. — Как, хорошо в тайге, правда?
Он положил руку ей на талию. Светлана встревоженно взглянула на отца и сняла руку Виктора. Степанов вздохнул и пошел к реке мыть руки.
Его догнал Пихтачев.
Ветер крепчал, на песчаный берег набегала грязная пена. Погода явно портилась. Небо посерело, его обволакивала со всех сторон клубящаяся мгла.
— Смотри, Петрович, как бы москвич не оставил девке лавку с товаром! — предостерег Пихтачев, когда они возвращались с реки.
Степанов мрачно молчал. Желая переменить неприятную тему разговора, Пихтачев лукаво подмигнул и сказал:
— Бульдозер, что работал на вскрыше дражных торфов, восстановить можно — три поллитры. Давай — завтра шестеренка будет стоять на тракторе.
— Обратился не по адресу, тебе нужно идти в винный отдел, — присаживаясь на корточки и зачерпывая ладонями в канаве воду, ответил Степанов.
— Деньги давай, — потребовал Пихтачев.
— На покупку краденых частей денег в смете нет, — вытирая платком руки, ответил Степанов.
— Ладно, бульдозер будет стоять, а драга пустую породу промывать будет, — безразлично заметил Пихтачев.
Степанов подумал и сказал:
— Понимаешь, списать испорченный бульдозер, стоимостью что-то около десяти тысяч, я могу. Хоть сегодня. Все будет по закону, а десятку дать на шестеренку, чтобы сохранить десять тысяч, — не могу. А французы новый станок в обмен за порченый прислали, — развел руками Степанов.
— Тогда выреши Косте рыжему премию, из нее и оплатим, — предложил Пихтачев.
Отрицательно качнув головой, Степанов достал из кармана бумажник, вынул десятку и, отдав ее Пихтачеву, пошел к костру.
До них донесся взволнованный голос Виктора:
— Да, если хочешь — в отместку! Ни твой отец, ни мой не должны навязывать нам своей воли! Конечно, форму протеста я избрал не лучшую, я, конечно, извинюсь перед ним за свое хамство, но он тоже… — Виктор растерянно взглянул на подошедшего Степанова и замолчал.
Светлана нагнулась над котлом и стала черпать деревянной ложкой янтарную уху, разливать в алюминиевые миски.
Виктор нервно откашлялся и, немного помедлив, сказал, обращаясь к Степанову:
— Нам со Светой надо сообщить вам нечто важное.
Пихтачев ел уху, подставляя под ложку высохшую старческую ладонь. Услышав Виктора, он достал окуня, от которого валил пар, положил на кусок хлеба и деликатно ушел к лодкам.
Виталий Петрович тревожно поглядел на испуганную дочь, на смущенного Виктора.
— Виталий Петрович, мы любим друг друга и решили пожениться. Естественно, как моя жена, она переедет ко мне в Москву. Там окончит институт. Завтра мы распишемся в местном загсе. Вот и все, что мы хотели вам сказать, — закончил Виктор и взялся за свою алюминиевую миску.
— Не ожидал я, дочка, что у тебя все так выйдет. Своим родителям не сказала, неизвестно еще, как его мать отнесется к тебе. Нехорошо все это, нехорошо. Да и рано: и учебу закончить следовало… Ну, что же, принимаю, как говорят, к сведению, хотя и не одобряю, — тяжело вздохнул Виталий Петрович.
Он подкинул в костер толстых веток, и огонь потек по стволам сушняка. Потрескивая, сушняк горел жарко, отстреливаясь угольками. Степанов взял из костра серый уголек и, перекатывая его на ладони, жадно прикурил папиросу.
На обратный путь Виктор подсел в лодку к Пихтачеву. Светлана осталась с отцом. Виталий Петрович греб медленно, как бы желая подольше остаться наедине с нею, удержать дочку рядом… Но напряженность не проходила, за всю дорогу они не сказали друг другу ни слова.
Река отражала небо тускло, как старое зеркало. Солнце спряталось, только несколько крутых лучей еще пробивались над темным горизонтом. Светлана подняла голову и смотрела ввысь до тех пор, пока в глазах не замельтешили разноцветные точечки. Она с тревогой думала о своей новой, неизвестной судьбе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Борзовский отправился на очередную встречу с достаточно назойливым профессором из Франкфурта. Своей вылазке в лес пришлось придать такой вид, будто человек вот так просто взял да и отправился по грибы… Соответственно была выбрана, само собою понятно, и одежда: куртка на «молнии», джинсы, кеды. Не обошлось и без плетеной корзинки. Поймав такси, Борзовский поехал к окружной дороге.
За последнее время жизнь его основательно изменилась. Немалую роль в этом играл все тот же профессор из Франкфурта. Началось как будто бы с пустяков — с рекомендательной записки Альберта. И ведь как раз сейчас можно было бы спокойно поработать год-полтора. Удалось заключить договор с фабричным профсоюзным комитетом на очерк об истории текстильной фабрики… А вот из-за этого нового знакомства приходится всего и всех остерегаться… Борзовский даже съехал с многонаселенной коммунальной квартиры, где жил с матерью, снял отдельную, принадлежащую полярнику.
Но и здесь не обрел он покоя. По вечерам не зажигал свет, избегал включать радио. Выходил погулять на какой-нибудь часок и только поздним вечером. Порою шарахался от случайного прохожего, бледнел, завидев вдали милицейскую шинель.
По ночам не спал: все к чему-то прислушивался, вставал и долго стоял у окна. И думал все о том же — пойти с повинной или не ходить?.. И всякий раз он приходил к выводу: пожалуй, ему еще не в чем каяться!.. Да если спросить себя серьезно: много ли он нагрешил-то?!
Недалеко от Киевского шоссе Борзовский остановил такси, рассчитался с молчаливым шофером и пошел в лес.
Еще не шумел листопад, леса не порошили багряной метелью, но осень сказывалась и в звонком воздухе, и в горестном шепоте засыхающих трав, и в первых пунцовых кисточках рябины.
Борзовский срезал длинную палку и, поднимая ею нижние ветви кустов, стал искать грибы. Это занятие ему вскоре надоело. Он привалился спиной к золотистой сосне и прикрыл глаза.
В лесу кто-то аукался, кричал: «Маша, где ты?..» Борзовский приоткрыл глаза, увидел старушку и мальчика, у них в корзинках желтые лисички, красные подосиновики, серые подберезовики, ядреные боровики. Борзовский лениво встал и зашагал глубже в лес.
Здесь, на толстом ковре из хвои, шагов совсем не было слышно. Чувство уединенности охватило Борзовского, все другое отошло куда-то далеко-далеко, будто ничего, кроме этого леса, и не существовало на свете. Звенящая тишина. Впереди голубым осколком стекла поблескивало озерцо. Никуда не хотелось идти отсюда, ни о чем не хотелось думать.
Борзовский посмотрел на часы и направился в сторону автомобильной стоянки. Сквозь чащу вскоре завиднелись разномастные машины.
С Зауэром Борзовский столкнулся внезапно — немец словно вырос из-под земли. В руке у него был большой подосиновик.
Они пожали друг другу руки.
— Рад видеть вас, Никифор Степанович.
— И я вас тоже.
Они опустились на траву, поставив рядом свои корзинки. Зауэр взглянул на вишневый диск солнца, достал из кармана куртки темные очки, надел на мясистый нос.
— Над чем вы сейчас работаете, Никифор Степанович? — спросил он, вытянувшись на спине и заложив руки под голову.
— Пишу книгу о фабрике.
— А! По договору, который с вами заключили? Это очень разумно. Так легче вести борьбу.
Борзовский поморщился.
— Какую борьбу? За кого? Против кого? Каким способом? Долой Советскую власть, а коммунистов на виселицу?..
— Настали другие времена, — наставительно произнес Зауэр, — нужны новые идеи. Вечная проблема поколений — обратимся к ней! У вашей молодежи может возникнуть чувство недоверия и зависти к старшим, молодежи свойственно представление о себе как о центре вселенной: все в мире существует и делается ради меня, ради моих удовольствий…
Зауэр подтянул свою корзинку, достал бутылку чешского пива, откупорил ее ножом, потом опрокинул и стал прополаскивать глотку. Уровень в бутылке стремительно понижался, и когда пропал совсем, Зауэр запустил ее в ствол соседнего дерева, она со звоном разлетелась вдребезги.
«Свинья, — подумал Борзовский. — Небось в своем Франкфурте так не свинячишь. Вылакал, подлец, бутылку, хоть бы из вежливости предложил мне».
Пыхтя, Зауэр подтянул толстые ноги-поленья и уселся, опершись спиной о ствол березы.
— Среднее поколение — это люди, испытавшие на себе тяготы жестокой войны. Уцелевшим от нее хочется спокойной и обеспеченной жизни. В их сердца может проникать страсть собственника, стяжателя: мне нужна машина, дача, счет в банке!..
— Вы хотели сказать — сберкнижка, — уточнил Борзовский.
— Да, конечно. На Кварцевом руднике я познакомился с вашей экономической реформой. Не могут ли некоторые люди истолковать эту реформу как реставрацию капитализма?..
Зауэр внезапно смолк. Борзовский увидел неподалеку грибника: белокурый рослый мужчина, приседая старательно раздвигал руками желтеющую траву. Вот он срезал ножом пузатый белый гриб, секунду полюбовался им и исчез за соснами. Убедившись, что они опять одни, Зауэр продолжал:
— Ваше старшее поколение — участники революции и гражданской войны — ушло на покой или готовится к этому. Но оно продолжает воспитывать молодежь. Всегда ли молодежь в восторге от подобных взаимоотношений?
— Это инструктаж? — зло спросил Борзовский.
— Это размышления вслух, это беседы думающего ученого с умным художником. Не знаю, как вам, а мне они приятны, мне приятно узнавать вашу страну через вас. Приятно думать, что в двух разных странах могут жить два человека, мысли которых хотя бы в чем-то сходятся. Вот записка от Пухова, я выполнял его просьбу.
Борзовский понимал, что перечень грехов, который может быть ему однажды предъявлен, все-таки растет…
2
Домой Борзовский добирался на перекладных — и грузовиком, и автобусом. Попал под проливной дождь. Дома очутился поздним вечером.
Всю дорогу он думал о записке Пухова: «товару много, приезжай» — и решил, что ехать нужно срочно, бизнес не ждет.
Стоя посередине комнаты, он скинул брюки, швырнул пеструю рубашку на торшер, на котором уже висела куртка от пижамы, забросил в темный угол кеды, наступил поочередно на кончики носков и не нагибаясь стянул их, швырнул трусы через всю комнату и рухнул, как подкошенный, на кушетку.
Легкий ветерок с балкона высушил его тело, ему показалось, что кожа стала сухим пергаментом, готовым лопнуть от малейшего движения… Вскоре он заснул.
Проснулся он от тройного, условного звонка. Так могла звонить только эта… как ее? Ася. Зачем-то понадобилось Альберту познакомить их в свой прошлый приезд в Москву, отрекомендовав эту девицу как «ценное звено»… Вот только ее сейчас Борзовскому не хватало! Что ее принесло?
Борзовский включил ночник, натянул на себя пижаму, открыл дверь.
— Ася! Что случилось? — спросил он, принимая у нее из рук сумку и зонтик.
— Не рады? — Она подставила ему щеку для поцелуя. — Мне сегодня по телефону звонил наш друг Альберт Пухов и просил зайти к вам и передать от него привет. Есть что-нибудь выпить? — забравшись с ногами на кушетку и закуривая сигарету, спросила она.
Борзовский налил в бокал вина, подал ей, думая только о том, как бы побыстрее выпроводить ее отсюда.
Цедя сквозь зубы вино, Ася деловито продолжала:
— Велел сказать, что золотая ниточка оборвалась, дедушку Варфоломея турнули с рудника, с выездом повременить.
— Только выгнали или посадили? — с тревогой спросил Борзовский. Он сразу представил себе самое худшее: как его, Варфоломей, кажется, уже арестован, конечно, выдает Пухова, а тот, естественно, расскажет о своих клиентах, и о нем, Борзовском, тоже.
Ася налила себе еще вина и только после этого ответила:
— Пока на свободе ходит, но сами понимаете… Альберт просил на него не рассчитывать и пока прекратить с ним всякую связь. Ну, я пошла.
Ася допила стакан, тяжело поднялась и обдала Борзовского волной густого перегара.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Северцев спускался по скверу к площади Ногина, кутаясь в холодный плащ-дождевик. Обмякший октябрьский снежок, выпавший утром, клоками лежал на бурых клумбах, в замороженной траве на откосах. На асфальтированной дорожке было голо и сухо. Порывы ветра поднимали с нее, как со взлетной площадки аэродрома, желтые листья-самолетики.
Михаил Васильевич поднялся по лестнице на третий этаж огромного здания и по длинному коридору побрел к приемной Шахова.
Дверь в кабинет, заставленный старинной грузной мебелью, была открыта настежь.
Николай Федорович был сегодня необычайно бледен, мучнисто-белое лицо поразило Северцева.
— Заходи, заходи! — окликнул он Михаила Васильевича. Достал из кармана белые таблетки, проглотил одну, запил водой. Перевел дыхание. — Садись.
— Что-то вы мне нынче не нравитесь, Николай Федорович, — усаживаясь напротив Шахова, покачав головой, сказал Северцев.
Николай Федорович помолчал, подумал. Устало проговорил:
— Реформа принята, а работать в нашей отрасли стало трудней. Нас дергают, а мы задергали подчиненных. Планы меняются по нескольку раз в году и произвольно, без увязки с людскими и материальными ресурсами. Часто получается прямо по чалдонской присказке: «Было бы мясо — пельмени стряпал бы, да муки нет…»
— Верно, а экономическая реформа требует стабильной увязки всех ее составляющих и не может зависеть от того, с какой ноги сегодня встал начальник, — усмехнулся Северцев, закуривая сигарету.
— Сидим как на угольях, а ведь проблема доверия сегодня — не только этическая, а прежде всего экономическая… — Шахов встал, выпил воды, проглотил еще таблетку и, держась левой рукой за сердце, стал медленно прохаживаться по ковровой дорожке.
— Не слишком ли часто, Николай Федорович, принимаете лекарство?
— Лечусь. А зачем люди лечатся, знаешь?.. Чтобы умереть здоровым! Ясно?.. Ладно, шутки в сторону. В чем смысл нашей деятельности? Добиться максимального совпадения интересов человека, коллектива, общества. Выгодное для всех сделать выгодным каждому: не только всем людям, но и каждому отдельному человеку! — с какой-то грустной ноткой в голосе сказал Шахов.
— Что же мешает такому соединению?
— Многое. Но особо следует сказать о запутанности в планировании. Конечно, за годы Советской власти накоплен огромный опыт планирования народного хозяйства, и вместе с тем частенько получается и так: мне нужно ехать в Измайлово, а таксист везет меня к Никитским воротам, потому что туда лучше дорога!..
— Вы обещали написать в ЦК, — напомнил Северцев.
— Написал. Могу дать прочитать и тебе. — Шахов подошел к стеклянному шкафу, достал тонкую папку, передал ее Северцеву.
Записка называлась: «Раздвинуть горизонты экономического планирования».
Северцев перевернул страницу и подумал: одним из первых взялся, как говорит Степанов, за веревку и качнул колокол Николай Федорович Шахов!..
В набат уже ударили Степанов, Пихтачев и тысячи им подобных. Призывные удары колоколов слышатся все громче…
Николай Федорович подробно рассматривал прерывистость планирования как его недостаток. Прежде всего он отмечал, что действующая система планирования, регламентированная приказами, циркулярными письмами, инструкциями и т. д., не обеспечивает успешного разрешения всех вопросов развития промышленности. Он писал, что все чаще наряду с действующими утвержденными планами, а часто вразрез им издаются постановления с подробными приложениями, определяющими поставщиков, заказчиков, объемы и сроки поставок. Эти постановления, представляющие собой планы деятельности отдельных или целого ряда предприятий, разумеется, принимаются к неуклонному исполнению, несмотря на ущерб для действующих планов, то есть подрывают сам принцип планирования…
Естественно, утверждал Шахов, возникает необходимость корректирования планов, независимо от подобных постановлений, а просто из-за ошибок в планировании. Но важно понять, что планы-постановления все в большей степени охватывают деятельность нашей промышленности, а это говорит, писал он, о несостоятельности некоторых планов. Другой недостаток Шахов видел в значительных расхождениях планов с фактическим их выполнением. Несмотря на корректировки вплоть до самого конца планируемого периода, фактический объем производства значительно отклоняется от планов. Николай Федорович писал, что он имеет в виду любые расхождения — и недовыполнение и перевыполнение планов. В результате этого, при остром дефиците в одних видах продукции, возникает затоваривание в других.
Во-первых, в прерывистом планировании по отрезкам времени совершенно неизбежны большие ошибки, так как оно находится в резком противоречии с непрерывностью современного производства. Во-вторых, громоздка, многоступенчата система корректировок плана, при которой нужны месяцы, чтобы внести изменения…
Северцев прервал чтение, закурил. Шахов сидел, подперев голову руками, и смотрел в одну точку.
— Мне на днях звонила Малинина, спрашивала о тебе — в Москве ли ты, я дал твой телефон. Вы виделись? — спросил Шахов, зябко поводя плечами.
— Только говорили по телефону. Буду просить у вас отпуск и полечу за ней, — переворачивая страницу, ответил Северцев.
— Читай, читай… Это я сказал, чтобы не забыть. — Шахов помахал рукой и налил из графина в стакан воды.
Северцев стал читать дальше:
«При сложившемся разделении труда, кооперации в каждый данный момент продукт находится одновременно на всех технологических стадиях производства. Любое современное промышленное производство, даже мелкосерийное, даже штучное, — только в силу разделения труда — непрерывно. Ему свойствен вполне определенный ритм, темп выпуска продукции. На темп производства можно воздействовать, его можно изменить, но эти изменения не могут быть скачкообразными, внезапными. Если производственный цикл составляет несколько месяцев, то полнейшим абсурдом выглядит планирование уже последующего месяца на другой уровень. Однако именно такие абсурды совершенно неизбежны при планировании по календарным отрезкам времени…»
Телефонный звонок вывел Шахова из оцепенения. Николай Федорович медленно поднял трубку.
— Клавочка, не беспокойся, я скоро приду домой. Тебе кланяется Михаил Васильевич, он у меня… Хорошо, передам и ему… Скоро, скоро! — закончил Шахов и вновь окаменело замер в кресле.
Северцев украдкой тревожно посмотрел на него.
«Интересно, а что же Шахов предлагает?..» Михаил Васильевич стал дочитывать докладную.
Перспективное планирование. Планировать, утверждал Шахов, надо не порции продукции, соответствующие определенным отрезкам времени, а потоки продукции на все время существования ее производства. Пусть приблизительно, но обязательно должна быть спланирована «вся жизнь» продукта, названы его поставщики, потоки поставок, потребители..
В связи с этим Шахов предлагал планируемые периоды сделать более продолжительными — например, десятилетними. Северцев бегло перелистал выводы и, возвращая папку, сказал:
— По-моему, все убедительно, особенно для новой экономической системы. Что же вам ответили?
— В основном одобрили, наверно, будет решение правительства по этому вопросу… Зачем пришел? — словно пробуждаясь от дремоты, спросил Шахов.
Северцев рассказал о заседании своего научно-технического совета, об опытном образце бесшаровой мельницы и видел, как оживлялся Шахов, в добрых глазах его заискрились золотистые бегающие, вспыхивающие огоньки.
Он был полностью на стороне Северцева, но заметил:
— Виноваты наши ученые и проектировщики. Слишком робко разрабатывают новые технологические процессы и оборудование к ним, долго и дорого исследуют и конструируют. Подготовь-ка, пожалуйста, такой сравнительный материал: какие лучшие буровые станки, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы используются в зарубежных горных карьерах и какие у нас — их сезонная производительность, себестоимость добычи тонны руды, производительность рабочего в смену, удельные капиталовложения на тонну руды… ну и, пожалуй, хватит, достаточно пока и этих данных. То же сделай по обогатительным фабрикам, ремонтному и автомобильному хозяйству, всем вспомогательным цехам. Хорошо? — закашлявшись, спросил Шахов.
— Такими материалами институт сейчас не владеет, их где-то собирать придется, — признался Северцев.
— Плохо, Миша! Ведь все познается в сравнении. Патриотических починов у нас хватает, а производительность труда горняка все еще в два-три раза ниже, чем у американцев. Разберись: почему, в чем причины? Когда сравнишь, то убедишься, что во многом это зависит от институтов, которые должны быть в своей отрасли «впередсмотрящими», а не перелатывать проекты, скроенные еще при царе Горохе.
Северцев улыбнулся:
— То, что вы говорите, оспаривать трудно. Собирать нужные материалы мы начнем. А пока… — он достал из кармана листок бумаги с заявлением об отпуске, передал Николаю Федоровичу, — прошу отпуск. Я поеду за Валерией.
Шахов взглянул на него, потом написал: «Разрешаю».
— Вот я и оказался прав: она уже вернулась к тебе. Рад за тебя, Миша! Теперь скажу по секрету: скоро отправят меня на бульвар, играть в домино. Потому что не тянет… — он показал на сердце.
— Что вы, Николай Федорович!..
— Пора и честь знать. И то вторую жизнь, считай, живу: один раз с креста на тот свет уже заглядывал…
Северцев, глядя на черный протез, вспомнил рассказ шаховского побратима Никиты — как по реке, по лунной дорожке, плыл, хлюпая на волнах, плот с огромным крестом… На одном конце крестовой перекладины качался повешенный, на другом болталась оборванная веревка, а под ней распласталось бездыханное тело. Это был красный командир Шахов, которому Никита отрубил руку, чтобы спасти командира от «антонова огня»…
— Вспоминаю Питер, как Зимний брали. Я через запертые его ворота перелезал… Потом Сибирь, разгром Колчака, японцев. Поход на кронштадтских мятежников. Ночью по льду Финского залива ползли под пулями… — Шахов поднял черный протез. — «Гражданку» начал с Волховстроя. Потом новостройки и новостройки. А после Отечественная — восстановление разрушенного. Вот какая у меня география, — проговорил задумчиво Шахов.
— Отличная география, Николай Федорович, — снова улыбнулся Северцев. — Ну вот, теперь, пожалуй, можно и отдохнуть, — мягко добавил он.
— Если не хочешь меня обидеть, то не говори таких слов! — резко бросил Шахов. — Никогда не говори! Никогда!.. — И, пошатнувшись, упал на ковер, широко раскинув по полу руки.
— Николай Федорович… Николай Федорович!.. Что с вами?! — кинулся к нему Северцев.
Шахов молча глядел мимо него сразу остекленевшими глазами.
Северцев выбежал в приемную. Она была пуста. Бросился в коридор, попросил какую-то седую женщину срочно вызвать врача. Она принялась куда-то звонить, просила кого-то срочно прийти.
Вскоре в приемную набились люди. Они разговаривали шепотом.
В кабинет прибежала изящная маленькая женщина, застегивая на ходу пуговицы белого халата.
Поспешно нагнулась над распростертым Шаховым, попыталась прощупать пульс. Карие глаза смотрели тревожно на побелевшие пальцы Николая Федоровича. Она открыла свой чемоданчик, достала стеклянную ампулу и шприц… но, секунду подумав, спрятала их обратно.
— Давайте положим на диван, — попросила она Северцева.
Михаил Васильевич и еще двое мужчин подняли ставшее безжизненно тяжелым тело и осторожно опустили на скользкий кожаный диван. Михаил Васильевич подошел к врачу и, все еще не веря случившемуся, тихо спросил:
— Доктор… простите, не знаю, как вас…
— Георгиева, Елена Андреевна.
— Елена Андреевна, это конец?..
Она не ответила.
Не нужен был ни его вопрос, ни ее ответ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
1
Северцев вошел в настежь открытую дверь квартиры Шаховых, где во всех комнатах горел яркий свет. Зеркала были завешены черной бязью. В коридоре толпились незнакомые Михаилу Васильевичу люди, они вполголоса что-то обсуждали. Проходя мимо двери, ведущей в кухню, он увидел у плиты Анну, молча кивнул ей головой. В спальне на кровати лежала с закрытыми глазами Клавдия Ивановна. Около нее на стуле сидела Елена Андреевна Георгиева и, раскрыв свой чемоданчик, чего-то ожидала. Северцев поклонился ей, она ответила: «Здравствуйте». Вошла Анна с чайником, из которого валил пар, и Михаил Васильевич ушел в столовую, плотно прикрыв за собою дверь.
Здесь среди незнакомых людей он увидел Яблокова, подошел к нему и протянул влажный оттиск газетной страницы с фотографией в черной рамке.
— Да, смерть открыла огонь по нашему квадрату… — мрачно проговорил Яблоков.
Он прочитал некролог, одобрительно кивнул головой, передал оттиск худощавому высокому брюнету, стоявшему рядом. И, спохватившись, сказал:
— Знакомьтесь… Георгиев Василий Павлович, наш сотрудник, и Северцев Михаил Васильевич, директор института, старый друг Шахова.
Северцев и Георгиев пожали друг другу руки.
Подошла Елена Андреевна, попросила мужа:
— Вася, срочно съезди к нам домой и привези мне синюю коробку, — знаешь, она лежит в моей тумбочке… Пожалуйста, только скорее!
Георгиев быстро ушел. Попрощался и Яблоков — ему надо было в больницу к жене: Елена Андреевна ее недавно оперировала.
Вечером приходили и уходили люди, некоторые уточняли вопросы, связанные с похоронами. Почти не смолкая, дребезжал звонок телефона. Звонили из многих городов, и Северцев отвечал на вопросы, принимая бесчисленные телеграммы с выражением соболезнования.
Одна из них была от Валерии Малининой.
Ночь прошла быстро. Под утро приезжала Елена Андреевна — сделала укол стонавшей всю ночь хозяйке.
Бесшумно сновала по квартире Анна. Северцев с неприязнью посматривал на нее.
Сидя в кресле, он вспоминал свой недавний визит в Сокольники. После этого посещения осталось какое-то безрадостное чувство, напряженное ожидание чего-то неприятного…
Виктор, конечно, любит Светлану. Она очень милая девушка, к Виктору очень внимательна, наверное тоже любит. Но Анна держит себя странно: почти не замечает Светланы, будто той и не существует в доме. В разговоре наедине с ним наговорила уйму глупостей: эта пронырливая девчонка заарканила их Виктора, чтобы удрать из Сибири и стать москвичкой, получить столичную прописку и потом оттяпать себе комнату. Чтобы добиться этого, она хочет иметь ребенка и, кажется, будет его иметь — тогда комнату отсудит в два счета…
Михаил Васильевич не стал ее дослушивать, ушел в комнату сына. Там застал Светлану в слезах и растерянного Виктора.
— Чего не поделили, ребята? — спросил он, обнимая за плечи Светлану.
— Каждый день новые фокусы. То не хочет переводиться сюда на учебу… а сейчас заявила, что не желает иметь от меня ребенка, — возмущенно объяснил Виктор.
— Вам, детки, надо жить отдельно от матери. Я попробую устроить вас в жилищный кооператив, внесу первый взнос… Это будет моим свадебным подарком! — улыбнулся он. — На мать не сердитесь. У всякого свой характер…
Михаил Васильевич и сейчас, вспоминая об этом, видел запавший ему в душу благодарный взгляд Светланы…
…Когда рассвело, Анна принесла стакан крепкого, горячего чая, и Михаил Васильевич почувствовал себя сразу бодрее. Поехал домой. Побрился, принял душ. Позвонил в институт: предупредил, что сегодня не будет.
Когда он приехал в министерский клуб, то увидел, что гроб уже установлен в большом, слабо освещенном зале. У гроба на составленных в ряд креслах сидели сотрудники центрального аппарата, представители заводов, институтов и учреждений, подведомственных министерству. Делегации все подходили и подходили, неся впереди себя огромные венки, в которых хвоя смешивалась с астрами. Гроб совсем загородили венками, от запаха хвои и вянувших астр кружилась голова, особенно у тех, кто с черно-красными повязками становились в почетный караул. Северцеву тоже надели на рукав повязку.
Вскоре начался траурный митинг. Сменяя один другого, выступали люди, знавшие Шахова, но Северцев, не слышал их.
— Михаил Васильевич, тебе предоставили слово, — тихонько тронув его сзади за плечо, сказал Яблоков.
Северцев сделал вперед два шага и остановился.
Он молчал. Продуманные заранее слова застряли в горле. Слова эти были гладкими, правдивыми, но недостойными Николая Федоровича.
Люди ждали, а Северцев молчал. И никто не был на него в претензии. И всем запомнилось именно это молчание, а не то, что Северцев сказал позже.
Потом стали выносить венки. Северцев подошел к гробу, подставил плечо.
С кладбища близкие друзья Шахова проехали на его квартиру. Принимала их Анна. Клавдия Ивановна не поднялась с кровати, до настояла, чтобы поминки были справлены как следует.
Сели вокруг стола, за которым Шахов не раз сиживал со многими из них. Анна накрыла стол по всем обрядным правилам. И гости, глядя на портрет Николая Федоровича, специально увеличенный, по старому русскому обычаю, поминали его добрым словом…
2
Домой Северцев шел вместе с Яблоковым и четой Георгиевых.
Вечерняя Москва горела тысячами огней, огни отражались в мокром асфальте. У кинотеатров стояли очереди. Огни ресторанов зазывали посетителей. Аэрофлот обещал за восемь часов доставить вас в Хабаровск. Толпами шли люди, говорили, смеялись, пели. Кто-то бренчал на гитаре.
— Знаете, — сказал Яблоков, — все мы сейчас думаем о Николае Федоровиче. А достаточно ли ценим мы таких людей, как он, при их жизни?.. Кто эти люди? Прежде всего воспитатели и наставники тех передовиков, о которых мы так много и правильно говорим! А вот им, наставникам, достается лишь критика… и очень часто несправедливая! На собраниях за дело и без дела с превеликим удовольствием ругают только начальство: его, естественно, всегда есть за что критиковать. А истинные виновники разных упущений сидят и ухмыляются… И не удивительно, что на наших предприятиях опытные специалисты готовы занять должности бригадиров, электрослесарей, монтеров: меньше ответственности и меньше трепки нервов, сам можешь их трепать своему начальнику!..
— И делать из него инфарктника в полсотни лет, — поддержала Яблокова Елена Андреевна, останавливаясь у подъезда многоэтажного дома.
— Мы пришли, — сказал Георгиев. И, переглянувшись с женой, предложил: — Зайдемте к нам на часок.
И Яблокову, и Северцеву в этот вечер не хотелось расставаться, их никто не ждал дома.
В квартире у Георгиевых было по-больничному чисто. Все аккуратно прибрано, каждая вещь на месте. На стенах висели картины — масло, акварель, карандаш. Здесь были и поморские пейзажи, и угольные шахты, и сибирские золотые прииски, сцены войны, портреты Елены Андреевны, площадь Конкор в Париже, рыбалка в Подмосковье…
— Ваши? — спросил Северцев хозяина, рассматривая работы.
— Его, все его, — подтвердил Яблоков, копаясь в книжном шкафу. — Ого, вышла уже книжка! Поздравляю, Елена Андреевна! — крикнул он. — Подарите с автографом?
— Конечно, как же может быть иначе… — откликнулась хозяйка из кухни. — Вася, помоги мне открыть банку! — позвала она.
Георгиев вышел из комнаты.
Яблоков, задумавшись, сказал Михаилу Васильевичу:
— Она спасает тела людей, а муж — души. Конечно, и ему, и ей это не всегда удается, но они делают все возможное…
Он раскрыл книгу Георгиевой.
«Уже к концу нашего века человек сделается повелителем своей судьбы и инженером своей эволюции, — читал он. — Научится «творить» самого себя путем перестройки генов — основных элементов клетки, управляющих наследственными характеристиками…»
— Далеко вперед заглядывает, — заметил Яблоков и, закурив, молча продолжал листать книгу.
Все это, наверное, так и будет, думал он, но пока самый близкий ему человек мучится на больничной койке и никто не может предугадать исход этих мучений… Яблоков тяжело вздохнул и почувствовал на плече маленькую руку Елены Андреевны.
— Не расстраивайтесь! Жена будет жить, — убежденно сказала она.
Когда хозяйка пригласила всех к столу, Яблоков, усаживаясь на стул, спросил:
— Доктор, а когда же медицина станет похожей на описанную в вашей книге?..
— Когда человек познает самого себя. Мы, человечество, сегодня знаем многие сложные явления нашего мира. Знаем несчетное множество существ нашей планеты. Познаем космос. И никому из нас не известно: что же это такое за явление в огромном нашем мире ты-то сам, человек?.. — усмехнулась Елена Андреевна.
— Да ну уж, не наговаривайте на себя, доктор, будто и вправду медицина такая темная… — заступился Северцев.
Яблоков встал со стула и подал хозяйке ее книгу. Она надписала книгу и возвратила Петру Ивановичу. Поблагодарив, он сказал:
— Недавно читал любопытную статью. Она рассказывает, что существует несколько точек зрения насчет того, что же такое человек… Одна из них, по сути дела, чисто биологическая, широко распространенная в антропологии. Согласно ей человек — особый, высокоразвитый биологический организм — то, что помещается, так сказать, внутри костюма или платья. Словом, биологический вид, ведущий начало от обезьяны и вот на вершине эволюции ставший человеком — гомо сапиенс. Вторая — сводится к тому, что «человек» — это, так сказать, система человечества. То есть я — это и автомобиль, и транзисторы, и современные вычислительные машины, телевизоры, я — это весь огромный, сложный мир. Отдельный человек — элемент системы человечества, точнее даже — определенное «место» в этой системе, пересечение или совокупность общественных отношений. А чем наполняется это «место», уж не столь важно для абстрактного определения. Согласно этой точке зрения обезьяна могла превратиться в человека потому, что она попала в систему связей, образующих человечество, и эти связи как бы «зажали» ее и «потащили» к человеку: сама система начала «впихивать» в организм те свойства, которые требовались ей. Согласен? — обратился он к Георгиеву.
— Да нет, Петр Иванович. Такие концепции не очень-то помогли бы нам в нашей с вами работе… Простите за некий утилитаризм суждения!
— Вообще-то биологический материал, может быть, и существенный, но исторически случайный момент в эволюции. Человечество, конечно, начало развиваться на этом материале, но уже сегодня это несущественно. Вставные зубы у человека — такая же часть тела, как и все остальное. А сейчас у некоторых людей есть уже искусственное сердце, — заметила Елена Андреевна.
Северцеву вдруг показалось, что в сегодняшнем мире, с его неограниченными возможностями, само понятие «человек» может настолько неузнаваемо измениться, что уйдет из жизни все человеческое… Он не без неприязни слушал этот разговор, от которого веяло, как ему показалось, холодным рационализмом.
Зазвенел телефон. Георгиев снял трубку.
— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Сергей Иванович, рад вас слышать!.. Ну, как живется на родине?.. Я и не сомневался! По бороде не скучаете?.. Нельзя, нельзя обет нарушать: сбрили — так сбрили! Возврата нет, правда?.. Ну, с работой все в порядке? По-прежнему в «Интуристе»? Давно вы не были у нас. Пора бы и проведать старых друзей.
— Воронов? Зови сейчас же к нам! — сказала Елена Андреевна, разливая чай в фарфоровые чашечки.
— Сергей Иванович, а что вы сейчас делаете? Лена требует, чтобы вы немедленно оказались здесь. Да, да, сейчас, немедленно!.. Ну вот! Как это вас угораздило?.. Что ж тогда с вами поделаешь… Быстрее выздоравливайте и непременно объявляйтесь! Идет? Ну, до свидания.
Василий Павлович задумался, размешивая сахар в чашечке.
— А я себе представляю человека в трех измерениях, — продолжил он прерванный разговор, — первое — развитие физических сил, прогресс человеческого тела. Счет идет в метрах и сантиметрах, в минутах и секундах мировых рекордов. Второе — развитие умственных сил, разума, науки и техники. Третье — «не убий», «не укради» и все прочее. Никогда трусость не была доблестью! Никогда кража не слыла честностью, никогда насилие над женщиной не было благородным поступком… И, однако, человек еще медленно поспешает по пути «очеловечивания чувств», опять-таки нам-то это с вами, Петр Иванович, известно лучше других… — И, подумав, добавил: — Речь, в сущности, идет о том, что́ защищать и развивать в человеке. А это и связано неразрывно с ответом на вопрос, что такое человек… Коммунизм, по Марксу, — это не общество, где все станут Толстыми. Это общество, где Толстой всегда может стать Толстым. В сущности, это тот же вопрос: что́ защищать и развивать в человеке?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
1
Птицын проснулся и не сразу смог сообразить, где он находится. Обвел глазами голые белые стены, деревянный столик с буханкой хлеба, табуретку, на которой лежали его брюки, деревянный открытый шкафчик с эмалированной миской и торчащей из нее алюминиевой ложкой… Поглядел в другую сторону — раковина с подтекающим краном, стульчак с круглой деревянной крышкой. Под потолком зарешеченное окно с маленькой форточкой… Он закрыл глаза и тяжело вздохнул.
За железной дверью послышались шаркающие шаги надзирателя. Птицын взглянул на тусклую лампочку под потолком, на дверь, «глазок» открылся и через несколько секунд закрылся вновь. Птицын повернулся на жестком матраце к стенке, с головой накрылся казенным ватником. Так ему никто не мешал думать.
Сегодня, возможно, его вызовут на допрос. Что он скажет нового? А нужно ли говорить — и так все кончено. Даже Серафима перестала носить передачи.
Взглянул на часы: пять минут седьмого, уже подъем. Нехотя поднялся, сделал несколько приседаний, умылся, оделся. В двери открылось маленькое отверстие с «прилавком». Птицын поспешно поставил на него свою миску.
Овсяная каша была чуть теплой, но он съел всю, протер миску хлебом, облизал ложку и подумал: будет ли сегодня на обед мясо?
Надзиратель принес ему из библиотеки газету и «Три мушкетера». Птицын только в тюрьме стал читать художественную литературу.
Открылась дверь, он натянул на плечи ватник и вышел на прогулку. Длинные коридоры, расположенные буквой «К», сходились к центру, откуда старший надзиратель видел все камеры этажа. Птицын посмотрел вверх: длинные коридоры верхних этажей, разделенные между собой натянутыми металлическими сетками, были пустынными, будто вымерли. Миновав несколько дверей, он вышел во двор, образованный стенами многоэтажного темного здания.
Он не был ни грустен, ни подавлен, ни взволнован, ни возмущен. Он как бы перестал быть самим собой, утратил себя. Да, он больше не существовал как личность, ему хотелось ущипнуть себя, удостовериться, что это он, Птицын, идет по тюремному двору.
Вот дверь внутреннего дворика, разделенного на изолированные секции, третья — Птицына. Накрапывал дождь, на стенке дворика сидел, нахохлившись, воробей и, слегка повернув в его сторону головку, удивленно смотрел на Александра Ивановича.
«Узнал меня? Может, мы с тобой когда-то встречались на моей даче!» — подумал Птицын и едва удержался, чтобы не разрыдаться.
2
После обеда отвезли на допрос.
Птицын шел, сопровождаемый конвоиром, по длинному коридору с бесчисленными дверями, обитыми коричневым дерматином, и только обойдя почти все П-образное здание, они остановились. Конвоир постучал. Птицын услышал: «Введите!» Ноги у него подкосились, и он непроизвольно схватился рукой за стенку.
В маленьком кабинете все было по-старому: стол, стулья, сейф, два окна в квадратный двор, огороженный высокими каменными стенами с железными решетками на мрачных окнах. По-прежнему за столом сидел высокий брюнет с белыми висками и внимательно смотрел большими серыми, немного выпуклыми глазами на вошедшего.
— Садитесь, Александр Иванович, — показав рукой на стул, предложил он.
— Благодарю, я могу и постоять, — встав по стойке «смирно» и стараясь побольше втянуть пухлый живот, ответил Птицын.
— Садитесь, иначе ноги устанут: разговор у нас будет долгий. Я не вызывал вас десять дней. Срок для размышлений достаточный. Вы намерены теперь говорить правду? — спросил Георгиев.
— Да, намерен.
— Тогда расскажите еще раз о себе — кто вы, что вы, откуда родом? — спросил Георгиев и приготовился записывать.
Птицын заерзал на стуле. Лысина покрылась потом, к лицу прилила кровь — оно стало кирпичного цвета.
— Происхождения я хорошего… Отец был маломощный середняк, безлошадный, значит… — волнуясь, начал он. — Был колхозником… это уж я!.. В МТС работал. Как передовика, меня послали на учебу, втуз закончил отличником.
— Зачем же так беспардонно… импровизировать? В вашем аттестате нет ни одной пятерки и даже четверки, — напомнил Георгиев.
Птицын удивленно посмотрел на него и продолжал:
— Долго трудился на периферии. Работал на самых трудных участках, все время выделяли как талантливого руководителя… Стал начальником главка.
— Александр Иванович, побойтесь бога… Работали вы в рудоуправлении диспетчером, с должности начальника главка вы были сняты… — покачав головой, заметил Георгиев.
Но Птицын словно закусил удила.
— После реорганизации руководства просился в совнархоз. Но не пустили врачи: износилось сердечко. — Он печально улыбнулся, приложив руку к левому боку. — Недруги по этому поводу развели склоку, у меня были неприятности по партийной линии.
— Вас исключили из партии за дезертирство, — перебил Георгиев трещавшего, как пулемет, Птицына.
— Когда почувствовал себя лучше, пошел работать. Сначала по проектной части, а потом, как уладились мои партийные дела, оформился в объединение. Попал сюда, то есть к вам, я считаю, по чистому недоразумению…
— Расскажите о ваших связях с концерном «Майнинг корпорэйшн». Поподробнее: у нас есть время.
В комнату вошел белокурый атлет, — похоже, что тот самый, которого в Сокольниках Птицын принял за влюбленного студента. Они познакомились, когда «студент» арестовал его после встречи с Зауэром в церкви на Воробьевых горах.
Птицын приветливо улыбнулся Снегову и продолжал отвечать Георгиеву:
— У меня их не было. Если не считать моего участия в одном совещании в научном комитете, куда я был случайно послан руководством. Францией я по долгу службы не занимаюсь. Про совместный обед с Бастидом я уже давал показания. — Птицын пожал плечами.
Вновь открылась дверь. Вошел генерал. Лицо его показалось Птицыну знакомым. Александр Иванович мучительно припоминал, где же он мог видеть это лицо… И вдруг вспомнил: да это же секретарь обкома партии Яблоков! Они встречались в ЦК у Сашина, когда разбирались сосновские дела Северцева… Ну конечно, это Яблоков, теперь в этом у Птицына не было сомнения. Но что значит генеральский мундир?..
— Мы с вами, по-моему, знакомы. Вы Яблоков? — не утерпел Птицын, в душе надеясь, что это знакомство может облегчить его участь.
— Да, когда-то встречались. А вот здесь нам лучше было бы не встречаться, — ответил Яблоков.
Он легким кивком головы показал Георгиеву, что можно продолжать допрос.
— Вы утверждаете, что никаких связей с этой фирмой не имели? — задал вопрос Георгиев.
— Я говорил это уже неоднократно, — подтвердил Птицын.
— Вы знакомы с Рональдом Смитом?
— Один раз видел в нашем объединении, — вытирая платком лысину, ответил Птицын.
Георгиев положил перед ним лист с тремя мужскими фотографиями.
— Вы можете опознать Смита? — спросил он.
Птицын посмотрел на фотографии.
— Нет, я не помню его. Видел тогда всего несколько секунд, разве упомнишь?
Слушал это Яблоков, и не вранье Птицына смущало его, Яблоков понимал: человек хочет выкрутиться, выйти сухим из воды… Смущало Яблокова другое: почему люди, подобные Птицыну, идут на преступление?.. Воспитывался человек в советское время, обучался в советской школе. Нет у него счетов с Советской властью, ей он обязан всем. Он не нуждался, имел все. Так почему же стал изменником?.. Духовное бездорожье? Обида? Ущемленное самолюбие мещанина?.. Но этот мещанин — наш гражданин, значит, нам и отвечать, что просмотрели такого. В чем же наши проколы?.. Западные разведки активизировали идеологическую диверсию. Они выискивают самых разных птицыных. А мы благодушничаем…
— Свидетели опознали Смита как лицо, посещавшее вашу служебную комнату. Стало быть, вы встречались с ним? — задал вопрос Яблоков.
— Возможно, но я не помню.
— Василий Павлович, напомните ему! — сказал Яблоков и вышел.
Георгиев, пропустив Птицына вперед, провел его в темную комнату. Засветился небольшой экран, застрекотал киноаппарат, и удивленный Птицын стал смотреть фильм, в котором он играл главную роль: он гуляет со Смитом по аллеям Сокольнического парка, сидит с ним на лавочке, сует в карман измятого пиджака пухлый конверт…
Снегов предупредил Птицына:
— Александр Иванович, я не смог озвучить фильм, но готов дать вам любое пояснение устно.
— Спасибо. Теперь я вижу, что, ожидая возлюбленную, вы не теряли времени даром, — огрызнулся Птицын.
В кабинете Георгиев спросил изрядно растерянного Птицына:
— Долго вы намерены вводить следствие в заблуждение?
— Хорошо. Я буду говорить правду, — опустив припухшие глаза, сказал Птицын.
— Тогда расскажите: что передал вам Смит, какие его задания вы выполняли?
— Он передал мне конверт, вы видели это в кино.
— А что еще вы получали от Смита?
— Ничего, — часто моргая, быстро ответил Птицын.
— Что было в конверте, который вручил вам Смит?
Птицын долго молчал.
— Деньги, — наконец выдавил он из себя.
— Рубли или доллары?
— Доллары.
— Сколько?
— Одна тысяча.
— Куда вы их дели?
— Продал.
— Кому?
— Какому-то фарцовщику.
— Какому?
— Не знаю. При этих операциях визитными карточками не обмениваются.
— Согласен. Но, может быть, вы знаете хоть его имя?
— Не знаю.
— Может, Альберт?
— Не помню.
— У вашей любовницы Аси память лучше. Впрочем, это естественно, она почти в три раза моложе вас, — передавая Птицыну листок с ее показаниями, заметил Снегов.
— Сколько вы все-таки получили долларов от Смита? — уточнял Георгиев.
— Я сказал: тысячу.
— Вы продали тысячу. А получили сколько?
— Можно ли так долго говорить об одном и том же? — с наигранной досадой буркнул Птицын.
Георгиев подошел к сейфу, достал оттуда пачку долларовых купюр, положил их перед Птицыным.
— Ваши?
Птицын отрицательно замотал головой, боясь поднять глаза на зеленые бумажки.
— При обыске на вашей даче сторожиха Даша показала место в огороде, где вы их ночью зарыли, — пояснил Георгиев. — А теперь скажите: за что вам Смит отвалил пять тысяч долларов?
Птицын судорожно схватился трясущимися руками за стакан, долго не мог поднести его ко рту. Выпив залпом стакан воды, он немного успокоился, взял в «замок» пальцы обеих рук.
— За коммерческий совет частного порядка.
— Что за частный совет?
— Я уже говорил, что к делам этой фирмы я не имел служебного отношения, поэтому совет мой был советом постороннего лица. Я посоветовал соглашаться на наши условия при заключении контракта, вот и все.
— Но контракт был подписан на условиях фирмы, они знали о нашем затруднительном положении и на этом заработали лишние пятьдесят тысяч долларов, а вам перепало, как говорится, детишкам на молочишко? Свой рубль дороже казенного миллиона?
Птицын молчал. Упираться было бесполезно: в показаниях Аси дословно приведен их разговор о французском контракте.
— Какие еще задания получали вы от Смита?
— Никаких заданий я от него никогда не получал, я только однажды дал совет фирме по чисто коммерческому вопросу, о чем я сейчас очень сожалею.
— Верю, что сожалеете. Но не верю, что ваши отношения ограничивались чисто коммерческими интересами. Скажите, что это за сведения были найдены при обыске в вашем служебном сейфе? — спросил Георгиев, передавая бумажку, написанную рукой Птицына.
— Так просто, для себя прикидывал возможный уровень добычи некоторых металлов, — безразличным тоном ответил Птицын.
— У вас написано по-латыни: «Аурум». Это — золото. «Камни» — это, видимо, алмазы? Почему вы заинтересовались ими? — закуривая, спросил Георгиев.
— Я прочел в «БИКИ» — есть такой бюллетень иностранной коммерческой информации — о прошлогодней добыче золота и алмазов за рубежом, ну, и хотел для себя сравнить с нашей. Для себя! Сравнение, естественно, дилетантское, к этим металлам я не имею отношения.
— Вы когда-те работали начальником главка.
— Тогда у нас не было своих алмазов, а золотом наш главк не занимался.
На этот раз Птицын говорил правду. Георгиев консультировался с работниками Госплана, и они опровергли цифры Птицына.
— Так зачем же вам понадобилось выяснять масштабы добычи этих металлов? Только для самообразования, для общего развития? — допытывался Георгиев.
— Это была своего рода дезинформация, — пробурчал Птицын.
— За которую вы рассчитывали получить еще тридцать сребреников?
— Трудно, когда тебе заранее не верят… — вздохнул Птицын.
В который уже раз он сейчас мысленно проклинал тот злополучный день, когда встретился с Бастидом! Птицын любил считать себя жертвой коварных людей, находящих способы преступно пользоваться его доверчивостью…
— Расскажите о своих связях с посланцем из Франкфурта, — сказал Георгиев.
— Бог с вами! Кого еще вы мне приписываете? — воскликнул Птицын.
— Птицын, вы сегодня обещали мне говорить правду, — напомнил Георгиев, отрываясь от протокола.
Птицын вновь потянулся трясущимися руками к стакану, опять залпом выпил его.
— Вы встречались с профессором Максом Зауэром из Франкфурта?
— Один раз виделся в научно-техническом комитете. Деловая встреча — и только. На том совещании было много народу.
— Возможно. А как у вас оказался портфель Зауэра?
— Никакого портфеля Зауэра я в глаза не видел! — Птицын схватился рукой за левый бок.
Георгиев протянул ему лист бумаги: Северцев писал о том, что видел на заседании комитета черный лакированный портфель у Зауэра, а из комитета портфель под мышкой уносил Птицын.
— Северцев меня оговаривает, сводит личные счеты: мы с ним враждуем давно, почти десять лет, с тех пор, как я не разрешил ему разваливать Сосновский комбинат.
— Что было в портфеле? — поинтересовался Снегов.
— Портфеля не было! Ничего не было! — истерически закричал Птицын.
— Истерик не нужно, — сказал Георгиев и, покрутив телефонный диск, сказал в трубку: — Приведите!
Птицын ждал: с кем сейчас у него будет очная ставка — с Асей, или со сторожихой Дашей, или с какой-нибудь курьершей, или с Северцевым? Он их всех сейчас ненавидел: они предали его! Ну, и он не будет с ними церемониться, особенно с этой сучкой Аськой!.. Найдет что сказать про каждого из них! Око за око, зуб за зуб…
Но, к его великому удивлению, в кабинет ввели огромного истукана Зауэра… Вот так сюрприз! А Птицын-то воображал, что немец давно во Франкфурте…
Зауэр, не обращая никакого внимания на Птицына, сел на стул, уперев жирный живот в край стола и расставив толстые ноги. С невозмутимым выражением лица протер платком багровый загривок.
— На каком языке вы, Макс Зауэр, желаете отвечать на вопросы? Нужен ли вам переводчик? — осведомился Георгиев.
— Не нужен, я свободно владею русским, — не поднимая глаз на следователя, ответил Зауэр.
— Ваше служебное положение? — Георгиев ставил вопросы и записывал в протоколе допроса ответы арестанта.
— Две недели назад я был консультантом известной вам коммерческой фирмы, — пробасил Зауэр.
— Это ваша официальная должность. А какие вы имели дополнительные поручения и от кого?
Зауэр молчал. Птицын снова схватился за сердце.
— Расскажите о цели вашего приезда в Москву. Повторяю вопрос: какие вы имели официальные и секретные поручения и от кого именно? — уточнял Георгиев.
Зауэр громко откашлялся, немного подумал и, уставившись в угол комнаты, ответил:
— Официальное — от главы фирмы: получить контракт на поставку мельниц «Каскад». От моего коллеги Смита имел поручение встретиться с господином Птицыным и получить какие-то данные, которые меня не интересуют и не входят в мою компетенцию, данные по разработкам металлов.
— Вам удалось выполнить эти задания? — спросил Георгиев.
— Нет, не удалось. Институт выступил против наших предложений, и контракт заключен, по-видимому, не будет. Портфель с деньгами я господину Птицыну передал, а воспользоваться его сведениями не удалось: меня арестовали.
— Где вы передали Птицыну портфель и что в портфеле было?
— Передал в гардеробной научного комитета, точно перечислить содержимое не могу, но знаю, что там были деньги. Разрешите закурить? — попросил Зауэр.
Георгиев подвинул к нему пачку сигарет и зажигалку.
— Александр Иванович, что вы скажете? — обратился Георгиев к застывшему в оцепенении Птицыну.
— Зауэр говорит неправду. Никаких денег я не видел.
Зауэр, не оборачиваясь к нему, бросил:
— Это вы говорите неправду. Вы трус.
— Хорошо вам быть храбрым… Через год-другой вас освободят — и до свидания!.. — вырвалось со злобой у Птицына.
«Какие же сволочи все эти бастиды! — думал он. — Начали с дружеской просьбы, с красивых слов, а теперь без зазрения совести сталкивают в пропасть…»
— Где же портфель, Птицын? — услышал он вопрос Снегова.
— Я его не видел. Если бы он был, как утверждает этот господин, так вы его изъяли бы при обыске.
— Скажите, Зауэр, какие сведения передал вам Птицын? — продолжал Георгиев допрос Зауэра.
— В последнюю встречу в церкви на Воробьевых горах я увидел коленопреклоненного перед распятьем господина Птицына и опустился рядом с ним на колени. Во время богослужения он передал мне карманное Евангелие с какими-то пометками для Смита. Я вышел и направился к ожидавшей меня машине, но не дошел до нее — меня задержали.
— Вот это Евангелие? — показывая ему карманную книжечку с крестом на обложке, спросил Георгиев.
Зауэр утвердительно мотнул головой и подписал переданный ему протокол очной ставки.
— Это ваши записи? — Георгиев показал Птицыну пометки на полях Евангелия.
— Нет, не мои.
— Но цифры совпадают с записями из вашего сейфа, — заметил Георгиев.
Птицын ничего не ответил.
Георгиев нажал кнопку звонка. Появился конвоир.
— Уведите! — Георгиев кивнул на Зауэра.
Немец, громко откашлявшись, пробасил:
— Господин следователь, разрешите задать вопрос?
— Задавайте.
— Когда меня освободят из тюрьмы? Я ничего не сделал плохого вашей стране, я все честно рассказал. Зачем вам держать меня? — Зауэр почувствовал себя плохо — холод в сердце.
— Расскажите о жалкой кучке отщепенцев, которые именуют себя НТС. Нас интересует, если можно так выразиться, не «идейная программа» этого союза — она общеизвестна, — главным образом фактическая его деятельность.
— Я вступил в союз недавно и его прошлое знаю только с чужих слов. Пусть вас не удивляет, что я, немец, оказался в русской организации. Во-первых, мои родители из России, а во-вторых, там немало вовсе не русских… Какова деятельность? Хорошего ничего не расскажешь. Шпионская организация — это шпионская организация. Работала на все разведки, которые платили ей деньги. Деятельность?.. Антисоветская пропаганда, подбор и обучение диверсантов для заброски в Советский Союз. НТС уже давно брал любые подряды, включая поставку шпионского «живого товара». За это его руководители получали польскими злотыми и японскими иенами, а перед второй мировой войной переключились на немецкую марку. Если я не путаю, то с первых же дней войны с Советским Союзом начали работу два разведывательных бюро НТС — в Берлине и Варшаве. Берлинское подготавливало и направляло в оккупированные восточные области своих людей для проведения антисоветской работы. Одновременно бюро вело работу среди советских военнопленных, попавших в «особые лагеря». Перед этими лагерями ставились две цели: из числа военнопленных отобрать людей, пригодных для использования на различных участках фронта в качестве разведчиков и диверсантов, а также выявить коммунистов и вообще людей с твердой волей, чтобы так или иначе расправиться с ними. И в том и в другом случае люди из НТС оказывались полезны. Больше того — я слышал, что членам организации предлагалось проникать в тыл Советской Армии для подрывной работы, участвовать в карательных акциях абвера и гестапо на оккупированной территории Советского Союза… Я знаю одного карателя, он теперь проживает в Канаде под чужой фамилией, на его руках много крови…
Зауэр назвал фамилию, Георгиев удивленно посмотрел на Зауэра и поспешно записал названную фамилию в свой блокнот.
— На какую валюту существует НТС сейчас?
— На доллары и фунты, — буркнул Зауэр.
— Так. На сегодня хватит. В следующий раз вы расскажете о своей поездке в Зареченск и на Кварцевый рудник.
Зауэр печально опустил голову и, воздев к потолку сложенные вместе ладони, молитвенно воскликнул:
— Как и на прежних допросах, я повторяю: «К тебе устремляю я свою мольбу, господь всех существ, всех миров, ты дал нам сердце не для того, чтобы мы ненавидели друг друга; руки ты дал нам не для того, чтобы мы душили друг друга; сделай так, чтобы мы любили друг друга». Я призываю вас, господин следователь, к христианской терпимости.
Зауэра увели.
— Что мне присудят? С конфискацией имущества? — громко сморкаясь, деловито осведомился Птицын.
— Все будет по закону, — ответил Георгиев, передавая ему на подпись протокол допроса.
Птицын внимательно прочел протокол, обдумывая каждую формулировку, и с тяжелым вздохом подписал.
— На сегодня все, — нажимая кнопку звонка, сказал Георгиев.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
1
Северцев без пяти минут девять прошел через забитую сотрудниками института приемную в свой кабинет и, перевернув страницу настольного календаря, прочел: 9.00 — рудник будущего, 10.30 — проект Заполярного горнообогатительного комбината, 12.30 — рассмотреть месячный план работ отделам и лабораториям, 15.00 — бюро райкома партии. Дописано красным карандашом:
«Перенесено на пятницу. Провести оперативку по итогам месяца. 16.00 — в горной лаборатории — проблема подводной добычи. 17.00 — встреча с прорабом на строительстве лабораторного корпуса. Выполнение строймонтажа — 78 %. 18.00 — прием по личным вопросам. 19.00 — английский язык».
Вошла пожилая секретарша и спросила:
— Народ можно приглашать?
— Почему так много людей в приемной? — в свою очередь поинтересовался Северцев.
— На заседание собрались все начальники отделов, лабораторий и ГИПы — главные инженеры проектов.
— Никакого заседания не будет, пусть зайдут горняки и металлурги для предварительного обсуждения, остальным заниматься своими делами, — распорядился Северцев и подумал, что в институте нет-нет да и вспомнят старое — собрать подобие новгородского веча и обсуждать на нем специальные технические вопросы.
Первым появился профессор Проворнов, он недавно принял предложение Северцева и был назначен руководителем горно-геологического отдела. Вслед за ним вошла группа старших и младших научных сотрудников, главных специалистов. Молодой веснушчатый парень и рыжая девица стали прикалывать кнопками на стену исчерченные листы ватмана.
Проворнов докладывал директору:
— По вашему заданию, Михаил Васильевич, мы разработали, само собой разумеется только еще эскизно, два направления в создании рудника будущего, так сказать, ближайший и отдаленный варианты. Слева — автоматизированный шахтный комплекс, на ватмане — бесшахтный. Подробнее о них доложат авторы этих работ. Иван Иванович, прошу, — кивнул молодому, но уже лысому мужчине в белом свитере-водолазке, который недавно был избран секретарем институтского партийного бюро.
— Я вижу рудник будущего как полностью механизированный и автоматизированный комплекс: бурение и заряжение скважин, погрузка и доставка отбитой, обязательно высококачественной руды — как непрерывный, конвейерный поток, — докладывал Иван Иванович, водя по чертежам.
К правому ватману подошла средних лет женщина, подстриженная под мальчишку, и улыбнулась.
— Я намерена упразднить древнейшую горняцкую специальность, а горняков обречь на вечную безработицу, — заявила Клыкова тихим голосом, вызвав своими словами веселое оживление среди присутствующих. — Правда, вам это не угрожает. Но ваших внуков, а может, и сыновей уже коснется. Я говорю о геотехнологии — растворении руд под землей химическими растворами с последующим выделением из них растворенных компонентов или непосредственно чистых металлов, то есть о выщелачивании. Шахты заменят скважины, бурение и отбойку — подземные атомные взрывы, обогатительные процессы — бактериальное выщелачивание. Вот программа первоочередных научно-исследовательских работ по этой проблеме, — закончила Клыкова и передала Северцеву несколько листков белой бумаги.
Пока задавались вопросы, Северцев просмотрел программу и, взглянув на часы, сказал:
— Тематику вашу включим в план научно-исследовательских работ, проблема велика, и готовиться к ней нужно заранее. Физико-химические способы в будущем, конечно, потеснят существующие рудники, но сегодня безработица нам, горнякам, не угрожает, поэтому не откладывая нужно создавать рудный комбайн для проходческих и очистных работ. Только полностью механизированные комплексы способны резко поднять производительность труда. Подумаем об одежде новых процессов — аппаратурном оформлении. Созданием таких аппаратов должен заниматься наш институт, — заключил Северцев. Над этой проблемой он думал давно, в успешном решении ее видел свое нынешнее инженерное призвание.
Северцев, может чуть ранее многих своих коллег, понял истину: новая экономическая реформа поставила качественно новые задачи перед наукой.
Позвонила секретарша — на проводе Зареченск, обком партии, Северцев сразу узнал голос Рудакова. После взаимных приветствий Рудаков спросил, будет ли Северцев уважать просьбы обкома. Второй год идет переписка Кварцевого рудника с институтом о проектировании нового рудничного Дворца культуры, а воз и поныне ни с места.
— Мы сразу же ответили отказом, но Степанов настырно продолжает писать во все концы, обвиняя, конечно, нас. У него есть хороший Дворец культуры, мы предлагали составить проект на его реконструкцию, слегка модернизировать, но не тратить огромные деньги на новое строительство, их лучше потратить на жилье, — объяснил Северцев.
Рудаков поблагодарил за разъяснение и сказал, что больше по этому вопросу писем не будет.
В десять часов тридцать минут Северцев ушел в проектный отдел. Длинный светлый зал в три ряда был заставлен столами, над которыми, как паруса над яхтами, вздыбились кульманы.
Северцев громко поздоровался с проектантами, присел к угловому столу, на котором лежал красочный каталог иностранной фирмы, и раскрыл его.
— Так, так. Минуточку… — сказал он, сосредоточенно вчитываясь в красочный каталог.
Рядом сидел главный инженер Парамонов и держал наготове технико-экономическую записку проекта Заполярного горнообогатительного комбината. Парамонов терпеливо ждал, наблюдая за молодым лохматым парнем, что-то чертившим за большой доской. Северцев отложил каталог и внимательно посмотрел на главного инженера.
— Так какие буровые станки вы, Василий Васильевич, заложили в проект Заполярного?
— Новейшие. «БАШ-320», — бодро ответил тот.
— Какая у них сменная проходка?
— До пятидесяти метров.
— Это хорошо?
— Да, лучших станков у нас пока нет.
— А вот в каталоге предлагают купить станок со сменной проходкой двести метров. Скажите, а какой производительности вы предусмотрели экскаватор?
— Восьмикубовый, — не столь бодро ответил Парамонов.
— А здесь, — Северцев ткнул пальцем в красочный каталог, — для скальных пород предлагают двадцатикубовые, а на вскрышных и того больше. — Он закурил и молча уставился на Парамонова.
Тот, желая предупредить следующий вопрос директора, сам сделал неприятное для себя сопоставление:
— Самосвалы мы заложили в проект сорокатонные, а за рубежом есть двухсоттонные, но у нас-то их нет, — и главный инженер развел руками.
— Если так будем проектировать, то долго у нас их и не будет, — необычно резко бросил Северцев, вспомнив свой последний разговор с Шаховым. — Любое предприятие строится и комплектуется оборудованием по проекту. Заложили сорокатонные самосвалы в проект, они и будут планироваться выпуском.
— А что нам, проектантам, прикажете делать? — недовольно заметил Парамонов.
Северцев встал, подошел к лохматому парню, взглянул на доску. Спросил его:
— Какую высоту уступа вы приняли?
— Десять метров.
— Почему малую?
— Так всегда брали, — моргая, ответил проектант.
— Но на наших передовых карьерах, в зависимости от различных горно-геологических условий, уже работают с высотой уступа пятнадцать — двадцать метров.
— Не знаю, я там не был, — признался проектант.
— Очень плохо. Теперь будете обязательно бывать. В порядке авторского надзора, — пообещал Северцев. И, вернувшись к Парамонову, в раздумье сказал: — Проект, Василий Васильевич, придется переделать, разбить его на две очереди. Для первой предусмотреть лучшие существующие технологические схемы и оборудование, а для второй очереди заложить оборудование в три — пять раз мощнее нынешнего серийного. Институту нужно подготовить новые технические условия и этим поставить задачи перед машиностроителями, даже специально подработать вопрос для правительства. Игра стоит свеч!
— А может быть, попросить увеличить закупки мощного импортного оборудования? Скорее будет! — осторожно предложил Парамонов.
— Видимо, тоже следует. Этот путь поможет Заполярному, но не решит проблем перевооружения всей отрасли промышленности на новой научно-технической основе. Давайте вдумаемся в цифры: пятьдесят метров скважины и двести; восемь кубометров и двадцать; сорокатонные и двухсоттонные — и все это при равном, а то и меньшем, за счет более полной автоматизации, числе рабочих. Починами на производстве, пусть самыми патриотическими, дело не исправишь, почин должны сделать мы с вами, Василий Васильевич. Поэтому такой проект выпускать не будем, — твердо сказал Северцев.
Лохматый проектант, прислушиваясь к разговору, скорчил кислую мину и, подойдя к соседу, что-то стал шептать ему. Парамонов стал возражать: сроки сдачи проекта уже подошли, продлевать их не будут, переделка проекта морально травмирует проектантов, не говоря уже о том, что они не получат причитающейся им премии… Василий Васильевич намекнул, что вряд ли министерство поддержит наполеоновский размах нового директора.
И как бы в подтверждение его мысли на столе затрещал телефон. Разыскивали директора. «Наверное, мой заклятый друг», — подумал Северцев.
— Здравствуйте, Пантелеймон Пантелеймонович… Дела? Как сажа бела… Нет, Заполярный задержим, его нельзя выпускать в таком виде.
Северцев рассказал Филину о сути переделок, но тот не соглашался с ним, требовал срочно выпустить проект в старом варианте, обвинял Северцева в срыве сроков строительства и грозил ответственностью за срыв.
Парамонов, перелистывая записку, делал вид, что не слушает неприятного для директора разговора с начальством, и думал, что Северцеву еще не раз придется хлебнуть соленого, пока разберется в проектной кухне.
Между тем Филин так орал в трубку, что Парамонову было слышно каждое его слово:
— Заместитель министра будет недоволен! Поэтому я не буду просить отсрочки на бредовую идею закладки в проекте сверхмощного оборудования! Бумага все терпит! А производственникам придется чихать и кашлять! Потому что лавры Дон-Кихота не дают покоя Северцеву!.. Что хочешь, то и делай, но проект должен быть сдан в срок! Срыва я не потерплю! Это мой приказ! — орала трубка.
Она замолчала лишь тогда, когда Северцев положил ее на рычаг.
Михаил Васильевич задумался, машинально водя карандашом по ватману. Меняет бюрократизм свои методы и формы, выказывает недюжинную способность к мимикрии… Бюрократизм наших шестидесятых годов отличается от бюрократизма годов двадцатых. Бюрократ сегодня ратует за построение материально-технической базы коммунизма, но, как всегда, выражает худшие стороны человеческого бытия и сознания: в данном случае — бездушие, безразличие, сопротивление живому и прогрессивному. Он любит затуманивать существо вопроса густой завесой радикальных слов. Он на лету подхватывает любую новую директиву, но бездумным исполнением ухитряется довести ее до абсурда.
Таков и его, Северцева, начальник, чья главная забота — кукарекнуть точно в полночь, «попасть в цель», то есть не принимать на себя огонь и ответственность за порученное дело, а перевалить все это на другого. У Пантелеймона Пантелеймоновича Филина нет мозгов, нужно бы поставить их ему на транзисторах, что ли. А лучше — вернуть его куда-нибудь на стройку десятником, там будет от него хоть какая-то польза…
— Так выпускаем проект Заполярного в нашем варианте? — прервал его раздумья Парамонов.
— Нет, будем переделывать. И предупреждаю: в новых решениях должен быть не минимум просимого, а максимум возможного. Представьте мне на утверждение график.
Когда Северцев направился к двери, проектанты проводили его хмурыми взглядами.
В двенадцать тридцать Северцев закрылся в кабинете с начальником планового отдела и, помешивая ложкой в стакане, внимательно читал бесконечные колонки цифр, определявших объем работ в тысячах рублей, численность проектантов, их производительность, выработку на человека и многие-многие другие обязательные показатели работы отдела. Потом он смотрел тематические планы, где по каждому проектируемому объекту значились сроки, объемы работ, которые выполнялись с огромным напряжением, нередко работой вечерами и в выходные дни. Главной причиной неизживаемой штурмовщины были сыпавшиеся на институт как из рога изобилия сверхсрочные неплановые задания и поручения министерства, которые часто превращали внутриинститутское планирование в фикцию.
А поток бесконечных поручений все нарастал, хотя Северцев знал, что добрая половина этих заданий не имеет практического смысла и выполненные по ним работы идут в архив. Северцев подписал планы отделам, ясно представляя себе, что они будут не однажды нарушаться.
2
Михаил Васильевич поднялся этажом выше — в новую научно-исследовательскую лабораторию подводного горного дела. Помещалась она пока в небольшой комнате с десятком канцелярских столов, часть которых была заставлена макетами барж, катеров, землесосных снарядов. На стенах висели крупные фотографии исследовательского судна с выходящим из морской пучины водолазом в скафандре, геологическая карта, разрез участка морского дна, фото морского скрепера-волокуши. Молодой лаборант в очках бережно упаковывал в ящик вертушку, напевая себе под нос: «Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан…» Профессор Проворнов что-то писал за большим столом. За низким столиком работал на вычислительной машине Виктор.
— Нептунам привет! — громко приветствовал их Северцев, и они обернулись в его сторону.
— Собираемся в морскую экспедицию. Народ уже выехал к океану. Вот отгружаем последнее оборудование, — сообщил Проворнов.
— Какую же задачу поставили вы перед собой? — присаживаясь к большому столу, спросил Северцев.
Прежде чем ответить на вопрос, Проворнов разложил на столе несколько географических карт, фотографий и пригласил к столу Виктора.
— Итак, сделаем маленький экскурс в прошлое… — начал Проворнов. — Свыше трех тысяч лет тому назад финикияне добывали краски из раковин морских улиток, а в Индии и Японии таким способом добывали жемчуг и перламутр. В последнее тысячелетие до нашей эры со дна Босфора ныряльщики добывали медную руду. А в наше время океаны могут стать источником минерального сырья для многих отраслей промышленности. По подсчетам ученых, Тихий океан мог бы обеспечить человека медью на шесть тысяч лет, алюминием — на двадцать тысяч, кобальтом — на двести тысяч лет.
Проворнов подвинул к Северцеву карту Мирового океана и продолжал:
— Если бы высохли океаны, мы увидели бы поразительные ландшафты! Там, где отложения, осаждавшиеся миллионы лет, заполнили все мелкие впадины, перед нашим взором открылись бы идеально плоские, напоминающие пустыню участки грунта. Над ними возвышаются лишь морские горы, кое-где вздымаются скалистые горные цепи — океанские хребты. Мы увидели бы также глубокие борозды, типа Марианской впадины, глубиной почти в одиннадцать километров. В такую впадину свободно поместился бы Эверест. Но пока человека интересуют шельфы: наиболее достижимая часть морского дна — от кромки берега до глубины двухсот метров.
— А велика ли их площадь? — поинтересовался Северцев.
— Пятая часть всех материков. Вовлечение ее в сферу активной деятельности человека сравнимо по своему значению с открытием нового континента размерами с африканский материк, — улыбаясь, объяснил Проворнов.
Северцев посмотрел на карту: шельфовые пространства, примыкающие к берегам Советского Союза, занимали на ней треть мирового континентального шельфа.
Проворнов откашлялся и продолжал:
— Дно шельфа покрыто слоем осадочных пород. Эти породы в основном представлены продуктами физического и химического выветривания материков.
— А сколько будут стоить минералы, добытые с морского дна? — спросил Северцев.
— Многолетний опыт разработки прибрежно-морских месторождений в Австралии показывает, что себестоимость получаемых концентратов в четыре — шесть раз ниже, чем при отработке обычных россыпей, расположенных на суше. Это позволит, как вы понимаете, экономически выгодно отрабатывать пески даже с содержанием в четыре раза меньшим, чем на суше. Японцы и новозеландцы добывают из прибрежно-морских россыпей магнетит. В Индонезии, Малайзии, Таиланде давно добывают подводное олово. Американцы и канадцы в течение многих лет разрабатывают на океанском побережье золото, серебро и платину, — загибая пальцы на левой руке, пояснял профессор.
Северцев слушал внимательно, больше не перебивая Проворнова, понимая, что проблема эта не легче космической. Лишь воспользовавшись тем, что профессор искал какую-то карту, Северцев позволил себе вставить:
— Геологическая обстановка в общих чертах ясна… А чем и как добывать, профессор, эти морские полезные ископаемые?
— Моя стихия — геология. А на этот вопрос вам лучше ответит Виктор Михайлович, — заявил Проворнов и посмотрел на младшего Северцева.
Виктор откашлялся, положил перед отцом лист ватмана, на котором был изображен плавучий землесосный снаряд.
— Для отработки неглубоких шельфов будем использовать плавучие снаряды и землесосные установки. Мы уже конструируем такое судно для добычи морского олова, — Виктор показал на чертеж. — В глубинах океана главный барьер — проблема давления, которое ограничивает свободу действия человека даже на мелком континентальном шельфе. Чтобы проникнуть в глубину океана, человек должен быть защищен безупречной металлической броней, которая позволит ему дышать воздухом под давлением, близким к атмосферному, и избавит его от риска быть раздавленным…
— У человека есть автоматика еще, — заметил директор.
В лабораторию вошел смущенный Парамонов и обратился к Северцеву:
— Простите, Михаил Васильевич, но сейчас мне звонил Филин и приказал выпускать проект в нашем варианте… Что мне делать?
— Я уже вам сказал: проект переделать, график переработки представить мне на утверждение, — медленно ответил Северцев.
Он тут же набрал номер Филина и сказал, что сейчас приедет к нему. Простился с Проворновым:
— Извините, профессор, но наш интересный разговор придется прервать. Мы его продолжим в другой раз…
3
— Так у нас с тобой, Михаил Васильевич, дело не пойдет! — не подавая руки и не предлагая сесть, начал взбешенный Филин, быстро, насколько позволяла ему грузная фигура, прохаживаясь вдоль широкого окна своего кабинета.
Северцев опустился на стул и, сложив руки на груди, молча слушал.
Филин высказал так хорошо знакомые Северцеву, словно бы птицынские, мысли, идеи и суждения. Фантазировать проектантам некогда, нужно скорее обеспечивать стройку рабочими чертежами!.. Сроки выпуска важнее существа проекта: за срыв сроков спросят сегодня, а за ошибки в проекте — через пять лет, тогда их можно спокойно исправить… Конечно, будут переделки, бросовые затраты, но их стоимость окупится в дальнейшем… Так проектируем и строим не мы первые, не мы последние…
— Поэтому я дал указание главному инженеру проекта Парамонову немедленно выпускать проект Заполярного комбината, — закончил Филин и, сев в свое кресло, уставился на Северцева.
Михаил Васильевич выдержал этот воинственный взгляд.
— Еще раз прошу, Пантелеймон Пантелеймонович, — спокойно ответил он, — так бесцеремонно не вторгаться в суверенные права директора института. Ты же давал мне слово.
— Я хозяин своего слова. Я дал его и обратно взял. Ты, наверно, забыл, кто кому подчиняется?! Здесь, знаешь ли, не совнархоз! — уже вовсе не сдерживая себя, кричал Филин.
Северцев выждал паузу и все так же спокойно возразил:
— Конечно, шофер подчинен директору, но глупо будет, если я, сидя в машине, примусь поучать его, когда и как переключать скорости… Плохого шофера можно уволить, но за баранкой должен сидеть один человек. И за «баранкой» института тоже…
— Что ж, видно, плохой ты «шофер», — Филин недобро усмехнулся.
Как зуммер, загудел белый телефон. Филин поспешно снял трубку и блаженно заулыбался.
— Слушаюсь, слушаюсь… Конечно, приму все меры… срыва не допущу… Такая уж у меня работа — пожары тушить… Неверную позицию занял товарищ Северцев, но я веду с ним разъяснительную работу. Если не поймет, тогда придется внушать ему другими средствами… — Филин строго глянул на Михаила Васильевича и продолжал слушать, машинально взвешивая на ладони спичечный коробок. — Нет, ничего принципиально нового в его предложении я не вижу… Просто Северцев хочет быть впереди… — хихикнул Филин. И согласно закивал головой. — Проект реконструкции Сосновского комбината?.. Конечно, рабочие чертежи выдадим досрочно! Я обещаю! Если мне не будут мешать… Будьте здоровы, Михаил Сергеич!
Мигом слезла с лица Филина угодливая улыбка. Уже начальственным тоном он приказал Северцеву:
— По Сосновке объявляй аврал.
— По Сосновке до сих пор геологи не дали переутвержденных запасов руды. Проектирование приостановлено, — закуривая, ответил Северцев.
— Но ты слышал, что я сейчас обещал?! — еще более повышая голос, напомнил Филин. И вышел из кабинета.
Северцев курил, глубоко затягиваясь, думал и думал о Филине… Как странно бывает в жизни: он сам, Северцев, не кто иной, предложил совнархозу назначить начальника отдела капитального строительства третьего комбината Филина на должность директора этого комбината, когда ушел на пенсию прежний руководитель комбината. Филина, надо сказать, Северцев совсем не знал. Слышал только, что он мужик оборотистый, и действительно Филин оказался именно таким. После отъезда Шахова Филин занял его место, а после ликвидации совнархоза автоматически попал в министерство.
Толком о Филине никто ничего не знал. Он лишен индивидуальности, специфических черт, которые проявлялись бы в зависимости от обстоятельств… Если ему нужно, он становился вежлив, даже приветлив. Окружающие его люди о нем хорошего мнения. А за что им, позволительно спросить, уцепиться, чтобы думать о нем плохо?.. Он все делает с видимым энтузиазмом, хотя и без души. Его улыбки сколь вымученны, столь же и ослепительны! Это мастер закулисных интриг. Он любому наобещает множество благ, которые вовсе и не собирается предоставлять. И тот, кому он эти блага обещает, сохранит самое приятное впечатление о нем… Не будучи специалистом в области горного дела и металлургии, он вынужден оценивать работу и людей по настроению руководителей министерства. Поэтому всегда настороже, старается уловить каждое их слово, жест, реплику… Кто плохо знает его, думает порою, что держит его в руках… а на самом деле сжимает в руке каплю ртути…
Тяжело дыша, Филин вернулся в кабинет и схватился за телефонную трубку.
— Привет, Вячеслав Сидорович!.. Как жизнь молодая?.. А я что говорил?.. Да нет, ты меня просто не так понял, точно, точно!.. Ну ладно, не будем спорить! Запланируй восемьсот тысяч на наш жилой дом, получишь в нем квартиру, лады? За мной не пропадет, будь уверен… Почему незаконно? Институт сделает проект, согласует, узаконит… Не согласует, говоришь?.. Начнем строить без согласования. Свалим вину на институт, зато дом будет!.. Не согласен? Все же подумай. — Закончив разговор, он доверительно сказал Северцеву: — Начальство всегда задает шарады, а ты попробуй отгадать, что лучше: молиться и курить или курить и молиться? Помоги с документацией по дому: отвод земли, как положено по закону, наши не смогли оформить, но у меня есть одна идея. Слушай…
— Не буду. У института другие задачи, извини за правду, — отрубил Северцев и поднялся.
Лицо Филина наливалось краской. Он крепко сжал кулаки и, уже не повышая голоса, бросил:
— Не нужны мне праведники, а нужны угодники. — И тяжело, с присвистом, закашлял.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
1
Северцев и Рудаков сидели друг против друга в глубоких креслах. Шла неторопливая воскресная послеобеденная беседа.
В гости Михаил Васильевич попал случайно: направляясь в геологическую экспедицию, должен был пересесть в другой самолет, да непогода задержала в Зареченске.
— Я скажу больше того, — говорил Северцев: — судить о работе предприятия нужно по той пользе, какую оно приносит обществу. Чтобы сравнить две разные дроби, надо — это и школьнику известно — привести их к общему знаменателю. Таким общим знаменателем, позволяющим оценивать деятельность любого предприятия, и является прибыль… За примером ходить далеко ли? Кварцевый рудник!.. Прибыль — это и визитная карточка руководителя: скажи, какова на твоем предприятии прибыль, и я скажу, каков ты руководитель.
Рудаков рассказал:
— Только вчера прилетела с Кварцевого моя жена Катя. Степанов, говорит она, по-хозяйски проводит экономическую реформу. Весь коллектив участвует в этом. Фонд предприятия создали огромный: за счет сверхплановых прибылей… Все, брат, меняется: еще недавно от слова «прибыль» несло душком чистогана… Может, скоро заговорим о конкуренции, да? — усмехаясь, спросил Рудаков.
Северцев рассмеялся.
— Боишься?.. Да! Да! Нужно развивать производство многих товаров не на одном предприятии, находящемся в монопольном положении, но и на других заводах и фабриках… Нужно развивать между ними здоровую конкуренцию, которая будет, конечно, регулироваться государством! Конкуренция у нас — это соревнование на лучшее хозяйствование, — Северцев хлопнул Рудакова по коленке и, достав из кармана «Правду», показал: на первой странице печаталось постановление правительства об упорядочении планирования. — Читал? Перспективное планирование вводится.
Северцеву было приятно сознавать, что многие мысли Шахова нашли в этом документе отражение.
Помолчали, прислушиваясь к доносившейся из соседней комнаты музыке. Екатерина Васильевна разучивала какую-то пьеску. Музыка внезапно оборвалась, и в комнату бесшумно вошла хозяйка дома. Ее большие карие глаза смотрели на мужа очень тревожно.
— Сережа, где же Валентин?.. Второй день его нет дома… Я просто извелась вся… ночь не спала.
Рудаков нервно подергал плечом и невесело сказал Северцеву:
— Малые детки спать не дают, а с большими сам не уснешь!
— Екатерина Васильевна, скажите, пожалуйста, что дает разведка Рябинового месторождения? — поинтересовался Северцев. — Я знаю, вы там были.
— Прошли шесть скважин до трехсот метров глубиной, подсекли мощную золоторудную зону. Привезла с собой полевые материалы, начала их камеральную отработку. Я твердо верю в это месторождение, — убежденно ответила хозяйка и улыбнулась.
Рудаков снял трубку зазвонившего телефона.
— Хорошо, дам команду немедленно отправить и бульдозеры и грейдеры… А жертв много?.. Да, поможем непременно. До свидания. — И объяснил Северцеву: — Звонил соседний секретарь обкома партии, ты его видел в ЦК. В районе Усть-Пиропского горит тайга. Просят помочь техникой: надо рыть каналы и насыпать заградительные валы… При спасении буровых вышек в геологоразведочной партии погибли люди…
— Что ты говоришь?! А ведь я лечу именно туда, к Малининой…
— Слышал кое-что о ваших отношениях.. За ней? — понимающе спросил Рудаков.
Северцев молча кивнул головой и порывисто обнял хозяина дома.
Сергей Иванович позвонил в аэропорт.
— Поспеши, — предупредил он Михаила Васильевича, — самолет будет через два часа. В Усть-Пиропском пересядешь на вертолет.
2
Еще далеко было до места посадки, когда Северцев увидел с вертолета темные клубы дыма. Ветер стелил их над синей тайгой. Дымные столбы, пока их не рассеивал ветер, закрывали солнце. Оно еще просвечивало сквозь них красным шаром. То здесь, то там виднелись очаги пожара: тайга стреляла мощными залпами красных искр. Издали это напоминало карнавальный фейерверк.
Приземлились за околицей небольшой, в несколько рубленых домов, заимки. Прилетевших опахнуло сильным запахом гари. Усталые, почерневшие люди молча встретили вертолет.
На самодельных носилках лежали пострадавшие. Задымленная тайга вокруг шумела от ветра и трещала от огня.
— Скольких еще нужно госпитализировать? — спросил летчик женщину в белой повязке с красным крестиком.
Она порылась в брезентовой сумке, достала бумажку.
— Восьмерых. Придется вам еще прилетать, сразу всех не возьмете, — ответила она, поддерживая носилки, на которых тихо постанывал старик.
— Крепись, папаша… Водопровод и канализация у тебя работают?.. Ну, значит, порядок, жить будешь! — балагурил летчик, бережно устанавливая носилки.
Михаил Васильевич внимательно посмотрел на другие носилки: впалые глаза, заострившийся нос, черные волосы выбились из-под цветастого платка… «Не она!» Он обошел все носилки. Старик, две девушки и мальчишка…
Их внесли в вертолет. Гулко захлопнулась дверь. Огромный винт, раскрутившись, с грохотом поднял грузную стрекозу в воздух.
Только тогда, когда вертолет был уже над заимкой, медицинская сестра обратила внимание на одиноко стоявшего незнакомца.
— Вы к кому, товарищ?
— Мне нужно видеть Валерию Сергеевну. Геолога Малинину.
— А кем вы ей доводитесь? — пристально посмотрев ему в глаза, спросила медицинская сестра.
— Знакомый ее. А впрочем, какое это имеет значение? Мне нужно ее видеть! — недовольно ответил Михаил Васильевич.
— Это невозможно, — глухо, через силу, сказала медсестра.
— Она тоже пострадала?.. Ее сейчас нет здесь? — волнуясь, допытывался Северцев.
Медсестра присела на трухлявый пень и устало прикрыла лицо руками.
Северцев молчал, боясь задавать еще вопросы. С забинтованной ногой, опираясь на костыль, медленно приближалась молодая женщина, лицо которой показалось Михаилу Васильевичу знакомым… Он попытался вспомнить, где ее видел… И вдруг вскрикнул:
— Клава!.. И вы здесь?.. — Он подошел к ней, осторожно пожал руку. — Как я рад, что встретил знакомого человека!.. Вы давно здесь?.. Небось Валерия Сергеевна и перетащила вас сюда?.. Что с ногой? Что-нибудь серьезное?
Клава молчала, прикусив губу. Из оцепенения ее вывела медсестра.
— Ты, видать, знакома с этим гражданином? — сказала она.
Клава утвердительно кивнула головой.
— Пойду к больным. А ты, Клава, как поговоришь, тоже немедленно возвращайся в барак. Тебе не следовало идти так далеко, — тоном, не допускающим возражений, закончила медсестра. И по вытоптанной среди мерзлых кочек тропинке пошла в сторону заимки.
— Присядьте, отдохните. Сестра права, я вас провожу до барака, — усаживая Клаву на свой чемоданчик, говорил Северцев.
Клава все молчала, неотрывно глядя на него ничего не выражающими, опустошенными глазами.
— Я понимаю, с вами стряслось несчастье, но до свадьбы все заживет. Золото огнем искушается, а человек напастями, — пытался пошутить Михаил Васильевич, даже улыбнулся ей, но получилась улыбка растерянной, напряженной.
И вдруг Клаву словно прорвало — она закричала, по-бабьи заголосила и, хватая открытым ртом холодный воздух, сползла с чемодана на пожелтевший, заиндевелый мох…
Михаил Васильевич, не зная, что с ней, что надо делать, поднял ее и, поддерживая под локоть, повел к рубленой избушке, где на разбросанном на полу сене лежали обгоревшие.
Избушка напомнила точно такую же хатенку, в которой он познакомился с Клавой, когда первый раз прилетел на север к Валерии. Но чего-то недоставало в этой… Он понял: железной печки, радиостанции и буйного ветра с далекой Чукотки, который тогда колотил в стену, ветра, прилетевшего с замерзших равнин, покрытых твердым, гладким, словно вылизанным, снегом.
Плечи Клавы вздрагивали, она кусала свою руку, чтобы сдержать рыдания. Северцев уже понял: случилось страшное… Но ждал, когда она заговорит первая. А вдруг он не прав?.. Может же быть так, что просто физическая боль терзает несчастную девушку!..
Всхлипывая, растирая по измазанному гарью лицу слезы, Клава села на чемодан и выдавила из себя:
— Нет больше нашей Валерии Сергеевны…
Михаил Васильевич почувствовал, что ноги стали ватными. В уши хлынул звон. Но он постарался устоять на ногах.
— Третьего дня утром заходила она на рацию, — рассказывала Клава, — принесла месячный отчет, пообещала платье раскроить мне к отпуску… Поговорили мы с ней… А тут клич раздался: народ скликают к конторе. — Клава говорила не переводя дыхания, словно боясь остановиться. — Огонь на заимку двигался. Все дела бросили, стали вокруг рвы рыть, деревья валить — заимку отстояли. Не смыкая глаз, ночью буровые станки спасали, успели вывезти их из зоны пожара. Да только недосчитались троих практиканток из разведочного техникума: от испуга заблудились они в тайге. Вчера утром Валерия Сергеевна собрала всех, кто еще мог держаться на ногах, и пошли мы искать практиканток. Пробивались сквозь огонь, уходили от огня, обгорали сами, но искали без передыха. Я нашла под пихтой двух девушек, руки и ноги у них были черно-красные от ожогов, они орали, как заполошные. «Где подруга ваша?» — закричала им Валерия Сергеевна. «Перенеси девчонок в безопасное место», — услышала я ее последние слова. Валерия Сергеевна побежала в сторону трещавшего от огня смоляного кедра. Я увидела, как она обежала горящую пихту, потом лиственницу, с которой полетели горящие ветки. Потом раздался страшный треск, я увидела, как накренился кедр. Я побежала к ней, но что-то обожгло и ударило меня по ноге, я упала, а очнулась только в бараке.
— Ее нашли? — спросил Северцев.
— Кого там найдешь, кругом один пепел. Верно она говорила про себя, что несчастливой родилась… Думала о счастье с вами, да отказалась от него, чтобы вторично не разбивать вашу семью…
— Какую семью, Клава?
— Что уж там… Заходила она к вам в день рождения, ну, и женщина одна рассказала, что живете хорошо, жена письма вам шлет, скоро к семье переедете. Не дождалась. А уж как любила она вас, о том только я знаю. — И вдруг Клава опять заголосила, протяжно, навзрыд: — Горе-то какое, боже ты мой!..
Северцев шел, спотыкаясь об узловатые корневища, с трудом пробираясь в голом кустарнике. Он шел без дороги, прямо на солнце, едва видное сквозь дымную мглу. Он шел все дальше и дальше в глубь чадящей тайги. Только узкая полоска дневного света тянулась над непроглядной лесной чащей, вокруг было темно, как в сумерках. Вдруг до сознания Северцева дошел несмолкающий треск. И он увидел, как над самыми верхушками деревьев проносились тяжелые глухари. Они кричали, но крик их сразу же тонул в грохоте лесного пожара.
Огненный ураган надвигался на Северцева. Уже пахнуло смолистым дымом, а по узкой полосе света, что еще висела над тайгой, как огромные жар-птицы, стаями понеслись пылающие хвойные ветки, осыпая его дождем искр. Он остановился, стряхнул с плеча тлеющую ветку и, поняв наконец, что дальше идти некуда, повернул назад.
Вой огненного урагана теперь превратился в один оглушающий нескончаемый раскат грома. Поблизости что-то ухало, как орудийные выстрелы. Стонали падавшие вековые деревья. Северцев ускорил шаг, чувствуя спиной горячее дыхание огня.
На опушке, чуть не задев его, проскочил мимо запыхавшийся медведь. Дым клубился, накатывался багряными волнами, огнедышащий ветер носился меж стволами деревьев, расстилая над землей удушающий смрад.
Северцев задыхался. Он сбросил пальто, порвал ворот рубашки, но легче ему не стало. Тогда он, сделав еще несколько торопливых шагов, побежал. Ему было стыдно, почти нестерпимо стыдно, но он бежал…
И вдруг невольно замер: между вершинами двух старых пихт блеснула огненная змейка, за ней другая, третья, и почти мигом все верхушки соседних пихт подернулись пламенем. И здесь он увидел ее, она шла к нему с распущенными каштановыми волосами, ставшими теперь багряными. Улыбаясь, Валерия что-то кричала ему и махала огненными руками. Он даже услышал свое имя и, обезумев, упал на чадившую валежину.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
1
Ранние сибирские бураны испортили дорогу, и «газик» полз по глубокой колее, то и дело скрежеща дифером по наледи. Степанов и Пихтачев всю дорогу молчали, каждый думал о своем.
Виталий Петрович в который раз мысленно перечитывал вчерашнее письмо от дочери. Светлана прислала его в контору: не хотела, чтобы о нем знала мать. Письмо было грустное, она изливала в нем свою душу. Жизни у них с Виктором не получилось, виноваты все понемножку, но больше всех она сама. Не исключено, писала Светлана, что ей придется вскорости вернуться в отчий дом. Просила исподволь к этой мысли подготовить маму. Недолгим было счастье у его дочери…
— Чего обком оторвал меня от дела? Будто позаседать без меня не могут! — недовольно пробурчал наконец Пихтачев, глядя на бегущие за окном, запорошенные снегом кедры.
Степанов, достав из кармана горстку кедровых орешков, сунул ему в руку и спросил:
— Скажи, ты счастлив в жизни?
Пихтачев от неожиданности заморгал глазами.
— Я-то?.. Когда как… Если на драге добро золотит, то… конечно! — ответил он, все еще не понимая вопроса.
— Нет, отвечай прямо: был когда-нибудь ты по-настоящему счастлив? — допытывался Степанов.
— Счастье не конь, хомута не наденешь, в оглобли не впряжешь. Однажды был… Когда избавился от банки с золотом — помнишь, ты потерял на Южном? — тогда и настоящим человеком себя почувствовал. А это, паря, и есть самое кристальное счастье, — ответил Пихтачев и всерьез принялся за орешки.
«И правда, каких только историй не случается в жизни…» — задумался Виталий Петрович. Живо вспомнился ему тот случай на Южном.
…Ехал тогда Степанов с гидравлической съемки золота. И упросили его старатели отвезти банку с золотишком в приисковую кассу. По дороге на прииск конь Степанова вместе с седоком провалился на реке под лед, и когда прибежал Серко на конный двор, на седле не оказалось переметных сум, а с ними и банки с золотом.
Банку долго искали всем прииском, но не нашли. Степанову грозила тюрьма, и тогда старики золотничники, достав из кубышек свое потайное золото, выложили следователю на стол другую банку, якобы найденную ими…
Хмельной Пихтачев случайно нашел в тайге степановскую банку и припрятал ее. Когда же он узнал о грозившей директору прииска расплате, он тоже принес банку — уже настоящую — следователю.
…От этого воспоминания Степанов сразу повеселел, хотя и был основательно расстроен, притом не только Светланиным письмом, но и другим обстоятельством — предвзято проведенной проверкой… Сигналом для такой проверки послужила пихтачевская история с вывозкой Варфоломея на тачке. Целый месяц комиссия обследовала комбинат — придирчиво, с явным намерением найти крамолу. Неполадки, разумеется, имелись, их никто и не скрывал, о них часто говорили коммунисты на партийных собраниях. Но устранялись неполадки не так быстро, как того хотелось бы… Возражать против этого никто не мог, и комиссия все недостатки добросовестно перечислила в своем докладе. Перед отъездом председатель областного комитета партгосконтроля Знаменский предупредил Степанова, что комитет будет слушать его на своем заседании и сделает надлежащие выводы. Степанов две недели ждал вызова, нервничал: этот орган наделен большими правами, может самостоятельно наказывать руководителей, даже отстраняет их от работы… Серьезных промахов у Степанова не было, но в назидание другим могли сделать его козлом отпущения… Успокоился Виталий Петрович после телефонного звонка Рудакова. Сергей Иванович просил его приехать на бюро обкома, чтобы доложить об итогах работы по новой экономической системе, вскользь упомянул о справке Знаменского и в заключение, смеясь, добавил:
— Привези с собой и своего друга Пихтачева! Говорят, вы с ним придумали новые формы работы товарищеского суда…
Степанов спрашивал себя: как ему теперь держаться с Сергеем Ивановичем — по-прежнему, по-приятельски, или официально, скрывая их прежнюю дружбу?.. Конечно, официально! — решил он.
— Павел Алексеевич, а ты знаешь, к кому мы едем? — доставая еще пригоршню орешков, спросил Степанов.
Пихтачев безразлично мотнул головой.
— К Рудакову, первому секретарю обкома.
Пихтачев поднял глаза, во взгляде его мелькнул живой интерес.
— Сергей Иванович, значит, в генерал-губернаторы вышел? Смотри-ка!.. Жизнь — чехарда: сегодня я через тебя прыгаю, а завтра — ты через меня.
Пихтачев был мрачен. И не потому, что боялся наказания: из партии теперь не исключают, а из начальников выгонят — он только спасибо скажет, пойдет на драгу матросом. Это куда спокойнее. Без мороки! Переживал он за Степанова: подвел директора… Ведь Виталий Петрович совсем не виноват, а спрос с него в первую очередь, такая у него должность… Что у нас за законы? Сплошное раздолье для пьяниц и бездельников. Подлец Варфоломей пьянствовал, из-за него драга простаивала и золото не добывалось, а по закону трогать его не моги! Воспитывай, разъясняй против зеленого змия… Выгнали тунеядца — так профсоюз велит забрать обратно и за вынужденный прогул оплатить: видать, ему похмелиться не на что!.. «И в обкоме все расскажу. Пусть что хотят со мной делают, а правда наша! Обратно его не возьмем»…
«Газик» скособочился и медленно остановился сразу за деревянным мостом у речки, курившейся холодной испариной у заберегов.
— Прокол! Не везет мне на этом распроклятом мосту, сгори он голубым огнем! — ругался рыжий Иван, доставая запасное колесо.
— Ездить разучился, староверский кержак, пока прав не было!.. Ты тутошный иль с Урала происходишь? — спросил Пихтачев, поглаживая затекшую ногу.
Прежде чем ответить, шофер несколько раз провел тряпкой по грязному ветровому стеклу и бросил настороженный взгляд на директора, не решаясь пока на откровенный разговор.
— Тутошный. Родился я здесь, на смолокурне. Робить начинал в леспромхозе, а потом на два года… как говорится, я тебя вижу, а ты меня нет.
Степанов молча ждал продолжения разговора, но шофер замолчал надолго, возясь с колесом.
Степанов прошел вперед и остановился у закуржавелого красавца кедра: здесь до постройки дороги был охотничий лабаз, где не раз охотился Виталий Петрович. Под кедром на засыпанном желтыми иглами снегу виднелись следы лесных обитателей. Виталий Петрович заметил следы белки и бурундука и совсем свежий — лисий. Сойдя с дороги, Степанов поднял валявшуюся в снегу кедровую шишку и отряхнул с шапки-ушанки облетевшую с ветки кухту.
— Эй, паря, глаза на сучках не оставляй! — закричал Пихтачев. — Поехали! Колесо готово.
Иван сел за руль, тронул машину и, улыбаясь, доверительно заговорил:
— Сбили меня с копылков. История, значит, со мной приключилась, как в кино, — в тюрьме два года мантулил!
— Рано познакомились с тюрьмой, — внимательней оглядев водителя, заметил Виталий Петрович.
— Раньше сядешь — раньше выйдешь, — резко переводя рычаг скорости, ответил шофер. Аккуратненько перевалив «газик» через канаву, у которой стоял дорожный знак «Осторожно: ремонтные работы», он продолжал: — Думаете, я бандит какой? Нет, просто добрый человек. Ей-богу, кино! Вот на этом самом месте три года назад и приключилось, я тогда баранку в леспромхозе крутил. Собрался я в дальний рейс, а тут, как на грех, прибежал мой напарник, просит заехать в город — гроб деду оттуда привезти. Обратно я порожняком ехал, в дороге остановили два пьяных мужика, подвезти попросили. Одного посадил в кабину, другой в кузов сел. Пошел сильный дождь, мужик изловчился, залег в гроб и крышку закрыл, чтобы, значит, не мокнуть, и храпит себе в две дырочки… Остановимся на минутку! — Он затормозил, вылез из машины, обошел ее вокруг, постукал носком сапога по задней покрышке. Потом закурил, уселся за руль и плавно тронул машину с места.
Пихтачев не выдержал и поторопил его:
— Ну, храпит мужик, а что дальше?
— Потом я еще двух баб подсадил в кузов — катайтесь, бабоньки, не жалко. Все чин по чину шло, и тут приключилась беда. Мужик-то выдрыхся, поднял крышку, просунул руку и стал вроде с приветом водить ей по воздуху — проверяет, значит, кончился ли дождик. Бабы на полном ходу как сиганут через борт машины — прямо вот в эту речку, что переехали надысь… Поломали, горемычные, руки, ноги, а у меня все внутри оборвалось, с тех пор хожу, как пустой… Ну, и за что, получается, я пострадал? За доброту свою к людям… Вот и подъезжаем! — закончил он.
Пихтачев недоверчиво покачал головой, подмигнул Степанову. Валил густой мокрый снег, порывы ветра с визгом хлопали брезентовым кузовом автомашины.
— Запуржило-то как! — вздохнул Пихтачев и, зябко поежившись, запахнул ворот полушубка.
Тайга осталась позади. Теперь шоссе обступили похожие друг на друга, как близнецы, пятиэтажные сборные коробки нового района.
Город исходил паром, оживал под солнцем.
Подъехали к двухэтажному зданию с колоннами.
— Ты, Павел Алексеевич, подожди вызова в приемной, — сказал Степанов, — а я пойду на заседание бюро, мы и так из-за дороги опоздали.
2
Виталий Петрович словно одним махом преодолел широкую лестницу и только у резной двери зала заседания перевел дух. Достал расческу, торопливо провел по волосам и оглядел длинный коридор: людей не было видно. Степанов понял, что опоздал изрядно. Но делать было нечего, и, больше не раздумывая, он открыл дверь.
Стараясь тише ступать даже по ковровой дорожке, прошел вдоль длинного полированного стола и опустился на свободный стул. Виновато улыбнувшись, легким кивком поздоровался со знакомыми членами бюро обкома — Кусковым, Знаменским, деловито придвинул к себе лежавший против него толстый блокнот с тисненой надписью: «Делегату 20-й областной конференции КПСС». Барабаня пальцами по блокноту, огляделся. И только теперь взглянул на Рудакова. Тот слегка кивнул головой.
Степанов наблюдал за ним: Сергей Иванович вел заседание бюро очень спокойно, ораторов не прерывал, хотя разговор был не из приятных: о злоупотреблениях на базе облпотребсоюза.
«Рудаков ходил по магазинам, кафе, ездил на продовольственную базу неспроста», — подумал Виталий Петрович. Он не стал слушать о процентах усушки, утруски и пересортице, шепотом попросил своего соседа — Кускова, секретаря обкома по промышленности:
— Дайте взглянуть на повестку дня! Когда будет наш вопрос?
— Вам не положено, — буркнул тот, но раскрыл свою папку и дал бумажку.
Степанов оглядел поджарого Кускова и усмехнулся: и душой-то суховат… Почти на всех заседаниях бюро, на которых присутствовал Степанов, Кусков заводил спор по поводу отдельных формулировок, отдельных слов, проявлял показную принципиальность в совершенно непринципиальных вопросах… Любил сыпать цитатами и делал это без всякой необходимости. С завидным упорством отстаивал любое свое суждение, считая его безапелляционным. В прошлом Кусков преподавал в институте, и приобретенная там привычка менторски поучать и наставлять всегда раздражала Степанова.
Вглядываясь в слепо отпечатанную страницу с повесткой дня, Виталий Петрович с трудом разбирал еле заметные буквы. Утверждение номенклатурных работников… «Номенклатура. Слово-то какое мудреное», — улыбаясь, подумал Степанов. Так, на утверждение номенклатуры он опоздал… Следующий вопрос — о злоупотреблениях на базе. За этим — о первых итогах экономической реформы на Кварцевом комбинате и персональные дела. «Значит, надолго», — подумал Степанов, возвращая бумажку Кускову.
Вопрос по Кварцевому сформулирован иначе, не так, как говорил Знаменский. Но все равно нужно быть готовым к худшему! Конечно, многое будет зависеть от Рудакова… Степанов еще раз посмотрел в его сторону.
Сергей Иванович откинулся на спинку стула и оглядывал большую, в четыре окна, комнату. Стулья вдоль стен были заняты. На обсуждение вопроса пригласили многих работников торговли и снабжения.
С заключительным словом выступал директор базы. Маленький и грузный, с большой лысой головой, он стоял в конце длинного стола и, уперев в стол руки, читал лежащие перед ним страницы. Рудаков слушал невнимательно, просматривал справку орготдела обкома по этому вопросу.
Деловая справка занимала шесть страниц. Чтобы ознакомиться с ней, потребовалось всего десять минут. А обсуждение вопроса длилось уже час. «Безбожно тратим время на то, чтобы затуманить ясный вопрос…» — думал Рудаков. Он взял папку с опросными материалами и подписал несколько завизированных членами бюро решений обкома.
Директор базы говорил уверенно, как человек, привыкший распоряжаться. Называл цифры и фамилии, знакомые по справке, приводил лишь положительные примеры работы базы, всячески увиливая от разговора о хищениях.
В комнате было душно. Рудаков подошел к окну и открыл форточку. Но Кусков испугался морозного воздуха. Пришлось форточку опять прикрыть.
Прошло тридцать минут, а перед директором базы лежала стопка еще не перевернутых страниц. Кусков, взглянув на ручные часы, показал на них пальцем Рудакову. Тот кивнул головой и обратился к выступающему:
— Время ваше давно истекло.
— Мне нужно еще минут пять, — перебирая листки, недовольно ответил директор. Он не любил, когда его перебивали.
— Думаю, что вам уже достаточно. Тем более что вы не помогаете нам разобраться с делами базы, а всячески мешаете этому, — сказал Рудаков и обвел взглядом членов бюро обкома.
— Но проценты выполнения у меня хорошие!.. — защищался докладчик.
— Имейте совесть, — тяжело закашлявшись, перебил его председатель облисполкома Попов, высокий седеющий блондин со светлыми глазами и вежливой, чуть печальной улыбкой, — и не тычьте нам свои проценты! — И, уже обращаясь к Рудакову, продолжал: — Работа милиции определяется теперь процентом преступлений в области, районе, участке, и, чтобы не повышать этот процент, кое-где перестали бороться с преступниками… Работа больниц оценивается процентом смертности, и, чтобы не увеличивать этот процент, кое-где тяжелых больных сплавляют из больницы, вместо того чтобы лечить их до конца… Работа педагога оценивается по процентам успеваемости его учеников, и поэтому учитель нередко ставит лодырю положительные оценки… На нашей базе воруют тоже в соответствии с процентами! Я спрашиваю: кому нужны такие проценты, такая оценка работы по процентам?
— Я прошу мне верить… — пытался было возразить директор, но Рудаков попросил его сесть.
Знаменский выступил с разгромной речью, во время которой Рудаков думал: как следует решать этот вопрос? Он, как всегда, выбирал позицию: с кем и против кого воевать? Партийная позиция — выявлять и устранять недостатки. Позиция, выбранная директором базы, — скрывать недостатки и сохранять их!
— Может, ограничимся строгим взысканием? Человек пережил, понял ошибки, — сказал второй секретарь обкома, Кусков.
— Пережил — да, понял — нет. Он умышленно мешал нам найти истину. Мы очень хотели бы ему верить, но он больше не заслуживает доверия. С предложением орготдела знакомы все члены бюро? У кого есть другие предложения? Нет? Решение принято. — Рудаков объявил трехминутный перерыв.
Приглашенные на первый вопрос покинули комнату. Последним, волоча толстый портфель, медленно вышел бывший директор базы.
Рудаков подошел к Степанову, крепко пожал ему руку.
— Выглядишь ты, Виталий Петрович, по-прежнему молодцом. Только все тучнеешь… Больше занимайся гимнастикой! — улыбнулся Сергей Иванович.
— Вы знакомы? — заинтересовался Кусков.
— Лет пятнадцать назад на одном руднике вместе работали. Ты, Виталий Петрович, если не занят, подожди меня, ладно?.. Продолжим заседание! Приглашайте товарищей! — попросил Рудаков и вернулся на свое место.
3
В комнату вошли инструкторы обкома и комитета партгосконтроля, секретарь партийного комитета Кварцевого рудника Столбов и Пихтачев. Фрол и Павел Алексеевич сели рядом со Степановым.
Рудаков встал.
— Слушаем вопрос о работе Кварцевого комбината. Я бы просил разбить его на два раздела: первый — информация директора об опыте работы в новых условиях, второй — о недостатках в работе комбината, выявленных областным партгосконтролем. Прошу, Виталий Петрович, уложиться в тридцать минут.
Степанов подробно доложил об экономическом эксперименте, который оздоровляет и производство, и людей, в нем занятых. Примеров привел много: рост золотодобычи без увеличения числа людей; за короткий срок удвоение фонда предприятия; строительство новых производственных объектов и жилья; рост зарплаты на одну треть и производительности труда почти наполовину; обострение чувства ответственности за выполняемое дело; снижение производственных затрат за счет экономии; премии лучшим рабочим. Рассказал о новой стоимости пол-литра водки для прогульщика Ивана…
Дотошные, придирчивые вопросы сыпались один за другим. Эксперимент был слишком смел, глубина его многими не воспринималась всерьез: просто, мол, очередной «почин». Но после обсуждения уже всякому стало ясно, что по-старому работать теперь не может ни одно предприятие области…
— Какие вопросы предстоит решать в первую очередь? — спросил Рудаков.
— Материальное снабжение предприятий. Мы составили заявку на запасные части к экскаваторам и самосвалам на триста тысяч рублей, подсчитали точно по нормам. Фонд министерство спустило территориальному управлению лишь на сто тысяч, а получили мы их всего на сорок пять. Механизмы простаивают, мы имеем резервы, — ответил Степанов.
Столбов поднял руку:
— Хочу добавить про горный цех: если, скажем, на сборочном конвейере нет детали — конвейер останавливают, объявляется аврал. В горном цехе половина экскаваторов и самосвалов в простое, так аврал с другой стороны — загоняем работающее оборудование, как лошадь, пока она не остановится, даже профилактику машине делать нельзя.
— Еще один пример — обогатительная фабрика, вы были на ней, — сказал Степанов, обращаясь к Рудакову, — там проложено около четырехсот километров разных труб, из них ежегодно нужно менять хотя бы десять процентов. Вы же помните, кое-где и вода брызжет, и воздух свистит, а годовой фонд на трубы спустили лишь на два километра. За последнее время увеличился простой фабрики.
— Да что тут говорить! — закричал с места Пихтачев. — Зато комиссий всяких проверяльных на комбинат повадилось, все мероприятия сочиняют, нас, дураков, поучают, а директору каждый раз грозятся голову снести. А я так думаю: дали бы нам что положено по нормам для производства и сидели бы эти комиссии дома, сами бы делом занимались и нам бы не мешали работать. А кулаком стучать — ума много не требуется и делу от этого проку нет.
— Возмутительно, что он говорит!
— Говорю, что думаю, — отмахнулся Пихтачев.
— Виталий Петрович, отложи в сторону свой отпечатанный текст и ответь нам как коммунист: удовлетворяет тебя лично работа комбината? И хорошо ли ты руководишь им? — предложил Рудаков.
Члены бюро переглянулись. Кусков неодобрительно покачал головой: что это еще за новшества?
Степанов отодвинул от себя папку с докладом и, волнуясь, начал:
— Я поставлен в трудное положение… Обычно докладчик говорит о перевыполнении плана, перечисляет премии и награды, присужденные коллективу, и под конец, когда истекает регламент, бросает два-три слова о недостатках, на них всегда не хватает времени… Удовлетворяет ли меня работа комбината? Нет! Почему? Все еще низок, по сравнению с зарубежными фабриками, процент извлечения золота. Плохо используется богатая техника. У нас подчас нарушаются правила техники безопасности. Правда, в последнее время положение резко улучшилось, но еще многое предстоит сделать и в новых условиях… Есть случаи пьянки, прогулов… Ответ на второй вопрос напрашивается сам: руковожу плохо. — Степанов замолчал, ожидая вопросов.
— Тактика, ничего не скажешь, — криво усмехнулся Кусков.
— О людях мало заботитесь, товарищ Степанов, — сказал председатель облисполкома. — Долго строили, а построив новое помещение для столовой на обогатительной фабрике, как использовали?.. А ведь в старой столовой теснота, рабочие не успевают пообедать!
— Министерство продолжает менять планы. Пришлось временно занять помещение под фабричные нужды. Все подчиняем производству, — ответил Степанов, взглянув на Рудакова.
— У нас производство расширяется не ради производства, а ради блага человека, — заметил Попов.
Рудаков внимательно изучал членов бюро обкома: ведь ему предстояло работать с ними. У него уже сложилось мнение о Кускове — этот сухарь случайно попал на партийную работу. Заинтересовал Сергея Ивановича Попов, человек с трудной судьбой. Сергей Иванович узнал, что десятилетним мальчонкой Попов покинул нищий крестьянский двор отца: нужно было самому добывать пропитание, чтобы не протянуть ноги. Подпасок, дорожный рабочий, слесарь, боец Красной Армии в гражданскую войну, комсомолец, трижды раненный, награжденный за храбрость личным оружием… Потом — рабфак, в ленинский призыв передача из комсомола в партию, двадцатитысячник, партийная работа на столичном заводе. По мобилизации ЦК ВКП(б) Попова направляют в Забайкалье, где он руководит крупным партийным комитетом, затем в Ленинграде возглавляет райком. А в 1935 году его арестовывают, как врага народа. Два года ожидания в тюрьме, когда он прислушивался к каждому шороху за дверью. И лагерь. Потом реабилитация. Опять завод, опять война, опять ранения. Всегда он жил для людей… Сотрудники любили его за человечность, обращались к нему как к отцу родному.
— Недавно, — продолжал Попов, — я по поручению обкома проверял жалобу, был у вас на комбинате и не смог попасть к вам на прием. Вопрос-то невелик: о квартире пенсионеру, проработавшему четверть века на золотых приисках. А ведь не решен до сих пор. Это как понять? Мировых масштабов достигли, как говорят — бога за бороду схватили, так нечего церемониться с «винтиками»?..
— Пенсионер этот ни дня у нас не работал, а с жильем пока туго. Я не знал, что были вы, секретарь не доложила, — смущенно оправдывался Степанов.
— А я не назвался, пытался пройти в общем порядке… Один раз вы заседали, в другой — совещались да еще куда-то выезжали с комбината…
— Вызывают каждый день. И обязательно — директора, любой инструктор обижается, если к нему приедет не директор. Прямо кровная обида! А от этого страдает дело, — вздохнул Степанов.
— В том-то наша и беда: утрясаем, обсуждаем, ставим вопросы… а вот проявить о человеке заботу… порою недостает времени! Я столкнулся на комбинате с равнодушием ряда руководителей. А инженер, работающий спустя рукава, подчас наносит нам вред, который невозможно даже подсчитать. Конечно, за все это нужно спрашивать, Сергей Иванович, и с партийного комитета, не только с директора, — закончил Попов и тяжело, о присвистом закашлялся.
Рудаков вглядывался в лица присутствующих: все внимательно слушали, забыв о духоте, о времени. И пожалуй, внимательнее всех слушал Знаменский. Рудаков поймал себя на том, что все время почему-то наблюдает именно за ним. Знаменский для Сергея Ивановича оставался еще загадкой. Сейчас Сергей Иванович видел перед собою его лысую, яйцевидную голову с редким белым пушком, посаженную на длинную морщинистую шею, которая все время поворачивалась то вправо, то влево, словно у попавшего в туман гусака.
И вот Знаменский поднялся, заговорил:
— Товарищ Степанов в своем докладе, если это можно назвать докладом, пытался убедить нас, что для выполнения плана хороши все средства, включая разорение рабочей столовой. А по-моему, за этой якобы мелочью, каковой считает ее, по-видимому, директор, встает крупная проблема: выполнять план любыми средствами или только рациональными? Товарищ Степанов говорил, что по валовой продукции комбинат всегда выполнял план. Но бывали месяцы, когда план по золоту не дотягивали и валовка выполнялась за счет подсобных цехов — например, лесозаготовок. Валовка — ширма для нерадивых.
— План всегда считался и считается сейчас по валовой продукции, — бросил реплику Степанов.
— И очень плохо! — воскликнул Знаменский. — Комитет партгосконтроля проверил, сколько на вашем комбинате работают буровые станки, экскаваторы, бульдозеры. Всего десять часов в сутки! А вы каждый год составляете заявки на новые импортные станки! Что Плюшкин: он собирал старые подошвы, бабьи тряпки, железные гвозди и глиняные черепки… а вы беспардонно обираете государственную казну! Как вы можете спать спокойно? Или партийная совесть с вами только с девяти утра и до пяти вечера?..
Степанов, опустив голову, вычерчивал шариковой ручкой какую-то замысловатую геометрическую фигуру на одном из листков своего доклада. Ему не нравилось выступление Знаменского, оно было претенциозным, чувствовалось желание «заработать капитал», но многое из того, о чем говорил Знаменский, заставляло задуматься.
И Степанов думал о том, что еще недавно он ничего не знал, кроме процентов выполнения плана! Процентами оценивало начальство его работу, по процентам мерил он и своих подчиненных. Процент был идол, ему поклонялись. Теперь все меняется. Партийные органы интересуются природой каждой, цифры, спрашивают: почему она такая, а не другая, почему так, а не эдак? На все эти «почему» ответить трудно. Степанов признавался себе, что ему чего-то не хватает как руководителю, что-то теперь нужно менять и в себе, а что — он пока не представлял этого ясно.
— Что скажет секретарь парткома?
Столбов поднялся. Помолчал, собирался с мыслями.
— Скрывать не буду: еще недавно выколачивали план любыми средствами. Потому что только процентами совнархоз оценивал работу комбината. Мы больше штурмовали, чем работали с людьми. Новая реформа заставляет и партком разворачиваться, налегать на воспитание людей в борьбе за коммунистический труд. Все вопросы жизни рабочего человека теперь обсуждаются сообща в бригадах: уволить с работы, наказать ли за провинность, премировать за доброе дело, как устранить брак, бесхозяйственность. Обсуждаем сообща, почему понравилась книга или музыка, помогаем в учебе друг другу. К примеру, нанимается к нам человек — перед всей бригадой рассказывает о себе, о семье, о прошлой жизни, ну, бригада и решает, оказать ли доверие человеку, просить за него начальство или не стоит. Словом, один за всех и все за одного. С начальства стали спрашивать строже. Бывший начальник обогатительной фабрики Иванов в своей конторке либо спал, либо шумел непотребно. А в речи его всего два слова, повторенные тысячу раз: «я» да «я», «давай!» да «давай!». Собрали мы партком, ребята у нас правильные, отлупили его запросто, все черным по белому расписали, у этого попугая перья повыдергали и к флотмашине поставили, там дремать не станешь, — широко улыбаясь, рассказывал Столбов.
В комнате повеселело, Кусков громко бросил:
— Молодцы! Вот что значит партийные работники!
Рудаков не оставил без внимания эту реплику:
— Не нужно, товарищ Кусков, противопоставлять партийных работников хозяйственным, советским и другим. Нет такой у нас пожизненной специальности «партийный работник»: сегодня тебя избрали в партийный орган — ты партийный работник, а завтра в советский — ты советский работник. Все мы работники партии, партия руководит всем, она за все в ответе… А вот расскажите, товарищ Столбов, какие это такие у вас новые формы товарищеского суда появились?
— Самосуд, — бросил Знаменский.
Кусков согласно качнул головой.
— Наша недоработка: не до всего руки доходят, — уклончиво ответил Столбов.
Теперь решил выступить Пихтачев:
— Я без дипломатии скажу. Законы наши против пьяниц и бездельников никудышные. Прогульщика надобно под зад коленкой, а суд с профсоюзом велят его, как в детсаду, воспитывать и поучать: пить, дяденька, плохо, а работать — хорошо. Когда без счета работали, мы терпели такое вежливое отношение, а теперь не можем — экономика не велит, ясно? Старая байка «золото мыть — голосом выть» устарела. Нам велят принять Варфоломея, а мы решили взад пятки не ходить. А что на тачке в разрез вывезли, не урон ему, а польза — пополоскал одежонку.
— Нужно наказать Пихтачева за одни такие разговоры! — возмутился Кусков.
— Известно — покатись под откос, а за пеньками дело не станет, — огрызнулся Павел Алексеевич и сел на стул.
— Товарищ Пихтачев, с партийными органами следует разговаривать на «вы», — назидательно заметил Кусков.
— Понимаем, нам тоже не два по третьему годку, — буркнул Пихтачев.
— Эх, Павел Алексеевич, давно тебя знаю, а смотрю — все такой же партизан… — Рудаков покачал головой.
В разговор вмешался Попов:
— По закону — незаконно, а по-человечески их можно понять. Нахлебников кормить кому охота!
Рудаков задумался. По форме следует в протоколе заседания бюро обкома обсудить факт самосуда, предложить наказать виновных, устроить обсуждение на парткоме комбината… Но он решил иначе. Обратись к Степанову и Столбову, сказал:
— Отрегулируйте вместе с райкомом партии этот конфликт на месте и впредь не допускайте подобных глупостей!
— Сергей Иванович, следует записать в протокол заседания бюро, дать оценку и наказать виновных! — предложил Знаменский.
— Не всякий раз, увидев метлу, надо искать ведьму, — заметил Рудаков.
Все рассмеялись, и лишь Кусков, видимо, боясь, что ему когда-нибудь, где-нибудь, кем-нибудь может быть предъявлено обвинение в либерализме, возразил:
— Местная партийная организация не поймет нас.
— Наши коммунисты поймут, что им оказано доверие самим решать подобные дела, — заметил Столбов.
— И все же я остаюсь при своем мнении, — заявил Кусков.
— Понятно. Кто еще возражает? — спросил Рудаков и посмотрел на Знаменского.
— Я снимаю свое предложение, — ответил тот.
— Теперь о резолюции, что подготовил наш промышленный отдел. Ее следует переработать: не громить, а помочь руднику, отметить положительные итоги экономического эксперимента. В связи с этими итогами ряд вопросов нужно записать в адрес министерства, поставить перед ЦК — это должен сделать обком, мы с вами. Согласны?
Члены бюро поддержали Рудакова. Но Кусков уточнил:
— А как с взысканием Степанову? Он же директор.
Рудаков невольно вспомнил о Северцеве… Это Кусков виноват в том, что того выжили из области. Деловую принципиальность Северцева Кусков, как говорили, почему-то принимал за личное неуважение к своей персоне и бесконечно придирался к нему, укоряя даже в моральной неустойчивости, разводе с женой и связи с другой женщиной. «Зря потеряли ценного работника…» — с горечью подумал Рудаков.
— Партбилет у всех одного размера. Что вы предлагаете?
— Ну, выговор… Можно без занесения в учетную карточку, но записать нужно: ведь товарищ Степанов сам признался, что руководит комбинатом плохо, одним планом занимается.
Рудаков пожал плечами.
— Наше поколение всю жизнь боролось за план… — возбужденно заговорил он. — Мы были счастливы, когда он выполнялся! Боялись, когда он срывался. С меня спрашивали план, и я требовал: кровь из носу, а чтобы план был!.. Мы воспитывались на директивном «даешь план!», и у нас не было времени подумать: как даем?.. Сейчас наша жизнь во многом изменилась. Команда уступает место расчету. Мы стали по-хозяйски заниматься и техникой, и экономикой… Мы долго не доверяли друг другу, мы даже не доверяли самим себе. Старые привычки живучи, они сидят в нас, их нужно преодолевать. Но только не выговорами! Новые времена — новые песни. Этим песням надо учиться! А критиканством, заклинаниями экономику не сдвинуть…
Степанов вышел с заседания по-хорошему растревоженный, он понял: ожидают, что он будет работать лучше, чем до сих пор…
Пихтачев воспринял решение бюро обкома по-своему.
— Откричались от партийного начальства — и по домам! — объявил он.
Столбов показал ему кулак, но Пихтачев быстро нашелся:
— Не шебарши, паря! Лучше покажи его, кулак-то свой, этому, босому на голову…
Открылась дверь. Сергей Иванович, натягивая на плечи пальто, заканчивал какой-то разговор с Поповым. Оба выглядели озабоченными.
— Виталий Петрович, — на ходу обратился Рудаков к Степанову, — должен извиниться перед тобой! Думал пригласить после бюро к себе на чаек, но придется перенести встречу: едем вместе с председателем облисполкома на завод горного оборудования. Там какая-то авария…
— Хочу поблагодарить тебя: если бы не ты, была бы мне прописана ижица, то есть резолюция, — сказал Степанов, пожимая руку Рудакову.
— Разве в ней дело? Знаешь, что сказал о резолюциях Маяковский? Резолюция — что покойник: пока выносят — все волнуются, а вынесут — все забудут. Будь здоров, не исчезай надолго! — Уже с порога Рудаков помахал ему рукой.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
1
Михаил Васильевич лежал в одноместной палате, окно которой выходило в старый больничный сад, и смотрел, как раскачиваются голые ветви толстой березы, роняя на ветру снежные пушинки. Медленно перевел взгляд на забинтованную левую руку. Шевельнул ею и поморщился — обожженная рука отозвалась резкой болью.
Он все не мог привыкнуть к мысли, что он в московской больнице, что рядом с ним на стуле дремлет его бывшая жена Анна, что он, как утверждает доктор, чудом остался жив… Сколько времени он здесь — час, сутки, месяц, год?
Анна всхрапнула, испуганно открыла глаза и, поспешно схватив с белого столика склянку, стала капать в стаканчик желтую микстуру.
— Прими, Миша, уже время, — передавая стаканчик, попросила она.
Северцев выпил лекарство и закрыл глаза.
Мысленно он видел приоткрытый рот дремавшей Анны, бороздки морщин на ее одутловатом лице, выбившиеся из-под белой косынки седые пряди волос, покрашенных в рыжий цвет.
Чем-то она раздражала его, он чувствовал облегчение, когда оставался один.
Анна громко вздохнула и прошептала:
— Доктор сказала мне, что дело идет на поправку, через месяц отпустят тебя. Я увезу тебя в старый дом, а твою однокомнатную квартиру отдадим Виктору. Нечего тратить ему деньги на комнату. — Она протянула руку и погладила Михаила Васильевича по голове. — Горемыка мой!.. Почти десять лет по ее милости бродяжил… а теперь чуть совсем не отдал богу душу!..
— Оставь в покое хоть память о ней, — тихо попросил Северцев.
— Нет ее, а все равно ненавижу… — начала было Анна, но осеклась: в дверях показался белый халат.
— Как самочувствие? — спросила маленькая женщина в белом халате.
Она была без косынки, густые черные волосы спадали на глаза. Вошла, склонив голову — то ли в задумчивости, то ли по привычке.
— Хорошее, — ответил Северцев.
Она посмотрела на него спокойными карими глазами, и Северцеву стало как-то тепло от их ясной, доверчивой чистоты. Приветливо кивнув головой Анне, врач устало опустилась на стул около кровати и, взяв здоровую руку больного, стала прощупывать пульс.
— Елена Андреевна, я достала новое лекарство! — протягивая коробочку, сказала Анна.
Елена Андреевна повертела коробочку в руке и отдала Анне.
— Часто новое — это просто забытое старое. Например, модное теперь иглоукалывание было известно тибетцам много тысяч лет назад…
— Устали?.. Сестра говорила, что вы делали очень сложную операцию!
Елена Андреевна отпустила руку Северцева и, как бы говоря сама с собой, ответила:
— Людей лишают жизни по-разному. Бандит убивает из-за денег, ревнивец убивает, сходя с ума, шофер — случайно… А что делают хирурги? Борются за жизнь человека, но не всегда умело… Хирург должен быть великим мастером. Но чтобы научиться мастерству, нужна практика. Испорченные во время этой практики вещи — люди… — с горечью добавила она. — Сейчас мне хочется сбросить этот халат и больше никогда не переступать порога операционной… — И резко перевела разговор: — У вас все нормально, скоро начнем учиться ходить…
Не успела уйти Елена Андреевна, как в дверь постучали.
— Можно к вам? — услышал Северцев знакомый голос. В дверях стояли Виктор и Виталий Петрович Степанов.
Виктор поцеловал мать, подошел к отцу, легонько пожал здоровую руку. Виталий Петрович поставил у кровати сумку с апельсинами, на столик — круглую коробку с тортом.
— Ничего, паря, бравенький, — глядя на больного, изрек Степанов.
— Спасибо, что решили навестить! Ты, Виталий Петрович, когда с Кварцевого? — спросил Северцев.
— Только что с аэродрома, прилетел в Москву за песнями. Точнее — ругаться по поводу административных восторгов главка. — Степанов сел на стул, достал пачку сигарет и, вспомнив, где он находится, поспешно спрятал ее в карман. — Кварцевому, как и третьему комбинату, в начале года министерство установило одинаковые плановые прибыли. Мы их значительно перекрыли, за счет внеплановых прибылей удвоили фонд предприятий. Хорошо? Вдруг на днях узнаю: нам задним числом вдвое увеличили плановые прибыли, соответственно, сам понимаешь, сократился наш фонд. Куда же ушли, ты спросишь, наши денежки? На третий комбинат: ему уменьшили за наш счет отчисления в государственный бюджет. Ловко? Видал фокус-мокус? Деньги наши — стали ваши, — гремел Степанов.
Анна попросила его разговаривать, учитывая больничный режим, потише.
— Все еще наваливают на тех, кто везет, а не на тех, кто путает постромки. Нерадивых пристяжных ставят в лучшие экономические условия, чем коренников! — продолжал возмущаться Степанов.
Северцев понимающе качнул головой и добавил:
— Опять пытаются водить предприятие на сворках главка, райфинотдела и прочая и прочая. По-моему, потому, что не доверяют руководителю, партийной, профсоюзной организациям. — Он тяжело вздохнул, вспомнив стычку с Филиным.
Степанов сообщил новость: летит в Англию, на Международный горный конгресс, и посетовал на болезнь Северцева — полетели бы вместе. Потом собрался уходить, пожелал Северцеву скорейшего выздоровления. О размолвках у Светланы с Виктором не обронил ни слова. И ушел устраиваться в гостиницу.
Анна вопросительно взглянула на сына:
— В квартире все в порядке?
— Да, я навещаю через день, — ответил Виктор, присаживаясь на кровать.
— Опять с женой повздорили? — с притворным осуждением предположила Анна.
— Что нового в институте? — спросил Михаил Васильевич.
— Все по-старому. Ждут тебя, просили передать приветы. У меня тоже по-прежнему: увлекаюсь подводной добычей, — сдержанно ответил Виктор.
— У вас со Светланой нелады?
— А у кого их нет… У вас, что ли, было лучше?.. Ей, видите ли, не нравится наша московская жизнь, хочется уехать в Сибирь!
— Вот уж, как говорится, скатертью дорожка! — вырвалось у Анны.
Виктор неприязненно посмотрел на нее.
— Мама, хватит тебе изводить Светланку… Она моя жена. Я люблю ее.
— Конечно! Любовь… Ночная кукушка всегда дневную перекукует. А тут еще ребеночек будет… — не унималась Анна.
— Успокойся, его не будет, — резко сказал Виктор.
Михаил Васильевич слушал, еле сдерживаясь. Разрядил нараставшее напряжение Виктор.
— Мне пора, — взглянув на часы, сказал он. — Светлана просила прийти сегодня домой пораньше.
Северцев уловил, как ему показалось, фальшь в словах сына и подумал, что идет он совсем не к Светлане, а к той женщине, которая, возможно, встала между ними: Светлана как-то намекнула на то, что у Виктора кто-то есть…
Анна вышла проводить сына.
Оставшись один, Михаил Васильевич с облегчением вздохнул. Его утомил разговор, хотелось забыться. Он закрыл глаза и слышал отдаленный благовест, проникающий в открытую форточку.
Ожили в памяти картины далекого детства, субботние всенощные, с которых он удирал играть с ребятишками в бабки, на паперти храма, за что и получал выволочку от своей богомольной бабушки… Что только не вспоминается в больнице!
После ужина зашла Елена Андреевна, — как она выразилась, «на огонек». Северцев угощал ее тортом, апельсинами. Она отказалась. Видно было, как она нервничает, — сегодня очень тяжелый день: только что умер еще один больной. Она подошла к окну, приоткрыла форточку и закурила.
— Многие сожалеют о том, что не успели сделать в жизни, а я сожалею о том, что сделала…
Она затянулась несколько раз сигареткой.
— Жизнь и смерть. Сколько стоит за этими извечными словами… — выдыхая в форточку дым, говорила она. — Поэты и ученые пишут и будут писать об этом всегда… А по утверждению моего знакомого профессора, все куда как просто: живые системы отличаются от мертвых только сложностью. Наши земные живые существа построены из белковых тел. Из них созданы структуры, способные к саморегулированию, причем на разных этапах сложности. Микроб усваивает азот из воздуха. Червяк воспринимает самые простые воздействия, и его поведение ограничено несколькими типичными движениями. Это — как информация, которую он отдает вовне. Человек же способен воспринять и запомнить огромное множество внешних влияний. Его движения крайне разнообразны. Но это только машина, которая работает по очень сложным программам. Когда-то это звучало кощунством, потому что люди умели делать лишь совсем простые вещи, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что создала природа. Теперь все изменилось, или, вернее, будет все больше и больше изменяться. Недалеко то время, когда человек создаст сложные электронные машины, способные смоделировать жизнь.
Северцев слушал внимательно, но при последних словах Елены Андреевны протестующе вытянул руку.
— Да, да, жизнь, дорогой Михаил Васильевич! Мой профессор утверждает, что они будут думать, чувствовать, двигаться. Они смогут понимать и писать стихи. Разве их нельзя назвать живыми?.. Неважно, из каких элементов построена сложная система — из белковых молекул или полупроводниковых элементов. Дома строят из разных материалов, а функция их одна и та же…
— Все, что вы говорите, Елена Андреевна, я и сейчас воспринимаю как кощунство, — не стерпел Северцев.
— Откровенно говоря, меня тоже не устраивает такая перспектива рода человеческого… — засмеялась она. — Но, может, тогда все станет проще?..
— Вслушиваясь в то, что занимает ваши мысли, я думаю, что вы просто-напросто отчаянно устали. Шли бы вы домой, к Василию Павловичу!.. Ничего здесь не случится за ночь.
— Василия Павловича сейчас нет в Москве. Мы видимся редко… Телеграмма и та для меня праздник. — И вдруг Елена Андреевна спросила: — Из больницы вы вернетесь в Сокольники, правда?
— А вы разве в адвокатах у Анны?
Вошла сестра и тихо сказала:
— Доктор Георгиева, скорее в пятую палату, к Яблоковой!.. Прошу вас, пожалуйста, поторопитесь!.. — И выбежала из комнаты.
Северцев устало опустил веки. Но уснуть он не смог. И снова открыл глаза.
Окна большого дома напротив раскрашивали облицованный белой плиткой фасад розовыми, голубыми, желтыми огоньками. Они появлялись и исчезали, рисуя на доме, как на огромном электрическом табло, то гигантскую, от первого до десятого этажа, латинскую букву «L», то русские «К» и «П», то шахматную доску… Северцев уже научился по этим световым комбинациям приблизительно узнавать время.
«Одиннадцать. Пора спать. Пора спать».
2
Виктор сказал отцу правду. Он шел к Светлане. Сегодня предстояло неприятное объяснение.
Рита мстила ему за разрыв: узнав его новый адрес, писала письма, которые попадали в руки Светланы. Светлана их никогда не распечатывала, передавала ему. Виктор тоже не читал этих писем, тут же рвал их и бросал в мусоропровод. Светлана ни о чем его не спрашивала. И только сегодня, позвонив ему на работу, взволнованно попросила оградить ее теперь уже от наглых телефонных звонков его бывшей возлюбленной… Виктор не знал, что ему делать, как убедить Риту, чтобы она не мешала им жить… Встретиться с ней, попытаться усовестить? Вряд ли это остановит ее… Уехать со Светкой на Кварцевый, поставив тем самым крест на своей научной карьере?.. Он чувствовал: его нерешительность может дорого ему стоить, он потеряет Светланку… Он знал, что просыпался утром, чтобы увидеть ее, услышать ее голос, погладить ее шелковые волосы, понять — в который и который раз, вчера, сегодня, завтра, всякий раз с новой силой, — какое это счастье, когда она рядом!..
Виктор с тяжелым чувством вины вспомнил, что после безобразной сцены, которую устроила из-за прописки Светланы на их площади его мать, он не будет сейчас отцом…
Недавно Виктор со Светланой сняли комнату в одном из больших домов на Ленинском проспекте. Комната была светлая и почти пустая — книги лежали стопками на полу, одна стена была завешена огромным ковром, свадебным подарком Виталия Петровича. Ковер свисал на матрац, заменявший тахту. Стола в комнату они еще не купили, на стуле лежала клеенка, на ней стояли стаканы, тарелки — здесь все было временно, необжито, неуютно.
…Светлана сидела на матраце и, поставив машинку на деревянный ящик, что-то печатала для заработка. Виктор присел с другой стороны матраца и виновато посмотрел на жену.
— Я знаю, что все мужчины — мужчины не только для одной женщины, и ты, как мне ни горько, исключения из этого правила не составишь. Об одном прошу тебя — и сейчас, и на все время: устраивайся так, чтобы не ставить меня в глупое положение. Обедать будешь? — спросила она.
Виктор отрицательно качнул головой.
Что сталось со Светланой? После аборта она похудела, кожа на лице стала прозрачной. Особенно удивляло Виктора выражение ее больших голубых глаз — будто говорила она не о том, о чем думала.
Светлана накрыла футляром машинку и замерла на месте.
— Что ты молчишь?
— А что говорить? — ответила она, не поворачиваясь.
— Что же, давай помолчим вместе, — ответил Виктор.
— Мы теперь, Витя, даже молчим не вместе, а врозь… Где-то слышала я или прочитала такое выражение.
— Я знаю, что ты скажешь: не проверили своих чувств, мало ждали друг друга, и вот финал, — разведя в сторону руки, сказал он.
Светлана возразила: ждать любимого человека, годами не видя его, пожалуй, легче, чем прожить с ним бок о бок, скажем, два-три года и сохранить при этом всю силу своего чувства. Только время, совместно проведенное любящими, мерит силу и прочность любви. Но случается и так, говорила она, что тихая жизнь, иногда даже схожая со счастьем, и бывает той подводной мелью, на которой гибнет влюбленность. Светлана предлагала Виктору уехать на Кварцевый, на любой другой рудник, где нет проблем прописок, жилья, дележа копеек, той обыденности, которая убивает ощущение первых дней любви! Каждодневность, совместное прозябание в этой комнате — страшнее любых трудностей, которые ждут там. Не всем дано иметь талант быть всегда неповторимым, новым, оставаясь при этом самим собой… Она больше не может обманывать ни себя, ни его.
— Ну уж, это слишком!.. — холодно сказал Виктор. — Хорошо, я подумаю. Мать просила присмотреть за квартирой. Пока она в больнице у отца, я буду ночевать там. — И он ушел.
Светлана присела на матрац, зябко кутаясь в шерстяную кофту. Она, конечно, не станет проверять, где будет эти дни и ночи Виктор. До такого унижения еще не дошла. Но она убеждена, что Виктор встречается с этой Ритой… Сегодня был очередной звонок по телефону: Рита представилась ей как старая любовь Виктора…
Светлана решила, что завтра же пойдет в больницу к Михаилу Васильевичу и все расскажет ему. Она-то лучше, чем отец, теперь знает Виктора. Виктор часто киснет, впадает в уныние, нервничает — с диссертацией у него долго не клеилось, менялись темы, приходилось все начинать сызнова. Светлана верила в него и переливала ему, как кровь, свою веру — подбадривала его, заставляла не сдаваться.
Она подавляла многое в себе, чтобы быть ему подругой, товарищем. Жили они туго, она во всем отказывала себе, у нее было единственное приличное платье, одни туфли… Все деньги, присылаемые Степановым, шли на еду, потому что Виктор половину зарплаты по-прежнему, как он утверждал, отдавал матери. Все чаще Светлана садилась за пишущую машинку. Виктор теперь раздражался из-за плохо выглаженных носовых платков, подгоревшей яичницы. Мелкие неурядицы портили им жизнь.
И в то же время она знала, что Виктор любит ее, дорожит ею. Так что же она скажет Михаилу Васильевичу, о чем будет просить его?
Ничего она ему не скажет и ни о чем не попросит. Она сама должна найти решение, как сохранить Виктора.
Душа ее покрывалась морщинками, хотя на лице их пока не было видно.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
1
Как только самолет приготовился к старту, около кресла Степанова остановилась стройная стюардесса с подведенными враскос черными бровями и ресницами, с высокой, похожей на воронье гнездо, прической. Мелодичным голосом она объявила номер рейса, фамилию командира корабля, свое имя, высоту и скорость полета и потребовала, чтобы пассажиры пристегнули ремни, во время взлета воздержались от курения.
В иллюминаторе проносились кучевые облака. Пассажиры читали газеты или дремали. Дремал, опустив голову на грудь, и сосед Виталия Петровича Фрол Столбов.
Расстегивая ремень, Степанов случайно толкнул Фрола, тот открыл удивленные глаза и сладко зевнул.
— С непривычки спишь-спишь, и отдохнуть некогда…
Они разговорились о предстоящем горном конгрессе: что нового и интересного можно ожидать от него?
— Увидим мы какое-нибудь заграничное чудо-юдо? Как у них с автоматизацией — по рекламам здорово, а в натуре?
— Нас удивить теперь трудно. Англичанина, что изобретал за машиной машину, мы мудрецом больше не считаем — сами с усами, — заметил Фрол.
— А вот Ленин говорил чуточку по-другому: что нужно максимально использовать в строительстве социализма достижения науки и техники развитых капиталистических стран. Помнишь ведь? Помнишь, помнишь… Больше того — Владимир Ильич требовал установить ответственность за ознакомление наших хозяйственников и специалистов с передовой европейской и американской техникой… Так что, дорогой, конгресс конгрессом, но мы должны попытаться побывать на предприятиях, в фирмах, выставку не обойти…
— Конечно, посмотрим их премудрости! Кто же говорит… Но все думается: если бы мы не шарахались порою из стороны в сторону, не то бы и у нас было… — проговорил Фрол.
Нажав кнопку, он откинул спинку кресла назад и взглянул в окошко. Самолет висел на месте — медленно двигались облака. Река извивалась под самолетом, и сколько мог охватить глаз, везде сверкали в темно-зеленой оправе синие озера.
— Слишком уж много мы на всяких разных заседаниях переливаем из пустого в порожнее, делая при этом вид, что заняты полезным делом! Иногда мне кажется, что слова и бумажки — это что-то вроде наводнения… — Фрол кивнул головой.
— Все это видят, но когда предлагаешь даже очень робкие меры — дать элементарную самостоятельность в работе, твои собеседники сразу затыкают уши, и ты можешь кричать до хрипоты без всякого толка. Вату из ушей вынут только тогда, когда последует указание свыше, — усмехнулся Степанов. — Мы подчас пытаемся решить технические проблемы разными комиссиями по качеству, — словом, частенько больше шумим, чем занимаемся техникой и экономикой производства. В этом я убедился на примере Кварцевого комбината, — со вздохом закончил он.
Стюардесса принесла завтрак. Теперь под крылом самолета плыли голубые ленты каналов, желто-белые полоски дамб и дорог, красные черепичные крыши и зеленоватые, разных оттенков, лоскутики земли с черно-белыми стадами коров. Ни одной возвышенности, плоские, как доска, поля, упирающиеся в сероватое море. Это Голландия.
Когда приземлились в Лондоне, было по-осеннему туманно и прохладно. За окном автомобиля мелькали бесчисленные двухэтажные кирпичные коттеджи с крохотными садиками, цветочными клумбами. Ехали долго: на узеньких улицах, забитых автомашинами, ползли по-черепашьи.
Наконец добрались до огромного зеленого парка и свернули на тихую улочку. Старое здание, модернизированное остекленным входом, — отель. Здесь все миниатюрно — и бар, и ресторан, и номера.
Из окна комнаты Степанова видны только красные крыши — нагромождение черепичных крыш с торчащими закопченными трубами. Виталий Петрович разобрал чемодан, повесил в шкаф черный костюм, принял душ и стал просматривать делегатскую папку.
Все документы конгресса отпечатаны на четырех языках, в том числе и на русском, — тезисы докладов, обширный справочный материал, приглашения на приемы.
«Человек в своей деятельности, — читал Степанов, — использует все больше и больше химических элементов, добываемых горняками. В XVIII веке люди использовали 28 химических элементов, в XIX веке — 50, в начале XX века — 59 элементов, сейчас число их продолжает расти. Состояние горной промышленности, размеры добычи полезных ископаемых определяют богатство страны, ее могущество и процветание.
Сказочно возрастают масштабы добычи, за столетие ежегодное потребление железа, марганца, меди и каменного угля увеличилось больше чем в пятьдесят раз, а потребление алюминия, калия, молибдена и вольфрама — в 200—1000 раз.
Многие отрасли народного хозяйства — черная и цветная металлургия, химия, коксохимия, энергетика, химия минерального сырья для сельского хозяйства, строительства и ряд других требуют от горняков дальнейшего увеличения добычи полезных ископаемых, чего можно добиться лишь на базе комплексного использования достижений физики, химии, механики, электроники, математики, на базе широкого технического прогресса».
Все это было известно Виталию Петровичу. Приятно было чувствовать гордость за свою профессию, за то, что и он солдат великой горняцкой армии.
Он решил выступить на конгрессе, рассказать о делах мировой горняцкой державы: ведь по добыче угля, железной руды и других важнейших ископаемых мы обогнали всех!
Степанов сел за письменный столик и, как всегда, не откладывая исполнения, если решение уже принято, стал записывать тезисы будущего выступления.
2
Под высокими сводами шумел разноязыкий говор. В ожидании открытия конгресса люди знакомились, обменивались визитными карточками. У всех делегатов были нагрудные знаки с фамилией и названием страны. Это помогало устанавливать контакты.
К Степанову подошел болгарин и заговорил с ним по-русски:
— Очень рад познакомиться, товарищ Степанов! Я стажировался у вас в Донбассе. Хорошие шахты! Пойдемте спрыснем, как у вас говорят, наше знакомство и выпьем по чашечке кофе, хотя мне больше нравится водка!.. — смеясь, предложил он.
— Приходите к нам в гостиницу, угостим «Столичной»! — пригласил Степанов.
Продолжительный звонок заставил делегатов поспешить в Красный зал.
Ударом молотка председатель открыл конгресс. Репортеры кино и телеоператоры запрудили проходы, щелкали камерами, ослепляли вспышками магния.
Одним из первых выступил Степанов. Немного волнуясь, он заговорил:
— Поистине грандиозны в нашей стране перспективы развития горного дела. В угольной промышленности создаются новые добычные районы на Украине, в Казахстане, в Российской Федерации. Значительные перемены происходят в железорудном деле. На рудах Курской магнитной аномалии растет один из главных в мире центров добычи железных руд. Строятся новые центры цветной металлургии на Урале, в Сибири, золотые предприятия — на Востоке, и много других… Словом, мы добываем все металлы таблицы Менделеева.
Сенсацией стало сообщение мандатной комиссии о том, что наряду с миллиардерами и миллионерами, владельцами горных предприятий, президентами и управляющими компаний и фирм, крупными учеными специалистами из западных стран в составе советской делегации присутствует простой горнорабочий мастер Столбов. В перерыве его фотографировали, журналисты многих редакций брали интервью. Вечером к нему в номер зашел Степанов и принес пачку вечерних лондонских газет, в одной из них была оттиснута фотография Фрола и дано краткое изложение доклада Степанова под заголовками: «Россия обгоняет США по добыче полезных ископаемых», «За космосом — недра». Фрол спросил:
— Зачем все это?
— Видимо, новая советская экономическая угроза, — усмехался Степанов.
Конгресс заседал уже несколько дней. Хотя доклады переводились синхронно на три языка, слушать их было очень утомительно — нового в докладах встречалось мало. Заинтересовались докладом о «шахте будущего». На этой шахте, по утверждению докладчика, ни один шахтер не будет работать в угольном забое, вместо них зарубку и отбойку угля произведет автоматический шахтер Рольф с гамма-лучевыми «глазами». Все подземные операции координируются с помощью эффективной системы связи, и люди будут использоваться лишь на профилактическом обслуживании машин.
В перерыве Степанов и Фрол просмотрели программу заседаний на завтра и, не найдя интересующих их докладов, решили пойти на выставку горных машин.
— Не забудь еще о завтрашнем приеме у мэра города, приведи в порядок свой туалет. Фрак ты непростительно забыл дома, так отгладь черный костюм и белую рубашку, — напомнил Степанов.
3
В огромном выставочном зале «Олимпия» сотни фирм мира демонстрировали горное оборудование.
Почти целый день Степанов и Фрол бродили от машины к машине и от стенда к стенду, отыскивая если не диковинки, то хотя бы новинки. Среди сотен и сотен экспонатов их внимание привлек буровой станок, покрашенный яркими желто-красными полосами. Степанов посмотрел паспорт станка — он был более скоростным, чем известный ему по рекламным проспектам, — и подумал, что следует порекомендовать министерству приобрести этот станок для Кварцевого комбината.
Степанов и здесь, на выставке, проявлял свой хозяйский нрав — заставляя служащих «Олимпии» запускать станки в работу, объяснять их технические достоинства, доставать каталоги, фотографии.
— Ты их, Виталий Петрович, так гоняешь, что они убеждены — скупишь половину выставки, — шутил Фрол, тоже детально осматривающий экспонаты.
Миновав еще сотни экспонатов, они остановились и долго осматривали самоходные машины для подземных работ — специальные буровые станки, погрузчики, автосамосвалы, — несравненно более производительные, чем их собратья на рельсовом ходу.
— Эти машины очень подойдут к горно-геологическим условиям Рябинового месторождения, — объявил Степанов, записывая данные машин в свой блокнот.
На дворе у выставочного зала фирмы «Корона» Степанов залез в кабину стоявшего здесь огромного красного самосвала, который, как гласила табличка, вместе с прицепами перевозил сразу двести тонн руды. Виталий Петрович повертел баранку, нажимал на педали, потрогал ручку тормоза и, убедившись, что самосвал не пустая реклама, крикнул через окно Фролу:
— Запиши: на Кварцевый таких десяток нужно!
Усталые, они напоследок забрели в бар, взяли по бутылке кока-колы. Стаканов не полагалось, пили из горлышка.
Потягивая напиток, Степанов обдумывал свою докладную записку министру: нужно обязательно просить его приобрести импортное оборудование для горных работ Кварцевого рудника. Он не сомневался, что затраты будут быстро оправданы.
Виталий Петрович подводил итоги посещения выставки и, со вкусом затягиваясь сигаретой, думал о красном самосвале, хотя мало верил в то, что министерство согласится потратить на приобретение этих машин дефицитную валюту.
Тут от вспомнил о своей валюте и нащупал в кармане русско-английский разговорник — решил сходить в магазин за подарками жене, дочке и зятю. Невольно возникло беспокойство: как там молодые, все еще бунтуют?
С рюмкой в руке подошел к Виталию Петровичу полный, розовощекий мужчина в ослепительно белой манишке. На лацкане его пиджака был приколот нагрудный знак: «Мистер Бастид, Франция».
— Вы москвич, месье Степанов? — спросил ой по-русски, искоса взглянув на степановский нагрудный знак. — Как поживает Москва? Я очень полюбил этот великий город, у меня там есть друзья — профессор Проворнов. Вы не знаете такого?
— Знаю, как же.
Они заговорили о том о сем, потом Бастид рассказал о своей фирме, о поездке в Москву, о выставке. Он похвалил Степанова за блестящую речь — коллега, бесспорно, очень крупный и знающий инженер! — и предложил выпить за здоровье оратора. Утверждал, что теперь нам нужны тесные контакты — горняки мира одна семья, им нужно дружить. В его фирме есть французы и немцы, англичане и американцы, испанцы и канадцы, и нет, к сожалению, только русских. Во время разговора Бастид смеялся, хотя глаза его оставались грустными, и Степанов понял, что его собеседнику вовсе не весело.
— Я торгую здесь нашим горным оборудованием. Прекрасная выставка, не правда ли? — спросил Бастид, боком протискиваясь между высокими стульями и усаживаясь у стойки, рядом с Фролом.
— Выставка понравилась. Есть интересные образцы и вашего оборудования. Я тут даже старых знакомцев узрел — скребковые комбайны и проходческие машины, — ответил Фрол.
— Почему знакомцев? — спросил, улыбаясь, Бастид и с интересом посмотрел на собеседника.
— Это наши, советские конструкции, фирма «Корона» сделала машины по закупленным у нас лицензиям.
Бастид удивленно посмотрел на Степанова, тот утвердительно кивнул головой и добавил:
— У нас прочные и давние торговые связи с этой фирмой, как, впрочем, и с рядом других фирм. Она закупает у нас на валюту лицензии и горное оборудование, мы в свою очередь покупаем у нее мощные бульдозеры и самосвалы — купцы заключают лишь взаимовыгодные сделки.
Наступила длинная пауза. Потом Бастид снова стал расхваливать Степанова за выступление и выразил сожаление, что не слышал сам, знаком лишь через газеты.
Глотнув вина, он обратился к Степанову:
— Вы читали последние газеты? Из России выдворен консультант нашей фирмы инженер Макс Зауэр. Я его давно знаю и могу поручиться, как говорят у вас, собственной головой. В России стали хватать бизнесменов, вина которых состоит лишь в том, что они хотят с вами честно торговать! Опять наступает средневековье? — Бастид иронически оглядел русских.
— Видно, месье Бастид, вы плохо знали вашего сотрудника. У вас только одна голова, не прозакладывайте ее! — усмехнулся Степанов.
— С вами трудно иметь серьезные дела. За простое общение с нами, иностранцами, у вас людей подвергают остракизму. Это называется мирным сосуществованием?
— Месье Бастид, не по нашей вине дела с вашей фирмой не спорятся, — убежденно возразил Степанов.
Его поддержал Фрол:
— Оборудование ваше, как говорится, не первой свежести, и консультант Зауэр на Кварцевом руднике другими делами интересовался. Это я точно знаю, сам оттуда.
От этих слов Бастид опешил и тихо пробормотал:
— Приглашаю вас в лондонский филиал нашей фирмы. Приходите, пожалуйста! Будем рады. — Бастид передал Степанову карточку с адресом и, улыбаясь, продолжал: — Может быть, вам что-нибудь приглянется у нас — мы, как вы сказали, тоже купцы и охотно торгуем и с ангелами, и с дьяволами.
4
Надев черный костюм, Степанов с группой делегатов отправился на прием в столичную ратушу.
Долго шли по узким кривым улицам и незаметно очутились на территории Сити, угрюмого безлюдного района.
В ратуше делегатов приветствовали гигантские статуи Гога и Магога, гербы различных гильдий, образующие красочный фриз. В полумраке огромного зала горели свечи, слышен был гул приглушенных разговоров. Мэр города появился в традиционном облачении, с большой золотой цепью, свисающей на грудь и спину, церемонно раскланиваясь по сторонам.
— Добрый вечер, господин Степанов! — вежливо улыбаясь, приветствовал Виталия Петровича Бастид. Черный фрак скрадывал его полноту. — Вы знаете, что находитесь в самом логове империализма — лондонском Сити? Площадь Сити равна всего одной квадратной миле, но, как шутят англичане, эта миля — самая богатая в мире.
Он взял Степанова под руку и повел вниз, в каменный подвал, где, сидя на грубых деревянных скамьях, привалившись к огромным деревянным бочкам, какие-то люди, покачиваясь из стороны в сторону, пели старинные английские песни.
Присели к столу. Бастид принес две кружки королевского хереса.
— Вот такое средневековье мне по душе! Его красоту можно ощутить теперь только в старой доброй Англии… — проговорил Бастид и, прислушиваясь, замолчал.
Степанов услышал мелодию «Подмосковных вечеров», которая на время заглушила все другие.
Когда песня кончилась, Бастид сказал Степанову:
— Люблю русские песни, все русское. Вы велики во всем — в балете, в космосе, а теперь даже в философии. Питирим Сорокин, черт возьми, философ века, он своим «единым миром» ниспроверг устаревшего Маркса, — засмеялся Бастид и махнул рукой своему консультанту Смиту.
— Хорошо, что вам самому смешно, — бросил Степанов и по каменной лестнице поднялся в зал.
Гости уже сидели за столами. Степанов нашел свое место по номеру, указанному в пригласительном билете. За этим столом оказались горняки из Америки, Австралии, Европы. Напротив Степанова сидел лысый, слегка сутулый мужчина. Он снял пенсне и, приветливо улыбаясь, сказал по-русски:
— Добрый вечер. Разрешите представиться — Бидо, администратор французской фирмы «Титаник».
— Очень приятно. Степанов, горный инженер. — Он кивнул и потянулся к бутылке с минеральной водой.
Француз любезно налил ему воду.
— Я видел вас, месье Степанов, на выставке, вы очень интересовались горным оборудованием, не правда ли?
— Интересовался, правда. Оборудование и вашей фирмы там тоже было, — вспомнил Степанов, беря на тарелку кусок рыбы.
— Наша фирма завершает переговоры с вашим торгпредством на поставку крупной партии оборудования в Советский Союз, мы с вами давно выгодно торгуем, — наливая в степановскую рюмку красное вино, объяснял француз.
— В чем новизна ваших образцов, господин Бидо? — заинтересовался Степанов и подумал, что завтра же нужно зайти в торгпредство и все разузнать.
— Например, в нашем гидравлическом экскаваторе сочетаются положительные качества механической лопаты и колесных погрузчиков. Или наш конвейерный поезд — эта система успешно применяется на открытых и подземных рудниках. — Подняв бокал, Бидо осушил его.
— А самоходное оборудование для подземных работ ваша фирма выпускает? — спросил Степанов и приготовился записать сведения в блокнот.
— Автосамосвал для подземных работ с опрокидывающимся кузовом на сорок тонн, буровая установка на пневматическом ходу, еще погрузчики… Впрочем, в вашем торгпредстве могут вам показать полную спецификацию того оборудования, что вы закупили у нас, мы не будем на вас в обиде, если вы увеличите сделки, — вновь подняв бокал, закончил Бидо.
В середине ужина появился раскрасневшийся Бастид, плюхнулся на свободный стул рядом со Степановым. Разложил на коленях белоснежную салфетку, налил всем вина.
— За дружбу горняков всего мира! — провозгласил он по-русски и по-английски.
Все встали, чокнулись, выпили.
— Мы присутствуем с вами на «приеме века» — завтра так назовет его английская пресса. Здесь половина гостей — воротилы делового мира, самые состоятельные люди нашей планеты. Смотрите, — Бастид показал на проходившую мимо их столика седую даму, неотступно сопровождаемую двумя здоровенными молодцами, похожими на чемпионов бокса. Дама была буквально обвешана бриллиантами, жемчугом, золотом, она даже передвигалась не без труда. — На этой даме драгоценностей более чем на миллион долларов, в банке у нее около миллиарда, — с завистью сказал Бастид: он знал почти всех гостей из большого бизнеса.
Начались танцы. Степанов не танцевал, остался за столом и Бастид. Бастид был явно расстроен своим разговором со Смитом. Тут, на приеме, его подчиненный нагло угрожал в связи с провалом у русских Зауэра прекратить субсидирование фирмы. Что же получается — хвост вертит собакой?
Бастид ненавидел и в то же время побаивался Смита. Проворнову он сказал правду, что этого сотрудника ему навязали помимо его воли, навязали те, кто негласно финансировал фирму и под ее прикрытием занимался иной деятельностью. Конечно, Бастида тяготило подобное положение, но он прекрасно понимал, что без солидных субсидий фирма давно бы вылетела в трубу, ее проглотили бы более мощные конкуренты. С этим приходится считаться, но он органически не выносил этого хама Смита, который часто подчеркивал свою независимость и поступал, не считаясь с мнением своего официального шефа. Бастид знал немногое из биографии Смита, но и то, что ему было известно, настораживало и пугало. Сын разоренного русской революцией золотопромышленника, Смит люто ненавидел все русское и русских. Вторую мировую войну он провел в разведке, после войны служил в русском разведывательном подразделении английских оккупационных войск в Германии. В последние годы Смит преуспевал на «коммерческой» стезе. После сегодняшней стычки, переполнившей чашу терпения, Бастид решил просить босса заменить Смита более терпимым и культурным человеком, — ведь торговая фирма не казарма, — или принять его, Бастида, отставку. К тому же дела фирмы сейчас далеко не блестящи. Вдобавок еще и этот осел немец. Правда, большая пресса сегодня выдает его за очередную жертву русских, но завтра левая печать может наброситься на фирму, пустить ее ко дну… Нужны заказы, большие заказы, их могут дать лишь контакты с Востоком, а Смит этого понять не хочет. Вспомнилась еще идиотская история с Проворновым в Париже, задуманная этим кретином Смитом. Какой-то заколдованный круг, из которого не найдешь выхода. Банкротство или пуля в лоб? Нет, лучше отставка!
— Сегодня мне приснился страшный сон… — задумчиво заговорил он. — В одной пещере каким-то непонятным образом сохранилась наша духовная пища — газеты, журналы, кадры кинохроники, видеозапись телевизионных программ, стереофонические записи какофоний, книги. Спустя много веков, когда наша цивилизация уже будет находиться в числе тех, которые ныне можно лишь терпеливо восстанавливать по развалинам, как римскую, или по непонятным иероглифам Востока, археологи обнаружат эту пещеру и попытаются представить себе наш облик, быт. К какому выводу должны прийти те далекие археологи? Никогда еще ни одно поколение людей, стремящихся к счастью, не располагало такими возможностями стать счастливым. Однако это поколение, по-видимому, сознательно стремилось к чему-то противоположному: не к порядку, а к хаосу. Не к стабильности, а к краху. Не к жизни, творчеству и свету, а к смерти, разрушению и тьме. Я говорю, конечно, про наш, свободный мир… — криво улыбаясь, закончил Бастид.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
1
По-осеннему сумрачно, дождливо на улице. Сумрачно и на душе у Рудакова. Рано утром его вызывали в больницу — у матери ночью был тяжелый сердечный приступ, и лечащий врач не сказал ничего обнадеживающего. В обкоме день начался спором со Знаменским. Тот вернулся из дальнего района, отстающего в заготовке кормов, и стал критиковать тамошнюю партийную организацию, заодно и бюро обкома за то, что мало занимаются чисто партийной работой, а большую часть времени уделяют вопросам производства…
Рудакову вспомнилось, как на прииске Южном он, парторг, спорил с директором Степановым по этим самым вопросам — «партийного» и «производственного».
Где найти такие весы, на которых можно взвесить «чисто партийное» и «чисто производственное»? Где найти такой четкий водораздел? И нужно ли его искать?.. Как можно партийным органам не заниматься каждодневно вопросами производства, когда за этими вопросами — живые люди, когда от этого часто зависит их настроение, материальное положение, наконец, общий успех? Вся жизнь каждого нашего человека Прежде всего связана с его работой. Здесь он добывает свой хлеб насущный, здесь он общается с товарищами по труду, с коллективом, проявляет себя как личность. Нет! Надуманным окажется такой вопрос, если не забывать к тому же, что партийная работа — это и наука, это и искусство организации и воспитания…
Рудаков взглянул из окна машины на неуютную, холодную улицу и тяжело вздохнул.
Никого не предупредив о своем приезде, он торопился на завод горного оборудования, где он не был со дня аварии и где его сегодня ждал председатель облисполкома Попов. Только с ним и уговорился Рудаков по телефону о встрече. Это предприятие давно беспокоило Рудакова, он знал, что по вине планирующих органов завод горного оборудования «затоварился» чугунными трафаретами для промывальных приборов. По мнению специалистов, и в их числе Степанова, золотодобывающие предприятия перешли на более совершенную технологию в извлечении металла из золотоносных песков и больше не нуждаются в чугунных трафаретах. Но на заводе не подумали своевременно об этом и продолжали увеличивать выпуск продукции, которая сбыта уже не имеет.
Подъехав к заводской проходной, Рудаков увидел Попова, стоявшего под вывеской «Предприятие коммунистического труда».
— Зайдем к директору? — спросил Попов.
Рудаков предложил пройти сначала по заводу.
Заводская территория являла собою картину бедствия. Все склады, их навесы, проходы в цехах были до отказа забиты штабелями ржавых чугунных трафаретов. Рудаков остановил автокар, загруженный все теми же трафаретами, и обратился к молодому рабочему:
— Товарищ, куда вы их везете? На отгрузку?
— Что вы, товарищ секретарь, кому они нужны! На склад — и там-то им нет места… — Рабочий невесело улыбнулся Рудакову и кивнул головой на большую доску показателей: — Видите, кривые из месяца в месяц все вверх тянутся, все больше и больше перевыполняем план! Хоть беги отсюда, рабочая совесть-то есть у нас, вот она покоя и не дает… — Парень с трудом стронул с места свой перегруженный автокар.
— Директор вышел на работу? — спросил Попов.
Парень, крикнув в ответ: «Болеет», щелкнул себя по горлу.
Рудаков и Попов подошли к доске социалистических обязательств. Председатель облисполкома, ведя пальцем по красным цифрам, говорил:
— Вот ситуация… Ущерб от невыполнения плана ни у кого не вызывает сомнения. А как быть в этом случае? И дело тут не только в материальном ущербе от бесхозяйственного замораживания средств, а в угнетающем моральном воздействии на людей! Я говорил до тебя со многими рабочими и почувствовал, что во всем коллективе, как у этого молодого парня на автокаре, возникли сомнения, потерялась уверенность в полезности своего труда… Вот тут-то и притаилось страшное. Согласен со мной?
— Ты прав, — ответил Рудаков, вспоминая свой сегодняшний спор со Знаменским.
Оброненное пареньком горькое слово о рабочей совести, его выразительный жест, безразличие дирекции, абсурдное планирование, плачевный вид завода, никому теперь не нужная его продукция — все откладывалось в памяти Рудакова.
— Где будем искать выход? Менять заводу номенклатуру изделий? Завод хороший. Может делать, к примеру, буровые станки, в которых большая нужда. Ведь мы тратим валюту на покупку морально устаревших буровых станков за рубежом!.. В новых экономических условиях все предприятия, которые работают плохо, чья продукция не находит сбыта, не конкурентоспособна, — не будут иметь права на существование.
Попов покачал головой в раздумье и спросил:
— Закрывать их будем?
— Да. Это, конечно, не значит, что завод пойдет с молотка. Завод — собственность государства, оно, естественно, не может себе же продавать и у себя же покупать. Закрыть — значит изменить его профиль, перевести на выпуск иной, рентабельной продукции.
Они пошли по заводоуправлению, с трудом протискиваясь между чугунными штабелями. Рудаков говорил:
— Смотрю я на этот завод, который мы должны до конца года тоже перевести на новые экономические условия, и спрашиваю себя: а как это будешь делать?.. Кругом долги, банк дает заводу ссуду только на зарплату. А что в перспективе?.. Сегодня же буду звонить министру: что думает он обо всем этом?!
У входа в заводоуправление, прихрамывая, прохаживался Яблоков в сопровождении офицера в зеленой плащ-накидке.
— Вы, Николай Прокофьевич, правы. Наша печать иногда выбалтывает сведения, которые для опытного разведчика просто находка, — говорил Яблоков, поскальзываясь на запорошенном снегом тротуаре. — В одной корреспонденции сообщается о тоннах добычи руды, в другой о среднем содержании в ней металла, в третьей о повышении извлечения до такого-то процента, а дальше арифметика. Второй канал — прямая информация с предприятий. В этом английском журнале названа отдельно добыча по Кварцевому руднику, а ее может выболтать их осведомителю за рюмкой водки и бухгалтер, и плановик, и фельдъегерь — любой, кто связан с отправкой золота. А как узнали там о Рябиновом, я имею в виду золоторудное месторождение? Ведь оно еще не разведано, а журнал о нем уже пишет? — спросил Яблоков.
— Я проверял — у нас в печати о нем не было ни строчки, — подтвердил Николай Прокофьевич.
— То-то и оно. Готовьтесь к превентивной акции на Кварцевом.
Яблоков увидел Рудакова и направился ему навстречу.
— Рад вас видеть, Петр Иванович, — приветствовал его Рудаков.
Попов откланялся и пошел в заводское общежитие.
— Сергей Иванович, вы когда сможете меня принять на несколько минут? — спросил Яблоков.
— Пошли в партком, там и поговорим.
В парткоме секретаря не застали: ушел на заседание бюро райкома партии. Рудаков закрыл дверь, снял плащ, сел на диван рядом с Яблоковым.
— Я долго не задержу вас, — начал Петр Иванович. — Цель моего приезда в Зареченск вам, наверное, известна?
Позвонил телефон, и Рудаков, извинившись, снял трубку.
— Да, партком завода… Да, это я. Кто говорит?.. Ректор? — удивленно переспросил он. Потом долго слушал молча. — Решайте на общих основаниях, — сказал он. — Конечно, на общих. Зачем заставлять человека насильно получать высшее образование!.. Нет, нет, спортивный разряд здесь ни при чем… Да, только так! — ответил он.
И, положив трубку, переведя взгляд на Яблокова, как бы вспоминая что-то, сказал:
— Я знаю цель вашего приезда в область. Расскажите: что вам удалось выяснить?
— Следствие закончено, и нам здесь делать больше нечего. Взрыв на этом заводе — результат преступной халатности и нарушения правил безопасности работ.
Яблоков показал материалы следствия, Рудаков внимательно перелистал их.
— Присылайте заключение по этим материалам нам быстрее, мы примем нужные меры. Девкин не может больше руководить заводом.
— Хочу поставить вас в известность еще об одном. По материалам следствия по делу одного бывшего работника Московского объединения установлены его преступные связи с жителем Зареченска, неким Альбертом Пуховым, бывшим студентом вашего Политехнического института. Пока все, что могу сказать.
Они дружески пожали друг другу руки, и Яблоков ушел.
Рудаков курил одну папиросу за другой и думал. Стукал-стукал по мячу сынок, вот и достукался… Никто всерьез не обращал внимания на его учебу: его переводили, вернее — перетаскивали с курса на курс, совершенно не беспокоясь о том, что за инженер из него в конце концов получится. Спортивная слава увела парня с пути… И себя корил Сергей Иванович: когда-то упустил сына и не заметил этого, а его схватили другие, с улицы… Можно сейчас заступиться за Валентина: ректору достаточно одного рудаковского слова. Но поможет ли этим он, отец, сыну? Парня вытянут, получит диплом. Но специалистом не станет. А в духовном отношении превратится в пожизненного иждивенца… Нет! Пусть идет работать. Пусть сам узнает истинную цену всему.
2
Как назло, не работал лифт. Рудаков медленно поднялся на свой этаж. Открывая ключом входную дверь, услышал голос жены:
— Сейчас, сейчас открою!
И, войдя в квартиру, с укором заметил:
— Ты меня, Катя, так опекаешь, будто я ребенок, сам не могу открыть дверь… Из больницы не звонили?
— Только утром. Зачем ты, Сереженька, прямо с порога делаешь мне выговор? Вижу, что взвинчен, но я-то при чем? — поглаживая рукой седые волосы мужа, успокаивала Екатерина Васильевна.
— Прости. Сегодня весь день выдался какой-то карусельный. Я могу не только набрасываться на тебя, но и кусаться. — И нежно поцеловал ее в обветренный, не по-здешнему загорелый лоб.
Они прошли в кухню. Екатерина Васильевна поставила на сильный огонь алюминиевую кастрюльку.
— Придется подождать, обед доваривается. Сегодня у меня что-то все из рук валится, не знаю почему.
Сергей Иванович взглянул на нее: знает ли она об исключении Валентина из института? Нет, просто женское предчувствие.
Споласкивая в раковине миску, она сказала:
— Закабалил ты меня, Сережа, домашним хозяйством — целый день что-то чищу, варю, жарю. Руки от воды болят так, как никогда не болели в поле. Помнишь, в песне поется: «С этим что-то делать надо, надо что-то предпринять…»
— Что же ты надумала? Удрать опять в поле, или в тайгу, или в Африку, опять бросить меня на произвол судьбы? — шутливо укорил он.
— Нет, — она чмокнула его в щеку, — просто вам, мужчинам, нужно когда-нибудь не спеша, серьезнее подумать о женщинах… Какие только теперь автоматы не придуманы для облегчения труда на производстве! А о самой распространенной женской профессии — профессии домашней хозяйки — думаете мало!
— А стиральные машины, пылесосы, полотеры? — с каким-то отрешенным видом напомнил Сергей Иванович.
Жена видела, что он плохо ее слушает, думает о чем-то другом.
— Это частичная механизация, а я думаю о полной автоматизации, — продолжала она с единственной мыслью развлечь его. — Пройдемся мысленно по кухне будущего!.. Она, конечно, полностью автоматизирована. Хозяйка составляет меню на неделю, ставит нужные продукты в соответствующие отделения и закладывает в машину программу. Щелк — и все. В назначенное время механические руки извлекают продукты, готовят и подают заказанные блюда.
— А есть их можно будет?
— Не перебивай меня, Сережа, ведь я не автомат, могу забыть. Хождением по магазинам хозяйки не занимаются, они лишь выбирают продукты и присматриваются к ценам продуктового универмага через свой видеотелефон. И все, что хозяйка соизволит закупить, доставляется ей на дом автоматическим конвейером. Наличные деньги для покупок больше не нужны. Все расчеты производит сеть электронно-вычислительных машин, соединенных с потребителями, с местами их работы, с магазинами и бытовыми предприятиями. Зарплата автоматически переводится на сберкассу. После каждой покупки машина снимает истраченную сумму со счета в твоей сберегательной книжке. Заманчиво?
Сергей Иванович, резавший тем временем черный хлеб, улыбнулся.
— Так, наверное, и будет в каком-нибудь двухтысячном году. Но я еще успею, уйдя на пенсию, определиться к тебе в замы по домашнему хозяйству. Возьмешь?
— При условии, что как только я закончу свою монографию о геологической структуре Кварцевого золоторудного бассейна, мы поедем с тобой в отпуск куда-нибудь на Черное море. Где нет кровожадных акул! — наморщив лоб, воскликнула она.
— Хорошо. Но при чем здесь акулы? — спросил он, выжидающе поглядывая в окно.
— Вспомнила одну мавританскую историю. Слушай. Однажды мы поехали к океану — купаться. На мелком, как крупчатка, горячем песке под разноцветными зонтами сидели французы-рыболовы, удили на спиннинг. Рыбы там много, и улов всегда богатый. Мы отплыли от берега метров на сто, и я, перевернувшись на спину, довольно долго качалась на волнах. Вдруг произошло непонятное: я ощутила десятки ударов в спину и увидела, что вокруг меня закипел океан, — сотни рыбок выпрыгивали из воды, поднимая фонтаны мелких брызг. Еще не понимая, в чем дело, взглянула на берег и увидела толпу людей, отчаянно махавших руками и что-то кричавших. Почувствовав неладное, побыстрее поплыла к берегу — и вдруг в трех метрах от себя увидела огромный акулий хвост. Он на один только миг пропорол воду и снова исчез.
— Африканский вариант рыбацкой байки?
— Зубоскал, вот ты кто! — возмутилась Екатерина Васильевна. — Ну вот… сбил!.. Всегда так!.. Ну, подплыла я к берегу и слышу, как мне кричат: «Акула, акула!» А потом пожилой рыбак рассказал, что три месяца назад на этом месте разыгралась трагедия, после которой никто не рисковал заплывать на глубину…
Сергей Иванович рассеянно посмотрел на Катю и спросил:
— Где Валентин?
— В институте. Сережа, скажи мне, наконец: у тебя какие-то неприятности? — беря его за руку, спросила она.
— Валентин отчислен из института за неуспеваемость, — ответил Сергей Иванович.
— Господи! Час от часу не легче… — беспомощно всплеснув руками, воскликнула Екатерина Васильевна.
Сергей Иванович молча шагал по кухне, прислушиваясь к каждому шуму на лестничной клетке.
— Сережа… Может быть, тебе следует поговорить с ректором? Назначат Вальке переэкзаменовку!.. Парень он неплохой… беда, что ветер в голове!..
— Я не сделаю этого. Именно ради него не сделаю.
Он набрал номер больницы. Телефон был занят.
Зашуршал замок в двери, и на пороге появился Валентин. Он с испугом смотрел на отца. Сергей Иванович, заложив за спину руки, молча ждал.
— Меня исключили из института, — глухим голосом, не опуская глаз, объявил Валентин.
Сергей Иванович продолжал угрюмо молчать. И Валентин был благодарен ему за это молчание — сейчас не нужны были нравоучения.
Раздался громкий телефонный звонок. Трубку сняла Екатерина Васильевна. Долго слушала, не отводя печального взгляда от мужа. Сказала:
— Сейчас же приедем вместе с Сергеем Ивановичем. — И, опустив трубку, проговорила: — Немедленно в больницу!
— Отец, извини меня, но оставаться в Зареченске мне, сам понимаешь, невозможно. Я решил уехать куда-нибудь на рудник. Я напишу, когда устроюсь, — с трудом выдавил из себя Валентин и, поспешно поцеловав отца в щеку, прошел к себе в комнату.
Стараясь задавить рвущиеся из горла рыдания, Екатерина Васильевна за руку потащила мужа к двери.
— Скорее! Скорее, Сережа… Мы можем не успеть…
Через минуту Валентин появился с чемоданчиком в руке в пустой прихожей, положил на столик перед зеркалом ключи от квартиры и, стоя на дверном пороге, огляделся: эта такая привычная, до боли знакомая домашняя обстановка завтра станет уже его прошлым…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
В воскресенье заседаний на конгрессе не было. Столбов и Степанов отправились побродить по городу.
Сеялся мелкий дождь, широкую реку накрыл легкий туман. Порт весь дымился, столько здесь собралось пароходов.
Капризная лондонская погода быстро изменилась. Начало жарить солнце.
Легче всего дышалось в Гайд-парке. Здесь было тенисто, а от больших прудов веяло прохладой.
Навстречу по желтой песчаной дорожке гарцевали на породистых лошадях две элегантные дамы в костюмах амазонок, сопровождаемые молодым жокеем. На скамейках сидели влюбленные, они целовались и томно вздыхали, не обращая внимания на окружающих. Длинноволосые битники, грязные, ободранные и босые, слонялись по парку, с презрением взирая на мир.
Виталий Петрович и Фрол свернули к железной решетке парка, которая по воскресеньям завешивалась тысячами картин начинающих художников. Цены на картины здесь низкие, но покупатели находятся все-таки редко. Степанов сплюнул, когда при них был куплен абстракционистский шедевр — автомобильные части, прибитые к доске и выкрашенные в черный цвет. А молодой бородатый художник-продавец прыгал от счастья, обнимая и целуя свою чахоточную подружку.
На вытоптанной лужайке выступали ораторы. Священник в черной сутане взгромоздился на раскладной стул и призывал жить по Христовым законам. Вначале его слушали, но вскоре он остался один: его аудитория перекочевала к пожилой ораторше из «Армии спасения». Эта ораторша привела с собой бродячих музыкантов и с их помощью набирала слушателей.
— Добрый вечер, господа! — услышал Степанов.
Обернувшись, он увидел Бастида. Тот был в элегантном белом шерстяном костюме. В руке держал трость с массивным серебряным набалдашником.
Степанов и Фрол слегка поклонились. Бастид приподнял шляпу и приветливо улыбнулся.
— Понравился вам Лондон? Это, конечно, не Париж, но здесь тоже есть свои прелести. Например, этот парк… Здесь, между прочим, полная свобода слова: ругай кого хочешь. Кроме особ королевской фамилии! Пойдемте! — Бастид решительно потащил их под руки к двум опрокинутым вверх дном бочкам.
К одной из бочек был прибит флажок с черной свастикой, и молодой парень в полувоенном мундире, стоя на бочке, что-то истерически кричал, часто вытягивая вперед прямую руку. Ему зааплодировали стоящие рядом парни. На другой бочке седовласый горбун помахивал трехцветным царским флагом и, прошамкав по-русски: «НТС провозглашает — наш солидаризм есть идея общественного и государственного строя, основанного на осознанной солидарности…» — умолк и беспомощно огляделся по сторонам. Слушателей у него не было, подошедший Бастид подал руку, помог спуститься с бочки.
— Ваши соотечественники! — сказал Бастид, указывая на Степанова и Фрола.
Но горбун, вероятно, был глух: не взглянул на них, сказал «мерси» и, свернув полотнище знамени, поплелся к выходу.
— Этот парк — самый свободный на земном шаре! — сказал Бастид и, казалось бы, с недоступной для его фигуры легкостью взобрался на бочку. — Долой англо-франко-американский империализм! Да здравствует Советская власть во всем мире! — громко прокричал он и бросил победоносный взгляд на своих опешивших спутников. Потом снял шляпу и пискливым голосом завыл: — «Боже, царя храни!..» — Не допев царского гимна, он по-французски спел куплет из «Интернационала»…
Его вокальное выступление оказалось таким потешным, что Степанов с Фролом захохотали.
— Что вы на это скажете? — спросил польщенный Бастид, спрыгнув, как мячик, на землю.
— Сдаемся! Доказали! — подняв руки, ответил Фрол.
Бастид внезапно стал хмурым, взял под руку Степанова, и они направились к синевшему пруду, оставив Фрола щелкать фотоаппаратом.
— Вчера я подал в отставку с поста президента европейского филиала нашей фирмы, — мрачно сказал Бастид.
— Что так? — удивился Степанов.
Бастид помолчал. Степанов видел, что ему тяжело говорить о причине своей отставки, и больше вопросов не задавал.
Они сели на скамейку под старым ветвистым дубом, Бастид угостил Степанова сигарой и после этого заговорил:
— Смит получает из моей кассы в два раза меньше меня, но тратит значительно больше. Понимаете, я не могу заниматься делами, весьма далекими от коммерции, не хочу, чтобы мой сон когда-нибудь стал явью. Уезжаю к семье, в Вену, — там меня пригласили в университет. До свидания, может, еще и встретимся. Я рад знакомству. — Поднявшись, он зашагал к выходу.
2
Рано утром красный автобус мчал делегатов конгресса по новой автостраде. Рядом с Виталием Петровичем мерно покачивался Фрол. Степанов не отрываясь смотрел в окно: за стеклом проплывал уже долгое время однотипный пейзаж — тенистые рощи и дубравы, скошенные луга и подстриженные зеленые газоны, среди которых то тут, то там краснели двухэтажные каменные домики.
Виталий Петрович усмехнулся, вспоминая последнее заседание: гости долго и очень скучно благодарили организаторов конгресса, а те рассыпались в любезностях по адресу гостей.
Автобус уже катил по улицам Оксфорда. Мелькали старинные здания причудливой архитектуры.
— Мертоновский колледж. Колледж Магдалины, — объяснял в микрофон шофер.
На улицах было множество студентов в черных мантиях и четырехугольных шляпах. Они стояли небольшими группами и высокомерно посматривали на людей в синих блузах, спешивших куда-то на велосипедах.
В Ноттингеме произошла какая-то заминка. Делегаты ждали в гостинице день, потом другой, но на «шахту будущего» их не пригласили. Секрет задержки раскрыл портье: выставлены рабочие пикеты, которые никого в шахту не пускают.
— Вот тебе их бесклассовый «единый мир», — заметил Фрол.
— Современный чартизм? — предположил Степанов. — Ну, извольте видеть, здесь внедрение автоматизации приводит к дальнейшему обострению противоречий между трудом и капиталом… А с меня недавно на профсоюзном комитете стружку снимали за медленное внедрение этой самой автоматизации…
В холле сидели два советских делегата, и один из них — Степанов знал его как московского профессора — вслух переводил статью из местной газеты:
— «Поскольку новые машины и новые способы на этой шахте, которой англичане старались удивить весь мир, не представляют собой ничего революционного, а являются только развитием существующих тенденций (революционные способы охватывают такие идеи, как, например, подземная газификация угля), в конце концов трудности начального периода (прорезывание зубов) должны быть преодолены. Однако их будет больше и их будет значительно сложнее устранить, чем это предполагают сейчас самодовольные и хвастливые ученые и инженеры. Их можно со многим поздравить — как женщину, которая забеременела. Однако родовые муки еще впереди…»
…И все же в конце концов делегатов конгресса привезли на эту злополучную шахту.
Управляющий пригласил всех к себе и около часа рассказывал об известных из доклада проектных параметрах «шахты будущего». Во время беседы подали второй завтрак, вино. И в конце завтрака… управляющий извинился за то, что шахту показать не сможет, так как она не готова к работе по автоматизированной схеме.
— У англичанина-мудреца пшик получился. Реклама, — и только, — подвел итог Степанов, наливая в рюмку Фрола королевского хересу.
После ленча делегаты поехали в строительную фирму.
На строительной площадке шахтного комплекса Степанова поразили абсолютный порядок и чистота. Это было очень не похоже на сибирские стройки. Все материалы здесь аккуратно сложены, не видно сталактитов и сталагмитов от бетонного раствора. Кирпич разгружается с машин в контейнерах, а не навалом в кучу — из самосвала. Поэтому «боя» нет. На стройке рабочие не стоят в ожидании, пока подвезут материалы, никто не спорит, не суетится. Степанов подробно записывал пояснения представителя фирмы: строительство ведется «под ключ». Это значит, что заказчику сдается не только здание, но и смонтированное опробованное оборудование. Подрядчик сам выполняет весь комплекс работ: сбор исходных данных, проектирование объекта, его строительство, монтаж оборудования, его опробование, отладку и сдачу в эксплуатацию, привлекая, если требуется, субподрядные организации. Переделок и ремонтов у фирмы не бывает, договорные сроки строительства ею выполняются неукоснительно, иначе фирма должна платить заказчику большую неустойку.
— Позвольте, что же, у вас не ломаются экскаваторы, тракторы, самосвалы, не простаивает оборудование, не срываются сроки поставок материалов на строительство объектов? — спросил Степанов.
— Нас эти вопросы не интересуют: если подрядчики нарушают сроки, мы расторгаем договор и берем другого, более солидного подрядчика.
Слушая с завистью эти пояснения, Степанов с обидой вспомнил бесконечные, годами длившиеся тяжбы самых разных субподрядчиков, которые вели работы на Кварцевом руднике…
Представитель фирмы говорил, что у них на месте строительства детали и конструкции не изготовляются, они доставляются на стройплощадку готовыми, в количествах, нужных на два-три дня работы. Ежедневно площадка очищается от строительного мусора. Оборудование под открытым небом не хранится. Строительные материалы поступают высокого качества, с хорошим внешним видом, поэтому отделочных работ почти нет.
Пока Степанов выяснял строительные вопросы, Фрол заинтересовался экскаватором, что работал неподалеку в каменном карьере. Экскаватор, клюнув ковшом забой, разворачивался на сто восемьдесят градусов к подъезжавшему самосвалу и поспешно высыпал в него желтую породу. Фрол пытался издали определить фирму экскаватора: «Марион»? «Шкода»? «Бюсайрус»? Фролу было интересно сравнить их со знакомыми ему «Уральцем» и «Ижорцем», у него уже чесались руки от вынужденного двухнедельного безделья. К ним подошел высокий, атлетического сложения мужчина в твидовом костюме, с клокастыми бровями, прямым желтым носом и впалыми щеками. Но особенно приметным у него был хорошо очерченный рот, полный крепких, больших и совершенно белых зубов, которые их обладатель то и дело скалил в любезной улыбке.
— Наш управляющий мистер Джексон, — почтительно представил его фирмач.
— Будем говорить по-русски? Я его выучил, чтобы читать вашу литературу, фирма выписывает много ваших журналов. Мистера Столбова я узнал сразу, видел его фотографию в газете. Вы в самом деле машинист экскаватора? — улыбаясь, спросил Джексон, было видно, что он не верит этому.
— В самом деле, — подтвердил Фрол.
Джексон, улыбаясь, сказал Фролу:
— Может, мистер Столбов желает побывать на нашем экскаваторе, поговорить со своим коллегой машинистом?
Теперь Фрол переглянулся со Степановым, в глазах его мелькнули задорные огоньки, и он согласно кивнул. Джексон, Степанов и Фрол пошли к экскаватору. Здесь было шумно, ковш ударялся о пологий забой с такой силой, что рама и рукоять стрелы каждый раз вздрагивали и железно стонали.
— Какова годовая производительность? — поинтересовался Степанов.
— Двести тысяч тонн на кубоковш, — ответил Джексон и предложил подняться на экскаватор.
Фрол медлил, профессионально наблюдая за работой машиниста. По мысли Фрола, он допускал в своей работе несколько ошибок. Работая с углом поворота на сто восемьдесят градусов, допускал большой холостой ход стрелы и этим снижал производительность. Пологий забой не позволял сразу наполнить ковш породой. Машинист применял дополнительные механические усилия для его подгрузки или высыпал в стоящие очередью самосвалы недогруженные ковши. Фрол обратил внимание и на зависание в ковше породы при разгрузке, что тоже значительно уменьшало полезный или рабочий объем ковша. И уж конечно отметил про себя Фрол и несоответствие емкости ковша с грузоподъемностью самосвала, о чем он писал в своей статье в «Горном журнале».
Джексон повторно пригласил Фрола подняться на экскаватор, но тот все еще наблюдал за его работой со стороны. Тогда Джексон поднялся по железной лестнице первым, теперь уже будучи твердо убежден, что мистер Столбов такой же рабочий, как он, Джексон, китайский император.
Вслед за ним поднялся Степанов. В машинном отделении экскаватора было чисто — поворотная платформа, двигатель, генераторы, подъемная лебедка и другие механизмы блестели масляной краской, кабина машиниста была просторна, с кондиционером воздуха, герметична от пыли. Сидевший в кресле машинист экскаватора на приветствие Джексона и Степанова лишь кивнул и продолжал, как робот, нажимать на педали и рычаги управления. Когда появился в кабине Фрол, Джексон сказал что-то по-английски машинисту, и тот, недоуменно взглянув на Фрола, уступил ему кресло.
Фрол какую-то долю секунды колебался и, поймав одобрительный взгляд Степанова, сел в кресло. Джексон весело улыбался, скаля свои крепкие белые зубы. Фрол осторожно присматривался к незнакомой ему тяжелой махине. Нажал ногой правую педаль — поворотная платформа пошла вправо, нажал левую педаль — влево. Рукой повернул рычаг погрузки вверх — ковш пополз кверху, опустил рычаг — и ковш тоже опустился. Теперь можно было переходить на рабочий режим, и Фрол направил ковш к подошве забоя, имея в виду сделать его из пологого вертикальным. Прошло немало времени, пока вертикальный вруб дал возможность Фролу с одного захода полностью, даже с верхом, наполнить ковш.
— Скажите, чтобы самосвалы подъезжали на погрузку вот на эту площадку, вот сюда, — попросил Фрол Джексона и указал пальцем место — в этом случае угол поворота стрелы сокращался на треть.
Джексон крикнул что-то в окно стоявшему у экскаватора человеку в белой пластмассовой каске, и тот побежал к самосвалу, вскочил на подножку и перегнал его на указанное Фролом место. Погрузка пошла быстрее, и очередь ожидавших самосвалов постепенно уменьшалась. Джексон больше не улыбался, внимательно наблюдая за каждым движением Фрола.
— Всю жизнь на экскаваторе? — спросил он Фрола.
Тот отрицательно покачал головой.
— Нет, второй год, как кончил курсы машинистов. Раньше работал на буровой, — ответил он, плавно разгружая ковш над самосвалом.
— Вас сократили, и вам пришлось менять профессию?
Фрол улыбнулся.
— Опять не угадали. Просто многим рабочим приходится иметь по нескольку профессий. Не безработица, а людей не хватает у нас.
— Непонятно, откуда тогда такое большое мастерство за такой малый срок работы? — все больше сомневаясь, заметил Джексон.
— Творческий труд, — вмешался Степанов.
Джексон засмеялся и иронически осведомился:
— Смотря что понимать под творческим трудом. Как вы понимаете, мистер Степанов, творческий труд?
— Труд, отвергающий стандартность мышления, поиск возможного оптимального решения, постоянное самоутверждение человеческой личности в труде.
Джексон повторил свой вопрос Фролу.
— Отвечу примером на ваш вопрос. Я был совсем не уверен, что у меня получится все так с этим экскаватором, как я задумал. Я рисковал — по горно-геологическим условиям мог не выстроиться нужный уклон забоя. Не получится угол поворота стрелы, не заполнится с верхом ковш, — проще было повторить давно отработанные операции вашего машиниста. Но я лично не могу работать без риска, не проверяя себя в постоянном поиске рационального, лучшего.
Джексон больше вопросов не задавал. Степанов взглянул на часы.
— Конечно, в науке самое большое поле деятельности для свершений — тысячи и тысячи вариантов поиска. Но и экскаваторщик, применяя различные приемы, тоже творит, используя для этого свои собственные «секреты». Ученый открывает что-то новое, а экскаваторщик необычными приемами утверждает прогрессивное — они оба творцы. Процесс творческого поиска у нас в стране приносит человеку наслаждение от труда, делает труд его радостным. Ну, нам пора идти, — напомнил Степанов, зная, что если Фрола не остановить, он проработает до конца смены.
Наконец Фрол опустил рычаг, уступил место машинисту.
— Для борьбы с налипанием породы нужно к ковшу вибратор приспособить. Нужно правильно подобрать к емкости ковша и емкость самосвалов, меньше простоев при погрузке станет, — поделился своими соображениями Фрол, опускаясь по железной лестнице на землю.
Он стал наблюдать за работой машиниста — тот теперь придерживался его технологических операций. Джексон, наблюдая за работой экскаватора, сказал Степанову:
— Наша печать пишет много о японском и западногерманском экономическом чуде и замалчивает ваши успехи. Теперь я понял, откуда ваши чудеса. Через несколько лет вы создадите машины не хуже наших, а нам таких людей, как мистер Столбов, не создать.
Джексон замолк и мрачно посмотрел на Фрола, который, уходя, приветливо махнул машинисту. Машинист отсалютовал ему громким гудком.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
1
Уйдя из дома, Валентин отправился на стадион, рассчитывая встретить кого-нибудь из дружков, чтобы решить проблему нового своего устройства. С сегодняшнего дня для него началось самостоятельное путешествие в жизнь, и, как ни странно, обретенная свобода сейчас не радовала его. Он с грустью вспоминал отчий дом. Разрыв с отцом напугал Валентина. Но просить прощения за все свои, как говорил отец, «художества» не хотелось. Он докажет отцу: у него тоже есть характер. На любом предприятии найдутся на первое время ему рабочее место и койка в общежитии. Отец начинал с того же, утешал себя Валентин.
У ворот висела табличка: «Стадион закрыт — тренировки». Но Валентин пинком ноги открыл дверь. На зеленом поле, окаймленном желтыми деревянными скамьями, бегали двое маленьких мальчишек, пытаясь забить мяч в ворота Пузыря. Валентин подошел к нему и сел у штанги.
— Постукай мне в ворота, — предложил Пузырь.
Валентин, отрицательно замотав головой, спросил:
— Колька, переночевать к себе пустишь?
— Давай. А что стряслось-то?
— Ушел из дома. Не бойся, я к тебе денька на два, просто мне нужно оглядеться — куда податься.
Колька турнул ребятишек и прилег на траву рядом с дружком.
— От такого отца уйти… Ты, Валька, просто чокнутый. Без папашки ты букашка, а с папашкой человек! Что делать будешь? Из института, я слыхал, тебя того… Болтают, что отец твой велел ректору — на общих основаниях! Никогда такого не слыхал. Может, он тебе не родной?.. — вроде бы искренне сокрушался Пузырь, хотя в душе, как ни странно, очень одобрял Валькиного отца.
На стадионе появилась группа людей. Среди них Валентин заметил высокого седого мужчину и узнал в нем председателя облисполкома Попова. Вскочил и окинул взглядом стадион, соображая, куда бы ему незаметно улизнуть. Но Попов уже заметил его и зашагал к футбольным воротам.
— Чтобы завтра же исчезла с ворот эта дощечка! Пусть школьники играют здесь, а не выбивают мячом окна, гоняя его в пыльных дворах. Пусть студенты, рабочие, все желающие занимаются спортом. Ишь придумали причину для безделья — тренировки мастеров! Таким способом мы их, мастеров-то, никогда не вырастим, — распекал Попов директора стадиона.
Валентин поздоровался, взял чемоданчик и, обойдя всю эту группу, направился к выходу. У него не было сейчас никакого желания разговаривать с дядей Петей, как он обычно называл Попова.
— Валя, подожди меня, пожалуйста, на скамейке! — попросил Попов, заметив, что парень удирает.
И Валентин, вопреки своему желанию, остался.
Попов обошел стадион, осмотрел все сооружения, подписал какие-то бумаги, пообещал, как слышал Валентин, выделить деньги на ремонт и, отпустив всех, кто его сопровождал, подсел к беглецу. Они сидели вдвоем на пустом стадионе и курили. Закрываясь от слепящего солнца газетой, Попов печально улыбнулся и спросил, кивнув на чемоданчик:
— В баньку собрался?
Валентин промолчал, покусывая губу.
— Слышал. Что думаешь делать?
— Не знаю, — буркнул Валентин.
— Трагедии, конечно, никакой не произошло. Но перелом для тебя наступил. Держись!
— Что посоветуете, дядя Петя? — машинально спросил Валентин.
— Только не говори отцу… сердце у него не камень, ну, и потом достанется мне за такой совет!.. Поезжай в Даурию, на рудники. Там, Валя, как говорится, оцениваешь жизнь по большому счету. — Попов улыбнулся и прямо взглянул в глаза Валентину.
Валентин опустил взгляд, он был не в восторге от этого совета: зачем выбирать бывшие каторжные края! Самостоятельную жизнь можно начать и не так далеко.
Попов понял ход его мыслей и, вздохнув, заметил:
— Конечно, блудному сыну первого секретаря обкома партии найдется место и в области. Но здесь ты всегда будешь жить за счет отца — где бы ты ни работал! А тебе пора начинать жизнь за свой счет.
— Я подумаю… — Валентину не хотелось сейчас связывать себя каким-то решением.
У ворот стадиона ждала черная «Волга».
— Куда тебя подвезти? — спросил Попов, открывая дверцу.
— Никуда, я доберусь сам, — поспешна ответил Валентин и подал на прощанье руку.
Попов вынул деньги и положил в пиджачный карман Валентина.
— Не надо, обойдусь, — возразил Валентин.
Но Попов понимающе улыбнулся.
— Заработаешь — вышлешь почтой. Ну, прощай, всего тебе доброго! — И, обняв, крепко поцеловал его.
2
В купе кроме Валентина ехал еще один пассажир. Он спал на нижней полке. Валентин почти не слезал со своей верхней. Подложив под голову чемоданчик, он смотрел в окно.
Солнце, опираясь золотистыми лучами на гряды темных гор, поднималось над сонной землей. Протяжный паровозный гудок, окно вагона заволокло клубами дыма, и на Валентина надвинулась темнота. Тусклые огоньки туннеля, обгоняя друг друга, вывели поезд к широкой порожистой реке. Валентин вспомнил другую реку и набережную напротив бывшего его института, скамейку, где часто сиживал со Светланой… Приятные воспоминания сменяли постыдные, о которых не хотелось думать. Частые провалы на институтских экзаменах, когда он боялся каждого вопроса экзаменатора… А ведь мог бы и он, Валентин, быть не хуже других. Что же ему все-таки делать-то? Вернуться с первой станции домой? Нет! Это значит — признать себя никчемным человеком, испугавшимся первых же серьезных столкновений с жизнью, «букашкой без папашки». Нет, и еще раз нет!
— Молодой человек, спускайтесь со своей верхотуры, побалуемся чайком, — позвал сосед по купе.
Валентину давно хотелось и есть и пить, но он ничего съестного не припас, рассчитывая на вагон-ресторан. А к этому составу, как на грех, вагон-ресторан почему-то не прицепили. Валентин взглянул на часы: до большой станции еще далеко, часа три… И поблагодарил за предложение.
— Давайте познакомимся. Курилов Александр Максимыч, геолог, — протянув сильную руку, представился новый знакомый.
Валентин с любопытством оглядел его: молодой, высокий, в очках.
— Валентин Рудаков, студент.
— Подсаживайтесь, студент, к столику! — разворачивая газету и извлекая из нее жареную утку, пригласил геолог. Достал из рюкзака краюху хлеба, соль, огурцы, бутылку молока, кусок сала, кружку. — Небось на практику? В какие края путь держите?
— В Даурию — работать, она и будет… практикой, — смутившись, ответил Валентин.
— Так, так. Значит, в наши края собрались. Вы правильно выбор сделали: края наши особенные, исторические, — хрустя огурцом, одобрил геолог.
— А вы давно там живете? — поинтересовался Валентин, не слишком медленно расправляясь с уткой.
— Скоро полгода будет. До этого на Кварцевом работал, слышали о таком?
— Вон что, выходит — мы почти земляки: я там на практике бывал и даже самородок добыл, — улыбнулся Валентин.
— Слышал я о самородке. Это вам повезло? Вы должны знать Степанова. Может, и его дочь Светлану, она там у меня тоже практику проходила, — заметил геолог и с интересом посмотрел на собеседника.
— Как же, конечно, знаю, мы с ней вместе в школу бегали еще на Южном прииске! — охотно рассказывал Валентин, посыпая солью утиную ножку.
Внезапные воспоминания о Кварцевом сблизили их, они перешли на «ты» без брудершафта — ведь кружки были только с молоком. Кончив трапезу, прибрали столик. Геолог достал из рюкзака толстый журнал и маленькую книжку воспоминаний княгини Волконской, передал книжку Валентину.
Валентин поблагодарил за угощение и до самой Читы не отрывался от книжки.
В Чите поезд остановился, здесь предстояла пересадка. Сдав вещи в камеру хранения, Валентин с Александром Максимовичем вышли на привокзальную площадь.
Разочарованно смотрел Валентин на широкие, ровные, асфальтированные улицы, монументальные каменные здания и задранные хоботы строительных кранов. Скользил взглядом по театральным и кинематографическим афишам, рекламировавшим современные пьесы и фильмы.
— Хоть что-нибудь осталось здесь от читинского острога-то? — спросил Валентин.
— Церковь декабристов. В ней состоялось венчание декабриста Анненкова с приехавшей к нему на каторгу невестой. С жениха, когда его привели в церковь, сняли кандалы, но по возвращении из церкви надели снова…
Прошлись но оживленной, залитой солнцем торговой улице и в зеленом скверике присели на скамейку. Геолог, раскурив почерневшую трубку, нещадно ею дымя, рассказывал историю Забайкалья. В Валентине он нашел благодарного слушателя.
— Петр Первый ссылал сюда первых государственных преступников за «воровские письма», в которых царя называли антихристом. Ссылал сюда своих противников Бирон. При Екатерине здесь томились три самозваных Петра Третьих. Нашли здесь свою могилу декабристы, многие народовольцы, многие большевики… Пойдем, студент, с разговорами можем опоздать на поезд! — поднимаясь со скамейки, сказал геолог.
Остаток пути они прошли молча. Но, подходя к вокзалу, Курилов с улыбкой сказал:
— Случались и курьезы… Вместо заклепок на кандалах в то время были замки, и существовал обычай выбивать на замках надписи, обычно пословицы. Дмитрию Завалишину замок достался с надписью: «Кого люблю, тому дарю», а Николаю Бестужеву — «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь».
…Опять купе поезда, перестук колес, протяжные гудки за окном и гаснущие в темной ночи паровозные искры.
Валентин посмотрел вниз — геолог храпел на своей полке. Валентин повернул выключатель. В темноте почему-то острее почувствовал, что в купе пахло обжитой неприбранной комнатой.. Спасаясь от давящей духоты, он тихонько выбрался в коридор, присел на откидное сиденье, привалился локтем к раме окна и закрыл глаза. Опять вспомнил Светлану, ее пышные волосы, тонкую кожу, ямочки на розовых пальцах… И горько думал о себе. Жалел себя… Одолеваемый невеселыми думами, долго сидел в пустом коридоре, не прогоняя полудремоты, чувствовал с удовольствием, как струйка встречного ветра резала шею холодком.
За окном проскакивали полустанки, будки с качающимися фонарями. Валентин поежился, стараясь представить себе ту станцию, где ему придется выйти из вагона. Что его ждет там?..
Поезд подъезжал к какому-то городу. Замигали большие и крохотные огни, гирлянды лампочек. Бег колес замедлился, потянулись ветки путей, товарные эшелоны, стрелки. Вагон вздрагивал и постукивал на стыках.
Теперь поезд шел, прихрамывая, ковыляя по-утиному, вдоль берега реки. Она смутно угадывалась во тьме — сгустившейся чернотой, провалом, прохладой своей остылой воды.
Вот и перрон, освещенный мерклыми лампами. Асфальт сыро поблескивал и казался коричневым, липким. «А куда, собственно говоря, я еду? Зачем еще-то дальше?.. Кто меня там ждет? Кому я там нужен?» И Валентин, схватив чемоданчик, поспешно выскочил на перрон.
В зале ожидания он уселся на большую скамейку, положил чемоданчик к себе на колени, оглядел спящих людей, ожидавших своих дальних поездов, которые сейчас спешат, несутся где-то в ветреной ночи, и, облокотившись на крышку чемодана, закрыл глаза.
Он удрал с поезда, испугался первой работы, которой ему предстояло начинать трудовую жизнь. Что скажет отец? Начнет его разыскивать? А Светлана?.. Он, кажется, впервые в жизни по-настоящему испугался в эту осеннюю ночь, дьявольски испугался, ощутив вокруг себя пустоту… Какой-то кошмар! Он готов был заплакать от этого поднимавшегося в нем самом, обступавшего его со всех сторон, наваливающегося на него, нарастающего, гнетущего ужаса. Никогда Валентину так не хотелось домой, к отцу, как в эту ужасную ночь…
Торопливые шаги по каменному полу вывели его из оцепенения.
— Ты что, рехнулся? Бежать задумал? — закричал на него запыхавшийся Курилов. — От себя самого, парень, не убежишь! — И, схватив за руку, потащил на перрон.
Они вместе припустились догонять красный фонарик над ступенькой последнего вагона.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
1
Степанов остановил такси. Сел на заднее сиденье. В машине было душно, пахло новой клеенкой, бензином.
— Куда поедем? — обернувшись, спросил шофер.
— К центру, — не сразу ответил Виталий Петрович: он все еще думал о визите к дочери.
— Как поедем?
— Как хотите.
…Да, визит был печальным. Его Светланка стала брошенкой… Вспомнилась та недобрая рыбалка, на которой он узнал об уходе дочери из дома. Оправдались его отцовские предчувствия…
Машина плавно шла по Ленинскому проспекту, мягко тормозила у светофоров. Проспект лился широкой рекой и был виден далеко вперед. По бокам его тянулись два узких бульвара. Помнилось, что летом, когда молодые, близко посаженные липы соединяются кронами, образуя зеленый туннель, здесь все колышется, играет солнечными бликами… А сейчас листья облетели, и деревья не закрывают белых домов по обе стороны проспекта.
Надо забирать дочку домой! Дипломную работу ей разрешат сделать в Зареченском институте. А дальше будет видно: может, еще и отмучаются блажью, образумятся…
Вот и Транспортное агентство с самолетами и теплоходами в витрине… А что, если остановить машину и взять два билета до Зареченска?.. На какое число?.. На этот вопрос Степанов не мог сейчас ответить.
Улица Димитрова, красный терем французского посольства, высокие трубы за «Ударником», широкий мост, сказочный холм с златоглавыми церквами, окруженный красными зубчатыми стенами… Спокойная гладь Москвы-реки отражала, как в зеркале, кремлевские башни, колокольню Ивана Великого. Недавно на этом холме было принято решение, которое затронуло судьбы многих миллионов людей и судьбу Виталия Петровича Степанова в том числе.
Многое из того, что предлагали они тогда у Сашина, стало законом, должно сбыться. Созданы министерства, иные, нежели прежде, с иными задачами. В основном возвратились в аппарат старые министерские кадры — Виталий Петрович хорошо знал многих назначенных в главки людей. У них давно отработанный стиль, стиль старых министерских зубров… Но экономическая реформа заставит и их изменить стиль работы!
Улица Горького. Здесь уже чувствовалось приближение праздников. Народу было больше, чем обычно, на тротуаре лежали гирлянды разноцветных лампочек…
В прошлый приезд Степанова тоже вызывали в управление кадров. Долго говорили о большом доверии, какое оказывается ему, производственнику, приглашением в аппарат главка. Должность — заместитель начальника главка. Дается персональная надбавка к должностному окладу. Разумеется, московская прописка и квартира. С квартирой пока трудновато, придется, возможно, несколько месяцев пожить в гостинице. Но зато он станет москвичом! Советовали подумать: такая возможность в жизни может не повториться.
Степанов советовался тогда с Михаилом Васильевичем, и тот прямо сказал, что аппаратная работа тонкая и такому медведю, как Виталий Петрович, не подойдет. Северцев и сам от новой работы пока не был в восторге: много толкотни, еще не все разложено по полочкам, спрашивать с тебя уже начинают… Москвы Михаил Васильевич не видит. Когда наезжал в командировки, знал ее лучше. Став москвичом, не может выкроить времени ни на театры, ни на концерты, даже в кино ходит редко… Степанов отказался от предложения. Причина? Не хочет уходить с производства.
Несколько месяцев его не беспокоили. И вот опять вызвали в Москву и предложили возглавить стройку нового крупнейшего Заполярного алмазного комбината, который создается на севере его области. Он попросил два дня на раздумье: нужно посоветоваться с обкомом партии, с женой, наконец…
У красного здания Моссовета машина резко затормозила перед светофором, Степанов откинулся на спинку сиденья.
— Вас куда? — спросил шофер.
— К гостинице «Центральная», пожалуйста.
Дали желтый свет. И тут же зеленый. Они тронулись с места, поехали в плотной толпе машин. Шофер выруливал уверенно и точно, втискиваясь в просветы между фургонами и таксистами. Степанов машинально читал надписи на бортах: «Соблюдайте рядность», «Не уверен — не обгоняй».
Над теперешним, новым предложением Степанову пришлось задуматься. С Кварцевого рудника пора перебираться в другое место! Засиделся. Кварцевый теперь встал на твердые ноги, обойдутся и без него… На алмазах интереснее, раз все начинается сначала… Министерству виднее. Степанов вспомнил историю его назначения на Южный прииск…
Машина остановилась. Степанов рассчитался с шофером.
Лифтом поднялся в свой номер. Налил из недопитой бутылки стакан цинандали, закусил яблоком. Закурил. Сегодня он должен дать ответ в управлении кадров. Нужно решать немедля. Виталий Петрович заказал телефонные разговоры с Зареченском и Кварцевым. Он обязан посоветоваться с обкомом партии, получить согласие, во всяком случае поставить в известность о предложении министерства. С женой разговаривать будет труднее: он знал наперед все, что скажет Лида.
Зареченск дали быстро. Рудаков проводил пленум обкома, но его позвали к телефону. Выслушав Степанова, Рудаков сказал:
— По-моему, предложение интересное. А честно говоря… это рекомендация обкома партии. Силенки у тебя хватает — корчуй тайгу. Главное — договорись с Лидой, я ей уже звонил, подготовил. Возвращайся быстрей!.. Извини, до свидания.
Следом дали Кварцевый. Лида сказала, что все знает и может повторить лишь одно: как трудно быть его женой! Она просила все узнать о Светлане — материнское сердце чует неладное.
Виталий Петрович, позвонив в управление кадров, дал согласие. Его просили быть утром на заседании коллегии министерства.
Он опять думал и думал о Светлане — она дорого расплачивается за свое легкомыслие… Конечно, разумнее забрать ее из Москвы!
2
Небольшой зал заседаний коллегии набит битком, кресла все заняты. Степанов с трудом нашел себе свободный стул у стены.
С интересом огляделся по сторонам: народ малознакомый, большинство — с периферии. Коллегия будет рассматривать новые назначения и перемещения руководителей крупнейших предприятий. Члены коллегии сидели за отдельным длинным столом с зеленой скатертью. Ждали министра. В зале слышался приглушенный говорок, который сразу стих при появлении небольшого седоватого человека с депутатским значком.
— Здравствуйте, товарищи. Начнем заседание! — сказал он резким голосом. — На должность директора Приморского комбината представляется товарищ Иванов. Подойдите к столу, покажитесь! — попросил министр полного рыжего мужчину.
Работник главка огласил анкетные данные, министр задал несколько вопросов о положении на комбинате, расспросил о нуждах.
Иванов сразу же положил перед министром пухлую докладную.
— Начинаешь тоже с попрошайничества. Учти — мы сняли бывшего директора за то, что он свою бездеятельность прикрывал воплями о нехватке транспорта, — перелистывая докладную, недовольно заметил министр и с резолюцией «рассмотреть» передал бумагу своему помощнику.
Степанов с неприязнью подумал, что министерству куда проще снять и его с работы, чем помочь Кварцевому руднику десятком автосамосвалов… Но вряд ли теперь грозные приказы долго смогут подменять собою экономические решения!
Степанов перестал слушать, что говорил Иванов, и принялся внимательно рассматривать членов коллегии. Большинство сидящих за длинным столом он знал по старому министерству. Но были и новые, незнакомые ему люди.
Шумный разговор отвлек Степанова от его мыслей. Он увидел перед длинным столом чем-то знакомого сутулого человека. Лицо с отвисшими пухлыми серыми складками, с очками, сидящими на кончике носа, опущенные плечи, засыпанные перхотью, округлый животик, торчащий над поясом мешковатых штанов, распирая черный пиджак… Это был директор Зареченского завода горного оборудования Девкин.
Степанов вспомнил, что знал Девкина еще студентом. Девкин в институте учился только на «отлично», о нем тогда говорили, что он подает большие надежды. Но потом, помнится, успехи его становились все скромнее и скромнее, и в конце концов разговоры о нем умолкли совсем. Позже кто-то из однокурсников Степанова спрашивал Виталия Петровича, что стало с Девкиным, но и он ничего не знал, потерял Девкина из виду… И совсем недавно, прочтя решение бюро обкома партии о строгом партийном взыскании директору завода Девкину, подумал: не его ли однокашник?
— Я тебя спрашиваю, товарищ Девкин: как докатился ты до такого состояния? Из-за грубейших нарушений техники безопасности взорвалась котельная, покалечены люди, нанесен материальный ущерб заводу. Твой главный механик уже дважды сидел в тюрьме за подобные преступные дела. Ты об этом знал? — Министр внезапно ударил кулаком по столу и резко закричал: — Куда ты смотрел, чем занимался на заводе? Отвечай!
— Перевыполнял план, — тяжело, как паровоз, дыша, ответил понурившийся Девкин.
Все больше и больше раздражаясь, министр уже не сдерживался:
— Ты думал, кому нужны твои чугунные трафареты?
— Думал… Но что я мог сделать? Планировали их мне сверху.
Министр не стал больше обсуждать этот вопрос и, сердито взглянув на директора завода, спросил:
— Пьянствовал?
— После аварии случалось, — сознался тот и, побелев, опустился на стул — ноги больше не держали его.
Министр посмотрел на членов коллегии, ожидая предложений.
— Снять с работы и отдать под суд, — сказал молодой, незнакомый Степанову член коллегии.
Остальные молчали, ожидая, что скажет министр.
— С работы снимем, судить не будем. Управлению кадров направить Девкина на низовую работу. Но это не все: нам нужно сделать и для себя вывод. Разве можно так глупо планировать? Немедленно пересмотреть план завода, перевести его, как предлагает Зареченский обком партии, на изготовление буровых станков и запасных частей к драгам!
Теперь Степанов смотрел на министра другими глазами. Вспоминал, как полтора десятка лет назад был у него на приеме по делам Южного прииска… Больше они не встречались, дороги их разошлись надолго. Министр за эти годы возглавлял совнархоз, был на крупной партийной и государственной работе, а теперь опять вернулся в свою отрасль. Изменился он за эти годы? Внешне такой же, ему, видно, нет сноса, да и внутренне, видать, тот же…
Степанов смотрел на него сейчас и думал: большой руководитель как живой человек существует лишь для тех, кто с ним близко знаком, для остальных же он не более реален, чем портрет маслом… В жизни, считал Степанов, руководители такие же обыкновенные люди, они тоже много грешат и заблуждаются в своей трудной жизни…
Тут он услышал свою фамилию, поднялся, подошел к столу. Поздоровался.
— Как живешь, старый знакомый? — буркнул министр.
— Обживал золотую тайгу, а теперь предлагают алмазную, — ответил Виталий Петрович.
— Степанов экономическую реформу провел одним из первых. Результаты все знают? Полезно напомнить: по сравнению с прошлым годом на Кварцевом на четверть увеличилась добыча руды, на пять процентов поднялось извлечение золота, на двадцать процентов снизилась себестоимость грамма, почти удвоился фонд предприятия — и все это при сокращении численности работающих на сто человек. Расскажи кратко, Виталий Петрович, как вы добились этого, — попросил министр, откидываясь на спинку кресла.
Степанов зачем-то посмотрел в потолок и пробасил:
— За счет сочетания общественного с личным. Буровики, экскаваторщики, бульдозеристы или, скажем, шоферы теперь перекура с дремотой не делают, а кто и сделает, так товарищи вежливо разбудят, потому что каждой минуте счет ведут. Сократился ремонт, бережнее с техникой обращаться стали, в полтора раза возрос коэффициент рабочего времени механизмов. Кончаем с растранжириванием материалов, любой гвоздь ценим. Избавляемся от лишних людей. Например, рабочие драги просили об этом сами: заработки подхлестывают. — Степанов замолчал, ожидая возможных вопросов.
— Экономическая реформа, видать, у вас завершена? — хитро улыбаясь, спросил министр.
Степанов отрицательно покачал головой.
— Этого я не говорил. Вот пример: министерство еще путает наши карты — произвольно изменило процент отчисления прибылей. Такое, с позволения сказать, планирование только лихорадит предприятие…
Министр перебил Виталия Петровича:
— Опять за свое! Читал я твои докладные, впредь учтем критические замечания… А сам-то критику научился любить? — усмехаясь, спросил он. И добавил: — Критика — горькое лекарство, но оно никому не противопоказано… Есть к нам вопросы?
Вопросов у Степанова было много — о проектной документации по новому комбинату, о деньгах, транспорте, строительной базе, рабочей силе. Все эти дела требовали решения министерства.
Министр недовольно заметил:
— Он прав. Уж если думаем об охоте, следует заранее накормить собак. В течение трех дней подготовить и рассмотреть у меня все вопросы товарища Степанова.
— В этот срок я отказываюсь переварить все эти вопросы, — пытался возразить незнакомый Степанову член коллегии.
Но министр сразу обрезал его:
— Вы не на обеде, чтобы отказываться что-то переваривать, ясно? Степанова в должности утверждаем. Нет возражений?
Степанов всегда поражался энергии, напористости, силе воли министра и видел, что и теперь, спустя полтора десятка лет, время оказалось бессильным надломить этого незаурядного человека. В то же время Степанов почему-то подумал, что министру часто приходится трудно: у него, наверное, мало настоящих друзей, а выбирать их не позволяет положение. Возможно, и даже наверняка, у него, как у всех смертных, что-то побаливает, он сидит на осточертевшей диете и пьет вместо вина боржом, мучается бессонницей. У него уже давно нет личной жизни, он не принадлежит себе, но изменить что-либо не в его власти… «Завидовать нечему!» — решил про себя Степанов, покидая зал заседаний уже директором Заполярного комбината.
В коридоре его поджидал Девкин.
— Здорово, Виталий. Не узнал? — окликнул он, схватив Степанова за локоть. — Учились вместе в Горном, помнишь? Еще вместе играли в волейбольной команде… Конечно, меня теперь трудно узнать…
Степанов улыбнулся, с трудом припоминая состав институтской волейбольной команды… Кажется, Девкин действительно играл в ней! Но тот Девкин был совсем иным. Просто не верится, что жизнь способна так изменять людей…
Они присели на диван и несколько минут болтали о веселых студенческих годах.
— Помню, ты в институте был среди нас наиболее толковым, а теперь вон как получилось… — сочувственно сказал Степанов.
Девкин, тяжело дыша, мрачно ответил:
— Видно, умная голова дураку досталась. Да что говорить, у нас своя собака своих кусает. Помогай однокашнику! Мы, провинциалы, должны помогать друг другу, тянуть друг друга, должны заткнуть за пояс этих кичливых москвичей… Нас должна объединять провинциальная спайка, провинциальная самоуверенность, если хочешь знать…
— Чего же тебе не хватает? — ухмыляясь, спросил Степанов.
— Блата. Протекции.
— А ума?
— Это не главное. Ума должно быть ровно столько, сколько требуется по должности, не больше. Я убедился: важнее бычье упорство, — хрипел Девкин.
Они помолчали. Спорить Виталий Петрович не стал, понимая состояние Девкина. Тот достал из кармана пузырек с таблетками, положил одну под язык и, прикрыв глаза, спросил:
— Как мне жить-то теперь?
Степанов похлопал его по плечу:
— Каждый день, дружище, нужно жить так, как будто он последний. Думай о другой работе.
Девкин открыл глаза, выправил сутулую спину.
— Если мне суждено, чтобы меня сожрал волк, то уж лучше пусть это будет знакомый волк… Возьмешь к себе? Анкета у меня чистая, потому что всегда придерживался правила: взбираясь по лестнице успеха, старайся не запачкать ноги, чтобы, спускаясь, не запачкать рук.
— Хорошо. Приезжай. О должности договоримся на месте. Извини, я тороплюсь. — Степанов пожал ему руку и зашел в первую же дверь: следовало не откладывая позвонить дочке.
Самое разумное будет, если она поживет с матерью на Кварцевом, — зимой он Лиду на север брать не будет. Согласится ли дочка на такое предложение или будет мучить себя и их?.. Виталий Петрович с душевной тревогой набрал ее номер телефона. Ответила она.
— Доченька, это я. Через три дня я улетаю на Кварцевый. Оттуда меня переводят на север — строить новый комбинат. Решение коллегии сейчас состоялось. До весны мама останется на Кварцевом одна. Я взял на самолет два билета, — надеюсь, ты успеешь уложиться за эти дни? — как можно веселей спросил он.
Наступила пауза. Он напряженно ждал ответа.
— Мне надоело быть собачонкой, которая ждет, когда ее приласкают. Милостыни мне от него не нужно. Спасибо, папа! Конечно, успею, — всхлипывая, ответила Светлана.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
1
В квартире Курилова вкусно пахло пирогами. Проголодавшийся Валентин глотал слюну.
Пока он принимал теплый душ, Александр Максимович возился на кухне с самоваром, разжигая его пихтовыми шишками.
Приходила уборщица, принесла противень с пирогом и крынку топленого молока. Хозяин оставлял ее пить чай, но она, перекинувшись с Куриловым несколькими словами о здоровье его жены, деликатно удалилась, пожелав спокойного отдыха после долгой дороги.
Валентина разморило после душа, и он, сидя на диване, клевал носом. Проснулся от громкого приглашения хозяина:
— Подсаживайся, Валя, чаевничать.
На столе уютно урчал самовар. Александр Максимович длинным охотничьим ножом разрезал подогретый рыбный пирог.
— Домовничать самому приходится, моя хозяйка уехала к матери на Урал, скоро мне отцом быть. А ты какого рода-племени? — спросил он.
Валентин положил на тарелку теплый кусок пирога и, помолчав, ответил:
— Матери у меня нет. Была врачом, погибла на Отечественной. Отец — горный инженер, сейчас на партийной работе.
Курилов внимательно поглядел на Валентина и со вздохом заметил:
— Плохи у твоего отца дела. Не мог сына воспитать, а обязан по должности воспитывать тысячи людей.
— Сорвался я сам. Отец не виноват, он делал для меня все, — возразил Валентин и залился краской.
— Видать, лишку делал. Ты, Валентин, должен понимать, как трудно быть партийным работником. И сыном его быть тоже не легко!
В прихожей раздался звонок, и хозяин, сунув ноги в чуни, пошел открывать дверь.
Зашел сторож Тихон с берестяным туесом, верхом набитым дымчато-синеватой голубикой. Тихон был коренастый, лохматый, словно только что взял да вышел из лесов пень…
— В паужин набрал, — сказал он, кивнув на ягоду и ставя туес к пирогу.
От приглашения пить чай он отказался: на посту не положено.
— Когда в полевой маршрут пойдешь, Тихон? — спросил хозяин гостя.
Но тот отрицательно замотал головой:
— Не понуждай, еле брожу, я весь как поломанный.
— Ну и ну! Значит, на разведке крест поставил? А ведь какой матерый золотоискатель был! Он золото, как собака, нутром чуял, много разведал его на своем веку, — рассказывал Курилов Валентину, протирая стекла очков бумажной салфеткой.
— Оно, конечно, так… Только свое я по тайге избегал, нужно и ко двору приставать. Сторожую, и слава богу! Ребята, как птенцы оперившиеся, разлетелись в разные стороны: старшой, Митрий, офицером служит; меньшой, Ванюша, значит, заскребыш, на инженера-геолога выучился, вроде меня где-то по северной тайге шарит; дочка врачует на Сахалине. А мне ково там в маршрут! Надысь малость с ружьишком на коз пробродил, так три дня отдыбиться не мог.
После ухода Тихона хозяин водрузил туес на стол.
— Угощайся, Валя, не стесняйся.
Валентин сладко зевал и откровенно посматривал на диван — как бы скорей притулиться. Курилов принес постельное белье, подушку и, пожелав гостю спокойной ночи, ушел в свою комнату.
Валентин постелил себе на диване, погасил свет и, лежа с открытыми глазами, вспоминал дом. Ему стало жаль отца, стыдно за себя, захотелось вернуться, но он понимал, что сейчас об этом он не может даже думать…
2
Наутро Валентин проснулся с мыслью, что нужно немедленно телеграфировать отцу о месте своего пребывания, послать весточку — родители, конечно, беспокоятся о непутевом сыне. Быстро вскочил, принял душ, почистил от пыли костюм, причесался. Курилова уже не было. Подождав его с полчаса, Валентин вышел на солнечную улицу и, направляясь к большому кирпичному зданию, встретил Александра Максимовича.
— Я за тобой шел. Пойдем завтракать! — позвал тот.
Они вошли в большое здание — здесь теперь размещались столовая, клуб горняков и другие бытовые предприятия поселка. Сели за столик. Валентин с интересом оглядывался вокруг. Ему пришло в голову, что, возможно, здесь когда-то сидели, как вот он сейчас сидит, декабристы… В окно было видно полуразрушенную тюремную стену. В ее провалах Валентин заметил трактор и грузовик, — видно, бывший тюремный двор использовался сейчас как гараж.
— Отец знает, где ты находишься? — спросил Курилов, ложкой размешивая в чае сахар.
— Нет.
— Значит, тоже беглый? Пиши телеграмму, я пошлю, — вынимая из кармана бланк, сказал он.
Валентин с благодарностью улыбнулся.
«Извини причиненные неприятности подробно напишу письмо тчк Крепко обнимаю твой Валентин».
Далее следовал адрес.
Курилов держался просто, общительно и шутливо заявил, что Валентину повезло — работать под руководством такого опытного начальника геологической партии!.. Предложил осмотреть разведочные работы. Валентин охотно согласился.
За чаем Александр Максимович рассказал Валентину, что здесь еще в конце семнадцатого века воевода Власов положил основу горному промыслу, начав разработки свинцовых руд. Но в царские времена правители больше думали о превращении рудников в каторгу. Потому горный промысел в Даурии к началу нашего века зачах. Возрождение края началось после Октября.
— Наши геологи разведали много новых месторождений металлов, на которых возникли рудники и заводы, — с гордостью заметил Курилов.
Молодые люди сели в новенький «Москвич». Александр Максимович осторожно тронул машину с места. Поворот — и перед ними встала голая гора, изрытая, наподобие мышиных нор, старыми шахтами и штольнями, обрушенные устья которых были видны издалека. «Москвич» с трудом взбирался по крутой дороге. Остановился у просевшего крепления давно заброшенной штольни.
— Здесь работали декабристы, — сказал Александр Максимович, показывая рукой на покосившиеся бревна, торчавшие из земли.
По лестнице они спустились в узкую щель-выработку, стенки ее при свете карбидной лампы искрились свинцовой рудой. Взволнованный Валентин присел на валун, когда-то выщербленный кандальным железом.
— По преданию, — пояснил Александр Максимович, — здесь отдыхали измученные каторжники. Закованные в цепи декабристы работали в шахте с пяти часов утра, каждый должен был отбить не менее трех пудов руды и перенести ее на носилках, а глубина некоторых шахт доходила до семидесяти сажен… Каторжный труд во вредном свинцовом руднике подкашивал их силы, разрушал здоровье. Знаешь, что доносил тюремный врач начальству? «Трубецкой страдает болью горла и кровохарканьем; Волконский слаб грудью; Давыдов слаб грудью, и у него открываются раны; Якубович от увечья страдает головой…»
С тяжелым чувством поднялся Валентин из шахты на поверхность.
Курилов остановился, поджидая его, и, протянув в сторону горы руку, сказал:
— Острог стоял вон там, у самого подножия горы. Это была казарма, притом темная и очень грязная, кишевшая паразитами. Люди буквально задыхались от смрада, единственной их отрадой было то время, когда их выводили, чтобы спуститься в шахту. А шахту ты видел сам. В этой тюрьме и состоялась встреча Волконской с мужем…
Потом, дружески потрепав Валентина по плечу, перевел разговор на другую тему:
— Ну, истории, пожалуй, хватит… Поговорим о современности! Ты кто по специальности, Валя?
— Геолог. Но не закончил, ушел с пятого курса, — неохотно признался Валентин.
— Это ты зря!.. Но дело твое. Если хочешь, иди в разведку рабочим, а там посмотрим. Сегодня же выходи на смену, люди нам очень нужны, работы невпроворот, дружище…
Они стали спускаться к «Москвичу», у которого стоял чернявый парень с расплюснутым носом и ртом, словно трещина в пироге. Он настороженно оглядел Валентина и спросил:
— Александр Максимыч, геофизику будем ладить?
— Конечно, конечно. Знакомьтесь: Валентин…
— Рудаков, — подсказал Валентин и протянул руку.
— Костя, — нехотя представился тот.
— Что так нелюбезно? — спросил его Александр Максимович.
— Известно, с городскими гастролерами не успеешь поздоровкаться, как пора прощаться, — бросил Костя.
— Ты тоже летун не из последних, — осадил его геолог.
Костя подмигнул.
— От бабы своей бегаю, осточертела до смерти.
— Сам-то откуда? — задиристо спросил Валентин.
— Тутошний, — хихикнул тот и добавил: — А я тебя знаю, на Кварцевом встречал. Самородку он нашел, ну, и, словом… блаженный! — объяснил Костя геологу.
Потом начальственно закричал на Валентина:
— Что зенки на меня пялишь? Пошли грузить оборудование!
Так началась рабочая жизнь Валентина.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
1
Миновали кирпичные станционные здания с паутиной рельсов между ними, высокие опоры с неводом электрических проводов, и Георгиев затормозил машину у грузового причала. Он видел, как его помощник Снегов, подгоняемый ветром, удалялся в сторону плескавшейся в темноте реки.
У причала грузчики в серых плащах разгружали баржу. Под навесом склада тускло светились голые лампочки. Порывистый ветер с мокрым снегом надувал плащи грузчиков и с шумом трепал их мокрые полы. Снегов пошел, нагибаясь, навстречу ветру, осмотрел дорогу, что вела от причала к косогору, на котором стоял приземистый домик с одним светившимся в темноте оконцем.
На глинистой дороге к домику никаких следов автомашины не было видно. Снегов повернул к складу и, укрываясь от дождя, исчез под низким навесом.
Василий Павлович закурил, сунул руку в карман шинели и достал телеграмму: жена уведомляла, что через Москву проедут дочка с мужем. Он вздохнул: в эти дни не сможет вернуться домой… Дочку и зятя не видел три года — с тех пор, как они уехали на Камчатку, где он командует, а она учительствует в местной школе…
А давно ли он встретил Елену!.. Была она тогда моложе, чем сейчас дочка, стукнуло ей всего семнадцать лет. При ее маленьком росте выглядела она школьницей. Это было в войну, в западнобелорусском городишке, в госпитале. Елена была в его палате и сиделкой, и нянькой, и медсестрой, и ангелом-хранителем. Много вечеров и ночей проговорили и промолчали они вместе.
Георгиев быстро поправился и стал провожать ее с дежурства. Как-то за полночь, проводив ее, как обычно, до дома, Георгиев, сказал Елене, что через три дня они расстанутся: он должен возвращаться в часть. Елена ничего не ответила, только опустила голову. Она знала об этом раньше его. Молчал и Георгиев. Предстоящая разлука пугала его, но он знал, что изменить ничего не может. Словно очнувшись от оцепенения, Елена дернула деревянную ручку звонка. Подняла голову и влажными глазами посмотрела на Георгиева. За темными воротами послышались шаги, заскрипел ржавый запор, и в открытой двери появилась старуха в вязаном платке на плечах. При тусклом свете фонаря привратница недовольно посмотрела на Елену и, пробормотав что-то, выжидающе уставилась на Георгиева.
Елена что-то сказала ей, но та отрицательно покачала головой. Елена, настаивая, достала из сумочки маленький кошелечек и сунула старухе, потом схватила за руку Георгиева и потянула за собой. Они ощупью поднялись по темной крутой лестнице. Тяжело дышавшая Елена долго возилась с дверным замком. Наконец они оказались в маленькой прихожей.
— Мы одни здесь, подруга на дежурстве, — зажигая свет в уютной комнатке, сказала она и устало провела ладонью по лбу.
— Зачем ты это сделала? Ведь у тебя могут быть неприятности. Может, мне лучше уйти? — спросил он.
— Мне теперь все равно. Я люблю тебя, — еле слышно ответила она и, нагнув его голову, нежно погладила по волосам.
— Я тоже люблю тебя! — вырвалось у него.
— Любишь? Но ты мало знаешь меня… — закрыв лицо ладонями, сказала она и опустилась на диван.
Он сел рядом. Она доверчиво положила к нему на грудь голову и тяжело вздохнула. Они молчали, глядя в посиневшее окно, за которым чернел островерхий силуэт костела, левая грань его серебрилась от лунного света.
— Война скоро кончится, я приеду за тобой, мы поженимся и уедем туда, где есть таежные леса, озера, как на моем севере, — как о давно решенном сказал он.
— И медицинский институт. Я хочу обязательно стать врачом, — добавила она, нежно целуя его в лоб.
И внезапно отодвинулась в угол дивана, вся сжалась, словно защищаясь от удара, быстро заговорила:
— Послушай, что я расскажу тебе… Отец мой белорус, а мать русская, он привез ее из России после революции. Мать была красавицей, но из простонародья, а отец сельский врач и очень ревнивый. Они часто ссорились, незадолго до войны разъехались, я осталась с матерью. Налетела война, в первый же день отец пришел попрощаться — уезжал на фронт. И больше я его не видела. В первом же бою его убили.
Елена встала и, подойдя к окну, нервно повела плечами.
— Мать погибла у меня на глазах, когда мы с толпой беженцев грузились в товарные вагоны. Это было ночью. Страшная была бомбежка… «Юнкерсы» закидали станцию сначала зажигалками, подожгли вагоны, а когда обезумевшие женщины, дети и старики повыскакивали на пути, раздались подряд три взрыва. Фугаски… Словом, хоронить было нечего…
Плечи ее затряслись. Он подошел к ней, обнял, прижал к себе. Немного успокоившись, она продолжала:
— Потом путь на восток. Под непрерывными бомбежками… Крик, плач. Смерть на каждом шагу… Не помню, как добрели сюда. Здесь и остались. Потом подошли советские войска. Я чудом выжила, хоть после всего жить мне не хотелось. Поступила в госпиталь, живу как во сне, все мне кажется ненастоящим, чего-то жду, чувствую, что все это призрачно…
— Что призрачно? — спросил он.
— Все вокруг… мы… — грустно улыбнулась она.
Постелив ему, Елена ушла из комнаты, притворив за собою дверь. Он постоял у окна, наблюдая, как по крутой крыше соседнего дома осторожно кралась черная кошка; когда кошка скрылась за трубой, он разделся, лег и долго еще думал. Заснул, когда окно зарозовело и где-то во дворе закукарекал петух.
Проснулся внезапно от ласкового прикосновения и увидел склоненную над собой копну черных, пахнущих росой волос и карие глаза. Елена испуганно вскрикнула и отшатнулась, но он обнял ее за плечи и притянул к себе.
…Они прожили вместе только три дня — Георгиев выписался из госпиталя и возвращался в часть. Он просил ее, настаивал, умолял зарегистрироваться до отъезда, но она не соглашалась, не хотела ничем стеснять его. Она обещала лишь писать на полевую почту. Больше он от нее ничего не добился.
Расставаясь, она горько, навзрыд плакала, будто прощалась навсегда. На вокзал не пришла, но он увидел ее из окна уже шедшего поезда: она стояла у колодца с распятым Христом и махала белой косынкой. В эту секунду он понял, что если сейчас же не спрыгнет с набиравшего скорость поезда, не заберет с собой, то потеряет ее навсегда. Растолкав сгрудившихся в тамбуре солдат, он спрыгнул с подножки…
…Снегов тихо открыл дверцу. Георгиев вопросительно взглянул на него. Смахивая дождевые капли с воротника шинели, Снегов недовольно буркнул:
— Никто не приезжал. Бокс мой накрылся, уже не увижу его по телеку. Жалко, встречи очень интересные, но ничего не поделаешь — служба. Василий Павлович, а может, эту шваль следовало взять еще вчера?
— Юрий Яковлевич, смешно слушать, что ты говоришь. Потерять наживку?
Снегов не ответил: Георгиев, как всегда, был прав.
Василий Павлович закурил сигарету и приспустил стекло в дверце. Стало отчетливо слышно, как на улице монотонно шумит ветер.
— Хватать и не пущать — дело несложное… Вот мне, например, труднее понять, выяснить причины: почему человек, которого выучила наша школа, комсомол, озлобился, предал Родину?.. Ты задумывался над этим?
Снегов не ответил. Он не считал нужным церемониться с врагами, а тем более задумываться над причинами их враждебности. Снегов думал, что полковник формалист, ему подавай целую кучу доказательств. Но, наверно, Георгиев в принципе прав. Ведь может пострадать невиновный!..
Василий Павлович достал ручной микрофон и, кашлянув, негромко сказал:
— Я — «Сирена», «Сирена». Где вы?
Снегов быстро настроил радио. Немного похрипев, приемник ответил:
— Я — «Мальва», я — «Мальва». Идем на погрузку, ждите.
Георгиев покрутил винт настройки и остановился на легкой музыке. Расстегнул ворот шинели, достал пачку фотографий.
— Недавно у одного железнодорожного переезда попала в аварию туристская машина, ее сбил маневровый паровоз. При осмотре разбитой машины обнаружены два тайника с золотыми монетами царской чеканки. Вот, Юрий Яковлевич, посмотрите фотографии, — передавая снимки, предложил Георгиев.
Снегов перебирал фотографии и видел тайники в полу передней части машины, на уровне дверных петель. В этих местах виднелись резиновые пробки, чтобы выпускать воду с пола. Было видно, что пол здесь двойной и образует вместительное пространство. Около пробок — отверстия, заделанные жестяными кружочками. Они заклепаны, сверху закрыты ковром.
— В багажнике под ковриком лежало сто двадцать тысяч советскими деньгами, — рассказывал Георгиев. И вдруг спросил: — Смысл деятельности этого «туриста» ясен?
— Не совсем, — буркнул Снегов: самолюбивому человеку трудно признаваться начальству в своей неосведомленности…
— «Турист» привез к нам монеты для продажи, а наши деньги собирался увезти за границу.
— А не наоборот? — усомнился Снегов.
— Еще недавно наши контрабандисты вывозили золото за кордон, а теперь они пытаются вывозить наши рубли в больших суммах. Зачем? К примеру, в ряде стран за наши деньги скупается золото по паритетной стоимости — один грамм за рубль, то есть за десять рублей десять граммов…
Послышался автомобильный гудок, и Георгиев смолк, с напряжением вглядываясь в темноту.
— Потом это золото подпольно ввозится к нам. Царскую десятку «туристы» продают нашим фарцовщикам уже во много раз дороже. А те в свою очередь перепродают ее нашим любителям золотого тельца еще с наваром. Поинтересуйтесь его машиной в этом плане! — Услышав теперь близко шум мотора, Георгиев прервал свой рассказ.
Мимо причала проехала «Волга», медленно взобралась на косогор и остановилась у приземистого домика с резными петухами на фронтоне. В машине выключили свет, и через несколько секунд хлопнула ее передняя дверца. Старик с черной повязкой на левом глазу, в кирзовых сапогах и ватнике вышел из машины и, взвалив на плечи мешок, скрылся в домике.
Бесшумно подъехал «газик» и, став сзади, загородил собою выезд.
К Георгиеву подошел офицер в плащ-накидке.
— Товарищ полковник, задержались по вине Борзовского, он петлял по Зареченску, уже был у Пухова. В ресторане подсадил какого-то приискателя, называл его Варфоломеем, он здесь, — простуженным голосом доложил офицер.
Георгиев слушал молча. Он думал, что Варфоломей, по-видимому, является одним из источников утекающей информации о золотодобыче на Кварцевом руднике.
Прошло много времени. Когда человек в ватнике вышел из домика, Георгиев скомандовал:
— Пошли!
Они втроем направились к темной «Волге». Вдруг машина ожила, затарахтела и сорвалась бы с места, но Снегов рванул дверцу и успел выключить зажигание.
— Ваши документы! — потребовал Георгиев у растерянного Борзовского, бесцельно крутившего баранку.
— А кто вы такие, чтобы требовать документы? — Борзовский отодвигался на соседнее место и судорожно нащупывал ручку правой дверцы.
Снегов открыл дверцу и загородил собою выход. Борзовский неприязненно посмотрел на Снегова, пытаясь сохранить спокойствие.
— Предъявите документы! — еще раз потребовал Георгиев.
— Зачем?
— Пошли, Борзовский! — дотронувшись до его плеча, приказал Снегов.
— Это произвол!.. Если хотите — нарушение Конституции, надругательство над правами гражданина… Вы понимаете, что вы делаете?.. Вы еще ответите за это, за меня есть кому заступиться!.. — угрожал Борзовский, шлепая по грязи к «газику» с брезентовым верхом.
Офицер в плащ-накидке хрипло доложил Георгиеву:
— Старик Варфоломей тоже в машине. Говорит: с золотых приисков ехал, Борзовский только подвозил его. При личном обыске у старика нашли мелкие золотые самородки. — Офицер покачал на ладони увесистый мешочек. — Очевидно, воровал с дражных шлюзов и привозил перекупщику. Задержанных отправлять сейчас же или ждать Пухова?
— Отправляйте. Сохраните наблюдение за домом, а мы пойдем в гости к Пухову, — распорядился Георгиев. И добавил: — По делу Птицына известно, что Пухов занимается не только скупкой золота.
2
Пухов торопливо натянул на себя ватные брюки, фуфайку, кирзовые сапоги и шапку-ушанку и взглянул в зеркало — теперь он походил на бывалого приискателя. В рюкзак поспешно запихнул пестрый пиджак, фланелевые брюки и рубашки. Осталось забрать из подпола золотишко, и он покинет вместе с Борзовским опасный для него Зареченск… Да, под глиняной собакой нужно еще забрать записку Варфоломея, он писал о добыче золота на Кварцевом за полугодие. Вдруг Пухову почудилось, что тихонько открылась входная дверь, он выключил свет и выхватил из кармана парабеллум.
Щелкнул выключатель. На пороге стояли двое военных. От неожиданности Пухов закричал:
— Не подходите, буду стрелять! — и трясущейся рукой поднял пистолет.
— Опустите оружие, — приказал Георгиев, прямо направляясь к Пухову, но тот продолжал истерически орать:
— Не подходите, буду стрелять!
Снегов мгновенно подскочил к нему, вывернул руку и выхватил пистолет. Пухов отошел в угол комнаты, прислонился к стене, защищаясь от нападения сзади.
В комнату вошли и молча остановились у порога понятые — хромой вахтер и молодая женщина в цветастом платке.
— Где вы храните ворованное золото? — спросил Георгиев, предъявляя ордер на обыск.
Пухов, со страхом глядя на пришельцев, молчал, плохо соображая, что ему делать, — не хватило буквально нескольких минут, чтобы осуществить задуманное бегство. Он кинулся к двери, но Снегов крепко схватил его за шиворот. Взбешенное лицо Пухова возникло перед Снеговым. Он увидел желтые, прокуренные зубы, звериный взгляд черных глаз, кожу в красных пятнах и читал яростную злобу на перекошенном лице. Снегов подумал: «Не будь я чекистом, разрисовал бы твою наглую морду по первому разряду».
— Полезайте в свое логово и сдайте все скупленное золото, — скомандовал Георгиев, оглядывая подполье.
— У кого скуплено? Вы бредите, полковник, — нагло ответил Пухов.
— У Пирата. Дражное, — спокойно пояснил Георгиев.
Пухов остолбенел. Полковник назвал лагерную кличку Варфоломея, — значит, упираться бессмысленно. Пухов сел на пол, осторожно спустил в отверстие ноги и стал сползать вниз. Вдруг он закричал, выругался, — наверное, накололся на вилы. Снегов, подсвечивая фонариком, видел, как Пухов долго тер локоть, потом дергал из земли заостренные черенки со ржавыми вилами, отдыхал, сидя на рассыпанной по подполу картошке.
Снегов осмотрел разбросанные по столу бумаги, полистал кулинарную книгу, выдвинул ящики буфета, случайно толкнул глиняную собаку. Записку, что лежала под ней, показал Георгиеву.
— Так, так… Протоколируйте, Юрий Яковлевич, и будем заканчивать, — устало распорядился Георгиев.
Он подошел к подполу и увидел стенку из гнилых, скользких бревен, земляной пол, заваленный картошкой. От кадки с квашеной капустой несло кислятиной, на полу виднелись круглые следы, — должно быть, перекатывали кадку, освобождая место для плетеной корзинки с картошкой.
Василий Павлович взглянул на Пухова — тот стоял на коленях и разгребал пыльную картошку, его ватник, руки, волосатое лицо были в грязи.
Наконец Пухов вытащил тяжелый темный пузырек и с размаху разбил его о скользкое бревно. Золотой песок под лучом фонарика тускло поблескивал на пыльном земляном полу, на который с криком отчаяния рухнул Пухов.
«Еще с одним вонючим подпольем покончено, а сколько их еще впереди», — подумал Георгиев.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
1
Сегодня распорядок рабочего дня Северцева был нарушен с самого утра и все записанные на календаре текущие дела оказались отложенными в сторону.
Из Госплана поступил в институт материал для срочного заключения по очень серьезному и важному вопросу, который подлежал обсуждению в правительстве. Суть дела заключалась в том, что отраслевой главк министерства составил перспективный план строительства алмазных предприятий. Госплан поручил институту произвести оценку их экономической эффективности. Положение Северцева оказалось сложным: он знал, что некоторые из намеченных главком предприятий окажутся неэффективными, об этом он ранее ставил в известность начальство, но последнее, не посчитавшись с расчетами института, внесло свои предложения в Госплан. Из соображений личного благополучия, ему следовало бы поддержать главк, — во всяком случае, не критиковать его, отписаться. Но Северцев помнил одно предприятие, бездумно построенное еще при совнархозе и к тому же еще недавно расширенное, которое теперь из-за отсутствия рудных запасов являет собой памятник инженерному тупоумию.
Прошлую ночь Северцев придирчиво знакомился с геологическими материалами по этим месторождениям, их запасами, качеством алмазов, их классификацией по крупности. К утру составил баланс потребности алмазов по сортам и, вычтя из него возможное производство искусственных алмазов, пришел к выводу, что строить нужно только Заполярный комбинат. Подобный вывод экономил стране только на капиталовложениях сотни миллионов рублей, но он шел вразрез с предложениями главка. А может быть, он, Северцев, ошибается? Нет, строительство этих предприятий, дающих мелкие алмазы, обойдется на сотни миллионов дороже строительства заводов, их полноценных синтетических собратьев, тут двух мнений быть не может.
Прохаживаясь по кабинету, главный инженер Парамонов говорил:
— Ведь более четырех пятых добываемых в мире алмазов идет на технические цели — на абразивные круги, заточный инструмент, буровые коронки, фильеры, — на эти нужды теперь пригодны синтетические алмазы. Быстрое заводское производство этих алмазов выгоднее, чем дорогостоящее строительство на Севере предприятий, добывающих низкосортные алмазы. Если нужно, можно подсчитать точнее, но я ручаюсь, что счет будет идти на сотни миллионов в пользу синтетических.
— А Заполярный нужно строить на максимально возможную производительность, его алмазы по качеству вне конкуренции, — заметил Северцев и опять задумался. Как поступить ему, Северцеву? Только сейчас он почувствовал всю тяжесть ответственности, которая лежала на его плечах. Он поблагодарил Парамонова за помощь в расчетах и, оставшись один, стал думать над каждой стороной заключения. Он обязан был строго аргументировать свою позицию.
Отправив с нарочным заключение, Северцев собрался было к Проворнову, закончить прерванный когда-то разговор о подводных делах, но появился… запыхавшийся Степанов: он выполнял поручение министра и пытался согласовать с главками свои просьбы по Заполярному комбинату.
— Прибежал к тебе: помогай, сват! Для министра срочно нужна спецификация основного оборудования! — на одном дыхании выпалил он.
Они не виделись давно. Занимаясь делами стройки Заполярного комбината, Степанов редко приезжал в Москву. В прошлый приезд, на заседание коллегии министерства, повидаться им не удалось, так что об отъезде Светланы в Зареченск Северцев узнал лишь после того, как получил от нее письмо. Виктор избегал разговаривать с отцом о своих семейных делах.
Северцев вызвал Парамонова, и тот принес толстую ведомость, протянул ее Северцеву. Сели за длинный полированный стол. Михаил Васильевич, перелистав страницы, отложил ведомость в сторону.
— Я уже вам раз говорил, что с такой спецификацией я не согласен.
Главный инженер недовольным тоном возразил:
— Я всегда защищаю привилегию быть несогласным, но настаиваю при этом на равной ответственности при разрешении разногласий. Другого оборудования у нас сейчас нет, уважаемый Михаил Васильевич.
— Не будем мудрствовать лукаво. Скажи, Виталий Петрович: с какими экскаваторами ты начинал строить Кварцевый?
— С двухкубовыми.
— А сейчас там работают восьмикубовые, проходит опытное испытание двенадцатикубовый, так? — повернувшись к Парамонову, спросил Северцев.
Тот дипломатично промолчал. Северцев задавал ему все новые и новые вопросы:
— Самосвалы мы с вами на Сосновке имели трехтонные, потом десятитонные КрАЗы, так? Теперь двадцатипятитонные БелАЗы, их уже сменяют сорокатонные, так ведь? В серию скоро запускаются семидесятипятитонные, испытывается опытный образец стодвадцатитонного самосвала, это вам известно, товарищ главный инженер? — Еще раз перелистав ведомость, он опять недовольно заметил: — Бесшаровые мельницы диаметром пять и семь метров… Почему? При такой огромной производительности комбината экономичнее будут мельницы девяти- и одиннадцатиметровые, согласны?
— Согласен, но их еще нет, — буркнул Парамонов. Он злился на директора: вечно всем недоволен, больше всех ему надо…
— Еще раз вам говорю: и не будет, если мы не заложим их в проект! Вы знаете, что у нас в стране из десяти работоспособных мужчин и женщин девять уже работают? Людей больше не добавишь, нужно резко повысить производительность их труда за счет внедрения мощных машин и автоматизации процессов!
В спор вмешался Степанов.
— Мне сегодня нужно заявку писать. На какое оборудование прикажете сочинять? — хитро улыбаясь, спросил он.
— Конечно, строительство комбината будет вестись на сегодняшнем серийном оборудовании. А руда через пять лет должна добываться оборудованием в три-четыре раза более мощным. Его мы сегодня должны заложить в проект, сконструировать, испытать, запустить в серию. Вот наш конкретный вклад в научно-техническую революцию в горном деле… — Северцев отдал Парамонову злополучную ведомость для переделки.
Главный инженер встал и молча удалился.
— Что еще мне записать в предложениях министру? — попросил совета Степанов.
Прежде чем ответить, Северцев закурил и задумался.
— На первое время проси импортные буровые станки и самосвалы, ты уже писал о них министру. Второе: пока, к сожалению, у нас нет комплексных инженерных фирм, но есть специализированные строительно-монтажные организации. Нужные тебе необходимо закрепить за стройкой комбината.
Степанов, соглашаясь, закивал головой. Прозвенел телефон. Северцев подошел к столу, снял трубку.
— Когда же будет готова, в конце-то концов, ведомость оборудования по Заполярному? — услышал он дребезжащий голос Филина. — Мне за вас досталось от министра. Немедленно привезите ее!
— Старая спецификация не годится. Новая будет готова к утру. — На щеках Северцева заходили желваки.
Трубка зашипела, и Михаил Васильевич еле разобрал:
— Я уже написал рапорт о вашем освобождении за срыв сроков проектирования и другие художества… Я информирован о вашем заключении. Подумать только — выступить против главка. Непостижимо!
Дальше слушать он не стал.
«Всего несколько месяцев назад, — думал он, — Северцев был пригоден для министерской должности, председатель совнархоза приравнивался к рангу министра. А теперь стал не годен для директорской. Что изменилось с тех пор? Северцев остался таким же, каким был несколько месяцев назад, хуже не стал, глупостей как будто не натворил, работал, как обычно, с душой…»
—Кто это звонил? — поинтересовался Степанов.
— Кто?.. Борец за… свое кресло.
— Видать, мужик душно́й — пахучий, значит.
С громким стуком широко раскрылась дверь, и в кабинет ввалился незнакомый, лысый, с густыми бровями, пожилой человек в куцем пиджачке, на котором пестрели колодки от медалей.
— Я член комиссии по расследованию вот этого заявления, познакомьтесь, — приказным тоном сказал пришелец и передал Северцеву бумагу.
— Оставьте, я познакомлюсь. А сейчас я занят, извините, — с удивлением глядя на члена комиссии, ответил Северцев и положил заявление в папку.
— Оставить не могу, прочтите при мне, — предупредил пришелец и уселся против Северцева.
Михаил Васильевич повернулся к Степанову, продолжая прерванный разговор:
— Третье: нужно записать поручение машиностроителям — о новом оборудовании. Проблема эта долгая, на нее уйдет несколько лет. Возьмем пример с разработкой технологии добычи алмазов — нам приходилось много плутать в неизвестном, возвращаться назад, не раз начинать все сначала, отказываться от, казалось, решенного… Тернист путь первопроходцев, особенно в науке…
Член комиссии вытащил из кармана платок, громко высморкался и, утирая платком нос, заметил:
— В этой бумаге все точно написано, вы сами подтвердили: частые переделки и, значит, брак в работе.
— Вы кто, простите, по специальности? — поинтересовался Степанов.
— Это не имеет для вас значения. В данное время пенсионер и член комиссии, — снисходительно ответил пришелец.
Степанов показал Северцеву три деловые бумаги. Михаил Васильевич сразу подписал две из них, третью отодвинул.
— Срок записал ты по мельницам «Каскад» нереальный. Назови предельный срок выдачи чертежей! — попросил он.
— Вчера, — упорствовал Степанов. Хотя прекрасно знал, что чертежи по мельницам ему так-то уж срочно и не нужны, на стройке пока нет цемента, металла, не хватает рабочих…
— Липовый график я подписывать не буду, — возвращая бумагу Степанову, сказал Северцев и начал читать поданную ему бумагу.
Эта бумага была без подписи и разоблачала злоупотребления директора. В ней перечислялись известные всем сотрудникам института недостатки в научных и проектных разработках — недостатки, о которых не раз говорилось на общих собраниях, которые отмечались в приказах директора института. Много места в заявлении отводилось денежным премиям: директор произвольничает, своим приближенным платит без счета, а истинных творцов зажимает; квартиры распределяет, как ему вздумается. Писалось и о моральной неустойчивости директора: бросил свою семью, вступил в преступную связь с подчиненным ему геологом Малининой и разбил и ее семью, а самое довел до самоубийства. Северцева нужно немедленно снять с работы и судить по всем строгостям революционного закона только за развал одной Сосновки. Было еще что-то неразборчиво дописано, но Михаил Васильевич разбирать не стал и, вернув бумагу пенсионеру, подумал: «Это тюремный привет мне от Птицына». Насупив густые брови и впившись в Северцева острыми глазками, пришелец как бы вопрошал: что ты есть за человек?
— Что скажете? — нарушил он молчание, видимо так и не составив пока своего представления о собеседнике.
— Клевета что уголь — если не обожжет, то обмажет. Так? Бросьте в корзину эту анонимку, у нас нет времени заниматься подобным бредом, — поднимаясь со стула, спокойно ответил Северцев.
Пришелец отрицательно покачал головой и предупредил:
— Придется заниматься. Есть указание самого Пантелеймона Пантелеймоновича.
— Тогда занимайтесь вместе с ним, но без меня. Извините! — Чтобы дать понять, что разговор окончен, Северцев снова заговорил со Степановым о сроках представления чертежей.
Пенсионер недобро усмехнулся и, бросив: «Мы еще встретимся!» — вышел из кабинета.
Северцев устало опустился на стул и, улыбнувшись, спросил Степанова:
— Ну что, сват, нам с тобой делать?.. Я должен винить твою дочь, а ты — ругать моего сына?.. Так ведь?
— Конечно. А заодно поносить и друг друга — я тебя, а ты меня — за то, что таких дурней воспитали, — в тон ему ответил Степанов.
— Виноват во всем Виктор, он еще недостоин такой жены, — убежденно сказал Михаил Васильевич и затянулся сигаретой.
— А вот я виню во всем Светланку: значит, плохая жена, раз не смогла удержать мужа рядом, — направляясь к двери, со вздохом проговорил Степанов.
2
Зашел без предупреждения смущенный Виктор и, виновато глядя на отца, сказал:
— Виталий Петрович звонил мне сегодня. Вот пришел к тебе за советом…
Михаил Васильевич раздраженно крикнул:
— Ты подумал, в каком она сейчас положении? Ни вдова, ни мужняя жена, не то брошенка, не то отходка, как чалдоны говорят. Ты решил с ней расходиться, да? — допытывался он.
— Я не думал, это она надумала, — подняв плечи, ответил сын.
— Тогда почему ты здесь, а не вместе с ней?! Как ты мог допустить подобное унижение Светланки?! Самое умное, чего достиг человек, — это умение любить женщину! Ведь от любви к женщине родилось на земле все прекрасное… Это сказал не я, а Толстой! Понял ли ты хоть что-нибудь?!
Молчание сына все больше выводило Северцева из себя, пока он не понял, что это молчание было формой протеста против отцовского крика… Он тоже замолчал и принялся ходить, как маятник, из угла в угол кабинета, думая о сложившейся тоже неудачно, тоже одинокой судьбе сына… Просто диву даешься, как мы умеем портить себе жизнь! Невольно с грустью подумал и о своем опостылевшем ему одиночестве, которому теперь уже не будет конца…
Михаил Васильевич присел рядом с Виктором, положил руку на его плечо.
— Ты извини меня, нервы шалят.
— Я знаю: по институту уже поползли слухи о каком-то заявлении на тебя, о главковской комиссии… Это серьезно? — спросил Виктор.
— Все зависит от «кочки зрения», сынок… Так насчет чего совет нужен?
— Виталий Петрович мне сказал, что Светлана сейчас в Приморье — после защиты диплома ее перевели туда. Там же создается постоянная экспедиция нашего института по подводной добыче со дна морей и океанов, верно?.. Ты зря кричал на меня, отец. Я все время думал о Светлане и теперь твердо решил уйти из лаборатории в эту экспедицию. — Виктор замолчал, вопросительно глядя на отца.
Михаилу Васильевичу подумалось, что сын наконец нашел разумное решение. Он одобрительно сказал:
— Оттолкнешь ногой материк и в гости к Садко пожалуешь?..
Перелистывая лежавшие на столе бумаги из вечерней почты, он увидел на приказе подпись своего начальника и, конечно, пробежал его глазами в первую очередь: каждый раз он ожидал очередного подвоха. Интуиция не подвела и на этот раз. С целью концентрации работ на основных объектах Филин предлагал исключить из плана института всю подводную тематику, ликвидировать опытные базы как не имеющие прямого отношения к профилю института. Прикрыв приказ «Горным журналом», Северцев устало откинулся на спинку стула и спросил сына, как движется работа по конструированию подводного скрепера-ползунка.
Виктор усмехнулся и с хитринкой в глазах ответил:
— Эта работа сподручнее механикам и конструкторам.
— Нет, прежде всего — горнякам, технологам. — Северцев взял с журнального столика лист ватмана и стал вычерчивать различные системы подводной добычи, которым, по его мнению, должно соответствовать свое оборудование.
Виктор заинтересовался, стал спорить. Потом вдруг замялся и, озабоченно поглядев на отца, спросил:
— Я слышал в коридоре разговоры… Подводные работы у нас закрывают, это правда?
Михаил Васильевич горько усмехнулся.
— Пытаются, сынок. За все новое нужно драться. А дерутся бойцы, не обозники! — с молодым, как показалось Виктору, задором добавил он.
Свертывая в трубочку ватманский лист, Виктор не без гордости заметил:
— О тебе знаешь как говорят: «Идет, ломая скалы…»
Но отец уже не слушал сына: он думал о том, как попасть на прием к министру, просить его вмешательства и защиты нового дела, в котором завтра будет заинтересовано все человечество…
Раздалась телефонная трель. Звонил заведующий промышленным отделом ЦК. Он пожурил директора за личное нарушение трудового распорядка — рабочий день давно окончен — и спросил, что за отношения у него с начальством: Филин возражает против поездки Северцева за рубеж.
— О поездке я ничего не знаю. Куда и зачем? А вот отношения с Филиным натянуты до предела. Мой, как говорится, заклятый друг сегодня мне сказал, что добивается моего снятия, — прямо смотря в глаза сына, ответил Михаил Васильевич.
— В чем причина подобных отношений?
— Даже не знаю, Алексей Сергеевич… Завидует мне, что ли? Дрожа за свое кресло, боится меня? — пожимая плечами, задавал сам себе вопросы Северцев.
Алексей Сергеевич предупредил: возможно, придется вскорости лететь в командировку в Канаду, там в Комиссии по освоению Севера состоятся научные консультации по этой проблеме — ведь Михаил Васильевич много занимается именно этими проблемами, его кандидатуру предложил научный комитет.
— Командировка интересная, но у меня сейчас дела поважней: пришла комиссия по разбору анонимки… — усмехаясь, говорил в трубку Михаил Васильевич. — Что в ней? Все. Даже повторение сосновских обвинений в моем распутстве. Вы помните?.. Да, у товарища Сашина разбирали мое «дело»… Хорошо. Подумаю и завтра позвоню. До свидания. — И положил трубку.
— Канада? — спросил Виктор и прищелкнул языком.
Михаил Васильевич кивнул головой, взглянул на часы — уже половина девятого — и, выключая свет, предложил:
— Пойдем, сынок, куда-нибудь, перекусим, а то я сегодня так и не выбрался поесть!
В пустой в этот час приемной одиноко сидел Проворнов и листал журнал. При появлении директора он поднялся, растерянно поглядев на младшего Северцева. Виктор понял, что профессор рассчитывал поговорить с отцом с глазу на глаз, и вышел в коридор. Михаил Васильевич, вопросительно посмотрев на Проворнова, показал ему рукой на кабинет, но тот поспешно возразил:
— Я не задержу вас долго, буду краток. Я благодарю вас за смелое решение о внедрении моей конструкции прибора. Прежний директор института, которого я хорошо знал, никогда бы сам не рискнул пойти на такое…
— Не открывайте огонь по ушедшим, — мягко перебил Северцев.
— Хорошо, хорошо, молчу! Так разрешите просить вас оказать мне честь своим присутствием на свадьбе, — торжественно объявил профессор.
Северцев недоуменно уточнил:
— Простите, я не понял: на какой свадьбе я должен присутствовать?
— На моей, — с застенчивой улыбкой ответил Проворнов.
— Поздравляю, профессор. И если не улечу в Канаду, буду непременно. А все же как это вы решились на столь рискованный шаг? — расхаживая по приемной, спросил Северцев. Он думал, что Проворнов просто странным образом шутит, и поддерживал в разговоре с ним шутливый тон.
Но тот пожал ему руку и взволнованно заговорил:
— Одиночество ужасно, особенно когда тебе за шестьдесят. Вам приходилось с температурой сорок градусов самому ползти на кухню за стаканом воды, потому что никого не было с тобой рядом? Ася тоже одинока. Правда, она значительно моложе меня, но тоже натерпелась, бедолага, в жизни и уже ищет надежную пристань… Я вижу, что вы сейчас повторяете про себя слова Вертинского, помните: «Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен»… Так, кажется, у него? Но я решился, и не отговаривайте, пожалуйста, меня, а то я и сам передумаю…
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
1
Десять часов длился воздушный прыжок из Москвы в Монреаль. Под крылом двухэтажного Ту-114, как на киноэкране, проплыли острова и проливы Балтийского моря, серебряные озера Скандинавии, мрачные горы Исландии, покрытая белым саваном Гренландия, и наконец Северцев увидел бухточки американского континента.
Осенняя Канада встретила теплом, так не вязавшимся с представлением об этой северной стране. Долго тянулась процедура оформления документов, и наконец уставшего от долгого полета Михаила Васильевича автобус привез на улицу святой Екатерины. Магазины и рестораны, бары и таверны, бесконечные рекламы торговых фирм создавали облик этой улицы — торгового центра Монреаля. Проезжая окраинами с их двухэтажными кирпичными коттеджами, Северцев невольно вспоминал Лондон. А в центре монреальское небо подпирали небоскребы банков и страховых компаний, международных картелей и синдикатов, фешенебельных гостиниц и магазинов. Здесь был даже свой «Эмпайр стэйтс билдинг», копия нью-йоркского, только в три раза меньше своего американского собрата, и это подражание показалось Северцеву символичным…
Отель, в котором поселили Северцева, был вполне современен: комфортабельные номера с непременной Библией на ночном столике, ресторан с американской кухней.
После ужина Михаил Васильевич решил выйти на воздух. Он присел на пустую скамеечку, стоявшую у фонтана. Красно-зеленые брызги, подсвеченные прожекторами, взметались вверх и мокрой пылью летели в лицо.
Отсюда хорошо были видны небоскребы из стекла и алюминия, толпившиеся на узеньких улочках. Улицы-щели были запружены автомобилями, задушены газами. Рестораны и кафе подмигивали пестрыми огнями. За стеклами ближайшего кафе в зеленоватом свете, как в аквариуме, скользили пары.
…Утром, спустившись в метро, Северцев попал в шумную разноязыкую толпу, устремленную в одном направлении. Город жил Всемирной выставкой, и Северцев тоже направился туда. Стены нового метрополитена сплошь были заклеены плакатами с голубой эмблемой «ЭКСПО-67» и красочными кленовыми листьями с цифрами «100»: канадцы отмечали столетие своей конфедерации. С этим соседствовали рекламы: кока-колы — с откупоренной бутылкой и ночного бара — с обнаженной красоткой.
Стоя в битком набитом вагоне, глядя на окружающих его людей, Северцев чувствовал, что все они поглощены ожиданием интересных встреч. Многие из них приезжают за тридевять земель не ради простого любопытства, думал Михаил Васильевич, глядя на озабоченные лица своих попутчиков, а в поисках ответов на отнюдь не праздные вопросы. Их волнует главное: какова же все-таки Земля для людей последней трети двадцатого века? Чего же достиг человек в своем стремлении к социальному и техническому прогрессу? Каковы хотя бы в самых общих чертах контуры будущего?..
У входа на выставку толпы экскурсантов, смех, шум, возгласы людей всех цветов кожи… Северцев увидел: на электронном табло счетчики фиксируют число посетителей выставки — цифра давно перевалила за тридцать миллионов и все растет и растет. Сегодня, пожалуй, нет более оживленного перекрестка на нашей планете, подумал он, чем эти два острова на реке Святого Лаврентия…
Развернув план выставки, Северцев направился через мост прямо к советскому павильону. Здание виднелось за маленьким проливом — легкое, воздушное, устремленное ввысь.
На выставке царила атмосфера праздничной ярмарки. Сотни лавчонок и магазинчиков, торгующих сувенирами всех стран мира, бесконечные бары, таверны, кафе, лотки со сладостями и мороженым, бродячие коробейники с яркими безделушками… Разноязыкий говор заглушают выставочные поезда-электрички, бегущие по рельсам, поднятым над землей, вагоны — тоже воздушной — монорельсовой дороги, гудки теплоходов-экспрессов, перевозящих экскурсантов. По маленьким каналам гордо проплывают черные венецианские гондолы. Поразила Северцева одежда большинства посетителей, они скорее были раздеты: шорты, трусы, плавки, бюстгальтеры — вот, собственно, и все предметы их туалета. Многие ходили босиком, жара заставляла людей думать лишь о том, чтобы им было легче. Исключение составляли монашки: черные балахоны с белыми чепцами часто мелькали на дорожках. Надо сказать, что когда рубашка прочно прилипла к телу, Михаил Васильевич с завистью стал поглядывать на оголенных… Утешала лишь мысль, что монашкам, наверно, еще жарче, чем ему!
Вот и большая очередь к павильону из стекла и бетона с гранитной надписью: «СССР». Осматривать выставку он начал со своего павильона, вернее — он наблюдал за посетителями: канадцы и американцы, совершая вместе с ним путешествие по павильону, открывали для себя Советский Союз… Их вначале непроницаемые лица добрели, освещались улыбками, оживали.
В какой бы павильон ни заходил Северцев, всюду видел он множество экранов — больших и малых, с застывшими или движущимися изображениями. Он долго стоял в очереди перед «Лабиринтом». В первом зале видел с террасы одновременно два экрана: один глубоко внизу, в огромном прямоугольном колодце, другой — на стене. Фильм «Человек и его мир». Внизу промчался стремительный экспресс; как бы видимый с огромной высоты, предстал Нью-Йорк с улицами-ущельями. Поднятые к небу заводские трубы засевали город дымом и сажей. Дороги опутали землю словно щупальца гигантских спрутов. Густые облака кочевали у задумчивых горных вершин. Это был фон. А вот и жизнь: на одном экране — состязание автомобилистов, на втором — схватка боксеров. Бушуют страсти, победителей встречают ликованием, от побежденных отворачиваются. Культ силы и презрение к слабости…
Вот появился младенец с перевязанной пуповиной, подал голос. Человек появился в мире огромных скоростей, головокружительных высот. Вот его короткое детство, самоуверенная юность, и он растворяется в миллионном людском потоке…
В другом зале зрители видели на экране уличную аварию: погиб неосторожный пешеход. Диктор поясняет: «Такая случайность подстерегает и тебя — мир не всегда добр к человеку, в мире множество переходов и закоулков, сумей пройти по ним с победой!» Фотограф снимает процедуру крещения ребенка и неосторожно роняет камеру. Камера разбивается вдребезги. «Ты думал, что уже взял желаемое в руки, а оно вдруг ускользнуло», — поясняет диктор. Женщина смотрит в зеркало — лицо печально, задумчиво. «Самое трудное в жизни — уметь заглянуть внутрь себя. Если ты это умеешь, тебе хорошо с людьми».
Сопровождающий изображение текст навязывает старую философскую премудрость: «Если ты честно принял жизнь такой, какая она есть, ты найдешь выход…» Главное — примириться с действительностью, не пытаться что-нибудь изменить в этом мире, похожем на запутанный лабиринт, где каждому богом уготовано свое!
Почти на каждом шагу встречал Северцев проповедь индивидуализма, пассивности, покорности. И делалось это якобы во имя «объективного» отражения мира…
Увеселительный район выставки, где бушевал вселенский карнавал, встретил ослепительной рекламой, фейерверком, ракетами, шумным весельем… Визжали девицы на «американских горках», на самолетах-моделях, на «чертовом колесе». Громкий смех у кривых зеркал, у павильонов «счастливых колец», оглушительный треск у стрелковых тиров, силомеров, «адских водителей»… Гул в барах и тавернах, полуголые женщины в обнимку с грязными битниками — таким предстал перед Михаилом Васильевичем новый Вавилон шестидесятых годов, в котором серьезные люди ребячились, порою стараясь забыть об атомном веке…
2
Наутро Северцев был в городской ратуше и узнал программу. Заседания Комиссии начнутся завтра, — значит, еще один день он мог посвятить выставке… Усталый Северцев, еле волоча ноги, зашел в причудливый, построенный из металлических балок павильон «Человек — исследователь». На макетах живых клеток демонстрировалась их работа, взаимодействие, питание, рефлекторная деятельность головного мозга. Все увиденное здесь навеяло на Северцева грусть: возможно, Елена Андреевна была права и на ближайших всемирных выставках человек покажет самого себя в искусственном варианте?..
Павильоны сменяли друг друга. Человек и океан… Человека интересуют продукты океана и их использование, влияние океана, его течений, испарений, человек готовится по-хозяйски обживать Мировой океан…
Северцев усмехнулся: он, выходит, идет в ногу с временем. Первые тонны полезного ископаемого экспедиции его института подняла с морского дна!
Человек и производство… Человек ищет, как облегчить труд, создает новую технику. Фильм сопоставляет старое и новое — от пещерной клинописи до современных электронных устройств, до робота, обслуживающего станок…
К Северцеву с микрофоном в руке подошел молодой человек в серых брюках и светлом, в синюю клеточку пиджаке. Его шея была обвязана шарфом в мелкую крапинку, и темная, поблескивающая шевелюра была чудом парикмахерского искусства: со лба волосы зачесаны назад, а от ушей к макушке уложены накрест двумя длинными прядями. Щеголь представился на ломаном русском языке:
— Кук, корреспондент канадской прессы. — И попросил разрешения задать несколько вопросов. — Как, по-вашему, позволяет ли техника слушать вселенную или она может слушать только себя? Считаете ли вы, что техника производит энергию для многих или она обеспечивает контроль меньшинства над большинством? Наконец, считаете ли бы, что техника помогает преодолеть все трудности или она, наоборот, выдвигает новые?..
— По-моему, все дело в том, в чьих руках эта техника и во имя чего она создана, мистер Кук.
В конференц-зале нового здания ратуши собрались советские и канадские ученые и специалисты различных отраслей — архитекторы и геологи, строители и горняки, авиаторы и моряки, преподаватели и юристы. Первыми разговор начали геологи. Советские и канадские геологоразведчики определили Север как богатейшую кладовую полезных ископаемых. Спор разгорелся о том, как выгоднее природные богатства превратить в народные богатства, скорее освоить их.
В ходе дискуссий определились два подхода, два пути — советский и канадский. Канадский был прост: малыми средствами, экспедиционным способом, быстро отработать месторождение и кочевать дальше. Советский способ освоения — комплексный, решающий по этапам все народнохозяйственные проблемы северных районов. Северцев перечислял их: строительство постоянных дорог и аэродромов, электростанций и плотин, рудников и обогатительных фабрик, школ и больниц, кино и театров, городов и курортов. Северцев еле успевал отвечать на вопросы: «Каковы у вас капитальные затраты на рудник с годовой добычей в миллион тонн руды? Сроки строительства? Прибыль?»
Северцев видел ухмылку на лицах своих оппонентов, они не воспринимали принцип — «все для человека», их законом был другой принцип — «все для прибыли». Но Северцев понимал, что экспедиционный способ отработки мелких по запасам месторождений может найти применение и у нас.
В конце совещания представитель компании «Инко» мистер Клифф пригласил Северцева, в ответ на посещение канадцами советских предприятий, посетить рудник Томпсон, чтобы убедиться лично, что сделано его компанией в освоении северной провинции Манитоба. Вначале будет встреча в дирекции компании, в городе Торонто, там рукой подать до Ниагарского водопада, так что поездка будет интересной. Северцев поблагодарил, и они условились о часе встречи.
Прямо с заседания Северцев пошел в ресторан советского павильона. Здесь всегда было полно народу: русская кухня привлекала гурманов со всех континентов.
— Михаил Васильевич, место свободно?
Северцев обернулся и замер.
— Василий Павлович! Вот неожиданная встреча! Присаживайтесь, пожалуйста, я очень рад! — обрадованно восклицал Северцев, усаживая рядом Георгиева.
— Заходил к вам в гостиницу, но не застал. Как встреча прошла, с пользой? — спросил Василий Павлович, рассматривая меню.
Северцев сказал, что канадцы узнали больше от нас, чем мы от них.
— Нормально, все нормально, — заметил Георгиев и добавил: — Компания «Инко» — одна из крупнейших монополий в мире, имеет свои предприятия в США, Великобритании, ведет работы в Африке, Австралии. Около трех четвертей капиталовложений канадской фирмы «Инко» принадлежит американскому капиталу, даже президент фирмы проживает в США.
Северцев рассказал о предстоящей поездке в Торонто.
— Жаль, что поздно встретились! Курицу не берите, она какая-то синтетическая, а осетринку по-монастырски рекомендую! А еще душа мне шепчет: займи, но выпей. За встречу немножко «Столичной»! — предложил Северцев.
Георгиев согласно махнул рукой. Заговорили о выставке. Северцев делился своими впечатлениями, их было много. Георгиев взглянул на часы и, извинившись, куда-то отлучился.
Вскоре он возвратился. Пили водку, потом кофе, слушали приглушенно звучавшую музыку.
— С туристским осмотром выставки я покончил, у меня есть еще пять дней до отъезда, и я решил их провести по-своему. Знаю, что получу нахлобучку от начальства, но иначе не могу. — Георгиев откинулся на спинку кресла и закурил.
— Вы нарушитель? Это невозможно представить! — удивился Северцев.
— У туриста есть еще гражданская совесть и долг. — Георгиев обернулся к хлопнувшей двери, но, увидев вошедшего официанта, продолжил разговор: — По делу известного вам Птицына проходил свидетелем один немец, и он сказал, что один наш мерзавец, о кровавых делах которого я наслышался еще на фронте, благополучно проживает под чужим именем вблизи Торонто. Я обязан перепроверить сведения того немца, ведь мерзавцу будет предъявлен огромный счет. Поедемте вместе, я довезу вас до Торонто. Прямо сейчас, согласны?
3
«Волга» мчалась по широченной автостраде берегом огромного озера. По сероватой его глади были густо рассыпаны зеленые островки. Белоснежные катера оставляли на воде волнистые полосы.
Один за другим мелькали длиннющие бетонные мосты, по которым они мчались. Маленькие кемпинги, туристские поселки…
— Мы с вами, Михаил Васильевич, скоро расстанемся, — сказал Георгиев. — Игорь отвезет вас в Торонто, к мистеру Клиффу, — Георгиев кивнул в сторону молодого брюнета в черных очках, сидевшего за рулем. — Прошу вас, позвоните в Москве Елене Андреевне! Расскажите, что виделись. — Он протянул Михаилу Васильевичу красноватый кленовый лист. — Передайте ей канадский сувенир. Это самый канадский… Пожалуйста, передайте! — Он непривычно разволновался и умолк.
Ни о чем не спросил его Северцев, не мог спросить. Спрятал кленовый лист в свой паспорт.
Темнело. «Волга» мчалась сквозь мрачный лес к золотистому озеру, в котором быстро тонуло раскаленное солнце.
— Что-то на выставке я не встретил экспонатов знакомой мне фирмы «Майнинг корпорэйшн», — прерывая молчание, заметил Северцев.
— Ее больше не существует. Одна левая газета разоблачила фирму как используемую разведкой и этим торпедировала ее, — ответил Георгиев.
Северцев уловил в тоне его голоса ироническую нотку.
Пошел дождь, заплакало ветровое окно. В вечерних сумерках, когда совсем стемнело, боковое оконное стекло превратилось в зеркало, и Северцев мог незаметно наблюдать за Георгиевым. Василий Павлович сидел рядом с водителем, сосредоточенно курил папиросу за папиросой. Часто напряженно всматривался в заднее стекло, будто ожидал погони.
Перед глазами Северцева сидел человек, о котором никогда, наверно, не напишут хвалебного очерка, не напечатают его фотографии… Вот уже много лет каждый час, каждую минуту — за исключением коротких часов отдыха дома — он вынужден преодолевать в себе естественное, инстинктивное чувство самосохранения. Видимо, героизм состоит прежде всего в преодолении самого себя, преодолении в себе страданий, сомнений, наконец — страха. Вот и сейчас Георгиеву, может быть, придется идти в дождливую ночь, пробираться куда-то незнакомыми тропами, чтобы вывести на чистую воду укрывшегося от правосудия мерзавца, на совести которого десятки тысяч загубленных жизней советских людей. Ощущать отвратительное посасывание под ложечкой от наведенного на него, пусть пока еще в кармане врага, пистолета… А может быть, уже через минуту ему придется принять бой. Это все тот же миг преодоления самого себя. Это героизм, скрытый от постороннего взгляда. Когда Георгиев вновь повернулся к заднему окну, Северцев не выдержал, сказал:
— Думаю, что вас не похвалят за этот риск.
Георгиев тепло улыбнулся.
— За нами стоят люди, их судьбы, часто — жизни. Ради этого мы вправе рисковать своей.
У высокого придорожного киноэкрана машина резко затормозила. Игорь впервые открыл рот.
— Ни пуха ни пера! — пожелал он.
Георгиев шутливо послал его к черту. Не оглядываясь, Василий Павлович исчез в шумящей дождем темноте.
Вскоре у «Волги» вырос хвост: за ней неотступно катил глазастый «шевроле». На развилке Игорь резко свернул вправо и помчался по другому шоссе. Больше «шевроле» не появлялся.
Северцев думал о предстоящем разговоре с Еленой Андреевной. Что скажет он ей? Что четверть часа назад, — он посмотрел на часы, — Василий Павлович был жив и здоров?.. А что с ним будет в тот час, когда Северцев передаст ей необычный его сувенир?.. А если случится несчастье?.. Северцев будет казниться. Но ведь он ничего не мог сделать, чтобы предотвратить несчастье. Не может этого сделать и жена, он не принадлежит ей, не принадлежит даже себе. Каждый раз, когда он уезжаем, она, наверное, навсегда прощается с ним и безропотно ждет чуда. А оно вполне может и не свершиться, и тогда никто не будет знать об этом, кроме ближайших сослуживцев и ее — жены, внутренне давно готовой к вдовьей доле.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
1
Валентин прислушался. Ветер посвистывал, гнал поземку, а рядом натужно выли буровые станки. Протер холодной рукой припорошенное серой пылью лицо, сплюнул с десен колючий песок и с трудом стал растаскивать по земле провода, присоединяя к ним конические колпачки сейсмоприемников.
Прикрыв чернявую голову большой, грузинского фасона, кепкой, нагибаясь навстречу ветру, подходил Костя. Левой рукой он придерживал гармошку.
— Во ветряга! Рот раскрыл — портки вздулись. Пора, Валечка, смываться к папочке! — выкрикнул вместо приветствия он. Осторожно положил к стволу высокого осокоря гармонь и, сложив ладони, закурил папиросу.
Валентин подул на красные, холодные пальцы.
— Значит, доказываешь? Ну, давай, давай, закаляйся! Только не перекались, ломкий станешь.
— Отстань, зануда! Тебе-то какое дело… — огрызнулся Валентин, прячась от пронизывающего ветра за ящик с оборудованием.
— Жалею великомученика, к тому же шабра. — Костя улыбнулся нагловато-лучезарной, загадочной улыбкой и под ее блистательным прикрытием рванул с головы Валентина пыжиковую шапку, водрузил ее на свою голову, а кепку напялил на Валентина.
— Ты что, спятил? — растерялся тот.
— Махнули — закон, — продолжая безмятежно улыбаться, ответил Костя.
Валентин колебался лишь одно мгновение. Дело не в шапке: уступить сейчас — посадить нахала себе на шею. И хотя Костя по виду был сильнее, Валентин дал ему подножку, с размаху ударил кулаком по челюсти. Костя упал. Сплевывая красную слюну, он медленно поднялся, стряхнул с полушубка песок со снегом и потянул за голенища валенки. Валентин принял боксерскую стойку, втянул голову в плечи в ожидании нападения…
Вдруг Костя засмеялся.
— Боксу не будет, у меня нет злости бить тебя. Проверял, что ты есть за человек, а ты сразу на притужальник — и в морду, — покачав головой, осуждающе сказал Костя, утирая губу рукавом полушубка.
— Проверил? — не меняя позы, спросил Валентин.
— Угу. Жадный. — И бросил шапку.
Валентин поймал ее на лету и бросил обратно.
— Получай подарок. Но больше ко мне, цыган, не приставай. — Нахлобучив кепку на уши, Валентин пошел к проводам, присел около них на корточки.
Костя подошел следом, взял в руки конический колпачок и тоже стал присоединять к проводу.
— Шапка-то мне нужна на свадьбу — к двоюродному брательнику еду, — примирительно заговорил Костя. — Давно я на свадьбах не гулял. Последний раз — у своего деда Ферапонта, — позевывая и потягиваясь, лениво рассказывал он. — Восемьдесят шесть ему, саженного роста, борода лопатой, нос орлиный, брови совиные. Когда я приглашение на свадьбу получил, то засомневался. Спрашиваю: «Меньшого сына женишь?» — «Пошто? Сам женюсь», — отвечает. «Смотри, говорю, Ферапонт, придется к соседу за помощью обращаться», — а он в ответ: «Приезжай к нам на прииск и увидишь, что все приисковые ребятишки с орлиными носами бегают». Силен бродяга? Поехал я, познакомился с невестой: учителка, тридцати ей не было, дородная, я еще подумал — не пара. Недавно опять побывал у них и еще больше удивился! Сидим за столом, бражничаем под пельмешки, молодуха малютку на руках качает и вдруг говорит мне: «Уйми ты моего старого кобеля, жизни мне никакой, хоть в омут. Вторую неделю дома не ночует. Вернулся его внук Ванюшка из армии, так они вместе по солдаткам бродят». Видал? А теперь Ванюхе труба: выходит, оженят…
Валентин недоверчиво ухмыльнулся. Костя выпрямился, потрогал рукой челюсть, поправил шапку и, взяв в руки гармонь, сказал:
— Вот я «гусеничку» для свадьбы достал, голосистая, послушай! — Он растянул гармонь-«гусеницу» и запел приятным баритоном:
Динь-бом, динь-бом, Слышен звон кандальный. Динь-бом, динь-бом, Путь сибирский дальний. Динь-бом, динь-бом — Слышно там и тут: Нашего товарища На каторгу ведут.Подмигнул Валентину и добавил:
— Я потопал. Начальник велел пригнать со станции буровую самоходку. Вечером кина не будет, кинщик с утра загулял, приходи на танцы. Между прочим, выбирай себе другую партнершу, если не хочешь боксу. На Любку я имею серьезные намерения! — Махнув рукой, он спустился под гору.
Ветер по-прежнему свистел и дымил поземкой.
Прервав возню с колпачками, Валентин присел на пенек, который схоронился от ветра за рослыми соснами, и посмотрел на темную реку, что сегодня слалась с завьюженным небом. Он любил сидеть здесь и размышлять… о прошлом, о днях, когда его еще не было на свете… Мечтать о том, что было бы, если бы ему довелось родиться в то время и принять участие в революционной борьбе… Конечно, он был бы среди декабристов…
Потом он вообразил себя завзятым путешественником. Вот он плывет на весельной лодке далеко-далеко по этой реке, плавно текущей меж темных мокрых осин и белых берез. Река то замедляет течение в покрытых желтыми кувшинками болотах, то мчится до узким дорогам, то нежно обнимает зеленые островки, то сердито бьется о каменистые мысы. А рядом в лодке Светлана.
Потом вспомнил свой дом. Недавно он вернулся из отпуска. Провел его в Зареченске. Как он и думал, а отчем доме его ждали, в его комнате все оставалось на своих местах, сохранилось неизменным, таким, как в день его бегства. Даже книга «Геология россыпей» была раскрыта на той же странице. Портрет женщины в военной шинели стоял на столе отца на своем обычном месте. Мачеха оставила все по-прежнему. Валентин понял, что Екатерина Васильевна очень любит и бережет отца, как только может, облегчает его трудную жизнь. Она просила Валентина вернуться в дом: им очень не хватает его, а ему не нужно больше тянуть с окончанием института… И он готовится! Он отрубит проклятый «хвост», вернется в институт другим человеком!..
Его мечты развеяла песня:
Серый камень, серый камень, Серый камень в пять пудов. Серый камень так не давит, Как проклятая любовь!— Валя, Вальк! Где ты? — услышал он и увидел поднимавшуюся в гору девушку в красной кожаной куртке. Когда она поравнялась с ним, он увидел на ее ногах белые ажурные чулки и черные, на высоченных каблуках, остроносые сапожки. Ресницы и брови у девушки начернены, льняные волосы откинуты в одну сторону на манер лошадиной гривы.
— Сильна ты, Любка. Что за прическа? — оглядывая ее, спросил Валентин.
— Она называется: «Я у мамы дурочка». Пойдем в клуб! — тяжело дыша, предложила девушка. И села на ящик, поправив руками короткую юбку, открывшую полные колени.
— Смена не кончилась. Это у вас, пробщиков, уходи когда вздумаешь.
— Прямо… когда вздумаешь! Угадал!.. Чего ты тут шаманишь? — кивнув на провода, спросила Люба.
— Подслушивать голоса земли собираюсь, подземный телефон монтирую. Задача горняков состоит в том, чтобы природные богатства найти и подарить человечеству, — назидательным тоном ответил он.
— Чертовщина какая-то — «голос земли»!.. Хватит сказки рассказывать, дурочку из меня делать. Между прочим, я собираюсь в институт поступать, — задорно заметила Люба и растопыренными пальцами причесала откинутые волосы.
— Услышать голоса земли, понять, расшифровать — задача геофизика.
— Эх ты, докторская трубка… — фыркнула девушка.
— А ты темная, как чулан, — огрызнулся Валентин, продолжая возиться с проводами.
Люба вынула из сумочки зеркальце, поводила пальцем по бровям и, вздохнув, спросила:
— Прошвырнемся на танцы? У меня, между прочим, ухажеров и без тебя — пруд пруди!..
— Иди, попутного ветра! Если у тебя в мозгу только одна извилина… — махнув рукой, ответил Валентин.
Люба передернула плечами, поднялась с ящика и скорчила страшную рожу.
— Что у вас тут за художественная самодеятельность? — спросил начальник партии Курилов.
— На танцы приглашаю, а он куражится, — с обидой ответила Люба.
Курилов посмотрел на ручные часы, усмехнулся:
— Иди, Валя, я доделаю сам.
— Что ты, Саша, говоришь? Разве от такого дела на танцы бегают? Ты лучше расскажи ей, темной и недоразвитой, нашу сказку!..
— Чокнутый! — отпарировала Люба и показала Валентину язык.
— Сегодня, через час примерно, земля сама расскажет нам… о своих недрах, о структурах своих пород, о запрятанных кладах!.. Мы должны вызвать ее, как говорят, на «откровенный разговор» и очень внимательно ее слушать. Всего две-три секунды говорит земля, а мы, геофизики, неделями готовимся к этому короткому интервью!.. Люба, ты должна понять Валю! — улыбнулся Курилов, помогая Валентину монтировать провода.
Они вставляли в землю сейсмоприемники, тянули от них ветви проводов к сейсмостанции, спорили, соглашались и опять спорили…
— Люба, подойди, пожалуйста, и помоги! — попросил Валентин, высоко держа спутанную связку проводов.
— Не могу, я в бальном туалете… — ответила она и скрылась за избушкой, где помещался раздаточный склад взрывчатых веществ.
— Трясогузка! — раздраженно пробормотал ей вслед Валентин.
— Не осуждай ближнего своего! Лучше пойдем заряжать третью скважину, ее уже полностью закончили проходкой. Сходи за взрывчаткой! — попросил Курилов.
Валентин притащил крафтмешок со взрывчаткой. Небрежно кинув его на ящик, распорол мешок пополам, и взрывчатка понеслась облаком, подхваченная буйным ветром. Курилов осуждающе посмотрел на Валентина. Переминаясь с ноги на ногу, Валентин виновато пробормотал:
— Стоимость мешка взрывчатки оплачу лично. Я виноват, а не бригада…
Курилов не ответил.
Когда скважину начинили взрывчаткой, Александр Максимович и Валентин еще раз проверили всю сеть. Убедившись в ее исправности, Курилов сказал:
— Теперь время поговорить с землей! Потрясем ее маленько! — и включил ток.
Раздался глухой взрыв, с тяжелым вздохом вздрогнула под ногами Валентина земля.
— Вот в этот самый момент звуковые волны взрыва устремились в недра земли! — торжественно объявил Курилов. — В доли секунды волна пробежала различные структуры, добралась до глубочайших глубин… Отразившись, возвращается к земной поверхности и уже ее голосом, точнее — эхом, расскажет нам о том, что узнала…
— А теперь я продолжаю, ладно?.. Сдаю экзамен! — перебил его Валентин. — Итак… Принцип сейсморазведки основан… На чем он основан? На учете разности акустической жесткости пород. Ударная волна, встречая на пути структуры разной плотности и толщины, с разной скоростью проходит сквозь них и отражается от них. А сейсмоприемники… Чем заняты эти приборы?.. Они чутко фиксируют приход отраженных волн. Зачем? Чтобы преобразовать эти колебания в электрические и передать на сейсмостанцию… Там их усилят и запишут, — монотонным голосом объяснял Валентин.
Внезапно он замолчал, вытащил из кармана ватника потрепанную книжку, стал быстро ее листать.
— Подумал: не в ту степь, — ан нет, все верно! — весело заметил он и спрятал в карман учебник.
— На тройку знаешь, — запустив руку в его волнистые волосы, засмеялся Курилов.
Они пошли на станцию. Торопливый перописец наносил на бумажную ленту волнообразные линии разной высоты через различные интервалы.
— Вот, не очень способный ученик, перед тобою что-то вроде шифра горных пород… их структур, высот залегания. Словом, электрокардиограмма земли! По ней геофизики-интерпретаторы составят структурные карты и дадут рекомендации о направлении дальнейшей буровой разведки… — явно довольный проведенной работой, балагурил Курилов.
Они вдвоем спускались к поселку, в котором то здесь, то там вспыхивали электрические огни.
— Ты только послушай, серый человек! Твои собратья и современники проникают в космос, узнают тайны вселенной, а свою Землю совсем не знают… Парадокс? Ведь никто еще не пробурил скважину более семи километров вглубь! Мы еще не добрались до мантии Земли… Мы очень мало знаем о минеральных богатствах Мирового океана!.. Вот и получается, что на пути познания старушки Земли геофизики — и мы с тобой! — самый наипередовейший отряд!.. А пока — до завтра! — протягивая руку, неожиданно закончил он. И свернул в переулок.
Смеркалось. На высоком небесном куполе один за другим зажигались тусклые огоньки. По горной долине, снизу заволоченной рыхлым туманом, громким эхом отдавался шум подъемной машины шахтного копра. Где-то совсем близко под гармонь визгливо пели девчата:
Перестала я любить Своего касатика. Полечу я на Луну, Полюблю лунатика!Валентин, полной грудью вдыхая смолистый запах кедрача, шел по поселку. Он думал, что нужно продолжать учебу обязательно по геофизической специальности. Что завтра он напишет заявление в институт с просьбой зачислить его заочником…
Кто-то, внезапно выступив из темноты, преградил ему дорогу.
— Все гляделки проглядела!.. А он до полуночи… с какими-то проводами возится! — тяжело дыша, зашептала Люба и, обняв, жарко поцеловала его.
— А ты помогла бы нам! Быстрее управились бы, — сказал Валентин.
— А ты не прискребайся ко мне! У меня тоже самолюбие есть, не меньше вашего. Дурочку из меня не делай! — крепче прижимаясь к нему, скороговоркой ответила она.
Валентин обнял ее за талию. Склонив голову на его плечо, Люба шепнула:
— Дедушка Тихон сегодня сторожит в ночную. Пойдем ко мне!
Она огляделась по сторонам и, поманив его рукой, пошла вперед, в темный переулок.
…Неделю назад он зашел в рудничную лабораторию, принес на анализ геологические пробы. Там он и увидел впервые Любу, вернувшуюся с курсов пробщиков.
— Можно войти? — приоткрывая дверь, вежливо попросил он разрешения.
— Влезай, — ответила девушка в белом халате, с белой косынкой на пышных льняных волосах.
Передав пробы, Валентин получил от Любы приглашение на вечер танцев.
В этот же вечер он пошел в клуб на танцы. Несколько пар лениво топтались под радиолу. У окна Курилов настраивал «Спидолу», рядом стояла модница Люба в костюме джерси, в белых ажурных чулках и черных сапогах. Валентин подошел к ним. Она, как хорошему знакомому, кивнула ему головой и игриво улыбнулась.
После долгих попыток Курилов «выжал» из транзистора твист, и Люба, словно заведенная, пританцовывая, на ходу двигая взад и вперед согнутыми в локтях руками стала наступать на Валентина… Он попятился. Но тут же стремительно принялся выворачивать ступни и так же, как Люба, поочередно выбрасывать руки — будто пилил дрова… Люба повернулась спиной, то же проделал и Валентин. Извиваясь, Люба присела до полу, он тоже опустился до полу… Но Валентин чувствовал: долго ему не выдержать такого темпа. Он задыхался, а его партнерша легко откинулась назад, словно переломилась в пояснице, и достала длинными своими волосами пол… Тяжело дыша, Валентин сдался и отошел к Курилову. Люба выпрямилась и победно крикнула ему:
— Пиляй, малышок, не ленись!
Они танцевали весь вечер, собирая вокруг себя зевак, и Люба явно гордилась этим.
— Блеск, — сказала она при расставании.
Еще один раз они виделись на почте, когда Валентин отправлял письмо отцу, и перекинулись двумя-тремя словами — куда и кому пишешь?
Ее сегодняшнее появление у сейсмической станции было Валентину приятно, льстило его самолюбию. Он даже огорчился, что она ушла. Но стоит ли так торопить события?..
— Малышок, остолбенел, что ли? — тихо сказала она и остановилась. Ее шаги замерли в темноте.
— Зачем идти к тебе? Давай побродим… — так же тихо ответил Валентин. Но пошел за ней.
Мимо прошла какая-то женщина и, оглянувшись, бросила:
— Полуночники!..
Валентин подошел к Любе, взял ее за руку.
— Завтра все знать будут, что мы с тобой гуляем…
— Мне на это наплевать! Не мы первые, не мы последние! — ответила она. Нажала ручку на калитке в воротах и подтолкнула его вперед.
Еле слышно отворив сенную дверь, прошептала:
— Что замолк, будто язык проглотил? Держись правей, не наткнись на прялку…
— Жду, что ты скажешь, — шепнул он.
— Я-то?.. — Она приблизилась к нему вплотную. — А что бы ты хотел?.. — все тише и откровенней шептала она.
…Наутро ему стыдно было с ней встретиться — дорога в разведку шла мимо лаборатории. А Люба, видимо, поджидала его на крыльце. Она помахала рукой. Стоявшие на крыльце рабочие осуждающе смотрели на ветреную девчонку. Но она побежала к нему, крича: «Здравствуй, малышок!» Он поморщился: это было уж слишком. Все сокровенное, скрытое ночью, теперь, на людях, вспоминалось иначе, оборачивалось наказанием… Люба же держалась с ним как ни в чем не бывало. Подбежав, игриво столкнула его с дорожки в траву, прошептала на ухо:
— Быстро закруглю дела и прибегу к тебе в разведку, жди!
Он отстранился от нее.
— Валька, что ты сегодня такой кислый? Чем ты недоволен? — почуяв его отчуждение, спросила она.
— Иди занимайся делом, — грубовато ответил Валентин и быстро зашагал в гору.
— Уже надоела?.. — услышал он ее тревожный вопрос.
И когда обернулся, увидел красное пятно ее куртки, мелькавшее далеко на дороге.
В обед она явилась на сейсмостанцию.
— У нас проб нет, — сказал Курилов.
— Она заболела, — покрутив пальцем у виска, заметил Валентин.
— Верно, — глухим голосом ответила Люба.
— Что бывает, то бывает… — Курилов встал, сложил в ящик столика записи, которые они делали с Валентином. — Я ушел обедать.
— Зачем пришла? Разговоров тебе надо? — недовольно спросил Валентин.
Люба потянулась к нему, но он отстранил ее рукой.
— Что ты на меня дуешься, малышок?..
— Неужели ты не понимаешь, что ведешь себя просто глупо?
— Быстро же ты охладел… малышок… — с трудом выдавила из себя Люба.
— Ты говоришь таким тоном, будто я наградил тебя младенцем!.. Извини, мне нужно делом заниматься, — резко оборвал он.
Люба, словно сгорбившись, пошла к лесу. Обида давила ее. Когда он ночью ушел от нее, она долго лежала с открытыми глазами и сердилась то на себя, то на него… Теперь она сердилась только на себя: не смогла повести себя иначе, открылась вся сразу, с первого вечера, с первых слов!..
…И вот Валентин снова сидел один в сейсмостанции и снова раздумывал обо всем, что произошло за эти дни… Ему было стыдно и досадно, что он ничего не мог обещать Любе. Он искал оправдание себе в том, что у него очень много работы, которая требовала, чтобы он окунулся в нее с головой…
В последнее время геологические партии значительно пополнились разведочными механизмами и аппаратурой, резко возрос и темп работы.
Валентин не мог отставать от товарищей. Теперь он уже не мыслил себя вне этой партии. Геологическая партия — это он сам, это его явь, его сон, его мысли, его желание. Он теперь чувствовал личную ответственность за каждую ошибку в работе его геологической партии — ответственность не перед кем-либо, а перед самим собой. Он имел право работать столько-то часов и забывал, что существует какое-то время. Только интересы работы теперь определяли его интересы, распорядок его жизни.
Послышался собачий лай. Валентин разогнул одеревеневшую спину, повернул к себе настольные часы — было уже девять. Взглянул в окно и никого не увидел. Темень, хоть глаз коли.
Собака залаяла совсем близко. Заскрипела дверь, и на пороге появился коренастый и, как всегда, лохматый Тихон с огромным рыжим псом. У пса мощная, широкая грудь, он высок и очень строен. Шерсть на нем лоснится, пушистый хвост загнут крючком. Валентин заметил, что у собаки удивительно умные и лукавые глаза. Синий язык торчал сбоку из полуоткрытой пасти, полной больших острых зубов. Собака кинулась было к Валентину ласкаться, но Тихон крикнул: «На место!» — и она покорно улеглась у ног севшего на табуретку старика.
— Я сегодня за старшего. Проверял посты, вижу — огонек в неположенное время. И думаю: кто припозднился? Дай зайду, — отвечая на недоуменный взгляд Валентина, рассказывал Тихон. — Тут, за бочажком, какая-то тварь боталами-колокольцами бренчит, небось корова от стада отбилась, позвонить в дежурку надобно. — Он взялся за телефонную трубку. — Дежурку мне… Федосей?.. Пошли верхового к Ворчливой курье скотину заблудшую выгнать… Подь ты в пим дырявый! Я на посту, да там убродно, место больно потное, а я в чунях. — Положив трубку, он разогнал рукой дым, поднялся и приоткрыл дверь. — Шибко душной воздух!
Валентин ждал, когда он уйдет, но Тихон вернулся и снова уселся на табурет. Было видно, что он еще не сказал того, ради чего пришел.
— Книжек-то сколько! — Тихон обвел глазами заваленный справочниками стол. И продолжал: — Удивляюсь на свою внучку. Откуда силы берутся? Днем работает, а ночью до петухов с книжками мается… Она у меня сурьезная и отчаянная, тоже сорвиголова…
Тихон достал из сумки термос, отвинтил крышку и, налив в нее горячего черного напитка, передал Валентину:
— Угощайся чагой. Заварка из березового гриба со смородиновым листом, изжогу в момент снимает.
Валентин отхлебнул, терпкий напиток ему понравился.
— Знаешь, какой с Любашкой случай приключился, когда она курсисткой была? — начал рассказ старик. — Сватался там к ней ученый человек, была у него «Волга», был дом и всякого другого достатка хватало. Вскружил, видать, он девке голову, кому не лестно иметь такого ухажера! Но свадьба расстроилась запросто. Купил как-то жених билеты в цирк, и пошли они смотреть представление с медведями. Во время этого представления один топтыгин возьми и соскочи с барьера, от кнута убегал, ну, и сиганул прямо к людям и прямо на Любашку с женихом угодил… Жених мигом драпанул к выходу, а Любашка схватила его стул да мишку по башке как трахнет!.. Тот тоже к другому выходу, убёг без оглядки… Тако-то дело. Выходит Любашка из цирка, а жених открывает дверцу машины, кличет ее: дескать, поехали, а то он плохо себя почувствовал… Оно конечно, медвежья болезнь дело сурьезное… Любашка даже зонтик свой не забрала, так и остался в машине. Хорошо, что у них расстроилось: не пара они. Что он есть? Дым. А Любашка — огонь!
Тихон взял с печки светильник-чашку с жиром и фитилем, продетым в круглую жестянку, и, чиркнув спичкой, зажег фитиль.
— Скажешь Лександру — взял из чулана его нарты, верну.
Тихон взглянул на Валентина и добавил:
— А пустобреха Костю-цыгана не слушай. Любашка его не привечает, ноль внимания и фунт презрения!.. Ну, прощевай, паря, пойду проверю пост на складе взрывчатки, — открыв дверь и пропуская вперед пса, попрощался Тихон.
Валентин задумался. Неспроста приходил старик, неспроста рассказывал эту историю! Видать, ему уже известно об их отношениях… Любаша! Вот она, оказывается, какая!..
Работать Валентин больше не стал и отправился к Курилову.
Начальник партии вычерчивал поисковую карту.
— Александр Максимович, хочу просить отпуск!
— Отпуск? Это еще зачем? Уж не жениться ли собрался? — насмешливо глядя поверх очков, спросил Курилов.
— Ты это о чем? — смутился Валентин.
— Слухами земля полнится. Особенно в таком маленьком поселке, как наш…
— Базарная сейсмика сработала!.. Хочу поехать в Зареченск, устроить свои учебные дела. Думаю оформиться на геофизическую специальность, — говорил Валентин, не глядя в глаза Курилову.
— А еще у тебя какие дела? — поинтересовался тот.
Валентин пожал плечами.
— Больше вроде нет.
— Ты кайся: все мы в молодости куролесили! Может, зазноба есть, у тебя? — допытывался Курилов.
— Есть одна зверюшка, — со смешком сознался Валентин: отпираться было бесполезно.
Зазвонил телефон. Курилов снял трубку.
— Да, он у меня, передаю трубку.
Валентин удивленно поглядел на Курилова, взял трубку, назвался — и вдруг радостно закричал:
— Бегу, бегу! — И выскочил из комнаты.
2
У тусклого уличного фонаря, когда Валентин проходил мимо него, двое словно бы поспешили обняться. Валентин заметил, что он был в пыжиковой шапке, она — в белых ажурных чулках и черных сапожках. Ревность сдавила его сердце, но он бежал к директорской заезжей — так называли на руднике домик в березнике, где обычно останавливалось начальство. В домике светились, как глаза, два окна. Изнутри доносился чей-то грубый голос. Валентин улыбнулся: это вещает не сказочная голова, а всего лишь радиоприемник…
Войдя в дом, в прихожей повесил на гвоздь ватник, причесал перед зеркалом волосы. Волнуясь, постоял перед закрытой дверью и, тяжело вздохнув, постучал.
Сергей Иванович Рудаков сидел в полутемной комнате за письменным столом и что-то писал. Бумажный абажур торшера освещал половину его лица, блокнот с тисненой надписью «Делегату XXII конференции КПСС» и настольные часы, на них — двенадцать. Сергей Иванович взглянул на сына усталыми глазами и улыбнулся.
— Здравствуй, отец.
— А, блудный сын! — поднимаясь, проговорил Сергей Иванович и крепко поцеловал парня. Выпустив из объятий, он внимательно оглядел его. — Вроде стал уже мужчиной… Солоно приходится?.. Пошли, сынок, чай пить!
В кухонке, посвистывая, кипел на плитке чайник.
— Как поживает Екатерина Васильевна? — спросил Валентин, намазывая маслом кусок черного хлеба.
— Спасибо, хорошо. Нашла новое золотое месторождение недалеко от Рябинового… И кто это придумал эмансипацию — превратил наших женщин в логарифмические линейки? — посмеиваясь, ответил Сергей Иванович.
Валентин разлил по стаканам чай.
— Ты надолго к нам? — спросил он.
— Нет, только повидаться с тобой. В маршруте моей поездки вашего рудника вообще не было, но я не утерпел, заскочил повидаться. Какие у тебя планы? — помешивая в стакане ложечкой, спросил Сергей Иванович.
Он хотел посоветовать сыну вернуться домой и продолжать учебу. Хотел пообещать помочь восстановиться в институте, но промолчал.
— Я здесь занимаюсь, хочу сдать «хвосты» и перевестись на заочную геофизическую специальность. Как Светлана? Кончила институт? Живет по-прежнему одна? — спросил Валентин.
Сергей Иванович внимательно посмотрел в глаза сыну.
— Институт окончила. Работает геологом в Приморье. Живет одна.
Валентин опустил руки и бессмысленно уставился на синюю с белыми горошками сахарницу. Сергей Иванович все еще усердно размешивал в стакане сахар.
Больше на эту тему не сказано было ни слова. Немного погодя Валентин спросил:
— Что стало с Альбертом?
— Осужден. Следствие размотало целый змеиный клубок.
Валентина прошиб пот: с таким дружком можно было плохо кончить!..
Они перешли из кухонки в комнату и заговорили о жизни Валентина. Он подробно рассказал о своей работе, об увлеченности ею, о ближайших планах…
— Передай от меня большущий привет дяде Пете — ну, Попову! — за его добрый совет…
Сергей Иванович посмотрел на возмужавшего, радостного сына. Теперь он был за него спокоен.
— Хочу, сынок, чтобы ты всегда шел по жизни, а не жизнь волочила тебя за собой.
За потемневшим окном послышался шум мотора. Свет фар, пробежав по стеклу, ослепил Валентина. Сергей Иванович поднялся.
— Извини, сынок, должен немедленно ехать на алмазную стройку, меня ждет Степанов, наверно, уже ищет. Рад, что увиделись, у меня на душе стало сразу легче, как в детстве после отпущения грехов и причастия. Мы с Екатериной Васильевной всегда ждем тебя, не забывай свой дом. — Сергей Иванович крепко обнял сына.
3
Валентин перестал разговаривать с Костей. Сам не думал, что может так возненавидеть человека за то, что Люба с этим человеком обнималась… Конечно, и она хороша!..
Костя однажды принялся вздыхать, клясться и божиться, что это для возбуждения великой ревности все подстроила она сама и даже посулила ему поллитру, но денег не дала. И несколько раз требовал с Валентина трешку.
Не разговаривал Валентин и с Любой. Когда встречал ее на улице, то переходил на другую сторону или проходил мимо, не взглянув на нее, будто и не были они знакомы.
Первое время при этих невольных встречах она лукаво улыбалась, пыталась заговорить, потом улыбка ее стала грустной, и наконец Люба сама стала избегать встреч, замкнулась в себе.
И Валентин, сам того не замечая, теперь старался лишний раз пройти мимо ее лаборатории, в клубе искал ее глазами, следил, с какими подругами она бывает в кино, с кем разговаривает в рудничной конторе, библиотеке, но в измене при всем желании не мог ее обвинить.
Он перестал заниматься, геофизические премудрости не шли на ум, потому что на душе у него все время скребли кошки. Нужно было выпутываться как-то из глупого положения. Но Валентин не хотел делать первый шаг к примирению.
Возвращаясь сегодня со смены, он решил зайти домой, побриться, переодеться и… пойти к ней.
Когда Валентин вошел в свою нетопленую и неприбранную комнату, он не узнал ее — в печке весело потрескивали желтые кедровые поленья, кровать была прибрана, пол подметен, вымытая посуда поблескивала от яркого света лампочки, которая еще утром была тусклой от пыли. У печки на веревке сушились его рубашки, майки, джинсы. Люба в голубом олимпийском костюме и лыжных ботинках сидела на табуретке против открытой печной дверцы и штопала его толстые шерстяные носки.
— Санитарный день? — растерявшись от неожиданной встречи, спросил он.
Подошел к печке. Смолистые дрова горели с гуденьем, постреливали крупными искрами. Клюкой разгреб обгоревшие чурбаки и подбросил два желтых полена. Они вмиг вспыхнули и плеснули яркими сполохами по беленым стенам, крашеному полу, тусклым оконным стеклам.
Люба остановила на Валентине серьезный взгляд, перевела дыхание. Валентину очень хотелось кинуться к ней, обнять ее, но вместо этого он бросил:
— Костя живет через комнату, только в отлучке он. Можешь оставить трешку за любовь, я передам ему.
Люба вскочила, как от удара хлыста, и, схватив свою красную куртку, стала быстро натягивать ее на себя, от волнения не попадая в рукава.
— Назло тебе обнималась!.. А теперь… еще не такое выкину!.. — всхлипывая, крикнула она, хватая сумку.
Валентину стало стыдно своих слов, жаль Любу.
— Ладно, я не хотел тебя обидеть…
— Не хотел, а только и знаешь, что обижаешь за… любовь мою! — все громче всхлипывала Люба. — Нашел кого — Костю!.. Да я об него ноги и то вытирать не стала бы!
Валентин обнял ее дрожащие плечи, хотел поцеловать ее, но Люба оттолкнула его.
— Ни в жизнь не пришла бы к тебе!.. Если бы не узнала… что у меня… будет… ребенок!.. — заголосила она и опустилась на табуретку.
Валентин был ошарашен такой новостью и не сразу понял, обрадовался он или испугался. Интуитивно поняв его состояние, Люба притихла, тяжело дыша сказала:
— Не бойся, тебя обременять не буду.
Валентин подошел к ней и, обняв, поцеловал ее в солоноватые от слез губы…
— Пойдем в сельсовет и распишемся! — сказал он.
Люба отрицательно покачала головой.
— Зачем? И так тебе верю, — тихо, будто в полусне, прошептала она.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
1
Рудаков вторую неделю колесил по своему необъятному, равному нескольким европейским государствам, краю. А завершил командировку, как всегда, у Степанова.
Ночь он провел в поездке, всласть отоспался и в хорошем настроении вышел с чемоданчиком в руке на конечной станции.
Сегодня он ехал один, вечером отпустил своего помощника к заболевшей жене. Ну, а тот в спешке, видимо, не предупредил станционное начальство: Рудакова никто не встретил, и он был рад своему необычному одиночеству.
Солнце слепило глаза, он надел черные очки, осмотрелся. Направился к большому красивому зданию, похожему на двухпалубный пароход. Там предстояло пересесть на судно и плыть вниз по реке, к океану.
Оставив в портовой гостинице чемоданчик, он пошел за билетом. У кассы пожилой, высокий, сутуловатый мужчина потребовал отдельную каюту: он член правительственной комиссии по приемке особо важного объекта и ждать следующего парохода не может. Два билета в отдельной каюте он получил и, улыбаясь, подошел к ожидавшей его миловидной, в коротенькой юбочке, маленькой женщине. Рудаков взял свой билет и, чтобы скоротать время, отправился в ресторан. Устроился у открытого окна: отсюда видны были железобетонные стенки причала, десятки портальных кранов-журавлей, у которых сгрудились караваны самоходных барж. Встречаясь, обменивались гудками солидные трехпалубные пароходы и юркие буксиры, бороздившие воду.
За соседним столиком пожилой мужчина с молодой спутницей пили пиво, он увлеченно рассказывал что-то о Париже, а она не сводила глаз с молодого брюнета с тонкими усиками под горбатым носом. Брюнет был в белом шерстяном костюме и черных очках. Он сидел наискосок от них, потягивал из бокала шампанское.
— Ася, если не можешь быть честной, то будь по крайней мере осторожной… — возмущенно перебил себя рассказчик.
— А вы если не можете быть щедрым, будьте хоть вежливым, — парировала Ася, брезгливо отставляя стакан с пивом.
Вскоре началась шумная и суетливая посадка. Рудаков с трудом продирался сквозь крикливую толпу провожающих к пароходному трапу. Придерживаясь за надраенные до блеска медные поручни, поднялся на вторую палубу и, облокотившись на перила, еще долго ждал окончания погрузки каких-то ящиков, бочек, мешков… По палубе носился брюнет в белом — он ругал грузчиков за неосторожное обращение с ящиками помидоров. Наконец пароход несколько раз басисто прогудел и, вспенивая воду за кормой, отчалил от пристани.
Пропал за поворотом порт, слева, на крутом обрыве, проплыла огромная надпись «Нефтестрой», и от этого места еще долго тянулся по голубой воде сизый нефтяной шлейф.
Быстро убегали назад буровые вышки, новые дома и поселки геологов. Салютовали гудками встречные буксиры, тянувшие километровые плоты леса. Отвесные скалы перегораживали путь могучей реке, но она обходила их стороной и неукротимо неслась вдаль, к океану.
Рудаков, как зачарованный, смотрел по сторонам. Исчезали на воде ослепительные солнечные блики, вода пузырилась от дождевых капель. Пропадала в густых хлопьях тумана. С восходом солнца была розовая, ночью — черная…
Лишь несколькими словами перекинулся Рудаков с пожилым пассажиром, назвавшим себя профессором Проворновым. Рудаков видел, что профессор тяготится компанией брюнета в белом, назойливо сопровождавшего его молодую спутницу. Узнал Сергей Иванович от мрачного доктора наук, что они с женой совершают что-то вроде свадебного путешествия, удалось совместить его с командировкой в северный край: ведь юг уже всем надоел!
Ночью пароход причалил к пристани. Рудаков быстро оделся и вышел на палубу. На крутом берегу чернели старые амбары, дома с темными стеклами, на ветру покачивался одинокий тусклый фонарь. На намять невольно пришли село Разбой, Филька Шкворень… Рудаков даже непроизвольно обернулся и посмотрел на реку, как бы ища на ее дне Фильку, махавшего руками уходящим пароходам…
Заурчало под кормой, палуба слегка качнулась и поплыла в темноту.
Справа дымился костер, пламя его блеснуло на лице сидевшего на корточках старика, лицо стало бронзовым. Вскоре все исчезло в густой темноте.
Неподалеку от себя Рудаков заметил два силуэта. Между ними то разгорался, то угасал огонек. Молодой мужской бас вкрадчиво объяснял:
— Коммерсант я, Аська, по-американски бизнесмен, вот кто я, поняла, глупая?
— Может, спекулянт? — хихикнула женщина.
Огонек стал быстро удаляться. Вдогонку за ним до палубе застучали каблучки. И все смолкло.
Утром пароходный гудок, эхом отдававшийся в горах, неотступно следовавших за красавицей рекой, известия о приближении к северному городку. Показались портовые причалы, пакгаузы, склады, труба электростанции. Сергей Иванович вышел на палубу, как только пароход остановился, увидел брюнета в белом, который уже стоял у трапа и пересчитывал свои помидорные ящики.
Рудакова встречал Степанов. Они обнялись, расцеловались.
— Ты все такой же, не меняешься, — заметил Рудаков.
— Что ты, раньше я был молодым и красивым, а теперь остался только красивым, — пошутил Степанов, открывая перед гостем дверцу «Волги».
— Почти двадцать лет судьба сводит нас на разных широтах и меридианах Родины, — сказал Рудаков, усаживаясь в машину.
Степанов, извиняясь, отлучился: он поздоровался с четой молодоженов, усадил их в другую машину. Быстро вернувшись к Рудакову, сказал:
— Этим же пароходом приехал профессор Проворнов, мы сдаем государственной комиссии фабрику. Дела идут неплохо! — Вдруг он рассмеялся и добавил: — Вспомнил, что почти два года назад я мог бы стать на вечную стоянку в Москве!.. Но Лида говорит, что мне на роду написано быть вечным бродягой.
— И правильно сделал: аппаратная работа не сахар медович, — заметил Рудаков.
Со средней скоростью восемьдесят километров «Волга» мчалась на север по новой шоссейной дороге, плавно спускаясь и поднимаясь по ее полотну. Мелкая галька разлеталась в стороны из-под колес и, булькая, исчезала в обступившем дорогу болоте. Чахлый смешанный лес бежал рядом с машиной, обгоняя бело-черные столбики у обочины. Мелькали мосты, перекинутые через мелкие речушки, новые домики дорожных мастеров, заправочные станции, встречные МАЗы и КрАЗы. Два часа ночи, а светло, как днем. Летом здесь солнце на круглосуточной вахте.
— Как домашние дела? — спросил Сергей Иванович.
— По-старому. Светланка успешно окончила Зареченский институт, по распределению попала в Приморье. Лида задержалась с переездом из-за дочки, на днях приедет сюда.
— Ты знаешь, я зимой был у сына. Валентин работой доволен. Учится заочно. Кажется, перебродил, нашел себя. Женился недавно. Скоро я буду дедом, — рассказывал Сергей Иванович, посматривая по сторонам.
— Значит, твой сын повысит тебя в звании раньше, чем меня дочь…
Подъезжая к большому поселку, они услышали глухой мощный взрыв.
— На карьере руду рвут.
Ехали широкой, с четырехэтажными каменными зданиями, улицей. Рудаков увидел табличку на угловом доме: «Ленинградский проспект».
— На вечной мерзлоте стоят, — кивая в сторону каменных домов, с гордостью заметил Степанов.
Поворот — и машина покатила по улице из веселых, разноцветных деревянных домиков — розовых, желтых, голубых, как на детском рисунке. Миновав гостиницу, почту, остановилась у синего коттеджа.
Поднимаясь на деревянное крыльцо, Рудаков столкнулся с Северцевым.
— О, кого я вижу! С приездом, Сергей Иванович!
— Здравствуй, здравствуй, Михаил Васильевич.
На крыльцо вышел улыбающийся Филин и сам представился Рудакову. Сразу же стал начальственным тоном распекать Степанова:
— Плохо у вас, Виталий Петрович, с бытом! Вчера без вас я осмотрел поселок, и знаете, что я обнаружил на окраине? Палатки. А тут шестидесятиградусные морозы бывают, — печально улыбнулся Филин. — Мошкара и гнус… Осушение болот вокруг провести надо! Вода мутная. Озеленением улиц не занимаетесь, — перечислял он огрехи молодого поселка и выразительно поглядывал на секретаря обкома партии.
— Надеюсь, вы поможете нам, дополнительно выделите деньги на жилье, строительство насосной станции, механизмы, оборудование? Я заготовлю распоряжение за вашей подписью, — сказал Степанов.
— Давайте предложения. Я ничего подписывать не могу. Нужно посоветоваться в Москве, мы все решаем коллегиально, — поспешно ответил Филин.
Рудаков заметил, что Северцев и Филин не смотрят друг на друга, почти не разговаривают между собой, как говорится, не переваривают друг друга. Северцев не терпел своего начальника за то, что тот исподтишка пользовался запрещенными приемами, добиваясь нокаута строптивому подчиненному, а Филин бесился, видя, что его удары по Северцеву не достигали цели, и сам он получал от него хорошие оплеухи…
Северцев понимал, что симпатии и антипатии среди людей не в малой степени отражаются на деле, которому они служат.
Филин лично становился все более антипатичен Северцеву, но Северцев ради дела заставлял себя относиться к Филину так, будто он ничего не знает о нем и видит его первый раз в жизни.
Филин же ко всем вопросам подходил с позиций симпатий и антипатий, подгоняя все дела к личным интересам, которые теперь у него сводились к одному — подольше удержаться в начальничьем кресле.
Рудаков предполагал, что между Северцевым и Филиным предстоит стычка — они по-разному смотрели на пути развития алмазной отрасли. Рудаков знал, что министр предложил Филину рассмотреть этот вопрос на месте, и Рудаков решил даже принять в этом участие.
Степанов и Северцев понимающе переглянулись.
— Отдыхайте, Сергей Иванович, позже увидимся! — Северцев махнул рукой и вместе со Степановым пошел к машине.
— А вы куда направляетесь?
— В карьер, хочу посмотреть горные работы.
— Подожди, я тоже поеду!
— Отдыхай, еще успеешь, — сказал Степанов.
Но Рудаков, оставив на крылечке дома чемодан, догнал их.
2
Веселая улица перешла в бетонное шоссе. Через несколько минут подъехали к огромному карьеру.
Спускаясь в глубь земли, четко вырисовывались рабочие горизонты, уступы с буровыми вышками и огромными экскаваторами. На въездных траншеях сердито рычали мощные самосвалы. Рудаков заметил по часам: через каждые две-три минуты они один за другим проезжали мимо «газика», увозя на обогатительные фабрики алмазную руду. В карьере было безлюдно, и в то же время, как было известно Рудакову, здесь уже добывались многие миллионы тонн руды и породы.
Рудаков и Северцев пошли вниз по выездной траншее, к огромному железному гусю, хватавшему двенадцатикубовым клювом голубоватую руду и бросавшему ее в семидесятитонный самосвал. У экскаватора же стоял Степанов и о чем-то переговаривался с бульдозеристом.
— Доллары экскаватором черпаем! — крикнул Степанов, когда к нему подошли Рудаков с Северцевым.
Глядя снизу на поднимающийся уступами огромный цирк карьера, Северцев сказал Рудакову:
— Молодец Степанов, быстро раскочегарил стройку! Вспоминаю, как было ему трудно браться за незнакомое дело… Подобного опыта в стране вообще не было! А рассчитывать на опыт Запада не приходилось. И знаете, Сергей Иванович, почему прежде всего? Именно вот в этом деле… Ведь суть-то в том, что особенности наших алмазных месторождений и своеобразие их руд не позволили использовать практику мировой алмазной промышленности даже приближенно!
Рудаков нагнулся, поднял кусок голубой руды, повертел в руках. Увидел мутно-белое пятнышко, поцарапал ногтем.
— Алмаз?
Северцев взглянул и, утвердительно качнув головой, продолжал:
— Всё начинали сами… Нас пугали и большая глубина, и крутое падение кимберлитовой трубки, ее вмещающие породы после обнажения меняли свою структуру и прочность. Да и длинный ряд других проблем весьма усложнял решение многих вопросов, касающихся горных работ, у нас отсутствовали опытные и практические данные для такого рода условий. Спорили о мощности оборудования, машин… Но теперь, как видите, все сомнения позади! — улыбаясь, закончил он.
Подкатил очередной громадина самосвал и, попятясь, встал под погрузку. Открылась дверца кабины, низкорослый, черноволосый шофер легко спрыгнул на землю и кинулся к Рудакову:
— Сергей Иванович! Здравствуйте, Сергей Иванович! Помните меня?
— Федот Иптишев? Вот не ожидал встретить! Давно с Южного? — тряся руку Федота, спросил Рудаков.
— Однако десять лет. Я здесь еще в разведке работал бурильщиком, потом курсы шоферов кончил, самосвал дали, — любовно оглядывая своего великана, отвечал Иптишев.
Погрузка закончилась, уже следующий самосвал гудел, требуя уступить ему место. Иптишев взобрался в кабину, крикнул через окно Рудакову:
— Мне ехать нужно! При новой системе болтать нельзя, товарищи вздуют!
— У тебя, Сергей Иванович, везде друзья-приятели, — заметил Северцев, отгоняя комара, впившегося в мочку уха.
— На золоте вместе работали… Слыхал, что он сказал? Болтать нельзя: товарищи — не начальство, а товарищи! — вздуют… Не администрирование, а экономика!..
Они зашли в диспетчерскую. В светлой комнате у пульта управления с разноцветными лампочками сидела курносая девица в цветастом платочке и смотрела на телевизионный экран. Рудаков увидел на экране гигантский самосвал Иптишева у бункера фабрики, с задранным вверх кузовом. Девушка переключила камеру на экскаватор — он быстро поворачивал груженный породой огромный ковш. Потом на экране появился буровой станок.
— Почему стоите? — спросила по селектору девушка.
— Перебираемся на новую скважину! — громко ответил хрипловатый динамик.
— Поехали завтракать! Есть хочется, всю ночь не ели, — балагурил Степанов.
Он нагнулся, чтобы поднять выпавшее из кармана пиджака мятое письмо. Письмо было от Пихтачева. Старик писал, что скоро приедет, что Степанову небось трудновато без него… Виталий Петрович улыбнулся, разгладил письмо ладонью и бережно спрятал в задний карман брюк. Сев в машину, откинулся на спинку и закрыл глаза… Крошки гравия стучали под крыльями, потом перестали. Машина накренилась, вместе с ней накренился и он, и это означало, что они выехали на шоссе…
…За столом в заезжем доме Филин разливал всем чай, шутил, добровольно взяв на себя роль гостеприимного хозяина: ведь он представлял в комиссии министерство.
— Как с извлечением алмазов? — спросил Северцев Виталия Петровича.
— Теперь нормально, но пришлось нам солоно, когда вначале алмазы кололись и терялись в «хвостах»…
— Наши исследователи не учли тогда физико-химических особенностей этих руд: оказалось, что здесь не Конго, — пошутил Михаил Васильевич.
— И ваша технологическая схема морально устарела, — сказал Филин, не сводя глаз с Рудакова.
— Чем же именно она устарела? — насторожился Северцев.
— Подробностей я не знаю, но мельницы вы заложили в проект старые…
— К сожалению, нельзя монтировать оборудование, не выпускаемое промышленностью. Но замена семиметровых бесшаровых мельниц «Каскад» на девяти- или одиннадцатиметровые не меняет основу технологии. Оборудование будет совершенствоваться еще не раз, технический прогресс не собирается останавливаться, — возразил Северцев.
После завтрака поехали на новую обогатительную фабрику.
По бетонной дороге быстро выбрались за пределы города и, обогнав вереницу груженных голубой рудой самосвалов, устремились к огромному алюминиевому корпусу, издали похожему на застывший в синеватом океане айсберг.
— Сказочно красиво! — вырвалось у Рудакова.
— Причем дело не только в красоте и размерах этого здания, — вставил Северцев, — а в его «начинке»: для этой красавицы нашим институтом созданы специальные мощные мельницы, сепараторы, новая технологическая схема. Новое и в том, что строители сдали ее «под ключ»…
На лифте поднялись в дирекцию. Их встретил Девкин, повел гостей осматривать чудо-фабрику.
Рудаков вначале подумал, что эта фабрика и фабрика Кварцевого комбината внешне походили друг на друга как сестры-близнецы, но, приглядевшись, он заметил и различие — оно касалось их «начинки».
В доводочном цехе на столах лежали груды крупных камней. Рудаков выбрал самый крупный.
— По просьбе Михаила Васильевича мы дали ему имя «Валерия», — сказал Девкин.
Сергей Иванович вопросительно посмотрел на Северцева.
— В память о женщине-геологе, открывшей эти клады, — сухо пояснил Северцев.
— Очень романтично! — хихикнул Филин. И громко продолжал: — Крупные алмазы превратятся в бриллианты и станут валютой. Некоторые, помельче, пойдут на изготовление алмазного инструмента и буровых коронок. — Он впервые увидел эти алмазы, но уже считал себя специалистом.
Вышли на асфальтированный двор, и, глядя, как играет солнце на алюминиевых стенах фабрики, Северцев сказал:
— Знаете, что приходит на ум сейчас? Я вспоминаю, с каким злорадством зарубежная печать писала о том, что советские алмазные месторождения запрятаны богом далеко в тайге, где нет людей и дорог, где валят с ног метели и на морозе лопается сталь… Нашу алмазную промышленность называли «фикцией», предрекали провал строительства здесь по крайней мере на ближайшие полвека.
Подошел Проворнов, поздоровался, вынул из кармана пальто английский «Горный журнал» с яркой рекламной обложкой.
— Специально захватил для вас. А теперь они пишут, что Россия продолжает осуществлять быстрый прогресс в расширении добычи алмазов!
Филин ни с того ни с сего вновь заговорил о недостатках проекта, взглядом вызывая на разговор Проворнова, но тот потупил взор и отвернулся.
Рудаков послушал Филина и возразил:
— По-моему, вы неправы! Проект хороший, оригинальный.
Филин улыбнулся и без всякого стеснения сменил курс:
— Вы меня не так поняли! А я о чем говорю?.. Проект хороший. Но есть отдельные недостатки… У вас, Сергей Иванович, будут какие-нибудь указания?
— Я полностью доверяю специалистам, — холодно ответил Рудаков.
Филин стал ратовать за повышение уровня технического прогресса, ссылался на какие-то специальные инстанции, постановления, туманно намекая на то, что ему-то известно значительно больше, чем кое-кому из здесь присутствующих…
3
Катер шел по широкому водохранилищу, названному здесь алмазным морем, возникшим при строительстве плотины гидроэлектростанции. Катер переваливался на боковой волне, как утка с боку на бок, протяжно гудел встречным рыбачьим лодкам.
В тесной кают-компании за маленьким столиком сидели Рудаков, Северцев, Филин и Степанов и молчали. Северцев, казалось, сосредоточенно читал пухлый геологический отчет. Филин нервно вертел в руках местную газету, Степанов доедал из солдатского котелка остывшую уху. Рудаков смотрел в круглое оконце на бежавшую от катера пенистую волну и мысленно подводил итог горячего спора Северцева с Филиным. Конечно, с точки зрения обкома партии строительство трех новых горнообогатительных комбинатов в необжитых районах края было весьма желательным, но было ли это выгодным с государственной точки зрения? Больше всего Рудаков боялся быть необъективным, сползти с партийных позиций на местнические, подменить «наше» на «мое».
— Пожалуйста, смотрите: геологи сами утверждают, что на Болотном месторождении алмазы мелкие, самые дешевые по цене, а себестоимость при бедном содержании будет огромной, они будут для государства убыточны. Зачем же строить предприятие, которое будет убыточным? — спросил Северцев, обращаясь к Рудакову.
— А Смолокуркинское? — поинтересовался Степанов.
— Алмазы там хорошие, крупные, содержание в пять раз выше, чем на Болотном, но запасы очень малы. Строить там дворцы-хоромы не подо что, а экспедиционным способом отработать нужно, — согласился Северцев, вспоминая свое канадское турне.
Филин, насупившись, угрожающе молчал, что-то насвистывая себе под нос.
— Наверно, Михаил Васильевич прав — государство обязано беречь деньги. Я читал твое заключение, но его для Госплана нужно подкрепить технико-экономическими расчетами, и тогда решать, куда направлять деньги: теперь синтетика все чаще конкурирует с природой, — сказал Рудаков и, поднявшись на палубу, крикнул в раскрытую дверь кубрика: — Плотину видно уже!
— Может, и в клуб успеем, на концерт художественной самодеятельности, — предположил Степанов и тоже поднялся на палубу. Бетонная громада, с адским шумом качаясь в белом облаке брызг, надвигалась на катер.
4
В ожидании концерта люди столпились в буфете, в курилке, в просторном фойе.
Громко играл клубный оркестр, но танцоры пока жались к стенкам, никто не решался начать. Выручил Степанов — пригласил краснощекую девицу и закружился в вальсе. За ним пошли остальные пары.
Северцев оглядел фойе: в глубоких креслах сидели пожилые люди, наблюдая, как движутся в танце их преемники, и зная, что со временем им придется уступить место в этих глубоких креслах молодым танцорам, которые в свою очередь должны будут освободить комнату для танцев другим, более молодым…
В углу зала Рудакова обступили рабочие и что-то горячо обсуждали с ним. Через несколько минут он выбрался из окружения, подошел к Северцеву.
— Замучили тебя, пойдем лучше в заезжий — чай пить, — позвал Михаил Васильевич.
— И порассуждаем о благе человечества?.. Этого-то я больше всего и боюсь! Как бы, думая о человечестве, не отойти от живых людей! — засмеялся Рудаков и ушел в курилку.
Появился растерянный Проворнов. Обвел зал тревожным взглядом и, подойдя к Северцеву вплотную, шепнул:
— Ася сбежала!..
— Не может быть… — отозвался Северцев и удивился своим лицемерным словам: он знал, что так и должно было произойти.
Проворнов заговорил быстро, будто боясь, что ему не дадут высказаться до конца:
— Я вытащил ее из грязи, когда ее выгнали с работы за скандальную связь с каким-то фарцовщиком, я дал ей свое имя, положение порядочной женщины, — и чем она отплатила за добро? Сбежала!.. С кем? С синьором Помидором!
Северцев взял его под руку и повел к выходу на улицу: театральная исповедь профессора стала привлекать внимание окружающих.
С концерта шли большой компанией. Белая ночь перепутала время, на улице было многолюднее, чем днем.
Филин шел впереди, с Рудаковым, и говорил:
— Заполярный принят государственной комиссией, теперь можно отметить достойных! Я лично сам вложил много сил в проектирование этой новейшей технологии, боролся с технической рутиной, все еще бытующей в нашем институте…
Рудаков покосился на Филина, ничего не ответил, остановился, поджидая Северцева.
Навстречу шла по тротуару группа парней и девушек. Бренчали две гитары, и молодые люди пели о ребятах с семидесятой широты. Пропустив их, Рудаков внезапно спросил Северцева:
— Валерия — это Малинина?
Северцев кивнул головой. Ему вдруг захотелось излить душу перед этим чутким человеком — просто так, как «на духу»…
— Кайся, грешник: все знаю! Сан мой тоже отчасти духовный, — шутил Рудаков.
Взяв Северцева под руку, он сказал:
— Я вот о чем сейчас подумал: почти никто не знает, что ты сберег народу десятки миллионов, смело доказав абсурдность их траты. Но ни ордена, ни почетного звания тебе не дали, одни шишки валятся на тебя по сей день.
— Не кочегары мы, не плотники, а так… бумагомаратели. — Северцев улыбнулся.
— Ну, как живешь-то поживаешь-то, бунтарь?
Северцев удивленно посмотрел на него.
— Как живу?.. Работаю.
— Значит, так и не вернулся к жене? — покачав головой, заключил Рудаков.
— Нет. Хотя после трагедии с Валерией Сергеевной она просила об этом… Человек она неплохой, но мы уж очень разные люди… У сына тоже семейные неурядицы! Хочу помочь ему найти себя.
— А сам так теперь и останешься бобылем?
— Как тебе это объяснить?.. Живу, как читал где-то, в обнимку с пустотой. И вроде уже привык. Иногда ловлю себя на мысли, что похожу на андерсеновского мальчика, которому в глаз попал осколок кривого зеркала и он стал во всем окружающем видеть только кривое… Это я, конечно, насчет семейной жизни, все это, наверно, Сергей Иванович, глупые шутки. Одно знаю: с Валерией всегда был праздник, с другими так не будет.
— Ну, а на работе как у тебя? Все принципиальничаешь?
Северцев не понял, порицает или одобряет его Рудаков.
— Доходило уже до рукопашной. Подрессоривать Филину не собираюсь… Вот исповедался перед тобой и хочу знать: как мне жить дальше?
Рудаков усмехнулся и, прибавив шаг, ответил:
— Говорил правду, а под конец соврал: ну какого ты совета — моего или другого чьего — слушался или послушаешься? Живи, как живешь, непутевый… Я рад, что ты есть на земле.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
Виктор нервничал — ему не терпелось скорее увидеть Светлану. Прошлой осенью, когда он приезжал в Зареченск, их встреча не состоялась: она уезжала к родителям, а он туда поехать не решился. Теперь он ехал за ней. Он расстался с институтом, с Москвой ради того, чтобы не расставаться со Светланой.
…Она уехала внезапно. Об этом он узнал лишь из ее записки, оставленной в их комнате. Узнал, когда Светлана уже была в Сибири. Вначале он храбрился, уговаривал себя, что, мол, поблажит немного и вернется к нему, но время шло, она не возвращалась и даже не ответила ни на одно его письмо…
Грузовик бросало из стороны в сторону — весенняя распутица в некоторых местах испортила дорогу. В утреннем тумане Виктор не ощущал скорости движения автомобиля до тех пор, пока не взглянул вверх, на мчавшиеся прямо на него кроны деревьев. Дорога потянулась на мелколесные сопки, издали похожие на огромные хлебные караваи. Грузовик недовольно урчал, ему было тяжело на крутых подъемах. Резкий поворот — и совсем неожиданно перед глазами Виктора открылся необозримый синеватый океанский простор.
— Океан, — с уважением произнес шофер и остановил машину у поворота.
Виктор быстро открыл дверь кабины, стал на подножку и, стараясь, чтобы шофер не увидел, а если и увидел, не придал бы этому значения, сдернул со свой головы кепку. Утренний океан предстал еще сонным, спокойным, ленивым.
И Виктор, стесняясь, как ему казалось, своей старомодности, держал перед океаном безмолвную, взволнованную речь:
«Вот мы и встретились, чтобы больше не расставаться, дружить с тобою всю мою жизнь!.. Я должен начать раскрывать твои секреты, и многие поколения людей после меня еще будут долго познавать твои бесчисленные тайны… Я горжусь тем, что буду одним из первых. Человек должен узнать, где хранятся твои несметные клады. Возможно, где-то совсем рядом, у этого мелкого берега, а может, на десятикилометровой глубине хранишь ты в кромешной тьме богатства, ненужные тебе, но так необходимые человеку!..»
Виктор глубоко вдыхал влажный и теплый воздух, смотрел на белое судно, призраком проплывавшее по горизонту.
— В твою экспедицию — вот сюда! — Шофер пальцем показал на правый поворот и включил мотор.
Они поехали влево. В горы. К Светлане.
Виктор увидел, как яркое солнце дробилось от мелкой океанской ряби в слепящую россыпь огней. И вдруг океан пропал за скалой так же внезапно, как и появился. Узкая проселочная дорога все глубже врезалась в реденькую буреломную тайгу.
Подъехали к деревянному мосту и остановились. Шофер пошел с ведерком за водой.
— Брюхатая, вся распухла, — сказал он о реке, заливая воду в парящий радиатор.
Виктор поворотом рычажка включил висевший у него на груди транзистор: музыка успокаивала нервы.
…Сквозь залепленное грязью ветровое стекло он заметил набегавшие на него дома поселка и, волнуясь, попросил шофера остановиться у дома номер три на Горной улице.
Здесь помещался геологический отдел рудника, а на втором этаже, в угловой комнате, как писала Михаилу Васильевичу Светлана, жила она.
Взглянув на часы — всего половина седьмого, — стучать не стал, чтобы не поднимать лишнего шума. В окне угловой комнаты заметил открытую форточку и, набрав несколько маленьких камешков, стал осторожно бросать их. Камешки, дзинькая, отскакивали от стекла, два влетели в форточку.
— Виктор? — услышал он свое имя и увидел за стеклом копну Светланиных волос.
Через минуту со скрипом открылась дверь, Светлана с недоумением смотрела на него. Только сейчас она думала о прошлом, пытаясь представить свое будущее… и вдруг эта встреча! Его глаза искрились хмельной радостью, он протянул к ней руки, но она отступила назад, зябко кутаясь в легкий халатик.
— Кладу голову на плаху, а повинную голову меч не сечет!.. Все еще злишься? — спросил он, обескураженный ее холодностью.
— Нет. Все перегорело, и злость тоже.
— Уж так все и перегорело?.. Не верю!.. Умоляю тебя — опомнись! — прошептал он.
Светлана невесело улыбнулась.
— Разве любовь можно вымолить? Она или есть, или ее нет, и тут ничего не поделаешь… — в раздумье проговорила она.
— Я приехал на несколько дней. За тобой. Где мне оставить чемодан? — растерянно спросил он.
— В гостинице. Мне холодно, я пойду оденусь.
— Я приду через десять минут, — обиженно сказал он, унося свой чемодан.
…Светлана ждала его у своего дома. На ней была походная одежда — куртка с «молнией», спортивные брюки, сапоги, цветастый платок.
За эти десять минут она обрела внутреннее спокойствие и дружески улыбнулась притихшему Виктору.
— Пойдем? — Светлана кивнула на темно-синюю заплывшую талым снегом дорогу, по сторонам которой чернели кусты.
Они пошли, и их наполняла весенняя радость, она была во всем: в зеленом дыме березняков, в буйстве щебечущих птиц, в испарине просыпающейся земли…
Подошли к речке. Лед вздымался на дыбы, как табун диких коней. Стоя на крутояре, Светлана проговорила:
— Рассказывают, что раньше здесь в троицын день деревенские девчата сплетали венки и пускали по реке, гадая на суженого…
— Погадай на меня! — улыбнулся Виктор.
— У нас с тобой все давно разгадано.
Они миновали огороды. Снег тут почернел, стал ноздреватым, в следы сразу же набегала вода. Через овраг не прошли — ткнулись туда-сюда, а внизу уже полно талой воды. Пока обходили, Светлане в сапоги набился мокрый снег.
Вот и тайга. Пихты в зеленых кожушках шагнули им навстречу, защекотали хвоей. А березы такие белые, чистые — кора светится, ветви покачиваются, как косы. И «котики» уже есть на вербах — пушистые, ласковые.
Светлана пропала за деревьями. Виктор не сразу и заметил, что остался один. Странное чувство овладело им: как будто никого с ним не было, как будто лес присматривался к нему, как к чужому… Только у берез и в зеленой улыбке хвои почудилось ему что-то приветливое, а осина и лиственница словно бы недоверчиво хмурились…
— Ау, ау! — услышал вдалеке и, чтобы не выдавать себя, не ответил, а побежал вперед.
Прячась за деревьями, он обходил то место, откуда она аукала. Вот где она! Зашел сзади. Чем ближе подходил, тем ступал осторожнее. Но она все же услышала… Оглянулась встревоженно, в глазах замер испуг, потом испуг сменился насмешкой, Светлана бросилась бежать.
Виктор догнал ее, схватил за плечи и, повернув к себе ее лицо, пытался поцеловать. Она знакомо почувствовала его влажные губы, жесткие волосы, скользкий шелк рубашки, шершавость пиджака и поспешно оттолкнула его. Он увидел ее расширенные, переполненные слезами глаза и сдержался.
Дальше шли молча. Она — немного впереди. Виктор старался не смотреть на ее стройную фигуру, пробовал что-то насвистывать, но напрасно — свист то и дело обрывался.
Спустились на широкий луг, который весной покрывался ровной густой травой, а летом — копнами скошенного сена. Тайга отступала от луга, впереди вилась серая, вспухшая река.
Светлана вспомнила лето — их лето, синюю реку, пароход, большую копну пахучего сена, опрокинутую корзинку с грибами. Щеки ее вспыхнули.
— Слышишь?.. Журавли… — насторожился Виктор.
— Вчера я ходила в маршрут, слышала, как они курлыкали над лесом.
На холмике посреди луга стояла старая высокая пихта, а за ней в березовом перелеске чернели треноги буровых станков. Пока подходили ближе, пихта все увеличивалась, вырастала. Вдруг Светлана бросилась вперед, добежала до пихты, прижалась к стволу.
— Что-то говорит, а что — не пойму! — крикнула она.
Виктор приложил ухо к шершавой коре и ничего не услышал, кроме ровного, тяжеловатого шума ветвей. От хвои веяло смолистым, терпким холодком.
— Она шепчет мне: «Простила, любит».
— У тебя плохой слух, — ответила Светлана и убежала далеко вперед.
Она что-то напевала, что-то кричала, что-то говорила и смеялась. Виктор тоже смеялся, хотя не мог разобрать ни единого слова. Светлана задрала голову и тщетно искала в небе летящий треугольник.
Журавли напомнили ей не раз слышанную от отца приисковую легенду о неизменности путей перелетных птиц. Легенда говорила, что птицы летят всегда одной и той же дорогой, на большой высоте, минуя города, появляющиеся на их путях, но никогда не отклоняясь от курса. Легенда утверждала, что птичьи дороги в древности обязательно проходили вдоль рек и за многие тысячелетия реки не раз меняли русло, но перелетные птицы оставались верны своим начальным путям-дорогам. Вот почему, говорил отец, золото нужно искать на их перелетных трассах: давным-давно там бежали реки. Глядя на свои буровые вышки, Светлана улыбнулась. Она тоже верила этой легенде.
Пошли вдоль берега и вдруг на сером льду, на середине реки, увидели темную, бьющуюся об лед птицу, которая не могла взлететь. Не задумываясь Светлана побежала туда. Виктор не успел остановить ее и растерянно смотрел ей вслед.
Лед впереди гулко треснул. Сухой треск угрожающе стрельнул по реке. Испуганная птица взлетела. Светлана остановилась, широко расставила ноги и раскинула руки, словно хваталась за воздух. Виктор зажмурился, и когда решился вновь взглянуть, то увидел, что она так и стоит с раскинутыми руками. Потом обернулась, и он увидел ее побледневшее лицо. Осторожно, словно шла по раскаленному, шагнула — раз, еще раз, потом так и замерла с занесенной ногой, потому что угрожающе веселое потрескивание снова пронеслось надо льдом. Светлана немного постояла и вдруг решилась — побежала!
Навстречу к ней кинулся Виктор.
После они долго смеялись.
— Ну, думаю, что будет, то будет! Только не ждать… В жизни ведь тоже так…
Виктор взял ее руки и, нежно поцеловав в ладонь, смущенно оказал:
— Понимаешь, Светка, я по-прежнему тебя люблю!
— Любовь не лампа, ее не зажжешь и не потушишь по желанию. Знаешь, что сказал один великий человек о любви? Если ты любишь, не вызывая взаимности, если твоя любовь не порождает ответной любви, если ты, любящий, не делаешь себя любимым, то твоя любовь бессильна, она — несчастье. Понял?
— Кто это сказал?
— Маркс… Любовь, милый Витя, — это счастье. Люди стремятся друг к другу многие годы, и она прокладывает им дорогу. Через преграды, через испытания. И ничем их не остановить, не помешать. Когда встретятся — никакая сила их не может разлучить. В ссылку — вместе, на костер — вместе, на подвиг — плечо к плечу…
Виктор слушал Светлану и не узнавал. Вернее, он понял, что раньше просто не знал ее.
— Поверь мне, Витя, жизнь кое-чему меня уже научила, — грустно закончила Светлана.
— Значит, разлюбила, — с трудом выговорил он.
— Не спрашивай — пожалеешь, — отведя от лица колючую пихтовую ветку, сказала Светлана и пошла вперед.
Снова долго шли молча. Небо заволокло свинцовыми тучами, вот-вот польет дождь. Снега как будто еще больше налились водой, потемнели.
Тайга осталась у них за спиной, и чем дальше они удалялись от нее, тем больше она хмурилась. А Виктор чувствовал, что возле весенней реки нашел то, чего у него не было раньше, о чем не скажешь словами. Он смутно чувствовал, что в его судьбу будто, с шумом распахнув окно, с ветром вместе, не спросясь, влетела, подобно вольной птице, живая душа.
В кедраче оба неожиданно остановились. Светлана подняла голову, словно надеялась что-то разыскать в покрытом тучами небе, и на лице ее медленно начала проступать задумчивая улыбка.
— Слышишь? — спросила она почти шепотом.
— Слышу… Прости меня, Светка! Слышишь? — тоже шепотом сказал Виктор.
— Слышу, — ответила она, или ему так показалось, потому что очень хотелось услышать именно это.
И вот над ними раздался такой щемяще жалобный, такой усталый и счастливый голос журавлей, что сердце Виктора забилось учащенно и у него перехватило дыхание от непонятного, тревожного чувства.
Высоко-высоко, над самой тучей, очень ясно увидел он черную тонкую нить, которая, то растягиваясь, то сжимаясь, удалялась в сторону от буровых вышек.
Виктор, приставив ладони ко рту, закричал, подражая их голосам, кричал вверх, в небо, туда, где летели журавли, будто звал их, будто молил вернуться.
Но птицы не слышали. А если и слышали, то вернуться уже не смогли…
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
Морозным днем шагал Михаил Васильевич по улице Куйбышева, по направлению к Спасской башне, где у него в четыре часа была назначена встреча с Виктором и Светланой.
Приехав с Дальнего Востока в отпуск, они остановились у него — на этом настояла Светлана, — и его одинокая квартирка словно ожила.
Приехали они действительно вместе или только чтобы создать ему, беспокойному отцу, — опять же по настоянию Светланки! — иллюзию благополучного возрождения их маленькой семьи? Склеилась у них жизнь или нет? Он не знал этого и не расспрашивал их. Ему казалось, что не склеилась. Может быть, пока еще не склеилась? Михаилу Васильевичу хотелось бы, чтобы это было именно так: пока. Чтобы во всей жизни Виктора рядом была Светлана. Странно — порою она казалась ему чуть ли не роднее, чем собственный сын. Как могло это быть? Видимо, сказалось то, что Виктор, кровно, до боли, родной ему, вырос от него вдали, а вот эта Светлана словно бы впитала в себя все самое заветное, чем жили ее отец и он, Северцев, в молодые свои годы и в годы зрелости. Ох, как нужна она Виктору!
Эти раздумья перебивались сейчас у Михаила Васильевича совсем иными. Только что была у него важная беседа в отделе тяжелой промышленности Центрального Комитета партии. Алексей Сергеевич рассказал о принятом решении: вместо администрирующих главков создаются, пока еще в опытном порядке, хозрасчетные объединения и советские фирмы. Настало время наводить строгие порядки в лабиринтах хозяйственного управления. Возглавлять их должны хорошо знающие дело специалисты. Как смотрит, он, Северцев, на предложение возглавить одно из новых объединений? Это предложение застало Михаила Васильевича врасплох. Но и не только по такой причине ответил он отказом. У него интересная работа, менять ее он не хотел бы. Он в шутку назвал кандидатуру Филина. Хоть таким образом удастся избавиться от него! Алексей Сергеевич усмехнулся: при новой системе хозяйствования филиным не будет места в руководстве.
Рассказывал Алексей Сергеевич о принципах новой работы и о ее размахе — институт, Кварцевый и Заполярный будут в одной научно-производственной фирме. При расставании предупредил, что начатый разговор все равно будет продолжен.
Виктора и Светлану Северцев увидел издали — они стояли у Кремлевской стены, Светлана махала ему рукой, торопя его, и показывала на башенные часы: экскурсия начиналась через пять минут.
По скользкой брусчатке, запыхавшись, побежали они к Оружейной палате и успели пройти в помещение Алмазного фонда.
В полутемной зале с ярко освещенными стеклянными стендами они попали в многоязыкую толпу. Михаил Васильевич увел «ребят», как он их называл, от экскурсии: он знал историю каждой драгоценности нисколько не хуже гида, а к появлению на свет некоторых из них был причастен.
— Ну вот, вы видели коронные драгоценности русских царей, — говорил он. — Видели всемирно известный алмаз «Орлов», подаренный графом Орловым Екатерине Второй и вставленный в императорский скипетр. Любовались алмазом «Шах», который был поднесен Николаю Первому персидским шахом в «искупление» убийства Грибоедова в Тегеране… Но Алмазный фонд стал неизмеримо богаче в настоящее время, когда мы создали у себя собственную алмазную промышленность и развили золотую промышленность. Пройдите сюда и посмотрите! Вот алмазы «Горняк», «Мария», «Чекист». А этот, «Великий почин», — весом сто тридцать пять каратов. Полюбуйтесь «Прогрессом», он весит всего восемьдесят пять каратов, или семнадцать граммов, а стоит четверть миллиона долларов, или двести пятьдесят килограммов чистого золота!
Еще один искристый камешек привлек внимание Северцева. Вот наконец и встретился он с ней, с «Валерией».
Многое вспомнил Михаил Васильевич, глядя на этот алмаз: видение в красноватых лучах солнца на руднике Орлином, годы ожиданий, встречи на Сосновке, на озере Рица, в Москве, и опять годы тоски и разлуки, и трагедию на пожаре в тайге.
— Что задумались над алмазом с женским именем? — весело спросила Светлана.
— Так… Смотришь на камни, а мысли идут своей чередой.
Мимо колокольни Ивана Великого, царь-колокола, царь-пушки, Дворца съездов, через Троицкую и Кутафью башни вышли к Манежу.
— Новая работа тебе нравится? — спросил Северцев Виктора.
— Да ведь уже много месяцев я в Приморье. Все уже утряслось, и можно взвесить все «за» и «против». Твой вопрос я часто задавал себе сам: доволен ли я работой? Как отвечал себе, так и тебе скажу: в общем и целом — да. И в частностях — да! И ничего другого не хочу! И не вижу ничего существенного «против»!
— Похоже, что становишься настоящим рудознатцем, — сказал Михаил Васильевич.
У Манежа они расстались: Виктор и Светлана спешили в театр, а Северцев решил пройтись пешком и свернул в сад.
Он долго прогуливался по дорожкам Александровского сада, у грота с белыми каменными колоннами и гранитной могилы Неизвестного солдата с пылающим Вечным огнем.
Северцев поднял голову и увидел, как медленно, словно на парашютах, одна за другой опускались с хмурого неба снежинки. И вот уже бесшумная лавина низверглась на землю.
Всякие мысли лезли в голову. Опять Филин напомнил о себе — вычеркнул Северцева из списков лиц, представляемых к правительственным наградам: дескать, поменьше начальства. А вот у этих людей, которые идут рядом с ним по дорожкам, тоже, наверное, у каждого свой груз бесчисленных проблем, долгов, глупости, тоски, честолюбивых замыслов.
— Михаил Васильевич, здравствуйте! — услышал он женский голос.
Северцев сразу узнал Георгиеву, одиноко стоящую у могилы Неизвестного солдата.
— Елена Андреевна! Вот приятная встреча! — обрадованно воскликнул он и зашагал к ней.
Георгиева пошла навстречу. На ходу запахнула полы беличьей шубки, откинула со лба пуховый платок, открыв заснеженные черные с проседью волосы.
— Совсем меня забыл мой пациент. — Она грустно улыбнулась. — Не позвоните, не зайдете с тех самых пор, как… — Она не договорила. Поежилась, достала из черной сумочки пачку сигарет.
Они не виделись со дня возвращения Северцева, и он, крепко пожимая ей руку, спросил:
— Выглядите вы отлично, но почему одна?
Георгиева глубоко затянулась сигаретой и отвернулась. Достала из сумочки платок, приложила несколько раз к глазам. Немного успокоившись, сунула платок обратно в сумочку.
Он бросил быстрый взгляд на нее и увидел в ее глазах слезы.
— Если можете, скажите, пожалуйста, что с ним?
— Оттуда он не вернулся — это все, что я знаю.
— Вы еще будете счастливой, — сказал Северцев и тут же мысленно выругал себя за банальную, бессердечную в подобных обстоятельствах фразу.
— Мне осталось заботиться о счастье других. А его — ждать всегда!
Северцев с горечью подумал, что вот даже у Елены Андреевны, в противоположность ему, есть еще какая-то пусть крохотная, пусть призрачная, но все-таки надежда… И устыдился этой своей мысли.
Светлым подземным переходом они вышли к улице Горького.
— Зайдемте, выпьем кофе, — предложил Северцев, останавливаясь у ярко освещенного входа в кафе.
Они вошли, заняли столик у окна, заказали кофе, закурили. И вдруг Георгиева заговорила о себе, о той поре, с которой минуло много лет: война сделала ее сиротой, она работала, училась, писала, вышла замуж, родила дочь, потеряла мужа.
Короткий рассказ растрогал Северцева, оказалось, что в их судьбах немало схожего, близкого. Они долго молчали, слушая тиканье старинных часов — размеренный звук быстро бегущего времени в краткой человеческой жизни.
* * *
Этой книгой завершилась трилогия о наших горняках — романы автора «В таежной стороне» и «Инженер Северцев» были ее предшественниками. Судьбы главных героев первых книг — Степанова, Рудакова, Пихтачева, Быковой, Северцева, Птицына, Шахова, Яблокова, Столбова и других — завершаются в «Рудознатцах». Входит в сложную жизнь молодое поколение — Светлана Степанова, Виктор Северцев, Валентин Рудаков, продолжающее нелегкое дело своих отцов в наше славное время.
Г. Л.
ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ РУДОЗНАТЦЫ…
Сегодня нет необходимости доказывать существование ставшего уже очевидным факта — обращение наших лучших писателей к никогда нестареющей теме, теме труда, становления и развития современного производства, пристальное внимание авторов к людям, чьими руками, умом и волей создаются материальные и духовные ценности. Возрастание нравственного потенциала общества развитого социализма, воздействие научно-технической революции на содержание и характер труда, на человека, обретающего не только узкопрофессиональные знания, но и общие, культурные, выковывающего в себе подлинно коммунистические, гражданские качества — все это красной нитью пронизывает страницы многих произведений прозы самых различных творческих масштабов и жанров.
Подъем производительности труда, считал В. И. Ленин, «требует, прежде всего, обеспечения материальной основы крупной индустрии: развития производства топлива, железа, машиностроения, химической промышленности». И одновременно другое важное условие этого процесса — «образовательный и культурный подъем массы населения». Многое зависит здесь и от организационного совершенствования.
Настоящая книга — результат более чем тридцатилетнего труда писателя Георгия Михайловича Лезгинцева. Да, это несомненно так, ибо она завершает, хотя и является вполне самостоятельной, два неоднократно переиздававшихся романа — «В таежной стороне» и «Инженер Северцев». За «Рудознатцев» Георгию Михайловичу была вручена премия Всесоюзного конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшее произведение художественной прозы о современном советском рабочем классе.
В романе живут и действуют многие уже известные нам по предыдущим книгам герои — Степанов, Северцев, Рудаков, Пихтачев и целый ряд других знакомых читателю персонажей. Все они так или иначе связаны с «золотым цехом» страны — далекими северными рудниками, затерянными в глухой сибирской тайте.
Мы видим вместе с тем, как дотоле понятные лишь специалистам географические названия начинают сиять яркими маяками на карте Родины, могущество коей зависит и от того, как сработают золотодобытчики, сколько выдадут они на-гора. Не всюду и не всегда сопутствует им успех, немало проблем — производительности труда, эффективности и качества работы приходится решать героям Лезгинцева. Идут они по непроторенному, а подчас и неверному пути, «выписывая» непонятные, на первый взгляд, зигзаги как в деловом отношении, так и в личной жизни. Но властвует над их помыслами одна пламенная страсть — сделать все возможное на благо Отчизны, поставить порученное им дело основательно и с размахом, как требует того наше время. И в конечном счете они побеждают. Ломают устаревшие методы управления хозяйством, сложившиеся технологические и иные каноны, а главное — преодолевают самих себя.
Проблемы руководства промышленностью, поднимаемые в романе «Рудознатцы», в некоторых своих аспектах уже устарели или перестали быть оными, жизнь внесла в них необходимые коррективы, по-иному расставила акценты. Но актуальность произведения от этого мало в чем пострадала. Происходящая в «Рудознатцах» борьба, все ее перипетии остались этапом нашей истории, — из песни, как говорится, слова не выкинешь. Да и незачем. Ибо история учит, она в нас, без нее невозможно прошлое, настоящее и будущее народа. Скажем, совсем неархаично звучит невеселое признание секретаря горкома партии Рудакова: «К сожалению, у нас еще немало людей, которые преуспевают только на почве бюрократизма… Он состоит в интимном родстве с невежеством… Трудно себе представить маститого ученого в роли бюрократа… Эрудированный человек не боится чего-то не знать. А сегодняшний бюрократ больше всего боится уронить свой престиж и обнаружить невежество… поэтому на всякий случай знает все. Особенно охотно участвует он в любых реорганизациях».
Автор, разумеется, не ставит своей целью дать читателю детальное экономическое исследование, он имеет дело с живыми людьми, которые работали, творили, ошибались, радовались и страдали. И к этому не остаешься равнодушным.
Бывший парторг Рудаков становится секретарем обкома партии, начальник Южного прииска Степанов — директором золотого рудника Кварцевый, одного из самых крупнейших. Разухабистый старатель Пихтачев с каждым днем все более уважительно начинает относиться к современным способам добычи, к технике, поступающей на рудник. Суровую школу жизни прошел инженер Северцев, ныне заместитель председателя совнархоза. Но не были поколеблены ни его инженерные, ни партийные принципы. Он уверен: перестройки нужны, работать, как прежде, нельзя. Чувство нового ни на минуту не покидает его. И если необходимо, заявляет Северцев, не боясь впасть в пресловутый бюрократизм, придется «опять реорганизовываться». Таким образом, Северцев лишен какого бы то ни было догмата в подходе к делу. Не честь мундира, а соображения высшего порядка, общие интересы, движут его помыслами и действиями. Он ратует за коренные преобразования. Северцев, однако, не ортодокс, в случае нужды умеет пойти на компромисс, так как воюет отнюдь не с ветряными мельницами. Но не в большом, не в главном. Степанов, рассказывая Сергею Ивановичу Рудакову о встрече с Северцевым, смеясь замечает: «Мужик-то он дельный, сам все понимает и переживает, а нахлобучку для галочки, как мероприятие, провернул…»
Автор не идеализирует своего героя. Северцев, познавший превратности большой, настоящей любви, умудренный жизнью, совершает подчас совсем не свойственные его натуре, почти мальчишеские поступки. Сильное чувство к потерянной для него Валерии Малининой, работающей с мужем на Крайнем Севере, толкает его на поездку… к ней. Председатель совнархоза Шахов, конечно же, не одобряет его решения, советует «оставить Малининых в покое, не бередить души». Не тут-то было! Видя, что Северцева переубедить не удается, разрешает отпуск. «Неделю добирался Михаил Васильевич до места, где находилась экспедиция. Пурга задерживала на каждом аэродроме, словно не хотела пускать туда…» К счастью, встреча не состоялась…
Северцев мыслит широко, масштабно. «Машины нужны уже не только для экономии человеческого труда, — они необходимы для самого существования экономической системы. Системы!» Вот как ставит вопрос этот человек.
Позже, уже возглавляя научный институт, Северцев должен был дать заключение «по очень серьезному и важному вопросу, который подлежал обсуждению в правительстве». Госплан поручил ему произвести оценку экономической эффективности алмазных предприятий, намечаемых к строительству главком министерства. Он знал, что некоторые из них окажутся нерентабельными, об этом Северцев уже информировал министерство, но он все-таки вносит свои предложения в Госплан. На карту поставлено личное благополучие… После бессонной ночи, утомившись от бесчисленных расчетов, Михаил Васильевич пришел к неопровержимому выводу: строить нужно только Заполярный комбинат. Это экономило стране на капиталовложениях сотни миллионов рублей. Нелегкий груз взвалил на себя Северцев, но он знал, что иначе, как отстаивать свои позиции, он поступить не может…
Точно так же, вспомним, не мог мыслить и действовать иначе известный персонаж романа «Территория» Олега Куваева Илья Чинков, главный инженер управления, по прозвищу Будда. Мужчина с виду непривлекательный, медлительный и тяжеловесный. Он, как Северцев, натура волевая, умеющая идти на обдуманный риск. Опираясь на богатый практический опыт, Чинков, вламывающийся «в работу, как танк в березки», отдает всего себя целиком любимому делу, зная, как нужен стране желтый, бесценный металл!
Сочетание природного таланта, богатая внутренняя интуиция, большой запас «человеческой прочности», высокий профессионализм и личное мужество роднит Чинкова с еще одним из главных героев «Рудознатцев» — с Виталием Петровичем Степановым. Мало того, этот человек необыкновенно притягателен, прежде всего своей искренностью, даже в минуты эмоциональных взрывов, в гневе и запальчивости. И Северцев, и Степанов, и Чинков — поборники не абстрактно гуманной справедливости, они делают живую конкретную работу, весомо стоят на земле, являя собой фигуры реальные, во плоти. Тверда, как алмаз, основа их нравственности, находящаяся в тесном единении с убежденностью, и выражается в ощутимых результатах их деятельности. Все названные персонажи стали заметным явлением в литературе, олицетворяя собой яркие образы современного руководителя, бережливого хозяина, для которого превыше всего интересы государства. Поистине «гвозди б делать из этих людей».
Однако схожие деловые качества героев нисколько не затмевают их личных, индивидуальных черт. Каждый художник сумел увидеть своего персонажа таким, каким он ему рисовался в окружающем мире.
Напорист, буквально «начинен» энергией начальник стройки в Каракумах Ермасов, герой романа Юрия Трифонова «Утоление жажды», увидевшего впервые свет много лет назад. Его кредо, ставшее крылатым, звучит более чем определенно: «Если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить». Своим примером подтверждает эту мысль и современник Ермасова Родион Томилин, герой нового романа Аркадия Первенцева «Директор Томилин», и начальник строительства Нурекской ГЭС Карпов (роман Юсуфа Акобирова «Нурек»). Последнему также присущи точный расчет, умение видеть перспективу — «превратить Таджикистан в республику химии и цветной металлургии». И та же самоотверженность. «Начало и конец мой на Вахше», — говорит с грустью, определяя смысл своего появления на свет и близкого расставания с ним Антон Григорьевич… Открыто, «без забрала» выступает за модернизацию производства персонаж романа Михаила Ивановича Барышева «Дорога в гору» Сергей Векшин. Он — за улучшение работы всех звеньев производства, за повышение качества вверенных ему двигателей. Не в расширении производственных площадей, не в вале видит он решение проблемы, а в повышении моторесурсов дизелей. Он рискует, но идет не наобум. Продуманно, анализируя каждую, казалось бы, незначительную деталь. Он увидел возросшую техническую грамотность, общую культуру ИТР, рабочих. Люди пошли за ним, гордость за заводскую марку решительно потянула коромысло невидимых весов…
Жизненность и сила образов Степанова, Северцева, Томилина, Векшина объясняется бесспорно не только чисто производственной стороной их деятельности. Писатели раскрывают реальный образ человека труда наших дней, показывают подлинный советский характер, личности крупные, яркие, выражающие широту социальных интересов современного рабочего человека.
Интересы дела превыше всего и для героя пьесы А. Гельмана «Обратная связь» молодого партийного работника Сакулина, человека образованного, по-настоящему эрудированного. В его образе получали дальнейшую трансформацию лучшие черты названных выше персонажей. Его, как и их, мало волнует собственная карьера. Выбор своей жизненной позиции в сложившейся ситуации он строит по принципам закона, чести и гражданской совести. Сакулин владеет солидным арсеналом знаний, партийной прозорливостью, умением работать с людьми, защищать собственные и гармонично связанные с ними общественные принципы. Не так-то просто было ему одержать победу. Ведь выступал он ни много ни мало… против досрочного пуска комбината. Может быть, Сакулин хотел подстраховаться? Отнюдь. Он понял, что, увлекшись лозунгом, кое-кто на руководителей строительства словно «забыл маловажную деталь» — речь шла о пуске лишь одной из трех технологических ниток! Как быть с остальными? Это — потом, главное отрапортовать, «прогреметь»…
В неменьшей степени обладает необходимыми в эпоху НТР качествами руководителя и герой романа В. Гейдеко «Личная жизнь директора» Новиков. Личность эта не лишена, на наш взгляд, отдельных противоречий. Но Новиков нашел точный контакт с коллективом, поверившим ему как директору и человеку и не позволившим в конечном итоге главному инженеру Черепанову столкнуть его с занимаемого поста.
Не столь проста суть столкновений, конфликтов, происходящих на производстве, но ее довольно успешно исследует сегодня литература на рабочую тему. Не схематичные «деловые люди» привлекают внимание читателей, заставляют его сопереживать прочитанное, делать свои умозаключения и выводы. Литература сильна прежде всего типажами, характерами. И тут нельзя не привести очень точные слова, сказанные опытным практиком, возглавлявшим крупнейшую производственную фирму, Г. Кулагиным: «Попробуйте укажите в реальной жизни руководителя, который был бы против нового! Если же возникает конфликт, то дело здесь не в конфликте идей, взглядов, а скорее в конфликте характеров. Руководители бывают разные: смелые и трусливые, решительные и осторожные, идущие напролом и предпочитающие тонкую дипломатию и, наконец, просто более умные и менее умные. Вот на этой-то почве обычно и возникают производственные драмы и трагедии».
Смел, честен настоящий хозяйственник, коммунист Николай Федорович Шахов, председатель совнархоза, непосредственный начальник Северцева. До конца проводит он свою линию, поддерживая Северцева, Степанова, Рудакова во всех их добрых начинаниях. Этот образ — несомненная удача автора.
Встречаются в романе и люди совсем иного плана. Есть тут и трусы, и подхалимы, и хапуги, и негодяи. Всей логикой повествования Георгий Лезгинцев утверждает: нет им места в нашем обществе! И ему веришь.
Исподволь, опираясь на собственный немалый опыт горного инженера, руководителя научно-исследовательского института и писателя, собирал материал для завершающей книги Георгий Лезгинцев. В романе доставлен и ряд других немаловажных проблем: о взаимоотношении поколений, о молодежи, о долге, гражданской ответственности. Роман получился многоплановым.
Правда, есть в этом многообразии лиц и явлений места, на наш взгляд, недостаточно убедительно прописанные, встречается порой упрощенность, прямолинейность в решении отдельных конфликтов, в самих ситуациях. Это заметно в поведении и характерах представителей молодого поколения, детей главных персонажей — Светланы, Виктора, Валентина. Но в целом это нисколько не снижает звучания романа, его актуальности и обаяния героев.
А. Холодков


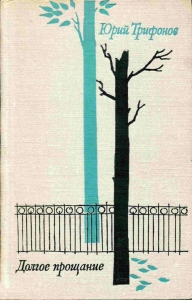




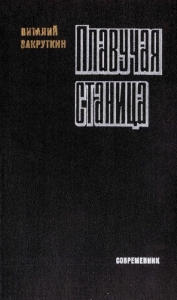
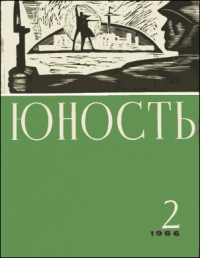
Комментарии к книге «Рудознатцы», Георгий Михайлович Лезгинцев
Всего 0 комментариев