С. Безбородов На краю света
Предисловие профессора Б. Ю. ВИЗЕ
Рисунки О. Верейского
Предисловие
Полярные станции имели очень большое значение в деле завоевания Северного морского пути, а теперь, когда этот путь практически эксплуатируется, значение их еще более возросло.
Теперь все полярное побережье Советского союза, от Мурмана до Берингова пролива, а также многочисленные острова советской Арктики усеяны метеорологическими радиостанциями, на которых целый год, а нередко и два года подряд, живут и работают сотни полярников. Партия и правительство окружают наших зимовщиков исключительным вниманием и заботой, делая все, чтобы облегчить их нелегкий труд в суровых условиях Арктики, чтобы сделать как можно менее ощутимой оторванность от Большой Земли, где куется новая, счастливая жизнь.
Быть командированным на полярную станцию для работы на крайнем северном форпосте социалистического строительства — это большой почет. У советской молодежи существует сильная, почти стихийная тяга к этой почетной и вместе с тем суровой работе в Арктике, требующей безукоризненного знания своего дела, самоотверженности, смелости и настойчивости. Это и понятно. Кому, как не советской молодежи, стремиться к наиболее трудным участкам нашей великой работы!
Зимовщики на полярных станциях с честью выполняют свою работу. Каждый год приносит этому всё новые и новые доказательства.
Вместе с тем мы видим, что если успешность работы наших полярников зависит от личных качеств каждого из них в отдельности, то в не меньшей степени она зависит и от силы коллектива зимовщиков. Там, где коллектив крепок и сплочен, там успех обеспечен: где нет такой сплоченности, там работа неизбежно хромает. Там, где коллектив вовсе отсутствует, — царствует разруха.
В этой книге описана одна из зимовок на полярной станции Земли Франца-Иосифа (в 1933/34 году).
Художественная литература, посвященная нашим полярным зимовкам, крайне бедна, и книга С. К. Безбородова в значительной мере заполняет этот досадный пробел.
Для молодежи, мечтающей поработать на арктическом фронте, эта книга даст много полезных указаний. Рисуя обстановку, в которой приходится жить полярнику и которую здесь, на Большой Земле, человеку, не бывавшему в Арктике, трудно представить себе, описывая быт зимовщиков, автор счастливо избегает злополучной арктической экзотики и перегибов в сторону героики.
Дать жизнь такой, какая она есть, со всеми ее хорошими и темными сторонами, — вот задача автора; нам думается, что справился он с ней хорошо.
Не все было гладко на зимовке, которая описана в этой книге, но автор этого не скрывает, а наоборот, обнажая недостатки, показывает их причины. От этого значение книги — написанной для молодых читателей, из которых впоследствии, вероятно, не одному придется зимовать в Арктике, — несомненно выигрывает.
В этой книге все — правда. Поэтому читатель получит по ней правильное представление о том, как живут и работают на полярных станциях и что нужно для того, чтобы зимовщик мог выполнить свою работу на «отлично».
В. Визе.
Моему сыну Алику
Глава первая
Собачий сарай
Была середина сентября 1933 года. Стояли тихие, ясные дни листопада. Над спокойной широкой Двиной далеко разносились тоненькие свисточки катеров, низкие, густые гудки пароходов. На баржах голубым дымком тихо курились железные трубы.
Но неспокойно было на спокойной просторной реке. Как на большой проезжей дороге взад и вперед сновали по реке катера и моторные лодки, пробирались тяжело груженные пароходы, шаланды, баржи и беляны.
По самой середине реки широкой блестящей лентой плыли сплоченные мокрые бревна, — их загоняли в лесоэкспортную гавань. Дымя толстыми трубами, здесь стояли немецкие, французские, норвежские лесовозы. Лесовозы выстроились в затылок друг другу вдоль железной набережной, ожидая очереди под погрузку.
Грузили лес. Охапки досок и бревен день и ночь летали в воздухе и с грохотом сыпались на палубы, поднимая желтую густую пыль.
С того берега медленно шел паром. Его заворачивало течением, сносило куда-то в сторону, боком волокло вниз по Двине,
А наперерез ему, распарывая реку широким носом, смело шел огромный «иностранец», сердитым и сиплым гудком распугивая разную речную мелочь: лодочки, шлюпки, ялики.
Под самым берегом, на волне, поднятой пароходом, покачивалась новая свежеструганная беляна. Старик в длинной рубахе с красными подмышниками скучая стоял у руля, а долговязый парень в треухе и болотных сапогах сидел под навесом и, лениво перебирая струны балалайки, горланил на всю реку;
Самовары, самовары, Самовары медные…Парень передохнул, от нечего делать прикрикнул на старика:
— Куда смотришь, чорт желтоглазый! — и снова принялся горланить:
Неужели пересохнет Наша Северна Двина? Неужели замуж выйдет Зарученная моя? Самовары, самовары, Самовары медные, Не от вас ли, самовары. Люди стали бедные?Я медленно шел по набережной Двины, мимо вросших в землю низких каменных амбаров старинной кирпичной кладки.
Это были кладовые древнего монетного двора, «приказы» царевой таможни. Через низкие ворота на толстых каменных столбах я вошел во двор. Двор был огромный, заросший пыльным бурьяном и лопухами. Повсюду стояли полуразрушенные склады, сараи, домишки.
В одном месте над щебнем и мусором возвышалась толстая стена, расписанная голубой и серебряной краской, — развалившаяся комната какого-нибудь приказного дьяка.
В другом месте из ямы торчали железные кованые брусья, — наверное, здесь когда-то стояли таможенные, весы, на которых торговые гости взвешивали пеньку, смолу, мёд и конский волос.
Кучи штукатурки, извести, щебня, горы кирпича и камня загромождали весь двор. Второй год ломали старинную таможню, чтобы построить на этом месте Дворец Культуры северных народностей.
У маленького каменного домика с разобранной крышей я остановился и прислушался. Откуда-то издалека доносился до меня глухой монотонный собачий лай.
Увязая в хлябкой глине, я зашагал через большую лужу, в которой плавали желтые листья осины. Я свернул налево — лай стал слышнее; потом повернул направо — еще слышней. Теперь уже ясно можно было разобрать в этом бестолковом горластом хоре отдельные собачьи голоса. Перебравшись через кучу битого кирпича, полусгнивших стропил и мятых листов кровельного железа, я вышел наконец к каменному сараю с ржавыми железными дверями.
Вот отсюда-то, из этого низкого, мрачного сарая, и несся разноголосый вой, визг и лай. Заливались тоненькие жалобные голосочки, скулили хриплые отчаянные голоса, злобно орали басы. Кто во что горазд. Все сразу. Каждый свое.
У дверей сарая стояли два человека. Один — коренастый, загорелый, белозубый парень — мой товарищ Боря Линев, а другой — высокий и тощий, с измятым опухшим лицом, в рваном драповом пальто — не то актер из бродячего цирка, не то скупщик краденого.
Боря Линев, засунув руки в карманы, посмеиваясь разглядывал оборванца, который держал на привязи тощую унылую собачонку. Собачонка мелко и часто чесалась, точно играла на балалайке «Светит месяц». А оборванец, изогнувшись в три погибели и прижимая к груди левую руку с растопыренными пальцами, сипел Боре Линеву в самое ухо:
— Вот те хрест — лайка! Конешно, малость запаршивела, ничего не скажу, но возить будет за троих. Прямо огонь! Ей бы до упряжки дорваться — не остановишь. Прямо сатана! Ей-богу, сатана! Давай на пол-литра «синдикату» и бери лайку. Идет?
Он совал Боре Линеву веревку, пинал собачонку носком рыжего, в засохшей грязи сапога и ободрял ее криками:
— А ну — как тебя звать — покажи наших! Не подкачай!
Боря Линев хохотал, сверкая белыми крупными зубами.
— Проваливай, проваливай! — кричал он, отталкивая веревку. — Иди, проспись, разуй глаза. Лайка! Ты бы ей хоть имя какое дал для приличия. А то видно, только что под забором подобрал. У нас у самих таких лаек хоть пруд пруди. Могу подарить пару.
Боря пошел к сараю, я за ним, а человек с собачонкой так и остался стоять посреди двора, посматривая то на нас, то на свою лайку.
Боря раскрыл тяжелые железные двери сарая. Острая крепкая вонь ударила в нос. Отчаянный вой, визг, лай, лязг, звон оглушили меня. Сарай был низкий и темный. В полутьме метались какие-то косматые клубки, сверкали глаза, щелкали зубы.
Я присмотрелся.
Вдоль всех четырех стен сарая на коротких цепочках было привязано штук сто собак.
Здесь были и косматые рослые псы, и маленькие щупленькие собачки с лисьими мордочками, и дворняги, и овчарки, и лайки, и не поймешь что. Черные, пегие, дымчатые, рыжие, пятнастые, белые, шоколадные, седые, лопоухие, кривоногие, поджарые, мордастые! Собаки гремели эмалированными мисками, скребли земляной пол, становились на дыбы, натягивали цепочки.
У самого края сидел рослый черный пес с белой грудью. Острые уши его торчали, точно черные крылья бабочки. Он поворачивал сухую, волчью морду, изредка отрывисто лаял, показывая страшные желтоватые клычищи.
Я узнал его сразу. Это был наш старый знакомый, наш старый друг Байкал. Он ехал с нами два дня из Ленинграда, пугая всех пассажиров и вагонных проводников.
— Байкал!
Он рванулся на цепочке, припал к полу, дал дыбы, завыл, тряся головой и подпрыгивая на месте.
— Байкал, Букаш, хорошая собака! Ну, здравствуй, здравствуй. Будет тебе, будет, успокойся.
Крепким широким лбом Байкал уперся в мое колено, как баран. Пушистый, загнутый кренделем хвост его вздрагивал и метался из стороны в сторону.
От ревности, от злости, что я приласкал Байкала, все собаки в сарае еще сильнее завыли, заголосили, забеспокоились.
Они так яростно прыгали и скакали, что, казалось, цепочки и веревки, на которых они сидят, сейчас лопнут, и вся эта орава сорвется, бросится на нас и разорвет в клочки.
А Боря Линев спокойно, как ни в чем не бывало, ходил по сараю, громко кричал на собак, иногда присаживался на корточки, бесстрашно хватал собаку за морду, раскрывал ей пасть, заглядывал в глаза, щупал ноги и холку.
Боря был недоволен.
— Чистого глаза ни у одной нет! — прокричал он, заглушая собачий лай. — Разве это глаз? — Он схватил за холку горластого пегого пса. — Разве это глаз, скажи на милость? Глаз должен быть ясный, — а это что? Лимондраже!
Этих собак собирали со всего Архангельска. Специально нанятый человек ездил за ними в окрестные поселенья и становища промышленников. Собак собирали для нас, зимовщиков.
________________
Мы, девятнадцать зимовщиков, съехались в Архангельск с разных концов Союза. Один приехал из Сибири, другой — из Таганрога, третий — из Харькова, четвертый — из Ростова, пятый — из Смоленска, шестой — из Макеевки.
Я и Боря Линев приехали из Ленинграда.
И у всех у нас был теперь один маршрут — Земля Франца-Иосифа.
Через несколько дней мы должны погрузиться на ледокольный пароход «Таймыр» и поплыть далеко на север. Там, за двумя морями — Белым морем и морем Баренца — лежат девяносто семь ледяных островов. Это и есть Земля Франца-Иосифа.
На одном из островов, на острове Гукера, приютилось самое северное в мире человеческое поселение — советская полярная обсерватория.
Будто в шутку назвали этот полярный архипелаг Землей Франца-Иосифа. Здесь и земли-то почти нет. Это Земля без земли. Никогда не тающий лед, вековые ледники, целые горы зеленого льда покрывают все девяносто семь островов архипелага. Только кое-где, на мысах и отмелях островов, из-под льда выходят узкие гряды черного дикого базальта.
Девять с лишним месяцев там зима — морозы, бураны, вьюги, а остальные два месяца — и весна, и лето, и осень, — все вместе. Треть года там ночь — не восходит солнце. Там дуют ветры ураганной силы и стеной несут колючий сухой снег, засыпают, заваливают одинокие клочки черной земли.
На лошади, ни волы, ни верблюды, ни даже северные олени не выживают в этой стране. Выживают там только собаки, да и то не всякие, а особые породы северных собак.
Это — выносливые полярные псы с густым подшерстком, с крепкими ногами, с железными челюстями, умные, смелые, неприхотливые в корме.
Сотни и тысячи километров пробегают эти ездовые собаки по крепкому снегу, по голому льду, переваливают через ледники, перебираются через торосы и ропаки, тащат за собою санки-нарты с людьми и кладью.
Полярные собаки спят прямо на снегу, едят мороженое мясо моржей, медведей, тюленей. А если нет ни моржей, ни медведей, ни тюленей, тогда собаки — сами себе корм: путник убивает одну из них, разрубает на куски и бросает упряжке: жрите.
А бывали и такие случаи, когда люди, чтобы не умереть с голода, по одной убивали своих собак и сами питались их мясом.
В дневнике полярного путешественника, капитана Каньи, есть такая запись:
«16 июня. Жертвой нашей пал сегодня мой личный друг Грассо; он дал нам много хорошего мяса. Собаку эту подарил мне Нансен».
Каньи и его спутники питались собачиной целых пятнадцать суток, и только это спасло их от смерти.
Немало охотников, путешественников, ученых погибло в Арктике и Антарктике из-за того, что у них не было вовсе собак, или собаки были плохие.
У южного полюса погибли, возвращаясь пешком к своей базе, англичане капитан Роберт Скотт и его спутники. Всего только в двадцати километрах от них была и пища, и одежда, и топливо, а они умерли с голода и холода, потому что у них не было ездовых собак.
Датчане Мюлиус Эриксен и два его товарища не могли без собак вырваться из ледников Гренландии. Без собак погибло девять спутников русского штурмана Альбанова, умерли, не добравшись до жилья, норвежцы Кнудсен и Тессем.
Теперь без полярных собак не обходится ни одна экспедиция, ни одна зимовка.
И наравне с людским снаряжением, с продовольствием, медикаментами и одеждой каждая зимовка и экспедиция берет с собой снаряжение, лекарства и корм для собак. Берет легкие охотничьи и тяжелые, крепкие походные нарты, сбрую, ремни и цепочки, суконные собачьи башмаки, шерстяные вязаные набрюшники, мясо или пеммикан — собачью еду.
Чтобы кормить собак, лечить их, чинить собачью сбрую и нарты, дрессировать и приучать к работе щенят, запрягать и вести в походе упряжку, чтобы заведывать всем этим большим собачьим хозяйством, в каждой полярной экспедиции есть специальные люди — каюры, собачьи кучера.
С нами на Землю Франца-Иосифа ехали зимовать два каюра: мой товарищ комсомолец Боря Линев и Степан Стремоухов. Стремоухов ехал помощником Бори, хотя и был старше его на добрых пятнадцать лет.
И вот теперь Боря ходил по сараю, сосредоточенно оглядывал, ощупывал, сравнивал собак, тискал их, дул им в шерсть, хватал за лапы и загривки.
— Чего тут выбирать? — кричал Боря, стараясь перекричать собак. — Чего тут можно набрать из этого барахла? Разве это собаки? Это одно рыдание, а не собаки…
Боря Линев вез с собой на зимовку трех собственных псов: черного сильного, большого Байкала и двух маленьких, вертких промысловых лаек: Жукэ и Серого.
Жукэ был серого цвета, а Серый — рыжего.
Погрузка
В ожидании «Таймыра» мы, зимовщики, жили в Архангельске в большой новой гостинице на улице Павлина Виноградова. Это единственная в городе улица, по которой ходит трамвай. Улица вся разворочена, на мостовой валяются куски трамвайных рельсов, шпалы и крестовины.
Раннее утро. Еще солнышко не поднялось над крышами, и на булыжники мостовой ложатся длинные тени домов, еще сверкают и горят, отражая невидимое солнце, окна верхнего этажа нашей гостиницы, а мы уже стоим среди улицы, ждем трамвая.
По утрам холодновато. Мы ежимся и топчемся на остановке, поглядывая на занавешенные окна домов, — там люди спят, им некуда торопиться.
Трамвай подходит полупустой. Вагончики маленькие, чистенькие и пахнут свежей краской.
На новых, блестящих скамейках сидят угрюмые поморы, бородатые норвежцы. Скуластые ненцы и вогулы держат билеты в зубах.
Трамвай везет нас через весь город. Иногда вагон ни с того ни с сего останавливается. Вожатый звонками и криками сгоняет с трамвайных рельсов тощую козу или длинномордую свинью.
В вагоне многие из нас досыпают прерванный ранней побудкой сон. Ехать нам далеко, до самого конца трамвайного маршрута.
Мы проезжаем мимо базара, потом трамвай спускается к берегу Двины и торопливо бежит пустынными уличками окраин.
Мимо окон мелькают маленькие деревянные домики с резными флюгарками на крышах. Посреди каждого двора врыт высокий флагшток. Это Морская слободка. Здесь живут беломорские моряки. Даже на суше они живут как на корабле — постоянно следят по флюгарке за ветром и, как на корабельные фок-мачты, поднимают по праздничным дням на свои флагштоки государственные морские флаги.
Наконец мы подъезжаем к Смоляному Буяну. Дальше трамвай не ходит. Но отсюда, от остановки, до нашего склада, где мы работаем, добрых полтора километра непролазной грязи.
Мы идем по берегу Двины.
Вдоль всей набережной тянутся деревянные дощатые склады. Все они одинаковые — все серые, глухие, длинные. Только по огромным черным цифрам, написанным на крышах, их можно отличить один от другого.
Еще издали у склада с цифрой шесть мы увидели короткую коренастую фигуру Кости Иваненко, нашего зимовщика.
Просто непонятно, когда отдыхает и спит этот человек. Он приезжает на склад первым и уходит со склада последним.
Костя всегда недоволен нами. Он постоянно корит нас, что мы опаздываем, хотя мы и приходим во-время. То он ворчит, что мы работаем слишком медленно, то ругается, что мы торопимся как на пожар, делаем все наспех, плохо, не так, как надо.
Косте 37 лет, но он еще студент. Всего лишь три года назад он окончил рабфак и поступил в вуз.
Он и учиться-то начал только в 30 лет, а до того был мальчиком на побегушках, батрачил, работал на хозяев по заводам и мастерским, был красногвардейцем, воевал с Врангелем. И хотя теперь он сам скоро будет уже инженером-механиком, но к нам — геофизикам, геологам, метеорологам — он относится с пренебрежением и за глаза называет всех «ветродуями».
Костя едет на зимовку служителем. Он на год взял в институте отпуск для того, чтобы за время зимовки подкопить денег и потом спокойно закончить ученье.
Там, на полярной обсерватории, он будет простым уборщиком, истопником, а сейчас, когда надо грузить мешки и ящики, упаковывать тюки и заделывать бочки, Костя — наше главное начальство, наш командир. Здесь мы обязаны беспрекословно ему подчиняться.
— Что, на волах, что ли, ехали? — сердито говорит Костя, когда мы подходим к складу. — Все папиросы покурил, пока дождался.
Лицо у Кости злое, небритое, макинтош измят и перепачкан.
Он достает из кармана пачку желтых истрепанных накладных, перебирает их и наконец вытягивает из середки какой-то замусоленный листок.
— Восемь человек на склад, остальные за мной, на баржу, — отрывисто командует он.
Баржа пришвартована тут же у берега, в нескольких шагах от склада.
Груз, который нужно разобрать и упаковать, лежит в двух местах — в складе и в трюме баржи.
Весь этот груз мы должны сложить в одном месте — на палубе баржи, и уже с палубы грузчики и матросы перегрузят его в просторные трюмы ледокола.
— А что будем сегодня делать? — спрашиваю я.
— На барже грузить муку и консервы, в складе паковать одежду. Побыстрее, товарищи, побыстрее! Ну, кто пойдет на баржу?
На баржу никому не хочется. Работа на барже тяжелая — груз надо паковать в глубоком темном трюме и на собственной спине поднимать на палубу.
— Ну, никто не пойдет? Тогда буду назначать, — говорит Костя и, тыча толстым коротким пальнем, вызывает: — Безбородов, Быстров, Гуткин..
Вызвав нас троих, Костя останавливается и пристально осматривает остальных, раздумывая, кого бы ему еще выбрать.
— Я уже был, — испуганно говорит наш аэролог Каплин.
— Вот и хорошо, — отвечает Костя, — значит, знаешь уже, как на барже работать. Ну, теперь еще двоих нужно..
— Я пойду, — раздается вдруг угрюмый глухой голос. Это наш сибиряк — актинометрист Лызлов. Он всегда держится немного в стороне от нас, мало разговаривает, ни с кем никогда не спорит.
Последней жертвой Костя выбирает магнитолога Стучинского. В руках у него фетровая шляпа, он как-то особенно аккуратно одет, гладко причесан.
Отобрав шесть человек, Костя отправляет остальных зимовщиков в склад, а нас ведет на баржу.
Вся палуба баржи завалена ящиками. Костя проворно бегает по узким коридорчикам между высокими штабелями ящиков и откуда-то, из каких-то закоулочков выталкивает, выпихивает, выгоняет ленивых толстомордых баржевых. Им на барже житьё. Все лето отсюда, из Архангельска, уходят на север зимовки и экспедиции. Баржевые кормятся около зимовщиков, обленились, разжирели.
— Пошевеливайся! Потом выспитесь! — покрикивает на них Костя.
Из дощатой будки, похожей на большую собачью конуру, появляется, гремя ключами и шаркая бахилами, старший баржевой Макуха. Лицо у него белое, опухшее, точно из жеваной резинки.
— С чего начинать-то? — недовольно спрашивает он и зевает, подскуливая, как собака.
— Муку, муку. Вот накладная. Шесть с половиной тысяч кило ржаной. Потом белую.
— Шесть с половиной? — задумчиво переспрашивает Макуха. — Скажи, пожалуйста!
Он осматривает нас и кричит куда-то в сторону:
— Мироныч! Мироныч, чортова кукла!
И сейчас же из-за ящиков мелкой, торопливой рысцой выбегает «чортова кукла» — сухонький старичок в полосатых портжах.
— Чего извольте-с?
— Открывай середний трюм. Муку брать будут.
— Мучицу? Сей секунд. Мучицу, значит. Пожалте, граждане, сюда.
Мы все, шесть человек, спускаемся в трюм.
В трюме темно, пахнет крысами и мукой, тихо, плещется за стенкой Двина.
Старик высоко поднимает над головой фонарь и говорит шопотом:
— Вот эту берите. Отседа. Добрая мучица, сухая. Я плохой не дам. Ведь куды едете-то, господи, твоя воля.
— А как же ее таскать? На спине? — испуганно спрашивает Стучинский.
— А как же? Известно, на спине. На спине, милые, на спине. Вот они вчера таскали, — говорит старик, мотнув головой на Каплина, — и ничего, живы остались, не померли.
— Да, не померли, — ворчит Каплин, — до сих пор поясник не разогнуть. Надорвался, как собака.
— Мы ведь, папаша, геофизики, — вежливо говорит старику Стучинский. — Научные сотрудники.
— Научные? — удивляется старик. — Научным-то, конешно, не сподручно. Научные, значит. Ай-яй-яй! — Он качает головой, фонарь ходит в его руке, и мечутся по стенам трюма наши черные огромные тени.
Мы стоим около мешков, переминаясь и покрякивая. Перетаскать на спине шесть тонн муки! Грузчики мы плохие.
Стучинский задумчиво чистит рукавом свою фетровую шляпу. Гуткин пинает ногой мешок и говорит со злостью:
— Здоровые, черти. Пуда по четыре.
— Что ты, Вася, по четыре?! Пятерики, — чуть не плача, говорит Каплин. — Ноги со вчерашнего дня трясутся, как овечий хвост. — И он садится на ящик с консервами и грустно шмыгает носом.
Только один Гриша Быстров — маленький, худенький, вертлявый — не унывает. Он проворно осматривает мешки и подмигивает старику.
— На спине, говоришь? Ну, это — дудки. Дудочки. Сейчас что-нибудь сообразим, чего-нибудь придумаем.
Он озирается по сторонам, исчезает во тьме трюма и возвращается очень взволнованный и радостный.
— Товарищи! — звонко кричит он, размахивая руками. — Все очень просто. Зачем таскать на спине? Пусть дураки таскают. Берем мешок, подносим к лазу. Сверху по гладкой доске спускаем веревку с петлей. Петлю — на мешок, и пошел наверх. Красота, а? По доске? Никакого трения. Блестяще! А? — Он суетится, захлебывается. — Можно блок поставить, тогда будет разложение сил, еще легче. Папаша, блока у вас нет?
— Блока нет. Чего нет, того нет. Да зачем же блок? На спине легчей.
— Рассказывай! — кричит Гриша. — Нас, папаша, не проведешь. Механика! Товарищи, нет, верно? А? На веревке? Попробуйте только. В сто раз легче. А?
Гриша сыплет слова, как горох из мешка. Мы уже знаем, что переспорить Гришу нельзя, — заговорит.
— Что ж, — спокойно соглашается Лызлов. — Можно, пожалуй, попробовать. — Он пристально осматривает нас сквозь маленькие стеклышки очков в жестяной оправе. — Попробуем?
— Попробуем, попробуем, — суетится Гриша. — Мы внизу, вы наверху. Потом можно поменяться. Отец, давай веревку! Все дело в том, чтобы правильно накинуть на мешок петлю и равномерно тянуть вверх.
— Чудеса, — сокрушенно говорит старик. — Сроду муку так не грузили. Интересно. — Он вешает фонарь на гвоздь, хочет итти за веревкой, но останавливается и хитро говорит:
— Ну, ладно, подняли. А потом-то, до места, где на палубе бунт класть будете, все едино на спине мешки таскать? Как же так?
Гриша подбегает к старику.
— А тачка? — кричит он. — Тачка! Я видал — тачка у вас стоит. Шесть мешков тут же, у лаза, на тачку, — и пошел! Без спины, папаша, без спины. Техника!
Старик дергает головой, перхает, смеется:
— Научные-то что значит. Придумали. Чудеса..
Пока старик ходит за веревкой, мы делимся на две партии.
— Сговариваться! Сговариваться! — кричит Гриша Быстров. — Чтобы равные силы были.
Гуткина и Лызлова мы выбираем матками. Оба они кряжистые, коротконогие, широкоплечие.
Щуплый, маленький Гриша Быстров сговаривается со Ступинским. Я — с Каплиным.
— Кого выбираешь, — кричит Гриша Быстров, хватая Гуткина за рукав, — поэзию или прозу?
— Возьму, пожалуй, поэзию, — нерешительно говорит Гуткин. Поэзией оказывается Стучинский.
Подходим мы с Каплиным.
— Нансен иль Громобой? — спрашиваю я.
— Громобой, — не задумываясь говорит Гуткин.
Громобой — это Каплин.
Стучинский, Гуткин и Каплин вылезают на палубу, а Быстров, Лызлов и я остаемся в трюме.
— Вы будете таскать, — говорит Гриша нам с Лызловым, — а я буду петлю набрасывать. Ладно? Петлю тоже надо умеючи надеть, а то мешок боком будет итти, ничего и не получится.
Слышно, как над нашими головами стрекочет по дощатой палубе баржи тяжелое колесо тачки и как Вася Гуткин громко кричит:
— Лошади поданы! Пожалте! Можно начинать!
Вот уже опускается сверху веревка с петлей на конце. Мы с Лызловым вдвоем берем за углы мешок, подносим его к веревке, Гриша проворно набрасывает на мешок петлю, кричит наверх:
— Вирай! Только равномерно. Без рывков.
Наверху налегают на веревку. Мешок по гладкой широкой доске плавно всползает наверх.
— Ну?! — кричит Гриша. — Что я говорил? Через каждые десять мешков — отдых. Только не задерживай там веревку.
Хотя до сих пор никто из нас не был грузчиком, мы работаем, как настоящие волжские крючники. В два часа дня тут же на барже мы обедаем. Обед у нас походный — консервы и хлеб. Запив обед кружкой холодного чая, мы снова принимаемся за работу.
И так до вечера.
За день вынуто из трюма и сложено на палубе баржи шесть с половиной тысяч килограммов ржаной муки, двадцать пять ящиков консервов, перенесено с берега на палубу полтораста трехпудовых баллонов с водородом.
Но это только маленькая частичка того, что пойдет с нами на зимовку.
Груза у нас много.
Ведь мы едем на край света, в Арктику. Надо взять с собой все, что может понадобиться девятнадцати человекам в течение года, а может быть и двух. Может же так случиться, что в следующем году ни одно судно не проберется сквозь льды к далекой Земле Франца-Иосифа. Тогда нам придется оставаться там еще на год, до следующего лета.
На Земле Франца-Иосифа ничего не купишь, ничего не достанешь. Нас будет только девятнадцать человек на девяноста семи островах. До самого близкого кооператива тысяча морских миль скованных льдами полярных морей.
Наш начальник, доктор Платон Наумыч Руденко, целые дни торчит в отделе снабжения — достает для нас мясо, одежду, обувь.
Иногда он среди дня приезжает к нам в склад или на баржу. Он огромного роста, широкоплечий, похож на Джека Лондона.
— Как дела? — весело кричит он, тяжело топая по шатким сходням баржи. — Шуруете? Это что? Консервы? Консервы, хлопцы, отдельно складывать. Кто маркирует груз? Сколько уже мест? Что? Триста семьдесят?
Он садится на ящик, сопит, вытирает пот большим белым платком.
— Как же это так — триста? — говорит он, озираясь. — Что же это такое? Баржевой! — вдруг кричит он так, что у нас трещит в ушах. — Макуха, сколько на тоннаж выйдет? Ой, братики, не погрузимся, — не влезет в «Таймыр» такая прорва.
Он достает из кармана записную книжечку. Рядом с какими-то аккуратными докторскими заметками по-латыни в ней записаны названия рыбных консервов, имена собак, типы радиоприемников, целые страницы испещрены цифрами. Сосредоточенно, громко сопя и шевеля толстыми губами, Наумыч начинает что-то подсчитывать.
Мы собираемся вокруг него, обступаем его со всех сторон.
— Наумыч, а простыни дадут?
— Платон Наумыч, как бы в баню перед рейсом сходить?
— Можно вечером слетать на почту, отправить домой посылку?
— В чем поедем — в валенках или в сапогах?
Платон Наумыч знает все. Он обо всем уже подумал, обо всем позаботился, все учел и предусмотрел. На то он и начальник. Партия и правительство поручили ему эту ответственную работу, доверили ему жизнь восемнадцати человек.
За все беды, несчастья, болезни, недохватки отвечать придется ему. Тут надо держать ухо востро, ничего не проворонить, не прозевать.
Наверное, за год прогорели на острове Гукера печи. Значит, надо взять с собой кирпич, глину, песок, проволоку.
Конечно, поизносились за год керосинки и примусы, — не забыть захватить примусные иголки, запасные горелки, нипели, слюду и фитили для керосинок.
Хрупкая штука ножи для мясорубок, — забрать с собой, на всякий случай, ножи.
А вдруг дома холодные, — не мешает прихватить коврики к кроватям. Долго ли простудиться, когда в комнате ледяной пол.
Зубной порошок, нитки, стаканы, стулья, фонари, масляные краски, карандаши, ножницы, стиральную соду, медикаменты, будильники, одеколон — все надо брать с собой.
В ящики мы упаковываем валенки, меховые чулки, меховые носки, меховые сапоги, штаны и рубахи из меха молодого оленя, теплые рукавицы, шарфы, эскимосские шапки, пыжиковые шапки, полушубки, ватные костюмы, свитеры, теплое белье, шерстяные носки, резиновые комбинезоны, оленьи малицы, болотные сапоги, меховые спальные мешки.
В крепкие бочки насыпаем сахар, орехи, клюкву.
Лимоны режем на большие куски и пересыпаем в бочках сахарным песком. Перекладываем соломкой яблоки.
Смешно и удивительно было видеть все эти бочки, ящики, мешки, в которых были зашиты, забиты, упакованы сотни тонн съестного. Ведь это же все приготовлено для нас! Неужели уж мы такие обжоры? Неужели девятнадцать человек могут съесть эти горы продуктов?
Никогда я не думал, что человеку надо так много еды, никогда не видел таких запасов.
Сотни ящиков с консервами вырастают на барже высокой стеной. Здесь консервированное молоко, мясо, разная рыба, овощи, языки, черешня, бобы, паштеты. Словно крепостной вал возвышаются мешки муки, крупы, гороха, соли. Выстраиваются бочки квашеной капусты, огурцов, селедок, мёда, варенья, керосина, бидоны бензина, баллоны с водородом.
Но это еще не все.
В ящики, мешки, тюки, бочки мы упаковываем макароны, копченую колбасу, копченые языки, сливочное и топленое масло, печенье и галеты, кофе, чай, какао, шоколад, сыр, картофель, свеклу, сухие грибы, сушеные овощи, картофельную муку, перец, горчицу, лук, чеснок, мыло, папиросы, табак, спички..
Особенно был доволен и рад, что у нас такие большие запасы, Вася Гуткин.
Вася был очень хозяйственный человек.
— Смотри, смотри, — взволнованно говорил он, — это бычьи языки. Если сделать картофельное пюре да с лучком, да молочка подбавить. — пальчики оближешь! А на завтрак можно и холодный ломтиками нарезать, с горчичной. Объяденье!
Он причмокивал губами, громко глотал слюну.
В мешках он проделал дырочки и все попробовал на вкус. Одно похвалил, другое поругал. На щепотку муки он поплевал, быстро скатал тестяной шарик и остался очень недоволен. Мука была темная, не такая, какой хотелось Васе. Зато сливочное масло привело Васю просто в восторг. Он ходил вокруг аккуратных новеньких ящичков, разглядывал надписи и клейма, разводил руками.
— Вот это — да! Это вещичка. Экспортное. Не прогоркло бы? — И он с опаской нюхал ящики. — Нет, не должно прогоркнуть. Упаковано на совесть. Даже не пахнет.
На север
24 сентября «Таймыр» стал под погрузку.
Высоко над водой поднимаются его окованные броней бока. Тупой вздернутый нос точно занесен для удара по льду.
Полным ходом работает на корме паровая лебедка.
У лебедки хлопочет долговязый матрос. Он то и дело поворачивает рычаг, и сразу поднимается тяжелый грохот и звон, деревянная палуба дрожит и ходит, сотрясаясь под ногами от вращенья чугунного черного барабана лебедки.
За погрузкой следит Иван Савелин — старший помощник капитана. Засунув руки в карманы макинтоша, он спокойно стоит на ботдеке, поглядывая по сторонам. На оттопыренной его губе висит потухшая папироска.
Боцман — коренастый, ловкий помор — проворно бегает по всему кораблю, то и дело спускается в трюм — проверить, как матросы укладывают в трюме мешки с мукой.
Хитрое дело правильно загрузить трюм.
Выйдет пароход в море, и начнет его валять с борта на борт, с носа на корму. Задвижется, заходит груз в трюмах парохода. Вот сорвется с места одна какая-нибудь бочка и пойдет метаться по всему трюму. Как таран, будет она колотить, разваливать, разворачивать уложенный груз. Разобьет, обрушит ящики, сшибет с места бочки, порвет канаты. Глядишь — и уже все ящики и бочки мечутся по трюму, как бешеные, сносят перегородки, колотят в стенки корабля.
Для матросов это самое распроклятое дело — в открытом море, в непогоду крепить трюмовый груз.
На ботдеке, между радиорубкой и люком машинного отделения, сделаны дощатые загоны. Сюда на веревках, пропущенных через блоки шлюпбалок, поднимают свиней. Они пронзительно визжат и дрыгают в воздухе связанными ногами. На борту свиней подхватывают матросы и, раскачав, со всего маху швыряют через дощатые загородки загона.
— Боцман, принимайте свиней! — командует Иван Савелии.
И боцман рысью бежит на ботдек, гремит тяжелыми сапогами по окованным медью ступенькам лестницы.
В руках у него кривой матросский нож. Он наклоняется над распростертыми тушами и ловко разрезает веревки, которыми спутаны ноги свиней. Свиньи пошатываясь встают, забиваются в дальний угол и испуганно похрюкивают.
А в это время к правому борту подходит большая шлюпка. Шлюпка набита собаками. Они сидят и на дне и на скамейках шлюпки, заглядывают через борта, лают и скулят, задрав морды. На передней банке, широко расставив ноги, стоит Боря Линев.
— Собаки приплыли! — кричит он наверх.
Матросы спускают Боре веревочный штормтрап. Он взбирается на палубу и идет на ботдек.
— Боцман! Боцман! — кричит он. — Отведите место для собак.
Боцман вылезает из свиного загона. Он оглядывает палубы и спрашивает Борю:
— Много собак?
— Тринадцать штук.
— Тринадцать? Ну, тринадцать поместим здесь, на ботдеке. Вот сюда, поближе к трубе, будешь привязывать, здесь им потеплее. Смотри, крепче вяжи, а то волна будет — снесет. Поплывут твои собачки.
А в шлюпке матросы уже вяжут собак поперек туловища веревками.
— Пускай! — кричит Боря, перегнувшись через фальшборт. — Потихоньку, по одной.
Он осторожно выбирает веревку. Собака повисает над водой, жалобно скулит, колотит лапами по воздуху. На борту собираются матросы.
— Качай веселей! — кричат матросы. — Зимовщиков на веревке таскают. Ай да зимовщики!
Несколько рук подхватывают собаку, быстро распутывают веревку. Боря Линев ведет собаку на ботдек и, тщательно привязывая за металлическую цепочку, бормочет:
— Ну, чего, дурак, струсил? Думал — топить будем? Не будем, не бойся. Поплывем, брат, на Франца. Жизнь там — красота. Ни трамваев, ни кошек, ни мальчишек. Ну сиди, сиди. Сейчас товарищей приведу — веселей станет.
— Слышь, каюр! — кричат из шлюпки. — Черный не дается! За руки хватает!
Боря снова бежит к борту и перевешивается через поручни.
Внизу, в шлюпке, три матроса пытаются схватить и связать веревкой Байкала. Байкал сидит на передней банке, он ощетинился, прижал уши, оскалил клыки, — приготовился защищаться.
Боря Линев орет с ледокола:
— Букаш! Букаш! Сюда! Шагай сюда!
Услышав знакомый голос, Байкал задирает голову и радостно лает. А матросы, не теряя времени, проворно вяжут его поперек туловища.
Байкала поднимают на борт ледокола. Он бросается к Боре Линеву, вскидывает ему лапы на плечи, лижет нос, припадает к палубе и подпрыгивает, отталкиваясь сразу всеми четырьмя лапами.
«А я-то, дурак, думал, что меня оставят в лодке. А я-то струсил, думал — меня хотят вешать или топить. Здесь мой хозяин! Значит, все хорошо! Все в порядке! Ах, как хорошо, как здорово!»
Потом поднимают Жукэ. Он вырывается вместе с веревкой из Бориных рук и дает стрекача по палубе, прижав уши и распустив хвост по ветру. Как серый заяц, мчится он, высоко прыгая через бухты канатов, сшибает пустое ведро и исчезает позади штурманской рубки. А за ним еще долго извивается, скользит по палубе, как змея, длинная пеньковая веревка.
Над ледоколом стоит грохот лебедки, лай собак, визг и хрюканье свиней, поскрипывают блоки, гремят железные цепи.
Какой-то матрос, ловко держась, как обезьяна, одной ногой, висит на веревочных вантах. Он развешивает на вантах красные, со сверкающими ребрами, свежие говяжьи туши.
Как туман, поднимается над ледоколом белая мучная пыль.
_______________
К вечеру кормовой трюм загрузили. Уже становится темно, и над палубами зажигаются переносные электролампы. По черной и тихой Двине, как светляки, беззвучно ползают зеленые и красные огни. Медленно, с шорохом совсем близко проплывают темные баржи.
Только наш «Таймыр» ярко освещен, только на «Таймыре» не спят, а работают, шумят и кричат на всю реку.
К правому борту из темноты подплывает какая-то черная махина, вроде гигантской виселицы.
— Примай конец! — кричат из мрака сиплые висельники. — «Таймыр»! Конец примай!
— Кто такие? — окликает вахтенный, вглядываясь в темноту.
— Пловучка. Ящики тут. Самолеты, что ли.
Боцман вызывает палубную команду. Иван Савелич, в черной форменной шинели и шапке-ушанке с большой золотой кокардой, негромко командует:
— Рефлектора на спардек. Боцман, дать свет на юте. Проверить такелаж. Плотники здесь?
Электрик направляет за борт сильный рефлектор. Теперь ясно виден пловучий подъемный кран с длинной черной рукой, протянутой над водою. Черномазый машинист крана выглядывает из окошечка и утирается паклей. Кран разворачивается на швартовых. За краном подходит к борту не то баржа, не то понтон с двумя ящиками. Каждый ящик величиной прямо с четырехосный американский вагон. В каждом ящике — разобранный самолет.
На одном ящике высоко над водой, широко расставив ноги, стоит маленький человек в желтом кожаном пальто. Весь он какой-то взъерошенный, как драчливый петух. Прожектор резко освещает его. У него приплюснутый калмыцкий нос и маленькие быстрые глазки.
С высокого ящика, как с воза, он что-то кричит машинисту, ругается, размахивает руками. Это — наш летчик Шорохов.
Иван Савелич недовольно ворчит:
— Вот еще командир нашелся. — Потом прикладывает ко рту жестяной рупор и замогильным голосом спокойно и внятно говорит на всю черную реку:
— На пловучке. На пловучке. Погрузкой руковожу я. Попрошу исполнять только мои распоряжения. Попрошу никого больше не командовать. — Он опускает рупор. — Боцман, у вас все готово?
— Готово, — весело отзывается боцман.
Начинается погрузка самолетов, а Шорохов все еще петушится на ящике.
— Товарищ летчик, — кричит ему боцман, — сошли бы. Неровен час, упадете в воду.
Шорохов даже не отвечает.
— Ну оставайся, — машет рукой боцман.
Под ящик заводят толстые стальные канаты — их цепко держит черная рука подъемного крана.
— Вира помалу, — в рупор говорит Иван Савелич. — Помалу. Помалу.
С ровным гулом работает машина подъемного крана. Ящик вздрагивает, с трудом поднимается, покачивается, вот-вот рухнет в воду, на которой пляшут блики рефлектора.
Шорохов топчется на ящике, судорожно хватается за стальной канат, вся удаль с него слетела, он испуганно озирается, хочет спрыгнуть с ящика, но уже поздно.
— Вирай смело! — кричит Иван Савелич. — Раз-во-рачивай. Боцман, на оттяжки!
Ящик вместе с перепуганным летчиком висит между черным небом и черной водой. Медленно и тяжело начинает он поворачиваться.
Иван Савелич светит рефлектором, что-то бормочет себе под нос, — должно быть, чертыхается, — а сам не сводит глаз с ящика.
— Так, так, давай веселей! — покрикивает он. — Пошел! Пошел! На шлюпбалках — выбирай концы! Боцман!
Наконец ящик вздымается над палубой. Он ярко освещен рефлекторами. Шорохов, как акробат в цирке, балансирует на нем, изо всех сил старается удержаться, цепляясь за стальной трос. Ящик покачивается. Черная его тень ходит по юту.
— Что, товарищ летчик, так, поди, никогда не летал? — кричат и хохочут матросы. — Чуть мертвую петлю не сделал в Двину!
Наконец огромный ящик медленно опускается на палубу, припечатывается к своей тени. И сразу над палубой открывается черное звездное небо, по которому торопливо летят рваные клочья пара.
Плотники кидаются к ящику. Стучат топоры.
Шорохов по канату спускается на палубу и сразу, как ни в чем не бывало, начинает распоряжаться:
— Борис! Где молоток? Ну что это за растяпа! Борька! Где молоток? Я что говорил? Гвозди загнуть! А ты?
Борт-механик Боря Виллих, или, попросту, Боря Маленький, мечется по палубе, ищет молоток, бормочет:
— Да я же загнул, Григорий Афанасьич…
— Загнул! Чтоб ты сам так загнулся!
Шорохов вырывает у него молоток и принимается яростно колотить по гвоздям. Боря Маленький, надув губы, отходит в сторону.
Маленьким его прозвали, во-первых, потому, что он самый молодой зимовщик, — ему еще только 19 лет, — а во-вторых, чтобы не путать с Борей Линевым. На самом деле Боря Маленький гораздо длиннее не только Бори Линева, но и всех нас. Росту в Боре Маленьком 176 сантиметров. Но весь он какой-то нескладный, несуразный. Ноги у него узловатые в коленках, как у цапли, огромные красные руки на целую четверть болтаются из рукавов кожаной куртки.
Прислонившись к борту и обиженно посматривая на Шорохова, Боря вынимает папироску, закуривает.
— Не курить на юте! — кричит Иван Савелич.
И Шорохов сразу подхватывает:
— Брось, Борька! Брось сейчас же папиросу! Сдурел ты, что ли? Не знаешь, что у самолета курить нельзя? А еще бортмеханик называется. Пойди-ка лучше посмотри, чтобы у второго ящика дверь была хорошенько забита. Живо!
Долговязый Боря Маленький легко перешагивает через поручни борта и молча исчезает в темноте.
Всю ночь грузится «Таймыр». Всю ночь громыхает лебедка, топают по палубам тяжелые сапоги, гудят, вкатываясь по настилу, бочки, грохочут ящики в трюме, на разные голоса орут грузчики и матросы:
— Полундра!
— Вира!
— Майна веселей!
— Куда прешь, чорт носатый?
— Эй, на лебедке! Поглядывай!
Полный вперёд
Утром 25 сентября баржа ушла. За ночь погрузили все.
Наш «Таймыр» стоит посреди Двины, черный, осевший под тяжестью груза. Сразу видно, что судно собирается в далекий и трудный путь. На корме два огромных ящика с самолетами, шканцы забиты лесом и бревнами, на вантах развешены говяжьи туши, голосят и хрюкают в загонах свиньи, воют и лают собаки.
Я хожу по «Таймыру», как человек, который заблудился за кулисами театра.
Какие-то коридорчики, лесенки, двери, — какая куда, не поймешь. Все двери железные, тяжелые, с болтами. Пороги — и те железные, да такие высокие, что дверь кажется выпиленной в железной стене. Под потолками бронированных коридоров тянутся толстые трубы. Слышно, как в них щелкает и шипит пар. Где-то совсем близко ровными четкими ударами стучит машина. Идешь по коридору, и вдруг пахнет на тебя из какой-нибудь двери жаром, машинным маслом, ветром, — поднятым пляской сверкающих шатунов.
Скользкие от масла железные лестницы круто уходят вниз, на жилую палубу. Окошечки в каютах круглые, с толстыми, окованными в сверкающую медь стеклами; завинчиваются они наглухо ушастыми винтами. У самых стекол плещется вода.
Всё на корабле отполировано, выкрашено, начищено. Всё привинчено, притерто, пригнано, укреплено. Графин привешен к стенке в тесном деревянном футляре. Пепельницы, как ваньки-встаньки, только качаются, а опрокинуться не могут. Стулья врезаны в пол тяжелыми ножками, привинчены — не сорвешь. У каждой тарелки в буфетной свое гнездо. Даже столы на корабле не такие, как у нас, в домах: по краям они обнесены бортиками, чтобы вещи не слетали на пол, когда начнет качать и валять корабль в открытом море.
Я хожу по «Таймыру», смотрю, как матросы увязывают, укрепляют, приколачивают каждую мелочь на палубе, и думаю: «Что же это такое будет? Шторма ждут, что ли?»
Иван Савелич стоит на мостике, как ни в чем не бывало, будто это не он всю ночь напролет распоряжался погрузкой «Таймыра».
Сизые щеки его чисто выбриты, шинель застегнута на все пуговицы.
— Здравствуйте, Иван Савелич.
— Добрый день.
— Что, скоро пойдем?
— Не торопитесь, еще надоест. Как закачает — пожалеете, что не остались в Архангельске.
К нам подходит второй помощник капитана, долговязый детина, в фуражке, слегка сбитой набекрень, и говорит Ивану Савеличу, как будто меня тут и нет:
— У нас, Иван Савелич, в прошлом году на «Вайгаче» такой случай был. Тоже собрался с нами в рейс корреспондент, Макаров фамилия, — может, знаете? Пока на якоре стояли, так он все храбрился, все врал — я и такой, я и сякой. Ладно, думаю, посмотрим. Дошли мы до Сосновца. Начинает покачивать. Я как раз на мостике стою. Прибегает ко мне вахтенный Берендейкин, который в прошлом году у Цып-Наволока тонул, — помните такого? «Корреспондент, — говорит, — кончаются!» — Как, спрашиваю, кончается? Что за ерунда? — «А так, — говорит, — на полный ход богу душу отдают». Сошел я в салон, гляжу а он, мореплаватель-то наш, и верно загибается. — «Остановите, — кричит, — пароход! Отпустите, пожалуйста, на берег!» Ну-с вот. Доложил я командиру. — «Спустите, — говорит, — это барахло на берег, к чорту, чтоб духу его не было». Дали шлюпку и спустили. Подумайте только, Иван Савелии, — ведь у Сосновца…
Он покачал головой и поглядел на меня искоса.
«Запугивает», подумал я, а вслух спросил у Ивана Савелича:
— Неужели действительно так качает?
— Случается, — говорит Иван Савелич.
— Ну, а все-таки как — здорово?
— Бывает, что и здорово.
— Но ведь не всех же укачивает, Иван Савелии? Говорят, что на некоторых качка не действует. Правда?
Иван Савелич смотрит на меня, щурится одним глазом.
— Да вы что-то уж очень интересуетесь. Ничего, не бойтесь. Качает у нас, конечно, здорово. На ледоколах особенно качает. У ледокола ведь киля-то нет, ледокол как яйцо. Вот его и валяет и так и этак. А только вы об этом не думайте. Живите себе в свое удовольствие. Кушайте побольше. По-нашему, по-простонародному — что в рот полезло, то и полезно. Обязательно кушайте — и завтрак, и обед, и ужин. Ну, гуляйте еще, ходите. Первое время, пока не привыкнете, старайтесь поменьше сидеть. За день так намаетесь, что вечером — только бы до койки добраться. Сразу как убитый и уснете.
— Сухари помогают, — сказал второй помощник, не глядя на меня.
— Какие сухари?
— Обыкновенные. Наберет человек в карман сухарей и жует целый день. Ходит и жует. Ходит и жует. У нас второй механик был Семерых, — может, помните, Иван Савелия? — только сухарями и спасался. Перед каждой вахтой ему целыми противнями сухари в каюту таскали. С сухарями ничего, выстаивал.
— Какие там сухари, — махнул рукой Иван Савелия. — Может, клюквенный экстракт посоветуете? Только все это, доложу я вам, ерунда. Слушайте вы меня — побольше ходите и думайте, что вы едете на поезде или на трамвае, — вот и все.
— Да уж, конечно, — соглашается второй помощник, — от настроения тут тоже много зависит. На скрипке или на гитаре не играете? — обращается он прямо ко мне.
— Нет, не учился, — отвечаю я, а сам думаю: «Вот нуда. От одних его разговоров морская болезнь забрать может. Никакие сухари не помогут..»
Приближается час отплытия. У левого борта собрались матросы. Они тихо переговариваются, высматривая на берегу своих родственников. А на пристани уже целая толпа — тут и провожающие, и случайные прохожие, и попросту зеваки, которые пришли посмотреть, как будет отплывать наш пароход.
Вот через толпу пробирается к самому краю набережной старичок в высоком старомодном картузе, с тоненькой палочкой в руках.
Матросы зашевелились, замахали старичку руками.
— Ласточкина надо позвать, — сказал кто-то.
— Серега, Серега! — закричали матросы, оглядываясь по сторонам. — Ласточкин, твой старик причалил!
Из-за штурманской рубки выбегает белобрысый парень в полосатой тельняшке и, растолкав матросов, принимается яростно крутить над головой связкой веревок. В ответ ему старичок часто-часто кивает головой и мерно помахивает палочкой, точно дирижирует оркестром.
Все мы, зимовщики, тоже вышли на палубу, хотя знаем, что нас провожать не придет никто. Наших родных здесь нет. Еще утром мы отправили им последние телеграммы в Ленинград, в Москву, в Харьков, в Ростов.
Мы прощаемся с приземистыми бревенчатыми домами, потемневшими от частых дождей, прощаемся с темной, осенней рекой, по которой медленно плывут баржи и важно проплывают пароходы, с трамваем, который вон там, звеня и высекая зеленые искры, взбирается в гору. Мы прощаемся с мальчишкой в большом белом картузе, который, свесив с высокой деревянной набережной грязные босые ноги, удит рыбу, поплевывая на наживку.
Целый длинный год мы уже больше не увидим ни этих улиц, ни этих чахлых деревьев, с которых ветер срывает последние желтые листья и гонит по набережной. Не увидим даже вон той пегой козы, которая, упираясь копытцами в дощатую стену пакгауза, торопливо и жадно срывает объявление и жует его, потряхивая головой.
Мы прощаемся с последним городом, в котором мы жили на Большой Земле. Мы уже не жители этого города. Он стоит на берегу, на земле, а мы — на воде. Сейчас корабль тронется. Пристань, дома, улицы — все уйдет, уплывет назад, и странно подумать, что все это останется и будет существовать без нас — и коза, и мальчишка, — вон у него опять сорвалась с удочки рыбка, — и деревья, и крыши домов, и трамвай..
— Позвольте, товарищи, — проталкивается боцман. — Пожалуйста, уйдите с носа, сейчас будем выбирать якорь.
Боцман в новом шерстяном свитере, выбритый, умытый, смеющийся. И это даже неприятно, что боцман такой веселый. Именинник он, что ли? Впрочем, ему-то что грустить? Через месяц, самое большее, он опять будет дома.
Боцман становится у якорной лебедки, снимает чехлы с механизмов, проверяет тормоза. Все в порядке. Он кладет правую руку на рукоятку пара, а левой рукой машет кому-то на берегу.
И точно стая белых бабочек поднимается над пристанью: белые платочки отвечают боцману.
Теперь уже весь экипаж корабля собрался на палубе. Стуча бахилами, подходят полуголые подсменные кочегары. У левого борта теснятся матросы. Они машут руками, платками, кепками.
Все посматривают на капитанский мостик. На мостике еще никого нет, кроме Ивана Савелича. Он стоит, засунув руки в карманы ватной черной шинели, и прищурившись глядит на небо. Из-за Соломбалы выползает низкая синяя туча.
— Идет, идет! — вдруг загудели матросы.
На мостике появляется наш капитан. Он низенький, плечистый. Как главнокомандующий, идет он впереди, а за ним помощники, механики. Все в полной морской форме — в черных шинелях со сверкающими пуговицами, с нашивками, с золотыми кокардами на фуражках. Сосредоточенно и сурово, точно перед боем, капитан обходит мостик, заглядывает в рулевую рубку, и матрос у штурвала отдает ему честь. Потом капитан долгим взглядом обводит корабль — палубы, мачты и ванты. Пристально глядит он на город, на реку, на низкое серое небо, поправляет фуражку рукой в замшевой перчатке и становится у машинного телеграфа.
Теперь все — и на корабле и на берегу — смотрят на капитана.
Наш Наумыч тоже на мостике. Хоть и на нем такая же черная шинель и фуражка, как и на других, его сразу заметишь в толпе — он здоровенный, широкоплечий, на целую голову выше всех. Он тоже увидел нас сверху и кивает нам через головы капитанских помощников.
— Боцман, — негромко командует капитан, — вира якорь.
— Есть, вира якорь.
С тяжелым грохотом пошла лебедка. Дрогнула якорная цепь. Толстые ее кольца, поскрипывая и звеня, медленно стали наматываться на барабан.
Трах-тах-тах-тах-тах, — тарахтит лебедка. Цепь, подрагивая, как натянутая струна, тащит со дна тяжелый, зарывшийся в речной ил и песок якорь.
— А вот и Ромаша лезет, — говорит кто-то из зимовщиков.
Я оглядываюсь и вижу, как над самой палубой, в четырехугольнике двери, ведущей вниз, внутрь корабля, показывается сперва измятый морской картуз, потом морщинистое, с унылым, длинным носом и отвислыми щеками лицо, потом узкие сутулые плечи, и наконец вырастает тощий и длинный метеоролог Ромашников весь с головы до ног.
Выбравшись на палубу, он испуганно озирается и торопливо семенит к нам. Ромашников тащит патефон и толстую пачку пластинок.
— Не опоздал? — испуганно спрашивает он. — Там внизу ни черта не слышно, мне уж показалось, что поплыли. А надо с музыкой.
Он ставит патефон прямо на палубу и яростно крутит ручку.
— Давай марш, — говорит Вася Гуткин. — Может, «Старые друзья» есть?
— Нет, нет, у меня тут уже приготовлено, — вытирая рукавом пот со лба, отвечает Ромашников. — Сейчас грустное надо ставить..
И вдруг потемнело на палубе, словно туча заволокла все небо над нами. Из корабельной трубы повалил густой, черный дым. Длинной колеблющейся лентой он низко тянется над рекой и отражается в ней темной живой дорожкой.
— Наши-то как шуруют, — говорит какой-то матрос, засунув руки в карманы штанов и головой показывая на трубу.
По правому борту, почти посреди реки, идет неуклюжий буксирный катер. На палубе его стоят матросы, смотрят на наш корабль, машут шапками.
— Счастливого плаванья, ребята! — доносится к нам с катера слабый крик, заглушенный грохотом лебедки.
И вдруг становится очень тихо: боцман остановил лебедку.
Матрос на носу корабля поднимает руку.
— Якорь в клюзе! — кричит он капитану.
И сразу, будто в ответ ему, звякнул на мостике машинный телеграф, и палуба под моими ногами задрожала чуть слышно и мелко.
Медленно поворачивается город, небо, корабли. Три низких, сиплых, скорбных гудка оглашают всю реку:
— В путь! В путь! В путь!
Вот мы и поплыли.
А Ромашников все еще суетится около патефона, торопливо перебирает пластинки.
— Боже мой, где же она? — бормочет Ромашников. — Ну что за чорт… Опоздал. Вот история!
Наконец он находит пластинку и дрожащими руками укладывает ее на зеленый диск патефона.
Был день осенний, И листья грустно опадали— глухо запевает патефон.
— Вот эта пластинка в самый раз, — говорит Вася Гуткин.
А корабль уже выбрался на самую середину реки, уже плещут в борта речные волны, и уходит назад холодильник, базар, черная кучка народа на набережной. Мальчишку-рыболова загораживает баржа. Прощай, мальчишка!
Не спеша, торжественно и невозвратно уходят назад дома, улицы, сады.
Вот и кончилась наша сухопутная жизнь. Началась жизнь на воде.
Нос корабля чуть дрожит. Мы идем по Двине средним ходом.
Справа вдоль берега стоят лесовозы: мы проплываем мимо лесоэкспортной гавани.
Уже вечер. На лесовозах спускают кормовые флаги — немецкие, английские, французские. В гавани горят электрические фонари, ползают автокары, грузовики.
Капитан поворачивает рукоятку машинного телеграфа.
— Полный вперед.
До позднего вечера, на ветру, на холоде, мы стоим маленькой кучкой у правого борта и смотрим на голые деревца, в густых холодных сумерках уходящие все назад и назад.
— Значит, поехали, Сергей, — тихо говорит мне Боря Линев.
— Поехали. Прощай, Большая Земля…
Глава вторая
Пьяный корабль
За ночь что-то произошло, и с кораблем и с людьми. Только вчера из Архангельска вышел чин-чином степенный ледокольный пароход «Таймыр». А сегодня с зарей по Белому морю спотыкаясь бредет какой-то пьяный вдребезги корабль, везет пьяных людей.
То повалится он на левый бок, то завалится на правый. Мачты чертят в небе круги. Короткая толстая труба, будто малярной кистью, из стороны в сторону красит дымом низкое небо. Слева направо и справа налево летают над головой разорванные ветром облака, ныряет и взлетает, как на качелях, горизонт.
Корабль то задерет нос — вот-вот опрокинется на спину, — и тогда кипящее море заливает корму. То уткнется в море носом, и тяжелая желтая вода ударяет по баку, шипя и пенясь разливается по палубе. Рушится море на нос корабля и сметает с палубы все, что не привязано, не прибито, не привинчено. Вода хлещет через высокие пороги дверей, с грохотом скатывается вниз по лестницам.
Свистит ветер в вантах и тросах, скрипят тали, блоки, мачты.
Точно вымер корабль. Присмирели, попрятались по каютам люди.
Зато ожили, заговорили, задвигались вещи.
Рвутся с петель и крючков тяжелые железные двери. Они скрежещут болтами, бросаются на людей, сбивают их с ног. Звенят, разговаривают в буфетной тарелки, стаканы, ложки. В кают-компании бегает по столу медная пепельница, хочет спрыгнуть, убежать под диван. С разбегу она перескакивает через бортик стола, грохается на пол.
Со шкафа летит книжка. Катается по полу чей-то сбежавший граненый карандаш, со скрипом крутятся привинченные к полу кресла.
А в камбузе совсем уже какая-то карусель. Повар, чертыхаясь и свирепея, мечется по камбузу красный, в съехавшем на бок белом колпаке. Повар воюет с супом, с котлетами.
В суповой кастрюле клокочет буря. Суп норовит ошпарить повара, выплеснуться ему в лицо, обварить ноги. Повар подхватывает на воздух кастрюлю, и тогда из круглой дыры в плите вырывается дымный рыжий огонь. А в это время съезжает с плиты сковородка, и на пол летят котлеты. Чайник сам поливает плиту из дудочки, и весь камбуз заволакивает пар и дым.
Бледные, молчаливые, злые, лежат в каютах по койкам зимовщики. Ни рукой ни ногой не шевельнуть. Никто не пьет, никто не ест, не читает, не разговаривает. А те, кто еще не свалился, кто еще может ходить, слоняются, цепляясь за стены и косяки, выписывая вензеля, натыкаются друг на друга. Хочет пройди человек по коридору, а его бросает от стены к стене. Хочет шагнуть вперед, а его валит, тянет назад, а потом как швырнет сразу на пятнадцать шагов и бах! — о железную стенку.
Падает со звоном где-то стакан — вдребезги. Желтая волна окатила корму, выбила стекла в световом люке. Со звоном, с грохотом рушится волна в кают-компанию — на стол, на скатерть, на кресла.
Кавардак, неразбериха, полундра.
Вот это и есть зыбь норд-норд-вест, 6 баллов.
Вот это и есть качка.
____________
Ранним утром, когда еще не так мотало, в нашу маленькую каютку, где нас поселилось четыре человека — Романтиков, Гриша Быстров, Лызлов и я, — ввалился Наумыч. Он со всего маху хлопнул дверью, долго в темноте шарил у столика, опрокинул графин и наконец, найдя выключатель, зажег свет.
Мы притворились спящими.
— А ну, хлопцы, вставай! — громко сказал Наумыч.
Никто даже не пошевельнулся. Тогда Наумыч без лишних слов стащил с Гриши Быстрова одеяло, выдернул у меня из-под головы подушку, потряс Ромашникова за тощую волосатую ногу, торчавшую из-под сбившегося одеяла. Видя, что спасения нет, Лызлов поспешно вскочил сам.
— Встаю, встаю, Платон Наумыч, — сказал он и потянулся за очками. Он подышал на стекла, аккуратно вытер их носовым платком и пристроил очки на носу. — Что случилось?
— Все на верх! Аврал. Капусту чистить, — сказал Наумыч. — Ну, поскорей пошевеливайтесь!
— Какую еще капусту! Отстаньте вы от меня! — тонким голосом закричал Гриша Быстров. — Безобразие! Спать по ночам не дают!
А Романтиков запрятал ногу под одеяло и, повернувшись к стенке, громко захрапел.
— Чтобы через пять минут все были у носового трюма. Понятно? — Наумыч вышел, громко хлопнув дверью.
И сразу же за стеной, в соседней каюте, послышалась какая-то возня, грохот, а потом громкий голос Наумыча — А ну, хлопцы, вставай!
Мы нехотя стали одеваться, проклиная и капусту и Наумыча.
— Эй, скелет! — закричал Гриша Быстров Ромашникову. — Вставайте. Нечего симулировать-то. Знаю я вас. Смотрите, как здорово притворяется спящим. Ловкач!
Но Романтиков и в самом деле спал. Он блаженно причмокивал губами, вздыхал и бодро похрапывал.
— Ну и пускай его спит, — сказал я. — Он слабосильный.
Держась за железные стенки и покачиваясь, мы побрели по коридору жилой палубы на нос ледокола.
Пол ходит под ногами, как доска качелей. В коридоре жарища. Справа за стеной гудит и дышит машина, слева за стеной — плещется вода.
Носовой трюм открыт. Слышно, как в глубине трюма кто-то копошится и переговаривается. Но людей не видать. Только время от времени из черного четырехугольника люка поднимаются жилистые, в синей татуировке руки и ставят на площадку ящик с капустой. Капуста уже начала портиться, вся осклизла, от нее как-то противно воняет сладостью. А тут еще жарко до одури, глухо бултыхается, точно икает, в баках над умывальниками вода, пищит и щелкает в трубах пар, из уборной воняет.
Мы устроились около люка на пустых капустных ящиках и, вооружившись ножами, принялись за работу. Обрезаем сопревшие листки и сваливаем их в одну кучу, а крепенькие, хрустящие вилочки откладываем в сторону.
Работает нас человек десять. Рядом со мной наш геолог Савранский, остроносый маленький человечек. Весь он будто нахохлился, даже волосы у него на голове торчат, как перья. Он уже совсем позеленел и часто-часто глотает слюну.
Чистим капусту, не разговаривая. Какие тут разговоры, — только и думаешь, как бы от рвоты удержаться. Как поднимется на волне нос корабля, так даже сердце сжимается, — до чего противно. А как опустится — совсем дело дрянь: желудок подкатывает прямо к горлу, и весь ты покрываешься липким холодным потом.
Вдруг Савранский вскочил — и к умывальнику, расталкивая по дороге матросов, которые только что расположились мыться.
Матросы хохочут.
— Есть один!
Чувствую я — и мне конец. Сейчас тоже «поеду».
Нет, к чорту! Бежать надо от этой вони, от жары, от капусты.
Я сунул нож в ножны и бросился по лесенке наверх, на палубу. Распахнул железную дверь и остановился.
Фу ты, чорт, как хорошо! Ветер свежий такой, сырой, холодный, так и хлещет в лицо брызгами.
Постоял я немного в дверях, отдышался, осмотрелся кругом. Палуба мокрая, блестит. Небо серое, низкое, а за бортом бесконечное море ходит и дышит, и качается. Волны на море с пенными гребнями. Чайки боком летают. Очень хорошо.
Я медленно побрел по палубе. Трудно итти, — то будто на гору лезешь, то тебя под гору несет — не удержишься. Побродил по палубе минут пять, чувствую — опять тошно становится.
Может, и правда пожевать чего-нибудь или выпить? Кто его знает, может, второй-то помощник и прав?
Я спустился в кают-компанию, хотел налить стакан воды и выплеснул сразу пол-графина: залил кресло, сам весь облился, а в стакан почти ничего и не попало. Хотел капнуть в стакан каплю клюквенного экстракта, а вылил чуть ли не весь пузырек. Больше одного глотка и выпить не смог — такая кислятина, что скулы на бок свернуло.
А все-таки как будто полегче стало.
Кажется, и правда помогает. А Иван Савелич еще смеялся.
Я опять вышел на палубу. Часа два без отдыху, без остановки, как нанятый, хожу по палубам — то по нижней, то залезу к собакам на ботдек и там хожу. Ходьба тоже помогает. Значит, Иван Савелич тоже прав.
А вот и он выходит из штурманской рубки.
— Ну как? Не укачало? — спрашивает меня Иван Савелич.
— Ничего, — говорю, — борюсь. На палубе хоть дышать можно, а там внизу прямо могила.
— Да, — сказал Иван Савелии, — противное это место. Здесь всегда болтает.
— А где мы, Иван Савелии?
— Самое горло Белого моря. Кладбище кораблей.
Я невольно оглянулся по сторонам. Из края в край под низким серым пасмурным небом одни только волны. Море качается и ходит большими валами, над которыми взлетают белые барашки.
Так вот оно, кладбище кораблей!
Семьсот с лишним лет тонули в этом проклятом горле суда северных моряков. Воды Белого моря встречаются тут с водами моря Баренца. Бурлит и клокочет здесь вода, болтает и валяет корабли и с борта на борт и с носа на корму.
Но не это страшно морякам в горле Белого моря. Страшны стремительные приливо-отливные течения. Они подхватывают судно, как пробку, и несут его на прибрежные скалы или уносят в маре, во льды. Никак не угадать, в каком месте и когда подхватит корабль это стремительное течение.
Первое судно погибло здесь в 1222 году. С тех пор, за семьсот лет, столько кораблей пошло ко дну, что северные моряки прозвали горло Белого моря — кладбищем кораблей.
Но теперь кладбища уже нет. Его уничтожили большевики. Большевики послали в эти места, в горло Белого моря, гидрографическую экспедицию.
На специальном судне плавали ученые по Белому морю. Они отмечали на картах направления течений, измеряли специальными приборами их скорость, по часам следили, как долго течение несется в ту или в другую сторону.
Оказалось, что в некоторых местах течения скорее трамвая.
У мыса Орлова, например, течение несет корабли со скоростью 15 километров в час, в Мезенском заливе скорость течений 81/2 километров, в самом горле моря — около 7 километров в час.
Ученые составили атлас приливо-отливных течений, таблицы и карты.
С тех пор на каждом судне, которое уходит из Архангельска, лежит в штурманской рубке советский атлас течений Белого моря. Уверенно и смело водят теперь капитаны по этим гиблым местам свои корабли.
И на «Таймыре» есть атлас течений. Наш курс проложен с таким расчетом, что течения даже помогают нам итти, подгоняют наше судно.
— Вот только качает, конечно, здесь здорово. От этого уж никуда не денешься, — посмеивается Иван Савелич. — Ну, ничего. Потерпите немного. Теперь скоро выйдем в Баренцово море, там, может, полегче будет. Там простора больше, а на просторе и волна мягче.
В 4 часа 30 минут, ровно за сутки, мы прошли пятую часть пути до острова Гукера — двести миль.
В кают-компании Иван Савелич повесил карту. Вырезанный из картона маленький синий кораблик — наш ледокол — огибает на ней мыс Канин Нос.
Синий кораблик жмется к берегу, и даже непонятно, как это нам не видно земли, — ведь здесь, на карте, от кораблика до берега каких-нибудь два вершка.
Почти всегда корабли идут на Землю Франца-Иосифа кружным путем — добираются сначала до Новой Земли, потом плывут на север под защитой ее берегов, и только у мыса Желания, у самой северной точки Новой Земли, отрываются от берега и идут открытым морем.
А мы идем напрямик. Красным карандашом на карте прочерчена линия прямо от Канина Носа до Земли Франца-Иосифа. Это наш курс. Капитан «Таймыра» решил вести свой корабль самым ближним путем, и первый берег, который мы теперь увидим, будет берег Земли Франца-Иосифа.
У карты стоят два человека. Оба в толстых кожаных штанах, в высоких сапогах, в плотных фуфайках.
Один — долговязый, вихрастый, со свежим румяным лицом. Это борт-механик Боря Маленький. Другой низкорослый, чуть кривоногий, давно небритый. Это — летчик Шорохов. Лицо у него желтое, заспанное, злое.
Они рассматривают карту, ниточкой измеряют расстояния, гадают, сколько суток нам еще плыть до Земли Франца-Иосифа и как-то нас встретят старые зимовщики. Я сижу на диване и прислушиваюсь к их разговору.
— Поди, ждут, — усмехаясь говорит Шорохов, — уж, наверное, все глаза проглядели. За год-то надоели друг другу, как черти, перессорились, перегрызлись.
Боря Маленький удивленно поднимает брови.
— Почему же обязательно перегрызлись? Может, наоборот, очень мирно и хорошо жили. Ведь ничего неизвестно..
Шорохов снизу вверх смотрит на Борю Маленького.
— Молод еще, вот тебе и неизвестно, — ворчливо говорит он. — Неизвестно! Все очень хорошо известно. Как же это так люди могут целый год жить и не собачиться? Поживешь вот с мое, понюхаешь жизни, тогда узнаешь.
Боря Маленький пожимает плечами.
— Не понимаю, чего там ссориться? На Большой Земле из-за чего люди грызутся? Глядишь — квартиру один у другого отбивает, или зависть его гложет, что приятель себе новую шубу справил, или так просто от жадности — как бы где побольше нахапать. Вот и собачатся. А у нас жизнь будет как при коммунизме. — Он вдруг громко, по-мальчишески захохотал. — Нет, подумайте только, — ведь и верно, как при коммунизме! Денег у нас не будет. Во всем свете только нам деньги не нужны будут. На что нам деньги? Ничего не купишь, не продашь, ничего не украдешь. Зачем? Куда с краденым деваться? Моржам, что ли, продавать по дешевке? Нет, это прямо здорово! Ни воровства, ни злости, ни жадности! Верно, Григорий Афанасич? А?
— Все от человека зависит, — угрюмо сказал Шорохов и потер ладонью скрипящий подбородок. — Другой и сам не знает, чего ему надо, — только бы напакостить, наскандальничать. Конечно, за себя я ручаюсь. А другому в душу не влезешь, чужая душа — потемки. — Он искоса посмотрел на Борю Маленького. — Другой просто от мальчишества начнет беситься. К дисциплинке, к уважению не привык, вот и полезет на стену, когда старшие учить начнут.
— Интересно, — задумчиво говорит Боря Маленький и улыбается каким-то своим мыслям.
Я слушаю их разговор и думаю: «А ведь, действительно, кто знает, что будет с нами через полгода? Сейчас-то кажется, что Боря Маленький будто и прав: не из-за чего нам ссориться, злиться друг на друга, враждовать. А что будет потом?. Ведь вот на зимовках у Скотта, и у Амундсена, и у Берда тоже как будто нечего было людям делить, не из-за чего было завидовать друг другу, нечего было друг у друга отбивать. И в книгах и в отчетах об этих зимовках на первый взгляд все как будто благополучно, а вчитаешься, вглядишься — нет, не так уж, наверное, гладко все было.
Неспроста же Берд говорит, что на каждой зимовке, в долгую полярную ночь, когда люди вынуждены месяцами сидеть взаперти, «неизбежно приходит время, когда все темы на свете исчерпаны и выжаты, как лимон, когда уже сам голос одного человека невыносим для другого, когда малейшее разногласие порождает глубокое мучительное раздражение. Если этот момент наступает, — говорит Берд, — то дело принимает скверный оборот.»
Неспроста говорит и Амундсен: «Люди — самая неопределенная величина в Арктике. Самая тщательная подготовка, самый образцовый план могут быть сведены на нет неумелым или недостойным человеком.»
Наверное, недаром один из участников экспедиции Скотта писал: «Человек, своей непорядочностью создавший хлопоты и неприятности на зимовке, заслуживает самой мучительной смерти, какую только можно придумать». А другой участник добавил: «Непорядочному человеку следовало бы надеть наручники и не снимать их до возвращения на материк».
Значит, были и у Амундсена, и у Скотта, и у Берда в их экспедициях и на зимовках непорядочные и недостойные люди, которых следовало бы заковать в кандалы или пристрелить.
Будут ли и среди нас такие люди, или наша зимовка пройдет благополучно, и через год по этому же морю мы будем подплывать к Архангельску такими же друзьями, какими уплываем сейчас?..»
Море Баренца
Давно это было — почти триста пятьдесят лет назад. Из Амстердама вышли в далекое плаванье два корабля. Эго были двухмачтовые парусные бригантины. Борта их были украшены деревянной резьбой, голландские флаги развевались на высоких сосновых мачтах.
В третий раз пытались голландцы пробиться в далекий богатый Китай северным путем. С юга не пройти было в Китай. Тогдашние великие морские державы, Испания и Португалия, топили и грабили иноземные торговые корабли, идущие этой дорогой. Надо было искать окольный путь. Единственным таким путем был Великий Северный морской путь вдоль берегов Сибири.
Корабли голландцев и пустились в это рискованное плавание. На одном из кораблей в третий раз плыл к берегам Сибири Виллем Баренц — опытный моряк, бывалый путешественник.
Через две недели после отплытия корабли встретили первый лед.
«Вначале, — пишет в своем дневнике один из участников экспедиции, — мы думали, что это белые лебеди, и кто-то громко крикнул: «Вот плывут белые лебеди!» Услышав этот крик, мы выбежали на палубу и увидели, что это лед. Это случилось под вечер».
Продвигаясь все время на север, голландцы наткнулись на какой-то неизвестный остров. Они назвали его Медвежьим.
У Медвежьего корабли голландцев разделились. Капитан Рийп, командовавший одним из кораблей, считал, что в Китай надо плыть, держа курс к северу от Медвежьего острова. Баренц настаивал, что плыть надо к Новой Земле, обогнуть ее с севера и итти на восток.
Рийп пошел одним путем, Баренц — другим. Вскоре Баренц достиг Новой Земли и поплыл вдоль ее берегов. 19 августа 1596 года Баренц обогнул крайний северо-восточный мыс Новой Земли. Этот мыс он назвал мысом Желания.
Через неделю после этого голландский корабль попал во льды. Льды смерзлись вокруг корабля.
«Судно приподняло, кругом все трещало и скрипело. Казалось, что корабль должен развалиться на сотни кусков. Ужасно было видеть и слышать это, и волосы у нас вставали дыбом», — пишет участник экспедиции Де-Фер.
С корабля, который каждую минуту мог быть раздавлен льдами и пойти ко дну, голландцы перебрались на берег. Целый месяц они собирали плавник и кое-как сколотили из него дом.
Это была первая зимовка на таком далеком севере. Голландцы, которые не захватили с собой теплой одежды и никак не ожидали, что на земле бывают такие морозы, всю зиму страдали от холода.
«Погода жестокая, — писал в своем дневнике Де-Фер, — дует очень холодный и почти невыносимый ветер с востока. Мы с жалостью смотрим друг на друга. Если мороз станет еще крепче, все погибнут. Какой бы большой огонь мы ни раскладывали — согреться невозможно. Стоишь возле огня так близко, что чуть не обжигаешь ноги, а спина мерзнет и покрывается инеем».
Вскоре к холоду присоединился и голод. С восьмого ноября каждый зимовщик получал в день только по двести граммов хлеба, и уже через два месяца, восьмого января, Де-Фер записал в дневнике:
«Многие заболели болезнью, которую называют цынгой».
Заболел и сам Виллем Баренц.
Когда наконец наступило позднее полярное лето, голландцы решили попробовать пробиться домой. Корабль их был совершенно изуродован и изломан льдами. Надо было уходить на шлюпках. Они снарядили две лодки, на которые погрузилась вся экспедиция, и поплыли по полярному морю.
Виллем Баренц был уже так тяжело болен, что пластом лежал в одной из лодок.
16 июня, на второй день плавания, когда эта лодка медленно, на веслах, огибала северный берег Новой Земли, Баренц сказал Де-Феру:
— Геррит, где мы находимся? Не у Ледяного ли мыса? Подними меня, я хочу еще раз посмотреть на этот мыс.
Прошло еще четыре дня. 20 июня Де-Фер записал в дневнике:
«Клас Андриссон очень слаб, и мы хорошо сознаем, что он скоро умрет. Услышав, как мы говорим об этом, Виллем Баренц сказал:
«— Мне кажется, что и я долго не протяну.
«Мы не думали, что Виллем так болен. Он разговаривал с нами и стал рассматривать сделанную мною маленькую карту нашего путешествия. Потом он возвратил мне карту и сказал:
«— Геррит, дай мне пить.
«Затем им овладела такая слабость, что глаза стали закатываться, и внезапно он скончался. Итак, он умер раньше Класа Андриссона, который вскоре последовал за ним. Смерть Баренца очень опечалила нас, потому что он был нашим главным руководителем и единственным нашим штурманом.»
То море, в котором Баренц совершил свое знаменитое плавание и в водах которого нашел себе могилу, впоследствии и было в его честь названо морем Баренца.
________________
27 сентября на рассвете наш «Таймыр» вошел в это море. Надежды Ивана Савелича, что здесь волна будет помягче, не сбылись. Море Баренца встретило нас еще хуже, чем Белое. Волна перешла с норда на вест, и началась бортовая качка. Ледокол валило то на один бок, то из другой. Глубоко в желто-зеленую воду ныряли задраенные иллюминаторы бортовых кают.
Моряки зовут эту качку «болтанкой».
Сегодня укачались даже собаки. Мокрые, дрожащие, они лежат врастяжку на палубе, смотрят грустными глазами, ничего не едят. Особенно плох Серый. Он даже не может поднять головы, и Боря Линев подолгу сидит перед ним на корточках, сует ему кусок мяса или мозговую кость и ласково уговаривает:
— Ну, бери, дурак. Серый, бери. Надо же шамать. Ведь подохнешь же, дурачина. Подохнешь — выкину за борт. Так и знай.
Только Байкал и Жукэ еще держатся молодцами, жрут за шестерых и не унывают. Натянув цепочки, они целый день хрипло и злобно лают на море. Лают, лают, устанут. Отойдут к теплой дымовой трубе, отдохнут, погреются и снова дружно выходят на середину палубы и, став мордами к морю, приплясывая лают и лают на волны.
Плохо сегодня на палубе. Ветер прохватывает до костей, какая-то промозглая сырость забирается под толстый ватный пиджак.
Почти весь день я сегодня сижу в кают-компании, читаю прошлогодние номера журналов и даже играю с Борей Маленьким в шашки, хотя и приходится каждую шашку держать пальцем или приклеивать к доске разжеванным хлебным мякишем.
Перед обедом в кают-компании появился Наумыч. Он боком протиснулся в дверь и осторожными шажками, широко растопырив руки, добрался до дивана.
— Плывем, хлопцы, — сказал он, плюхнувшись на диван и радостно потирая волосатые, белые руки. — О, ubi campi, хлопцы, о, ubi campi!
— Какие там убикампи? — спросил Боря Маленький, отклеивая от доски дамку.
— Римских поэтов не знаете, хлопцы, — укоризненно сказал Наумыч. — И чему только вас учили? О, где вы, поля, как говорил поэт Виргилий. Поля чорт их знает где — за тридевять земель. В бывшем Елисаветградском уезде бывшей Херсонской губернии, в окрестностях деревни Новоселицы. Вот где родные поля-то! А меня чорт занес в Баренцово море. Мой дед, медведь, тележного скрипа боялся, прадед полжизни без штанов ходил, отец-чумак на волах соль возил, а я — видали вы?
Боря Маленький взял мою шашку.
— За «фук» ем, — строго сказал он, — бить надо было. — И повернулся к Наумычу. — Чего же это он без штанов-то ходил, — бедный, что ли, был?
Наумыч прищурившись посмотрел на Борю и спросил:
— Ты какого года рождения?
— Тысяча девятьсот четырнадцатого, а что?
— Ну, вот, а мой прадедушка наверное тысяча восемьсот четырнадцатого.
— Ну, и что же из этого? Разве тогда люди без штанов ходили?
— Дураки в штанах, а умным без штанов приходилось, — сказал Наумыч. — Времена-то — знаешь, какие были? Крепостное право. Чуть подрос парень, надел первый раз штаны — пожалуйте на барщину. Ну, а раз без штанов бегает, — значит, малолетний. А малолетних на барщину не брали. Закон, что ли, такой был, чорт его знает. Вот прадедушка и ловчил. До тридцати пяти лет без штанов щеголял. У самого борода лопатой, а ходит в одной распашонке. Так и увиливал от барщины. Вот, милый мой, как приходилось. Contraria contrariis curantur, 1 а по-нашему, по-русски, клин клином вышибали.
Боря Маленький недоверчиво посмотрел на Наумыча, — врет или нет.
Вдруг, держась за стенки, в кают-компанию ворвался другой Боря — Боря Линев. Его треснуло о паровое отопление, отнесло к столу и швырнуло на кресло.
— Жукэ пропал! — закричал Боря Линев. — Унесло в море!
— Как унесло? — Мы бросили шашки, вскочили с мест.
— Пошли искать, — решительно сказал Боря Маленький и надел свой кожаный шлем. — Не может быть, чтобы унесло. Куда-нибудь забился. Жукэ не унесет, не такая собака. Пошли, пошли!
Я тоже схватил свою меховую шапку и бросился за обоими Борисами.
Ветер так и стегнул по глазам, будто мокрым веником.
Широко расставляя ноги, мы поднялись на ботдек. Там, за штурманской рубкой, у теплой дымовой трубы были привязаны все наши собаки. Увидев Борю Линева, черный рослый Байкал сорвался с места, бросился к нам навстречу, радостно залаял, загремел цепочкой.
— Прозевал Жукэ-то, страшный чорт! — заорал на него Боря Линев. — Куда Жукэ девался, говори? Ну, где Жукэ?
Байкал еще пуще залаял и бросился было за дымовую трубу. Но цепочка натянулась и рванула его назад так, что он стал на дыбы.
Мы обошли штурманскую рубку, спустились на ют и опять вышли к трубе. Жукэ нигде не было.
— Нет уже, видно, конец Жукэ, — грустно сказал Боря Линев.
Он погладил Байкала, который теперь смирно сидел у его ног и не мигая, задрав голову, смотрел ему в лицо.
— Букаш, прозевали мы Жукэ-то. А? Где Жукэ?
И снова Байкал сорвался с места, залаял, кинулся опять за дымовую трубу. Цепочка снова осадила его. Он яростно повернул свою узкую черную морду и цапнул цепочку желтоватыми клычищами — пусти, мол, проклятая!
Боря Аинев бросился к Байкалу.
— Тут что-то нечисто! Букаш, где Жукэ? Покажи, где Жукэ?
Теперь Байкал уже завывал, закатывая глаза и пощелкивая зубами. Боря поспешно отвязал цепь. Байкал рванулся вперед, чуть не свалил хозяина с ног и исчез за дымовой трубой. Натыкаясь на скулящих собак, опрокидывая жестяные миски, мы бросились следом за Байкалом.
В укромном уголке, под большой шлюпкой, Байкал рыл кучу старого брезента, рвал ее зубами, царапал лапами, урчал и потряхивал головой.
Вдруг брезентовая куча зашевелилась, и из-под складок брезента показалась лисья мордочка.
— Вот ты где! — закричал Боря Линев. — Фря какая! Все мерзнут на голых досках, а он не желает!
Боря схватил Жукэ за ошейник и поволок на старое место. Жукэ упирался, ворчал и со злостью и с презрением посматривал на торжествующего Байкала.
— Эх, ты, предатель, предатель, — казалось, говорил Жукэ. — А еще земляк называется.
____________
На третий день пути с самого утра заморосил мелкий дождь. За ночь море успокоилось, и теперь, страшное и холодное, неподвижно лежало до самого горизонта. Кругом так пустынно, что кажется, будто мы действительно доплыли до края света. Только серые, толстомордые, похожие на «Юнкерсов» поморники летят все время за нашим кораблем. С жалобным тоненьким писком чайки падают до самой воды и боком, по ветру, уходят далеко в море.
Сегодня наш корабль начинает оживать.
К вечеру в кают-компании собралось уже столько народу, что я едва смог пристроиться на кончике стола, чтобы записать сегодняшний день в путевой дневник.
Вдруг в каюту ввалился Ромашников. Размахивая какими-то листками, он закричал:
— С Франца! Телеграмма! Сейчас радист принял. Слушайте!
Все зашумели, повскакали со своих мест и обступили Ромашникова.
Громко, на всю кают-компанию Ромашников прочел:
«Наконец вас заметили точка Слышали вас от Канина носа точка Лед в бухте примерно семь баллов запятая лед мелкобитый точка Где вы ваше место точка Есть ли у вас короткие волны назначьте время работы с вами точка».
— А это много льда — семь баллов? — быстро спросил Боря Линев.
— Семь баллов, — оттопырив нижнюю губу, важно сказал Ромашников, — это значит, что семь десятых всего водного пространства покрыто льдом. Понятно?
— Так это же гроб!
— Ничего не гроб. Лед-то какой? Сказано — мелкобитый. Такой-то лед «Таймыр» распихает, как орешки. Это ерунда.
— Ничего себе ерунда — семь десятых водного пространства! — возмутился Гриша Быстров. — Как раз через эти-то семь десятых, может, и не пробьемся. Вот получится глупая история. Собрались, распрощались, поплыли, а потом через месяц назад. Здравствуйте, пожалуйста, вот и мы. Вернулись с зимовки. Прямо позор.
— А вдруг так! — кричит Боря Линев. — Слушайте, ребята! Вдруг так: подходим к Нордбруку — лед. Туда, сюда — ни в какую. Ведь октябрь! Постоим дня два, нас и заморозит. Зимовать на «Таймыре». А?
Борю Линева перебивает Боря Маленький:
— Я тогда свою Амфибию…собрал, поставил на лыжи, заправился. Контакт! Есть контакт! И — пошел в Архангельск. Через десять часов — пожалте бриться. Прилетел — сейчас на вокзал…
— Это кто же тебе, интересно, твою Амфибию-то даст? — говорит незаметно вошедший в кают-компанию летчик Шорохов. — Видали вы короля воздуха? Собрал, контакт, и — пожалте бриться — полетел!
— Ну, ладно, — быстро соглашается Боря Маленький. — Не дадите, и не надо. Мы с Линевым на собаках уйдем.
Боря Линев звонко хлопает себя по лбу.
— Верно, Борька, на собаках! Сделаем нарты. Ружья возьмем и пошли чесать.
— И я с вами, — взмолился Ромашников.
— А ты-то зачем? Ты на «Таймыре» оставайся. Лед-то ведь какой? Мелкобитый. Такой-то лед вы с «Таймыром» как орешки распихаете. Да и на что ты нам нужен?
— Я вам буду погоду предсказывать.
— А на черта нам твоя погода? Нет уж, сиди на «Таймыре» и предсказывай свою погоду. А то тебя еще тащить придется. Ты на лыжах-то ходить умеешь?
— Ну, не умею.
— А стрелять умеешь?
— Зачем мне стрелять? Стрелять ты будешь, ты каюр.
— Нет, умеешь? Скажи, умеешь?
— Наверное, сумею. Дурацкое дело не хитрое. Нажал там чего-нибудь, он и выстрелит.
— Это кто он?
— Ну, кто? Порох, дробник, или как он там у вас называется? Этот, который сразу многими стреляет? Дробник?
— Дро-о-о-бник? — Боря Линев даже встал. — Дробник? Нет, вы слыхали? Многими который! Дробник! Пошел вон отсюда! Братцы, гоните его к чертям собачьим! Он нас опозорит. За борт его!
На Ромашникова накинулось несколько человек.
— Просить Наумыча отправить его назад!
— Запереть в трюме и не показывать старым зимовщикам до самой последней минуты!
— Нет, ты скажи, как ты в зимовщики попал? — не унимался Боря Линев. — Ты, может, и плавать не умеешь?
— Ну, не умею. Я же не в Крым еду, не на курорт. Плавай, пожалуйста, если тебе это нравится, а я лучше буду с берега смотреть. Только я думаю, что и ты долго в этой воде не проплаваешь.
— Ну и полярник! — захохотал Боря Линев. — Ай да полярник! Нет, как ты попал? Тебе же надо бы на бахче арбузы караулить, а ты — в Арктику.
Романтиков обиделся:
— Ну, это кто чем работает. Тебе если голову отрезать, так ни ты ни твои собаки, наверное, не заметят даже, что у тебя башки нет. Тебе, конечно, трудновато понять — зачем люди едут в Арктику. Я, например, еду не для того, чтобы стрелять, плавать и кататься на лыжах. У меня работа поважнее есть. А вот..
Долго бы еще, наверное, шла перебранка, если бы не помешали нежданые гости.
Световой люк в потолке каюты был открыт. Вдруг из люка упали на стол три маленькие серенькие птички. Они разбежались по столу, вспорхнули и заметались по кают-компании, натыкаясь на стены, шкафы, ударяясь о зеркала.
— Лови! — закричал Боря Маленький.
С громкими криками все бросились ловить птичек. Поднялся страшный гвалт, толкотня, хохот. Птичек ловили шапками, шарфами, даже скатертью.
Наконец поймали. Боря Линев взял одну из птичек, повертел ее в руках, растянул крылышки, подул в перья.
— Пуночки, — важно сказал он. — Из семейства воробьиных. Наверно, домой летели и отбились от стаи. Сейчас ведь как раз осенний перелет.
Мы посадили пуночек в стеклянный шкаф, покрошили им хлеба. Птички забились по углам, нахохлились, спрятали головки под крыло и заснули.
Мыс Флора
Утром 30 сентября меня разбудил громкий крик:
— Безбородов, земля!
В дверях каюты стоял Ромашников. Вид у него был такой, точно мы идем ко дну.
— Земля! Подходим! Скорее!
— Какая земля? Вы с ума сошли!
— Земля! Земля! Вставайте!
Ромашников исчез. Сбросив одеяло, я торопливо стал натягивать носки, фуфайку, сапоги и, наскоро одевшись, выбежал на палубу.
Мутный рассвет, туман, пурга, холод. С правого борта, в тумане, сквозь косо летящий мелкий и сухой снег действительно виднеется какая-то земля. Пустынная, безлюдная, молчаливая. Черные, чуть запорошенные снегом высокие голые утесы и пики. К самой воде отвесной стеной спускаются ледники. По зеленому, как бутылочное стекло, морю плавают голубые, фисташковые, белые льдины, гладкие, обмытые, отшлифованные соленым морем.
Дикая, страшная земля…
Растерянные, притихшие, будто испуганные безлюдьем, молчанием и холодом этой земли, толпятся у борта наши матросы, глядят на смутные очертания скал и ледников, переговариваются вполголоса.
За ночь и сам корабль покрылся ледяной корой — обледенела палуба, обледенели веревки, ледяным брезентом забран капитанский мостик.
На мостике стоит капитан. В руках у него обледенелый большой бинокль.
— Вахтенный, — негромко говорит капитан, — разбудите радиста. Иван Савелич, приготовьте якорь.
И, повернувшись в нашу сторону, капитан улыбаясь добавляет:
— Ну, до Земли Франца-Иосифа добрались прямо как на извозчике — в самую точку.
— Это что же, остров Гукера? — спрашиваю я.
— Нет, это только еще мыс Флора, но тут нам лучше сейчас постоять. Туман. Да и глубины здесь небольшие. А ветер такой заворачивает, что лучше отстояться на якоре. До Гукера-то, до зимовки, отсюда уже недалеко — сорок пять миль.
Мыс Флора! Так вот он какой, мыс Флора! Знаменитый мыс.
Долго и тщетно старался я рассмотреть в бинокль смутные очертания дикой земли, которая иногда появлялась в тумане.
Где-то здесь должна быть грубо сколоченная из бревен маленькая закопченная хижина. А, может быть, ее уже разрушили полярные штормы, разворотили и сломали медведи?
Хорошо бы побывать в этой хижине на мысе Флора. Может быть, где-нибудь под потолком или в щели грубой бревенчатой стены залежался медный патрон с какой-нибудь записочкой, подписанной: «Фритиоф Нансен», или: «Фредерик Джексон».
Под защитой натянутого на мостике брезента я долго рассматривал в бинокль узкую полоску отлогого берега, за которой поднимался почти отвесной стеной высокий черный утес.
О Земле Франца-Иосифа я почти ничего не знал, но про мыс Флора мне много рассказывали, и сам я читал много замечательных историй.
Вот одна из них.
Ранним утром 12 июля 1881 года к северо-востоку от Ново-Сибирских островов пошла ко дну раздавленная льдами «Жаннета», судно американской полярной экспедиции Де-Лонга. Экипаж погибшего корабля решил пешком добраться до материка по пловучему льду. Но только немногим удалось достигнуть берега. Почти весь экипаж погиб от голода и болезней.
Прошло три года. Все позабыли про «Жаннету».
Однажды три эскимоса охотились в бухте Юлиане-хоб, на юго-западном побережье Гренландии. Эскимосы заметили на одной из плавающих льдин какую-то странную черную кучу. Когда они подплыли на своей лодке к льдине, они увидели} что на ней валяются полузанесенные снегом, вмерзшие в лед чулки, рубахи, штаны, рукавицы.
Эскимосы высадились на льдину и собрали разбросанные на ней вещи.
Вскоре об этой удивительной находке узнали ученые.
Откуда мог оказаться на пловучей льдине целый склад одежды?
Разгадать эту тайну помогла метка на одной паре найденных эскимосами штанов: «А. Норос». Так звали матроса с погибшей «Жаннеты».
Значит, у берегов Гренландии нашлись вещи с корабля, затонувшего близ Ново-Сибирских островов.
Значит, эти вещи проплыли на льдине около семи тысяч километров и пересекли всю Арктику.
Значит, существует какое-то полярное течение, которое несет льды от северных берегов Сибири к Гренландии.
Газетные статьи об этой находке прочел молодой норвежский зоолог Фритиоф Нансен.
Если течение несет так далеко льды, значит, оно могло бы понести и корабль, вмерзший в эти льды, — подумал Нансен.
Он решил построить специальное судно, проплыть на нем к северо-восточным берегам Сибири, вмерзнуть там в лед и вместе со льдом плыть по воле полярного течения, тем самым путем, что и вещи, оставшиеся от «Жаннеты».
Нансен полагал, что течение пронесет его корабль или через самый полюс, или очень близко от него. Во время ледового дрейфа корабля Нансен рассчитывал забраться так далеко на север, куда до него не заходило еще ни одно судно, и хорошенько изучить и климат, и глубины, и течения в этих еще не исследованных полярных морях.
Но Нансен знал, что это была рискованная затея. Судно могло быть раздавлено льдами и затонуть, как затонула «Жаннета». Никто не мог заранее сказать, сколько времени неизвестные течения будут носить по полярным морям обледенелый корабль.
Большинство ученых считало план Нансена невыполнимым, а некоторые даже называли его «бессмысленным проектом самоубийства».
— Здесь, как и всюду, дело решат люди. — упрямо твердил Нансен, продолжая собирать средства, нужные для снаряжения экспедиции, и подбирать себе спутников.
Десять лет он готовился к своему великому походу. Для того, чтобы заранее испытать все трудности и лишения полярного путешествия, он на лыжах прошел через всю Гренландию. Никто не решался до него на такое смелое путешествие. В то время Гренландия даже не была целиком нанесена на карту.
Сотни миль прошел Нансен по необитаемым, неисследованным ледникам Гренландии. Мороз доходил до 50 градусов, ледниковый щит, по которому Нансену приходилось итти, поднимался почти на 3 тысячи метров над уровнем моря. Нансен жил в палатке и сам тащил за собой тяжелые сани с продовольствием.
Этот замечательный поход сразу прославил Фритиофа Нансена на весь мир.
— Такой человек, как видно, не станет шутить! — говорили про него и ученые, и охотники, и путешественники.
Тысячи моряков — и американцы, и немцы, и австралийцы — теперь уже осаждали Нансена, предлагая ему свои услуги. Но он в конце концов выбрал себе в спутники двенадцать соотечественников-норвежцев. Среди них был студент университета Ялмар Иогансен, который согласился плыть кочегаром, только бы попасть в состав экспедиции.
Нансен сам чертил план судна для дрейфа во льдах и сам следил за его постройкой. Со всего света собрал он лучших ездовых собак, сам работал в лабораториях, выясняя, какую пищу лучше всего взять с собой в путешествие, советовался с охотниками, с моряками, с собаководами.
Наконец, 24 июня 1893 года, корабль Нансена, который он назвал «Фрам», — по-норвежски это значит «Вперед», — вышел в свое ледовое плавание, а 22 сентября вмерз в лед к северо-западу от Ново-Сибирских островов.
Тогда на кораблях еще не было радио, и последнее известие от смелых путешественников было получено из селения Хабарова, на Югорском Шаре, куда Нансен заходил — за ездовыми собаками.
После этого три с лишним года о «Фраме» не было никаких вестей.
И вдруг 1 августа 1896 года Нансен и тот самый студент Иогансен, который поплыл на «Фраме» кочегаром, вдвоем вернулись в Норвегию. Они приплыли на судне, которое пришло с Земли Франца-Иосифа.
Как же попали норвежцы на Землю Франца-Иосифа? Куда девался «Фрам»? Живы ли остальные участники экспедиции?
Вот что рассказал Нансен:
Полтора года плыл «Фрам» вместе со льдами по Полярному морю. До полюса оставалось всего около 700 километров. Но тут Нансен понял, что «Фрам» на полюс не попадет, что течение пронесет его мимо полюса, южнее. Тогда Нансен решил оставить корабль и пойти к полюсу пешком.
Вернуться на «Фрам» он уже не рассчитывал. Ведь пока он будет пробираться пешком на полюс, полярное течение отнесет корабль куда-нибудь в сторону, и найти его вряд ли будет возможно. Поэтому Нансен решил на обратном пути с полюса дойти до Земли Франца-Иосифа и оттуда, тоже пешком или на лодке, добраться до Шпицбергена.
Итти с Нансеном к полюсу добровольно вызвался студент Иогансен.
14 марта 1895 года Нансен и Иогансен пустились в путь. У них было с собой три нарты, на которых было уложено продовольствие, инструменты и две легких лодки (каяки). В нарты были впряжены двадцать восемь отборных собак.
Дойти до полюса путникам не удалось: лед, по которому они шли, неуклонно сносило на юго-запад. Через двадцать три дня пути, когда до полюса оставалось еще 437 километров, Нансен повернул обратно.
«Мне становится все яснее и яснее, — записал он в этот день в своем дневнике, — что ничего полезного мы тут не сделаем. Очевидно, мы не можем пройти на север много дальше, а ведь и до Земли Франца-Иосифа путь предстоит немалый».
Путь этот, действительно, был долгий и трудный. Собаки и люди выбивались из последних сил. В самом начале похода у Нансена остановился хронометр. Теперь путники даже не могли определить место, где они находились.
Неделю, две, месяц тащились Нансен и Иогансен по ледяным полям, переплывали на каяках разводья и полыньи. Уже давно они должны были добраться до земли, но земли все еще не было видно.
В июне кончился собачий корм. Одну за другой стал убивать Нансен своих собак, разрубать на куски и этим мясом кормить оставшихся собак.
Наконец были застрелены последние две собаки, подыхавшие от голода и усталости. Люди сами впряглись в нарты.
Одежда путников превратилась в лохмотья и так пропиталась потом и грязью, что крепко прилипла к телу.
«Кальсоны, — рассказывал Нансен, — при ходьбе царапали и резали кожу до такой степени, что у нас образовались раны и сочилась кровь».
Десятки раз Нансен и Иогансен подвергались смертельной опасности. Однажды, когда Нансен сталкивал в полынью свой каяк, он вдруг услышал позади себя какую-то возню и сдавленный крик:
— Хватайте ружье!
Он обернулся и увидел, что огромный белый медведь повалил Иогансена навзничь. Иогансен не растерялся — он схватил медведя обеими руками за глотку и стал душить его.
Нансен бросился к своему каяку и начал судорожно рвать веревки, которыми было привязано ружье.
— Вы должны поторопиться, иначе будет поздно, — спокойно сказал Иогансен.
И верно — медведь уже совсем подмял его под себя.
Но как раз в этот миг полный заряд дроби угодил медведю в ухо, и он грохнулся замертво. Нансен выстрелил во-время.
Наконец, через 41/2 месяца тяжелых лишений, путники увидели землю — пустынные острова, покрытые вечными ледниками. Это могла быть только Земля Франца-Иосифа, — никаких других островов в этих местах Полярного моря нет.
На одном из островов Нансен и Иогансен решили зазимовать. Короткое полярное лето уже подходило к концу. Близилась полярная ночь. Нечего было и думать еще в этом году добраться на легоньких лодочках до Шпицбергена.
На скалистом мысу Нансен и Иогансен выстроили себе хижину. Это было нелегкое дело. Примерзшие камни они выворачивали из земли куском полоза от саней, песок рыли лыжной палкой или плечевой костью моржа, а кирку соорудили из моржевого клыка и перекладины от нарты.
В этой каменной хижине провели они долгую полярную ночь. Зимовщики питались медвежьим и моржовым мясом, запасенным еще засветло. Вместо лампы у них была жестяная плошка. В плошке горело моржовое сало. Обгорелые кусочки сала, которые оставались на дне плошки, они вылавливали пальцами и поедали. Нансен называл это «пирожным».
Когда наступила весна, Нансен с товарищем двинулись дальше. Они хотели дойти до самого южного острова архипелага Земли Франца-Иосифа, до острова Нордбрук, и оттуда уже пробираться на Шпицберген.
От острова к острову они то плыли по разводьям и полыньям на каяках, то, выбравшись на ледяные поля, шли пешком, таща за собой нарты, груженные каяками.
Однажды, когда после целого дня плавания путники пристали к огромной, как пловучий остров, льдине и вылезли, чтобы развести огонь, согреться и отдохнуть, — их каяки унесло ветром.
Это была большая беда. В каяках осталось все: и ружья, и одежда, и пища.
Во что бы то ни стало надо было вернуть каяки.
Нансен сунул товарищу в руки свои часы и начал быстро, как только мог, стаскивать с себя верхнюю одежду.
«Сбросить все, — рассказывал он потом, — я не рискнул, так как боялся окоченеть. Я прыгнул в воду и поплыл за каяками. Но ветер дул со льда и быстро уносил наши легкие каяки с высокими снастями, а с ними вместе и все наши надежды на спасение. Ведь все наше имущество было на каяках, у нас не осталось с собой даже ножа. Окоченеть в воде и потонуть, или же вернуться без каяков — мне было безразлично.
«Я напрягал все свои силы. Когда я устал, я перевернулся и поплыл на спине. Тут я увидел Иогансена, беспокойно ходившего взад и вперед по льду. Он говорил мне потом, что это были худшие мгновения, которые он когда-либо пережил.
«Снова перевернувшись, я поплыл еще быстрее. Я понимал, что едва ли смогу долго продержаться в такой холодной воде, — руки и ноги мои совсем окоченели. Но теперь было уже не так далеко до каяков. Если я продержусь еще немного, мы будем спасены.
«И я держался. Все короче и короче становилось расстояние до каяков, и я начал опять надеяться, что догоню их.
«Вот, наконец, я могу дотянуться рукой до одной из лыж, лежащих поперек кормы. Я схватился за лыжу, подтянулся к краю кормы и подумал: «Мы спасены». Я хотел было взобраться в каяк, но до того окоченел, что это казалось совершенно невозможным.
«Однако через некоторое время я все-таки собрался с последними силами, закинул ногу за край саней, стоявших в каяке, и кое-как вскарабкался наверх…»
Нансен и его товарищ были спасены.
17 июня они добрались наконец до мыса Флора — того самого мыса, у берегов которого покачивается сейчас на волнах наш «Таймыр».
Вон там, в проливе, за этой черной скалой, они разбили бивуак. Иогансен варил суп, а Нансен залез на высокий торос, чтобы получше осмотреть окрестности. Было лето. На тысячи голосов кричали птицы, летавшие у прибрежных скал.
Вдруг Нансену почудилось, что он слышит собачий лай. Откуда могла взяться собака на этом ледяном острове? Уж не померещилось ли ему? Нет, в самом деле лает собака, и даже как будто не одна, а несколько.
— Иогансен! я слышу на берегу собак!
Иогансен высунулся из спального мешка.
— Собак? Каких там еще собак?
Он не спеша вылез из мешка, спокойно взобрался на торос рядом с Нансеном и прислушался. Нет, конечно, Нансен ошибся. Здесь не может быть никого, кроме них двоих. Как ни вслушивались они оба, лая больше не было слышно.
После завтрака Нансен все-таки решил отправиться на берег и посмотреть, кто же из них двоих был прав.
По торосам и острым глыбам льда он с трудом добрался до берега.
И вдруг он увидел, что по самому краю берега, помахивая хвостом и весело тявкая, бежит настоящая, живая собака, а за нею шагает настоящий, живой человек.
Нансен замахал шапкой. Человек тоже снял шляпу и торопливо пошел навстречу Нансену. Находу он окликнул свою собаку, и Нансен услышал, что он говорит по-английски.
Пристально и жадно рассматривал Нансен этого человека, и вдруг ему показалось, что где-то он уже видел его.
Они встретились и пожали друг другу руки.
— How do you do? — вежливо спросил незнакомец.
— How do you do? — ответил Нансен.
«С одной стороны, — рассказывал Нансен, — стоял цивилизованный европеец, в клетчатом английском костюме, в резиновых высоких галошах, тщательно выбритый и причесанный, благоухающий душистым мылом. С другой стороны стоял дикарь, одетый в грязные лохмотья, с длинными всклоченными волосами и щетинистой бородой, с лицом, почерневшим от ворвани и копоти. Ни один из нас не знал, кто был другой и откуда он пришел».
— Я чрезвычайно рад вас видеть, — вежливо сказал незнакомец.
— Благодарю вас, я тоже, — ответил Нансен.
— Ваше судно здесь?
— Нет, моего судна здесь нет.
— Сколько вас всех?
— У меня только один товарищ.
Незнакомец с удивлением взглянул на Нансена. Перекидываясь короткими фразами, они пошли вдоль берега. Вдруг незнакомец остановился, пристально посмотрел на Нансена и сказал:
— Уж не Нансен ли вы?
— Да, — ответил Нансен, и в свою очередь спросил:
— А вы не Джексон ли?
— Да, Джексон, — ответил незнакомец.
Это был англичанин Джексон, который уже несколько лет зимовал со своей экспедицией на Земле Франца-Иосифа. Перед отплытием «Фрама» Нансен однажды видел его в Англии.
Здесь, на мысе Флора, у Джексона был выстроен целый маленький поселок.
Англичане радушно встретили Нансена и Иогансена. Впервые почти за полтора года путники по-настоящему умылись, переоделись в чистое платье, постриглись. С жадностью набросились они на старые газеты, которые сохранились у англичан, и с увлечением обсуждали события трехлетней давности.
Вскоре к мысу Флора подошел корабль Джексона, забрал Нансена и Иогансена и отвез их в Норвегию. А следом за ними благополучно прибыл в Норвегию и «Фрам», который проплыл со льдами через весь полярный бассейн.
Вот какие бывают удивительные встречи!
Прибытие
Всю ночь стоял наш «Таймыр» у мыса Флора.
За ночь ветер стих, и рассеялся туман. Ранним утром «Таймыр» выбрал якоря и медленно и осторожно двинулся в путь. До острова Гукера от места нашей стоянки оставалось теперь только 45 миль. «Таймыр» шел проливами и каналами, пробираясь между ледяными островами.
Справа и слева прямо из воды поднимаются отвесные, гладкие, как стекло, стены глетчеров. Прибой промыл в зеленоватом льду глубокие черные пещеры; волны со звоном ударяют в подножия этих ледяных стен, расшибаются в брызги, и ветер далеко уносит мелкую водяную пыль.
Лед и черные промерзлые скалы. Даже птицы, которые все время летели следом за кораблем, бросили нас, точно испугались этого холода.
Мы стоим на палубе в меховых шубах, в меховых шапках и тщательно осматриваем в бинокли каждую излучину берега.
Мостик высоко забран туго натянутым брезентом. Над брезентом виднеется одна только голова капитана в меховой шапке с опущенными ушами. А на самом верхнем этаже ледокола, на ледовом мостике, стоит Наумыч и тоже не отрываясь глядит в бинокль.
Скоро из тумана, прямо по курсу, вышла высокая черная скала. Точно усеченная пирамида, она торчала из воды, дикая, голая, чуть припорошенная снегом.
— Рубини-Рок! — закричал сверху Наумыч, показывая рукавицей на скалу. — Подгребаем, ребята! Теперь смотри в оба. Две плитки шоколада тому, кто первый увидит дома!
Снова налетает на ледокол сухая, туманная пурга.
Снег сечет по глазам, как песок. В тумане все время мерещатся какие-то горы. Я забираюсь на верхний мостик, где, уткнувшись носом в меховой воротник, прохаживается Наумыч, колотя ногу об ногу.
— Кажись, подходим, Наумыч?
— Подходим, нехай она сдохнет, эта Арктика. Сейчас в Краснодаре виноград рупь двадцать копеек шапка, а тут что? Замерзнешь, как цуцик.
— Вижу! — вдруг вопит снизу Ромашников. — Вижу!
— Где? Где?
— Вон, вон налево, у мысочка!
— Да это камни!
— Нет, дома! Дома!
— Верно, дома!
Впереди смутно виднеется засыпанный снегом пологий берег, а за ним отвесные черные утесы. На берегу какие-то темные точки.
Что это? Дома или камни? Ничего не разберешь, — бинокль обледенел. Наконец я справляюсь с ним и начинаю ясно различать на берегу дома. Два, нет — три дома. Из домов выбегают маленькие человечки, собираются кучками, размахивают руками и снова убегают в дома.
«Таймыр» подходит еще ближе. Уже отчетливо видно, как по камням к самой воде скачут лохматые собаки. Наверное, лают.
— Средний, — командует капитан.
Иван Савелии поворачивает ручку машинного телеграфа.
— Боцман, приготовьте якорь.
— Готово, товарищ капитан.
«Таймыр» заходит в широкую бухту. У берега сидят на мели большие белые айсберги.
— Кажется, во-время, — шутит Наумыч, вынимая часы. — По расписанию.
Низкому страшному гудку «Таймыра» отвечает гулкое эхо.
С берега стреляют залпами, тяжело ухают взрывы.
Нас встречают салютом.
— Боцман, майна якорь!
Не отрываясь я смотрю на эту пустынную, уже покрытую снегом землю, где мне придется прожить год, а может быть — и два. Снег и камни. Низкое бурое небо, метелица. Неужели только первое октября?
От берега отваливает шлюпка. Ее подхватывает стремительным течением и сносит мимо «Таймыра». В шлюпке яростно гребут, толчками пробиваясь к ледоколу.
Мы собираемся у трапа. Каковы-то они, старые зимовщики?
Первым поднимается на «Таймыр» низкорослый толстый человек в высоких болотных сапогах, в засаленных ватных штанах.
— Потапов, начальник зимовки, — сипло говорит он, пожимая руку Наумычу.
За ним лезут по трапу здоровенные парни, рослые, широкоплечие. Нам даже становится как-то не по себе, что мы такие чистенькие и щуплые рядом с этими здоровяками, одетыми в грубую, грязную одежу.
Ну что ж, наверное, и мы станем такими же через год, и приехавшие нам на смену зимовщики будут разглядывать нас с таким же любопытством.
— С приездом, товарищи, — говорит Потапов. — Давайте-ка, братцы, поцелуемся.
Глава третья
Аврал
Два дня бушевал шторм. Два дня как в пловучей тюрьме мы сидели на «Таймыре», с жадностью посматривая на берег, где ходили какие-то люди, непонятно зачем вдруг начинал звонить колокол и круглый день дымились трубы на белых от снега крышах домов.
Вот мы наконец добрались до нашего острова, вот наши дома, а мы сидим в опостылевших темных каютах и, как посторонние люди, как зрители, только издали можем смотреть на нашу зимовку.
Наконец, ранним утром 3 октября, нас разбудил громкий стук в дверь каюты.
— Подымайсь! Выходи на аврал! — кричал кто-то в коридоре, продолжая колотить в дверь.
«Таймыр» сразу ожил. На палубе, над нашими головами забегали, засуетились люди, послышались громкие голоса, топот, крики и смех. Где-то неистово визжали свиньи. Даже собаки почуяли, что начинается что-то важное и интересное, — залаяли, завыли, заскулили.
Мы быстро надели заранее приготовленную парусиновую робу грузчиков — негнущиеся, широкие, с нашивными карманами штаны, куртки с широкими швами и костяными пуговицами — и вышли на палубу.
Утро было серое, мутное, ветреное. Бухта еще не успокоилась после шторма, и у береговых камней кипела белая пена прибоя. На ледниках и на черном плато, как вата, лежал густой серый туман.
— Начинаем разгрузку, — командует с мостика Иван Савелии. — Боцман, спускайте шлюпки.
— Есть, спускать шлюпки, — откликается боцман откуда-то из-за ящиков. И сразу у шлюпок, укрытых брезентом и чинно стоящих вдоль ботдека, откуда-то появились проворные матросы, быстро и ловко стали снимать брезент, разбирать весла. Вот уже шлюпки повисли над водой на крепких толстых канатах.
— Шлюпки на воду! — командует боцман. — Отдай концы на шлюпбалках!
Еще минута — и шлюпки уже пляшут на волнах. Матросы, задрав головы, кричат наверх: «Ну, кто там? Пассажиры! Давай скорей!» — и отпихиваются веслами от черных боков ледокола.
— Товарищи зимовщики, — на берег, — спокойно говорит Иван Савелич в жестяной рупор. — Будете принимать груз.
Странное чувство радости и в то же время тревоги испытал я, ступив на черные камни острова.
Так вот она какая, Земля Франца-Иосифа!
Камни, одни только камни вокруг — уже полузасыпанные снегом куски черного базальта. На камнях, у береговой линии прибоя, толстые ледяные шапки.
Здесь уже совсем зима. А в Ленинграде еще тепло, и по вечерам играют оркестры в садах, и фокусники выступают на открытой сцене в Парке Культуры и Отдыха.
Неужели, действительно, есть и Архангельск, и Ленинград, и Москва? Высокие дома с газовыми плитами и паровым отоплением, трамваи на улицах, запруженных тысячными толпами прохожих, проворные автомобили, асфальт, деревья, дворники, пожарные, кинотеатры?
Я вспоминаю ленинградский дом, в котором я живу, и нашу просторную улицу с тенистым большим садом, где всегда на дорожках играют дети, и мне становится и хорошо и грустно, что я так далеко от дома на этой бесплодной земле.
«Ну, что ж, — думаю я, шагая взад и вперед по берегу, — пройдет год, я вернусь назад, и сколько интересных историй я потом расскажу о нашей жизни на этом острове, об этой земле, о ее зверях, о ее ледниках. Год, — думаю я, — это не так уж и много. Прожили же здесь целый год зимовщики, которых мы сейчас сменяем, проживем и мы».
Вот они идут к нам по берегу. Такие же люди, как и мы. Только что-то, почти совсем неуловимое, отличает их от нас. Какая-то другая повадка. Вон как они идут: широко шагают, не спотыкаясь о камни, неторопливо поглядывают по сторонам, каким-то особым окриком останавливают собак.
Зимовщики подходят к нам, неуклюже здороваются, протягивая огромные почерневшие лапы, и рассаживаются прямо на обледенелых камнях.
Мы исподтишка наблюдаем за ними, они поглядывают на нас. Сразу как-то и разговор не вяжется. Не о чем говорить.
— Ну, что там новенького, на земле? — вдруг спрашивает здоровенный дядя, набивая прокуренную короткую трубку и искоса взглянув на нас. — По радио слыхали, что паспорта будто ввели?
— Как же, как же, — суетится Гриша Быстров, — вот сейчас, сейчас. — Он роется в боковом кармане, достает паспорт. — Вот, пожалуйста.
Сразу несколько рук протягиваются за маленькой серенькой книжечкой. Детина с трубкой осторожно берет ее двумя пальцами. Остальные зимовщики придвигаются и с жадностью заглядывают ему в руки.
— Паспорт, — читает детина. — Паспарт. Пашпорт. А дальше и не поймешь, по-каковски. Так. — Он бережно раскрывает книжечку, переворачивает странички. — Кем, когда выдан паспорт? — читает он. — 7-м отделением милиции г. Ленинграда. Вот ведь, — с удивлением говорит он, — целый год не видал живого милиционера.
Все смеются.
Разговор понемногу налаживается.
— Вы теперь и не узнаете милиционеров, — говорит геолог Савранский. — Важные такие, в белых перчатках. Каски-то при вас, что ли, ввели?
А Боря Маленький достает из кармана пачку папирос «Беломорканал» и показывает ее зимовщикам:
— Такие при вас были?
И незаметно начинается разговор — мы рассказываем о Большой Земле, они — о своей зимовке.
А от «Таймыра», покачиваясь на волнах, уже плывет первый карбас, доверху нагруженный сосновыми бревнами. Он подплывает к самодельной пристани, и матросы с карбаса орут:
— Держи конец! Конец держи — о камни вдарит!
Чорт его знает, как его надо держать, чтобы не вдарило о камни! Мы топчемся на пристани, бестолково размахивая руками.
— Ну-ка, дайте-ка, братцы, — протискивается детина с трубкой. Он хватает конец, прыгает прямо в ледяную воду и ловко подводит карбас бортом к дощатой обледенелой пристани.
— Скажите, пожалуйста, кто этот большой с трубкой? — тихо спрашиваю я одного из старых зимовщиков.
— А это наш бригадир, биолог Ионов. Он у нас спец по разгрузочной части, — отвечает зимовщик и бежит на помощь Ионову.
Один за другим плывут и плывут от «Таймыра» к берегу карбасы.
Бревна, фанера, доски, керосин..
Тяжелые железные бочки с керосином катаются по дну карбаса, раскачивают его из стороны в сторону. И пока мы думаем, как же нам выгружать бочки, — кто-то из старых зимовщиков приносит доски, веревки, бревна.
Из досок и бревен быстро сделаны сходни, веревка наброшена петлей на бочку.
— Раз, два, взяли! — зычно орет Ионов. Мы тянем за веревку изо всех сил, что есть мочи.
— Раз, два, дружно!
Пошла. Бочка переваливается через борт карбаса, одно мгновенье кажется, что она вот-вот упадет в воду. И снова кто-то из старых зимовщиков прыгает с пристани и, по пояс в ледяной воде, спокойно поддерживает бочку.
А к пристани уже подплывает карбас с листами фанеры.
— А ну, становись цепочкой! — горланит Ионов. — По рукам пойдет!
Ветер вырывает из рук, надувает как паруса огромные тонкие листы. Они грохочут и больно бьют острыми краями по коленям.
— Живо! Живо! Не зевай! — покрикивает Ионов. — Домой хочется. Милиционера посмотреть охота. А ну, поднажми!
Так проходит полдня.
Много мы поработали в Архангельске, а здесь пришлось еще круче. Все торопят, понукают, кричат. Все спешат. Не успеем мы присесть, закурить, вытереть пот со лба, как Ионов уже кричит, точно дудит в трубу:
— А ну, подымайсь!
Оно и понятно: все, кроме нас, торопятся поскорее разгрузиться и домой. Это только нам теперь некуда торопиться, это только мы здесь у себя дома.
В двенадцать часов на «Таймыре» поднимают флаг. Нам видно, как перестают работать лебедки, как матросы с карбасов по трапам и просто по веревкам взбираются на палубу. Стихают шум и крики, которые все время неслись с ледокола. И где-то далеко, — наверное, у домов зимовки, — начинает звонить колокол, который все эти два дня мы слыхали с «Таймыра».
Обед.
Пристань, у которой мы работаем, находится почти в километре от жилых домов зимовки: здесь удобнее разгружаться — тише, меньше камней.
Мы идем по берегу толпой. Теперь уже все перемешались, сразу даже и не отличить новых зимовщиков от старых.
Мы проходим мимо маленького аккуратного домика, стоящего далеко на отшибе от всех построек. Это магнитный павильон. В этом павильоне будут работать наши магнитологи — Ступинский и Гриша Быстров. Потом нам попадается длинный и узкий сарайчик, вокруг которого валяются лыжные палки, огромные обглоданные кости, заржавевшие консервные банки. У стен сарая свалены нарты, лыжи, какие-то шесты. Это — салотопка, собачий центр, каюрский департамент. Здесь разделывают убитых медведей, моржей, тюленей, перетапливают их сало, готовят собакам жратву, здесь хранится все каюрское снаряжение. Тут будут работать каюры Боря Линев и Стремоухов.
За салотопкой — ангар. Сейчас это только скелет ангара. У него нет ни стен, ни пола, ни крыши.
Для того-то мы и привезли сюда тысячу с лишним листов фанеры, чтобы сделать ангару и крышу и стены.
Мы прошли сквозь ангар, прыгая с балки на балку, и вышли наконец к главному дому зимовки.
Большой, длинный, с высокой крышей, обитый снаружи черным толем, он стоит, обращенный окнами в бухту, шагах в двадцати от берега.
Между окон дома развешены бело-красные спасательные круги. На крыше устроена вышка, и с тихим поскрипыванием быстро-быстро вращаются на шесте сверкающие полушария анемометра. И круги и вышка делают дом похожим на какой-то корабль, выброшенный на берег.
Двери дома распахнуты настежь. В широком и полутемном коридоре толчея, гам, крики. Под самым потолком висят фонари «Летучая мышь». Они горят желтоватым тусклым пламенем, стекла их мутные и закоптелые. По коридору мечутся какие-то люди, тащат чемоданы, ящики, мешки, кричат во весь голос, как на улице. Хлопают двери, стучат молотки, где-то звонко поет пила.
— Проходите, проходите, товарищи, — говорит Ионов, подталкивая нас. — Дальше проходите.
Одна из дверей в коридор распахнута настежь. Из двери валит синий, едкий чад. Здесь кухня. У раскаленной плиты, заставленной мисками, сковородками, чайниками, в дыму, в пару орудуют два повара. Тут и повар старой зимовки и наш Арсентьич. Работы хватает обоим: надо ведь прокормить орду в пятьдесят человек.
Ионов ведет нас дальше по коридору.
— Вот сюда, пожалуйте, — приглашает он.
Мы входим в большую комнату с низким почерневшим потолком. В комнате три маленьких окошечка, закоптелых, мутных, с навечно вставленными двойными рамами, из щелей которых торчит грязная вата. Стены обиты «вагонкой» — узкими ребристыми досочками, как в жестких вагонах поездов, Посредине комнаты в три ряда стоят длинные столы, покрытые цветной клеенкой. Столы заставлены грязной посудой, завалены хлебными корками, грязными вилками, ножами, ложками,
— Это наша столовая, — говорит Ионов. — Зовется она кают-компанией. И вы, наверное, ее так же будете называть. Садитесь, наливайте борща, кушайте. Сейчас-то, конечно, здесь кавардак, а в спокойное время все по местам лежит. Ну-с, угощайтесь.
В кают-компанию ежеминутно входят матросы, зимовщики. Они жадно осматривают столы, выискивают свободное местечко и так прямо, не раздеваясь, с грязными руками, в шапках, садятся за столы и торопливо едят.
Некогда. Надо спешить. На весь обед дано только тридцать минут. И вот уже снова звонит колокол: кончай обедать, выходи на разгрузку.
Снова бревна, фанера, бочки, ящики, мешки. Мы работаем без остановки, без отдыха до темноты.
На «Таймыре» загораются прожекторы. Они тревожно ощупывают бухту, далекий пролив. Капитан боится, как бы ночью к ледоколу не подкрались с приливом льды. Льды могут сорвать ледокол с якорей и выбросить его на берег.
С последним пустым карбасом мы уплываем обратно на «Таймыр».
А наутро, чуть рассвело, снова на берег, за работу.
Так продолжалось два дня. На третий день мы совсем переселились на берег.
— Чего вам зря мытариться-то, — говорили нам старые зимовщики. — Приютим, потеснимся. И спать-то каких-нибудь пять часов в ночь, а канители — как на свадьбе. Оставайтесь.
Поздно вечером, разгрузив последний карбас, все разбрелись куда-то, разошлись искать себе пристанище на ночь, и мы остались на берегу вдвоем с Борей Линевым.
— Ну, куда же мы с тобой денемся? — сказал я.
— Давай-ка устроимся в бане, — предложил Боря. — Наверно, она еще не занята.
— Ну, нет, — сказал я, — у меня есть местечко получше. Мы библиотеку захватим. Про библиотеку никто из наших еще не знает, она в новом доме, в фанерном. Идем к Потапову. Ключ от библиотеки у него.
Потапова мы отыскали в продуктовом складе. Он сидел на мешке с мукой и отмечал что-то в большой измятой и истрепанной ведомости. Наш Наумыч с фонарем в руке ходил по складу и громко диктовал:
— Консервов мясных 12 ящиков по 64 банки. Записал мясных? Консервов рыбных: бычки в томате — 26 ящиков по 48 банок…
Заметив нас, Наумыч остановился.
— Вы чего, хлопцы?
— Да вот, ночевать нам негде, хотим в библиотеке устроиться. Ключ бы взять..
— Там же спать не на чем, — сказал Потапов. — Возьмите хоть спальные мешки. Вон в углу лежат.
Мы выбрали себе по мешку, взяли у Потапова ключ и отправились в новый фанерный дом.
Здесь было тихо, чинно, тепло. Мы заглянули в одну дверь — в темноте смутно виднелись какие-то провода, столы, заставленные приборами, склянками, металлическими коробками.
— Лаборатория, — тихо сказал Боря Линев.
Заглянули в другую — тоже лаборатория.
Рядом со второй лабораторией помещалась библиотека. Мы долго шарили по стене около двери, отыскивая выключатель. Наконец Боря зажег спичку.
Ни проводки, ни лампочки нигде не было видно. Только на столе валялся огарок стеариновой свечи.
Мы зажгли огарок и осмотрелись. Комнатка была маленькая, об одно окно. По стенам, от самого пола до потолка, шли сосновые некрашеные полки, сплошь заставленные книгами.
Мы разложили мешки прямо на грязном холодном полу. Боря остался в библиотеке, а я вышел в коридор — хорошенечко осмотреть дом.
По обеим сторонам коридора, на расстоянии шагов пяти друг от друга, в стены были вделаны круглые железные печи. Дверцы их были наглухо закрыты, и только в поддувалах мерцал розовый свет.
На двери в конце коридора висела бумажка с надписью: «Лаборатория по изучению радиоволн». Я приоткрыл дверь и заглянул в большую, тускло освещенную керосиновой лампой комнату.
Вдоль ее стен тянулся узкий стол в две доски. На столе стояли приемники, батареи, бутыли с кислотой, переключатели, аккумуляторы. В комнате были натянуты антенны, пол завален стружками, соломой, досками от разбитых ящиков.
В конце комнаты у стола сидел Вася Гуткин, а напротив него — заросший рыжей щетиной круглолицый человек в солдатском ватнике. Они тихо и серьезно о чем-то разговаривали. Вася Гуткин не спускал глаз с круглолицого.
«Принимает свою лабораторию», — подумал я, тихо входя в комнату.
Я прислушался к разговору. Нет, что-то не то.
— Печку придется топить каждый день, — медленно и строго говорил круглолицый. — Топить, конечно, каменным углем. Ведерко сожжешь — и хватит. Заведи себе отдельное ведро, совок, кочережку.
— А уголь у вас где? — спросил Вася.
— Да, вот с углем. Хорошо, что напомнил. Я тебе вот что скажу. Не поленитесь, устройте засветло аврал, поработайте хорошенько. При доме, я потом покажу, есть угольник. Сейчас же из сеней, налево. Видал? Ну вот, это и есть угольник. Как только мы уедем, сейчас же набейте его до самого верха. Потом, в полярную ночь, как завернет штормяга, до угля, который на улице, и не доберешься. Обязательно надо набить сарай. И зря не расходуйте этот уголь. Пока только можно будет — берите с улицы. Ну, а когда уж совсем занесет, тогда начинайте сарай.
— Да разве одного сарая хватит на всю ночь?
— Хватит, — уверенно сказал круглолицый. — Конечно, если зря уголь не тратить.
— А печи-то хорошие? — спросил я, подходя к столу.
Круглолицый посмотрел на меня, пожал плечами.
— Разные печи. Где хорошие, где плохие. Вы в какой комнате будете жить?
Я посмотрел на Васю.
— Я не знаю, — сказал я. — Нac еще не распределили. То есть распределили, но еще не сказали.
— А вы кто?
— Он метеоролог, — сказал Вася. — Ромашникова помощник.
— Метеоролог? Значит, в этом доме будете жить. Здесь ваша лаборатория, здесь и жить будете.
— А здесь не холодно? — испугался я. — Ведь дом-то вроде фанерный?
— Если топить, так не холодно. Ну, а если не топить, то, конечно, вода замерзнет.
— А интересно бы посмотреть, как эти печки топятся, — робко сказал я. — Сроду каменным углем не топил.
— Ну что ж, можно показать, — усмехнулся круглолицый, — дело не хитрое.
Мы вышли в коридор.
— Васька, — шепнул я Гуткину, — кто это?
— Инженер Архангельский, профессора Бонч-Бруевича правая рука, — зашептал Вася.
Архангельский открыл дверцу одной печки, присел на корточки и, заслоняя лицо рукой от яркого, горячего огня, сказал:
— Ну, вот видите, как пылает? Прямо как солома, и не подумаешь, что это каменный уголь.
— Хорошо горит, — проговорил я. Но Архангельский посмотрел на меня, покачал головой и сказал:
— Плохо горит. Никогда не топите так. Это не уголь горит, а керосин. Облили уголь керосином и подожгли. Вот керосин пропыхнет — и все, а уголь спечется коксом, и печка будет такая же холодная, как и до топки. Надо растапливать не керосином, а лучиной. Это, правда, дольше, но зато верней. Уголь тогда горит ровно, белым огнем, печка нагревается равномерно и основательно. Помешивать надо вот так, из-под низу. — Он взял кочережку и ловко стал ворошить пылающий уголь. — Подбрасывать помалу, чтобы не заглушить огонь, — продолжал он. — А всего на печку надо не больше одного ведерка угля.
Потом он показал нам, как надо чистить колосники, как шуровать и когда закрывать печку, чтобы не было угара.
— Вот и вся премудрость, — сказал он, поднимаясь с корточек. — Ничего, привыкнете, научитесь. Мы тоже сначала не умели. Ну, а теперь идем, Вася. Нужно ведь и лабораторию сдавать.
Они ушли к себе в лабораторию, а я вернулся в библиотеку. На полу валялось уже три спальных мешка, а на мешках сидели Боря Линев и второй каюр — Стремоухов. При свете свечки, вставленной в патрон от электрической лампочки, они писали письма. Бумага лежала у них на коленях.
Боря Линев оторвался от письма и посмотрел на меня.
— А нашего полку прибыло, — сказал он. — Вот еще один постоялец забрел на огонек. Хотел было, чудак этакий, на чердаке устраиваться. Чай, поместимся втроем?
— Поместимся, — сказал я.
— Ну, а у тебя что новенького? — спросил Боря. — Где был?
— Да ничего. Печку учился топить. Хитрое, ребята, дело.
Боря поковырял в ухе.
— Мы уж тут со Степаном говорили. Конечно, хитрое. А ты смотри, какие они все жигулястые, ловкие, всё умеют, собаки. Им-то, конечно, легко. Наборзели за год-то. Ты вот бегаешь, бегаешь, с ног собьешься, прежде чем какой-нибудь топор найдешь, — а у них все под рукой. Дружный народ, хозяйственный.
— Под рукой, потому что знают, где что лежит, а мы как слепые щенята, — проворчал Стремоухов, поднимая от бумаги свое сухое, тонкое лицо с прямым носом, с узкими бледными губами. — Сегодня их каюр как начал частить — Рубини-Рок, Скот-Кельти, остров Мертвого Тюленя, остров Живого Тюленя. Сыплет, сыплет, — можно подумать, что он тут лет сто прожил.
— Ничего, и мы через год такие же будем, — сказал Боря и, вздохнув, добавил: — Пиши письмо, передашь со старыми зимовщиками. Ленинградцев много — прямо домой отнесут.
— Нет, ребята, спать. Завтра вставать в пять утра. Спать! Спать!
Не раздеваясь, только сняв сапоги, мы забрались в спальные мешки. Мешки широкие, длинные, просторные. Мы залезли в них до самых плеч, подложили под головы книги — на всех одного Пантелеймона Романова хватило — и долго еще возились и пыхтели, устраиваясь поудобнее.
— Скоро и мы на кроватях спать будем, — мечтательно сказал Боря, возясь в мешке. — Пусть уже старики поблаженствуют последние денечки.
— А кто же гасить будет? — вдруг испуганно спросил Боря.
Свечка стояла на полу в другом конце комнаты.
Мы молчали. В мешке было тепло, не хотелось вылезать, а потом забираться обратно и укладываться в темноте. Я притворился спящим.
— Я тушить не буду. Должен тушить последний, — опять проворчал Боря. — Не я последний ложился.
— А ты дунь хорошенько, — прогудел Стремоухов. — Дунь, она и потухнет.
Боря дунул. Свечка не потухла. Боря дунул еще раз — свечка попрежнему горела. Тогда приподнялся с пола Стремоухов.
— Ну, давай вместе. Раз, два, три.
— Нет, — сказал Боря, — мы очень влево берем. По пыли видно, что влево. Ну, давай еще.
Теперь и я присоединился к огнетушителям. Втроем мы дули на свечку до тех пор, пока не заболели скулы. Наконец свечка потухла.
Так мы научились первому полярному правилу: когда спишь в спальном мешке, все должно быть под рукой.
Собаки
— Сегодня собак принимать будем, — сказал Боря Линев, вылезая поутру из спального мешка. — Хороши у них собаки. Прямо львы. — Он почесался, протяжно зевнул и добавил: — Добрые собаки, не нашим чета. Степан, бирки сделал?
— Бирки, бирки, — заворчал Стремоухов. — Конечно, сделал, тебя не ждал. — Он еще лежал в мешке. Желтое, сонное, опухшее его лицо выглядывало из дыры мешка. — Небось, сам-то не позаботился. Все Степан да Степан. Что — у меня сто рук, что ли, одному все делать? И лед на такую орду таскай, и уголь, и туда, и сюда. Ехали каюрами, а тут в каких-то кухонных мужиков превратились. Шестой день стоим, а ни разу даже ружья в руки не взяли.
— Да ты что — обалдел? — сказал Боря. — Ведь аврал же. Ведь все работают. Какая же тут охота? Уйдет корабль — охоться себе на здоровье. Что ты, Степан?
Стремоухое высунулся из мешка и посмотрел на Борю злыми, желтыми глазами.
— Птица ждать не будет, пока у вас тут аврал. Еще пять дней — и последние улетят. Сам бы сообразить мог. Тоже ведь, как ни как, каюр.
— Ладно, будет скулить, — сердито сказал Боря. — Одевайся вот лучше, чем трепаться-то..
Брюзжа и отругиваясь, Стремоухов неторопливо вылез из мешка. Первым делом он вытащил из кармана маленькую, с поломанными зубьями гребеночку и принялся делать себе пробор. Он тщательно расчесал жиденькие волосы на обе стороны, старательно пригладил их руками.
Наконец он оделся, и мы все вместе вышли из дома.
У ангара скулили и завывали привязанные на железных цепочках собаки. Каюр старой зимовки Кунашов, жилистый, длиннорукий детина, ходил вокруг собак. Он держал целую связку каких-то ремней с железными ржавыми карабинчиками, маленькие, подбитые войлоком хомутики, заскорузлые ошейники.
Собаки смотрели на Кунашова умоляющими, грустными глазами, рвались на привязи и скулили. А поодаль, на кучах прелого мусора, пустых консервных банок, полусгнивших досок и тряпок чинно сидели наши псы — и Байкал, и Жукэ, и Серый, и Торос, и Старик, и Лысый.
Наши собаки подозрительно следили за Кунашовым, а когда он зачем-то подошел к ним поближе, они забеспокоились, насторожились. Байкал даже отошел в сторону и сел, сердито подняв на загривке блестящую черную шерсть.
Началась передача собак.
Кунашов заглядывал в листок бумаги и выкликал:
— Колымская ездовая лайка, кличка — Чавр, — и, подойдя к собаке, дергал цепочку, на которой она была привязана. Линев и Стремоухов хватали собаку за ошейник и проволочкой прикрепляли ей на шею фанерную бирку с кличкой. Собак-то много, разве всех упомнишь!
Около Вайгача — низкорослого, кривоносого пса с четырехугольной бульдожьей мордой — завязался горячий спор.
— Да у него же подшерстка нет! — кричал Боря Линев и пинал Вайгача ногой — На что он нам сдался! Фокусы, что ли, с ним показывать?
— На котлеты его! — хохотал Стремоухов. — Вот свежее мясо кончится, так мы за него возьмемся!
Но Кунашов был невозмутим.
— Это уж дело ваше, хозяйское, — говорил он безразличным голосом. — Можете хоть компот из него варить. Как хотите. Только, кстати скажу, такого медвежатника, как Вайгач, вам нигде не найти.
Вайгач сидел, полузакрыв глаза. Мягкие замшевые его уши болтались, как у слоненка, из углов огромной, захлопнутой, как сундук, пасти свисали столбики блестящей слюны.
— Скажи на милость, — с удивлением разглядывая Вайгача, проговорил Боря Линев. — Такая харя, а медвежатник. Ну, раз медвежатник — придется оставить. Давай дальше.
Кунашов заглянул в бумажку.
— Вожак первой упряжки, колымский ездовый кобель, кличка Чакр. Поет «уа».
— Что поет?
— Поет «уа».
— Как поет? Почему?
— А так. Не умеет лаять. Другие собаки лают, а Чакр поет.
— Будет трепаться-то, — недоверчиво сказал Боря, с опаской посматривая на круглого, как бревешко, страшного кобеля с обрубленным толстым хвостиком.
Глаза у него были совершенно белые, без зрачков, совсем как у мраморных статуй. На черно-пегой короткой злой морде точно светились два белых глаза.
Кунашов улыбнулся:
— Верно, поет. А ну, Чакруша, спой. Уа! Ну, Чакара! У-а, у-a, у-a, уу-у-у-а-а-а, — завыл Кунашов.
Чакр шевельнул черной колбаской обрубленного хвоста, забеспокоился, завозился, поднял морду, разинул красную, с подпиленными желтоватыми клыками пасть и запел. Не завыл, не заскулил, а запел:
«У-у-у а-а-а; у-у-у а-а-а.»
Наши собаки — Байкал, Лысый, Штоп, Жукэ — подняли дикий лай. Серый принялся было подпевать Чакру, но вместо пения из глотки у него вырвался какой-то хриплый вой. Кунашов посмотрел на Серого с состраданием и сказал:
— Не тот голос.
А Боря Линев швырнул в него чуркой и заорал:
— Замолчи, зараза!
Потом Кунашов подошел к красивой поджарой собаке, грустно сидевшей в стороне от всех.
— А это — Милька, — сказал Кунашов. — Она слепая. В двух шагах ничего не видит. То ли от снега ослепла, то ли еще от чего.
— В упряжке-то ходит? — недовольно спросил Стремоухов.
— Ходит. Ты ее ставь последней, она тебе всю упряжку будет гнать. Чуть передняя заленится, Милька спуску не даст. Не простит.
— Кусает?
— Обязательно. Больная только. В больших переходах кровь горлом идет.
— А вот это Волчок, — сказал Кунашов, показывая на маленькую пегую собачонку, тоскливо поглядывавшую куда-то в бухту. — Он еще называется у нас «Дежурный по берегу». Вы сами увидите его работу. Как только с привязи его спустишь, так он сейчас же на берег, усядется на камень и сидит, зверя караулит. Он всегда первый сигнал подает. Медведь ли покажется, нерпу ли, птицы ли пролетят — ничего не пропустит. Так и дежурит дни и ночи напролет, без смены, без выходных дней.
Волчок посмотрел на Кунашова, завилял хвостом и снова уставился в бухту.
— Интересная собака, — сказал Боря Линев, — музейная, прямо.
Одну за другой перебрали каюры всех собак. Про каждую Кунашов рассказывал что-нибудь интересное.
Вот Урал — огромный, прямо с теленка, толстолапый, грудь как тумба. Так — добрый пес, спокойный, а вот начни при нем ласкать другую собаку — теленок сразу тигром становится. Или тебя за руку тяпнет, или собаку задерет.
Вот Альт. Этот только и норовит драку затеять. Втравит всех собак в свалку, а сам отбежит в сторону и посматривает.
Наконец все собаки представлены нам. Остались только четыре рослых, длинноногих щенка.
— Ну, им на всех четверых отпущено одно имя, — говорит Кунашсв. — Вся орава называется «Буяны». Все равно их друг от друга ни за что не отличить.
И верно. На нас смотрели четыре совершенно одинаковых пса. У всех у них были одинаковые морды, одинаковые лапы, одинаковые остренькие уши, одинаковые пушистые хвосты, и даже на груди у каждого были одинаковые белые пятна.
Целый день провозились каюры с собаками.
Поздним вечером, когда кончились все работы, когда в домах и на «Таймыре» зажглись огни, все наши зимовщики сошлись у крыльца бани, покуривая и тихо разговаривая.
— Ну, и навезли мы собачек, — медленно говорил в темноте Боря Линев. — Разве это собаки? С ихним Чакром ни одну не сравнить. Куда нам с нашими дворнягами соваться? Наверное, они и упряжки-то никогда не видали. Может, и не пойдут вовсе…
— Будем на ихних ездить, — строго сказал Ромашников. — Хватит нам и ихних собак. — Он помолчал и важно, как старый опытный полярник, добавил — Учить надо. Сама собака в упряжке не пойдет.
Стремоухов хмыкнул:
— И лед таскать, и уголь таскать, и собак учить. Благодарю покорно.
— Без тебя выучим, — сказал Гриша Быстров, зевая. — Ну, пойду-ка я спать, ребята. Я на полу в амбулатории устроился. Эфиром вот только воняет, а так — ничего. Эх, скорей бы уж одним остаться: цыганский табор какой-то.
Боря Линев потушил о каблук папиросу и сказал:
— Успеешь еще один-то пожить. Еще наплачешься.
Последний день
На другой день Наумыч собрал всех нас в комнате у Потапова. В комнату набилось девятнадцать человек — грязных, небритых, пропахших потом, табаком, псиной от спальных мешков. Те, кто пришел пораньше, расселись на стульях, на кровати, остальным пришлось стоять.
— Все собрались? — спросил Наумыч.
— Все.
— Ну так. — Наумыч вытащил из-под груды бумаг на столе какую-то записочку, положил ее перед собой. — Сейчас, товарищи, я объявлю, кто где и с кем будет жить на зимовке. Только чур, без крика. Хорошо?
Все притихли, придвинулись ближе к столу, не спуская глаз с Наумычевой записки.
— Сначала маленький дом, — сказал Наумыч и заглянул в бумажку. — Здесь будут жить пять человек. По одному в комнате. Значит, вот кто: метеорологи Ромашников и Безбородов, радиоволновик Гуткин, летчик Шорохов и Боря Маленький.
— А почему они? — спросил кто-то сзади.
— Почему они, а почему не ты? А вот почему: у Гуткина там лаборатория, у метеорологов — тоже. Нельзя же, чтобы люди бегали в свои лаборатории за полверсты, — верно? А летчику и бортмеханику просто надо дать по отдельной комнате. У них работа такая, что им как в санатории жить надо. А вдвоем, что там ни говори, все-таки стеснительно. Теперь дальше. Большой дом. Здесь есть о чем поговорить. Каждому по отдельной комнате тут не выйдет. Некоторым придется жить вдвоем.
Наумыч осмотрел нас, точно выбирая, кого бы с кем ему поселить. Все затихли, совсем перестали дышать.
— Соболева, — сказал Наумыч, — поселим с Каплиным, пусть оба аэролога вместе живут. Не подеретесь?
— Да нет, чего же нам драться, — сказал Леня Соболев. — Не подеремся..
— Так. Одна пара есть. Савранский будет жить с Быстровым.
— Только чтобы он по ночам не читал. А то я при свете спать не могу, — сказал Савранский.
— А ты камни в комнату не таскай, — отозвался Гриша Быстров. — Я с камнями жить не буду.
Наумыч постучал по столу карандашом.
— Ну, ладно, ладно, сговоритесь там. Дальше. Товарищ Лызлов поселится вместе с профессором Горбовским. Тут, правда, есть маленькая загвоздочка. Вы курите, Михаил Николаич?
— Нет, я не курю, — строго сказал Лызлов.
— Не курите. Так. Я уже об этом думал. Ну, придется Горбовскому приспособиться не дымить в комнате, или проветривать хорошенько, или еще там что-нибудь.
— Я ничего не имею против того, чтобы в комнате курили, — опять строго сказал Лызлов. — Пожалуйста.
— Вот и отлично, — обрадовался Наумыч. — Каюров тоже поселим вместе. Их я и не спрашиваю. Они всегда будут вместе — ив экспедициях и на отдыхе, так что и жить вместе, должны. Оба курят. Всё в порядке. Верно?
— Верно! — крикнул Боря Линев.
— Дальше. — Наумыч заглянул в свою записочку. — Иваненко мы поселим вместе со Сморжем.
— Это еще кто такой?
— Откуда взялся?
— Какой там Морж? — закричали все кругом.
— Не Морж, а Сморж, — сказал Наумыч. — Это таймырский матрос, плотником просится остаться. Ну, а нам плотник не мешает, вот я и взял его. Придется уж тебе, Костя, с ним пожить. Ну как, согласен?
— Чего же вы спрашиваете? — недовольно сказал Костя. — Раз по-другому не выходит, и спрашивать нечего. Проживем как-нибудь и с Моржом. Смешное дело.
— А у трех человек, — продолжал Наумыч, — будут отдельные комнаты: у меня, у Стучинского и у повара Крутицкого. Почему так? А вот почему. Повару работы будет до чорта и без выходных дней, без смены. С утра до ночи. А Владислав Арсентьич человек в летах, — пожалуй, самый почтенный на зимовке. Да еще ему учиться надо. Человек он не шибко грамотный. А коммунисту нельзя быть неграмотным.
— Конечно, дать ему комнату, — закричали со всех сторон. — Только пускай кормит как надо!
— Квас, Арсентьич, не забудь! — крикнул Вася Гуткин. — Квасок!
Наумыч постучал по столу и продолжал:
— Стучинский у нас — старший геофизик. Так сказать, мой помощник по научной части. Это во-первых. А во-вторых, есть еще причина поселить Стучинского одного. Уж я вам прямо скажу, все равно этого не спрячешь: Виталий Фомич привез с собой скрипку и будет каждый день по два часа упражняться.
— Одного! Поселить одного! — закричали все хором.
— То-то и оно, — смеясь сказал Наумыч. — Уж лучше с камнями жить, чем со скрипачом. Вы уж меня, Фомич, простите, что я так говорю, но дело серьезное.
— Да нет, что же, пожалуйста, — смущенно ответил Ступинский. — Я понимаю.
— Ну, а чтобы соседи не взбунтовались, я его в самую крайнюю комнату помещу, а рядом сам поселюсь. Мне все равно, чего он там будет выпиливать — камаринского или какую-нибудь там центрофугу. Меня этим не проймешь. Ну, и еще остаются двое — радист Рино и механик Редкозубов. Они будут жить в радиорубке. Вот и всё, товарищи. Ну, кажется, пронесла нелегкая. Я-то, признаться, побаивался. Думал — добром не сговоримся. А теперь — разбирайте свои вещи и вселяйтесь в комнаты. Вечером будет прощальный ужин со старой зимовкой. Так сказать, банкет. К ужину всем побриться, подстричься, привести себя в порядок. Форма одежды — парадная: галстуки и воротнички. Ногти обстричь, уши вымыть. Есть?
— Есть! Будет исполнено! Айда, ребята, по домам! По квартирам!
С грохотом, с криком мы вывалились из комнаты Наумыча в коридор.
Значит, Архангельский был прав. Я буду жить в новом доме.
«Конечно, хорошо, — думал я, — что у меня будет отдельная комната, но домик-то очень уж жидкий. Замерзнешь, поди, как собака на заборе».
Я нашел свою комнату. Она была уже пустая. Перетащив из библиотеки свои чемоданы и мешки, я свалил все свое имущество прямо на пол, на грязный линолеум и, даже хорошенько не разглядев свое жилище, побежал смотреть, что делается на зимовке.
Во всех комнатах двери — настежь. Выносят и вносят мешки, чемоданы, тюки. Прямо в комнатах пилят доски, заколачивают ящики. Из кают-компании каюры выволакивают пианино.
— Куда вы, ребята? Зачем?
— Освобождаем для пиршества!
Сморж, коренастый длиннорукий парень в полосатой матросской тельняшке, бегает по коридору, распоряжается, кричит, чувствует себя уже совсем как дома. Он завладел огромным граммофоном с помятой белой трубой, который оставляют нам старые зимовщики, втащил его к себе в комнату, и через минуту оттуда уже несся бравый марш «Бой под Ляояном».
Беготня, гам, стук молотков, рев граммофона.
На прощанье старые зимовщики дарят нам на память свои вещи. Кто что может. Механик сделал каждому из нас по мундштуку из моржового клыка. Соболеву достались почти новые альпийские ботинки. Редкозубов получил в подарок карточку какой-то киноартистки, Наумыч — нож с красивой наборной ручкой, Ромашников — резиновые сапоги, Боря Линев — медные гильзы для двухстволки.
— Берите, берите, пригодится, — говорят старые зимовщики и суют нам то шапку, то книжку, то рукавицы.
— Да зачем же? Вам самим надо!
— Мы домой едем, а вы остаетесь. Берите, чего там…
Неужели, действительно, сегодня ночью все эти люди уплывут от нас на далекую родную землю, а мы останемся здесь одни?
Я слоняюсь по комнатам, по коридорам. Мне и грустно, и немного страшно, и очень жалко себя. Так бывает в детстве, — наплакавшись всласть, забьешься куда-нибудь в уголок и целый вечер думаешь: какой ты несчастный, обиженный, покинутый всеми, — и от этих мыслей становится горько и в то же время как-то радостно.
К восьми часам в кают-компании накрыты длинные столы. Столы заставлены тарелками с колбасой, сыром, жареным мясом, целыми блюдами пирогов, банками консервов. На тонких ножках возвышаются вазы с яблоками, с конфетами и печеньем. Длинной шеренгой выстроились посреди каждого стола темные, толстые бутылки.
С «Таймыра» приплывает капитан со всеми помощниками, с боцманом, с лучшими матросами-ударниками.
Не только мы, но и старые зимовщики приоделись, побрились, почистились. Теперь уже мы хозяева, а они — наши гости. Мы просим их к столу, покушать на дорогу, в последний раз на Земле Франца-Иосифа.
За средним столом сидит наш Наумыч. На нем черный морской китель с нашивками, белая наглаженная сорочка, галстук.
Слева от Наумыча — Потапов в зеленом френче, с орденом боевого Красного знамени. Сразу даже и не узнать Потапова. Все эти дни суетился и бегал по зимовке толстый приземистый человечек в засаленных ватных штанах, в драной фуфайке, небритый, грязноволосый. А сейчас сидит этакий щеголь!
Когда все наконец рассаживаются, встает со своего места Наумыч.
Опираясь о стол руками, он медленно осматривает кают-компанию. Он долго молчит.,
Тихо в кают-компании. Я поглядываю на своих товарищей. Вон Боря Линев — спокойный, крепкий, загорелый. Он задумчиво склонился над столом и чертит вилкой по клеенке. Вот Гриша Быстров. Ему и сейчас не сидится на месте. Он ерзает по скамейке, вертит головой, ковыряет в ухе. Вон сидит Лызлов — неподвижный, точно вырезанный из дерева человек. Леня Соболев посасывает потухшую трубочку и чему-то улыбается, глядя на потолок. Боря Маленький что-то быстро шепчет Шо-рохову, точно в чем-то оправдывается. Лицо у Бори обиженное: наверное, Шорохов опять за что-нибудь отругал его.
И мне кажется, что старые зимовщики все какие-то дружные, спокойные, сдержанные, а мы — как разношерстное стадо.
Наумыч медленно поднимает бокал:
— Позвольте, товарищи, считать, как говорится, открытым это последнее свидание двух зимовок. За дружбу! За славное племя советских полярников!
— Ур-р-р-а-а-а! — закричали зимовщики, матросы, командиры. Загремели, задвигались стулья, зазвенели стаканы.
— Ну, хозяева, угощайте! — прокричал Потапов.
Угощать мы не умеем, никак еще не привыкнуть нам к новой роли хозяев Земли Франца-Иосифа.
— Угощайтесь сами, чего там! — кричит Гриша Быстров.
Пир начался.
____________
Под утро от берега отвалила последняя шлюпка.
Медленно шла она по спокойной тихой воде бухты. Вот она причалила к ледоколу. Маленькие черные фигурки взобрались по веревочному трапу на корабль. Потом подняли на корабль и шлюпку.
Сияя огнями, стоял в бухте «Таймыр». Из трубы лениво выползал беловатый жиденький дымок.
Гриша Быстров, Наумыч, Костя Иваненко и я собрались на берегу, около опрокинутой большой лодки. Мы были уже одни на этой полярной земле.
Наумыч роздал нам картонные коробки винтовочных патронов. Мы зарядили винтовки, выстроились в ряд.
— Раз, два, три!
Залп. Еще залп. Еще.
Низкий страшный гудок ледокола протяжно ответил нам.
Разбуженные пальбой, скуля и завывая, сбежались собаки. Они уселись у самой воды и уставились на корабль. Байкал подошел ко мне, потерся крепким лбом о коленку, зевнул и лег у моих ног.
Была холодная безлунная ночь.
Вся зимовка уже спала. Мы хотели дождаться, пока ледокол тронется в путь.
Но он все стоял и стоял.
— Пойду спать, — сипло сказал Наумыч. — За десять суток и не прилег даже как следует. Пойдем-ка, Костя.
Они ушли, и мы с Гришей остались вдвоем.
В море стало светать. Вдали, в проливе, быстро проплывали, будто спешили куда-то белые льдины. На ледоколе погасили огни.
В 7 часов утра на носу ледокола загремела лебедка: выбирали якорь.
— Смотри, смотри, пошел!
«Таймыр» медленно, с опаской стал разворачиваться носом на юг. Три хриплых гудка прокричали:
— Прощайте! Прощайте! Прощайте!
Вспарывая стеклянную воду, ледокол взвыл пронзительной, тоскливой сиреной и, растягивая за собой в небе длинную ленту густого черного дыма, пошел на юг, в открытое море, домой, к Большой Земле.
Мы стали поспешно стрелять. Сзади тоже вдруг послышалась сухая револьверная стрельба. Я оглянулся. Из форточки Наумычева окна торчала толстая волосатая рука с наганом.
На крыльцо выскочил заспанный Соболев. Рыжий полушубок он накинул прямо на нижнее белье.
— Леня, уходит! — закричал я.
— Уходит. Уходит. Вижу, что уходит.
Он стоял, дрожа от холода, и глядел на удалявшийся пароход.
А «Таймыр» стал уже маленькой черной точкой. Только дым все еще висел в спокойном утреннем воздухе, да колотились в прибрежные камни большие волны, поднятые ледоколом.
Вышел Боря Линев. Он зевнул, ударил ногой подвернувшуюся собаку, оскалил крупные белые зубы.
— Ушел?
— Ушел, Боря. Теперь конец.
Я побрел домой. Прошел мимо черной, закопченной бани. Дверь в баню была открыта. На полу спали собаки.
Я поднялся на крыльцо своего дома и еще раз оглянулся. «Таймыр» уже скрылся за горизонтом. Пустынный берег был завален ящиками, бочками, бревнами. На черном большом камне неподвижно сидел Волчок — дежурный по берегу.
Бухта была пуста.
Тишина.
Мы остались одни.
Зимовка началась.
Глава четвертая
Одни
Сквозь сон я услышал отдаленные, мерные удары колокола. «Верно, это на завтрак. Пора вставать», лениво думаю я. Но вставать не хочется. В доме тихо, все еще спят. Я поворачиваюсь на другой бок и с головой закутываюсь в одеяло.
Но вдруг страшный визг, разбойничий свист, молодецкие выкрики и удары медных тарелок потрясают стены нашего спящего дома. Кто-то с треском распахивает дверь в коридор, и оглушительный вой и рев наполняют весь дом.
Это орет в комнате Шорохова патефон.
Ботинки чищу, До блеска чищу! Я чищу, чищу И не устаю,— выкрикивает патефонный голос.
Это утесовский «Яшка-коммивояжер». Шорохов знал, что завести, чтобы сразу разбудить нас!
Во всех комнатах начинается возня, кто-то кричит: «Остановите эту чортову музыку», хлопают двери, гремят рукомойники. А патефон все орет и орет.
Так просыпается наш дом. Мы должны прийти на завтрак раньше всех и все вместе. Наумыч приказал, чтобы с первого же дня к завтраку приходили без опозданий.
Мы выходим из дома.
Какая тишина! Солнца не видно, оно спряталось за густую пелену низких серых облаков. Медленно, с легким шорохом ползут по бухте льдины. Далекие острова и купола ледников — в белесоватой легкой дымке тумана.
Вот здесь несколько часов назад стоял пароход, гремели лебедки, перекликались матросы. А сейчас — тишина, покой, пустыня. И место, где стоял пароход, уже затянула тонкая корочка молодого льда.
Вдалеке по берегу бредет человек. «Ну, мало ли кто это может ходить», равнодушно думаю я, и вдруг мне становится почти страшно. Ведь это же обязательно кто-нибудь из наших! Кроме нас, двадцати человек, никто ведь не живет на тысячи верст кругом! Целый год ни один человек, чужой, посторонний человек, не пройдет по берегу, не подплывет на лодке, не зайдет вечером на огонек.
В кают-компании еще никого нет. Костя Иваненко бродит по кухне, ворчит и чертыхается.
— Чорт их знает, где у них блюдца. Весь дом обыскал, нет блюдцев. Что они их с собой, что ли, увезли?
— А ты по радио запроси, — где, мол, у вас, ребята, блюдца? — советует Ромашников.
— Робинзон Крузо двадцать лет без блюдца чай пил, а мы уж один год не можем, — говорит Боря Маленький, наливая кофе в большую кружку.
Шорохов перестает намазывать маслом хлеб, кладет нож.
— То есть как это без блюдцев? Мало ли кто без блюдцев чай пил! Придумал тоже — Робинзон Крузо! Робинзон Крузо, брат ты мой, кто был? Робинзон Крузо был дикарь, а тебе стыдно бы такие вещи говорить…
Приходит Наумыч. Он по-хозяйски оглядывает накрытые столы, потом идет на кухню, чтобы распорядиться насчет обеда, и, вернувшись, грузно садится на свое место — во главе большого стола.
Один за другим сходятся зимовщики в кают-компанию.
— Камчатка-то первая привалила, — говорит кто-то, и наш дом сразу и на весь год получает прозвище «Камчатка», а мы, его обитатели, — камчадалов.
Каждого входящего в кают-компанию встречают веселым криком:
— Здорово! Доброе утро! Садись к нам! К нам, к нам давай!
Стремоухов заходит в кают-компанию прямо в шапке, и Наумыч отправляет его назад в коридор, где у нас устроена вешалка.
— Разденься! Не в шинок лезешь!
Звенят стаканы, ножи, тарелки.
Мы наперебой рассказываем друг другу, кто видел какой сон и как трудно было сразу, проснувшись, сообразить, где ты, и как будили Борю Маленького. А Гриша Быстров немедленно предлагает сконструировать для Бори автоматический будильник безобидного действия, чтобы в 7 часов утра опрокидывалось на Борю ведро воды или падало тяжелое полено.
— Очень просто! — горячится Гриша. — Ей-богу, могу сделать.
И сразу начинает чертить вилкой на клеенке параллелограммы сил и равнодействующие.
Вдруг отворяется дверь, и, шлепая калошами, входит в кают-компанию Сморж. Он только что встал и даже еще не умывался. Он похлопывает себя по голым рукам и осматривает кают-компанию.
— А где ребята? — зевая говорит он.
— Какие, Жоржик, ребята?
— Таймырские, — спокойно отвечает Сморж и достает папироску.
— Хватился. В огороде бузина, а в Киеве дядька, — хохочет Наумыч.!
Папироска так и остается недонесенной до рта. Сморж испуганно озирается, сует папироску за ухо, начинает часто мигать.
Поднимается такой хохот, что даже повар Арсентьич выходит из кухни, держа в руке огромный нож, и принимается хохотать, еще не зная, в чем дело.
— Неужто ушли? — говорит Сморж, растерянно улыбаясь. — А как же посылка? Да вы, наверно, разыгрываете? — И, скинув калоши, он босиком выбегает в коридор и звонко топает к выходной двери.
— Догонять «Таймыр» побежал! — кричит Вася Гуткин.
— Он посылку жене приготовил! — давясь от хохота, выкрикивает Костя Иваненко.
— Вот разиня!
— Ай да матрос, свой корабль проспал!
Через минуту Сморж возвращается и смущенно присаживается с краю стола.
— Ну и пускай, — говорит он. — Вот и хорошо, что ушли. Без них лучше, одним-то. — Он осматривает столы, заглядывает в кружку Бори Маленького. — Чайку, что ли, попить?
— Пойди сперва умойся, — говорит Наумыч.
Сморж чешет под мышками, качает головой, удивленно хмыкает.
— Проспал! Скажи, пожалуйста. Хорошо бы пьяный был, а то и выпил-то самую малость. Ай, Жоржик, ну, Жоржик…
— Да ты чего хоть во сне-то видал? — спрашивает Вася Гуткин.
— Чорт их знает, каких-то змей.
Боря Маленький очень заинтересовывается сном Сморжа:
— А какие змеи? Толстые?
— Зеленые какие-то. С языками, — неохотно говорит Сморж. — Вилочкой такой языки. А что?
— Мне тоже змея снилась. Желто́брюх называется. С набалдашником.
— Нет. Мои простые были.
Леня Соболев хитро подмигивает нам.
— Как, как змея называется? Желто́брюх, говоришь? С набалдашником?
— Да. Они в Таганроге у нас водятся. Около железной дороги живут, в канавах. Такая змея, а на хвосте у ней набалдашник. Вот если ей надо нападать, она сейчас набалдашник свой надует, станет на голову, тресь набалдашником — и насмерть.
— И здорово бьет?
— Здорово. Зайца, или там тушканчика, может с одного удара положить.
— Интересная змея, — говорит Леня, — прямо необыкновенная. Ну, а лису, например, может?
— Отчего ж? И лису убьет.
— А овцу?
Боря Маленький не замечает, что мы едва сдерживаемся от хохота. Он кладет вилку и серьезно говорит:
— Вот за овцу ничего не скажу, не слыхал, но ягненка, пожалуй, укокошит.
— Ну, а как же она на голову-то встает? Ведь ей, поди, трудно? Да еще набалдашником бить.
Первым не выдерживает Вася Гуткин. Он давится чаем, громко фыркает. За Васей начинаем хохотать и мы все, а Боря Маленький размахивает руками, кричит, что он сам видел «чорт те сколько» желто́брюхов, что мы ничего не понимаем, что пусть любой из нас приезжает в Таганрог, и Боря ему «желто́брюхами глаза засыплет — пожалуйста!»
С этого дня Боря Маленький получает на весь год кличку Желто́брюха.
В разгар чаепития из кухни появляется Арсентьич.
— Товарищ начальник, — говорит он. — Надо принести со склада ящик с консервированным молоком, мешок муки, сахару. Вы бы мне человека в подмогу дали.
— А мне человек десять нужно, — кричит со своего места Шорохов, — самолетный ящик перетащить.
И все вдруг заволновались, каждый вспомнил про свои заботы.
— Что же это такое, Наумыч? — обиженно говорит Костя Иваненко. — Я тоже не двужильный. Свиней три раза покормить надо? Надо. А их восемнадцать штучек. А еще снегу на двадцать гавриков натаскать. Посуды-то одной перемыть сколько? Только от завтрака помыл, глядишь — обед. От обеда помыл — ужин. А уголь? А дрова? Вроде, Наумыч, тяжело одному-то. Помочь бы надо.
Все загалдели, заговорили разом, со всех сторон на Наумыча посыпались вопросы:
— Куда яблоки будем убирать? Померзнут ведь.
— А как быть с научной работой? Надо бы уж начинать.
— Сперва надо в комнатах устроиться — помыть полы бы хорошо, вещи разложить!
— А баню когда топить будем? И кто ее должен топить? И как ее топить?
Огромный ведерный чайник выпит до капли. Дымят папиросы, трубки. Все говорят сразу, не слушая друг друга. Только один Наумыч слушает всех, поглядывает по сторонам, посапывает, иногда записывает что-то в книжечку.
— Ну, что, кончили? — наконец говорит он. — Мой батька сказал бы: «Що будэ, то будэ, а музыка грай». — Он расстегивает форменный морской китель, достает из бокового кармана сложенную вчетверо бумажку, передает ее мне. — Читай, Сергей, — говорит он и закуривает папиросу.
Сразу становится тихо. Я встаю, развертываю бумагу и громко читаю:
ПРИКАЗ № 1
по научно-исследовательской базе на Земле Франца-Иосифа.
10 октября 1933 года. Бухта Тихая.
§ 1.
Объявляю распорядок дня на советской научно-исследовательской базе в бухте Тихой Земли Франца-Иосифа: подъем в 8 часов, завтрак в 8 часов 30 минут, обед в 14 часов, ужин в 20 часов, отбой в 24 часа. После отбоя всякий шум должен быть прекращен и выключен свет.
§ 2.
Приказываю раз в 10 дней производить топку бани и мытье всего личного состава научно-исследовательской базы. Очередность топки бани всеми без исключения зимовщиками будет объявлена дополнительно.
§ 3.
Для поддержания на должной высоте необходимых санитарно-бытовых условий, для контроля над приготовлением пищи и для организации досуга зимовщиков назначаю культурно-бытовую комиссию в составе тт. метеоролога Безбородова, старшего геофизика Стучинского и плотника Сморжа.
§ 4.
С сего числа и впредь до окончания уборки всех матерьялов и скоропортящихся продуктов объявляю авральные работы. На время аврала необходимые научные работы и наблюдения ведут только старший метеоролог т. Ромашников и магнитологи по очереди. Полностью научные работы обсерватории развернуть по окончании аврала.
§ 5.
Всякие отлучки зимовщиков с территории базы производятся только по моему, каждый раз особому, разрешению.
Начальник научно-исследовательской базы на Земле Франца-Иосифа:
Доктор Руденко.
— Понятно? — спрашивает Наумыч. — Ну, кончайте, значит, курить и за работу. Каюры пока пускай помогают Иваненко таскать лед и снег для кухни. А все остальные на улицу.
Наумыч собирает со стола свои записочки, укладывает в жестяную коробку папиросы, допивает чай.
— Поработаем, ребята, как следует, а потом можно и чарку, таку, щоб собака нэ перескочила, — говорит он. — До полярной ночи все надо убрать в склады и в дома.
— Успеем, — спокойно говорит Желтобрюх. — До полярной-то ночи еще глаза вытаращишь. Только приехали.
— А ты знаешь, когда полярная ночь?
— Ну, когда? Ну, не знаю. Наверное, в декабре, или когда там ей полагается? Не завтра же.
— Михаил Николаич, — говорит Наумьгч, обращаясь к Лызлову, — вы ведь у нас заведуете солнцем, — скажите-ка Боре, когда у нас полярная ночь полагается.
Лызлов неторопливо встает из-за стола, оправляет рубаху и медленно выходит из комнаты. Он возвращается с толстой книгой и какими-то бумажками в руках. Молча он роется в книге, просматривает бумажечки с вычислениями и, чуть пришепетывая, говорит, глядя на Наумыча сквозь маленькие стеклышки очков в жестяной оправе:
— Вот тут я уже подсчитал, пользуясь астрономическим ежегодником, как у нас будет убывать день. Можно прочесть цифры?
— Можно, можно, читайте, — говорит Наумыч.
— 12 октября день продолжается 6 часов 38 минут.
13 октября — уже на 24 минуты короче — 6 часов 14 минут,
14 октября — день 5 часов 48 минут,
15 октября — 5 часов 22 минуты,
16-го — на 28 минут короче, уже только 4 часа 54 минуты,
17-го на полчаса короче — 4 часа 24 минуты,
18-го—3 часа 50 минут,
19-го — 3 часа 10 минут,
20-го — 2 часа 20 минут,
21-го день будет продолжаться только 52 минуты.
22-го октября день равен нулю. Солнце в этот день уже не взойдет.
Лызлов аккуратно закрыл книжку и сел.
Несколько секунд в кают-компании была тишина.
— Вот те раз, — растерянно сказал Желтобрюх.
Наумыч осмотрел кают-компанию.
— Ну, что? Слыхал? Двенадцать дней осталось!
И снова поднялся крик и гам:
— Да кто же ее знал, что она так скоро!
— Это же просто свинство привозить людей за две недели до ночи!
Я пошептался со Стучинским и Сморжом.
— Платон Наумыч, — сказал я, — у культурно-бытовой комиссии есть к вам просьба.
— Ну, ну, давай.
— Сейчас уже одиннадцать часов дня. Пока суть да дело — полдня уже потеряно. Может, разрешите зимовщикам сегодня своим жилищем заняться? А то ведь прямо как на войне живем. Ни переодеться, ни умыться, ни отдохнуть, как следует. А уж завтра, сразу после подъема, можно бы и за работу по-настоящему взяться.
Девятнадцать пар глаз смотрели на Наумыча с надеждой и ожиданием. Он звонко хлопнул по столу огромной рукой.
— Ладно. Жертвую одним днем. Только имейте в виду: 21-го октября все должно быть кончено. Есть?
— Есть, Наумыч! Будет кончено!
— Пошли, ребята, устраиваться!
— По домам!
Так начался первый день зимовки.
У меня есть старенькая географическая карта. На этой карте разноцветными карандашами я вычерчиваю все маршруты своих поездок, путешествий, экспедиций.
Вот зеленая ломаная линия. Она соединяет маленький городишко Аткарск на берегу речки Медведицы с Таганрогом на берегу Азовского моря. Это — путь, который я проделал, сидя в седле. Верхом. Было это во время гражданской войны.
Вот желтая линия — путь, пройденный мною на аэросанях.
Вот синяя — маршрут буерного похода, в котором я принимал участие.
Черный пунктир — автомобильные маршруты.
Красные линии — поездки по железной дороге. На востоке эти линии протянулись в глубину Сибири. На западе красная линия обрывается у Брест-Литовска, на юге кончается у Черного и Каспийского моря.
Зелеными и черными нитками остались на карте пешие и конные походы по горам Дагестана, по крымским джайлау.
Сколько раз мне приходилось развязывать мешки, открывать чемоданы, расставлять, раскладывать, развешивать вещи в глинобитных украинских хатах, в каменных горских саклях, в деревянных мещанских домишках поволжских городков, в просторных рубленых сибирских избах, в дощатых бараках у подножья горы Магнитной или Кузнецкого Алатау.
Но нигде, никогда я не осматривал свое жилище с таким любопытством и с такой тщательностью, как я осматривал и обшаривал маленькую свою комнатку в домике на острове Гукера.
Домик был разделен пополам узким темным коридором. Налево, на южной стороне, были жилые комнаты, направо, на северной, — лаборатории, библиотека, красный уголок.
В каждой комнате по одному маленькому окошечку с двойными рамами. Но рамы эти не такие, как у нас, на Большой Земле. В каждой раме стекла вставлены в два ряда, так что в наших окнах выходило не по две, а по четыре рамы. Это тоже сделали нарочно для того, чтобы комнаты наши были теплее.
Подозрительно посматривал я на фанерные голые стены моей комнаты, на маленькое окошко, из пазов и щелей которого торчал пегий войлок и клочки грязной ваты. Это, наверное, какой-то мой предшественник отеплял окно, затыкал щели и дыры между оконными рамами и косяками.
«Интересно, — думал я, — каково-то будет в этой фанерной комнате при морозе в 45 градусов?»
Комнатка была маленькая, грязная. Я взял рулетку и измерил свое жилище.
Длина 2,9 метра. Ширина — 1,9. Значит, площадь комнаты — 51/2 квадратных метров.
У окна стоял небольшой столик, а перед ним — стул, у стены — железная кровать, у другой стены — невысокий маленький шкафик, а над ним висела маленькая полочка. Вот и вся обстановка. Даже второго стула поставить некуда — не поместится в моей комнате второй стул.
Я сел на кровать и долго осматривал комнату. Тут и устраиваться-то особенно нечего. Все равно ничего не придумаешь. Разве что перевесить полочку? Прибить ее вот здесь у стола, а то висит она над шкафом совсем ни к чему — и для вещей не годится, и книги оттуда доставать неудобно.
Я наскоро перевесил полочку, сунул в шкафик белье, запихал под кровать чемоданы, повесил на гвоздь одежу: прорезиненный комбинезон, норвежскую рубаху, меховые штаны, брезентовый плащ.
Потом я разложил на столе коробочки с карандашами, перьями и скрепками, поставил чернильницу, стопочкой сложил писчую бумагу и записные книжки, голубым ватным одеялом застелил постель, повесил на стену винтовку, бинокль, полевую сумку.
Как будто бы веселей стало в моей комнатке.
Оглядев еще раз свое жилье, я отправился посмотреть, как устраиваются мои товарищи.
Повсюду стучали молотки, хлопали двери. Зимовщики шныряли по коридору, выносили ведра грязной воды, тащили к себе в комнаты всякую хозяйственную мелочь: графин, табуретку, щетку, коврик, будильник. Торопливо устраивались в новом жилье на долгий и трудный год зимовки.
Я зашел к Васе Гуткину. Вася стоял на стуле и прибивал к стене зеленые, цветочками, обои. Он вынул изо рта гвозди и весело сказал:
— Клейстера-то не напасешься на такую прорву. Гвоздями крою. Как выходит — ничего?
Комната у Васи большая, просторная. У него и диван есть, и большой шкаф, и настоящий письменный стол. В такой комнате жить можно.
— Да-а, — сказал я, — с обоями-то, конечно, лучше, совсем как в Ленинграде.
— А я что говорю? — обрадовался Вася. — Я и говорю, что с обоями веселей. Рукомойник занавесочкой замаскирую, на диван можно старое одеяло постелить. Не комнатка будет, а прелестная вещичка. Верно?
Он бросил в рот щепотку обойных гвоздей и проворно и ловко застучал молотком, откидывая голову и любуясь своей работой.
«Вот хозяйственный парень, — подумал я. — Где это он обои раздобыл?»
— Вася, а где обоями разжился? — спросил я. Вася пробубнил: «у-бум-гум-гум» и показал молотком на потолок. На чердаке, мол.
«Разве и мне оклеить обоями? — подумал я. — Да нет, только лишняя возня».
— Ну, стучи, стучи, — сказал я Васе и побрел к Ромашникову. Он сидел на кровати в своей тесной, как и у меня, комнате, заставленной громоздким купеческим комодом, чорт его знает откуда попавшим на Землю Франца-Иосифа, и сосредоточенно смотрел на облезлую железную печку в углу.
— Ну, как дела? Устроились?
Ромашников вздохнул, покачал головой.
— Вот с печкой не знаю, что делать. Не печка, а мумия. Подумайте только, Сергей Константинович, ведь мне на нее целый год смотреть.
— Зачем же вам на нее смотреть?
— Ну, а как же? Проснусь я утром — что прежде всего в глаза кинется? Печка. За год с ума сойти от такой печки можно.
— А вы лягте сюда головой, вам ее тогда и не видно будет.
— Нельзя. Печка должна быть в ногах. Нет, это не то. Я ее покрашу. Гришка Быстров советует функциональной раскраской — половину желтой, половину голубой. Чтобы глаз отдыхал. Или цветочками, что ли, ее пустить? Вы умеете рисовать простейшие цветы — одуванчик, незабудку или там какие-нибудь васильки? Лежишь и смотришь, а перед тобой будто разные цветы.
— Бросьте вы, — сказал я. — Ничего страшного нет. Печка как печка. И у меня такая же. Все равно ваши колокольчики через неделю облезут. Топить-то, наверное, придется здорово. Тут никакая краска не удержится.
— Нет, — упрямо сказал Ромашников, — покрашу. Жить, так уж жить как следует. Вы бы вот посмотрели, что Шорохов выделывает.
У Шорохова был задуман грандиозный план. Серой портяночной материей он обивал все стены своей комнаты. Там, где узкие полоски материи соприкасаются, Шорохов набивал полоски из белой бязи. Этой же бязью он уже обил и потолок, а в центре потолка приколотил четырехугольную чайную клеенку с цветами.
Комната Шорохова стала похожа на камеру буйно-помешанного, но самому Шорохову она очень нравилась, и он каждого из нас, по очереди, приглашал полюбоваться своей работой.
Боря Маленький уже приходил ко мне жаловаться на Шорохова:
— Забрал себе всю материю, мне даже на портянки не дал. Все себе тащит — и графин, и кувшин, и патефон. Даже белья мне не дает.
— То есть как не дает?
— Да так, очень просто. У нас, у летной группы, обмундирование отдельное. Одних простыней мы штук двадцать получили, а он дал мне две штуки, и больше ничего не дает. Все себе забрал. Вот жила!
В большом доме была та же суета и беготня. Каюры с восторгом показали мне черный, страшный медвежий череп, в разинутую пасть которого, между желтыми изогнутыми клыками, они воткнули электрическую лампочку.
— К полярной ночи готов, как юный пионер! — орал Боря Линев. — Вот лампа будет! Красота!
К Грише Быстрову мне попасть не удалось. Только я приоткрыл дверь, как Гриша закричал: «Не входи, не входи! Короткое замыкание будет!» Он стоял посреди комнаты, опутанный проводами, с вольтметром в руке. «Потом, потом! — прокричал он. — Потом узнаешь!»
У Сморжа дико голосил граммофон, а сам Сморж, голый до пояса, приколачивал над кроватью фотографию, на которой он, Сморж, был изображен удалым, в бескозырке, матросом, сидящим верхом на белой лошади. В правой руке у Сморжа на фотографии была кривая сабля, а в левой — дымящаяся бомба.
Грудь и руки живого Сморжа были покрыты синей татуировкой. На груди был изображен орел, несущий в когтях женщину, на руках — якоря, канаты, рыбы и разные надписи вроде «Прощай Мэри» и «Жизнь — копейка».
Комната Стучинского была похожа на приемную зубного врача. По стенам были развешаны карандашные рисунки, репродукции картин знаменитых художников, стол был заставлен фотографиями в витых рамочках. А на комоде, покрытом гарусной скатеркой, торжественно возвышался черный футляр.
— Фомич, она?
Улыбаясь, он молча раскрыл футляр. В нем лежала скрипка.
— Да еще какая! — сказал Стучинский. — Старого итальянского мастера. Этой скрипке четыреста лет.
Когда под вечер я вернулся в свой дом, в коридоре уже горели керосиновые фонари «Летучая мышь», у Шорохова топилась печка, и во всем доме воняло серой и каменноугольным смрадом.
Я вошел в свою комнатку. В темноте только смутно белело окно. Сквозь четыре его пыльных стекла едва пробивался слабый вечерний свет. Было слышно, как Вася Гуткин колет в своей комнате лучину, как распевает Боря Маленький и шелестит бумагой в фотолаборатории Гриша Быстров.
Я сел на кровать, осмотрел свою комнату. Она была самой неуютной, самой убогой и грязной из всех комнат, которые я видел.
Стены голые, ободранные. Полочка — некрашеная, вся в сучках и трещинах. Около двери на гвоздях бесформенной кучей висит одежа.
Сидя в сумерках на кровати, я долго думал, как мне сделать эту маленькую коробочку, в которой мне суждено прожить целый год, и опрятной и привлекательной.
Вот эту пустую стену над кроватью можно завесить большой картой Земли Франца-Иосифа, которую я привез с собой.
Хорошо бы повесить на окошко занавеску. Я вспомнил, что, уезжая из дома, из Ленинграда, я захватил, на всякий случай, зеленую полинялую материю: небольшой кусок материи, который мог бы пригодиться на тряпки, на заплатки. Из этой материи я сделаю занавеску.
Электричества в нашем доме еще нет. У меня на столе стоит большая керосиновая лампа с мутным стеклом. Хорошо бы сделать на лампу абажур. Можно смастерить из проволочек каркас и оклеить его бумагой или обшить чем-нибудь.
Дверь моей комнаты притворяется очень неплотно. Зимой, в полярную ночь, из коридора будет, наверное, нести леденящим холодом. Дверь надо бы чем-нибудь завесить.
Я вытащил сверток теплой толстой материи, которую нам выдали на зимние портянки.
Снова я взял молоток и гвозди, вскарабкался на стул и принялся прибивать к двери портьеру из портяночной материи.
А потом кромсал, шил и снова кромсал и перекраивал кусок линючей зеленой тряпки, чтобы получилась красивая настоящая занавеска.
Над кроватью я повесил карту Земли Франца-Иосифа, полочку оклеил белой бумагой и аккуратно расставил на ней любимые книги, которые взял с собой из Ленинграда: «Приключения Гулливера», «Путевые картинки» Генриха Гейне, записки путешественников Нансена, Амундсена, Скотта, Пири, Норденшельда, словари, справочники.
Из чемодана я достал и повесил на стену фотографию моей матери, жены и сынишки.
Я хотел было переставить кровать, но в комнате было так тесно, что мне не удалось даже сдвинуть ее с места. Я принес себе графин и глиняную кружку; карандаши и ручки поставил в стаканчик рядом с чернильницей, а стол застлал белой бумагой и даже покрыл куском толстого стекла, которое нашел на чердаке.
На чердак я ходил искать обои. Но их там уже не оказалось. Последний кусок красивых, голубыми цветочками, обоев унес к себе повар Арсентьич..
Мы учимся жить
Дни становятся все короче и темнее. Солнца уже совсем не видно. Все небо затянуло плотной пеленой густых и низких облаков. Только изредка, перед закатом, между черно-синими тучами у горизонта пробьется багровый свет, на несколько минут осветит нашу снежную землю, выкрасит в розовый цвет плотные столбы дыма, поднимающиеся из труб, и снова исчезнет.
Давно уже улетели последние птицы, бухта и проливы покрылись сплошным льдом, все время падает и падает крупными хлопьями снег, засыпает наши постройки. А по ночам все чаще и чаще завывает вьюга, наметает большие и крепкие сугробы.
Идет, надвигается полярная ночь. И торопливо готовимся мы встретить ее пришествие.
Каждое утро, еще совсем затемно, нас будят отчаянные вопли «Яшки-коммивояжера».
Ботинки чищу, До блеска чищу, Я чищу, чищу И не устаю,— надрывается Яшка.
Мы уже знаем — пора вставать, уже восемь часов.
Заспанные, небритые, в грязной, промасленной робе мы выползаем из дома.
Ах, как надоели эти ящики и мешки, бесконечные ящики, бочки, мешки, которые с утра до вечера мы таскаем, перекладываем, перетаскиваем с места на место, убираем в склады, распаковываем. Мы работаем до наступления темноты. А темнота эта наступает с каждым днем все раньше и раньше, и каждый день мы засветло успеваем справить все меньше и меньше дел. А тут еще всякие неожиданные происшествия и разные помехи.
То покажутся какие-то невиданные звери, и все бросают работу и сбегаются посмотреть на них; то подойдут к зимовке медведи, и начинается долгая охота, а то просто поднимается бесконечный спор о том, куда убирать бочки соленых огурцов — в теплый склад или в холодный?
Вот однажды, на второй день аврала, когда мы перетаскивали с берега пятипудовые мешки муки в большой продуктовый склад, названный нами «Торгсином», на берегу вдруг поднялся страшный собачий лай. Собаки со всех сторон мчались к берегу, бесновались у самой воды, а некоторые, самые отчаянные, даже пытались прыгать на льдины, но срывались и падали в воду.
Мы побросали мешки и тоже побежали на берег.
В легком тумане, стоявшем над бухтой, ничего не было видно. И вдруг мы услыхали странное тяжелое пыхтенье, точно отдувалось и сопело какое-то гигантское чудовище.
— Смотрите! Смотрите! — закричал кто-то.
Почти у самого берега из спокойной воды вдруг показалось какое-то огромное животное, белесоватое, блестящее, точно лакированное — не то рыба, не то зверь. Оно мелькнуло в воздухе и с тяжелым сопением снова нырнуло, даже не всплеснув воды.
— Это, наверное, белухи, — тихо сказал Боря Линев.
Целое стадо таких чудовищ шло из пролива Меллениуса. Они взлетали над водой, сверкая гибкими огромными телами, и снова уходили под воду. Плыли они очень быстро и вскоре исчезли за островом Скот-Кельти.
В другой раз неподалеку от берега из воды вдруг высунулась круглая черная головка. Точно маленький водолаз подкрался под водой к нашему берегу и теперь, высунув головку, с любопытством рассматривал наш поселок.
И снова ящики с консервными банками, мешки сахара и пшена брошены на землю, и снова, обгоняя друг друга, мы мчимся к берегу.
На этот раз пришельцу уйти не удалось. Боря Линев успел сбегать в дом за винтовкой и, прежде чем черная голова спряталась под воду, Боря выстрелил.
Я и Романтиков быстро вскочили в лодку, которая стояла на приколе тут же у берега, и принялись грести к барахтавшемуся в воде раненому зверю.
— Как подплывем, первым делом хватайте за уши, — говорил Ромашников, шлепая веслами по воде и обдавая меня с ног до головы брызгами.
Но ушей у нашей добычи не оказалось. Это была нерпа, тюлень. Я зацепил ее багром и поднял в лодку. Нерпа была круглая, толстая, с остренькой усатой головкой. Короткая золотистая шерстка нерпы лоснилась от воды, точно смазанная салом. Мне сразу вспомнился мой школьный ранец, обтянутый такой же блестящей, отливающей золотом шкуркой.
На берегу нас уже ждали с фотоаппаратом.
Гриша Быстров раскинул треногу и накрылся брезентовым плащом, как заправский фотограф. Мы все расселись на земле вокруг своей первой добычи. А посередине, держа винтовку, как жезл, гордо стал Боря Линев. Правой ногой он наступил на нерпу в знак того, что это он — тот самый охотник, который застрелил ее вот из этой самой винтовки.
А был у нас и такой случай. Однажды сырым, холодным утром мы пришли на пристань, чтобы перетащить в склад бочки с селедками и огурцами. Смотрим — кто-то здесь уже хозяйничал. Штабеля бочек разворочены, две бочки разбиты, расколоты в щепки, и повсюду валяются объеденные, обкусанные селедки. А кругом на снегу — огромные круглые следы. Следы идут к салотопке.
Дощатая дверь салотопки расшатана и вся изрезана глубокими бороздами, точно кто-то исполосовал ее острым ножом. Между расщепленными, исцарапанными досками торчат жесткие серебряные волосы.
— Проспали, — с досадой сказал Боря Линев, — ночью медведь был. Караулить бы надо.
До обеда мы работали на пристани без всяких приключений. «Королевскую селедку» и шотландку перетащили в «Торгсин», огурцы — в кладовку при кухне, а бочки с треской, с вяленой воблой и морским окунем снова сложили в штабеля, чтобы они зимовали здесь на пристани до весны.
Но пообедать спокойно нам в этот день не удалось. Только было мы расселись за столами, как в кают-компанию ворвался Боря Линев.
— Идут! — закричал он. — Медведи идут!
Опрокидывая табуретки и стулья, разливая кофе и чай, толкаясь, крича и давя друг друга, зимовщики ринулись на улицу.
Откуда-то издалека доносился яростный собачий лай.
Я осмотрелся по сторонам, ища медведей. Но медведей нигде не было. Только по проливу, увязая в снеговой кашице и прыгая с льдины на льдину, цепочкой бежали куда-то наши собаки. А совсем далеко позади мыса Седова на белесоватом льду желтели два маленьких пятнышка.
— Вон они, смотри, — сказал Боря Линев и передал мне сильный полевой бинокль, а сам вместе со Стремоуховым побежал опять в дом.
Я навел бинокль. Верно, медведи. Большой старый медведь медленно и важно идет впереди, озираясь и посматривая в нашу сторону, а за ним тащится медвежонок. Вот медведь остановился и высоко задрал голову, — наверное, нюхает воздух. Потом он повернулся к своему детенышу, что-то, наверное, сказал ему, и оба они дружно и быстро побежали вдоль берега, то исчезая за навороченными льдинами, то взбираясь на стоящие торчком огромные глыбы старого льда.
— Братцы! Ведь это же прямо свинство, — чуть не плача, проговорил Вася Гуткин. — Неужели упустим?
Но в это время на крыльце опять появились наши каюры, обвешанные винтовками и патронташами.
— Товарищи, и я с вами, подождите, я только за винтовкой сбегаю! — крикнул я и опрометью бросился в наш дом.
Я вихрем влетел в свою комнату, сорвал со стены винтовку и полушубок, сунул в карман обоймы патронов, одной рукой нахлобучил шапку, другой полез в шкафяк, где всегда лежали мои рукавицы. Что такое? Рукавиц нет. Я завертелся, заметался, шаря по всем углам, заглядывая под стол, под кровать, под шкаф. Рукавиц нигде не было. Я плюнул со злости и так, без рукавиц, и выбежал из дома.
Пока я собирался, каюры уже ушли.
Остальные зимовщики тоже разошлись, и только около бани стоял Гриша Быстров и что-то высматривал на берегу.
— Где каюры? — закричал я.
— Погнали медведей куда-то за мыс. Дуй скорее, — может, еще догонишь.
Спотыкаясь о голые, еще не засыпанные снегом камни, я быстро зашагал по берегу. Руки мерзнут, посинели. А тут еще ремня у винтовки нет, приходится держать ее голыми руками. Я зажал винтовку подмышкой и сунул руки в карманы. В правом кармане лежали холодные обоймы, а левый был чем-то набит. Со злостью совсем уже сдерегяневшими пальцами я выворотил карман, и на снег упали мои новые меховые рукавицы.
— Вот чорт! — обрадовался я и торопливо сунул руки в мягкий, теплый мех.
Скоро я дошел до самого мыса.
Нигде — никого, ни каюров, ни собак, ни медведя. Я постоял, прислушался, осмотрел ледник, пролив, пустынный берег и уже хотел было поворачивать назад, как вдруг где-то невдалеке грохнул выстрел.
«Еще, чего доброго, меня за медведя примут», подумал я и быстро пошел назад, пригибаясь от резкого встречного ветра.
Вдруг опять выстрел. Что такое? Я снова остановился и опять с беспокойством стал осматривать берег. И тут я увидел, что по крутому склону плато карабкаются наверх два человечка.
Один поменьше и потолще, другой повыше и потоньше.
Да ведь это же каюры! Чего это их туда понесло?
И вдруг высоко-высоко наверху, на самом краю крутой каменной стены показалась собака, и до меня долетел отчаянный тонкий лай. Собака покрутилась на обрыве и пропала, а на ее месте появился медведь. Он подошел к самому обрыву, постоял, походил взад и вперед, сипло и страшно огрызаясь на невидимую снизу собаку. Оба каюра разом вскинули винтовки. Снова гулко грохнул выстрел. Вспугнутый медведь отскочил от края обрыва и скрылся из виду.
А каюры опять полезли наверх, цепляясь за камни и выступы голой промерзлой скалы. Проползли шагов пятнадцать и остановились. Видно, совсем выбились из сил.
Прижавшись к каменной стене и держа наготове винтовки, они стали ждать, не покажется ли на обрыве медведь.
А собака держит медведя где-то у самого края обрыва: все время слышен ее лай и отчаянный медвежий рев.
«Нет, не добраться каюрам до медведя, — подумал я. — Зря здесь полезли. Надо было правее брать, там не так круто Может, попробовать?»
Крепко зажав винтовку подмышкой, я побежал по берегу вдоль отвесно подымающихся утесов.
Вот за крутым поворотом начинается пологая, покрытая мелким камнем гряда. Отсюда я и полезу. Помогая себе винтовкой, как палкой, я начал взбираться.
Тяжело. Ноги застревают между камнями. Кровь больно стучит в висках. Я дышу со свистом, широко, как рыба, открыв рот.
«Может, вернуться?» — думаю я, а сам все лезу, все лезу, карабкаюсь с камня на камень.
Кое-как я добрался до полгоры. Вижу — дальше надо подниматься по гладкому склону. А снег крепкий и скользкий, как паркет. Я принялся выбивать окованным прикладом в снегу ямочки. Выбью ямку, поставлю в нее ногу, потом следующую ямку выбью, другую ногу поставлю. И так потихоньку поднимаюсь все выше и выше.
И вдруг снова выстрел. Убили! Теперь уж наверное убили! Опоздал я! Проворонил, дурак этакий!
Я остановился, прислушался. Heт, ревет!
Из последних сил я принялся выбивать в снегу зарубки. Полированная винтовка выскальзывает из облепленных снегом рукавиц. Пот щиплет глаза, слепит меня, капает с носа большими каплями. Я облизываю соленый пот с губ, мокрыми рукавицами протираю глаза.
Не знаю, сколько времени продолжался этот проклятый подъем. Наконец, мокрый, задыхающийся, я выбрался наверх и повалился прямо на снег. Где-то совсем рядом осипло лаяла собака.
Трясущимися руками я протер винтовку, загнал в магазинную коробку обойму и поднялся на ноги.
Шагах в двадцати от меня, уставившись куда-то вниз, лаяла белая, с черными подпалинами вислоухая собачонка. Я узнал ее.
— Гусарка, — хрипло окликнул я собаку. — Где медведь?
Гусарка взвизгнула от радости, кинулась было ко мне, потом снова бросилась назад, все время оглядываясь, непрестанно лая и виляя хвостом.
— Здесь он, здесь! — казалось, говорила Гусарка.
Я пошел за ней. И вдруг, за высоким сугробом, в десяти шагах от себя я увидел медведя. Он стоял на маленькой площадке, уступом выдающейся над обрывом.
Это было так неожиданно, что я едва не уронил винтовку.
Живой, сильный, дикий медведь стоял в нескольких шагах от меня на обрыве ледяного плато, где было нас только трое — медведь, собачонка и я. Медведь поднял маленькую, на гибкой шее головку и, шевельнув ноздрями, понюхал воздух. На серебряной его голове, как угольки, чернели три точки: два глаза и нос. Он с любопытством смотрел на меня.
Я вскинул винтовку и, почти не целясь, выстрелил.
Пуля толкнула медведя в голову, он попятился и мягко, как мешок с опилками, перевалился через край обрыва. В воздухе мелькнула косматая лапа. Медведь полетел под откос, поднимая сухую снежную пыль, увлекая за собой сугробы и камни.
Я сел прямо в снег и захохотал.
— Мой медведь! Мой медведь! Мой медведь! Он стоял вот здесь. Белый, серебряный, косматый, с черными любопытными глазами, с маленькими ушками. Он посмотрел на меня снизу вверх. Вот здесь он стоял, а я вот здесь! Десять шагов! Мой медведь! Мой медведь!
Я вскочил на ноги, заплясал от восторга, стал стрелять в воздух.
Отсюда, сверху, я видел, как сбегаются к тому месту, где лежит мой медведь, маленькие черные человечки, как они машут руками, отгоняют собак.
Гусарка сидела поодаль и жадно жрала снег. Потом она растянулась на брюхе и, положив голову на лапы, стала смотреть на меня, тяжело и часто дыша.
Я подошел к Гусарке, сел рядом с ней, долго гладил ее и рассказывал, как я лез на плато, как боялся, что медведя уже убили, и какая она, Гусарка, молодчина, что одна задержала медведя, какая умная, хорошая собака.
Потом не спеша мы нашли пологий спуск вниз и уже в густых синих сумерках добрались до дома. Во всех окнах ярко горели веселые огни. Гусарка пошла к своим товарищам, а я — к своим.
Медведь уже лежал посреди кухни, раскинув от стены до стены жилистые косматые лапы. Вся зимовка собралась вокруг медведя, и повар Арсентьич, тыча кухонным ножом, серьезно говорил:
— Вот это пойдет на бифштекс, а это будет заместо свиной корейки.
— Шкуру-то мне не изрежьте, — сказал я, протискиваясь к моему медведю.
В эти первые дни нашей жизни на Земле Франца-Иосифа я научился очень многому.
18 октября я первый раз дежурил на кухне. Дежурных у нас прозвали «кухонными мужиками». В этот день, 18 октября, «кухонными мужиками» были я и Ромашников.
У «кухонных мужиков» много разных обязанностей — они должны таскать на кухню воду, дрова, уголь, помогать служителю и повару.
Сначала мы принялись за воду. Но единственная вода, которую мы видели на острове Гукера, была соленая морская вода нашей бухты. Вся остальная, пресная вода давным-давно превратилась в лед и снег.
И вот, надев прорезиненные рубахи, вооружившись железными лопатами и захватив большие носилки, мы двинулись на водяной промысел.
За Камчаткой уже намело большие сугробы.
— Смотрите, какой хороший, чистый снег, — сказал Ромашников, — вот этот снег и будем таскать.
Я облюбовал большой гребень сугроба, прицелился и ударил лопатой. Что за чорт? Лопата отскочила от сугроба, точно он был деревянный. Я снова размахнулся и снова изо всех сил ударил лопатой. Теперь она вошла в снег на каких-нибудь два сантиметра.
На пятом или шестом ударе мне все-таки удалось до половины втиснуть лопату в сугроб. Я навалился на рукоятку, чтобы обломить верхушку сугроба, но ладонь лопаты согнулась как жестяная. Вытащив изувеченную лопату, которая теперь годилась разве что для выгребания золы из печки, я искоса посмотрел на Ромашникова. Он сидел около своего сугроба и тоже рассматривал свою согнутую пополам лопату.
— Ничего не выходит, — сказал я. — Это не снег, а чорт знает что!
Ромашников встал, ногой выпрямил лопату и, размахнувшись, как топором, сверху рубанул сугроб. Звякнув, лопата скользнула по крепкому ребру сугроба и ударила Ромашникова по ноге.
— Ой! — вскрикнул Ромашников и снова сел на снег.
— Нет, так ничего не выйдет, — сказал я. — Мы слишком жадничаем. Больших кусков нам не отломить лопатой. Будем откалывать маленькие кусочки.
Нигде, никогда я не видел такого плотного и крепкого снега, как на Земле Франца-Иосифа. С огромным трудом нам удавалось отламывать от сугроба только маленькие кусочки снега. Они отскакивали с сухим звоном, похожим на звук лопающейся электрической лампочки.
Проработав целый час, мы наконец наложили полные носилки и потащили снег на кухню. Но почти половину носилок мы растеряли по дороге.
На кухне было жарко и шумно. Трещало масло на сковородках, гудел в плите горящий уголь. Арсентьич что-то звонко рубил ножом на чистой деревянной дощечке. Он мельком взглянул на наши носилки и швырнул нож на стол.
— Что же это вы так и будете по горстке таскать! — закричал он. — Мне вода нужна, а вы чикаетесь! Интеллигенция, прости, господи! Снегу не могут принести!
Он схватил с раскаленной плиты какую-то кастрюльку и сунул мне под нос:
— Корешки горят! Воды давайте! Нечего чикаться! Математики!
Костя Иваненко сидел около плиты на пустом ящике и чистил картошку, роняя на пол длинные ленты кожуры.
— Пилой надо, — сказал он, не поднимая головы. — Лопатой разве его возьмешь? — Он положил ножик, вытер руки об штаны и с презрением посмотрел на нас. — Пилой. Понимаете? Одноручной пилой.
— Господи, твоя воля, да чего они понимают! — откликнулся Арсентьич из облаков пара. — Разве они это понимают? Обедать они понимают! Почему того нет, почему этого нет, почему опоздал, почему не приготовил — это все они понимают. А снегу натаскать — это они не понимают!
Арсентьич выхватил шипцами из плиты раскаленный добела уголек, прикурил, швырнул уголек в ведро с помоями, злобно взглянул на нас и снова принялся стучать ножом, что-то бормоча себе под нос. Только и можно было разобрать: «интеллигенция… белоручки. Работаешь, работаешь… ноги подламываются… математики..»
Мы вышли из дома.
— Попробуем пилой, — сказал Ромашников. — А то старик совсем озверел.
В бане мы нашли одноручную ржавую пилу.
Никогда я не думал, что снег можно пилить пилой. Да еще как пилить — с большим трудом, точно вязовые балки.
Мы подошли с пилой к сугробу, исковырянному нашими лопатами. Я выбрал место, с которого было удобнее всего запилить сугроб, и острым концом пилы вычертил на нем ровный четырехугольник. Потом, уткнувшись в сугроб коленом, я вонзил в снег пилу. Пила пошла вниз, пропиливая в крепком, как сахар, звонком снегу голубовато-зеленую щель. Так я пропилил две боковые стороны четырехугольника, потом подпилил его снизу и подковырнул лопатой.
Тяжелый и тугой снежный куб скатился вниз, даже не обломав острых ребер. Мы положили снеговой куб на носилки и снова принялись пилить сугроб.
Если бы в это время кто-нибудь из наших ленинградских друзей увидел нас за этой работой, — нас наверное приняли бы за сумасшедших. Трудно представить, чтобы взрослые нормальные люди дружно и радостно пилили снег пилами.
Не иначе, как сумасшедшие!
А мы были очень довольны и рады, что нашли такой верный способ добывать воду.
Никогда до сих пор, открывая кран водопровода, обедая или умываясь, распивая чай или бреясь, я не задумывался над тем, как много воды надо человеку.
А снегу надо еще больше. Ведь из большого куска снега получается только маленький ковшичек воды.
Этот день, когда я был «кухонным мужиком», научил меня ценить воду и бережно относиться к ней. Я уже понимал, какое это тяжелое дело — добывать воду, и берег каждую кружку воды, зная, сколько труда положили на нее мои товарищи.
В эти же первые дни зимовки я научился по-настоящему стирать.
Когда я уезжал на зимовку, я сначала решил взять с собой столько белья, полотенец, носовых платков, носков, наволочек и простынь, чтобы мне без стирки хватило на целый год. Потом я увидел, что это получится огромный сундучище и что, пожалуй, не стоит тащить такой багаж на Землю Франца-Иосифа.
Буду там стирать, — решил я. — Стирал же я, когда учился на рабфаке, почему же не смогу стирать на зимовке?
Пока мы жили в Архангельске, пока плыли, пока разгружались на Земле Франца-Иосифа, прошел целый месяц.
Вскоре же, как мы остались одни, я увидел, что чистого белья у меня почти уже нет. Одному затевать стирку мне не хотелось, и я предложил стирать со мной Васе Гуткину. У него тоже не было чистого белья, и он охотно согласился.
Еще с вечера накануне того дня, когда мы решили стирать, в комнате у меня собрался военный совет. На совет пришли наши друзья: Боря Линев, Стучинский, Гриша Быстров, Желтобрюх. Каждому хотелось посоветовать нам самый простой, легкий и удобный способ стирки.
Вася Гуткин, который считал себя специалистом по всяким хозяйственным делам, развалился на моей кровати и, бренча на мандолине, самодовольно говорил:
— Мне, милок, указывать нечего. Я на стирке собаку съел. И со щелоком стирал, когда мыла не было, и с песком стирал — по-всякому. Знаю, знаю, не рассказывай.
Ну, а мне было полезно послушать советы опытных людей.
Я ни со щелоком ни с песком никогда не стирал. А если и приходилось мне стирать, — то в настоящей прачечной, где все было под руками, где из одного крана текла горячая вода, а из другого — холодная. Да и стирал-то я всякую мелочь — носовые платки, носки. А сейчас мне предстояла настоящая, большая стирка.
Никаких кранов с горячей водой здесь не было, и горячая и холодная вода лежала сугробами под окнами маленькой, тесной и темной бани. Баня, когда ее не топили, промерзала насквозь. На стенах ее сверкал иней, остатки воды замерзали в бочках и в корытах сплошной ледяшкой
— Ну, ты-то, конечно, все знаешь, — сказал я Васе, — а я не знаю. Выкладывай, ребята, свои способы.
Стучинский раскурил красивую свою трубку, пустил клуб дыма, полюбовался им, разбил дым ладонью и, как всегда, тихо и вежливо сказал:
— Мне кажется, что вы уже с самого начала делаете, я бы сказал, ошибку. Простите меня. Вася говорил, что вы собираетесь топить баню каменным углем.
Я подтвердил:
— Верно. Углем. Так быстрее.
— Это иллюзия, — продолжал Стучинский, попыхивая трубкой. — Это только кажущаяся быстрота. На самом же деле калорийность древесного огня больше, чем каменноугольного.
— Откуда это известно? — заинтересовался Гриша Быстров, а Вася Гуткин громко захохотал.
— Кройте, кройте! — сказал он и лихо заиграл на мандолине марш. — Калорийность!
— Мне это известно из опыта, — все тем же вкрадчивым голосом продолжал Стучинский. — Я целый год топил печь дровами и знаю, как быстро она нагревается. Но дело не в этом. Моя мамаша сообщила мне следующий способ стирки, который у меня есть основания считать очень хорошим. Берете белье, с вечера намачиваете его в теплой воде.
— Уж намочили! — насмешливо перебил его Вася. — Намочили. Догадались сами.
— Отлично. Намачиваете. Завтра простирываете в теплой воде раз, снова намыливаете, простирываете два, еще намыливаете и простирываете три. Вот и все. Главное — очень много мылить. Мыло отъедает грязь.
— Чепуха, — сказал Боря Линев. — И совсем не так надо стирать. Надо кипятить с содой. Без кипячения — гроб.
Здесь Вася Гуткин кивнул головой и подтвердил:
— Ясно — гроб.
— А самое лучшее, — продолжал Боря Линев, — стирать французским способом. Он так и называется — скорый и быстрый французский способ. Берешь белье, никакого тебе мыла, немножко наливаешь водички и керосину. Керосину побольше. Налил — поставь, пускай керосин грязь ест. Постоит так часа два, слей и опять водички и керосину. Опять поставь. Палочкой можно помешать. Потом заливай одним керосином и ставь на огонь, чтобы в керосине прокипело.
— Керосин взорвется, — сказал Гриша.
— Ни черта он не взорвется! Способ верный.
— Взорвется, — сказал и Желтобрюх. — Обязательно, Борька, взорвется. Нет, это всё не то. Зачем керосин, бензин? Мне рассказывал один летчик — Белоножкин фамилия, — может, слыхали? Ну, вот он рассказывал, как они стирали на Сахалине. Красота! Берешь белье, намыливаешь его и закапываешь в снег. В снегу пусть лежит подольше, — ну, с неделю. Потом откопал — бельецо как стеклышко! Они целый год так стирали.
Вася Гуткин фыркнул:
— Отчего же это оно как стеклышко делается?
— Вымерзает. Полежит, вымерзнет в снегу, снег там с мылом все отъест — и пожалте! Красота!
— Извините меня, — вежливо сказал Стучинский, — но мне способ Белоножкина кажется сомнительным. Я бы не советовал рисковать без проверки.
— Машину стиральную надо сделать, — сказал Гриша Быстров. — И работы-то на два часа. Бак у нас есть. Деревянный барабан можно Сморжу заказать, из бака провести трубочку, чтобы горячая вода циркулировала, — и все. Затопил и крути ручку. Я, когда буду стирать, обязательно машину сделаю. Что у меня спина-то казенная, что ли!
Дискуссия о способах стирки кончилась очень поздно. Когда советчики разошлись, Вася сказал:
— Ну что, понял чего-нибудь?
Я признался, что ничего не понял, что думаю стирать так, как мне советовали моя жена и мама. Сначала отстирывать белье в теплой воде, потом стирать в горячей, затем кипятить и уж под конец полоскать в холодной воде.
— Ну, конечно, — сказал Вася. — И я буду так же. А то заладили: вымерзает, вмерзает! Прямо талмуд какой-то.
С утра мы напилили дров, натаскали угля, разожгли обе печи и в самой бане и в предбаннике и принялись носить в котел снег.
За ночь намоченное с вечера белье замерзло. У меня к тому же слиняла цветная рубаха, и полотенца были теперь в бурых и синих пятнах.
— Значит, будем стирать по-своему, — сказал Вася. — Верно? А то, может, французским? А? — подмигнул он мне.
Ежеминутно тухнет то одна, то другая печь. Мы набиваем куб снегом, но снег быстро тает, и снова куб кажется пустым, надо брать пилу и снова итти пилить сугроб. А тут кончается уголь. Надо итти за углем.
В бане душно, дымно, сыро. По ногам тянет с улицы злым холодом. Вода плещется на сапоги. С мокрыми ногами, вспотевшие, мы выскакиваем на улицу, на мороз то за снегом, то за углем, то за дровами. Стирка подвигается медленно. У нас только одна стиральная доска. Ею завладел Вася. Я стираю свое белье в деревянном корыте.
Уже через полчаса от мягкой снеговой воды руки становятся белые, как бумага, и сморщиваются, как печеное яблоко. На суставах пальцев появляется кровь. Тогда я вспоминаю, как стирала белье мама. Она зажимала один конец рубахи или еще там чего-нибудь в левой руке, а другой конец терла в мыльной воде. Я так и делаю. Как будто бы получается лучше.
Так как стиральная доска досталась Васе, мне предоставляется право первому кипятить белье, которое я и закладываю в большой медный чан, заливаю водой и ставлю на маленькую печурку.
Какой же потом меня охватывает ужас, когда я через час вытаскиваю из клокочущего кипятка страшные, в бурых, сизых и черных пятнах рубахи, полотенца, наволочки. На этот раз слиняла коричневая фуфайка, и чорт ее знает откуда в котле оказалась какая-то клейкая и вязкая, как смола, черная грязь.
Все мои труды пропали!. Надо все начинать с начала. Надо отстирывать эти проклятые пятна. И как это я сразу не догадался, что фуфайка может слинять?
— Цветное надо стирать отдельно, — назидательно говорит Вася.
Теперь-то и я знаю, что надо отдельно!..
Конечно, можно было бы и не отстирывать эти пятна. Но я знал, что наше белье придут смотреть, будут критиковать наши прачечные способности, и ударить лицом в грязь перед своими товарищами я просто не мог.
Нет, надо снова приниматься за стирку. Снова тащить уголь, пилить снег, разжигать печи и, вооружившись стиральной доской и огромным куском мыла, становиться к корыту.
Я очень устал, и несколько раз мне приходила в голову мысль бросить эту каторжную работу, но каждый раз я заставлял себя пересилить усталость и спокойно и аккуратно продолжать начатое дело.
Только в девять часов вечера, когда была уже глухая ночь, я прополоскал последний носовой платок, отжал его, собрал в таз все белье и распрямил ноющую, деревянную спину.
За время с восьми часов утра до девяти вечера я выстирал: две пары холодного белья, две пары теплого, четыре полотенца, пять носовых платков и три наволочки.
Любая прачка за это время настирала бы в двадцать раз больше, но в моей жизни это была первая большая стирка. Зато белье получилось такое чистое, что Боря Линев даже заподозрил — не стирал ли я его французским скорым и быстрым способом.
_______________
Но не только пилить снег и учиться стирать пришлось нам в эти первые дни зимовки. Пришлось даже изобрести швейную машину.
Было это так.
Наумыч выдал нам зеленый, огурчиками, ситец, из которого мы должны были сами нашить себе простынь и наволочек. Я решил начать пошивку первым.
В кают-компании у нас стояла ножная швейная машина, но шить на ней мне никогда до тех пор не приходилось.
Я уселся около машины, мучительно вспоминая, как шила моя мама. Когда я был маленький, я очень любил в то время, когда она работала, вертеться около швейной машины. Иногда мне даже разрешалось подсовывать материю под сверкающую ножку, сквозь которую проворно била сверху вниз блестящая игла. Теперь надо было вспомнить, что проделывала мама, приступая к шитью.
Кажется, мама делала так.
Я надеваю на шпенечек белую шпульку, пропускаю нитку во все дырочки, которые только есть в машине, всовываю нитку в иголку, подкладываю ситец, опускаю ножку. Теперь остается только вертеть.
Но вертеть, оказывается, не так-то просто. Я разом нажимаю обеими ногами на педаль, педаль срывается, машина стреляет, как пулемет. Что-то звенит и громыхает в утробе машины, нитка путается и рвется.
Нет, так ничего не выйдет. Я опять налаживаю нитку и осторожно качаю ногами педаль. Ну, кажется, дело пошло. Но стоит мне только прикоснуться к материи, как шов разъезжается, и простыня разваливается на составные части.
Машина не шьет. Я вынимаю челнок. Я помню, что мама постоянно возилась и воевала с челноком. Наверное, все дело в этой сверкающей хитроумной лодочке, ловко смонтированной из полированных кусочков металла.
Через всю лодочку наискось идет узкая щелочка, а сверху зачем-то припаяна плоская изогнутая пластинка. Внутри лодочки лежит маленькая шпулька.
«Щелочка, наверное, сделана для нитки, — думаю я и кое-как пропихиваю в нее свободный конец намотанной на шпульку нитки. — А может быть, это надо было как-нибудь по-другому сделать?»
Я обшариваю все ящики машины. Не завалилось ли где-нибудь руководство? Но руководства нигде нет. В ящиках лежат гвозди, револьверные патроны, куски кожи, банки от лыжной мази.
Я запихиваю челнок обратно, наугад подкручиваю какие-то винтики и опять пробую шить. Теперь нитка рвется сразу, как только я начинаю работать ногами.
Опять ничего не выходит.
Я сижу в кают-компании около машины и с горечью думаю: неужели нельзя было изобрести эту штуку попроще и так, чтобы она шила? Я опять вытаскиваю челнок, со злостью верчу его в руках, совершенно не понимая, что же мне с ним делать.
Снова я вынимаю из челнока шпульку. Нет, все, кажется, в порядке. Может быть, неправильно вставлена иголка? Нет, кажется, и здесь все в порядке.
Так проходит полдня. Я хожу по комнатам и у всех спрашиваю: не умеет ли кто-нибудь шить на ножной швейной машине?
Оказывается, что все, кроме меня, умеют. Все по очереди подходят к машине, бойко садятся, начинают топать по педали ногами, машина взвизгивает, нитка рвется. Тогда оказывается, что шить никто не умеет.
Около машины собирается целая толпа обескураженных людей. Проклятая машина стоит, как ни в чем не бывало.
— Надо смазать, — неуверенно говорит один.
— Смазка ни при чем, — угрюмо отзывается другой.
— Хорошо бы ее, чорта, разобрать и посмотреть, что там у нее внутри. Наверное, что-нибудь соскочило.
— Конечно, разобрать! Нечего на нее смотреть!
Гриша Быстров пробивается к машине, расталкивает столпившихся зимовщиков. Он роется в карманах, достает целый набор отверток, сверл, плоскогубцев, осматривает машину, садится перед нею на табуретку.
— Допустим, — говорит Гриша, ловко орудуя отверткой, — допустим, что мы изобретаем ножную швейную машину. Что мы должны иметь в виду? Чтобы машина шила. Так? Значит, она должна скреплять нитками два куска материи. Как же это сделать? — Он отвинчивает какие-то крышки, снимает их, и мы с удивлением видим валики, колесики, кулачки, покрытые маслом и косматой пылью. — Движенья ноги, — продолжает Гриша, — надо передать иголке. Для этого нам будет служить вот этот вал. Вал в порядке. Так, так…
— Нечего тут колдовать, — говорит Вася Гуткин, — давайте, запросим по радио какую-нибудь женщину. Так, мол, и так: не шьет — и все тут! Можно с оплаченным ответом. Слов сто ей дать, пусть напишет. А так только совсем сломаем.
— Можно мою маму запросить, — поспешно говорит Желтобрюх. — Она сразу ответит. У нее хорошая ножная машина.
— Да и мою можно, моя тоже умеет шить. Только у моей ручная машина, — пожалуй, ничего не выйдет.
— Погодите, погодите, — бормочет Гриша. — Мы на верном пути. Знаю я вас, вам просто хочется лишнее радио домой послать. Сейчас мы ее изобретем. Это что такое? — Он вынимает какую-то плоскую, изогнутую крючком планочку. — Это эксцентрик. Для чего он? — Гриша ковыряется во внутренностях машины, поворачивает колесо. — Ага! Знаю! Это натягивать нитку. Пойдем дальше, тут все в порядке.
Наконец он добирается до самого главного — до механизма челнока и иголки.
— Тут надо ухо держать востро, — говорит Гриша. — Вся хитрость во взаимодействии иголки и челнока. Иголка у нас ходит сверху вниз. Это уже изобретено. Надо теперь дать горизонтальное движение челноку. Как бы это сделать? — Он копается в каких-то валиках и рычажках. — А ну-ка, дай ходу!
Я осторожно наклоняю педаль.
— Так! — кричит Гриша. — Давай еще! Ну, конечно, все дело в челноке!
— Я это еще с самого начала знал, что в челноке, — смело говорю я.
Гриша вынимает челнок, вытаскивает из него маленькую шпулечку.
— Кто же это ее так запихал? — с возмущением спрашивает Гриша.
Я молчу.
— Что же, разве трудно было догадаться, что нитка должна разматываться справа налево? А у вас что? А потом — это что такое? Ведь нитку надо же было опять протянуть сюда, в тупой конец челнока! Вот так. Здесь даже и планочка специально для этого припаяна.
Гриша снова закладывает шпульку в лодочку и одним движением протягивает нитку и через щелочку и под планку.
Машина вновь собрана, под никелированную ножку подложена простыня.
— Полный вперед! — командует Гриша.
Я работаю ногами, как велосипедист
— Идет, идет!
— Шьет! Ребята, шьет!
— Пожалуйте патент! — кричит Гриша, размахивая плоскогубцами.
Машина изобретена.
Странички из дневника
22 октября, воскресенье. Вот и наступила полярная ночь. Все как-то не верилось, что настанет такой день, когда не будет ни утра, ни дня, ни вечера, а будет одна только ночь — все время ночь, — и солнце совсем не взойдет.
А вот сегодня оно уже не взошло. Только в полдень слабая тусклая заря чуть осветила краешек неба и погасла.
Весело гудит огонь в моей печке, заделаны все дырочки и щелочки в окне, войлоком обита наружная стена, повешена на окно занавеска.
Теперь можно спокойно отдохнуть, заняться своей работой, почитать или даже просто так посидеть без всякого дела. Ничего уже не надо ни грузить, ни таскать, ни распаковывать. Все лежит по местам в складах и кладовых.
За эти двенадцать дней аврала мы успели сделать все. И даже кое-что сверх программы. Гриша Быстров и Вася Гуткин в виде сюрприза провели на Камчатку электрический свет.
Сейчас, когда я пишу, у меня над столом ярко горит электрическая лампочка. Я даже сделал на нее абажур из остатков материи, которая пошла на занавеску.
Совсем не похоже, что мы на диком, необитаемом острове, почти у самого полюса.
Не так зимовали здесь, на Земле Франца-Иосифа, первые русские зимовщики. Еще живы люди, назвавшие эту бухту, на берегу которой стоят наши дома, бухтой «Тихой».
И профессор Владимир Юльевич Визе, который числился в списках первой русской зимовки на Земле Франца-Иосифа как «кандидат естественных наук», и художник Пинегин, и матросы Пустотный и Линник могли бы много порассказать об этой зимовке.
Трудно сейчас, сидя в теплой, уютной комнате, при свете электрической лампы, представить себе, как зимовали здесь эти люди.
Ни домов, ни складов, ни электричества, ни радиостанции у них не было. Они жили на корабле, вмерзшем в лед бухты, ютясь в промерзлых и закопченных каютах, которые отапливались только жалкими вонючими коптилками. На стенах кают толстым слоем намерзал лед, одеяла покрывались инеем, и люди всю долгую полярную зиму спали не раздеваясь.
От недостатка свежей, здоровой пищи у зимовщиков началась цынга. А ветеринарный врач, который был в экспедиции за доктора, даже и не догадывался, что люди болеют цынгой. Больных он пичкал протухшей солониной и заставлял лежать в душных прокопченных каютах без света и свежего воздуха.
Вот здесь, за окном, в ста метрах от нашего дома, стоял этот обледенелый, черный и молчаливый корабль.
Также как и я, участники этой первой зимовки вели дневники. И вот о чем рассказывают их записи:
«25 февраля. Как упорны и злы морозы. Мы жмемся друг к другу, как холодом застигнутые птицы. Все каюты, за исключением одного лазарета, покинуты. И я, устав бороться со льдом, переселился в кают-компанию.
«Сегодня Иван, переставляя ящики, нашел в трюме гнездо крыс. Крысы лежали друг на друге тесным комком. Более пятидесяти, но в живых осталось только две-три, и те даже не пошевелились, не испугались света фонаря.
«Зандер совсем плох. Сегодня, войдя в каюту навестить его, я сразу заметил, что больной сильно осунулся, обозначились скулы, запали глаза. Он не предложил мне, как обыкновенно, «несколько градусов своей повышенной температуры для тепла», а, прерывисто дыша, сказал голосом слабым и серьезным:
«— Видно, мне от своих градусов не избавиться; одна просьба — найдите несколько досок на гроб…
«Я ответил шуткой. Но шутка успеха не имела. Больной ответил все тем же слабым и серьезным голосом:
«— Плохо мне..
«1 марта. Прилетели птицы. После обеда я взял ружье, — не удастся ли добыть несколько птиц для больных. Едва я вышел на палубу, меня догнал Кушаков и сказал: «Иван Андреевич кончается». Я вернулся и открыл дверь в его каюту. Зандер был еще жив. Когда дверь скрипнула, он пошевелился и испустил хрип, — это был последний вздох. Бледный, неподвижный лежал Зандер на левом боку, закрыв глаза и подложив под щеку руку. Казалось, он спал. Узкая койка в тесной каюте, слабый свет полярного дня, еле светящего через обледенелый иллюминатор, серые, закопченные стены — вот обстановка последних дней жиз-ни и одинокой его смерти.
«Все здоровые — нас шесть человек — отправились копать могилу вблизи астрономического пункта. Работали до полной темноты. Почва смерзлась до такой степени, что даже ломами невозможно выкопать глубокую яму. Могила получилась глубиной всего в аршин.
«2 марта. Похоронили Ивана Андреевича. Зашив тело в мешок из брезента (на корабле не нашлось и шести досок, годных для гроба), мы вынесли Зандера на палубу и на нарте довезли до могилы. Выла вьюга. Ветер трепал одежды впрягшихся в сани, шуршал по камням».
Могила Зандера цела и сейчас. На пригорке, позади аэрологического сарая, стоит в изголовье невысокой кучи камней деревянный крест. К кресту прибита дощечка:
Каждый год 1 мая зимовщики приходят на эту могилу и отдают воинские почести механику парохода «Святой Фока» Ивану Андреевичу Зандеру, погибшему от цынги во время экспедиции старшего лейтенанта Седова.
И мы первого мая пойдем к этой могиле. Старые зимовщики, уезжая, просили нас не забывать Зандера.
____________
23 октября, понедельник. Сегодня Наумыч издал приказ об осторожном обращении с огнем. В коридорах у нас горят керосиновые фонари, да и в комнатах иногда приходится сидеть с керосиновой лампой или свечкой, потому что электричество у нас часто гаснет. Да и вообще-то электрический свет у нас горит только до двенадцати часов ночи, а после двенадцати приходится сидеть с керосином. Чуть не доглядишь — может вспыхнуть пожар.
Наумыч, — а он здесь и следователь, и прокурор, и судья — все сразу, — обещает по всем строгостям законов карать за небрежное, разгильдяйское обращение с огнем.
Зимовщик, по вине которого случится пожар, будет расстрелян.
Когда Наумыч объявил нам сегодня свой приказ, многие из нас начали шутить и смеяться;
— А кто же, интересно, будет приводить приговор в исполнение? Каюры, что ли?
— А кассацию кому подавать? Тоже вам, Наумыч?
Но Наумыч насупился, запыхтел и твердо сказал:
— Я, товарищи, такими словами не шучу, да и вам не советую. Повторяю: что бы там потом ни было, но я расстреляю, как диверсанта и вредителя, всякого, по чьей личной вине произойдет на зимовке пожар. Советую поверить мне на-слово и не проверять этого на практике. Понятно?
Кажется, все поверили на-слово.
Сегодня ко мне уж раз пять забегал Вася Гуткин.
— Посмотри, милок, за моей печкой. Я в радиорубку сбегаю. Как бы огонь не выпал.
Да и сам я, когда уходил обедать, тщательно осмотрел фонари в коридоре, привернул фитили, а один фонарь, который горел каким-то рогом, даже потушил. Я сегодня в нашем доме дежурный по коридору, и за фонари отвечаю я.
25 октября, среда. Передо мной на столе лежит толстая синяя папка с бумагами. Мне дал ее сегодня Наумыч.
— Посмотри, — может, найдешь что-нибудь интересное для себя, — сказал он. — Это архив нашей зимовки.
Папка открывается четвертушкой бумаги, косо исписанной крупным почерком. Чернила зеленые, какие бывают в автоматических «вечных» ручках.
Вот эта бумажка:
Коллегия Наркомпроса
О. Ю. Шмидт
тел. 5-06-57
Москва. Председателю Совнаркома СССР.
Копия Совнарком, Арктическая Комиссия,
Сергею Каменеву, копия Известия, копия
ТАСС, копия Архангельск, Крайисполком,
копия Правда Севера
Первой телеграммой сегодня открытой радиостанции Земле Франца-Иосифа зимовщики экспедиция команда ледокола приветствуют свое правительство выражают готовность таким же энтузиазмом выполнять следующие задания по социалистическому строительству или обороне его.
По поручению участников Начэкспедиции Шмидт.
А наверху бумажки карандашом помечено:
3. Ф. И. № 1 54 сл. 31/8 21.00
Было это 31 августа 1929 года, в 21 час. В этот день этой самой телеграммой была открыта здесь, на острове Гукера Земли Франца-Иосифа, постоянная советская научно-исследовательская и радиостанция.
Наша — пятая по счету советская зимовка.
А вот еще интересная бумажка:
№ 14 02 44 1/IX 29 г. 20.00
Ленинград президенту Академии Наук Карпинскому
Персонал приветствует вас самой северной мире геофизической станции уверены постройка станции Земле Франца-Иосифа внесет ценный вклад в историю изучения Арктики надеемся при поддержке Академии станция современем развернется мощную обсерваторию имеющую мировое значение тчк Илляшевич.
Надежды первых зимовщиков сбылись. Полярная станция на острове Гукера уже превратилась сейчас в обсерваторию, имеющую мировое значение. Больше нигде во всем мире не ведутся на таком крайнем севере постоянные, из года в год, ежедневные наблюдения над полярным климатом, над явлениями земного магнетизма и атмосферного электричества.
Мне попались в папке листы из вахтенного журнала нашей радиостанции. Журнал вел радист Кренкель. Среди разных радиограмм, метеорологических сводок, поздравлений и приветствий я увидал необычайную запись. Я прочел ее от начала до конца. Да, это и есть тот самый знаменитый разговор двух полюсов — северного и южного, — о котором я что-то такое мельком слыхал еще в Ленинграде!
Вот этот разговор:
12. 1. 30 г. 23 часа 40 мин. на позывные RPX отозвалась станция с позывными американского правительства.
Американская. Сообщите ваши координаты уведомьте кому принадлежит станция?
R Р X. Координаты 80°20′ северной широты 52°38′ восточной долготы. Станция находится на Земле Франца-Иосифа и принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик. Сообщите то же о себе.
Американская. Координаты 78°35 30" южной широты 163°35′ западной долготы. Станция находится ледяном барьере Росса принадлежит антарктической экспедиции адмирала Ричарда Эвелина Берда. Приветствуем вас.
R Р X. Очень рад благодарю как ваши дела?
Американская. Сегодня только 2 градуса мороза. Конец лета. Под влиянием солнечных лучей лед тает, большая облачность мешает подняться самолетам. Суда экспедиции приближаются к ледяной кромке, чтобы сменить зимовщиков. Наша экспедиция располагает тремя самолетами и другими машинами, приспособленными для изучения полярных областей. Для получения воды из льда пользуемся мощными эвапораторами. Главная база расположена ледяном барьере Росса и состоит из 42 человек. Цель — достижение южного полюса. Имеем много ездовых собак. Недавно вернулась береговая партия, прошедшая 400 миль по ледяной пустыне. Полгода назад прошла полоса 60-градусных морозов. А как у вас?
R Р X. Сейчас непроглядная ночь. За окном завывает пурга. Нас всего 7 человек. Все живы и здоровы. Живем дружной семьей. Держим связь с Советским Союзом. Ежедневно посылаем метеорологические сводки в главную геофизическую обсерваторию. Ленинградская общественность организовала для нас два раза беседу через радиостанцию. Слушали приветствия родных, близких, детей.
Американская. Летчик Харальд Джун просит передать всем вам привет.
На этом связь прекратилась.
Более 17 тысяч километров разделяло Кренкеля и американских радистов — Петерсона и Мессона. Мощность американской станции была 800 ватт, нашей 1/2 киловатта.
Это был единственный случай в истории радиотехники, когда разговаривали два полюса земли — северный и южный.
Первое преступление
Боря Виллих, или Желтобрюх, самый молодой среди нас. Ему только недавно исполнилось 19 лет. Говорить об этом Боря очень не любит. Разве же приятно говорить, что тебе только 19 лет, когда страшно хочется, чтобы было уже тридцать и за плечами была бы жизнь, полная приключений, опасностей и геройских поступков.
Но никаких приключений и геройских поступков за плечами у Бори нет. За плечами у Бори только что оконченный авиационный техникум, и поэтому Боря предпочитает лучше не говорить о своей жизни и о своих годах.
На верхней губе у Бори чуть заметный золотистый пушок. Еще ни разу в жизни он не брился.
— Ну что, Борька, скоро будем озимые косить? — каждый раз спрашивает его Боря Линев. — Пора косить. Переспеют.
И каждый раз Наумыч строго-настрого приказывает не косить Желтобрюховы озимые.
— Дело это, — говорит Наумыч, — серьезное. Халтурить тут не приходится. Пускай сначала заслужит. Вот когда станет настоящим мужчиной, полярником — тогда можно и косить. А сейчас еще не за что его в совершеннолетние производить.
— Верно, верно, — как можно серьезнее говорим мы, — правильно, Наумыч. Пускай заслужит. Он думает — это так, хаханьки, — взял и побрился? Нет, брат ты мой, сначала за нее, за бороду-то, пострадай!
Боря попадается на удочку.
— Да что вы, смеетесь, что ли! — кричит Боря, размахивая длинными тощими руками. — Вы смеетесь или нет? Что — я не могу делать, чего мне хочется?
— А тебе, значит, Боренька, очень этого хочется? — ехидным голосом спрашивает Леня Соболев.
Кают-компания радостно хохочет.
А Боря краснеет, злится.
— И совсем даже не хочется! Чего вы ко мне привязались? Вот на зло не буду бриться, пусть вырастет, как у Шмидта.
По утрам Борю не добудиться. Он спит так крепко, что приходится обливать его водой, стаскивать на пол. И, все равно, каждый день к завтраку Боря прибегает самым последним.
— Умывался? — строго спрашивает его Наумыч.
— Ей-богу, умывался. С мылом даже.
— А ну, покажи руки.
— Наумыч, они у меня не отмываются, — под дружный хохот т говорит Боря, пряча руки за спину. — Честное комсомольское, ей-богу, не отмываются! Никак!
— Так, так, — говорит Наумыч, — это мы сейчас проверим, Григорий Афанасич, — обращается он к Шорохову, — ты рядом живешь, — механик у тебя сегодня умывался?
— А ну его, — говорит Шорохов. — Взяли с собой молокососа, а теперь вот возись с ним. Умывай, раздевай. Что я ему, нянька, что ли?
Голос у Бори начинает дрожать:
— Наумыч, я честное комсомольское дал. Они у меня в машинном масле, в копоти. Как хотите, но только я умывался. Вот и Безбородов видел.
— Умывался, умывался, — говорю я. — Как член санитарной комиссии могу засвидетельствовать.
— Ну, тогда садись.
Боря, радостный и довольный, садится за стол, пододвигает к себе тарелки, а через минуту уже смеется и рассказывает сны.
С того дня, как к зимовке первый раз подошли медведи, Боря стал всюду ходить с винтовкой за плечами.
— Брось винтовку! — кричал на него Шорохов. — Вот тоже наказание! Застрелит еще кого-нибудь, или выколет глаз, а потом отвечай за него!
Боря перестал носить винтовку, но зато вооружился тяжелым кольтом 38-го калибра. Поносил два дня в правом кармане — прорвал в кармане дыру с кулак. Поносил в левом — то же самое.
Тогда Боря стал затыкать кольт за пояс. Ходит, прямо как морской разбойник.
Так он таскал револьвер с неделю.
И вот как-то утром Шорохов послал Борю в ангар за гвоздями.
— Штук десять принеси. Они там в ящике у стены. Ну, живо!
Боря выскочил из Дома в одной кожанке и побежал в ангар.
В ящике навален инструмент, мотки проволоки, свалена кучей парусина. Боря долго рылся, пока, наконец, не нашел гвоздей. Он отобрал десять штук, сунул их в карман, поспешно выбежал из ангара и… остановился.
В пяти шагах от Бори на снегу сидели рядышком два медведя: один огромный, совсем старый, другой — помоложе, помельче. Склонив головы на бок, они внимательно рассматривали Борю. И Боря уставился на медведей — ни жив ни мертв. А револьвер Борин лежит в комнате, под подушкой. Все 11 патронов в обойме и даже предохранитель не спущен.
Стоит Боря. Сидят напротив него медведи. Боря потихоньку начал пятиться к углу ангара, а сам глаз с медведей не сводит.
Медведи сидят. Переглянулись и снова на Борю уставились.
Боря отошел шага на четыре, постоял, еще шагнул, потом еще, оглянулся, прикинул расстояние до дома, повернулся к медведям спиной и давай бог ноги.
Пока он добежал до нашего дома, отдал Шорохову гвозди, схватил свой кольт, каюры уже заметили медведей и успели обоих застрелить.
Боря чуть не плакал от злости и обиды.
Чтобы хоть немножечко утешить его, Боря Линев сходил в свою комнату, принес трубку и протянул ему:
— На уж, покури. Давно ведь клянчил. Покури, Желтобрюх, с горя. Помогает.
У Желтобрюха своей трубки не было, а курить из трубки ему очень хотелось: какой же это настоящий полярник, если без трубки?
Боря сразу повеселел.
Он не спеша набил трубку, зажег спичку и, громко причмокивая губами, принялся втягивать дым. Мы приготовились смотреть, что будет дальше.
И вот в трубке что-то тоненько, жалобно запищало, потом послышалось какое-то бульканье и урчание. А сам Боря, скосив глаза на кончик трубки, покраснев и задыхаясь, продолжал чмокать, точно он сосал соску.
Вдруг запахло паленой шерстью.
— Желтобрюх, никак брови горят? — сказал Боря Линев.
Желтобрюх схватился за брови.
— Верно, подпалил малость. Это я, наверно, когда прикуривал.
Боря Линев встал, подошел к Желтобрюху и, вытащив у него изо рта трубку, торжественно сказал:
— Согласно приказу начальника, за небрежное и разгильдяйское обращение с огнем трубка отбирается.
Все мы любили Желтобрюха. Только Шорохов сразу же, еще с Архангельска, не взлюбил почему-то своего борт-механика. Постоянно Шорохов кричал на Борю, жаловался на него и нам всем и Наумычу.
— Убери ты от меня Борьку, все равно я с ним летать не буду, — часто просил он Наумыча. — На что мне такой младенец? Он даже спичку зажечь не умеет, не то что с мотором управляться!
Наумыч хмурился.
— Разве ты не знал, кого берешь в борт-механики? Ты же сам его просил. Тебе же говорили в Москве, что парень он молодой, неопытный, а ты что сказал? Сказал, что берешь на свою ответственность, ручаешься и так далее. Раньше надо было думать, а теперь уже поздно. Постарайся сработаться.
— Чего там сработаться? — упрямился Шорохов. — К нему двух нянек надо приставить, а ты — сработаться. Дай мне Редкозубова, а Борьку забери.
— Ну, хорошо, — говорил Наумыч, — ладно. Допустим, что я Бориса у тебя заберу. Как же я могу тебе дать Редкозубова? Он ведь самый простой механик. Он даже не имеет права летать. А если что случится, — тогда кто будет отвечать? Я? Спасибо.
— Я его подучу, — не сдавался Шорохов. — Ты отвечать не будешь. Пойми ты, что мне не ужиться с Борькой. Убери его от меня, пожалуйста.
Наумыч начинал злиться.
— Эти капризы, Григорий Афанасич, надо забыть. Здесь не место капризничать. Понадобится, так с чортом уживешься, не то что с Желтобрюхом.
Шорохов уходил от Наумыча злой, хлопал дверями, по целым дням ни с кем не разговаривал, швырялся за обедом тарелками.
— Ничего, ничего, — посмеивался Наумыч, — пройдет. От этого люди не умирают.
А сам вызывал к себе в комнату Желтобрюха.
— Что же это такое, Борис? — строго говорил он. — Опять на тебя летчик жалуется. Ты что, думаешь, он к тебе будет подлаживаться? Нет, милый мой, ты к нему должен подладиться, а не он к тебе. Смотри у меня, Борис, я с тобой как с комсомольцем говорю; чтобы летчик больше на тебя не жаловался. Ступай, и чтобы у меня — тише воды, ниже травы.
И вот с Желтобрюхом стряслась беда. Желтобрюх совершил преступление.
Произошло это вот как.
Наумыч назначил меня библиотекарем зимовки.
Во время аврала никто, конечно, и не вспоминал о книжках. Некогда даже было умыться как следует, не то что книжки читать. Но, когда аврал кончился, когда наступила полярная ночь и жизнь наша вошла в колею, у библиотеки появились читатели.
Первым забежал ко мне Гриша Быстров.
— Открой, пожалуйста, библиотеку, — быстро проговорил он. — Нет ли у нас какой-нибудь книжечки по телефонии? Прямо до зарезу схему одну надо посмотреть.
— Пойдем, поищем. Только что-то я не помню, — кажется, нет такой.
Библиотека у нас была большая, но как-то бестолково подобранная.
В отделе журналов целые две полки занимали потрепанные номера «Русского богатства» за девяностые годы прошлого столетия.
В справочном отделе можно было найти по крайней мере пять экземпляров руководства для разведения шампиньонов и «Настольную книгу кроликовода», можно было получить самый подробный рецепт «Как самому, домашним способом приготовлять ароматические смеси и духи из простейших полевых цветов». Но зато, если бы вдруг понадобилось узнать, как провести звонок или выложить печку, как запаять кастрюлю или починить сапоги, — прочесть об этом было решительно негде.
Мы прошли в библиотеку. Библиотека не отапливалась, и в ней был такой холод, что книги приходилось выбирать, не снимая рукавиц.
— Вот научно-технический отдел, — сказал я, показывая на нижнюю полку. — Ищи! Только ставь, пожалуйста, на место.
Гриша присел перед полкой на корточки и проворно стал выхватывать одну за другой толстые потрепанные книги. Но, конечно, того, что ему было нужно, в библиотеке не оказалось.
Вторым читателем был Боря Линев. Он потребовал чего-нибудь про охоту, промысел морского зверя, про полярные экспедиции. На счастье, этих книг у нас было хоть отбавляй, и Боря ушел из библиотеки, нагруженный толстыми томами всяких отчетов и монографий.
Потом зашел ко мне Ступинский. Он спросил, нет ли в библиотеке Анатоля Франса, и так как Анатоля Франса не было, взял первый том Большой советской энциклопедии.
— Вы знаете, — сказал он, перелистывая энциклопедию, — я решил за зимовку прочесть весь этот словарь. У нас его сколько томов?
— Восемнадцать томов, от А до «Граца».
— Ну, вот. Я и буду прочитывать в месяц по одному тому. На весь год хватит, да еще останется. Это очень интересно. Правда? Вот, например, — он раскрыл книгу наугад, — например, «Автодидакт». Вы знаете, что это такое? Вот я вам сейчас прочту. «Автодидакт — это человек, не прошедший никакой школы, но приобретший знания путем самообучения». Самоучка, так сказать. Или вот — Адай-Хох. Смотрите, пожалуйста. Это, оказывается, одна из высочайших вершин Северного Кавказа! Высота ее — 4650 метров. Покрыта вечным снегом и ледниками. А я такой даже и не знал. Правда, любопытно?
Потом пришел Арсентьич. Он взял «Вопросы ленинизма» и попросил какой-нибудь задачник по арифметике. В отделе точных наук я раскопал тоненькую, еще не разрезанную книжечку: «Живой счет. Руководство для школ крестьянской молодежи» и дал ее Арсентьичу.
Наконец заявился Желтобрюх. Он осмотрел библиотеку, спросил, нет ли Конан-Дойля или «Чар полнолуния», и, узнав, что этих книг в библиотеке нет, разочарованно сказал:
— Ну, тогда дай еще чего-нибудь. Роман там какой-нибудь или приключения. Только потолще, чтобы надолго хватило.
— Хочешь «Графа Монте-Кристо»? — предложил я. — Это, брат, такое чтение, что за ушами трещать будет. Тут тебе и подкопы, и побеги, и страшная месть, и безумная любовь.,
— Это подходяще, — сказал Желтобрюх. — Давай графа.
На другой день, как обычно, в восемь часов утра меня разбудил «Яшка-коммивояжер». Ощупью я нашел над столом электрическую лампочку и повернул ее в патроне. Вспыхнул свет.
Слышно, как по коридору, шаркая меховыми сапогами, бродит Шорохов. Он подходит к каждой двери, стучит костяшкой пальца и сипло кричит:
— Камчадалы, вставать!..
Из-за дверей каждый отвечает по-своему:
— Встаю, встаю, — ворчливо брюзжит Ромашников. — И без вас встаю. Остановите, пожалуйста, патефон! Невозможно жить!.
— Встаю, милок, встаю, — бодро и весело отзывается Вася Гуткин.
— Отвяжитесь, встаю, — недовольно говорю я.
Желтобрюх, по обыкновению, не отзывается. Его придется будить сообща.
Умывшись холодней ледяной водой, я надел шерстяной свитер и безрукавку из собачьего меха, прибрал кровать и подмел комнату большим белым крылом чайки.
Вот я и готов. Я осмотрел комнату, потушил свет и вышел в коридор.
У стены напротив моей комнаты стоял Шорохов. Не успел я притворить за собой дверь, как Шорохов бросился ко мне, схватил за руку и потащил куда-то в сторону, по коридору.
— Мой-то олух царя небесного что натворил, — зашептал Шорохов мне в ухо. — Жуть!
— Что такое?
— Уснул вчера, зачитался, поди, своим Монте-Кристом. Сколько раз ему, пащенку, говорил: не читай, не твоего ума дело. Нет, все свое! Зачитался, лампу-то и не потушил. Всю ночь коптела. Я сейчас зашел к нему, а он черный, как аспид, комната вся в саже, на потолке прямо шерсть. Хорош, а? Вот мерзавец, ведь пожар мог устроить. Ну что это такое? Ну куда это годится?. Смотри, смотри, выплывает.
Крайняя дверь тихо отворилась, и в коридор вышел Боря Маленький. Он быстро посмотрел в нашу сторону и отвернулся. Лицо его было темносерого, мышиного цвета, белые испуганные глаза сверкнули, как у негра.
— На башке-то колтун от сажи, — шепнул мне Шорохов.
Бережно, двумя пальцами Боря нес черную наволочку, которую он стал робко встряхивать около выходной двери.
— Ты где трясешь! — вдруг закричал Шорохов. — Где ты трясешь? Тебе что здесь — улица? Дворницкая? Да? Здесь, милый мой, люди живут! Видали вы такого растяпу?
Боря покорно вышел в сени.
— Нет, каков, а? — не унимался Шорохов. — Ну как же, скажи на милость, с таким растяпой работать? Сегодня он лампу не потушил, а завтра чорт его знает что наделает. С таким не сработаешься. Нет.
Мне стало жалко Желтобрюха.
— Ну, Григорий Афанасич, ну зачитался парень Он, поди, и сам до смерти перепугался теперь.
— Как это зачитался! — вскричал Шорохов. — Что это значит — зачитался? Он у меня в самолете зачитается, а я что должен? Погибать? Зачитался! Тоже этот — как его? — Тургенев. Нет уж, мне Тургенева не надо. Мне борт-механик нужен, а не Тургенев.
Шорохов направился к себе в комнату, шаркая сапогами и бормоча что-то про Тургенева, а я прошел к Васе Гуткину.
Широко расставив ноги, он согнулся у рукомойника, голый до пояса, и плескал себе на грудь пригоршни воды, потихоньку взвизгивал, охал и тряс головой.
— У-ах! Хорошо! Ух ты, чорт! Ну, еще. Ах!
— Вася, — сказал я, садясь на диван, — Желтобрюху крышка.
— Как крышка? — Вася перестал плескаться и выпрямился, весь мокрый, блестящий. — Как это крышка?
— Очень просто. Он лампу не потушил. Всю ночь коптела, он сейчас черный, прямо как Вельзевул. Всю комнату к свиньям закоптил.
— А мы не скажем, — быстро проговорил Вася. — Не скажем, никто и не узнает. Борьке, конечно, дадим бубна хорошего, а Наумычу не скажем.
— Шорохов скажет, он видел.
Вася сел на диван, медленно стал вытираться полотенцем.
— Шорохов, пожалуй, скажет, если видал. Что же теперь будет? Наумыч Борьку съест.
К завтраку собрались с опозданием. Вся зимовка уже знала про Борино несчастье, однако никто не подавал вида. За столами шептались, перемигивались, посматривали на мрачного Шорохова, с нетерпением поджидали Наумыча.
Скажет Шорохов или нет?
Наконец пришел Наумыч. Теперь были все в сборе, кроме Желтобрюха. Наумыч пробрался на свое место у окна, оглядел кают-компанию, громко сказал:
— Ну, чем нас сегодня Арсентьич травить будет? Опять консервы с картошкой?
— Сегодня язык с горохом, — сказал Костя Иваненко, мрачно ставя на стол большое блюдо.
— Гарно. Поедим язычок балаболку. — Наумыч пододвинул к себе дымящееся блюдо, наложил полную тарелку зеленого горошка, крякнул — Люблю горох. Как это там, Сергей, у Некрасова про горох-то написано?
— Не знаю, — пробурчал я, — про горох что-то не помню.
— Кто помнит про горох?
Про горох никто не помнил. Наумыч укоризненно покачал головой.
— Что же это вы, хлопцы? Мы, украинцы, своего Шевченку от доски до доски на зубок знаем. А вы про горох у Некрасова не помните! Дрянь! Ну, скажу, коли так. — Он поднял вверх ложку и важно продекламировал:
Поспел горох! Накинулись, Как саранча на полосу: Горох что девка красная, Кто ни пройдет — щипнет.Вдруг Шорохов с треском отодвинул свой стул, положил вилку и, прищурившись, сказал:
— Разрешите вам, Платон Наумыч, заявить насчет сегодняшнего официального события на Камчатке. Конечно, — он криво улыбнулся и развел руками, — так, как Некрасов, я говорить ке умею, уж скажу, как выйдет.
В кают-компании стало очень тихо.
— Так вот, Платон Наумыч, — продолжал Шорохов, — сегодня ночью Борис едва не спалил Камчатку..
— Какой Борис? — быстро спросил Наумыч.
— Мой Борис, Виллих, какой же еще? Развалился на койке и читает, как Тургенев какой-нибудь. Я уж ему тысячу раз говорил: не читай, говорю, по ночам, добром это не кончится! Нет, все свое! Ну, вот. Лампу, конечно, и не потушил. Это, товарищи, я считаю прямое безобразие! Всю ночь лампа горела. Пламя прямо языком хлестало. Всю комнату чадом закоптил, сам — как я уже не знаю кто сделался. Во всяком случае, товарищи, — он осмотрел кают-компанию, — я считаю, что надо сделать самые строгие выводы. Куда же это годится? Так мы далеко не уедем. Погорим все к чорту!
Шорохов замолчал. Молчали и мы все. Молчал и Наумыч.
— И потом, — сказал Шорохов, снова пододвинувшись к столу и взяв вилку, — я с ним, с таким растяпой, летать, ясное дело, не буду. Что же это такое? Читателей мне не надо. Он мне что-нибудь такое накрутит, что потом и на кладбище не разберешься.
— Где Борис? — глухо сказал Наумыч.
Шорохов хмыкнул:
— Где? Копоть, поди, отмывает! Он прямо как арап Петра Великого сделался. На башке — колтун, одни глаза сверкают. Хорош, нечего сказать.
Снова в кают-компании стало тихо. Едва-едва звякнет вилка или чайная ложечка.
Вдруг хлопнула входная дверь, и в коридоре раздались медленные, тяжелые шаги.
Мы переглянулись. Шаги стихли у кают-компании. Девятнадцать пар глаз уставились на дверь.
Дверь медленно-медленно растворилась, и вошел Желтобрюх. Он, наверное, уже все понял: никогда еще не было в кают-компании так тихо.
Ни на кого не глядя, Желтобрюх прошел на свое место, сел, серой рукой взял кусок хлеба, откусил и замер. Он сидел спиной к Наумычу, и я видел, как Наумыч не отрываясь смотрел на его совершенно окаменевшую, неподвижную спину.
— Борис, — вдруг позвал Наумыч каким-то чужим, незнакомым голосом.
Тишина.
— Борис, — снова позвал Наумыч.
— Я, — не поворачиваясь, тихо ответил Боря.
— Т…т…ы слыхал приказ об осторожном обращении с-с огнем? — заикаясь сказал Наумыч.
— Платон Наумыч, я хотел.
— Ты слыхал, я спрашиваю, приказ?
— Я хотел было.
— Ты приказ слыхал, или нет, чорт подери, — я кого, в конце концов, спрашиваю?! — закричал Наумыч.
— Слыхал.
— Слыхал? Отлично! — Наумыч глубоко вздохнул и уже совершенно спокойным голосом добавил: — После завтрака зайдешь ко мне в комнату. Поговорим наедине.
Боря склонился над столом и, взяв вилку, как-то механически стал тыкать в банку со шпротами.
Завтрак закончился в молчании.
«Что же теперь будет с Желтобрюхом?» — думал я, возвращаясь в свою комнату. Мне было очень жалко его, и я чувствовал какую-то свою вину в том, что случилось, — ведь это я дал ему «Графа Монте-Кристо».
Не зажигая огня, я лег на кровать. Я слышал, как вернулся к себе Шорохов, и сразу же громко, на весь дом, заиграл патефон; как быстро прошел Вася Гуткин, остановился, приоткрыл мою дверь, увидел, что у меня темно, и прошел мимо; как протопал в лабораторию Ромашников.
Мы сговорились с Ромашниковым, что будем дежурить по десяти дней — десять дней он, десять — я. Но пока что все наблюдения проводил он, а я был вроде практиканта: приглядывался к его работе, смотрел, как он отсчитывает показания приборов, меняет ленты на самописцах, составляет радиограммы для Бюро погоды Ленинграда и Москвы.
Вдруг в дверях кто-то тихо поскребся.
— Да, да, можно! — крикнул я.
Кто-то вошел и в темноте остановился на пороге.
— Кто там?
— Это я, Желтобрюх, — грустно сказал невидимый Боря. — Ты что, спишь?
Он ощупью добрался до кровати, сел в ногах, вздохнул.
— Ну, был? — спросил я.
— Был.
— Ну?
— Да что же?.. Говорил он со мной. «Что же ты, — говорит, — натворил? Ты же, — говорит, — дом мог сжечь». Потом спрашивает: «Ну, что мне теперь с тобой прикажешь делать?»
— Ну, а ты чего?
— Ну, чего же. Я говорю: делайте, что хотите. Что полагается, то и делайте. Попилил он меня, и говорит: «Иди. Потом в приказе прочтешь».
Мы помолчали.
— Злой? — спросил я.
— Да нет, не то, чтобы очень злой. Все вздыхал, сопел, по комнате ходил. «Сукин ты сын, — говорит, — вот ты кто. Тебе бы, — говорит, — вложить по первое число, ты бы тогда знал».
Мы посидели с Желтобрюхом в темноте, — как-то не хотелось зажигать яркий свет, — покурили.
— Ну, пойду, — сказал Желтобрюх и, тяжело вздохнув, встал.
— Да ты, Желтик, не убивайся, — попробовал я его утешить. — Может, еще и пронесет, может, только выговор даст.
— Да нет уж, — уныло сказал Боря. — Приказ-то помнишь?. Вот тебе и борода. Теперь и верно как у Шмидта вырастет..
Два дня после этого вся зимовка мучилась в догадках — что будет с Желтобрюхом.
Шорохов по целым дням сидел у Наумыча в комнате, они о чем-то спорили и громко кричали. Радист Рино приносил Наумычу какие-то радиограммы и, по слухам, отправлял много радиограмм в Москву — все о Борьке и о Шорохове.
Наконец, на третий день, за обедом Наумыч передал мне большой лист бумаги и сказал:
— Прочти-ка приказ. Потом вывеси на доске.
— Подожди, подожди! — испуганно закричал Леня Соболев. — Наумыч, разреши за трубкой сбегать. Ей-богу, без трубки не могу слушать. Я одним духом.
Он быстро вернулся с трубкой и с большой круглой коробкой махорки.
— Ну, теперь крой!
Я прочел;
ПРИКАЗ
по научно-исследовательской базе на Земле Франца-Иосифа
§ 1.
За неосторожное, преступное обращение с огнем механику лётной группы тов. Б. И. Виллих объявляю строгий выговор с предупреждением.
§ 2.
Для пользы дела, согласно рапорта летчика Г. А. [Дорохова, отчисляю тов. Б. И. Виллих из лётной группы и назначаю служителем зимовки.
§ 3.
Механика радиостанции тов. Редкозубова С. И. зачисляю борт-механиком лётной группы (основание: радиограмма Нач. Управления Воздушных сил Г.У.С.М.П.)
§ 4.
Служителя тов. Иваненко зачисляю механиком радиостанции.
Начальник научно-исследовательской базы на Земле Франца-Иосифа
Доктор Руденко.
Все молча выслушали приказ и уткнулись в свои тарелки, стараясь не глядеть ни на Желтобрюха ни на Платана Наумыча. Один только Шорохов торжествующе посмотрел по сторонам и с особенным удовольствием принялся поедать котлеты, запихивая в рот огромные куски хлеба и громко, на всю кают-компанию причмокивая.
Глава пятая
Шифрованная телеграмма
Ночь на 1 ноября я почти не спал. Вообще-то я бессонницей не страдаю: сплю много и крепко, а тут через каждые полчаса я просыпался, чиркал спичку, хватал часы. Нет, еще рано.
Правда, на столе у кровати стоял будильник, заведенный на 6 часов утра. Но будильнику я не верил: а вдруг не зазвонит, или не услышу звонка? Лучше уж до будильника проснуться.
Так и промучился всю ночь.
Волновался я недаром. Это был знаменательный день моей жизни на зимовке: в среду 1 ноября я в первый раз выходил на самостоятельную научную работу. В этот день я был не просто зимовщик, я был дежурный метеоролог.
А дежурный метеоролог — это уже персона. По радио дежурный сообщает в Архангельск, в Ленинград, в Москву обо всем, что делается с погодой на Земле Франца-Иосифа.
Десятки приборов помогают дежурному следить за погодой. Один прибор непрерывно записывает, как меняется давление воздуха — вычерчивает перышком на ленте кривую, другой все время записывает температуру воздуха, третий — влажность воздуха.
Пишут они сами и потому называются самописцами. Такой прибор надо только завести, натянуть на его барабан ленту, налить в перышко, похожее на маленькую лодочку, специальные незамерзающие чернила, а уж дальше прибор сам пойдет писать, пока весь завод не выйдет.
Кроме самописцев, под начальством дежурного всякие термометры, барометры, анемометры, флюгер, снегомерные рейки.
Хозяйство у дежурного метеоролога такое большое, какого, пожалуй, ни у кого нет. И ветер, и дождь, и снег, и облака, и гололедица, и мороз, и туман, и град, и метель — все это в его хозяйстве, за всем надо следить.
Четыре раза в сутки обходит дежурный все свои приборы, записывает все, что ему рассказывают о погоде его подчиненные.
Только десять минут дается дежурному на этот обход. А сделать за эти десять минут надо целую кучу дел, и сделать точно, аккуратно, быстро.
И вот сегодня все это я должен проделать сам. В Бюро погоды получат сегодня с Земли Франца-Иосифа радиограммы, которые составлю я.
Мне было и приятно и страшновато. Ромашникову-то легко, он опытный, старый метеоролог, для него все это пустяки, он привык к этой работе. А я в метеорологии совсем новичок. Для того, чтобы меня взяли на зимовку, мне пришлось поступить на курсы метеорологов-наблюдателей. Всего полгода я учился на этих курсах и окончил их только за месяц до отъезда на зимовку. Вдруг я зашьюсь, что-нибудь не так сделаю, напутаю, навру..
За десять минут я должен успеть зарисовать в специальную тетрадочку облака, в другую тетрадочку записать давление воздуха по ртутному барометру и по барометру-анероиду, потом сходить на метеорологическую площадку и там записать показания трех термометров, измеряющих температуру снега, и пяти глубинных термометров, которые в металлических трубках опущены в глубину почвы. Потом по снегомерным рейкам я должен вычислить высоту снегового покрова, потом записать влажность воздуха, с какой стороны и какой силы дует ветер и что вообще делается с погодой.
После этого надо снять со столба ведро, в котором собираются осадки — дождь и снег, поставить на его место пустое и, вернувшись в дом, в одну минуту из всех этих показаний и наблюдений составить телеграмму и отнести ее радисту.
Ровно в 7 часов 10 минут радист уже должен передать мою радиограмму на Большую Землю.
Задержись я где-нибудь на лишних пять-шесть минут, и вся моя работа пропала: я не успею к сроку составить телеграмму, и она уже не попадет в Бюро погоды.
А в Бюро погоды каждое утро приходят тысячи телеграмм — со всех метеорологических станций Союза. На специальных географических картах начнут в Бюро вычерчивать, вырисовывать карту погоды. Перенесут с телеграмм на эту карту все полученные сведения, дойдут до станции на Земле Франца-Иосифа. А с этой станции телеграммы-то и нет. Что тут делать? Придется оставить на карте погоды белое пятно.
А если не одна только моя телеграмма не поспеет в Бюро погоды к сроку? Если еще двадцать-тридцать таких разинь-метеорологов наберется во всем Союзе? Тогда уже карта погоды будет вся сплошь в белых пятнах. А какая же это карта, на которой одни только белые пятна? По такой карте погоду не предскажешь. И опять жители будут ругать ни в чем неповинную обсерваторию: предсказывали, мол, хорошую погоду, а дождь посыпал как из лейки!
Нет, опаздывать мне никак нельзя.
В шесть часов утра я был уже на ногах. Оделся, умылся, прибрал комнату и вышел в коридор. В коридоре горели фонари, на полу, около печей, стояли ведерки и ящики с каменным углем, из-за дверей несся храп и сопение. Все спали в нашем доме, кроме меня.
Я надел белую собачью малицу с меховым капюшоном, подпоясался кожаным ремнем и вышел из спящего дома.
На безоблачном, щедро вызвезденном небе высоко стояла чистая, ясная луна. Все вокруг сияло и сверкало. На ребрах черного Рубини-Рок, на острых гранях айсбергов блестел лед и снег. Ничем ненарушимая тишина стояла в сухом морозном воздухе.
Я потоптался на крыльце, посмотрел на небо, на крупные белые звезды и подумал: «Вот хорошо бы и в семь часов такое чистое небо было — никаких облаков, ничего не надо ни рисовать ни записывать. И ветра как будто нет. Минуты две-три сэкономил бы на этом деле».
Где-то далеко-далеко что-то прогремело, как гулкий пушечный выстрел. Наверное, треснул лед на глетчере.
Я вернулся в дом, прошел в метеорологическую лабораторию, зажег висячую электрическую лампу над столом. Сегодня я здесь полноправный хозяин. Захочу — могу даже никого сюда не пустить.
В лаборатории холодно, звонко тикают часы. У меня в лаборатории много часов: два часовых механизма разговаривают в самописцах, двое часов лежат на столе: одни показывают истинное солнечное время, другие «местное».
Я вынул из стола книжечку, в которую надо заносить все наблюдения, развернул ее на чистой странице и увидел какую-то записку. Сверху крупными буквами было написано:
Дежурному метеорологу.
Значит, это мне. Я прочел:
«Если не будет низких облаков и тумана и ветер будет не очень сильный (до 6–8 метров) — обязательно разбудите меня в 7 часов утра.
Л. Соболев».
Я отложил записку в сторону. Ладно, потом разбужу. Сначала проведу свои наблюдения.
И опять мне стало очень приятно: вот ведь не попросил Соболев никого другого, а именно дежурного метеоролога. Кто же, кроме дежурного, знает, какие там на небе облака — низкие или высокие, и какой ветер — 5 метров или 9 метров?
Часовая стрелка уже подкрадывается к 7. Как медленно движется время сейчас, и как оно, наверное, помчится, когда подойдет срок наблюдений!
Я хорошенько отточил карандаш — карандаш должен быть обязательно простой, не химический, а то от дождя или от снега все твои записи так и поплывут, — иди потом, разбирайся! — приготовил перчатки, надел заранее шапку.
Ну, сейчас начнется мое состязание с временем. Кто кого обгонит — я время, или время меня?.
Ровно семь. Состязание началось.
Я быстро открыл дверцу остекленного шкафика, в котором висит ртутный барометр, и повернул выключатель: в шкафике загорелся свет.
По всем правилам, так, как написано в инструкции, я постучал ногтем по трубке барометра, отсчитал деления.
Давление 758,7 миллиметра. Тут же в книжечку записал 58,7 и быстро взглянул на часы: барометр я отсчитывал две минуты. Хорошо. Это не очень долго. Теперь надо посмотреть, что показывает барометр «анероид». Он лежит в специальной коробке. Я откинул крышку и опять постучал по стеклу барометра ногтем — стрелка дрогнула и остановилась на 759,2. Записал 59,2. Записал и вдруг спохватился. Как же это так у меня получилось: давление-то выходит разное? На одном барометре 58,7, а на другом 59,2!
Я бросился было опять к шкафику с ртутным барометром и вдруг вспомнил: Ромашников же говорил мне, что «анероид» немного врет! А потом — как же это я забыл? — ведь поправки же надо будет ввести по таблицам! Как введу поправки — показания обоих барометров и сравняются.
Скорее дальше. Только время зря потерял.
На лентах самописцев я сделал маленькие пометочки и повернул выключатель, который был приделан около оконного косяка. Я повернул выключатель в лаборатории, а на метеорологической площадке над флюгером, укрепленным на высоком столбе, сейчас же загорелась сильная электрическая лампа. В полярную ночь, в темноте, не то что флюгера — и самого столба не увидишь, — вот флюгер у нас и электрифицирован.
Теперь скорее на улицу, на площадку.
Я повесил на грудь большой электрический фонарь вроде тех, которые носят пожарные, схватил свои книжечки, медное ведро для осадков, надел шерстяные перчатки (в варежках неудобно писать) и выбежал из дома.
До метеорологической площадки — я уже измерил — ровно 125 шагов. Итти в гору, по тропинке, протоптанной между сугробами.
Попрежнему ярко светит луна. Но с востока уже набежали на небо тонкие, прозрачные, как вуаль, белесоватые облака.
Я поспешно иду на площадку, а сам верчу головой во все стороны, рассматриваю небо.
— Так, так, циррусы, — бормочу я, — перистые облака.
Кое-где на небе мерцают зеленоватые метелки и пучки трепетных огней — это северное сияние.
«Отметить в книжечке, что во время наблюдений было слабое северное сияние», — думаю я, а сам все шагаю, все иду, не останавливаясь ни на минуту.
Боже мой! Да когда же я, наконец, доберусь до этой площадки? Никогда я не думал, что 125 шагов — это такое длинное расстояние. А тут, кажется, уж полчаса шагаю, и никак не могу дойти. А ну, рысцой!
Вот, наконец, и площадка.
Я подскочил к будке, на высоких ножках стоявшей среди сугробов, ткнул свое ведро тут же в снег и полез по лесенке. В этой будке установлены термометры, измеряющие температуру воздуха. Они спрятаны здесь для того, чтобы ни солнце, ни дождь, ни снег не искажали настоящей температуры воздуха.
Поднявшись на верхнюю ступеньку, я одной рукой зажег свой фонарь, а другой дернул за деревянную шишечку на дверце будки. Дверца не открывается. Что такое? Я хотел было рвануть, да во-время вспомнил: нельзя — встряхну термометры. Тяну дверцу, а она ни с места. Ну, что же это такое, в конце концов?! И вдруг вижу — крючочек. Крючочек, чорт его возьми! Я этот крючок, кажется, со злости в порошок бы стер!
Вышиб крючочек из петельки и нырнул головой в будку.
В будке по инструкции дышать нельзя. От теплоты дыхания сразу поднимется ртуть в термометрах. А не дышать никак не возможно. От спешки, от волнения сердце у меня стучит, как мотоцикл, распирает меня — ну, прямо сейчас задохнусь. Записал один термометр, — мороз, оказывается, сейчас 18,3 градуса, — отвернулся от будки, хватил воздуха побольше и снова уткнулся в будку. Еще два термометра надо записать — один минимальный — какая ночью самая низкая была температура, а другой максимальный — какая самая высокая.
Записал оба термометра, определил влажность по стоящему тут же гигрометру, захлопнул будку и даже крючочек проклятый накинул.
Не глядя под ноги, я прыгнул с лесенки прямо на снег. И тут вдруг раздался какой-то звон, громыхание, лязг. Что еще такое? Что случилось?
Что-то черное быстро покатилось вниз под горку, громыхая по твердым промерзлым сугробам. Ведро! Это же я сшиб мое ведро для осадков!
Путаясь в длинной малице, я прыжками погнался за ведром.
Ну, ясное дело, теперь опоздаю! Какая растяпа! Разиня! Ротозей несчастный!
Наконец я догнал ведро и, чуть не плача от злости, с ведром под мышкой побежал к флюгеру.
Доска флюгера едва-едва покачивалась около первого зубца вилки. Значит, сила ветра 3 метра в секунду. Направление ветра ENE — ост-норд-ост.
Дальше. Скорее дальше. Теперь облака. С трудом держа карандаш в зазябших пальцах, я записал и зарисовал их, — на счастье облаков почти не было, — и рысцой побежал к почвенным термометрам. Термометры лежали прямо на снегу. Поднимать их нельзя, и мне пришлось лечь на снег, чтобы рассмотреть, что показывают ртутные столбики.
Рядом торчали из снега черные трубки глубинных термометров, еще дальше стоял столб с ведром для осадков, а за ним выстроились снегомерные рейки.
Я метался по площадке, то ползал на коленях, то карабкался по лесенкам, гулко прыгал с лесенок на снег, гремел медным ведром. Фонарь болтался у меня на шее и будто кулаком колотил меня в грудь.
Мне казалось, что я мечусь уже целую вечность и что, конечно, все сроки давным-давно уже пропущены — и первый день моего дежурства начался с позора и краха.
Наконец сделано все!
Громыхая и топая, я ворвался в лабораторию и первым делом бросился к часам. Часы мирно показывали семь минут восьмого. Значит, на телеграмму у меня еще есть три минуты.
Я плюхнулся на табуретку и схватил со стола серенькую книжечку «Руководство к составлению ежедневных метеорологических телеграмм» — условный код, по которому зашифровываются наши телеграммы.
Сначала мне казалось очень удивительным, что телеграммы о погоде зашифровываются, точно это какая-нибудь военная тайна. Но зашифровываются эти телеграммы вовсе не потому, что от кого-нибудь нужно скрывать, какая была погода в Тамбове или на острове Гукера. Зашифровываются они для быстроты и удобства.
В самом деле. Если бы в то утро я захотел послать в Бюро погоды обыкновенную словесную телеграмму, мне пришлось бы написать примерно вот что:
«Утро было спокойное, тихое. Светила полная луна, по небу высоко-высоко медленно плыли легкие перистые облака, было не очень холодно — только 18,3 градуса мороза, дул легкий северо-восточный ветерок. За ночь не было ни метелей ни вьюг, как и вчера снег лежал плотными сугробами, но кое-где по склону берега еще чернели камни и лысины голой земли. Погода обещала быть устойчивой, барометр показывал давление в 759 миллиметров ртутного столба, и за последние три часа это давление медленно, но неуклонно росло. Несмотря на большую сравнительно влажность, воздух казался совершенно сухим, и дышалось легко и свободно».
Вот примерно, что пришлось бы мне написать в телеграмме, если бы у меня не было кода.
Это поэтическое описание принесло бы не очень большую пользу метеорологам в ленинградском Бюро погоды.
А главное — писать все это пришлось бы по крайней мере пятнадцать минут, и я пропустил бы все сроки. А при помощи своей серенькой книжечки я в три минуты составил вот какую телеграмму:
0107 37500 01790 06213 12268 94327 00709 78245
Правда, для этого мне пришлось очень быстро перелистать книжку в 60 страниц, сплошь испещренных всевозможными цифрами, и из бесконечных цифр мгновенно выхватывать именно те, которые обозначали бы записанные мною температуры, ветер, влажность, давление, облака.
Дело это, конечно, нелегкое. Но зато моя шифрованная телеграмма очень точно сообщала в Бюро погоды решительно все, что показали мне мои приборы, и ничего липшего, никакой отсебятины.
Такую телеграмму составить, конечно, быстрее, чем написать целое сочинение на тему — «Зимнее утро на Земле Франца-Иосифа».
Я схватил свою шифрованную телеграмму и помчался в радиорубку. Она стояла высоко на горе, позади всех построек зимовки. Я здорово бежал и совершенно задыхаясь ворвался в комнату механика.
— Метео! — закричал я. — Запускай мотор! Костя! Мотор давай!
Костя Иваненко сорвался с постели, зачем-то кинулся было к столу, потом сунул босые ноги в валенки, набросил на плечи кожаное пальто и выскочил в соседнюю комнату, где на оцинкованном полу стоял мотор.
Костя был в радиорубке таким же новичком, как я в метеорологии. И заметался он около мотора совсем так же, как я только что метался по метеорологической площадке.
Он заглянул в бак для бензина, ахнул и, расплескивая бензин, стал переливать его из жестяного баллона. Потом Костя схватился за ручку мотора и крутнул ее. Ручка вырвалась у Кости и тяпнула его по ноге. Он охнул и присел было на пол, но сейчас же вскочил. Стоя на одной ноге, как цапля, и помахивая другой в воздухе, он снова принялся крутить ручку.
— Рино буди! Буди Рино! — прохрипел Костя.
Я бросился к радисту. В его комнате было темно, и я закричал в темноту:
— Георгий Иваныч! Георгий Иваныч! Вставайте! Метео!
— Сейчас, — спокойно ответил сонный голос из мрака. — Зажгите-ка свет в аппаратной. Около двери. — И радист лениво и протяжно зевнул, завозился на кровати, откашлялся.
— Георгий Иваныч, уже время! — снова закричал я. — Уже десять минут восьмого!
— Да ладно, что вы панику наводите? — опять очень спокойно сказал радист и, шлепая босыми ногами, вышел в аппаратную. Он был маленький, щупленький, черноволосый Густые мохнатые брови срослись у него в одну широкую линию.
— Вот сейчас и передадим, — зевая сказал радист, — минутой позже, минутой раньше — роли никакой не играет.
В это время за дверью наконец взвыл Костин мотор. Вся рубка задрожала, затряслась, наполнилась гулом и грохотом.
Радист боком уселся на табуретку около стола, повернул какую-то рукоятку, и огромные передатчики в ажурных проволочных сетках осветились мерцающим светом серебряных ламп. Теперь к вою мотора прибавился пронзительный писк передатчика.
Я все время стоял за спиной радиста, пока он, зевая и почесываясь, выстукивал мою первую телеграмму. Мне казалось, что передает он ее как-то небрежно, наверное путает, что, может быть, его передачу даже никто и не слушает.
Я прямо исстрадался, стоя за спиной радиста. Но вот, наконец, он кончил стучать ключом, позвонил Косте, и тот остановил мотор. Сразу стало очень тихо. Радист выключил передатчики, надел наушники и, поворачивая эбонитовые рукоятки приемника, стал слушать.
— Пошла ваша телеграмма. Все в порядке — сказал он, снимая наушники. Он встал, потянулся, хрустнул костями. — Пойду досыпать. Что-то нынче крику уж очень много было. Ромашников куда тише.
— Я ведь первый раз, Георгий Иваныч. Боялся, что опоздаем, что не уйдет моя телеграмма.
Радист побрел в свою комнату, слышно было, как он лег на кровать.
— А вы не бойтесь, — сказал он из темноты. — Раз уже до рубки донесли, значит уйдет. — И он снова протяжно зевнул. — Спать хочется, прямо смерть.
Я на цыпочках вышел из аппаратной и пошел к Косте Иваненко. Он сидел на кровати и сосредоточенно рассматривал большой фиолетовый синяк на ноге.
— Что же ты поздно-то как? — недовольно сказал Костя, поглаживая ногу. — Проспал, а из-за тебя тут горячку пороть приходится. Чуть ногу не перешиб.
— А чего же ты так вертел? Так вертеть — не то что ногу, башку отшибить можно. У Редкозубова ручка, наверное, никогда не вырывалась, а у тебя почему-то вырвалась.
Мы помолчали.
— Ну, как дела-то? — уже дружелюбно спросил Костя. — Зашился, поди? Прибежал как на пожар.
— И совсем не как на пожар! У меня времени еще сколько хочешь было. Просто, я всегда быстро хожу. А вот ты действительно как сбесился.
Костя даже перестал растирать синяк.
— Я сбесился? Интересно! Во всяком случае я этот мотор могу в одну секунду завести.
— То-то ты и копался около него. Весь пол бензином залил. Ничего себе секунда — полчаса ковырялся. Чуть не опоздали из-за тебя.
Костя посмотрел на меня с негодованием.
— Из-за меня? Да ты за минуту до передачи, высуня язык, прибежал, запыхался, слова сказать не можешь! Если бы не я…
Но тут в тонкую дощатую перегородку из соседней комнаты постучал радист:
— Будет вам торговаться-то: я, я! Оба хороши! Дайте человеку соснуть.
Из рубки я медленно направился в старый дом.
Что бы там Костя ни говорил, а я все-таки успел сделать все, что нужно — телеграмма отправлена и сейчас, наверное, уже в Ленинграде. Я шел будить Леню Соболева. В морозной тишине звонко раздавались мои шаги. Скрипел снег.
Воздушные лазутчики
У Лени Соболева в услужении целая шпионская организация. Ему иначе и нельзя. Леня Соболев имеет дело с верхними слоями атмосферы и даже забирается в стратосферу. Так просто, как я хожу на свою метеорологическую площадку, туда не сходишь.
Чтобы разузнать, что делается на пять-шесть, а то и на десять километров над землей, надо кого-то послать на эту высоту.
Надо запустить в небо лазутчика, шпиона и от него разузнать все подробности.
Шпионы у Лени разные. Разной, так сказать, квалификации.
Есть простые доносчики, за каждым шагом которых приходится следить, есть умелые и грамотные соглядатаи, — их только выпусти, а уж они сами разузнают в небе все, что надо, запишут и привезут донесение на землю; есть и такие, которые разноцветными фонариками сигнализируют Лёне с неба, и, наконец, некоторые лазутчики улетают на разведку с собственной радиостанцией и по радио передают на землю Лёне Соболеву все свои донесения.
Летит в небе высоко-высоко желтенький шарик. Летит и летит. Может быть, у девочки у какой-нибудь вырвался. Нет, это не простой детский шарик. Это — аэрологический разведчик. Его специально надули водородом, тщательно измерили, взвесили и, наконец, выпустили на разведку.
Шар полетел в небо, а аэролог со своим помощником следят за шаром в подзорную трубу. Труба эта тоже не простая. Она с точностью до одной десятой доли градуса показывает: поднимается шарик или опускается, влево он полетел или вправо, вперед его несет ветром или завернуло назад. Называется эта труба теодолитом.
Аэролог ни на минуту не упускает шар из вида, а помощник следит за отсчетами циферблата и записывает по нему весь путь шарика.
Такой — самый неквалифицированный лазутчик — у аэрологов называется пилотом.
В полярную ночь такой пилот сразу затеряется в темноте. В полярную ночь пилот летает с фонариком.
Каплин, помощник Лени Соболева, по целым дням сидит в лаборатории, напевает «В саду ягода малина» и клеит из прозрачной цветной бумаги маленькие, в виде ведерочек, игрушечные фонарики. Такой фонарик подвешивают к пилоту, вставляют в фонарик зажженную свечку и выпускают пилот в небо.
Сначала я никак не мог понять, почему же во время полета ветер не тушит эту свечку в бумажном фонарике.
А потом догадался. Очень просто. Ведь пилот-то летит вместе с ветром, так же, как вместе с водой плывет по течению реки легкая лодочка. Если бы пилот мог в воздухе остановиться, а мимо него несся бы ветер, свечку, конечно, потушило бы. Но фонарик летит в ветре, вместе с ветром, значит, для него никакого ветра нет, и свечка горит спокойно, как в комнате.
На службе у Лени Соболева состоят и змеи, которыми любят играть в деревнях и в маленьких городишках дети.
Высоко в небе висит большой красивый змей. С земли и не видно, что под планками у змея накрепко привязана жестяная коробка. В этой коробке целая лаборатория. Покачивается в синем небе змей, важно ходит, козыряет, а в жестяной коробке идет работа. Тикает часовой механизм, медленно поворачивается закопченный сажей барабан, и острые перья чертят по копоти замысловатые линии. Одно перышко вычерчивает кривую давления воздуха, другое записывает, как изменяется температура, третье все время отмечает на барабане влажность воздуха, четвертое перо записывает скорость ветра.
Сделан такой змей не из бумаги и драночек, как игрушечный змей, а сшит из полотна, натянутого на пустые металлические трубки. И летает он не на бечевке, а на тонкой, но очень крепкой струнной проволоке.
Такой змей руками не подтянешь к земле. Конец проволоки, на которой он держится, намотан на барабан лебедки, и два человека должны изо всех сил крутить этот барабан, чтобы опустить змей.
Сядет он на землю и окажется не маленькой беленькой игрушкой, а огромной, в два человеческих роста, полотняной коробкой с растяжками, металлическим креплением, со сложным каркасом из блестящих алюминиевых трубок.
Леня Соболев бережно снимет с вернувшегося змея жестяную тикающую коробку — своего воздушного шпиона, — вынет из коробки исчерченный перьями закопченный барабан и по справочникам, формулам и таблицам высчитает, узнает, что творилось в небе, когда там летал змей.
Залетает он иногда очень высоко. Однажды за границей такой змей поднялся на 10 километров над землей, а у нас в Слуцке — на 6 километров.
Этот лазутчик уже более квалифицированный, чем пилот. Называется он змейковый метеорограф.
А есть у Лени Соболева и такие разведчики, которые прыгают с неба на парашютах.
Для такого разведчика приходится уже снаряжать целую воздушную экспедицию. Для экспедиции выбирают тихий, безветреный день.
Сначала в небо на разведку вылетает пилот, он сообщает, что наверху ветра нет, все спокойно, экспедицию можно отправлять.
Ну, тут начинается страшная суматоха. Надувают водородом два резиновых шара, один огромный, другой поменьше. На свечке закапчивают барабан, приготовляют специальный зажигательный шнур.
Наконец все готово. К шарам привязывают метеорограф, поджигают шнур, и экспедиция трогается в путь.
Шары уносят метеорограф все выше и выше. С земли за полетом следят в теодолит, в бинокли, в подзорные трубы. Вдруг около верхнего большого шара появляется легкий дымок. Что-нибудь случилось? Нет, все в порядке, — это действует поджигательный шнур.
Надо, например, аэрологам спустить своего разведчика на землю через час. Они знают, что шнур горит со скоростью, скажем, одного сантиметра в минуту. Значит, за час сгорит 60 сантиметров. Такой кусок шнура и привязан к прибору. Через час шнур догорает и пережигает бечевку. Большой шар взвивается в небо, а метеорограф на маленьком шарике начинает падать на землю. Маленький шарик здесь — вместо парашюта, он не дает прибору упасть на землю и разбиться. Он осторожно спускает разведчика на землю, где его уже поджидают аэрологи.
Прибор этот называется простой зонд, или зондовый метеорограф.
Но случается, что в верхних слоях атмосферы сильный ветер подхватывает зонд. И тогда его уносит очень далеко. Однажды зонд, выпущенный в Слуцке, под Ленинградом, унесло за 300 километров, в другой раз его забросило в Олонецкую губернию — за 600 километров от Слуцка, а недавно на Украине, под Конотопом, нашли зонд, прилетевший сюда из Германии. От Хемница до Конотопа он пролетел 1 500 километров.
Иногда простой зонд поднимается на очень большую высоту. В Италии, в Павии, однажды зонд забрался далеко в стратосферу — он поднялся на 36 километров над землей. Мороз на такой высоте оказался — 52°.
Кроме пилотов и метеорографов, есть еще и другие лазутчики.
Они посылают с неба сигналы разноцветными фонариками: красными, зелеными, белыми огоньками рассказывают обо всем, что делается в небе.
Такой лазутчик называется оптический зонд. Он поднимается на целой гирлянде надутых водородом шаров. К закрытой его коробке привязан длинный хвост из звонковой проволоки. На этом хвосте сидят малюсенькие лампочки — белые, зеленые, красные. А в коробке — аккумуляторы.
Летит такой зонд, забирается все выше и выше в небо. Воздух становится все холоднее и холоднее, падает барометрическое давление. На хвосте зонда вспыхивают огоньки.
— Два белых, — говорит Леня Соболев. А Каплин записывает в тетрадке: 2 б.
— Белый и красный, — говорит Леня. Каплин отмечает: 1 б, 1 к.
— Два красных.
— Красный и белый.
— Опять два белых.
Леня не отрываясь следит за своим посланцем в подзорную трубу теодолита. Легко потерять маленькую искорку среди миллиона звездных искр ночного зимнего неба.
Вот сколько точных, исполнительных и бесстрашных лазутчиков у нашего аэролога Лени Соболева. Целая организация.
Когда утром 1 ноября я шел будить Леню, я еше не знал, кого из своих подчиненных он выпустит сегодня на разведку.
Я тихо вошел в темную комнату аэрологов и зажег свой электрический фонарь. Леня сразу проснулся, первым делом надел на нос очки, посмотрел на часы и сощурился от яркого света фонаря.
— Ну, что там? — тихо спросил он.
— Ветер около трех метров, — сказал я.
— А облака?
— Циррусы.
Леня сел на кровати, откашлялся и громко позвал:
— Лаврентий! Лаврентий!
С кряхтением и жалобными вздохами проснулся Каплин. Он всегда кряхтел и всегда вздыхал, что бы он ни делал, даже самую пустяковую работу; просыпался с кряхтением, вставал со вздохами, засыпал со стоном. Такой уж он был человек.
— Ну, вставать. Погода самая подходящая.
Аэрологи стали одеваться.
Натягивая на себя штаны и фуфайку, Леня не переставая говорил:
— Возьмешь оболочки двадцатого номера. У тебя есть размоченные? Надувать будешь из крайнего баллона. Пожалуйста, Веня, не пускай водород сразу. Пускай потихоньку. Ведь рвет же оболочки.
— Я и не пускаю, — вздохнув, отозвался Каплин.
— Как же не пускаешь? Вчера опять две оболочки лопнули. Оболочки надо, Веня, беречь. Здесь новых не достанешь. Ты аккумуляторы на зарядку поставил?
— Поставил, — проворчал Каплин.
— Ну, так ты иди в сарай, надувай шары, а я пойду в лабораторию снаряжать зонд. Ты нам поможешь выпустить зонд? — спросил меня Леня.
— Ладно, помогу, — сказал я. — У меня пока есть свободное время.
Мы вышли из дома. Было попрежнему безлюдно и тихо. Вся зимовка еще спала. Мы с Леней пошли на Камчатку, а Каплин медленно, со стонами поплелся в гору, к аэрологическому сараю. Отошел несколько шагов, остановился и принялся громко кричать и свистеть:
— Аю! Аю! Байкал! Аю! Жукэ! Ля-ля-ля!
Со всех сторон прямо из снега выскочили собаки и бросились к Каплину. Они окружили его, замахали пушистыми хвостами, двинулись вместе с ним в гору.
— Медведей боится, — сказал Леня Соболев. — Никогда один не ходит. Обязательно всю стаю соберет.
Мы вошли в тихий и спящий наш домик.
Вся Лёнина лаборатория была заставлена жестянками, бутылями с кислотой, аккумуляторами, большими картонными коробками с клеймом «Красный Треугольник». На подоконнике стоял ящик полевого телефона, соединявшего лабораторию с аэрологическим сараем.
Над столом висела продолговатая прозрачная целлулоидная коробка с жестяным пропеллером внизу. Коробка была разделена перегородочками на три части.
Внизу коробки виднелись какие-то рычажки, перышки, гребенки.
Я никогда еще не видал у Лени такого прибора.
— Что это за штука? — спросил я.
Леня бережно поправил пропеллер, разобрал какие-то проволочки, торчавшие из коробки, и гордо сказал:
— Это, брат ты мой, штучка с ручкой. Радиозонд.
«Живой» радиозонд я видел в первый раз. Он висел передо мной, поблескивая алюминиевыми и жестяными рычажками, колесиками, спиралями.
Я осмотрел радиозонд со всех сторон.
— Так вот, значит, он сегодня и полетит? — спросил я.
— Он и полетит, миляга. — Леня посмотрел на зонд с нежностью. — Полетит, красавчик.
Он осторожно выдвинул заслонку в правом отделении коробки и воткнул в какую-то катушку маленькую посеребренную лампочку.
— Вот мы ему язычок пристроили, — любовно сказал Леня. — Язычок, чтобы он с нами разговаривал. Молча-то скучно будет лететь, пусть поговорит с нами. А мы послушаем.
— А это что? — спросил я и почтительно показал пальцем на какую-то блестящую гребенку. — Это как называется?
Леня, продолжая снаряжать свой воздушный корабль, охотно рассказал мне о диковинных его приспособлениях.
В левой части коробки, оказывается, помещается маленькая метеорологическая станция. Она так искусно сделана из жести и алюминия, что свободно могла бы уместиться в пачке спичек. Весила она всего только около двухсот граммов. Эта станция следила за давлением воздуха, за температурой и влажностью.
В средней части целлулоидной коробки находилась собственная электростанция зонда. Она состояла из батареи маленьких целлулоидных аккумуляторов. Каждый аккумулятор был не больше коробочки для граммофонных иголок. В такой аккумулятор кислоту приходится заливать «глазной» пипеткой.
В правой части коробки устроена радиостанция. Пожалуй, это самое удивительное в зонде. Только полчаса назад я был на нашей радиостанции. Я видел там громоздкие передатчики, величиной с платяной шкаф, там ревел стопудовый мотор и суетились механик и радист.
А здесь я увидел такую же станцию, но она свободно уместилась бы у меня на ладони. И работала эта станция сама — без радиста и механика.
Когда радиозонд летит, метеорологическая его станция непрерывно наблюдает погоду, а электростанция вырабатывает ток, который заставляет зонд заговорить, заставляет посылать на землю радиосигналы о небесной погоде.
И весят все эти три станции самое большее 2 килограмма.
Вот какой это замечательный прибор! Изобрел его наш советский ученый П. А. Молчанов.
Первый радиозонд был выпущен в Слуцке 30 января 1930 года.
Леня осторожно перекладывал ватой аккумуляторы, как вдруг зазвонил телефон. Каплин сообщал из сарая, что все шестнадцать шаров благополучно надуты.
— Сейчас! Сейчас идем! — прокричал Леня в трубку.
Мы снова вышли из дому. Леня бережно нес целлулоидную коробку. Мы медленно поднялись на горку и подошли к аэрологическому сараю. Над крышей сарая покачивалась в воздухе целая гроздь огромных шаров. Луна освещала их, и резина сверкала, как жесть. Каплин, подняв воротник кожаного пальто, держал шары за веревку так, как держат продавцы свои разноцветные шарики. Шары шуршали, поскрипывали, терлись друг о друга. На снегу, около Каплина стояла желтая деревянная коробка полевого телефона, и Жукэ сосредоточенно и боязливо обнюхивал ее.
Аэрологи тщательно привязали радиозонд к шнуру, на котором качались шары. Воздушный корабль был готов к отплытию.
— Теперь, товарищи, так, — взволнованно сказал Соболев. — Слушайте внимательно. Я позвоню по телефону и скажу, когда надо соединить вот эти контакты, чтобы заработал передатчик, — и Леня показал на две медные проволочки, торчавшие сбоку коробочки. — Раньше моего звонка не соединяйте, чтобы зря не истощать аккумуляторы. Есть?
— Есть, — сказали мы.
Леня подал мне секундомер.
— Вот тебе секундомер. Когда у меня будет все готово, я опять позвоню и скажу: «пускай секундомер — раз, два, три»… При счете три — нажимай кнопку. Как секундомер пойдет, через 10 секунд выпускайте зонд. Понятно?
— Понятно. Иди.
Леня побежал было под горку, но остановился и снова закричал:
— Значит, через 10 секунд!
— Ладно, ладно, иди уж.
Я стал на колени у телефона. Кругом расселись собаки, с любопытством поглядывая на меня.
Меня вдруг охватило непонятное волнение. Я посмотрел на тускло поблескивающий целлулоид зонда, на беспокойно шуршащие в воздухе шары, на черное безмолвное небо, в котором наверное было очень холодно и страшно.
Вдруг неожиданно тоненько и звонко прозвенел телефонный звоночек. Байкал так испугался, что шарахнулся в сторону и яростно залаял.
— Соединяйте контакты. Только, пожалуйста, осторожно и повнимательней, — пропищал в трубке чей-то совсем не похожий на Лёнин голос.
— Соединяй контакты, — сказал я Каплину. — осторожно и повнимательней. Не напутай там. — И закричал в трубку: — Соединяем, Леня! Не беспокойся, все будет в порядке!
Значит, сейчас он полетит.
— Лаврентий, — сказал я, — когда будет 10 секунд, я крикну — выпуск! Ты, смотри, сразу отпускай шнурок, а то, пожалуй зонд об землю треснет.
— Не треснет, — сказал Каплин. — Я их тыщи штук уже выпустил. Знаю, как надо.
Опять раздался звонок.
— Взял секундомер?. Держишь? — снова пропищал голос. — Пускай секундомер — раз, два, три!
Я нажал головку секундомера, тонкая длинная стрелка дрогнула и толчками пошла по кругу. Громко, вслух я стал отсчитывать последние секунды земной жизни зонда.
— Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Выпуск!
Каплин отпустил шнурок. Шары рванулись вверх, целлулоидная коробка, сверкая под луной и раскачиваясь, стала быстро уменьшаться, уходить все выше и выше.
Мы стояли, задрав головы.
— Хорошо пошел, — сказал Каплин.
Вскоре и шары и коробка затерялись в черном звездном небе. И вдруг стало как-то пусто и одиноко, точно это улетел на шарах в небо мой лучший товарищ, лучший друг. Мы сняли телефон и побрели на Камчатку.
В аэрологической было синё от дыма. Леня, надев наушники на сверкающей дуге, торопливо подкручивал дрожащей рукой радиоприемник. В зубах у Лени была трубка, из которой валил густой, как на пожаре, дым. Леня сделал нам страшное лицо, чтобы мы не шумели, потом блаженно улыбнулся и краешком губ прошептал:
— Разговаривает… Работает язычком.
И вдруг испуганно схватился за карандаш, торопливо записал что-то на листке бумаги.
— Двойка, — сказал он. — Ага, еще двойка..
Мы затаили дыхание, и я расслышал, как у Лени в наушниках что-то два раза отрывисто щелкнуло, а потом закурлыкало, как оловянная детская свистулька «соловей».
— С давлением, — прошептал Леня. — Двойка с давлением.
Зонд шел все выше и выше в далекое, черное, студеное небо.
Гвозди и северное сияние
За завтраком Стучинский попросил у Наумыча разрешения обратиться к зимовке с воззванием.
— Взывайте, — сказал Наумыч, — взывайте, пожалуйста. Я, как начальник, поддерживаю ваше воззвание.
Стучинский откашлялся, оглядел кают-компанию и начал:
— Может быть, некоторым товарищам не вполне ясны принципы, на которых основаны наши магнитные наблюдения..
— Это что же, лекция, что ли? — громко перебил его Боря Линев.
— Нет, не лекция, — деликатно продолжал Стучинский, — не лекция, не пугайтесь. Так вот, товарищи, точность и правильность нашей работы зависит от того, чтобы ни в нашем магнитном павильоне ни поблизости от него не было ни одного кусочка металла — железа или стали.
— А как же этот самый ваш павильон построен? — насмешливо сказал Сморж. — Он, что же, воздухом держится, на воздушных гвоздях?
Стучинский поклонился Сморжу, как заправский оратор.
— Извольте, — сказал он, — я объясню. Наш павильон действительно сделан без гвоздей. Без единого железного гвоздя, без единого кусочка железа.
— А крыша? — закричал Сморж.
— Крыша? Крыша у нас медная, — ласково сказал Стучинский. — Там, где без металла никак нельзя было обойтись, есть медь — медные петли, медные дверные ручки, медная крыша, а железных гвоздей нет. Ни одного-с.
— Враки, — злобно сказал Сморж. — Не может быть. Как плотник говорю — не может быть. Нет такого правила, чтобы без гвоздей. Это тебе не табуретка.
— Однако гвоздей нет, — спокойно продолжал Стучинский. — Но дело не в этом. Многие товарищи, я замечал, не только гуляют поблизости от павильона, например, с винтовками, но даже и заходят из любопытства в самый павильон. Присутствие металла сказывается на работе наших приборов и может просто испортить наши магнитные наблюдения.
— Соболев! — крикнул Сморж. — Когда пойдешь в ихний павильон — сними очки!
— Да, да, — невозмутимо продолжал Стучинский. — Очки придется снять. Мы с Быстровым, когда идем в свой павильон, снимаем пояса, у которых железные пряжки, оставляем дома часы, перочинные ножи, булавки.
— Пуговицы от штанов тоже дома оставляете? — серьезно спросил Боря Линев, и все громко и радостно захохотали.
— Ловко!
— Вот это поддел!
Стучинский поднял руку, водворил тишину, потом встал, задрал фуфайку.
— Пуговицы, — сказал он, — мы давно уже оставили дома. Нам пришлось их заменить. Видите — костяные. — Он опустил фуфайку и продолжал: — Но дело опять-таки не в этом. Я очень прошу всех товарищей, во-первых, без меня или Гриши Быстрова в павильон не ходить, во-вторых, не гулять около павильона с металлическими предметами и, в-третьих, уж, конечно, не возить мимо павильона ни баллонов с водородом ни бидонов с бензином и маслом для радиостанции.
— Все-таки не может быть, чтоб без гвоздей! — опять сказал Сморж. — Я проверю. Я такие местечки знаю, где гвоздь должен быть обязательно. Уж я-то знаю, где его надо искать.
— Вы этим только окажете нам очень большую услугу, — опять поклонился Стучинский.
— И окажу! Очень просто! Вот увидишь, окажу! Мне только..
Наумыч перебил его:
— Слыхали, хлопцы, насчет железа? Виталий Фомич вас просил, а я приказываю вот эти все три пункта исполнять беспрекословно. У нас обсерватория, а не карусель. Сколько уж раз мне Виталий Фомич жаловался, что кто-то, наверное, заходил в павильон с железом и испортил ему наблюдения. Теперь кончено. Довольно портить чужую работу. Понятно?
После завтрака Сморж отправился в павильон искать железные гвозди. А я собрался итти к себе на Камчатку.
В коридоре меня остановил Стучинский.
— Сегодня вы дежурный метеоролог? — спросил он.
— Я.
— Скажите, пожалуйста, было в семь часов утра северное сияние?
— Было.
— Сильное?
— Нет, не очень. Даже, пожалуй, слабое. Так, только в нескольких местах на небе мерцали отдельные пучочки огней, а настоящего сияния не было.
Стучинский задумался.
— Что же это такое? — медленно проговорил он. — Я ничего не понимаю. — Он опять задумался, пошевелил бровями. Я молча стоял напротив него.
— Я попрошу вас, — наконец сказал он, — сделать вот что. Вы в какие часы зарисовываете облака?
— С семи утра и до двенадцати ночи каждый час.
— Вот и отлично. Я сделаю такую книжечку, куда попрошу вас записывать, бывают ли в это время северные сияния.
— А в чем дело-то, Виталий Фомич? — спросил я.
— Да видите ли, какая история. У меня в павильоне стоит прибор, который фотографическим способом записывает напряжение силового магнитного поля земли. Вам это понятно?
— Как же, как же, — поспешно сказал я. — Еще в реальном, помню, вычерчивал какие-то линии вокруг земного шара.
— Вот, вот. Время от времени этот прибор отмечает так называемые магнитные возмущения. Магнитные бури. Мы связываем их с северным сиянием. Это доказано работами Бирке-ланда и Штермера. Но вся штука-то в том, что прибор почему-то показывает небольшие магнитные возмущения и тогда, когда никаких сияний не бывает! Я сперва думал, что это кто-нибудь ходит вокруг павильона с оружием или заходит внутрь. Но мы с Гришей проверили, — несколько дней подряд запирали павильон, следили, чтобы никто не проходил мимо. И все равно — творятся какие-то странные вещи. Проверим еще раз, в чем тут штука. Не может же быть, чтобы кто-нибудь сознательно заходил в павильон и портил нашу работу. Правда?
— Ну, конечно, — сказал я. — Делайте книжечку.
Через полчаса Стучинский принес книжечку и еще раз попросил меня записывать в нее северные сияния.
— Потом мы сравним это с моими магнитограммами, — сказал он, — проверим в последний раз. — Он промолчал. — Ну, пойду посмотрю, что там Сморж у нас в павильоне делает. Он ведь пошел гвозди искать.
— А можно мне пойти с вами? — спросил я.
— Пожалуйста, пожалуйста, — заволновался Стучинский, — сделайте милость. Только уж попрошу вас опустошить карманы.
— А как же пуговицы? — засмеялся я.
— Ну, на этот раз можно и с пуговицами: в ту комнату, где у нас стоят самые чувствительные приборы, я вас не пущу.
Я выложил из карманов ножик, карандаш с металлическим наконечником, ключ, коробку с трубочным табаком, часы, две лыжных пряжки и отвертку.
Мы вышли из дома.
Так же, как и глубокой ночью, светила полная луна и ярко сияли звезды. А было уже 10 часов утра. Еще издали мы заметили, что по крыше магнитного павильона движется какая-то темная фигура. До нас долетал грохот медной крыши под тяжелыми сапогами.
— Ищет, — сказал Стучинский. — Напрасный только это труд. Ну, ничего, пускай поищет.
Темная фигура на крыше вдруг исчезла.
— На чердак полез, — сказал Стучинский.
Мы подошли к павильону.
— Жора! Жоржик! — закричал я. — Сморж! Вылезай-ка! Искатель гвоздей!
В чердачном люке показался Сморж. В руках у него была зажженная свеча. Ветер сразу потушил ее.
— Ну, как? — закричали мы. — Нашел?
Сморж молча вылез на крышу, походил по крыше, поискал, где пониже спрыгнуть, и гулко бухнулся на сугроб. Потом встал, подошел к нам. Шапка его была в пыли и паутине. Он двумя пальцами высморкался на снег, вытер пальцы о полушубок и, сдвинув шапку на затылок, смущенно развел руками.
— Нет, — сказал он с досадой, — ни одного. Скажи ты на милость!. Первый дом такой вижу. А уж я их повидал, слава те господи. И в Японии, и в Англии, и в Норвегии. Вот штука какая. Хоть плачь прямо…
Мы захохотали.
— Болтики-то я нашел! — закричал Сморж. — Да болтики-то, верно, медные. Вот ведь оказия. А гвоздей — ни-ни!
Он постоял, строго посмотрел на павильон и задумчиво сказал:
— Есть еще одно местечко. Уж если там нет, значит нет. — Он даже ногой топнул: — Не может плотник не сжулить! Сроду этого не было! А тут вдруг — без мошенства. Не верю. Враки. Полезу.
Он лег на снег и полез на животе под крыльцо. На снегу Остались только две его ноги, обутые в грубые казенные сапоги.
Стучинский подтолкнул меня локтем и хитро подмигнул на ноги. Зря, мол, дурак старается.
И вдруг со Стучинским что-то случилось. Он крепко схватил меня за руку и даже рванулся вперед, точно увидел что-то необычайное.
— Смотрите, — хрипло прошептал он. — Боже мой… Сапоги..
Я даже испугался. «Что за чорт? — думаю. — Уж не спятил ли он?»
А Стучинский прямо впился в Сморжевы сапоги, которые пошевеливались на снегу.
— Ну что сапоги? — сказал я. — Что с вами? Обыкновенные сапоги. Казенные. Такие же, как и у всех, как и у нас с вами.
— Боже мой, боже мой, — упавшим голосом проговорил Стучинский. — В том-то и дело, что и у меня и у Гриши Быстрова такие же. — Он выпустил мою руку, медленно подошел к торчавшим из-под крыльца сапогам, присел на корточки и стал в упор смотреть на подметки и каблуки. — Гвозди, — сказал он совсем умирающим голосом, — гвозди и в подошвах и в каблуках.
Действительно, в два ряда, подковкой шли по широкому каблуку крупные, отполированные головки гвоздей. Головки поменьше, как блестящая железная строчка, тянулись вдоль всей подошвы.
— В паре сапог будет не меньше ста граммов железа, — тихо проговорил Стучинский. — А в двух парах, в моих и Гришиных, значит, двести… Вот вам и загадка магнитных возмущений.
Сапоги вдруг дрыгнули, начали рыть снег и медленно поползли на нас: из-под крыльца показались ватные штаны, потом съехавший на плечи Сморжа полушубок и, наконец, выполз «задним ходом» и сам Сморж. Он встал, отряхнулся, развел руками.
— Светопреставление, — сказал он. — Прямо, хоть плачь… Ни одного!
— Зато мы нашли целых двести граммов, — грустно сказал Стучинский.
Глава шестая
Беда
Пока я только приглядывался к работе Ромашникова, мне казалось, что у дежурного метеоролога пропасть свободного времени: сходил четыре раза в сутки на наблюдения, вот и все.
Но когда мне пришлось дежурить самому, я увидел, что это совсем не так. Это только говорится, что наблюдения надо проводить четыре раза. А когда я попробовал составить расписание дня дежурного метеоролога, вот что у меня получилось:
6 часов утра — подъем; 7 часов — наблюдения, отправка радиограммы; 7 ч. 30 м. — смена ленты у анемографа, прибора, непрерывно записывающего направление и скорость ветра; 8 ч. — зарисовка облаков; 9 ч. — завтрак; 10 ч., 11 ч., 12 ч. — зарисовка облаков; 1 ч. дня — наблюдения, смена лент на всех самописцах, измерение температуры воды и толщины льда в бухте; 2 ч. — облака, 2 ч. 30 м. — обед; 3 ч., 4 ч., 5 ч., 6 ч. — зарисовка облаков; 7 ч. — наблюдения; 8 ч. — облака; 9 ч. — наблюдения. И в 10 часов надо уже ложиться спать, чтобы завтра встать в 6 утра.
А ведь, кроме этого, надо еще и печку истопить, и воды себе принести, и прибрать в комнате, и постирать, и починить одежду, и поштопать носки.
Время помчалось с такой быстротой, что не успевал я оглянуться, как день уже проходил и надо было ложиться, чтобы завтра не проспать утренние наблюдения.
Целый день я вертелся, как белка в колесе. Много раз, засыпая, я с удивлением думал, что и полярная ночь, и оторванность от Большой Земли, и холод, и одиночество, — все, что пугало меня, когда я думал в Ленинграде о предстоящей зимовке, на самом деле оказалось не таким уж страшным. Как-то легко и сразу мы привыкли ко всем этим «ужасам» и почти уж не замечали их.
У каждого из нас было свое интересное и обязательное дело, были свои заботы и волнения.
Метеорологи старались работать бесперебойно, чтобы каждая их телеграмма во-время уходила на Большую Землю. Магнитологи, сменив злополучные сапоги на безопасные валенки, теперь следили только за тем, чтобы никто не ходил с железом вокруг павильона. Аэрологи беспрестанно запускали в небо то одного, то другого своего разведчика. Вася Гуткин по целым ночам пищал и свистел радиоприемниками — ловил передачи с Большой Земли, с помощью сложных приборов записывал напряжение электромагнитного поля. Как колдун, возился на плоской крыше своего павильона закутанный в меха молчаливый Лызлов, наш актинометрист, и точными приборами измерял, как остывает, отдает свое последнее тепло скованная льдом земля.
Только двоим людям на всей зимовке нечего было делать в полярную ночь.
Это были геолог Савранский и геодезист Горбовский. Они поджидали полярного лета и солнца, чтобы начать свои санные экспедиции.
Савранский задумал объехать на собаках ближайшие острова архипелага, собрать образцы геологических пород и заняться изучением ледников, чтобы в конце концов узнать, как появились здесь эти острова и сколько им лет.
Горбовский, тоже разъезжая на собаках, должен был составить точную карту наших островов, так как до сих пор такой карты Земли Франца-Иосифа еще не было.
Сейчас, в полярную ночь, оба они томились вынужденным своим бездельем и целые дни только и дела делали, что читали книжки.
Но скоро им тоже нашли работу. Приближалась годовщина Октябрьской революции. Вся зимовка занялась приготовлениями к празднику, который мы хотели встретить как можно торжественней и веселей.
Как-то сразу оказалось, что среди нас много музыкантов, а не один только Стучинский. Вдруг выяснилось, что Лызлов виртуозно играет на балалайке, Вася Гуткин — на гитаре, Ромашников — на мандолине, у Сморжа обнаружился талант гитариста, а Боря Линев смело вызвался сесть за пианино.
Из музыкантов мы составили целый оркестр. Я играл в оркестре на ударных. У меня было много инструментов: мельхиоровый чайный поднос, деревянная коробка от глазированных фруктов, винтовочный шомпол, подвешенный на ниточке, алюминиевая сковородка и самолетный киль вместо барабана.
В свободное от работы время все собирались или в комнате Васи Гуткина, или в кают-компании.
Каждый вечер гремел оркестр, разучивая то «Марш Буденного», то «Кисаньку», то «Светит месяц».
И для тех, которые не участвовали в оркестре, тоже нашлась работа.
Кто чинил пестрые морские флаги, чтобы ими украсить снаружи нашу зимовку, кто писал лозунги и плакаты для кают-компании, кто разрисовывал стенную газету «Осада Арктики».
Ни рисовать, ни шить, ни играть на гитаре или балалайке Савранский с Горбовским не умели.
— Тогда пускай хоть заметки для газеты переписывают, — сказал Боря Линев. — Все нам полегче будет.
Но у Савранского почерк оказался такой, точно это и не человек вовсе пишет, а ходит по бумаге пьяный воробей, — Савранскому дали наклеивать заметки. А у Горбовского почерк был ничего, подходящий: крупный, четкий. Ему даже доверили переписывать стихи Каплина и Наумычеву передовицу.
Уже была убита и разделана по случаю праздника самая жирная свинья, на радиомачте во тьме весело хлопали и стреляли флаги, уже Желтобрюх вымыл кают-компанию и заготовил для селедки и студня красивые фестончики из разноцветной бумаги. Уже повешена была в коридоре старого дома разрисованная акварелью программа Октябрьского вечера, когда вдруг стряслась такая беда, которая едва не стоила многим из нас жизни.
Надолго смолкли на зимовке и смех, и музыка, и веселые голоса.
В угрюмую, тревожную тишину погрузились оба наших дома, заваленные до крыш сугробами.
Замерла на зимовке жизнь, только до глубокой ночи светилось окно в аппаратной комнате радиостанции, да по целым суткам не потухал свет в комнате Наумыча.
А случилось у нас вот что.
____________
2 ноября Желтобрюх топил баню. Эти банные дни были у нас настоящими праздниками.
Не знаю почему, но все мы думали, что зимой в Арктике человеку совершенно негде пачкаться: кругом ведь только лед и снег. Ни пыли, ни грязи, ни копоти.
Но оказалось наоборот. Нигде, никогда еще я так не пачкался и не мазался, как на зимовке. Да и не удивительно. Начнешь заправлять фонарь — сразу руки в керосине и в копоти; начнешь печку растапливать — будто кочегар перемажешься; а на склад пойдешь — прямо как мельник весь в муке и в пыли вернешься.
Каждого банного дня мы ожидали с нетерпением и после бани ходили чистенькие, беленькие, точно помолодевшие на пять лет.
Но проходило два-три дня, и опять наши лица «входили в норму», из-под фуфаек и меховых курток выглядывало серое белье, волосы начинали блестеть и лежали на голове, как сбитая шерсть.
И так до новой бани, которую топил кто-нибудь из нас по Наумычеву расписанию.
Очередной истопник обязательно придумывал для зимовщиков какой-нибудь банный сюрприз.
Один украшал веселыми лозунгами предбанник, другой расстилал на лавках чистые собственные простыни, третий заботливо расставлял графины с холодным квасом, или гвоздями приколачивал к стене раскрытые пачки лучших папирос, — угощайтесь! Четвертый, как в цирке, устраивал световые эффекты: мигающие лампочки, зеленые, синие, красные прожекторы.
В тот день, о котором я хочу рассказать, баню топил Желтобрюх. Баня вышла на славу. Было вдоволь и горячей и холодной воды. В предбаннике на тарелочках стояло богатое угощение: копченая колбаса, сыр, шпроты, холодный язык, отварная треска с картошкой; в огромном чайнике бурлил кипяток. Красные, обливающиеся потом, с полотенцами на головах, разомлевшие от жары, от горячего чая сидели в предбаннике парщики-любители и блаженно дули в дымящиеся эмалированные кружки. Они сидели под огромным, во всю стену, многокрасочным плакатом:
Подобной бани на свете нет! Уютно! Чисто!! Тепло!!! Буфет!!!А поперек предбанника висел другой плакат:
Кто понапрасну воду льет, — Тот не полярник, а кашалот!Баня была маленькая, и мылись в ней человек по шесть — кто свободен, тот и шел мыться.
В тот день я постарался вымыться в первой партии, чтобы поспеть на семичасовые наблюдения. Я уже одевался, когда растворилась наружная дверь, и в облаках морозного пара в баню ввалился Боря Линев.
— Свободных мест нет! — крикнул ему Желтобрюх, угощавший чаем Сморжа и Васю Гуткина.
— Мне много места и не надо, — пробормотал Боря и вытащил из-за пазухи какую-то бумажку. Он осмотрел стены предбанника, выбрал местечко повиднее и стал кнопками прикалывать свою бумажку к черной бревенчатой стене. На бумажке затейливыми буквами было выведено:
СЕНСАЦИЯ! ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! НЕБЫВАЛОЕ В АРКТИКЕ ЗРЕЛИЩЕ!
БЕГА И СКАЧКИ!
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ НЕВИДАННЫЙ ПРИЗ, КОТОРЫЙ
И СХАРЧИТ НА ГЛАЗАХ У ПОЧТЕННЕЙШЕЙ ПУБЛИКИ.
Начало ровно в 7 часов вечера.
Дети и собаки не допускаются.
Боря приколол бумажку, отошел и полюбовался издали.
— Чего это такое? — спросил я. — Какие бега?
— Собачьи, наверно, какие же еще, — сказал Вася Гуткин, прихлебывая чай из большой кружки. — Жукэ обязательно пусти, — всех зашьет.
Боря Линев ничего не ответил.
— Собачьи, да? — спросил Желтобрюх.
Но Боря только хитро ухмыльнулся:
— Приходите — увидите, — и вышел из бани, снова напустив холода и пара.
В семь часов, когда я провел свои наблюдения, отнес в рубку шифрованную телеграмму и уже возвращался домой, я услышал в темноте громкие крики и улюлюканье:
— Время!
— Времечко!
— Мерзнем!
— Не задерживай, люди ждут!
Я подошел к бане. У крыльца стояла целая толпа. Все были закутаны в шубы, в шарфы, у всех на самые глаза нахлобучены шапки.
— Время! — прокричал Сморж. А какой-то бесформенный меховой кулек голосом Лени Соболева сказал:
— Жульничество одно. Простудишься только после бани..
Вдруг дверь из бани распахнулась, и на крыльцо выскочили оба каюра — Боря Линев и Стремоухов. Они были совершенно голые, и от их красных, распаренных тел валил густой пар. Толпа ахнула, зашумела, задвигалась.
— Вы что, взбесились? — опять прокричал голос Лени Соболева.
— Пошли назад! Идиоты!
— Скачки, скачки давай! — громко закричал Сморж.
— Боже мой, какое непростительное безумие, — с ужасом сказал Стучинский и, махнув рукой, направился к старому дому.
А каюры, звонко шлепая босыми ногами по обледенелому крыльцу, сбежали на снег и, втянув головы в плечи, ежась и подпрыгивая, затрусили по сугробам вокруг бани. Следом за ними бросились собаки. Через минуту каюры выскочили с другой стороны. Собаки мчались рядом с ними и ловчили, как бы схватить их за голые икры.
— Первый! — радостно выкрикнул Боря Линев, взбежав на крыльцо.
— Ну и дурак! — в тон ему крикнул из толпы чей-то голос. Остальные неловко молчали, переминаясь с ноги на ногу.
— Кто напустил собак?! — заорал Стремоухов. — Сказано ведь, что собаки не допускаются! Кто на контроле был? Все ноги пообкусали!
Каюры скрылись за дверью. Толкаясь и переговариваясь, зрители тоже полезли за ними в баню.
В предбаннике на скамейке сидели друг против друга посиневшие каюры. С их голых ног ошметками сваливался тающий снег.
Боря Линев держал в руке тарелку, на которой было какое-то, вроде мясного фарша, коричнево-красное месиво и лежали ломтики лука. Причмокивая и облизываясь, Боря с аппетитом ел большой ложкой это месиво.
— Чего это такое? — спросил я у стоявшего рядом Ромаш-никова.
— Сырую медвежатину ест, — брезгливо сказал Романтиков. — Вот дикарь!
— Ну каюры! Ай да каюры! — восторженно приговаривал Сморж и закричал через головы стоявших впереди:
— Борька! А собачатину можешь жрать?
Боря Линев разухабисто тряхнул головой.
— Каюры, брат ты мой, все могут! Хочешь — собачатину, хочешь — кошатину!
— Ну черти! Вот это черти, — никак не мог успокоиться Сморж. — Нагишом. Нет, ты смотри, смотри, как ест-то будто это у него мармелад! — Он смачно сплюнул и растер плевок валенком. — Химики!
Через два дня после этих «бегов и скачек» каюр Стремоухов заболел.
Еще накануне за ужином он сидел унылый и злой, попробовал одного и с брезгливой гримасой отодвинул от себя, попробовал другого — тоже отодвинул. Только чай с клюквенным экстрактом он пил долго и жадно.
На другой день к завтраку он уже не вышел.
— Где Стремоухов? — спросил Наумыч, ввалившись в кают-компанию и по обыкновению оглядев столы.
— Чего-то нездоровится ему, — сказал Боря Линев. — Жар, что ли. Сказал, что полежит.
После завтрака я зашел в комнату каюров. Стремоухов лежал на спине, полузакрыв глаза, и часто, шумно дышал.
— Ну что, добегались? — сказал я. — Допрыгались? Вот вам и скачки.
— Бросьте вы, — с натугой ответил Стремоухов и облизнул посеревшие губы. — Я всегда зимой так делаю. Это не от бани.
А Боря Линев добавил:
— Это только городские от холода болеют. Наш брат, охотник, холода не боится.
Пришел Наумыч. Он выслушал, ощупал, остукал больного, поставил ему термометр и с часами в руках уселся на табуретку, поглядывая на Стремоухова злыми глазами.
— Сырое мясо ел? — вдруг сердито спросил он.
— Ел, — тихо сказал Стремоухов.
— Медвежатину?
— Медвежатину. Только Борька больше меня ел..
Боря Линев сидел на своей кровати и зашивал суровыми нитками шапку. Он воткнул иголку в штаны и усмехнулся.
— А что, Наумыч, медвежатина? Мы всегда со Степаном, как медведя обделываем, обязательно свежинки попробуем. Медвежатина полезная. Я грача сырого жрал, волка — и то ничего. Это не от медвежатины.
— Так, может, ты его тогда, вместо меня, лечить будешь? — сказал Наумыч. — Ты, видно, все у нас знаешь. Полезная, передразнил он. — Как только не совестно дикарями какими-то притворяться.
Наумыч нахмурился, засопел и, увидев, что Боря потянулся за папироской, сказал, ни на кого не глядя:
— В комнате больного не курить.
Мы помолчали.
— На лыжах не бегал? — спросил Наумыч, все так же недружелюбно поглядывая на Стремоухова.
— Да нет, кажется, не бегал, — сказал тот и вздохнул.
— Может, в бане простыл? — продолжал выспрашивать Наумыч. — Ты паришься, нет?
Боря Линев молча покачал головой: вот, мол, глупости какие человек говорит.
— А, может, это от скачек? — робко спросил я.
— От каких еще скачек? — сердито сказал Наумыч.
Боря Линев стал делать мне за спиной Наумыча предостерегающие знаки — замахал головой, сморщился — молчи, мол! Но было уже поздно.
— Что за скачки такие? — снова спросил Наумыч. — Ну, чего же ты молчишь? Какие скачки?
— Да вы разве не знаете? — смущенно сказал я.
— Раз спрашиваю, значит, не знаю, — сказал Наумыч.
— Когда же это было? Третьего дня, что ли? Вокруг бани они бегали, голышом. Борька первый прибежал, ему и приз достался.
Наумыч даже отшатнулся от меня.
— Как голышом? Что ты говоришь?
Он резко повернулся к Стремоухову и отрывисто спросил:
— Верно, что голышом?
— Ну, верно, — неохотно сказал Стремоухов. — Только я думаю…
— Это никого не интересует, что вы думаете! — вдруг закричал Наумыч. — И ты тоже! Комсомолец называется! — накинулся он на Борю. — Ты что же это — с ума сошел? Одурел? Ну, ладно. Я с тобой еще поговорю. — Дрожащей от ярости рукой Наумыч вынул из подмышки у Стремоухова термометр. — Тридцать восемь и девять. Ну, все ясно. — Он встал, молча пошел из комнаты и так хлопнул дверью, что висевшая на стене гитара загудела, как орган.
К вечеру Стремоухову стало хуже. Он жаловался на сильную ломоту в ногах и с трудом двигал припухшими, побуревшими губами.
Я уже собирался ложиться спать, когда ко мне в комнату без стука вошел Наумыч. Он был озабочен и хмурясь сказал:
— Бери ключ. Мне в библиотеку надо.
Мы прошли в библиотеку.
— Где тут у тебя медицина? — спросил Наумыч и принялся рыться на полке, которую я ему указал. Он с досадой швырнул несколько книжек на пол.
— Все хирургия да хирургия, — проворчал он. — Хирургию-то я и без них знаю… Неужели нет ни одной книги по общей терапии? Тоже, библиотека…
Наконец он нашел какую-то толстую, еще не разрезанную книгу и, присев на корточки, тут же, в библиотеке, принялся перелистывать ее, пальцем раздирая страницы.
— Эту я возьму, — сказал он. — Эта подойдет.
Мы вышли из библиотеки.
— А что у Стремоухова, Наумыч? — робко спросил я.
Наумыч развел руками.
— Не знаю еще, — неохотно ответил он. — Надо проверить, подчитать.
Наумыч был врачом-хирургом. Его специальность — операции.
Конечно, в студенческие годы он изучал и терапию — науку о болезнях, для лечения которых не требуется делать операции, но с тех пор прошло уже много времени, и Наумыч, конечно, успел эту самую терапию позабыть.
Будь у Стремоухова грыжа или заворот кишек, или аппендицит, или заражение крови — Наумыч сразу бы определил болезнь и знал бы, что надо делать. Но у Стремоухова было что-то другое — и не грыжа, и не аппендицит, и не заражение крови. А что именно у него было, — Наумыч еще не знал.
На другой день к завтраку собрались, как обычно. Окоченевшие, со скрюченными синими руками, заявились аэрологи, битый час следившие на морозе за полетом оптического зонда. Валенки их замерзли и стучали, как лошадиные копыта. Потом пришел Редкозубов, поглаживая бритый сверкающий череп. Савранский молча уселся на свое место и принялся читать какую-то книжку. Зевая и почесываясь, пришел Сморж. Громко хлопнув дверью, появился Шорохов.
Самым последним пришел Наумыч. Он с грохотом отодвинул табуретку и, ни на кого не взглянув, сел за стол.
И, точно по сигналу, в этот самый момент пыльный репродуктор, который всегда молча висел в углу кают-компании, вдруг щелкнул, пискнул, откашлялся и проговорил:
— Алло, Алло. Говорит широковещательная радиостанция на острове Гукера Земля Франца-Иосифа на волне 0,35 метра. С добрым утром, товарищи! Сейчас прослушайте, товарищи, актуальную передачу, а потом небольшой концерт.
Голос смолк, в репродукторе послышалась какая-то возня и шипение, потом свистящий шопот сказал:
— Вася! Васька! Давай же скорее!..
— Братцы! — крикнул Леня Соболев. — Да это же Гришка Быстров! Его голос! Ей-богу, он!
— Прослушайте последние новости, — опять заговорил репродуктор. — К празднику Октябрьской революции, как сообщили нам в официальных кругах, будет выдано каждому зимовщику по десяти плиток шоколада, по пяти коробок папирос «Уника» и по одной коробке глазированных фруктов..
Потом заговорил бас:
— Переходим к концерту, граммофонной записи.
— А это Васька Гуткин, — сказал Сморж. — Ишь голос-то как ломает. Страсть!.,
— Первым номером будет исполнено «Для берегов отчизны дальней».
Репродуктор опять зашипел, а потом раздались звуки рояля, и сильный баритон уверенно и смело запел:
Для берегов отчизны дальней Ты покидала край чужой; В час незаб…Дверь с грохотом распахнулась, и в кают-компанию влетел сияющий Гриша Быстров.
— Слышно? — закричал он. Гриша был без шапки, и на волосах у него еще не растаяли снежинки.
— Здорово!
— Молодец, Гришка! Прямо Эдисон!
Гриша схватил с тарелки кусок колбасы, бросил его в рот и, склонив голову набок, послушал пение. — Верно, ребята, чисто дает? А мой голос похож был? А? Ну, побегу, скажу Васе, что выходит. — И он бросился было к двери, как вдруг Наумыч окликнул его громким сердитым голосом:
— Быстров!
Гриша остановился и с изумлением посмотрел на Наумыча.
— Все это, конечно, очень хорошо, что ты придумываешь, — быстро проговорил Наумыч, — но только надо бы и основным своим делом заняться. Стучинский заболел, ты знаешь это?
— Нет, не знаю, — испуганно сказал Гриша и посмотрел на то место, где всегда сидел Стучинский. Тут только и мы заметили, что Стучинского за столом нет.
— Так вот знай, — продолжал Наумыч. — Возможно, что Стучинский проболеет долго, так что все научные работы по магнитному павильону будешь вести ты один. Понятно?
— А где Линев? — вдруг испуганно спросил кто-то. — И Линева нет!
— Сегодня утром, — хмурясь сказал Наумыч, — заболели еще два зимовщика — Стучинский и Линев.
В кают-компании стало тихо, только баритон продолжал петь из репродуктора все так же сильно, уверенно и чисто:
Но там, увы, где неба своды Сияют в блеске голубом…— Тогда я пойду, скажу, чтобы он перестал, — каким-то упавшим голосом проговорил Гриша и поспешно вышел из кают-компании.
Загадочная болезнь
Черный оскаленный медвежий череп держит в чуть изогнутых клыках электрическую лампочку. Лампочка горит желтоватым тусклым светом, едва освещает узкую, об одно окно, комнату, стены которой обиты серой толстой материей. На материи развешаны винтовки, охотничьи ружья, ножи, патронташи, гарпуны, собачьи хомутики.
Под этими боевыми доспехами, укрытые одеялами и шубами, лежат больные каюры.
Из-под одного одеяла выглядывает круглая стриженая голова Бори Линева. Лицо у него страшно опухло, и он стал похож на Паташона.
Напротив лежит Стремоухов. Он лежит на спине неподвижно, как покойник. За черным окном, полузанесенным снегом, гудит и гудит вьюга.
Я сижу на табуретке между их кроватями. Мы долго молчим.
Я слушаю, как шумит и гудит и шуршит за стеной непогода, и мне начинает казаться, что все это только страшный сон. Какой-то дикий обледенелый остров на самом краю света, черный дом, почти до крыши заваленный снегом, и в полутемных комнатушках этого дома лежат распухшие люди с запекшимися черными губами.
И тут же сижу я. Зачем я здесь?..
— Пить, — хрипло говорит Стремоухов. — Поверните мне голову.
Я с трудом поворачиваю его голову. Правая сторона его лица так раздута, что напоминает футбольный мяч. Маленький затекший глаз даже не открывается. Стремоухов едва-едва разжимает рот, его губы будто склеены какой-то тягучей белой пеной. Ворот его рубахи расстегнут, и я вижу мелкую красную сыпь, густо покрывающую желтое тело.
— Вот, теперь лучше, — бормочет он, откидываясь на подушку. — Страшно, Безбородов… Очень страшно. Я не хочу тут помирать..
Он дышит тяжело, со свистом.
— Правда, ведь я не умру? — в десятый раз шепчет Стремоухов, и распухшие его губы начинают дрожать. Он открывает свой единственный глаз, большой и испуганный, как у лошади, и пристально, испытующе смотрит на меня.
— Конечно, вы не умрете, — тихо говорю я, — зачем же вам умирать? От этой болезни люди не умирают.
Он что-то шепчет, шевелит губами, потом медленно, с трудом говорит:
— Паратиф… А почему сыпь?.. Сыпи не должно быть при паратифе… Все вы врете… И вы и Наумыч… Почему сыпь?
А я и сам не знаю, почему сыпь.
Еще вчера утром Наумыч решил, что все заболели паратифом, но вот сегодня на теле больных появилась густая розовая сыпь, лица их распухли, ноги совершенно отнялись.
И Наумыч сказал нам, здоровым, что он ошибся — что это не паратиф.
Уже два раза от первой до последней строчки он прочел «Общий курс терапии» — толстенную книгу в 700 страниц. Многие страницы он перечитывал по десятку раз, исчиркал значками, вопросами, какими-то закорючками. Но ничего похожего на нашу болезнь в книге не оказалось..
Стремоухое хрипло вздыхает и говорит:
— Мне одному лежать надо. Мне покой нужен, а тут каждую минуту волнуешься с этим типом, — он едва заметно косит своим единственным глазом на Борю Линева. — Переселили бы его куда-нибудь. Безобразие прямо. Переселить не могут…
Боря Линев молчит.
— Поговорите с начальником, — опять бормочет Стремоухое, — он вас послушает. Не могу же я подыхать из-за того, что он мне нервы портит. А? Поговорите?
Меня начинает разбирать глухая злость.
— Линев так же болен, как и вы, — спокойно говорю я, — и потом переселять его некуда, у нас отдельной больницы нет.
— Отговорки всё одни, — злобно бормочет Стремоухое. — Ох ты, боже мой, боже мой… — Он закатывает глаза, начинает тихо стонать, потом опять говорит: — Градусник хоть бы поставили, прямо горю весь. Господи, боже ты мой, никому никакого дела нет..
— Вам же час назад ставили, — едва сдерживаясь, говорю я, — в обед еще поставят, и вечером. А больше незачем ставить.
— Градусника жалко, — бубнит Стремоухов, — лишний раз не могут градусник поставить. Ох-ох-ох-о-хо!
Он отворачивается к стене, тяжело дышит, обкусывает лохмотья кожи с растрескавшихся губ. Потом снова поворачивает ко мне свое одноглазое лицо:
— Вы знаете, до чего дошел этот сумасшедший? — с натугой говорит он, показывая на Борю Линева. — Сегодня ночью, гляжу — сполз с кровати и на коленях прямо ко мне… Думаю — спятил, еще задушит… Я ему кричу: «Не смей, сволочь этакая!» А он мне: «Я за папироской», говорит… Нет, каково жить с таким субъектом?
Боря смущенно кашляет.
— Понимаешь, — говорит он, — не могу стоять, боль в ногах такая, что замертво валит. Вот и пришлось через всю комнату на коленях ползти… Беда прямо..
И он недоумевающе качает головой и смотрит на меня, как бы спрашивая: с чего бы это такое?
— Ну, ладно, ладно, — говорю я спокойным голосом. — Выдумали себе всякие страхи. Обыкновенный паратиф. Все пройдет. Пустяки. — А самому мне становится страшно, и я украдкой смотрю на часы.
— Вот и обед скоро. Ну, чего вам притащить? Хотите засахаренных лимонов?
— Ничего мне не надо, — трагическим голосом говорит Стремоухов. — Пошлите ко мне Наумыча. Тяжко мне… В ухе чего-то колет… Боже мой, так и умрешь тут, а они обедать будут…
— Обедать для того и надо, чтобы не умереть, — зло говорю я. — Ничего в этом зазорного нет.
— Мне кваску нельзя ли? — робко спрашивает Боря Линев.
И опять Стремоухов бубнит:
— Кваску! Тоже, больной называется. Ох ты, боже мой, боже мой..
Теперь уже не звонит на обед колокол. Некому звонить, да и собирать-то некого: только девять человек из двадцати еще держатся на ногах. За каких-нибудь четыре дня неизвестная и страшная болезнь свалила одиннадцать зимовщиков.
Первым слег Стремоухов. Потом заболели Стучинский и Линев. Вечером того же дня свалился Савранский. Ночью заболели Горбовский и Сморж. А потом и пошло: Каплин, Соболев, Гуткин, Иваненко, Виллих.
Все, что еще недавно делали двадцать человек, делаем теперь мы, впятером. Всего-то нас, здоровых, девять человек, но Наумыч, повар, радист и механик в счет не идут. У них столько своей работы, что ничью чужую они уже делать не могут.
И вот мы, пять человек, превратились и в служителей, и в сиделок, и в истопников, и в судомоек.
Мы разносим обеды, дежурим у постелей больных, топим в обоих домах все печи, пилим снег, таскаем уголь, колем дрова, моем на кухне посуду, кормим собак и свиней, чистим свинушник. И всю научную работу тоже мы должны делать. Научная работа не прекращается ни на один день, точно у нас ничего не случилось, точно у нас все в полном порядке.
Вот и сегодня я встал в шесть часов утра и с тех пор еще ни разу не был в своей комнате. Все утро я носил на кухню, вместе с Лызловым, снег, потом чистил картошку, а Лызлов в это время кормил собак. Потом, опять вместе, мы сходили с фонарями в «Торгсин», привезли оттуда на нарте мешок муки, ящик сухих фруктов, замерзшую тушу убитой к празднику свиньи. Освободившись, натаскали угля и затопили печи в комнатах больных. Было уже двенадцать часов дня, и мне надо было итти на наблюдения. А после наблюдений я зашел вот посидеть к каюрам, а Лызлов тоже, наверное, сидит сейчас у кого-нибудь в комнате. И Ромашников и Гриша Быстров тоже.
— Ну, ребята, — говорю я, — лежите тут смирно, не ссорьтесь. Я пойду других навестить. А потом обед вам принесу.
— Наумыча пришлите, — говорит мне вдогонку Стремоухов, — не могу я больше так лежать. У меня в ухе колет.
Я выхожу в холодный пустой коридор. Под фонарем копошатся две каких-то тени. Это радист Рино и Редкозубов. Так как Костя Иваненко заболел, Редкозубов временно опять работает механиком.
Обитатели радиорубки принимают отчаянные меры предосторожности, чтобы не заразиться. И Рино и Редкозубое ходят на завтрак, обед и ужин со своим веником, которым тщательно обметают валенки и верхнюю одежду, выходя из старого дома. Это у них называется — «отряхнуть его прах с наших ног». За столом они сидят в прорезиненных комбинезонах, а придя к себе в рубку, снимают эти комбинезоны и оставляют в сенях.
Мы отлично знаем, что радиста и механика надо беречь от болезни, как зеницу ока, и потому нисколько не обижаемся, что радиорубка перестала здороваться с нами за руку. Заболей механик, и зимовка погрузится во тьму. А если заболеет радист, мы будем отрезаны от всего мира.
— Ну как? — испуганно спрашивает издалека Редкозубов. — Новенькие есть?
— Все так же, — говорю я. — Новеньких пока нет.
В кают-компании как-то холодно, неуютно и пусто. Теперь вся зимовка свободно размещается только за одним столом.
Ромашников ходит по кают-компании из угла в угол, сердито дует в красные, замерзшие руки, сложенные горсткой.
— Ну что, Ромаша, научился дрова колоть? — насмешливо спрашивает его Шорохов. — Нужда, она всему научит, — назидательно добавляет он и, повернувшись к Грише Быстрову, показывает головой на Ромашникова: — Мы с ним сейчас дрова кололи. Потеха!
— Да, Ромаше теперь плоховато, — быстро отвечает Гриша Быстров, с жадностью поедая винегрет. — Учитесь, Ромаша, учитесь. Может, еще стрелять придется, не то что дрова колоть.
— Ну и что же, — говорит Ромашников, — дрова колоть — это квалификация не такая уж знаменитая, чтобы хвастать на весь мир. Мало ли чего вы, например, не умеете делать. Я дрова колоть не умею, а вы ленты анемографа не умеете обрабатывать. Мне выучиться легче.
Шлепая калошами, в кают-компанию входит молчаливый Наумыч.
Он почернел, похудел, оброс бородой. Целыми днями он теперь возится в амбулатории, что-то взвешивает, что-то толчет в ступках, гремит банками и склянками, — готовит лекарства.
Три раза в день он обходит больных — раздает микстуры и порошки, ставит компрессы, измеряет температуру. До глубокой ночи сидит он в своей комнате, перечитывает «Общий курс терапии», — все ищет загадочную нашу болезнь.
А болезнь в самом деле загадочная. Больные опухли, покрылись сыпью, ноги у них совершенно отнялись, нестерпимо болит голова, и от страшного жара начинается бред.
В «Общем курсе» описаны сотни болезней, начиная от бубонной чумы и кончая насморком.
Есть болезни, при которых появляется сыпь, есть болезни, от которых человек распухает, как мячик, есть недуги, когда у больного отнимаются ноги. Но всё это разные болезни. Одной такой болезни, при которой была бы и сыпь, и опухоли, и отнимались бы ноги, в «Общем курсе» нет.
И Наумычу приходится лечить болезнь, которой он даже не знает. Может быть, это какая-нибудь особая полярная болезнь, и ее не знает никто?
— Стремоухову опять нет телеграммы? — спрашивает Наумыч, грузно усаживаясь за стол.
— Нет, Стремоухову нет, — отвечает Рино.
Наумыч задумчиво ковыряет вилкой картошку, потом говорит:
— Надо, чтобы Стремоухов получил телеграмму. Это его подбодрит. А то он совсем раскис.
— Это верно, что раскис, — говорит Ромашников, — прямо в комнату к нему нельзя войти, — то одно ему плохо, то другое скверно. И так тошно, а тут еще под руку брюзжит: «умру, умру». Все умрем и без его карканья.
— Вы не знаете адреса его жены? — спрашивает Наумыч у радиста.
— Можно узнать, — отвечает Рино. — У меня его телеграммы есть, которые он посылал домой. Там и адрес указан.
Наумыч достает карандаш и бумагу, отодвигает тарелку, нахмурившись что-то пишет.
— Вот, — говорит он, — впишите адрес и срочно передайте. За счет ГУСМПа…
Рино берет листок и читает себе под нос:
«Степан обеспокоен вашим молчанием. Немедленно радируйте хорошую, бодрую телеграмму. Начальник зимовки Руденко».
Торопливо и молча мы кончаем обед и идем на кухню с пустыми тарелками, котелками, судками. Выстраиваемся в затылок.
— Кому? — спрашивает Арсентьич, стоя у заставленной сковородками и кастрюлями плиты и держа наготове огромную поварешку.
— Желтобрюху, — угрюмо говорит Гриша Быстров.
Арсентьич открывает маленькую кастрюльку, наливает в тарелку прозрачного бульона.
— Следующий. Кому?
— Сморжу, — подставляет тарелку Лызлов.
Арсентьич наливает из другой кастрюли лапшу.
— Следующий.
Ромашников протягивает миску.
— Стремоухову, — говорит он.
Этому полагается какое-то особое варево из кореньев и костей.
Я получаю две тарелки лапши и направляюсь к Каплину и Соболеву.
С Леней Соболевым просто беда. Когда бы я ни вошел в его комнату, кровать его пуста.
— Лаврентий, — спрашиваю я Каплина, — где Леня?
— Опять там же, — глухо отвечает Каплин из-под груды одеял и меховых шуб.
Я лезу под кровать. Там, в самом дальнем углу, скорчившись лежит опухший Леня Соболев, смотрит на меня заплывшими, маленькими глазками.
— Леонид, — говорю я, — опять эти фокусы? Вылезай сейчас же. Слышишь? Я кому говорю? Вылезай, вылезай.
Леня покорно вылезает, укладывается в кровать, жалобно вздыхает.
— Что это за штучки еще такие? — строгим голосом говорю я. — Как тебе не совестно валяться под кроватью. Чего это тебя туда тянет?
— А мне душно, — грустно говорит Леня, — а под кроватью прохладно, хорошо.
Он покорно съедает весь суп.
— Ну, лежи, — говорю я, — сейчас принесу второе — рисовую кашу. Лежи, я сейчас.
Но только я выхожу в коридор, как слышу в комнате за дверью какой-то глухой шум. Я сразу возвращаюсь. Лени на кровати уже нет.
— Ты опять здесь? — говорю я, залезая под кровать. — Опять удрал? А ну, давай назад.
Водворив его на место, я снова выхожу в коридор. Но не успеваю я прикрыть за собой дверь, как Леня торопливо, словно таракан, опять заползает под кровать.
Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь, освободившись от своих больных, не заходит в комнату. Я оставляю около Лени сторожа, а сам бегу за рисовой кашей.
У Ступинского тоже своя мания. Он или воображает себя аэропланом, или сочиняет рассказы.
Войдешь к нему в комнату, а он сидит на кровати, распластав руки, как крылья, и тихонечко трещит, подражая авиационному мотору: тр-р-р-р-р-р-р..
— Осторожно, — сердито говорит он, — сейчас я делаю вираж. Попрошу близко не подходить, могу зацепить ланжероном.
Или примется рассказывать:
— Знаете ли, ведь я сегодня опять сочинил рассказ. Такой смешной, ну прямо как у Чехова. Какая досада, не успел вот только записать… — Он беспомощно озирается, трет лоб ладонью. — Ну, ничего, я его и так помню. Вот слушайте: сидим мы вечерком в кают-компании, как вдруг входит кто-нибудь из зимовщиков и радостно так говорит: «Я, — говорит, — получил радио — жена родила сестру». Правда, смешно? — Он, растерянно улыбаясь, смотрит на меня. — Понимаете, хотел сказать — родила дочь, а сказал — сестру. Верно, смешно? Прямо чеховский рассказ.
Круглые сутки не тушится теперь в комнатах свет. Гриша Быстров даже провел от каюров к Наумычу электрический звонок, а то бедному Боре Линеву приходилось среди ночи ползти на четвереньках через весь дом — звать к Стремоухову Наумыча.
В настоящий лазарет превратилась наша зимовка. Всюду воняет камфорой, валерьянкой, денатурированным спиртбм. По коридору то и дело проходит сосредоточенный и нахмуренный Наумыч, в белом халате поверх меховой тюленьей куртки. Полы его халата развеваются на ходу, и я почему-то всегда вспоминаю, как мальчишкой меня привели в больницу рвать зуб и по коридору больницы ходил такой же рослый доктор, и у него так же развевался белый до колен халат.
В руках у Наумыча — то целый пучок градусников, то какие-то склянки, то резиновый пузырь со льдом..
Только поздним вечером, часов в десять, я, наконец, попадаю в мою комнату. В ней грязно и холодно. Но мне уже не хочется ни убирать комнату ни топить печку.
Я завожу будильник, ставлю его на шесть часов утра, поспешно раздеваюсь и, накрывшись двумя одеялами и шубой, засыпаю сразу, точно проваливаюсь сквозь землю.
Мелкий шрифт
Внезапно наступила оттепель. Медленно падают редкие пушистые снежинки. Ни тумана, ни ветра. Кругом стало как-то особенно тихо и черно.
С утра я вызвался натаскать на кухню снега. Светя себе керосиновым фонарем, я принялся выпиливать из сугроба большие крепкие кубы.
Все время по пятам за мной молча ходили собаки. Пока я пилил снег, они сидели поодаль, внимательно наблюдая за моей работой. Потом всей стаей поднимались, провожали меня до дома и терпеливо ждали у двери.
Собаки были голодны. Теперь их кормили редко и плохо, только тогда, когда у кого-нибудь из нас было свободное время. А это свободное время случалось не часто.
Вот и сегодня с утра все здоровые люди заняты: один стирает, другой колет дрова, третий чистит свинушник, я таскаю снег, и опять некому покормить собак.
Работаю я словно в какой-то дремоте — медленно, вразвалку, иногда вдруг забывая, что и для чего я делаю.
Один раз я даже по-настоящему задремал, прислонившись к сугробу. И сразу мне начал сниться какой-то сон: будто бы я не то монтер, не то инженер на большой электростанции. Я хожу по просторному машинному залу между гудящими генераторами, посматриваю на распределительные щиты. И вдруг что-то лопается в одном из генераторов, и теплое масло хлещет мне в лицо.
Я просыпаюсь. Рядом со мной на снегу сидит Гусарка и лижет меня в щеку. Я отталкиваю Гусарку и лениво думаю: «Надо бы вытереть щеку, — нехорошо, ведь собаки всякую дрянь жрут». Подумал и сразу забыл.
А в голове опять точно гудят какие-то генераторы, какая-то тяжесть и звон.
Долго стоял я так, равнодушно глядя, как из кухонной трубы вылетают красные искры и вычерчивают в темноте тонкие путанные линии. «Словно огненные волосы», подумал я и снова принялся пилить сугроб.
Хлопнула дверь в большом доме, захрустел снег. Темный силуэт человека остановился в нескольких шагах от меня. Я поднял фонарь и посветил. Это был Ромашников.
— Вы все еще возитесь? — спросил он. — Что же так долго-то? Уж скоро обедать.
Собаки обступили Ромашникова, виляя хвостами и заглядывая ему в лицо.
— Покормите, Ромаша, собак. А? — сказал я. — Я сам хотел, да, видите, со снегом зашился.
Ромашников постоял, помолчал, пожевал губами, потом сказал:
— Ладно. Покормлю. Лишняя специальность не помешает. Ну, зверье! — закричал он собакам. — Пошли жрать!
Я снес на кухню последний кусок снега, изрубил его большим кухонным ножом, набил снегом куб и побрел к себе на Камчатку. Где-то далеко, наверное у салотопки, лаяли и визжали собаки, которых кормил Ромашников.
Не зажигая света, я сел на кровать. В темноте звонко стучал будильник.
Почитать разве? Нет, не хочется. От света, наверное, заболят глаза.
Я прилег на кровать, свернулся клубочком и сразу опять очутился на электростанции.
Худощавый высокий немец в черном мешковатом костюме водит меня по станции. На шее у немца стоячий целлулоидный воротничок, жесткие целлулоидные манжеты все время выбиваются из широких рукавов пиджака. Громыхая манжетами, немец отворяет какую-то дверь.
В темном бетонном коридоре с гудением и грохотом летит перед нами стремительный поток воды. Мне на секунду кажется, что это мы — я и тощий немец в целлулоидном воротничке — вдруг сорвались и с головокружительной скоростью куда-то помчались.
От этой скорости, от мелькания и гула у меня закружилась голова, и я лег ничком на холодный каменный пол, а немец почему-то схватил меня за ногу костлявой тощей рукой и принялся дергать и кричать:
— Сергей! Сергей! Ты что, помер, что ли?
Я открыл глаза. В комнате было все так же темно, кто-то тряс меня за ногу.
— Да что ты, в самом деле? — проговорил голос Шорохова. — Вставай, обедать пора.
— Да, да, идите, пожалуйста, я сейчас, — сказал я. — Идите, идите.
Шорохов вышел, а я остался лежать на кровати. В комнате тихо, темно, я пригрелся, и мне хорошо, как в детстве, когда я заболевал.
Бывало мама будит к вечернему чаю. Голос у нее тревожный. Она шарит в темноте по подушке, ищет мой лоб, кладет на него шершавую руку. «Да у него никак жар?» — беспокойно говорит она. А мне так хорошо, покойно, не хочется ни двигаться ни говорить. Откуда-то издалека доносится шум голосов. Пошатываясь, я выхожу в столовую, жмурюсь от желтого света керосиновой лампы, неуклюже сажусь на стул и с величайшей задумчивостью гляжу в свою чашку.
— Ну, конечно, заболел, — говорит мама. — Ах, боже ты мой! Лешка, беги сейчас же за Андрей Андреичем…
Андрей Андреич — это фельдшер. Весь город зовет его — Помощник Смерти.
— Да-а, — плаксивым голосом говорит мой брат Лешка, — да-а, беги. Всё беги да беги. Я боюсь.
Мама гонит Лешку к Помощнику Смерти, а Лешка не идет. Он боится и самого Помощника, и его старого сеттера Фингала, и соседских мальчишек, с которыми у нас война.
А я слушаю их спор, и мне совершенно безразлично, пойдет Лешка за Андрей Андреичем или не пойдет, и совсем не страшно, что Помощник Смерти будет пихать мне в горло чайную ложечку, а потом прикажет снять рубашку, обнимет холодными костлявыми руками и станет прижиматься волосатым, в черных точечках ухом к груди и спине. «Пускай», равнодушно думаю я.
Вот так же и сейчас. Я лежу и думаю, что обед уже начался, что Наумыч, наверное, спросил, почему меня нет, а Шорохов сказал, что я сплю. Наумыч, наверное, рассердился. А мне все равно. Пускай…
И я опять засыпаю и сплю долго, и вижу опять тот же сон: электростанция, немец в черном костюме, длинный бетонный коридор…
На этот раз меня разбудил яркий свет. Над столом, светя прямо мне в лицо, горела электрическая лампочка. Наумыч сидел на стуле возле моей кровати. Он держал мою левую руку и молча сосредоточенно слушал пульс.
— Так, — сказал он, осторожно положив мою руку на одеяло. — Нашего полку убыло… Ноги ломит? — спросил он.
Я пошевелил ногой. Тягучая боль прошла по всему телу.
— Ломит, — сказал я. — Точно жилы тянут.
— Так, так, — еще раз проговорил Наумыч и побарабанил пальцами по столу. — Придется, браток, полежать. И тебя как будто забирает. Ну, посмотрим, посмотрим, что утро скажет. Будешь обедать?
— Нет, не буду.
Наумыч ушел, повесив на лампу кусок бумаги, чтобы свет не падал мне в глаза, а я снова стал дремать.
Прошло, наверное, много времени. Может быть, была уже глухая ночь, когда дверь в мою комнату приоткрылась, и в щель просунулась голова Ромашникова в шапке, густо засыпанной снегом.
— Сейчас и вам принесу, — сказал он. — Сначала Гуткину. У него жар больше.
Голова исчезла, и я опять остался один. Через некоторое время Ромашников вернулся. В одной руке он нес какую-то кастрюльку, в другой тарелку, а из кармана его кожаного пальто торчала головка термоса. И кастрюля и тарелка были запорошены снегом.
— Заметает, — сказал Ромашников, расставляя на стуле у моей кровати кастрюльку, тарелку и термос. — Гришка вот все обещает на баню лампочку поставить. А то ходишь в темноте, ковыляешь по сугробам, того и гляди — шею свернешь. Сейчас нес Гуткину компот — все и пролил у самого крыльца. Такая досадища!
Он порылся в кармане пальто и выложил горсть сухарей.
— Эх ты, чорт! — с удивлением сказал он. — Что же это они в табаке-то? Наверное, в кармане табак у меня, что ли? — Он опять полез в карман. — Так и есть, табак. Вот досадища!
Ромашников налил из термоса в эмалированную кружку горячее какао, вывалил из кастрюли на тарелку мясо, сдул с сухарей табак.
— Ну, ешьте, — сказал он, пристраиваясь у меня в ногах. — Как же это вас угораздило? Вот нас теперь и осталось только восемь человек. — Он помолчал. — Сегодня Стремоухову телеграмма пришла. Обрадовался страшно. Даже ни разу про смерть не вспомнил.
— Вы и мне, наверное, также будете телеграммы стряпать, — сказал я. — Пожалуйста, уж не надо. Я всю эту механику знаю…
Ромашников ничего не ответил.
— Ну, теперь раздеваться, — строго сказал он, когда я попил и поел. Он поднял меня и неловко, крутя и дергая за ногу, принялся стаскивать с меня сапоги.
— Да бросьте вы, я уж лучше сам, — сказал я, неуклюже отбиваясь. Но ноги так болели и ныли, что пришлось покориться. Уложив меня в постель, Ромашников вытащил из кармана градусник в красном круглом футлярчике, важно встряхнул и подал мне. — А ну, поставьте-ка. —
Пока я лежал с градусником под мышкой, Ромашников занялся уборкой комнаты. Птичьим крылом он усердно принялся подметать пол, поднимая такую пыль, что я стал чихать и кашлять.
— Может, лучше побрызгать пол? — робко сказал я.
— А ведь верно, надо бы побрызгать, — обрадовался Ромашников. И, смочив крыло под умывальником, начал кропить направо и налево.
Потом он взялся за уборку моего стола. Он начал с того, что уронил будильник и рассыпал по полу карточки, на которых я выписывал немецкие слова.
— Бросьте вы, Виктор Борисович, — сказал я. — Охота вам возиться.
— Да вы не бойтесь, — шутливо ответил он. — Я только немножечко приберу. Вот у Гуткина вчера действительно была уборка: графин расколотил и пролил на какие-то чертежи бутылку красных чернил. Ну, да ничего. Во всяком деле практика нужна.
Он вытащил у меня из подмышки термометр, деловито посмотрел, хмыкнул и аккуратно опустил в футлярчик.
— Сколько? — спросил я.
— Ерунда, — важно ответил он. — Ну, спите спокойно. Пойду. Надо еще Лене Соболеву пузырь со льдом поставить, а потом мясо рубить.
— Ромаша, — сказал я, — пожалуйста, осторожнее рубите мясо. Топор острый, неровен час, ногу себе отрубите.
— Ну, что вы, — серьезно сказал Ромашников, — разве можно сразу себе отрубить ногу? Там же кость очень толстая. — Он еще раз осмотрел мою комнату и вышел, что-то насвистывая.
____________
Что это? Утро? Вечер? День? Ночь?
В комнате темно, холодно. Бушует за стенами ветер, ревет и сотрясает весь дом. Сколько я проспал — три часа или трое суток?
Я лежу в темноте, и оттого, что я не могу даже пошевелиться и не знаю, какое сегодня число, который теперь час, от этого дикого неистового ветра, от этого гула и грома мне становится страшно.
Держится ли еще кто-нибудь из зимовщиков? Или, может, уже давно все до одного свалились и сейчас в темноте так же, как и я, лежат по комнатам, прикованные к кроватям?
И снова меня одолевает тупая дремота. Снова начинаются какие-то сны.
То мне кажется, что я ловлю неводом рыбу и начинаю тонуть, запутавшись ногами в водорослях. То представляется, что я лечу на дирижабле к северному полюсу и у штурвала дирижабля стоит высокий, худощавый, белокурый Нансен, смотрит на жирокомпас, хмурит косматые седеющие брови…
Потом я опять оказываюсь в своей комнатке на зимовке, шью какой-то флаг…
Вдруг дверь в мою комнату тихо, со скрипом отворяется. Высокая, худощавая женщина в белом платье, закрывая рукой тусклый, мигающий огонек свечи, тихо входит в комнату. Она держит свечу так близко к груди и так тщательно прикрывает ее сложенной в горсточку ладонью, что я никак не могу разобрать лица женщины.
«Кто бы это мог быть?» — спокойно думаю я, нисколько не удивляясь, что у нас на острове появилась женщина.
Неслышными шагами она подходит к столу и вставляет свечку в горлышко пузырька с клеем. Комната освещается мерцающим желтоватым светом.
Женщина отходит в угол комнаты, берет из-под умывальника тазик и осторожно выносит его в коридор, тщательно притворив за собою дверь. Мне становится так хорошо и покойно, что я начинаю дремать без снов. Иногда я приоткрываю глаза и смутно вижу белую женщину, тихо двигающуюся по маленькой моей комнате.
Вот она приоткрыла мой шкафик, порылась в нем, вынула чистое полотенце, потом переставила кувшин с водой, и я сразу почувствовал, что давно хочу пить.
— Сестрица, — тихо сказал я, — водички.
Женщина подошла к кровати, и я сразу вдруг увидел, что это не женщина вовсе, а Ромашников.
Борода его забита снегом и смерзлась. Снег тает и большими каплями стекает на белый длинный халат, подпоясанный широким бинтом.
— Завтрак сегодня опоздал, — тихо сказал Ромашников, подавая мне кружку с водой. — Должен был Шорохов снегу натаскать, а он утром заболел.
— А почему электричества нет? Редкозубов тоже заболел?
— Нет, Редкозубов еще держится. А погода-то — слышите, какая? Все столбы повалило. Вот свету-то и нет. И починить некому. Нас ведь теперь только трое работников-то — я, Лызлов и Гриша. Ну, давайте мерить температуру.
— А что сейчас — утро?..
— Утро, утро. Конечно, утро. Двенадцатый час.
— А число какое?
— Число тринадцатое. — Ромашников взял у меня кружку, и я увидел, что левая его рука завязана.
— Что это у вас с рукой?
— Да вот, — сказал Ромашников, добродушно ухмыльнувшись, — вчера с мясом с этим. Немножко топором задел. Сроду не рубил мясо. Чорт его знает, как промахнулся. Метился, метился, а все-таки мимо ударил. Так прямо по пальцу и тяпнул. — Он порылся под халатом в карманах; штанов, пробормотал — Вот досадища! Градусник забыл. Сейчас у Желтобрюха возьму, — и вышел из комнаты.
Потянулись томительные дни болезни.
Теперь все обитатели нашего дома, кроме Ромашникова, были больны и лежали по своим комнатам. А Ромашников вечно был занят. Он один, без смены, проводил все метеорологические наблюдения, а в промежутках топил в наших комнатах печи, таскал снег, разносил нам лекарства, завтраки, обеды, ужины, ставил компрессы и градусники.
Иногда он появлялся очень торжественный и важный. Он садился к столу, не спеша доставал из кармана целую пачку по-разному сложенных, свернутых, скатанных бумажек. Одни были перевязаны ниточками, другие ловко заделаны как конвертики, третьи припечатаны воском, сургучом или стеарином.
Это была наша почта.
— Кажется, и вам кое-что есть, — строго говорил Ромашников, просматривая бумажечки. — Шорохову… Желтобрюху. Линеву… Еще? Келтобрюху, — бормотал Ромашников, — а вот это вам. Целых два письма.
Ромашников уходил, а я не спеша, чтобы продлить удовольствие, вскрывал записочки.
«Еще не загнулся? — размашисто писал Вася Гуткин из соседней комнаты. — Ромаша говорит, что у тебя в легкой форме. А я, брат, совсем окачурился. Напиши ответ».
«Беда с ногами, — корябал Боря Линев на листочке, запачканном каким-то салом и закапанном воском. — Как у тебя ноги? У Степана еще и воспаление легких. Плохой он совсем. Если первый встанешь — заходи. Скучища зеленая. Кланяйся Желтобрюху».
Перед обедом Ромашников, кряхтя и чертыхаясь, начинает таскать в железном ведре уголь к печам. Вот он с грохотом высыпал уголь у печки Желтобрюха и, хлопнув дверью, вышел в сени за новым ведром. Вот принес Шорохову, вот ссыпал к своей печке, принес мне, притащил Васе Гуткину.
Потом вдруг начинается страшная беготня. Ромашников пробегает по коридору к выходу, опрокидывая ведра и задевая за угольные ящики, рысью возвращается, снова бежит и так хлопает дверью, что звенит в стакане чайная ложечка. Минут через пять он совсем уже карьером пролетает мимо моей двери, ненадолго затихает в метеорологической лаборатории и снова мчится из дома.
Это он проводит наблюдения. После этого Ромашникова долго нет: понес телеграмму. Возвращается он не торопясь и иногда даже что-то насвистывает, — наверное, доволен, что во-время сделал все, что нужно.
Потом в коридоре стучит топор: Ромашников щепает для растопки лучину. Иногда он громко взвизгивает и бежит со всех ног в свою комнату, гремит какими-то пузырьками, громко дует, вздыхает, охает.
Это значит, что он опять тяпнул себя топором по пальцу и прижигает ранку иодом.
Вот и сегодня целый час он возится с печками, раздувает, гремит кочережкой, что-то бормочет.
Вдруг хлопает входная дверь, и громкий голос Гриши Быстрова говорит:
— Ромаша! Пошли, пошли, бросай. Надо в Торгсин за мукой съездить. Вся мука вышла. Хлеб надо ставить.
Они уходят, дом сиротливо затихает, и я со страхом слышу, как все тише и тише разговаривает огонь в моей печке. Печка гаснет. А Ромашникова все нет.
Он возвращается через час.
— Ромаша, — слабо кричу я. — Ромаша! Печка потухла.
— Разве потухла? — дружелюбно откликается он из коридора, громыхая печной дверцей. — Вот досадища! Верно, потухла. Ну, вот мы ее сейчас керосинцем. — Он громко топает по коридору, нарочно разговаривает сам с собой, зная, что мы жадно слушаем его из-за тонких дверей. — Два раза пришлось в Торгсин ходить, сразу-то всего не унесешь, — говорит он, чиркая спичку. — А потом порошки с Наумычем развешивали. Вот и задержался. Сейчас обед будет, принесу вам покушать. Сегодня Арсентьич клюквенный кисель соорудил на сладкое.
____________
Все перепуталось в моей голове — дни, числа. Вдруг, очнувшись, посмотришь на будильник: без десяти семь. А чего семь? Утра, вечера? За окном одинаково темно, одинаково тихо в доме.
Так я лежал однажды, то засыпая, то просыпаясь, как вдруг дверь с шумом растворилась, и в комнату широко шагнул Наумыч. Он весело потер руки, подмигнул мне и уселся на стул. Давно уже, с самого начала болезни, я не видал Наумыча таким веселым.
«Что это с ним? — подумал я. — Что это он радуется?»
А Наумыч хорошенько уселся на стуле, прищурившись посмотрел на меня, как-то крякнул и, громко хлопнув себя по коленке широкой ладонью, сказал:
— Ну что, поправляться будем? А?
— Хотелось бы, — усмехнулся я.
— Поправимся, — уверенно сказал Иаумыч, — теперь дело в шляпе. Я его, брат ты мой, все-таки изловил. — И он опять хлопнул себя по коленке. — Изловил голубчика, как миленького. Вот он где у меня теперь. — И Наумыч показал огромный волосатый кулачище. — Сидит, не пикнет. — Он откинулся на спинку стула и засмеялся. — Спимал-таки.
— Кого же это вы спимали? — спросил я.
— А вот его, — ткнул Наумыч меня в ногу. — Забыл уже, как он по латыни-то называется — гриппус специозус какой-нибудь.
«Успокаивает», — подумал я, и мне сразу показался неестественным и фальшивым его бодрый голос. Я и сам ведь так же бойко Стремоухову про паратиф рассказывал.
А вслух я сказал:
— Грипп? Чудно что-то..
Наумыч замотал головой.
— Определенно грипп.
— Что же это вас вдруг осенило? Сразу как-то вот..
— Ничего не осенило, — в «Общем курсе» прочел.
Мне стало очень обидно: «Что это он меня как ребенка успокаивает? Докторские правила, что ли, выполняет?» Я отвернулся к стене и сказал:
— Бросьте вы эти штучки. Что — я не понимаю, что ли? Все отлично понимаю. И вовсе мне не нужно этого вашего веселья. Я ведь не плачу, кажется, ну и нечего меня подбадривать. Грипп. Придумали бы что-нибудь поинтересней.
— Да ты никак с ума спятил? — обиженно проговорил Наумыч. — Да ты, братец, одурел, видно, ты что же это — не веришь?
— Не верю, — зло сказал я. — Не верю.
— То есть как же это не веришь?
— А так вот и не верю.
— Так я тебе, чурбану, книжку принесу показать. — Он помолчал. — Неохота была в тот дом итти, ну да ладно, уж схожу. Я тебе нос утру. Увидишь.
Через пять минут он вернулся, снова уселся на стул и принялся листать толстую затрепанную книгу.
— Ветряная оспа. Брюшной тиф. Возвратный. — бормотал он. — Сыпняк. Так, так. Менингит… Стрептококковая ангина. Ага, вот он: грипп. — Он разгладил рукой страницу, откашлялся, — видно, собрался было читать, но потом раздумал и сунул книгу мне прямо под нос:
— Читай сам, а то опять скажешь, что выдумал.
Я повернулся к Наумычу и нехотя взял книгу. Жирной синей чертой на раскрытой странице были отчеркнуты несколько строчек, напечатанных мелким шрифтом.
— Мелкое читай, — сказал Наумыч.
Я прочел:
«В некоторых, исключительных случаях заболевание гриппом может сопровождаться и другими, кроме перечисленных выше, симптомами. Больные иногда покрываются легкой красной сыпью (грудь и плечи), наблюдаются явления местных отеков, частично теряется способность двигать ногами, что сопровождается в таких случаях резкой, близкой к ревматической, болью в суставах ног. Однако эта форма гриппозного заболевания чрезвычайно редка».
— Ну, — торжествующе сказал Наумыч, — видал миндал? Сыпь, опухоли, ноги! Все честь-честью. Прямо, точно специально про нас писано.
— Как же это так? — растерянно сказал я, передавая Наумычу книгу. — Как же вы раньше-то этого не прочли?
— Да я и сам не пойму, как это я раньше не прочел. Все из-за Кондрашки проклятого.
— Какого Кондрашки? — удивился я.
— А такого, был у нас на деревне отставной солдат Кондратий — хромой, на деревянной ноге. Его вся деревня Кондрашкой звала. Он меня грамоте учил. Вот он, прохвост, и учил: ты, говорит, Платон, только по крупному читай, а по мелкому читать не надо. По мелкому это так, сор один, пыль. Не важно, мол, по мелкому! И скажи на милость, так ведь это в башку запало, что до сих пор как до мелкого шрифта дойду, так меня и тянет пропустить. Вот, видно, и здесь проглядел.
Наумыч громко захлопнул свою книгу и крякнул.
— Вот какие дела-то. Сынишка у тебя подрастет — учи его, чтобы все в книжках читал — и крупное и мелкое. А то тоже вот такой рикошет может получиться.
Он встал и весело подмигнул мне.
— А ты не верил! Эх ты, Фома неверный..
— Ну, не верил, — сказал я. — Я же не знал, что вас Кондрашка грамоте учил..
Вечером Ромашников принес мне от Васи Гуткина записку. Записка была запечатана сургучом, придавленным вместо печати пальцем. Я сломал сургуч, развернул записку.
«Верно ли, что у нас грипп? — писал Вася. — Ромашников говорит, что грипп и что ты будто сам читал. Если верно, напиши открыто; если неверно, напиши секретно. Запечатай, как я. Жду ответа».
Я написал:
«Верно, Вася, грипп. Сам читал в книжке».
И послал открыто.
Выздоровление
Есть такая медицинская наука, которая называется суггестивная терапия.
Это наука о лечении болезней внушением. Доктор с самым серьезным видом хлопочет около больного, прописывает ему всякие процедуры, заставляет пить капли, микстуру, порошки. Капли перед обедом, микстуру после чаю, порошок на сон грядущий.
Пьет больной микстуру и глотает порошки. И поправляется прямо у всех на глазах. А капли-то, оказывается, — простая вода, и микстура — тоже чистая вода, а порошки — пшеничная мука с солью или картофельная мука с сахаром.
А больной все-таки поправляется. Выздоровел он, конечно, не от воды или мела, — выздоровел он от внушения: поверил, что все эти порошки и микстуры должны ему помочь, и выздоровел.
Конечно, не каждую болезнь можно лечить суггестивной терапией. Туберкулез или сыпной тиф внушением не вылечишь. Но многие болезни вылечить можно. Самое главное, чтобы больной поверил, что ему становится лучше, что он должен непременно выздороветь, что лечат его правильно и что болезнь у него не такая уже страшная.
Не знаю, чем лечил нас Наумыч, но только едва по зимовке разнеслась весть, что у нас всего-навсего грипп, дело сразу пошло на поправку.
Страшно болеть, не зная, что у тебя за болезнь. Всякие мысли лезут тогда в голову. А раз грипп, так, значит, все в порядке. От гриппа-то уж мы не помрем.
И мы начали понемножку выздоравливать.
У нас на Камчатке первым встал Желтобрюх. И сразу наш маленький домик словно ожил. Все наперебой приглашали Желтобрюха к себе в гости. Он ходил из комнаты в комнату — с одним поговорит, с другим поиграет в шахматы, с третьим просто посидит, покурит.
Наконец ожил и я.
26 ноября Наумыч разрешил мне первый раз выйти из дома и притти обедать в кают-компанию.
Мне так опостылела моя комната, кровать, сосновая полочка, вечно торчащая перед глазами, что я прямо не мог дождаться двух часов дня, когда можно было итти в старый дом.
За полчаса до обеда я начал одеваться. Надел свитер, меховую куртку, ватные штаны, валенки, напялил малицу, варежки, шапку и, отдуваясь, толстый и неповоротливый, как большой мешок, вышел на улицу.
Боже мой, как хорошо! Воздух какой-то крепкий, звонкий, морозный. Тихо, просторно. Снег.
По небу быстро летят белые, прозрачные, как кисея, облака. Высокая и яркая луна ныряет в облаках и снова выскакивает на чистое небо, ныряет и выскакивает.
Даже голова начинает кружиться от этой безмолвной гонки.
Я иду к старому дому. Меня обгоняют, беззвучно скользя по снегу, серые, как дым, тени облаков. В воздухе стоит тонкая ледяная пыль. Она сверкает и переливается в лунном свете.
Ах, как хорошо быть здоровым!
В кают-компании по-старому накрыто два стола: за одним столом теперь всем уже не усесться.
Наумыч ходит по коридору большого дома и стучит костяшками пальцев в каждую дверь.
— Ну, инвалидная команда, — громко и весело кричит он, — выходи на обед! Подымайся!
Справа и слева растворяются двери, и из комнат выползают в коридор выздоравливающие.
Все заросли бородами, отощали, кто скачет на костылях, кто своим ходом плетется, кто под ручку с товарищем, но все смеются, горланят. Каждого входящего в кают-компанию встречают громкими, радостными криками. А когда показывается Ромашников, поднимается прямо рев:
— Ромаша! Сестра милосердная! Ура! Благодетель ты наш! Ура. Ромаша! Ура!
Ромашников смущенно поглаживает бороду, покашливает, говорит докторским голосом:
— Ладно, ладно. Не орите. Вам еще вредно орать.
Каждый усаживается на свое старое место за столом.
— Фу ты, чорт, хорошо-то как, — говорит Вася Гуткин, осматриваясь по сторонам и пододвигая к себе тарелку. — Прямо как у тещи на блинах. А-а-а! Борис Иваныч, наше вам с кисточкой, — кричит он Желтобрюху, который торжественно выносит из кухни дымящуюся миску щей. — Куда понес, давай сюда!
— К нам! К нам! — кричат с другого стола. — Борька, нам первым, мы раньше их выздоровели!
Желтобрюх расставляет по столам миски со щами. Гремят ложки, ножи, веселый говор и смех снова наполняют кают-компанию
Обедаем мы долго. Никто не торопит Желтобрюха поскорее менять тарелки, не ворчит, что хлеб немного сыроват, что опять нет горчицы.
Каждый старается чем-нибудь услужить соседу, все стали как-то особенно предупредительны, заботливы и вежливы.
— Вася, будь добр, передай, пожалуйста, соль, — говорит Гриша Быстров.
— Пожалуйста, пожалуйста, — отвечает Вася Гуткин, протягивая солонку. — Ради бога.
— Желтик, нельзя ли еще кусочек мяса? — ласково просит Леня Соболев.
И Желтобрюх сразу срывается с места, бежит на кухню и приносит полное блюдо тушеного мяса.
— Кушай, кушай, поправляйся, — говорит он, накладывая Лене в тарелку большие жирные куски свинины.
Стучинский подробно рассказывает, как он в бреду сочинял скрипичный концерт, и все очень жалеют, что он никак не может сейчас вспомнить из этого концерта ни одной ноты.
Каплин жалуется, что собаки часто открывали дверь в его комнату и напускали холода. И хотя все мы знаем, что ничего подобного не было, никто не спорит, чтобы не обидеть Каплина. Все сочувствуют ему и ругают собак.
А после обеда, когда уже убраны со столов блюдечки от компота, курильщики неторопливо, покрякивая и наперебой угощая друг друга «своими», вынимают папиросы, сигареты, трубки, и в кают-компании становится синё от дыма.
— Сегодня уже передачу из Ленинграда поймал, — лениво говорит Вася Гуткин, развалясь на стуле и пуская кольцами дым, — прелестную вещицу какую-то передавали. Не то Бетховен, не то Чайковский. — Он качает головой и ухмыляется. — Чудно так — разговаривают где-то за тысячи верст, стульями гремят. На улице у них там, поди, светло, трамваи звенят, народ прохлаждается, в магазинах разную разность продают, кошки в витринах сидят.
— Да-а, — задумчиво говорит Желтобрюх, — хорошо бы к нам сюда кошку. Тигровую, в полосочку. У нас в Таганроге была одна кошка. Трехцветная: черная, желтая и белая сразу. И глаза разные. Один глаз голубой, а другой карий. Вот бы ее сюда.
— Такая и в Ленинграде есть, — угрюмо говорит Каплин. — Я видел, на Невском, в цветочном магазине, около Штаба. Сидит в окне и цветы нюхает.
— Ну, вот и врешь, — все так же лениво говорит Вася Гуткин, — вот и врешь. Около Штаба и цветочных магазинов-то вовсе нет. Цветочный дальше, к Пассажу.
— Ничего не к Пассажу. Тут же, у Штаба, на правой руке. Тут парикмахерская, а потом сразу цветочный.
— Нету цветочного. После парикмахерской аптека, — говорит Вася.
— А после аптеки — картами географическими торгуют, — обрадовался Ромашников.
— А потом — комиссионный!
— Нет! Нет! — закричали сразу несколько человек. — Комиссионный дальше. Сначала обувной, потом, через улицу, на том углу, продуктовый, а уж потом комиссионный!
Все вдруг страшно заволновались, закричали, перебивая друг друга и горячась.
— Да что — я по Невскому, что ли, ни разу не ходил?!
— Да и я-то, слава богу, двадцать лет в Ленинграде живу!
— Как сейчас помню!
Гриша Быстров вскочил со стула, громко застучал ладонью гш столу.
— Ребята! Ребята! Стойте! Тише! Предлагаю совершить заочную прогулку по Ленинграду! По Невскому! От Штаба итти по правой стороне и называть каждый дом. А? Ну, кто пойдет? Вася, шагай? А?
— Иди. Васька!
— Шагай, чего там! Крой!
Вася Гуткин смущенно шмыгнул носом, тряхнул головой.
— Чорт его знает. Как бы не сбиться. Давненько я не ходил по улицам-то. А в уме и подавно ходить нелегко. Ну, ладно, уж попробую. От Штаба, говоришь? По правой руке? Хорошо.
Он сразу нахмурился, вытянул губы трубочкой. Все сгрудились около стола, притихли, не спуская с Васи Гуткина глаз.
— Значит, так, — медленно сказал Вася. — На углу, значит, такой красивый дом с финтифлюшками. В нем какой-то, кажется, банк. — Вася передохнул и вдруг испуганно закричал, будто перебивая самого себя:
— Нет, нет, виноват, не банк! Строительная контора!
— Верно, строительная!
— Потом редакция московской «Правды», — продолжал Вася так осторожно, точно это слепой шел по улице, нащупывая палочкой дорогу. — Потом парикмахерская. В окне еще такая мастиковая мамзель, в золотых туфлях. Сидит, заложив ногу на ногу, и нюхает розу. Тут я раз брился. Ничего, прилично бреют.
— Там старичок такой есть! — вдруг взволнованно закричал Гриша Быстров. — Я тоже у него брился! Верно! Верно!
— Дальше давай! Не задерживай!
— Дальше, — продолжал Вася, запрокинув голову и глядя в потолок, — дальше аптека. За аптекой географические карты, глобусы разные и картины — первобытные люди, охота на львов, анатомический разрез человека.
— Верно, верно. И карты полушарий. Моря такие синие-синие, — мечтательно сказал Ромашников. — И господствующие ветры нанесены.
— А напротив, — начал было Каплин, но все закричали на него и замахали руками:
— Напротив потом! На обратном пути! Давай, Вася, шагай дальше!
— За картами… — Вася запнулся и испуганно осмотрел всех нас, — за картами просто так дом, коммунальные квартиры, а потом обувной магазин — индивидуальная пошивка.
— Я баретки тут шил по ордеру, — опять вмешался Каплин, — за 96 рублей, которые на ранту. Я их дома оставил, а то извихляешь здесь-то.
— Да замолчи ты, наконец, — опять набросились все на Каплина.
А Вася Гуткин передохнул и продолжал:
— Потом улица Гоголя. На углу, как перейдешь, — продуктовый магазин, а во втором этаже столовая. После продуктового, кажется, комиссионный.
— Нет, нет! Неверно!
— Часовой потом идет!
— Канцелярский!
— Правильно, комиссионный. Еще китайский халат в окне висит, а внизу всякие там чашки, фарфоровые собаки, тросточки!
— Нет, это потом, сначала часовой!
Почти каждый дом был чем-нибудь замечателен, почти о каждом доме можно было что-нибудь рассказать. В памяти вдруг возникал вентилятор, продувший ровный круг на замерзшем стекле колбасного магазина, эмалированная табличка у парадного крыльца «Зубной врач Попик», Ворошилов на коне, скачущий среди леса рейсшин, линеек, кисточек и карандашей, вывеска с отвалившейся буквой: «Кафе-Буфе».
И даже какие-то сущие пустяки, мелочи, уличные происшествия, о которых, казалось, никогда в жизни больше не вспомнишь, вдруг пришли на память, стали значительными и важными, и каждому из нас вдруг захотелось подробно о них рассказать.
Вот, например, однажды на углу Садовой трамвай сшиб извозчичью пролетку. А в пролетке везли яблоки. Они рассыпались по мостовой, как дробь, и лошадь, валяясь на боку, быстро-быстро забирала яблоки губами и громко хрупала их.
А в аптеке напротив Гостиного двора был телефон-автомат. Что-то в нем испортилось, и отсюда можно было звонить, опуская в коробку хоть костяную пуговицу.
А у дома, рядом с кино «Титан», как-то валялся на панели пьяный. Милиционер никак не мог его растолкать. Тогда он наклонился к пьяному и стал громко выкрикивать прямо ему в ухо: «Конец света! Конец света! Конец света!» И пьяный сразу поднял с панели красную грязную морду, с ужасом посмотрел по сторонам и начал быстро креститься. А милиционер тем временем подхватил его подмышки и поволок в отделение.
Чего только мы ни вспомнили во время этой прогулки. А потом мы начали путешествовать по другим городам. Каждый рассказывал о своем городе, вспоминал разные знаменательные события — пожары, первый автобус, новые, залитые асфальтом улицы.
И так захотелось нам всем домой, что кто-то сказал:
— Эх, хорошо бы перекличку поскорее.
И все подхватили:
— Перекличку устроить! А то, наверно, про нас забыли совсем! Наумыча надо просить!
К Наумычу отправилась целая делегация.
— Да я-то тут при чем? — сказал он, разводя руками. — Это профсоюзная организация наша пускай просит. К Шорохову обращайтесь. Он ведь у нас председателем-то.
В кают-компании Шорохов сейчас же устроил заседание профкома зимовки. Единогласно, без всяких прений, профком утвердил текст такой радиограммы:
Маточкин Шар Девяткину Мыс Желания Ананьеву
Профком научно-исследовательской базы на Земле Франца-Иосифа постановил просить Радиоцентр организовать второй половине декабря радиоперекличку точка Просим вас присоединиться будем радировать от имени трех крупнейших полярных станций точка Согласие радируйте точка.
Свидание в эфире
Этот день начался на зимовке необычно. Дежурный метеоролог Ромашников перед завтраком торжественно вывесил в кают-компании специальный бюллетень погоды:
29 декабря 07 часов
Температура воздуха………………… -21,3°
Относительная влажность…………100 %
Направление ветра………………………ESE
Сила ветра………………………………………2 метра в секунду
Давление воздуха…………………………759,7 миллиметра.
Барометрическая тенденция………+0,2
В течение суток ожидается устойчивая тихая погода, обещающая хорошую слышимость радиопередачи.
А рядом висел большой плакат, на котором красными буквами было выведено:
СЕГОДНЯ В 1 Ч. 30 М. НОЧИ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛИЧКА С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ.
— Ну, смотрите, Ромаша, — сказал Наумыч, внимательно прочитав бюллетень. — Смотрите. Если погода будет паршивая и мы ничего не услышим, получите вы у меня десять нарядов на кухню — картошку чистить. Так и знайте.
Ромашников тряхнул головой.
— За погоду будьте спокойны. За погоду я отвечаю. А уж насчет слышимости — это не по моей части. Это уж пусть Вася Гуткин.
— Ну, обо мне ты не беспокойся, — проговорил Вася. — У меня, брат ты мой, дело верное, не то, что твои облака. Колдуешь, колдуешь, а все вранье. У меня, милок, чистая наука, а у тебя один чистый обман. Вот вы только, Наумыч, разрешите мне сегодня Гришу Быстрова себе в помощники взять. Мне одному не управиться; надо аккумуляторы зарядить, репродуктор поставить. Слушать-то где будем? В красном уголке, что ли?
— Я думаю, в красном, — сказал Наумыч. — Что ж, там хорошо — и диван есть, и стол, и лампа. Все честь по чести. Печку вот только надо будет вытопить, а то с неделю там, верно, не топили, — холодище, поди, хоть волков морозь. — Наумыч осмотрел зимовщиков. — Красным уголком пусть займется Каплин. Значит, так: печку вытопить, прибрать, подмести, чтобы чисто было, как в аптеке, и стульев заранее притащить. Одним словом — по-хорошему чтобы было. Слышишь, Лаврентий?
— Будет сделано, — сказал Каплин.
Наумыч заглянул в свою записную книжечку, отметил что-то карандашом.
— Да, вот еще что, — сказал он. — У нас в большом доме ведь больные есть, которым еще рано выходить. Надо устроить так, чтобы они могли слушать перекличку из своих комнат. Можно это сделать?
— Ну, это-то ерунда, — небрежно сказал Вася Гуткин.
— Сделаем, — отозвался Гриша Быстров. — Прямо в кроватях будут слушать. Кто у нас считается больным-то? Стремоухов. Еще кто?
— Линев, Савранский..
— Да какой же я больной? — испуганно сказал Савранский. — У меня уж третий день нормальная температура. Вовсе я не больной. Платон Наумыч, нет, уж вы мне разрешите в красном уголке слушать. — Голос Савранского задрожал. — Что же, все будут вместе, а я один… Нет уж.
Он низко склонился над своей кружкой, хохолок на его затылке встал дыбом и закачался, уши сделались морковного цвета. Того и гляди, заплачет наш геолог от обиды.
— Может, дойдет как-нибудь? — небрежно сказал Леня Соболев, а сам так умильно, так просительно посмотрел на Наумыча. — Каюрам-то весело будет вдвоем, а Ефим-то, верно, ведь один в комнате останется. Я бы ему палку свою дал. А, Наумыч?
Наумыч побарабанил пальцами по столу, нахмурившись пристально посмотрел на хохолок и красные уши Савранского, который совсем уткнулся носом в кружку, и медленно и строго сказал:
— Ну, хорошо. Пусть идет. Ромашникову поручаю проследить, чтобы был одет как следует, проводить до Камчатки и потом обратно..
Сейчас же после завтрака в нашем доме началась суета. Каплин со страшным кряхтеньем и громкими стонами подметал красный уголок и растапливал печку. Вася Гуткин и Гриша Быстров бегали по коридору, с грохотом перетаскивали с места на место какие-то лестницы, стучали молотками, сверлили стены. Каждую минуту они ссорились и кричали на весь дом — Гриша тонким пронзительным тенором, Вася низким дребезжащим баритоном.
Делать мне было нечего, не сиделось одному в комнате. Я вышел в коридор, прошел в красный уголок.
Каплин, присев на корточки около печки, грустно шевелил пылающий уголь длинной кочережкой. Завидев меня, он принялся натужно кряхтеть, точно это он не уголь мешает, а тащит по лестнице пианино.
— Чего ты, Веня, все кряхтишь? — спросил я. — Всегда ты кряхтишь и стонешь. С чего это ты?
— А так мне легче, — сказал Каплин. — Я, когда чего делаю, всегда кряхтю, мне и легче. Я всегда так… — Он помолчал, плюнул в огонь печки и, отведя глаза в сторону, сказал: — Чего я у вас спросить хочу..
— Чего, Веня?
— Да вы, все равно, не дадите, наверное, — грустно проговорил он и со свистом вздохнул.
— Ну, говори, чего?
Каплин ухмыльнулся, покачал головой, мечтательно посмотрел в потолок и медленно проговорил:
— Запоночков у вас лишних не найдется? Сюда и сюда. — Он ткнул пальцем в кадык и потом сзади в шею. — Хочу нынче вечером в полной форме быть. С гаврилкой. А запоночков этих и нет. На руки есть, а на глотку вот нет.
— А с чего же это ты наряжаться-то так собрался? — с удивлением спросил я.
— Как с чего? — Каплин даже разинул рот от недоумения. — А перекличка-то? Ведь перекличка же нынче. Вы разве не знаете? — Он вздохнул. — Рубашку после обеда гладить буду. Паровым утюгом. Не знаю вот только, можно его запалить каменным углем, или обязательно надо деревянным. Вы, часом, не знаете?
Но гладить после обеда ему не удалось. Утюгом еще с утра завладел сначала Шорохов, потом Наумыч, потом Савранский. Все наглаживали себе штаны, носовые платки, воротнички, галстуки, рубашки.
Все готовились к вечеру словно к балу.
Вася Гуткин брился не часто и постоянно ходил заросший огненно-рыжей густой щетиной.
— От маленького волоса только бритва засекается, — говорил он. — Надо, чтобы волос был длинный, тогда его бритва кладет как пырей.
Для бритья он всегда брал у меня круглое зеркало на высокой раздвижной ножке. Он почему-то называл это зеркало «трюмо».
И хотя Вася брал у меня зеркало только два дня назад, на этот раз он не побоялся «засечь» свою бритву.
— Дай-ка, пожалуйста, твое трюмо, — сказал он, забежав ко мне в комнату. — Надо поскоблить. — Он потрогал ладонью скрипящий подбородок, потом наклонился ко мне и зашептал: — Желтобрюх по комнатам ходит, бритву клянчит. Сговорились не давать. Если к тебе придет, ты тоже не давай. Рано ему бриться. Пускай сначала заслужит.
— Конечно, не дам, — сказал я. — Желтобрюха будем брить торжественно.
Вася взял зеркало и ушел.
«Надо бы и мне приодеться, — подумал я. — Что же я-то — хуже всех, что ли?»
Я открыл свой шкафик и внимательно пересмотрел все запасы своей одежды. Была у меня одна рубаха, которую я берег для особо торжественного случая. Ее можно было носить с галстуком. Рубаху эту я ни разу еще здесь не надевал, она так и лежала наглаженная с самого Ленинграда.
«Вот ее и надену», — подумал я.
Кажется, ни один день на зимовке не тянулся еще так бесконечно долго.
Я попробовал было читать. Нет, ничего не выходит: прочтешь десять строчек и задумаешься, сидишь над раскрытой книгой целый час. И уже забыл, на каком месте книжки ты остановился, снова читаешь те же самые строчки, и снова какое-то смутное волнение и беспокойство мешает читать, путает мысли. Пришлось бросить книжку.
Принялся было обрабатывать ленты термографа — длинные узкие бумажные ленты, на которых перышко самописца вычертило замысловатую кривую температуры.
В обычные дни мне очень нравилось это занятие: за обработкой время бежит незаметно и быстро, так уходишь в работу, что забываешь обо всем.
Но сегодня дело у меня никак не клеилось. Несколько раз я сбивался и путал вычисления, приходилось все начинать с начала, я сразу устал и со злостью бросил карандаш.
Нет, ничего не выходит!
На стене около стола в целлулоидном футлярчике висели мои карманные часы. Я сам сделал этот футлярчик, чтобы как-нибудь не разбить стекло. На острове Гукера часовых магазинов ведь нет, вставить стекло негде.
Я посмотрел на часы и ужаснулся: боже мой! Еще только двенадцать часов! Что же мне делать до обеда? Что же я буду делать после обеда до ужина и потом до часа ночи?
Чтобы как-нибудь убить время, я оделся и побрел по зимовке из комнаты в комнату, из дома в дом.
В каждой комнате томительное ожидание так же мучило людей, как оно мучило и меня.
Одни, укрывшись шубами, дремали на койках, чего обычно никогда не бывало в дневное время; другие просто валялись, задумчиво глядя в потолок; третьи бренчали на балалайках; четвертые так же, как и я, слонялись из комнаты в комнату, решительно не зная, куда себя девать.
Но каждый старательно делал вид, что он совсем даже и не думает о перекличке, не так уже ее и ждет и совершенно не беспокоится, придет кто-нибудь поговорить с ним, или никто не придет.
Как-то стыдно было показать перед товарищами, что ты ждешь этого часа с таким нетерпением и с такой надеждой. И каждый из нас старался как можно равнодушней и спокойней говорить о перекличке.
— Время-то позднее, половина второго ночи, — небрежно говорил Вася Гуткин, — наверное, жена в такое время и не придет.
— А моей и подавно из Петергофа ночью ехать уж совсем глупо. Я и не жду, что со мной кто-нибудь будет говорить, — со вздохом отозвался Каплин.
Мы сидели в комнате у Васи Гуткина — я, Каплин и Ромаш-ников. Ромашников жадно затянулся папироской, потом вздохнул и сказал:
— Да, пожалуй, и лучше, что не придут. Чего, действительно, людей по ночам мучить? Кончится-то, поди, под утро. Пешком через весь город тащиться им тоже не очень сладко. — Он помолчал, еще раз затянулся и боязливо спросил Васю Гуткина:
— А ты все устроил, как надо? Слышно-то будет?
Вася только фыркнул в ответ, — вот, мол, глупости какие человек спрашивает, — и, отвернувшись к стене, лениво снял с гвоздя полосатую, похожую на коричневый арбуз мандолину.
— Эх, сыграть, что ли? — сказал он и пристально посмотрел на нас, точно хотел угадать, что каждый из нас думает. Потом он тряхнул головой и рванул медиатором сразу по всем струнам.
Разлука ты разлука, Чужая сторона. Никто нас не разлучит. Ни солнце, ни луна…протяжно запел он, откинув голову и прищурившись глядя в низкий потолок, обитый потемневшей фанерой.
Никто нас не разлучит — Ни солнце, ни луна, А только нас разлучит Сырая мать-земля…От этой простой песни, заунывной и грустной, мне стало как-то совсем не по себе, я вышел из Васиной комнаты, медленно побрел по коридору, вышел на улицу и долго глядел на мутно белевшие в темноте сугробы.
Нет, еще ни один день на зимовке не тянулся так бесконечно!..
____________
Будильник разбудил меня в час ночи. Я нарочно сейчас же после ужина завалился спать, чтобы время до переклички прошло незаметно.
За дверью моей комнаты уже бубнили голоса, ежеминутно хлопала входная дверь. Вася Гуткин, тяжело топая, пробежал по коридору, покрикивая натужным голосом:
— А ну, дорогу! Разойдись! Не видишь — аккумуляторы! Кислотой ошпарю!
Я вышел в коридор.
Дверь в красный уголок была растворена настежь. Над столом ярко горела лампа под красным шелковым абажуром. Этот абажур взяли напрокат у Шорохова по случаю особо-торжественного события.
На ковровом диване важно, как в санях, сидели Лызлов, Каплин, Стучинский, Шорохов, Сморж. Они сидели не шевелясь, полузадушенные белыми воротничками, пестрыми галстуками, гладко выбритые и тщательно причесанные. Ну, прямо как женихи!
У стены на стремянке стоял Гриша Быстров. Сосредоточенно и важно, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, он возился с репродуктором, висевшим почему-то под самым потолком комнаты. Из кармана ватных штанов у Гриши торчали клещи, рукоятка молотка, и свисал почти до пола длинный конец белого электрического шнура. Гриша ловко перекусывал кусачками какие-то проволочки, присоединял их к репродуктору, снова перекусывал и опять соединял.
Ромашников в новом клетчатом джемпере стоял внизу и, задрав голову, не отрываясь следил за Гришиной работой.
Наконец Гриша соединил какие-то проволочки и, осторожно повернувшись на стремянке, вдруг закричал диким голосом:
— Вася! Присоедини линию!
Ромашников засуетился, бросился к двери.
— Сейчас, сейчас я скажу Васе! Линию чтобы соединил? Хорошо, я скажу, — и выскочил из комнаты.
— Что — пробовать будете? — подобострастно спросил с дивана Каплин.
— Пробовать, — сердито ответил Гриша и отвернулся.
В репродукторе вдруг что-то треснуло, зашуршало, и сиплый голос что-то невнятно забормотал. Гриша осторожно слез со стремянки, долго смотрел снизу на репродуктор, прислушиваясь к бормотанию, и, покачав головой, вышел из комнаты.
Через минуту он вернулся вместе с Васей Гуткиным.
Они остановились на пороге красного уголка и внимательно и злобно стали смотреть на шипящий репродуктор, вполголоса перекидываясь какими-то непонятными словами.
— Что же это он как плохо говорит-то? — робко спросил Ромашников. — А он лучше, Гриша, не будет говорить?
Но ни Гриша ни Вася даже не взглянули на Ромашникова. Они пошептались с видом заговорщиков, искоса поглядывая на репродуктор, и Гриша снова полез на стремянку, а Вася убежал в свою лабораторию.
— Ты что же за Савранским-то не идешь? — тихо сказал Леня Соболев, показывая Ромашникову часы. — Уже четверть второго.
Романтиков всплеснул руками и выбежал из красного уголка. А мы все столпились у стремянки и молча, с беспокойным любопытством стали наблюдать за Гришей, который опять начал перекусывать какие-то проволочки и что-то подкручивать, подвинчивать в репродукторе.
И вдруг шипенье и щелканье оборвалось, в репродукторе чисто и звонко зазвучал высокий женский голос:
Ветер песенку несет. А куда — не знает. Тот, кому она, — поймет. От кого — узнает.— Ну, вот теперь хорошо, — сказал Гриша Быстров. Он слез со стремянки и снова ушел к Васе Гуткину. Женский голос замолк, и только низкое, ровное гудение неслось теперь из репродуктора, точно работал хорошо выверенный мотор.
До начала переклички оставалось только десять минут.
Наверное, сейчас в далеком Ленинграде, на улице Пролеткульта, в просторной, обитой материей студии Радиоцентра собрались наши родные и друзья. Посреди студии на возвышении стоит маленькая черная коробочка. Неужели, действительно, эта чудесная коробочка добросит до нас через тысячи миль, через пустынные равнины и высокие горы, через замерзшие моря, родные, знакомые голоса?
А если ничего не выйдет? Если что-нибудь испортится, оборвется какая-нибудь проволочка, перегорит какая-нибудь лампочка, и слова не долетят до нас, потухнут, заглохнут и затеряются в морозной стуже, в ночной темноте?
Вдруг в коридоре послышались тяжелые шаги, говор, смех, и на пороге красного уголка, сразу загородив всю дверь, показался Наумыч в огромной косматой собачьей шубе, нагруженный какими-то свертками и кульками. Глаза его весело блестели. Он сбросил прямо на пол свою шубу, и все мы ахнули при виде чудесного превращения Наумыча: на нем был надет ловко сшитый и тщательно отутюженный серый костюм, шелковый галстук торчал из-под крахмального, белоснежного воротничка.
— Знай наших! — весело сказал Наумыч и грохнул на стол свои свертки и кульки.
Вслед за Наумычем в красный уголок вошли Ромашников, Савранский, закутанный в шарфы, и повар Арсентьич. Арсентьич протиснулся к столу и начал проворно развертывать На-умычевы свертки.
Здесь были бутерброды, котлеты, печенье, конфеты, мясо, мороженые яблоки, засахаренные фрукты.
— Ну, хлопцы! — гаркнул Наумыч. — Садись! Раз уж свиданье, так с угощеньем. Чтобы все по-хорошему было, как дома. — Он плюхнулся на стул, весело осмотрел нас, всплеснул руками. — Батюшки светы! Какие все красивые! Чистенькие, нарядные, прямо как на посиделках.
— А сам-то! Сам-то нарядился! — закричали мы. — Небось, в халате не пришел! Костюм-то какой! Прямо Литвинов!
— Две недели на штанах спал, — с гордостью сказал Наумыч, — лучше всякого утюга отгладил.
Наумыч посмотрел по сторонам.
— А где Быстров? Гриша! — заорал он так, что закачалась лампа. — Быстров!
Прибежал Гриша.
— Ну, — сказал Наумыч, — докладывай, что и как? Что это там такое гудит? — Он пальцем показал на репродуктор.
— А это уже студия включена. Сейчас, наверное, начнется передача.
Гриша вытащил из кармана две пары наушников с длинными шнурами, воткнул вилки наушников в штепселя у дверной притолки и положил наушники на стол.
— Можно будет и из репродуктора слушать и через наушники, — сказал он.
— Гарно! Ну, давай там поскорее. Чего людей моришь?
— Не от меня зависит, — официальным тоном ответил Гриша, — это Ленинград чего-то задерживает. Уж на три минуты запоздал. Сейчас, наверное, начнут.
Все чинно расселись на стульях вокруг стола, а кому не хватило стульев — прямо на полу, на Наумычевой шубе. В комнате стало тихо, только слышно было невозмутимое, ровное гудение репродуктора да громкий хруст яблока на крепких зубах Наумыча.
— А кого первыми-то будут вызывать — неизвестно? — вполголоса спросил Каплин, боязливо посматривая на репродуктор.
— Наверное, нас. Мы — обсерватория, — отозвался Романтиков. — Кого же еще?
— Конечно, нас, — уверенно сказал Стучинский. — Ведь это мы просили, чтобы перекличку устроили, — нас первых и вызовут. Это уж всегда так бывает.
— Нас, нас, — уверенно сказал и Наумыч. Он достал из кармана часы и положил их перед собой на столе. — Нас первых, я знаю. — Он посмотрел на часы. — Эге, уже сорок минут второго!
— Ну, если нас первых, тогда еще ничего, — проговорил Каплин и вздохнул.
Снова в комнате стало тихо. Кто от нечего делать жевал бутерброд, кто перешептывался с соседом. Желтобрюх неторопливо снял валенок и начал перематывать портянку. Редкозубов занялся прочисткой своей трубки: громко дул в чубук, ковырялся в нем спичкой и стряхивал на сторону никотин.
И как всегда то, чего долго и нетерпеливо ждешь, наступает все-таки внезапно, так и сейчас из-под потолка вдруг раздался такой громкий и отчетливый голос, что от неожиданности, от испуга все вздрогнули, а Каплин даже охнул и выронил изо рта папиросу.
— Allo! Аllо! Говорит Ленинградская широковещательная станция РВ 53 на волне 857,1 метра. Вызываем Новую Землю, остров Диксон, мыс Желания, Землю Франца-Иосифа..
Кто как был, так и замер на месте: Наумыч с обкусанным яблоком у широко разинутого рта, Ромашников, не успевший закурить папиросу, с горящей спичкой в руке, Желтобрюх с голой, поднятой в воздухе ногой.
— В студии Ленинградского радиоцентра, — все так же громко и ясно продолжал голос, — собрались родные и знакомые зимовщиков, представители Главсевморпути и редакции «Вечерней Красной газеты». Объявляем перекличку с советскими полярными станциями открытой..
В красном уголке воцаряется прямо могильная тишина. Все сидят почти не дыша, боясь пошевельнуться и впившись глазами в черный диск репродуктора. И когда Желтобрюх попробовал было потихоньку засунуть в валенок свою голую ногу, все сразу повернулись в его сторону, и на всех лицах появилось такое свирепое выражение, что Желтобрюх застыл с валенком в руках и только быстро-быстро затряс головой: не буду, мол, не буду.
И снова, как по команде, все лица поворачиваются к репродуктору, все глаза впиваются в блестящую пуговицу посередине диска, из которой, кажется, и идет этот спокойный и ясный голос.
— У микрофона представитель редакции «Вечерней Красной газеты» товарищ Френкель.
Сердце мое вдруг сжимается от какой-то сладкой радости. Френкель. Я же отлично знаю Лешу Френкеля! Вот это здорово! Неужели сейчас я действительно услышу его неторопливый и рассудительный голос?
И я с невероятной быстротой и отчетливостью вспоминаю, как перед отъездом на зимовку я сидел у него в просторном редакционном кабинете. Кажется, что это было несколько лет назад. В раскрытое окно несся ровный гул и звон типографии, внизу, под окном, громко кричали на лошадей возчики, громыхали по камням двора железные ободья подвод, груженных огромными рулонами бумаги. За окном был шумный и пыльный ленинградский день.
И вот как пришлось снова нам встретиться! Вот как пришлось поговорить!
В дверях на секунду появляется Вася Гуткин.
Одно ухо его шапки стоит как у собаки, другое болтается, помахивая по воздуху тесемкой. Вася подмигивает нам, щелкает языком, показывает глазами на репродуктор: «Ну каково?»
Мы молча тоже улыбаемся ему в ответ, киваем головами, посылаем воздушные поцелуи: молодец, мол, Васька! молодец!
Меня охватывает такое волнение, столько мыслей теснится в голове, что я почти ничего не успеваю разобрать из того, что говорит Леша Френкель. Что-то такое о советских полярниках, о передовых форпостах науки, о том, что нас помнят и следят за нашей жизнью здесь, на острове Гукера.
И уже все! Уже другой, незнакомый голос:
— Вызываем мыс Желания! Вызываем мыс Желания! Мыс Желания, слушайте!.
Как мыс Желания? А почему же не нас? Ведь нас же первых должны?
В комнате начинается движение.
— Что же это такое?
— Безобразие!
— Почему мыс Желания первым вызывают? В чем дело?
Мы переглядываемся, пожимаем плечами, с недоумением смотрим на Наумыча, который растерянно разводит руками — ничего, мол, не понимаю.
Шопот и возня долго не утихают. Кто-то громко чиркает спичкой, кто-то откашливается, шумно сморкается, кто-то скрипит стулом, кто-то начинает вполголоса разговаривать.
А из репродуктора громкий голос уже выкрикивает:
— Мыс Желания, слушайте! Вызываем зимовщика Харитонова! Сейчас с вами будет говорить ваша жена Ирина Дмитриевна.
Вот теперь жди, пока наговорятся родственники и знакомые зимовщиков мыса Желания..
А они, кажется, никогда не наговорятся. Одна только Ирина Дмитриевна говорит целый час. Потом какая-то девочка невнятно и долго читает немецкое стихотворение про елочку, потом снова женский голос обстоятельно рассказывает про удачный обмен двух комнат во втором этаже на три комнаты в пятом, потом какой-то старик передает целый воз поклонов и приветов, потом снова женщина, снова ребенок.
И так без конца..
Обиженные и злые, мы молча слушаем чужие разговоры, рассказы о чужой жизни, чужие приветы, чужие просьбы.
Но вот наконец репродуктор на минуту смолкает.
Ну, теперь, может быть, нас. Наверное даже нас, — мы ведь все-таки обсерватория, да еще самая северная на всем земном шаре!
Мы усаживаемся поудобнее, многозначительно переглядываемся друг с другом, перешептываемся.
— Нас! Наверное нас! Тише, тише!
И вдруг опять тот же ровный, громкий голос:
— Вызываем зимовщиков полярной станции Югорский Шар! Югорский Шар, слушайте!
Наумыч даже подпрыгнул на стуле и со злостью хлопнул ладонью по столу.
— Чорт его изломай совсем, нехай он сдохнет, этот Югорский Шар!
— Почему не нас? Безобразие! — вскакивая с пола, закричал Желтобрюх.
Все зашумели, задвигались, заговорили, размахивая руками и с ненавистью глядя на репродуктор.
— Это чорт знает, что такое! — брызгая слюной, кричал Романтиков. — Какую-то станциюшку второго разряда вызывают, а обсерватория должна ждать. Просто безобразие и больше ничего! Вот пожаловаться на них, тогда будут знать!
— Нет, правда, что же это такое, в самом деле? — горячился Гриша Быстров. — У нас самая большая зимовка, и вдруг — нате вам! Может быть, они нас совсем в последнюю очередь вызовут? Этого еще только не хватало!
Снова прибежал из своей лаборатории Вася Гуткин. От злости он весь покраснел.
— Что же это, Наумыч, за свинство? — закричал он, срывая с головы шапку. — Это все Остальцев подстроил, начальник Юшаровский! У него в Ленинграде все друзья-приятели. Вот он, наверное, и подстроил!
В красном уголке стало шумно, все сразу загалдели, перебивая и не слушая друг друга. Задымили трубки и папиросы.
А репродуктор все говорил и говорил разными голосами — то стариковским, то детским, то веселым, то грустным, то мужским, то женским. Далекие невидимки рассказывали о своих заботах и делах, расспрашивали своих, тоже невидимых, мужей, сыновей, братьев и отцов об их жизни на зимовке, жаловались на грусть-тоску и просили непременно привезти песцовую шкурку, живого медвежонка или моржовый клык.
Вот старушка. Наверное, чистюля и хлопотунья. Говорит она быстро-быстро, но деловито и обстоятельно. Наверное, в черном платье, отделанном широкой шелковой тесьмой, с черной бархаткой на шее.
— И еще к тебе просьба, милый мой сыночек Васенька, — вразумительно говорит старушка, — настреляй мне, пожалуйста, гагар на воротник и манжетки к черному моему пальто. Всего понадобится чистого пера не больше как граммов четыреста. Гагачье перо легкое — его на фунт много идет. Настреляй, Василечек, ощипли и хорошенько просуши перо на ветру, чтобы, не дай то бог, не заклекло..
А вот молодая женщина. Голос у нее какой-то ломкий, дрожащий. Она очень волнуется: говорит с паузами, сбивается, громко глотает слюну. Прямо как будто видишь ее испуганное лицо, в руках она, наверное, все время теребит сумочку и то и дело заглядывает в бумажку, на которой записано все, что ей нужно сказать.
Потом говорит бравый парень. Видимо, он любуется собой, после каждой фразы добавляет: «ну-с, вот», или: «тэк-с». Он небрежно рассказывает своему брату о том, как он с геологической партией работал на Памире, — едва-едва не погиб в горах, — как его премировали месячным окладом и какие галифе он купил себе на эту премию.
Потом ласковый, вкрадчивый голос негромко говорит: «Здравствуй, Иван Петрович, это я, твоя тещенька.»
— Вот уж обрадовала Ивана Петровича, старая ведьма, — громко сказал Наумыч. И все мы дружно и весело захохотали.
После Югорского Шара вызывают зимовщиков Маточкина Шара, потом острова Диксон.
Уже три часа ночи. В красном уголке висит сизый туман табачного дыма, печка давно остыла, и по полу тянет от стен острым холодом. Злые, усталые, обалдевшие от папирос, от волнения, от бесконечного ожидания, все молча сидят — хмурые, угрюмые.
И вдруг голос:
— Вызываем Землю Франца-Иосифа! Земля Франца-Иосифа! Бухта Тихая! Слушайте, бухта Тихая! Вызываем зимовщика Гуткина! Товарищ Гуткин, сейчас с вами будет говорить ваша жена..
Точно молния ударила в нашу маленькую комнатку. Какой-то вихрь в одно мгновение раскидал всех людей по местам, на секунду поднялся дикий переполох, потом сразу мгновенно все улеглось, замерло, застыло, и воцарилась такая тишина и такая неподвижность, точно это сидели не живые люди, а какие-то восковые манекены.
Стучинский, который в это время был в радиолаборатории, рассказывал потом, что было с Васей, когда его вызвали.
Вася сидел у приемника, почти засыпая от усталости. Репродуктор, который стоял тут же, рядом с приемником, монотонно бубнил вот уже целых два часа. И вдруг голос:
«Вызываем Землю Франца-Иосифа, товарища Гуткина».
Вася вскочил, бросился к приемнику, сделал над ним какие-то сумасшедшие пассы руками, точно хотел его заколдовать, потом зачем-то рванул обратную связь, — и репродуктор взвыл, заревел, засвистел. Тогда Вася совсем выключил линию, потом снова включил, схватил наушники и замер над приемником.
Кто же следующий? Кого вызовут после Васи? Две пары наушников лежат на столе, и каждый поглядывает на наушники, прицеливается, как бы побыстрее схватить их, если вдруг, вот сейчас, раздастся твоя фамилия.
— Вызываем зимовщика Быстрова! Товарищ Быстров, с вами будет говорить ваша мать.
Гриша хватает наушники, но шнур спутался клубком и не достает до Гришиной головы. Гриша рвет и тянет шнур, все кидаются ему помогать, но он машет рукой и, вытянув шею, как жираффа, кое-как напяливает на голову блестящую гнутую пластинку да так и остается стоять, нагнувшись над столом, точно привязанный за уши к штепселю.
Тем временем несколько рук проворно и бесшумно распутывают шнур, он становится длиннее, и Гриша понемногу выпрямляется над столом, а потом медленно садится на стул и слушает, обхватив голову руками.
— Вызываем зимовщика Безбородова. У микрофона ваша мать, Валентина Федоровна. Сейчас она будет говорить с вами, товарищ Безбородов.
Дрожащими руками я хватаю наушники. На голове у меня шапка, но я позабыл об этом и яростно напяливаю наушники на шапку. Кто-то срывает шапку с моей головы. Наверное, у меня очень смешное лицо, потому что все вокруг улыбаются и качают головами, а Леня Соболев даже начинает хохотать, уткнувшись в плечо Стучинского.
— Здравствуй, дорогой мой сыночек Сереженька, — уже раздается в наушниках слабый, далекий голос. — Как-то ты там живешь, в своей Арктике? Страшно-то как, поди, господи, твоя воля! Уж ты, Сереженька, пожалуйста, там не отчаянничай, не уходи далеко от дома-то, а то кой грех, заплутаешься, и замерзнуть ведь можно в такой страшной стуже. Ведь у вас, поди, морозы-то какие страшенные, вьюги, поди, завывают и ни живой души кругом.
Голос становится слышнее. Видно, мама освоилась у микрофона и теперь говорит совсем так, как если бы я сидел рядом с нею:
— Вот ведь и старик хотел тоже притти. Вчера с вечера начал собираться. «Пойду, говорит, — надо мне, говорит, кое-что Сережке сказать». Да ведь вот какая походня. Сходил сегодня на Кондратьевский за керосином, дровец потом поколол, за хлебом сбегал и к вечеру совсем раскурышился. Ветхие мы со стариком стали, плохие. Уж ты нас, пожалуйста, пожалей, хоть на медведей-то там не бросайся. Бог с ними, с медведями, а то задерут еще, вот и приедешь домой калекой. Пиши нам почаще радиотелеграммы и опиши, пожалуйста, какая у вас природа, какие звери и птицы водятся и что растет из трав и деревьев. Старик-то все хочет какую-нибудь книжку про Землю Франца почитать, да куда ни ткнется — везде ему говорят, что книжек таких нет и узнать нам про ваш остров негде и не у кого. Ну, до свиданья, дорогой сыночек. Пиши нам почаще, береги себя, приезжай живой и здоровый.
На секунду воцаряется тишина. Несколько рук тянутся к свободной паре наушников. Может быть, со мной уже больше никто говорить не будет, и сейчас вызовут кого-нибудь другого? Каждому, наверное, хочется, чтобы вызвали именно его. Все пристально на меня смотрят, точно это зависит от меня, а я сам с надеждой посматриваю на репродуктор, висящий под потолком комнаты. Что же, мол, ты молчишь? Говори же чего-нибудь.
И я даже вздрагиваю от неожиданности, когда прямо мне в уши с треском врывается оглушительный бас:
— Товарищ Безбородов. У микрофона ваша жена. Слушайте, товарищ Безбородов.
И уже другой, знакомый и чуточку запыхавшийся, — наверное, от волнения, — голос говорит мне:
— Здравствуй, Сережка. Это я — Лена.
Просто удивительно, как чисто и ясно доходит до меня голос! Как будто бы нас разделяют не тысячи километров, а два ленинградских квартала. Как будто бы это обыкновенный телефонный разговор, и вот сейчас, прикрыв рукой трубку, я скажу: «Да, да, слушаю».
Но сказать я ничего не могу.
Я могу только слушать и кивать головой, улыбаться, и пожимать плечами, и мучительно морщиться, когда голос вдруг начинает слабеть, затухать, точно он уходит под воду. Наверно, Вася Гуткин в это время кидается в своей лаборатории к приемнику, крутит и вертит рычаги и катушки, — и вот уже голос снова крепнет, очищается, яснеет.
— Я пришла вместе с Козликом. Он теперь ходит в немецкую группу и, наверное, скажет тебе что-нибудь по-немецки. Он до сих пор не может забыть, как на вокзале к вам в вагон сажали через окно Байкала, и все хвастает ребятам в нашей квартире: «А мой папа повез на Землю Францифа-Иосифа вот такую черную лайку». И показывает, какой величины была лайка — в два раза длиннее, чем пианино. Сейчас он будет с тобой говорить.
Моему сыну четыре года. Настоящее его имя Роальд. В очаге его зовут — Алик, а дома называют просто Козликом. Голосишко у него тоненький, будто у комарика. Холодно, наверное, такому тоненькому голосочку лететь по воздуху от Ленинграда до Земли Франца-Иосифа.
Мне отлично слышно, как Козлика уговаривают и подбадривают у микрофона:
— Ну, скажи чего-нибудь вот сюда, вот в эту коробочку. Скорее скажи чего-нибудь папе.
— А чево? — пищит Козлик.
— Ду-ду-ду-ду-ду, — бубнит чей-то бас, — это, наверное, диктор подоспел на помощь и уговаривает Козлика.
— А зачем? — с любопытством опять спрашивает Козлик. Ему, наверное, никак не понять, зачем и что именно он должен говорить этой маленькой черной коробочке и при чем тут папа, который вместе с черной лайкой уплыл на ледоколе на Землю Францифа-Иосифа.
Наконец его уговаривают.
— Па-па, — звенит в наушниках его тоненький голосочек. Потом опять: — Па-па! Я играю с Вовой Тарасовым в карты. — После этого наступает длинное молчание. В наушниках опять слышится какая-то возня и тихие быстрые голоса. Козлик снова, уже шопотом, переспрашивает: — Чево? — и вдруг, ни к селу ни к городу, протяжно говорит:
— Дэ-э-р ты-ы-ы-ш.
Больше, очевидно, ничего вытянуть из пего невозможно. Трескучий бас провозглашает:
— Вызываем зимовщика Соболева.
Вот и кончилось мое свидание в эфире. Я снимаю наушники, осторожно вылезаю из-за стола. Мне хочется на улицу, хочется побыть одному, подумать. В ушах еще раздаются знакомые, родные голоса.
Я одеваюсь и тихо выхожу из дома. Светит необычайно яркая луна. В чистом темном небе дрожат зелено-желтые пучки и волнующиеся ленты полярного сияния.
Как все-таки это чудесно: вот и сейчас ведь в этой безмолвной студеной черноте беззвучно летят какие-то голоса, какие-то слова. Невидимые и неслышные, они пролетают над этой замерзшей землей, и простая полированная коробка с проволочными катушками и маленькими тускло мерцающими лампочками вылавливает эти бездомные, небесные голоса и заставляет их ожить и снова зазвучать…
Когда я вернулся домой, в тускло освещенном коридоре под фонарем стояла кучка людей.
Я подошел к ним. Тут были Стучинский, Быстров, Лызлов, Савранский. Глаза их блестели от возбуждения, на щеках был румянец. Даже угрюмый, неразговорчивый Лызлов широко и радостно улыбался.
— Голоса очень похожи, — взволнованно говорил он, — просто удивительно, до чего похожи голоса. Я никак не думал, что так хорошо будет. — Он повернулся ко мне, сверкнув стеклами очков. — А как здорово ваш сынишка говорил. Голосочек какой тоненький! — Он тихонечко засмеялся, покачал головой и как-то судорожно потер руки — Хорошо! Очень хорошо!..
Глава седьмая
Смертный приговор
Леня Соболев и Лаврентий Каплин собирались пускать зонд. Они притащили в аэрологический сарай тяжелый чугунный баллон с водородом, водрузили его на деревянные козлы и, вытащив из картонной коробки сморщенную резиновую оболочку, приготовились надувать шар.
Но вдруг из дальнего угла сарая, где были составлены огромные полотняные змеи, раздался тоненький-тоненький писк. Жалобный, отчаянный писк, потом какое-то курлыканье, ворчанье и снова писк.
Леня и Лаврентий осторожно отодвинули железные рамы, на которых были натянуты полотнища, и заглянули в угол.
На полу, на смерзшемся куске старого брезента врастяжку лежала серая ездовая собака Сватья. Она лежала на боку, положив голову на пол, и не мигая смотрела на людей большими, влажными, строгими глазами.
— Леонид Исидорович, — прошептал Каплин, локтем толкая Соболева. — Смотрите!
Растопырив маленькие слабые лапки, беспомощно тыкаясь мордочками в пол, падая и карабкаясь друг на друга, в углу копошились три серых толстеньких слепых щенка. Они поднимали лобастые мордочки и, разевая красные, беззубые рты, отчаянно пищали. Один щенок поймал маленькое, мягкое, как тряпочка, ухо брата и принялся жадно, с чмоканьем его сосать, но не удержался на лапках и упал на бок, стукнувшись об пол головой.
Аэрологи посмотрели-посмотрели и решили итти к каюрам — советоваться, что же делать со щенятами.
Ни Боря Аинев ни Стремоухов выходить на улицу еще не могли. Они велели перетащить щенят и Сватью в сени и устроили им там теплое жилье.
В большой ящик от печенья они насыпали стружек, набросали всякого тряпья, старой ваты и положили в ящик щенков. А Сватья сама залезла туда, тщательно облизала своих детенышей, и они, прижавшись к матери, сразу уснули.
Щенки прожили не долго. На третий день они пропали. Дверь из сеней всегда прикрывалась очень плотно, и выбраться наружу они никак не могли. Но и в доме их нигде не было — ни в коридоре, ни на кухне, ни в пристройке к сеням.
Все зимовщики были очень встревожены исчезновением щенков. Одна только Сватья нисколько не беспокоилась, что ее щенки куда-то пропали, и при первом же удобном случае улизнула из дому.
Сначала мы подумали, что она побежала на поиски своих детенышей, что она скоро вернется домой. Но за весь день Сватья ни разу даже не подошла к дверям, а вечером ее видели весело игравшей с другими собаками.
Тогда мы поняли, куда девались щенки: Сватья пожрала их.
Мы знали, что собаки часто поедают своих детенышей. Но нам было очень жалко этих первых щенков, которые родились при нас, — мы уже придумали им красивые имена и мечтали, как будем выращивать их и приучать ходить в запряжке. А потом и просто было жалко, что мы потеряли трех ездовых собак. Из них выросли бы, наверное, хорошие собаки. Даже в слепых трехдневных щенках уже была видна настоящая порода: острые торчащие ушки, широкая сильная грудь, черное нёбо.
Все наперебой ругали Сватью, припоминали всякие ее грехи и проделки и то, что она как-то, месяца три назад, утащила из сеней кусок медвежьего мяса, и то, что она при кормежке всегда норовит схватить самый большой кусок, и что вообще-то она злая и неблагодарная собака, одним словом — мерзавка.
— Только бы мне на улицу вырваться, — говорил Боря, испытующе поглядывая на Наумыча. — Я бы собак приструнил. Совсем, поди, от рук отбились. Вон Сморж говорит, что колымские опять с цепочек сорвались, бегают чорт знает где, дерутся.
За время нашей болезни собаки действительно совсем отбились от рук. Некому было следить за ними, кормили их кое-как, — кто вспомнит, тот и покормит. Собаки одичали, изголодались.
То и дело в темноте вдруг раздавался дикий рев, визг, вой. Мы выскакивали из домов и чем попало — фонарями, палками, лыжами — разгоняли схватившихся псов. Но дело это было не легкое. Озверевшие собаки бились с такой яростью, что их, в конце концов, приходилось просто растаскивать руками. Однажды два пса так крепко сцепились, что даже когда Желтобрюх поднял их обоих на воздух, они и тогда еще продолжали рвать друг друга.
Почти всегда драка, если ее во-время не разгоняли, кончалась смертью какой-нибудь собаки.
К середине января так погибло у нас семь хороших ездовых псов: Черный, Милка, Седой, Пестрый, Умлак, Серко и Чанлик.
Один раз в драке чуть не погиб Борин Байкал. Мы едва отбили его у озверевшей своры — изорванного, израненного, с распоротым брюхом, с разорванным глазом и полуоткушенным ухом. Целых десять дней он отлеживался в сенях и так и остался навсегда с разорванной глазницей.
Серый, лучший друг и земляк Жукэ, тоже Борина собака, был убит в драке мгновенно и наповал.
Гибель Серого так опечалила Борю, что он не захотел даже последний раз взглянуть на своего друга, несколько дней почти ничего не ел и подолгу валялся на койке, грустно о чем-то размышляя.
Но никогда стая не убивала собаку из пустой звериной жестокости, всегда это была расплата за преступление, за измену.
Можно было бы рассказать много удивительных историй о наших собаках, но самая замечательная из них — это история двух Отшельников.
У дальней пристани, среди ящиков и тюков, которые остались после разгрузки «Таймыра», уединенно жили две гренландские овчарки.
Это были рослые, черные псы, угрюмые, нелюдимые и гордые. Мы прозвали их Отшельниками. Они не хотели жить вместе со всей собачьей стаей, и стая возненавидела их за это и приговорила к смерти.
Было удивительно наблюдать, как целыми днями вокруг пристани расхаживали дозорные собачьи отряды, выслеживая Отшельников. Но Отшельники прятались где-то под ящиками и только изредка, дождавшись, когда дозор отходил, осторожно выбирались из своего убежища, чтобы подобрать на помойке выброшенные кости и объедки.
Иногда вдруг вся наша собачья стая снималась с места и с диким лаем, воем, рычаньем и ревом бросалась вдоль берега к дальней пристани.
Это было похоже на кавалерийскую атаку. Впереди, как пуля, летел Жукэ, почти не касаясь лапами снега, распластавшись и распустив по ветру серый хвост. На флангах мчались легкие карельские лайки; черные тяжелые колымские псы составляли главные силы, а сзади скакал всякий сброд: косматый Моржик, четырехугольный, похожий на бульдога Вайгач, белая, курчавая, как баран, Сова.
Стая налетала на пристань, и закипал дикий бой. Но у Отшельников была неприступная позиция: под прикрытием ящиков и бочек они вдвоем отбивали нападение целой стаи. И стая отступала.
Опять несколько дней за пристанью приглядывали дозоры, а потом опять вся армия бросалась на штурм.
И вот однажды один из Отшельников по оплошности отошел от пристани слишком далеко. Сейчас же, по сигналу дозорных, вся стая, — на этот раз совершенно молча, — ринулась в атаку. Самые быстроногие псы помчались наперерез Отшельнику, чтобы перехватить его у пристани.
Видя, что ему все равно не уйти, Отшельник остановился и, повернувшись грудью к преследователям, приготовился защищаться. Черная его шерсть встала на загривке и на хребте дыбом, как щетка.
Лавина собачьих тел обрушилась на одиноко и смело стоящего на снегу пса.
Мы подбежали слишком поздно.
Отшельник был мертв..
А на другой день его товарищ униженно приполз к зимовке на брюхе. Собаки встретили его недружелюбно: рыча и посматривая сверкающими от злости глазами, ходили вокруг, обнюхивали распластавшегося на земле бедного пса. Но ни одна собака не тронула его. Он сдался, примирился, сам пришел к стае, и стая простила его.
С тех пор Отшельник мирно стал жить со всеми собаками.
Собаки не любили и Жукэ.
Честно говоря, Жукэ был довольно зловредным псом. Это был задира и скандалист, все зимовщики его баловали и постоянно возились с ним. Жукэ отлично понимал, что его любят люди, и к своим братьям относился несколько пренебрежительно. Стая давно бы расправилась с ним по-свойски, если бы у Жукэ были не такие быстрые ноги. Ноги спасали Жукэ.
Сколько раз мы наблюдали отчаянные погони, когда вся стая, растянувшись цепочкой по белому снегу бухты, неслась следом за Жукэ. Чтобы вымотать собак, Жукэ делал по широкой нашей бухте круг в несколько километров. Даже самые быстрые псы выбивались из сил и отставали, а Жукэ благополучно приносился на зимовку, с ходу влетал в сени и грохался на пол с вытаращенными от ужаса глазами, свесив на сторону длинный дымящийся язык.
Однажды, — это было уже в полярную ночь, — я вышел из дому. Светила луна, кругом было тихо и мирно. И вдруг я увидел, что вокруг актинометрического павильона плотным кольцом сидели собаки, сосредоточенно глядя наверх. Я тоже посмотрел на крышу павильона. Там никого не было. Тогда я позвал собак. Они обернулись, замахали хвостами, но не сдвинулись с места. Я подошел к павильону, перешагнул через собачье кольцо и по крутой деревянной лестнице поднялся на крышу. Там, свернувшись клубочком, грустно лежал Жукэ.
Если бы не я, собаки продержали бы Жукэ в осаде целую ночь. А сейчас, под моей охраной, Жукэ храбро спустился вниз, и собаки, недовольно ворча и огрызаясь, расступились и пропустили его.
Собаки всегда держались кучей, все вместе. И если какой-нибудь пёс убегал далеко от дома в бухту, все остальные сейчас же собирались у береговой линии и усаживались в ряд, упорно, целыми часами ожидая возвращения бродяги. А он, поняв, что совершил опасную ошибку, одиноко и печально сидел вдалеке от берега, один среди белого поля бухты.
Видя, что пощады не будет, бродяга начинал просить прощенья. Он то ложился на спину и махал в воздухе лапами, то полз к берегу на брюхе, заискивающе тявкая и неустанно махая хвостом, то начинал с фальшивой веселостью прыгать и скакать по льду, приглашая сородичей поиграть с ним.
Но сородичи сидели вдали, неподвижные, как камни.
И только вмешательство кого-нибудь из нас спасало собаку от жестокой расправы стаи.
____________
Через несколько дней после истории со щенками Наумыч наконец разрешил Боре Линеву выходить на улицу.
Боря сразу же пошел к собакам. Целый день его фонарь мелькал то около ангара, то у салотопки. Он ходил, окруженный всей собачьей стаей. Собаки скакали вокруг него, норовили лизнуть в лицо, а Жукэ от радости кувыркался, вертелся волчком, а то вдруг вытягивался у Бориных ног и замирал от восторга.
Домой Боря вернулся чем-то озабоченный и недовольный. На другой день с утра он надел свою шубу, замотался огромным шарфом, взял фонарь, кирку, лопату и снова пошел к своим собакам.
Несколько раз, выходя из дома, я видел стоявший на сугробе фонарь и темный силуэт человека, ковырявшегося в снегу. Один раз я даже подошел к Боре. Он сосредоточенно, поплевывая на ладони, рубил снег киркой, копая глубокую яму.
— Чего это ты, Борис? Иль хоронить кого собрался? — спросил я.
Боря бросил кирку, молча достал кисет, набил трубку, закурил.
— Ты не помнишь, где у нас лежала моржатина? — спросил он.
— Какая моржатина?
— Ну, какая? Обыкновенная. Для собак, которую нам потаповцы оставили. Вот где-то тут как будто была, а где — чорт ее знает! Все так занесло, что и не поймешь, где она может быть.
— Так ты, значит, моржатину ищешь?
— А ты что же думал — я золото тут добываю? — ответил Боря, взял кирку и снова принялся долбить крепкий, звенящий снег.
К обеду, как обычно, все собрались в кают-компании. Теперь нас обедало уже девятнадцать человек. Один только Стремоухов еще лежал в постели, жалуясь то на боль в боку, то на ломоту в ногах, то на звон в ушах. Давно уже температура у него была совершенно нормальная, но каждый день, когда кто-нибудь заходил к нему в комнату, он, видимо, уже по привычке, продолжал стонать, охать и жаловаться.
— Плохо мне. Никогда я, наверное, не поправлюсь. Видно, уж суждено мне погибнуть здесь…
Боря Линев пришел к обеду чернее тучи. Он молча сел на свое место, молча принялся за еду.
Как — то уж так, сам собой установился у нас такой порядок: всякие дела, требующие общего решения или совета, обсуждались всегда в конце обеда. Когда кончали второе и Желтобрюх подавал компот, кисель или крем, кто-нибудь откашливался, закуривал и громко говорил:
— Вот какое, ребята, дело.
Разговоры и шутки сразу смолкали, курильщики поспешно вытаскивали трубки, из кухни выходил повар Арсентьич и останавливался у дверного косяка. Начинались прения.
И на этот раз было так же. Когда Желтобрюх расставил на столах блюдечки с компотом, Боря Линев проговорил глухим голосом:
— Платон Наумыч, есть одно дело, надо бы обсудить.
— Ну, что ж, — отозвался Наумыч, громко прихлебывая компот, — выкладывай свое дело, обсудим.
— Вот какая история, товарищи, — все так же глухо, нахмурившись продолжал Боря. — У нас нечем кормить собак. То мясо, которое было в салотопке, кончается. Его хватит самое большее еще на неделю. А потом кормить собак будет нечем.
— То есть как же это так нечем? — сказал Наумыч, поднимая брови. — Я не понимаю. Нам же Потапов оставил столько мяса, что его, по моим расчетам, вполне должно было хватить до весны. Куда же оно девалось?
Боря нахмурился еще больше.
— Мясо-то есть, но достать его никак невозможно. Я два дня его искал-искал, никак не найти. Вы сами знаете, сколько навалило снегу. Все занесло, заровняло, и где оно лежит, чорт его знает. А чтобы раскопать весь берег, надо тысячу человек.
— Погоди, погоди, — перебил его Наумыч. — Как это так — занесло? Почему занесло? Я еще засветло приказал Стремоухову все мясо перетаскать в салотопку. Три месяца тому назад. По-моему, даже голому дурню понятно, что если мясо оставить на берегу, его занесет снегом. Значит, выходит, что я приказал, а приказ мой выполнен не был? Так, что ли?
— Да, так, — угрюмо сказал Боря.
Наумыч откинулся на спинку стула, засопел, запыхтел, задымил папироской.
— Ну, что же ты предлагаешь?
Боря развел руками.
— Чего же тут, Наумыч, предлагать? Предлагать особенно нечего. Надо будет, по-моему, переходить на жидкий корм, — болтушку из муки варить. Может, есть какие старые консервы, — их можно бы собакам пустить. Конечно, это очень накладная штука — мукой кормить такую ораву. Ну, а чего же делать-то!
— Лучше уж тогда консервами, — сказал Костя Иваненко. — У нас на складе я видел, Платон Наумыч, чуть ли не десятилетние бычки лежат. Нам-то есть их страшно, а собаки с удовольствием сожрут. Это уж лучше, чем муку тратить.
— От консервов собаки передохнут. Консервы — это одна видимость. Никакой в них питательности нет, — проговорил Желтобрюх.
И Арсентьич важно подтвердил:
— В консервах никаких витаминов нет. Это кушанье пустое. А собаке нужен витамин. Бумагу она тебе есть не будет.
— Сколько у нас осталось собак? — угрюмо, ни на кого не глядя, спросил Наумыч.
— Осталось двадцать восемь.
Наумыч вытащил из кармана книжечку, карандаш, открыл чистую страничку.
— Сколько муки надо на каждую собаку в день? — спросил он.
— Ну, что же, я думаю, что килограмм — это уж самое меньшее, — сказал Боря.
— Килограмма мало, — вставил Арсентьич. — Человек целый килограмм хлеба съедает, а у человека сколько еще другого кушанья. Собаке — два надо.
Наумыч молча начал что-то вычислять в книжечке, хмуря брови и громко сопя. Он делил, складывал, умножал, наконец подвел черту и выписал какую-то цифру.
— Да-а, — сказал он. — Плохо выходит. Ну, что ж, придется сделать вот как. — Он хлопнул ладонью по столу. — Хорошенечко подумай, Борис, и отбери всех ездовых собак и медвежатников. Ну, а тех, которые все равно никуда не годятся — придется застрелить. Мы не можем содержать нахлебников. Не по карману. Вечером представишь списки и тех и других. Сначала посмотрим, с чем мы останемся, а потом уже будем думать, как нам их кормить.
— Хорошо, — сказал Боря Линев, еще больше нахмурившись и потемнев. — Будет исполнено.
Мы все притихли, поглядывая то на Наумыча, то на Борю.
У каждого из нас среди собак были свои любимцы. И вдруг они-то как раз и попадут в число приговоренных к смерти?
После обеда в комнату каюров потянулись встревоженные зимовщики.
Я тоже направился к Боре замолвить словечко за своих друзей — Гусарку и Моржика. С Гусаркой я убил своего первого медведя, это была уже известная собака, и о ней я не очень беспокоился, а вот Моржик еще ничем не прославил себя. Это был просто косматый пес, рослый, добродушный и спокойный. Я был твердо уверен, что такая большая собака непременно должна быть ездовой, а что думал Боря — я не знал.
Когда я вошел к каюрам, Боря стоял посреди комнаты и надевал норвежскую непродувайку с капюшоном. На Бориной постели сидели Савранский, Гриша Быстров и Каплин. Лица у них были встревоженные и вытянутые как у просителей, а Боря, чуть не плача, дрожащим голосом говорил, завязывая тесемки на рубахе:
— Отвяжитесь вы от меня, Христа ради! И так тошно. Что вы думаете, — мне это праздник — собак убивать? Праздник, да? Мне собака дороже, может, человека!
— Да нет, конечно, мы понимаем, — робко сказал Гриша Быстров. — Всем жалко. Но только чтоб ошибки не получилось. Маленького Буяна, например, никак нельзя убивагь. Из него, наверное, прямо замечательная собака вырастет. Я вот к чему говорю.
— А Сову, по-твоему, можно? — недовольно сказал Каплин. — Сова-то лучше, чем Маленький Буян. Из Буяна-то, может, ничего и не вырастет, а уж Сова-то собака что надо. Ее видно сразу.
— Ну, и Сова, конечно, — согласился Гриша. — И Сову нельзя.
В дверь заглянул испуганный Стучинский, но, увидев нас, смутился и попятился из комнаты.
— Борис Федорыч, я потом к вам зайду на минуточку. Можно? — сказал Стучинский.
— Пожалуйста, не заходите! — простонал Боря. — Не заходите вы ко мне, пожалуйста. Что я — Малюта Скуратов, что ли?
Боря схватил рукавицы, фонарь и выскочил из комнаты, хлопнув дверью.
— Всех их передушить мало, — желчно вдруг сказал со своей кровати Стремоухов. — И Сову, и Буянов, всех. — Он со злобой посмотрел на нас и отвернулся к стенке, проворчав: — Собак им жалко, а человек пускай подыхает. Сволочи.
Медленно потянулось до ужина время. Ромашников и Вася Гуткин рискнули было пойти к салотопке, но Боря еще издали начал кричать, что сейчас же пойдет жаловаться Наумычу, если к нему будут лезть, — и просители вернулись ни с чем.
Чтобы хоть как-нибудь убить время, я отправился в бухту, к проруби, которую мы проделали во льду для измерения температуры морской воды и толщины льда. Я принялся подправлять ее, обрубать намерзший лед, расчищать вокруг проруби снег. Из бухты мне была отлично видна освещенная раскрытая дверь салотопки, слышен был собачий лай и визг, Борины крики.
Иногда Боря выходил из салотопки и пропадал в темноте. Потом возвращался в ярко освещенный четырехугольник двери, и было видно, как он тащит за ошейник упирающуюся всеми четырьмя лапами собаку.
— Всех хочет собрать сначала в одну кучу, а потом уж, наверное, будет отбирать. Отбирай, отбирай, — подбадривал я себя, — моих-то все равно не застрелишь!
Наконец настал ужин. Все собрались в кают-компании взволнованные и озабоченные, словно сейчас должна была решаться судьба каждого из нас. Леня Соболев попробовал было пошутить:
— Ходатайства о помиловании тебе, что ли, Борис, подавать или Стремоухову? — сказал он, подмигивая Боре.
Но Боря ничего не ответил и, отвернувшись, стал смотреть в замерзшее окно. Наконец пришел Наумыч. Он пробрался на свое место, вытащил записную книжку, положил ее перед собою и громко сказал:
— Ну, Борис, докладывай, как дела.
Боря Линев приподнял свою тарелку, вытянул из-под нее заранее приготовленный листочек бумаги и сквозь зубы проговорил:
— Значит, так, Наумыч. Я уж отбирал, отбирал, только ничего почти не набрал. Плохих собак они сами давным-давно уже прикончили, мне уж самые остатки пришлось подбирать. — Боря вздохнул, почесал затылок. — Значит, вот кого я наметил по вашему приказанию в расход.
Наумыч приготовился записывать, а Боря опять взял свой листочек и медленно, делая паузы после каждого собачьего имени, прочел:
— Штоп. Старик. Торос. Лысый. Таймыр. Букашка. Моржик..
— Как Моржик? — закричал я. — Моржик же ездовый!
Боря Линев медленно повернулся в мою сторону и строго сказал:
— Откуда же это он ездовый? Кто это тебе сказал?
— Никто не сказал, — ответил я, чувствуя, что начинаю злиться, — только я знаю, что ездовый! И все знают, что ездовый!
Но никто не поддержал меня. А Боря, отвернувшись и глядя на Наумыча, проговорил:
— Моржик из породы русских овчарок. Такие ездовые овец обыкновенно караулят. Никто сроду на таких Моржиках не ездил.
— Тогда, значит, он медвежатник! — упрямо сказал я. — Не может быть, чтобы такую собаку зря держали. Не понимаю, как можно такую собаку убивать?!
Наумыч постучал карандашом по столу, улыбаясь посмотрел на меня:
— А откуда ты знаешь, медвежатник он или не медвежатник? Ты же ведь не знаешь?
— И Борис не знает! — крикнул я. — Не знает, а хочет убивать!
Наумыч вопросительно посмотрел на Борю. Тот пожал плечами и опять, даже не глядя в мою сторону, сказал:
— Конечно, я с Моржиком на этот счет не разговаривал. А так, по морде, что-то не похоже, чтоб медвежатник был. Овчарка — и вдруг медвежатник? — Боря пожал плечами. — Может быть, конечно, и так. Не знаю.
Я и сам не думал, что Моржик медвежатник, но просто из упрямства и еще потому, что мне действительно было жалко этого добродушного косматого пса с густыми, нависшими на глаза бровями, я настойчиво повторил:
— А раз не знаешь, нечего и говорить. Убить-то легко..
— Конечно, — подхватил Костя Иваненко, — и Торос вот тоже..
Но Наумыч перебил его и снова постучал карандашом по столу:
— Ладно, ладно, — сказал он. — Каюр в ваше дело не лезет, и вы в каюрское дело тоже не суйтесь. Нечего тут дискуссию разводить. Ну, что ж, значит, вот этих самых, — кто тут у нас записан? — Он заглянул в свою книжечку. — Штопа, значит, Старика, Тороса, Лысого, Таймыра, Букашку и Моржика завтра утром пустить в расход и составить акт. А в акте указать, что собаки застрелены из-за халатного отношения к своим обязанностям каюра Стремоухова.
Боря Линев покачал головой.
— Я, Наумыч, собак стрелять не буду, — твердо сказал он. — Уж назначьте кого-нибудь другого.
Наумыч глубоко затянулся папироской, сквозь дым, прищурившись, пристально посмотрел на Борю. Боря сидел, опустив голову, скатывая из своей бумажки длинную палочку.
— Ладно, — медленно и серьезно проговорил Наумыч. — Назначим кого-нибудь другого.
Спасение Моржика
Опечаленный я вернулся к себе в комнату.
Наутро мне надо было вставать в шесть часов, потому что начиналась моя декада дежурства, и я быстро разделся и улегся спать.
Ночью, сквозь сон, я слышал какую-то возню и хруст снега под самым моим окном. Часа в два я даже проснулся. Около дома яростно лаяли и рычали собаки, потом лай отнесло куда-то в сторону, понемногу он стал затихать, и я снова заснул.
Ровно в шесть часов меня разбудил будильник. Я поспешно оделся и вышел на крыльцо. Ночь была безлунная, но тихая и ясная.
Я стоял на крыльце, рассматривая звезды, когда вдруг услыхал далекий собачий лай. Я прислушался. Где-то далеко-далеко, наверное в проливе Меллениуса, на разные голоса лаяли собаки.
«Вот странно, — подумал я, — зачем это их туда занесло? Едва ли кто-нибудь из зимовщиков гуляет в такую рань, а одни собаки так далеко от зимовки не пойдут. Уж не медведь ли?»
Я даже улыбнулся, подумав, как было бы хорошо сейчас застрелить медведя. Если медведь большой, собакам будет много жратвы. Глядишь — и смертную казнь отложат. А там, может, еще медведь подошел бы. Вот и обошлось бы дело.
Послушав еще немного далекий собачий лай, я вернулся в дом.
В коридоре под фонарем стоял Шорохов, опухший от сна, со слипшимися глазами. На нем был надет ситцевый пестрый халат, подбитый ватой.
— Встал? — сиплым голосом спросил Шорохов и, закрыв глаза, начал скрести волосатую грудь.
— Что-то собаки в бухте лают — не медведь ли? — сказал я.
— Ну да, медведь, — равнодушно подтвердил Шорохов, продолжая чесаться. — Всю ночь шлялся кругом станции. Надоел, как чорт. — Он запахнул халат, протяжно зевнул и сказал уже бодрым голосом: — Медведь! Я ночью выходил, пустил осветительную ракету. Видел, как собаки его куда-то к Маркаму погнали. А теперь, значит, опять вернулся. Надо бы пойти пристукнуть его, дьявола. — Он поправил ногой угольный ящик и, снова протяжно зевнув, добавил:
— Пойдем?
— Мне нельзя, — сказал я. — У меня в семь часов наблюдение. После наблюдения, так часиков в восемь, еще туда-сюда.
— Нет, это что же, — тогда я лучше пойду спать, — ответил Шорохов. — Прямо замучился ночью — брешут и брешут под самым окошком, чтоб им всем сдохнуть.
Шаркая меховыми туфлями, он пошел к себе в комнату, а я отправился в наблюдательскую.
Когда с электрическим фонарем на груди, с гудящим медным ведром под мышкой, с тетрадочками и карандашами в руках я в семь часов вышел на улицу и зашагал на площадку, собаки как будто уже не лаяли. Как ни дорого было мне время, а я все-таки на секунду остановился и прислушался. Нет, не лают.
«Значит, угнали куда-то, — с досадой подумал я, подходя к тонконогим своим будкам. — Жалко, ушел медведь. Хорошо бы его застрелить».
Теперь во время своих дежурств я уже не метался по площадке так, как в первый раз. Все мои движения были уже рассчитаны и привычны.
По порядку я обошел будку за будкой, осмотрел почвенные и глубинные термометры, снегомерные рейки, флюгер и проворно записал в тетрадочки цифры. Спокойно закончив все наблюдения, я пошел составлять радиограмму.
А через пять минут я уже стучал в комнату радиста.
— Георгий Иваныч, метео!
Костя Иваненко, шлепая надетыми на босу ногу калошами, уже ходил вокруг мотора и ворчал себе под нос, что опять, мол, я опоздал, и вот теперь опять пори тут из-за меня горячку. Но ворчал Костя просто так, по привычке. Возился он у мотора очень неторопливо, так как знал, что время еще есть и торопиться некуда.
Потом под потолком машинного отделения оглушительно затрещал звонок. Это значило, что радист сел за стол, к аппарату, и уже можно пускать мотор.
Не дожидаясь, пока радист начнет выстукивать мою радиограмму, я вышел из рубки.
Вокруг была все та же черная, тихая, морозная ночь. Гулко и четко стучал в радиорубке мотор, полузасыпанные снегом оконца рубки светились ярким голубоватым светом. Не спеша я пошел под горку, к старому дому, сменить ленту у анемографа, который стоял в кают-компании.
Весь дом еще спал. Из-за дверей в коридор несся разноголосый храп, под потолком тускло горели закопченные фонари. На кухне, громыхая мятым старым ведром, в облаках золы и пыли заспанный и злой Желтобрюх выгребал из плиты шлак. А в полутемной кают-компании за одним из столов сидел Шорохов в шубе и шапке, прямо руками ел колбасу с неубранных от ужина тарелок и монотонно говорил Желтобрюху, который нисколько его не слушал:
— То-то и оно-то, — бубнил Шорохов. — Всем нам охота как-нибудь от работы улизнуть. Только у меня не улизнешь. Нет. У меня, брат ты мой, строго. Что, я разве тебе не говорил: «Работай, Борис, выведу тебя в люди»? Не говорил, скажешь? Молчишь? Говорил. Сколько раз учил. Ну, а если не желаешь выходить в люди, вот и мой тарелки, туда, значит, тебе и дорога. Очень уж ты с фанаберией да с гонором. Вот сам и достукался, дочитался до ручки. Дальше уж ехать некуда.
— Что вы его все пилите, Афанасич? — сказал я, мотнув головой в сторону кухни, где Желтобрюх яростно гремел совком и ведерком.
— Его еще не так бы надо, если по-настоящему-то учить, — ответил Шорохов и потянулся за шпротами. — На Большой бы Земле он мне попался, я бы его вылущил, как миленького. Шелковый бы стал.
— На Большой-то Земле я к вам и за миллион не пошел бы! — вдруг крикнул из кухни Желтобрюх и на секунду выглянул из-за двери. Шорохов с грустью покачал головой и укоризненно посмотрел на меня.
— Видал, как отвечает? Видал, как дерзит? Ну куда это годится, — скажи на милость?
И он уже набрал было воздуху, чтобы снова приняться пилить дерзкого Желтобрюха, как вдруг дверь в кают-компанию с треском распахнулась, и в комнату ворвался Сморж в полушубке, наброшенном прямо на нижнее белье.
— Братцы! — закричал Сморж. — Собаки медведя в бухте дерут! Прямо вот тут, рядом!
— Пригнали, значит! — закричал Шорохов, вскакивая из-за стола.
Мы бросились в коридор, а оттуда на улицу. В самом деле, совсем близко в темноте надсадно лаяли, с подвыванием и визгом, собаки.
— Медведь, — сказал Шорохов. — Обязательно медведь.
— Конечно, медведь, а то кто же? — сказал и Сморж, щелкая от холода зубами. — Пошли, братцы, убьем его. А?
— Ладно, иди скорее, одевайся.
Мы с Шороховым побежали в свой дом.
— Я возьму ракетный пистолет, — говорил Шорохов набегу, — а то в темноте, того и гляди, собак всех перестреляем. А ты бери наган и винтовку. Ладно?
Я влетел в свою комнату, сорвал со стены винтовку, схватил патроны, сунул в карман заряженный наган, лихорадочно начал переобуваться.
Слышно было, как Шорохов в своей комнате гремел стулом, возился, с треском выдвигал и задвигал ящики стола.
Одевшись и вооружившись, мы сошлись на берегу бухты — я, Шорохов и Сморж.
Было совсем темно, и слабый, обманчивый свет звезд не давал никаких теней на льду бухты. От этого лед казался совершенно ровным, и неожиданно мы то проваливались в ямы и трещины, то натыкались на торчащие льдины. Спотыкаясь и падая, мы шли, прислушиваясь к собачьему лаю. Лай несся откуда-то со стороны острова Скот-Кельти.
Вскоре затерялись, погасли одинокие огоньки зимовки. Мы брели посреди пролива в полной темноте. Лай то слышался совсем близко, то почти затихал. Наверное, собаки гоняли медведя взад и вперед по замерзшему проливу.
— Не так-то скоро его убьешь, — проворчал Шорохов. — С берега казалось, что совсем рядом, а тут выходит, что еще итти да итти.
— Ничего, ничего, — бодро сказал Сморж. — Ну, пройдемся, велика важность. А зато если убьем-то… — Он даже щелкнул языком, предвкушая нашу славу. — Все спят, как суслики, а мы медведя уж успели укокошить! — Сморж засмеялся от радости. — Шкуру, чур, разыгрывать!
Но тут он споткнулся и так грохнулся на лед, что даже застонал.
— Гляди лучше, чем лясы-то точить, — недовольно сказал Шорохов. — Сломаешь вот ногу — чего тогда с тобой делать?
Дальше пошли молча.
Впереди всех шел Шорохов, размахивая ракетным пистолетом, за ним ковылял Сморж, втянув голову в плечи и засунув руки в рукава полушубка. А позади шел я. Если Шорохов спотыкался, мы со Сморжем уже осторожней подходили к этому месту и тщательно ощупывали ногами лед.
Так молча, в темноте мы брели около часа. Вдруг впереди показался темный отвесный берег. Сморж и Шорохов остановились, я подошел к ним.
— Скот-Кельти, — сказал Шорохов, показывая на берег пистолетом. — Ишь ты куда зашли..
Мы прислушались. Собачий лай слышался очень далеко, справа от нас.
— Гонят вдоль острова, — сказал Сморж. — Ему теперь никуда от нас не уйти, здесь берега крутые, а в пролив он назад не пойдет. Сейчас мы его догоним и убьем. Пошли, ребята.
— Ну, знаешь, — сказал я, — этак мы можем и целые сутки за ним гнаться. Вот мы идем целый час, а до медведя еще чорт его знает сколько! Надо было лыжи взять, а так мы его никогда не догоним.
— Догоним, — уверенно сказал Сморж, — вот увидишь — догоним.
— Нет, — сказал я, — пошли назад. Сейчас уж, наверное, часов восемь, скоро уж и подъем. Увидят вот на базе, что мы самовольно ушли, влетит нам от Наумыча по первое число.
— Вот и надо убить медведя, — вмешался Шорохов, — чтобы не с пустыми руками приходить. Что же мы пустые-то вернемся? Конечно, тогда попадет как следует. А убьем медведя, нам еще спасибо скажут. Сколько уж прошли — и возвращаться? Теперь-то он близко. Вот. Слушайте-ка!
Верно. Собаки лаяли теперь как будто совсем близко, мне даже показалось, что лай с каждой минутой усиливается, приближается к нам.
— Ну, ладно, — согласился я. — Пойдемте. Только давайте сговоримся: еще будем итти самое большее час. Если через час не догоним — поворачивать назад.
— Ладно, — сказал Шорохов, а Сморж добавил: — Через час-то мы уже дома будем. Вот увидишь…
Снова мы двинулись по льду, вдоль темной полосы отвесного берега. Берег то появлялся, то пропадал в каком-то белесоватом тумане, в морозной ночной мгле. Звезд уже не было видно, — может быть, это небо затянули облака, а может — опустился на землю туман, незаметный среди этой белой снежной равнины.
Здесь, неподалеку от берега, лед был особенно изломан и нагроможден торосами и ропаками. Итти в темноте было очень трудно, и мы продвигались все медленнее и медленнее. Уже давно никакого лая не было слышно, и мы тащились по льду, усталые и злые, просто так, наугад.
Я уже совсем было решил поворачивать назад, как вдруг очень близко от нас, ну совсем рядом, неожиданно, словно из-под земли, вырвался громкий собачий лай.
— Стоп! — закричал Сморж и проворно сорвал висевшую за спиной винтовку.
Шорохов выхватил из кармана длинную медную гильзу с осветительной ракетой, я тоже стащил свою винтовку и дрожащими руками поспешно загнал обойму в магазинную коробку.
— Стойте, стойте! — испуганно прокричал Сморж, — Меня-то подождите!
У него была девятимиллиметровая винтовка Манлихера. Обойм к этой винтовке у нас не было, и каждый патрон надо было загонять в магазинную коробку по отдельности. Сморж окоченевшими пальцами запихивал скользкие патроны, но пружина отбрасывала их обратно, они падали в снег, и Сморж чертыхаясь шарил по снегу голыми руками.
— Да скорей ты, растяпа несчастная! — кричали мы с Шоро-ховым. — Долго ты будешь там ковыряться? Ну что за разиня такая? Вот уродина!
— Сейчас, сейчас, сей секунд, — бормотал Сморж. — Уже готово. Вот и готово. Ах ты, чорт, опять вырвался. Нет, вы послушайте, как лают, прямо на куски, наверно, дерут!
Но когда последний патрон наконец стал на место и Сморж с последним проклятьем хлопнул затвором, собачий лай так же неожиданно, как и появился, пропал, словно опять провалился сквозь землю.
Ничего не понимая, растерянно озираясь по сторонам, мы стояли в совершенной тишине.
— Светопреставление какое-то, — изумленно сказал Сморж, пихая в рукава окоченевшие руки. — Ведь вот сейчас здесь лаяли. Да тише вы, не топчитесь, пожалуйста, дайте послушать! — Он склонил голову на бок и даже приоткрыл рот. — Лают. Ей-богу, лают, но верст, наверно, за двадцать, — проговорил он, пожимая плечами. — Чудеса какие-то.
Действительно, где-то совсем далеко едва-едва слышно лаяли собаки.
— Может, ракету пустить? — неуверенно сказал Шорохов. — Может, хоть чего-нибудь увидим. Я пущу одну. У меня их три штуки. Хватит, чать, двух-то?
— Ну, пустите, — сказали мы.
Шорохов поднял руку с пистолетом, целясь в мутное небо. Глухо хлопнул выстрел, и, вычерчивая в небе красную параболу, ракета с шипеньем взвилась, лопнула и стала медленно падать, озаряя ярким мерцающим светом изрытый, изломанный, наваленный грядами торосов лед. Черные тени торосов побежали по снегу, и чем ниже падала ракета, тем они становились все длиннее и длиннее.
И вот снова все накрыла непроглядная тьма.
— Ну и нет ни черта, — сказал Сморж. — Прямо наваждение какое-то. Ведь вот здесь же были… Давайте-ка закурим, что ли? Постоим, подождем.
— Чего же это мы будем стоять? — злобно проворчал Шорохов, выковыривая из пистолета стреляную гильзу. — Что тебе тут — церковь, что ли? Тут стоять нечего. Надо итти. Провозился вот со своей берданкой, медведь и делся куда-то. Не мог дома зарядить? Охотник тоже называется.
И, спрятав гильзу в карман, он зашагал дальше. Мы тоже пошли следом за ним.
— Домой надо возвращаться, вот что, — недовольно сказал я. — Ходим, ходим, а толку никакого. Вот влепит нам Наумыч по пяти нарядов на кухню, это уж как пить дать.
Сморж толкнул меня в бок.
— Т-ш-ш, — прошептал он, — никак опять лают? Афанасич, подожди, никак опять лают! — крикнул он Шорохову.
Все молча остановились. Да, собаки лаяли совсем близко, не так, правда, близко, как в первый раз, но и не за двадцать верст. Потом лай стал еще слышнее, еще громче, вот уже вырвались отдельные собачьи голоса, тонкие, захлебывающиеся.
— Здесь! — радостно прокричал Сморж, бросаясь на лай. И сразу лай точно отрезало ножом. Сразу все стихло, и только вдалеке едва слышался слившийся в один голос собачий хор.
Мы остановились, совершенно пораженные и озадаченные. Сморж медленно снял шапку. От головы его шел пар. Он почесал голову, пригладил волосы, посмотрел на нас дикими глазами.
— Это что же такое за комедия? — сказал он, разводя руками. — А? Что же это такое?
Шорохов молча достал коробку с папиросами, не спеша снял меховые рукавицы, взял папироску, дунул в нее, закурил.
— Да-а-а, — растерянно сказал он, — интересное явление природы.
— Какое же это явление? — с обидой проговорил Сморж. — Это прямо безобразие какое-то, а не явление. Это уж я, прямо, не понимаю что.
Он нащупал ногой стоявшую торчком льдину, сел на нее и бросил свою шапку на снег.
— Шапку-то надень, — сказал я, — голову простудишь.
Но Сморж только махнул рукой.
— А чорт с ней, с головой. — Он достал папироску и закурил. Мы все расселись на льдины и долго молча курили.
Вдруг мне показалось, что лай опять приближается. Я искоса посмотрел на своих спутников. Они тоже к чему-то прислушивались. Сморж вытянул шею и настороженно замер на месте, а Шорохов повернулся в ту сторону, откуда раздавался собачий лай, и даже перестал курить. Мы переглянулись, и, словно угадывая мои мысли, Сморж со злэбой сказал;
— А ну его к чорту! Это одна комедия. Вот докурим и пойдем домой.
Но докурить нам не пришлось. Сразу вдруг вырвался справа от нас дикий, неистовый вой и рев, лай и визг целой собачьей своры.
Мы вскочили, схватили свои винтовки и, спотыкаясь и падая в какие-то ямы, бросились на лай.
— Товарищи! — вдруг закричал Шорохов. — Не бегите! Стойте! Шагом!
У нас уже было такое правило: к медведю подходить спокойно, шагом, чтобы не запыхаться от бега, чтобы не дрожали руки. С трясущимися руками, задыхаясь, едва ли попадешь в медведя. А попасть в него надо так, чтобы свалить его с одного выстрела. Тут надо стрелять спокойно, наверняка.
Мы пошли шагом, плечо к плечу, винтовки подмышкой. Сморж подбодрился и опять начал хихикать и подталкивать меня локтем.
Торосы кончились, и мы вышли на ровный, гладкий лед. Теперь уже были отчетливо слышны отдельные собачьи голоса.
— Вайгач-то, Вайгач-то, — радостно проговорил Сморж. — Слышь, как рявкает? Прямо как слон. А вот эта Гусарка.
Я тоже узнал Гусаркин голос — тонкий, с надрывом. Она лает по медведю так, точно выкрикивает: Ах! ах! ах! ах!
Вот уже слышен и сиплый рев медведя. Вдруг прямо впереди в тумане показалось что-то белое, огромное, как стена.
— Айсберг! — крикнул я.
Мы подошли еще ближе. Да, действительно это был айсберг — целая ледяная гора высотой в четырехэтажный дом. Где-то здесь, у подножья этого айсберга, металась собачья стая и дико ревел невидимый медведь.
Теперь мы разошлись шагов на десять друг от друга. Шорохов посредине, Сморж и я по флангам.
Медленно и осторожно, держа наготове винтовки, мы подходили к айсбергу. Все ближе и ближе.
Вот какая-то собака бросилась было к нам, но сразу же вернулась обратно. Теперь уже смутно виден был живой клубок, мечущийся шагах в двадцати от нас.
— Стойте! — крикнул Шорохов. — Даю ракету!
Сердце мое билось так сильно, что казалось — оно колотится где-то у горла. Я стал на одно колено, чтобы вернее можно было выцелить зверя, и приложился к винтовке. «Спокойно. Спокойно!»— твердил я, чувствуя, что надо собрать все силы, чтобы не дрожали руки.
— Даю! — снова прокричал где-то сбоку Шорохов.
Хлопнул пистолетный выстрел, зашипела, помчалась в небо, набирая высоту, ракета. Сейчас, сейчас, сейчас. Кажется, все мои силы сосредоточились в глазах. Я впился, поверх винтовочного ствола, в серую кучу, которая с ревом, визгом и лаем барахталась около айсберга. Вот сейчас ракета лопнет, и я увижу все. Ну, что же она? Ну, скорей! Скорей! Что случилось?
Я на одно мгновенье взглянул в ту сторону, где был Шорохов, и увидел, как падает на снег красная головешка.
— Не загорелась! — диким голосом прокричал Шорохов.
Боже мой! Что же это случилось? Ведь у нас же теперь остается только одна ракета! Значит, надо обязательно убить медведя с одного выстрела в те пятнадцать секунд, пока ракета падает на землю. А если и эта не загорится?
— Даю последнюю!
Снова пистолетный выстрел. Загорится или не загорится? Ну! Ну! Ну! Нет, не загорится! Нет, конечно, нет!
И вдруг по снегу ударил голубой, как от горящего магния, ослепительный свет. В одно мгновенье я увидел прямо перед собой зеленоватую, отвесную стену айсберга. Черные, белые, пестрые, рыжие собаки, припадая на передние лапы и прыгая, озверело лаяли и выли от ярости, то сбиваясь в темную кучу, то разлетаясь, как стая воробьев.
А медведь? Где же медведь?
И вдруг собаки бросились в разные стороны, рассыпались, как горох, и у самой ледяной стены я увидел огромного, такого же голубого, как снег, медведя. Он прижался к стене, поводя в разные стороны маленькой оскаленной головой на длинной и гибкой шее. Правая лапа его была поднята, как у разозленной кошки, которая приготовилась драться.
Я видел все это одно мгновенье. И одно только мгновенье я подумал: «В голову? В грудь? В грудь верней», — и спустил собачку.
Медведь рванулся вперед, встал на дыбы и, как-то сразу обмякнув, грохнулся на бок. Потом он опять вскочил, побежал было на меня, но снова упал: справа ударил Манлихер Сморжа.
И страшная, непроглядная тьма накрыла лед, айсберг, собак, медведя, весь мир.
Собачий лай сразу смолк. Теперь из темноты доносилось только яростное ворчанье и повизгивание. Сзади подбежал ко мне взволнованный Шорохов, сбоку, что-то крича и громко хрустя снегом, подходил Сморж.
— Бери наган! — командовал Шорохов. — Может, добивать придется!
— Да нет, едва ли, — сказал я. — Разве вы по собакам не слышите, что готово дело?
Мы подошли к айсбергу. Собаки рвали убитого медведя за окорока, за уши, с жадностью вылизывали со льда и снега кровь. А на боку медведя сидела какая-то собака и с ворчаньем рвала лапами огромную рану.
Я бросился к собаке, чтобы согнать ее с медведя — шкуру же портит, окаянная! — и вдруг увидел, что это Моржик.
— Моржик! — закричал я. — Товарищи, ведь это Моржик! Смотрите, смотрите! Я говорил, что он медвежатник! Говорил, что нельзя его убивать! Что, не правда? Ах ты, Моржинька ты мой дорогой! Ах ты, собака, собака…
Вместо того, чтобы угостить его пинком, я принялся гладить его, ласково трепать по крутому, косматому загривку. Облизываясь и ворча, Моржик отошел от медведя и лег на снег.
Светя себе спичками, тщательно рассматривая собачьи и медвежьи следы, мы обошли айсберг со всех сторон.
Все стало нам ясно. Собаки гоняли медведя вокруг айсберга. Когда они загоняли его за айсберг, мы совершенно не слышали лая, так как айсберг был такой высоты и такой длины, как хороший, на полквартала, четырехэтажный дом. А когда выгоняли из-за айсберга, лай снова был слышен. Если выгоняли из-за ближнего к нам угла, лай, отраженный ледяной стеной, казался совсем близким, если из-за дальнего — казалось, что лают где-то далеко.
— А ведь верно, что явление природы, — изумляясь, говорил Сморж. — А уж я-то начал такое думать, что даже и сказать стыдно.
— Чего же ты начал думать?
— Мираж, думал. Как в пустыне. Я читал: вдруг какая-нибудь там деревня появляется, колокол будто начинает звонить, а ничего подобного и нет вовсе. Одна чертовщина все это — мираж, и только.
— И мираж — это тоже явление природы, — строго сказал Шорохов. — Никакой чертовщины тут нет.
Итти до зимовки было далеко, и мы поскорее собрали собак и двинулись в обратный путь. Медведя мы оставили под айсбергом, так как втроем мы не могли даже сдвинуть его, не то что дотащить до дома.
Но сладить с собаками оказалось не так-то легко. Только мы отошли от айсберга, где остался медведь, как я заметил, что две или три собаки стали отставать, а потом повернули назад и быстро побежали к айсбергу. Мы вернули собак и погнали их всей стаей перед собой.
И на какие только уловки они не пускались, чтобы как-нибудь улизнуть, вернуться назад и вдоволь полакомиться свежей медвежатиной. То одна, то другая собака, будто бы от страшной усталости, вдруг ложилась на снег отдохнуть. Но стоило нам только пройти мимо нее, как она живо вскакивала и бросалась назад. На других собак вдруг напала чесотка. Бежит, бежит собака и вдруг садится и начинает самым добросовестным образом чесаться. Чешется, чешется, работает ногой изо всех сил, а чуть осталась позади, чесотка проходит, и притворщица рысцой устремляется назад, к медвежатине. А Моржик, чтобы хоть как-нибудь отстать, даже начал прихрамывать.
«Самый настоящий медвежатник, — радовался я. — Пусть-ка теперь Борис попробует спорить. Я ему докажу».
Было уже, наверное, около девяти часов, когда мы наконец добрались до зимовки.
Прямо в шапках и шубах, заиндевелые, с сосульками на бровях, гремя замерзшими, скользкими валенками, мы ввалились в кают-компанию.
— Товарищи, требую амнистии для Моржика! — закричал я с порога. — Моржик — знаменитый медвежатник!
Но никто даже не пошевельнулся. Все чинно сидели по своим местам, наверное сговорившись не обращать на нас никакого внимания. Наумыч молча выслушал чаш рапорт об убитом медведе, исподлобья посмотрел на нас круглыми злыми глазами и быстро проговорил:
— Всем троим объявляю выговор за самовольную отлучку с территории зимовки.
Он помолчал и крикнул на кухню:
— Арсентьич! Сделай им погорячее какао и выдай по чарке водки. Это я не как начальник, а как врач приказываю, — добавил он, повернувшись к нам. — Ну, марш раздеваться, мыться и завтракать. Живо!
Мы выскочили из кают-компании, чуть не сбив с ног входившего Борю Линева.
— Борька! — закричал я, хватая его за руки. — Моржик-то! Медвежатник ведь! Как работал, ты бы посмотрел! Прямо из кожи лез! Вот тебе и овчарка!
— Врешь? — обрадовался Боря. — Неужели медвежатник? А я-то его все утро ищу. Так он, значит, там орудовал? Ну, это здорово! — Он вырвался от меня, распахнул дверь кают-компании и радостно заорал:
— Наумыч! Моржик, оказывается, медвежатник! Прошу помилования!
— А ты говорил — овец ему только караулить, — смеясь сказал Наумыч.
Моржик был помилован.
А остальных собак все-таки пришлось застрелить. Ведь не каждый день к зимовке подходят медведи.
Шторм
Январь был самым тяжелым месяцем зимовки. Это самый ветреный месяц полярной зимы.
Часто, собравшись у кого-нибудь в комнате, мы говорили о том, как изменились у нас здесь представления о плохой и хорошей погоде.
Бывало, в городе, собираясь выходить на улицу, каждый из нас прежде всего беспокоился — а не пойдет ли дождь? А не идет ли снег? Не очень ли холодно? Темная, тяжелая, дождевая туча у горизонта могла расстроить загородную прогулку, а из-за мороза можно было отложить деловую поездку с одного конца города на другой.
В городе мы боялись дождя, снега, холода.
Здесь, на зимовке, мы больше всего боялись ветра. Действительно, трудно себе представить ленинградца или москвича, который, собираясь выйти из дому, озабоченно расспрашивал бы своих домашних: «А какой силы нынче ветер? Метров десять в секунду будет?» Или: «Не знаешь, ветер еще зюд-зюд-вест, или уже повернул на другие румбы?»
Какое дело горожанину до того, каких румбов и с какой силой дует на улице ветер? Дождя бы не было.
А для нас было совершенно безразлично — идет дождь или не идет, снег ли, град ли падает с неба и какой мороз — пятнадцать или тридцать пять градусов. Главное — не было бы ветра.
В тихую погоду не страшен никакой мороз. Но даже маленький северный ветерок делает пустячный мороз почти непереносимым. А если ветер начинает дуть со скоростью в десять, двадцать, тридцать метров в секунду, со скоростью в сто с лишним километров в час?
Вы представляете себе человека, который стоит на месте, а мимо него летит океан ледяного воздуха со скоростью ста двадцати километров в час? А если человеку надо не стоять на месте, а итти?
На таком ветру человеку не удержаться на ногах. Ветер свалит его и покатит, как катит по мостовой папиросный окурок.
Этот ветер сотрясает до основания дома, он пронизывает насквозь любую одежду, он поднимает и несет целые тучи сухого снега и вколачивает, вгоняет снег в самые маленькие щелочки, в невидимые трещинки стен.
Каждый раз после такого шторма пол в кают-компании засыпан, как сахарной пудрой, мелким сухим снегом. Даже через законопаченные паклей бревенчатые стены старого дома проникал этот ветер.
____________
Весь январь, почти не утихая, бушевали штормы. Больше всех доставалось от них нам — метеорологам.
Все спокойно сидели в теплых, освещенных электричеством комнатах, прислушиваясь к реву и вою шторма, а нам, хочешь не хочешь, в любую погоду четыре раза в сутки надо было выходить из дома, итти на площадку, проводить там наблюдения, возвращаться в свою лабораторию и снова итти в радиорубку, относить радиограммы.
В один из таких штормов едва не погиб Романтиков.
В этот день после завтрака я остался в старом доме, не пошел к себе на Камчатку. Я посидел у Бори Линева, потом пошел к Соболеву, потом заглянул к Наумычу, послушал у Сморжа граммофон, сыграл с Лызловым партию в шахматы.
С самого утра барометр падал, ветер крепчал и заворачивал на юго-восток, — оттуда всегда дули штормовые ветры.
Несколько раз я заходил в кают-компанию, взлезал на стул и смотрел на ленту анемографа, висевшего в застекленном ящике на стене. С сухим щелканьем перья юго-юго-восточных румбов падали на барабан самописца, вычерчивая все более и более ломаную линию. Ветер усиливался.
К двенадцати часам анемограф стал: ветер был уже такой страшной силы, что забил снегом механизм анемографа, помещающийся в деревянной коробке на крыше дома.
Висячая лампа в кают-компании раскачивалась, словно дом наш плыл по неспокойному морю. И так же, как во время корабельной качки, позванивала посуда в буфете. Я приложил руку к бревенчатой стене. Стена дрожала. Поскрипывал потолок. Иногда налетал такой сокрушительный порыв ветра, что он ударял в стену дома совсем как морская волна — с тяжелым, все сотрясающим грохотом.
В коридоре дома я встретил радиста Рино и Костю Иваненко. Часа два назад они зачем-то приходили к Наумычу и сейчас собирались итти обратно в рубку.
От старого дома до рубки было не больше ста шагов, но, глядя на приготовления радиста и механика, можно было подумать, что они собираются в стоверстное путешествие. Они подняли капюшоны брезентовых плащей, надетых поверх меховых шуб, и старательно затянули под подбородками тесемки капюшонов. Потом, по очереди, они закутали друг друга толстыми шерстяными шарфами и надели меховые, до локтей, рукавицы.
— Ну, если погибнем, не поминай лихом, — весело крикнул мне Костя Иваненко.
— Заходите в гости — чайку попить, — хитро улыбнулся Рино.
— Нет уж, спасибо, — ответил я. — Если бы даже свежими помидорами угостили, и то не пошел бы. Пейте сами чаек.
Радист и механик ушли, а я отправился к Грише Быстрову посоветоваться насчет анемографа — нельзя ли его как-нибудь снова пустить в ход.
Но не прошло и десяти минут, как вдруг в коридоре хлопнула входная дверь, послышались громкие, возбужденные голоса и страшный топот.
Я выглянул в коридор. Два каких-то совершенно белых, залепленных снегом, обледенелых человека яростно обивали с валенок снег, отряхивались, сдирали с лиц ледяную корку, дули в красные, скрюченные руки, разматывали смерзшиеся шарфы.
Да ведь это же радист и механик!
За мной в коридор выскочил Гриша Быстров.
— Что случилось? В чем дело, товарищи?
— Невозможно, — устало сказал Костя Иваненко, вытирая посиневшей рукой мокрое от тающего льда лицо. — До рубки-то каких-нибудь сто шагов, а вот никак не дойти. Плутали, плутали где-то, едва назад добрались. Чуть было мимо дома не прошли. Тогда пиши пропало. Верный бы каюк был.
Радист шарфом обил с себя снег, этим же шарфом вытер лицо и отдуваясь проговорил:
— Ничего. Мы немножко вот только отдохнем и опять двинемся. Работать надо. В тринадцать десять меня Матшар будет слушать. Ромашников метео принесет. Ну погодушка!
— А сегодня разве не ты дежурный? — спросил меня Гриша Быстров.
— Нет, сегодня Ромашников. У нас штормы по расписанию, чтобы никому не обидно было. Прошлый раз в мою декаду на 11 баллов завернул, а сегодня вот ему достался.
Радист и механик покурили и начали опять собираться в путь, опять поднимать капюшоны, застегиваться, подпоясываться, закутываться шарфами.
— Пойдем, проводим их, — предложил Гриша. — Подождите, товарищи, мы с вами. Вчетвером-то веселей будет.
Мы быстро оделись и все вместе вышли в сени. Здесь уже стоял такой вой и рев от бушующего снаружи шторма, что я едва расслышал, как Костя Иваненко закричал во весь голос:
— По одному! Гуськом! Смотрите друг за другом!
Он распахнул дверь и шагнул в беснующуюся тьму. За ним Рино, потом Гриша, потом я.
Сразу же в лицо мне, ослепив и оглушив меня, ударил обжигающий снег. Я закрыл лицо рукавицей и, сбитый ветром, упал. Когда я снова поднялся на ноги, кругом никого уже не было. Нет, вон едва различимая во тьме, в какой-то мчащейся над землей мути, копошится темная фигура.
Изо всех сил налегая грудью на ветер, точно я по горло в воде шел против стремительного течения, я сделал несколько шагов. Темная фигура, которую я только что видел, пропала, точно растворилась в темноте. Передо мной был высокий сугроб.
Я полез на сугроб, но страшный порыв ветра опрокинул меня и сбросил вниз. Тогда я пополз, цепляясь руками и ногами за крепкий снег, на животе перевалил через гребень сугроба и скатился по ту сторону. Обледенелой рукавицей я соскоблил с лица снег и уже намерзшую корку льда. Рядом со мной тоже возился какой-то человек. Кто это? Гриша? Рино? Иваненко? Но звать было бесполезно. Даже сам я не расслышал бы своего голоса. Я подполз к человеку, повернул к себе его голову и нагнулся, всматриваясь в лицо.
— Позвольте представиться! — весело заорал мне в самое ухо незнакомый, совершенно обледенелый человек. — Григорий Александрович Быстров. Магнитолог.
Я захохотал от какой-то сумасшедшей радости и, наклонившись к самому лицу Гриши, изо всех сил прокричал:
— Очень рад. Сергей Константинович Безбородов. Метеоролог.
— Как поживаете? — тоже захохотав, снова прокричал Г риша.
— Пошел к чорту! — в тон ему прогорланил я.
Помогая друг другу, мы поднялись на ноги. Ни Рино ни Иваненко нигде не было видно.
— Рубка там! — закричал Гриша, показывая куда-то вперед.
По-моему тоже, рубка была в той стороне, и я кивнул головой.
Наклонившись, почти ложась на ветер, который, как доска, поддерживал нас, мы потащились вперед. Мы падали, сбиваемые ветром с ног, или сами ложились на снег, когда невозможно было устоять против порывов шторма, ползли, карабкались, шагали, крепко схватившись за руки.
Наконец в двух шагах от нас вдруг выплыло из тьмы и беснующегося снега мутное, желтое, освещенное окно.
Это была радиорубка. Но пройти последние десять шагов до высокого ее крыльца казалось совсем уже невозможно. И сверху, с крыши, и снизу, с земли, по лицу стегал, как раскаленный песок, мельчайший сухой снег. Он сразу забил рот, нос, залепил глаза.
Вдруг справа показались еще две белые, едва-едва передвигающие ногами фигуры.
— А-а-ай-яй-яй! — донес до нас ветер какой-то сдавленный крик.
— Поддай пару! Полный вперед! — прокричал им в ответ Г риша.
Наконец мы все четверо сошлись у крыльца. Взявшись в восемь рук за дверь, мы насилу приоткрыли ее и втиснулись в сени. Рубка дрожала и сотрясалась, звенели напильники и какие-то сверла, разбросанные на оцинкованном столе, качались лампочки, свисающие с потолка на длинных шнурах.
В полном изнеможении мы повалились на стулья и табуретки и, немного отдышавшись, стали развязывать капюшоны, разматывать шарфы.
Рино, сбросив прямо на пол брезентовый плащ и меховой полушубок, вынул из кармана большие серебряные часы.
— Час пять, — сказал он, щелкнув крышкой. — Здорово. Сто шагов шли двадцать минут.
Ровно в час десять метеорологическая сводка часовых наблюдений должна была уже лететь по радио на Маточкин Шар, а Романтиков все еще не приходил.
— Не погиб бы наш Ромаша, — сказал я. — Кой грех, еще заплутается, собьется с дороги.
— Да, — с беспокойством сказал и Гриша, — заплутаться не трудно. Что ж, подождем еще минут пять. Если не придет, пойдем на подмогу. Ты как? — спросил он меня.
— Надо бы пойти. Будем уж сегодня за скорую помощь.
Но прошло пять минут, десять минут, а Ромашникова все нс было. Мы с Гришей снова оделись, закутались и решили сначала итти на Камчатку, посмотреть, — может быть, Ромашников там, а если уж его и там нет, тогда искать его на метеорологической площадке.
Ветер смахнул нас с высокого крыльца рубки, и мы полетели куда-то вниз, под гору, барахтаясь в снегу, путаясь в подолах своих шуб, задыхаясь от стужи. Ветер дул нам в спину с такой силой, что мы без остановки, еле успевая перебирать ногами, мчались по ветру, налетая на сугробы, падая через голову и катясь по земле. Через несколько секунд все уже смешалось в ревущем мраке, и куда нас понесло ветром — понять было невозможно. Вдруг Гриша, который барахтался и кувыркался впереди меня, поднялся на ноги, как-то по-птичьи взмахнул руками и исчез. Озадаченный его исчезновением, я осторожно подполз к тому месту, где только что был Гриша Быстров. «Может, нас вынесло в бухту, и он угодил в полынью?» — со страхом подумал я и вдруг сам полетел вниз головой и больно треснулся затылком о какую-то стену. С минуту я лежал совершенно обалдевший, не понимая, что со мной и куда я попал. Ветер выл и гудел где-то уж над моей головой, а в самой яме, в которую я свалился, было тихо.
— Гриша! Гри-и-и-ша! — закричал я и прислушался.
Откуда-то издалека слабый голос едва слышно ответил:
— А-а-а!..
Я ощупал стену, пригляделся. Гладкая, белая, из аккуратных мелких досок стена. Что бы это могло быть? У нас даже, кажется, и нет таких построек. Я встал, побрел вдоль стены и столкнулся нос к носу с Гришей, который тоже брел мне навстречу.
— Лызловский павильон, — закричал Гриша, стуча кулаком по стенке.
— Как же это нас сюда занесло? — сказал я. — Ведь павильон же совсем в стороне? Если мы так и дальше будем итти, куда нас ветер гонит, так нам к Камчатке, пожалуй, и не выйти. Еще, чего доброго, в пролив занесет — ищи тогда зимовку. Пожалуй, и не найдешь.
— Надо держать под углом в двадцать семь, примерно, градусов, — серьезно сказал Гриша. — Или так градусов в тридцать, — поправился он.
— Вот ты и держи, — сказал я, — а мне, пожалуй, не удержать курса.
— Ладно, ползи за мной.
Гриша стал карабкаться на сугроб, а я за ним. Снова, едва мы выбрались из ямы, ветер подхватил и поволок нас чорт его знает куда. Может быть, Гриша и высчитывал в этой карусели градусы, но только через минуту я потерял его из виду и без всякого курса барахтался в снегу. И вдруг снова, совершенно неожиданно, земля провалилась подо мной, и, взмахнув руками, я опять полетел куда-то вниз, закрыв рукавицей лицо. Перекувырнувшись в воздухе, я со всего маху грохнулся на спину.
Медленно, с тихим стоном, я сел, потрогал голову, повертел шеей, проглотил снег, набившийся мне в рот, протер глаза. Кажется, все в порядке. И вдруг сверху на меня рухнуло что-то белое, сбило меня, придавило, придушило, втиснуло в снег.
«Медведь? Обвал?» — мелькнуло в голове. Уткнувшись носом в снег, я покорно лежал под чьей-то тушей: будь, что будет.
Туша на мне зашевелилась и медленно сползла на сторону. Я поднял голову. В упор на меня смотрели два обалдевших глаза.
— Гришка, ты? — спросил я.
— Я. А то кто же?..
Кряхтя и отдуваясь, мы сели друг против друга.
— Какой ты жесткий, — недовольно сказал Гриша. — Как на камни все равно упал. И как это я с курса сбился? Я ведь впереди шел, — как же ты раньше меня сюда попал?
— Очень жаль, — сказал я, — что ты сбился с курса. Тогда бы я на тебя падал, а так — ты на меня. Большая разница.
— Это что же такое? — не слушая меня, сказал Гриша и показал ногой на какую-то черную стену, около которой мы сидели. — Салотопка, что ли?
Я потрогал стену. Бревенчатая.
— Это баня, — сказал я. — Значит, до Камчатки теперь каких-нибудь пять шагов.
— Все-таки к бане вышли, — с удовольствием проговорил Гриша. — Курс был правильный. Немножко бы правее, и в самый бы дом уткнулись.
От бани до нового дома, до Камчатки, было действительно несколько шагов, которые мы и прошли без приключений.
Мы ввалились в коридор с таким топотом и гамом, что Вася Гуткин, насмерть перепуганный, выскочил из своей лаборатории.
— Что такое? В чем дело? Что случилось?
Ах, как хорошо было в нашем узком и полутемном коридоре! Как тихо, тепло, сухо!
В метеорологической комнате горела над столом электрическая лампа, лежали знакомые часы, таблицы, карандаши. Я посмотрел на часы: было двадцать пять минут второго.
— Где Ромашников?
— Я не знаю, где Ромашников, — испуганно сказал Вася. — А разве что случилось?
— Ты не знаешь, он пошел на наблюдения?
— Не знаю. Я работал у себя, ничего не слыхал. Вот только как вы пришли, это слыхал.
Я осмотрел стол. Наблюдательских книжечек нигде не было. Выключатель лампочки флюгера был повернут, — значит, на флюгер дан свет. Видно, Ромашников ушел на площадку и не вернулся. Уйти он мог самое позднее без пяти час. Значит, уже полчаса тому назад.
Гриша решительно тряхнул головой.
— Одевайся, Вася. Втроем пойдем. Надо искать Ромашу. Возьмем у Шорохова ракетный пистолет, будем ракеты пускать.
Вася засуетился, забегал, стал срывать с вешалки в коридоре полушубок, резиновую рубаху, плащ.
— Сейчас, сейчас! Ах ты, беда какая. Замерзнет Ромаша. Обязательно замерзнет. Он квёлый. Он как суслик какой — ляжет где-нибудь, заснет — и каюк. Сейчас, вот я только рукавицы возьму..
Но тут входная дверь с грохотом распахнулась, и в коридор из сеней ввалился белый, как снеговая кукла, человек. Он в полном изнеможении прислонился к стене, из рук его один за другим выпали на пол карандаши и какие-то смерзшиеся книжечки.
— Ромаша!
Мы бросились к нему, провели в красный уголок, усадили на диван.
Ромашников долго молчал, ничего нс отвечая на наши расспросы, и сидел совершенно неподвижно, словно после глубокого обморока. Потом он снял смерзшиеся варежки и синими от стужи руками стал развязывать длинные уши зырянской шапки.
Оказывается, он действительно заплутался, вышел к ангару, от ангара его занесло к старому дому, а от старого дома он уже сам решил итти прямо на Камчатку. Так до рубки он и не дошел.
Это был единственный случай, когда метеорологическая телеграмма не ушла на Большую Землю.
— Глупистика какая-то, — сказал Вася, выслушав рассказ Ромашникова. — Почему у нас нет на зимовке телефона? Ходи, бегай, ищи. Не то он дома, не то на площадке. А погоды такие, что не очень расходишься. Был бы телефон, снял трубку — и готово дело.
Гриша Быстров сорвался с места, замахал руками.
— Проведу телефон! Сделаю! Обязательно сделаю! Это же очень просто. Эх, да как еще сделаю-то: у каждого абонента будет своя станция. Вроде АТС. Кого захотел, того и вызывай!
Он пробежался по комнате, сел на стул, вскочил, пересел на диван, снова вскочил, подбежал к столу и начал что-то искать глазами.
— Чего ты, чего ты? — испуганно сказал Вася. — Пожалуйста, ничего не хватай. Нет тут ничего. Как же это ты его проведешь? А аппараты где?
Гриша даже начал грызть ногти от волнения.
— Есть аппараты! В том-то и дело, что есть! У аэрологов есть. Они с собой штук десять привезли. Как это я, дурак, раньше не догадался провести телефон, просто не понимаю! Знаешь, как сделаю?
Он бросился к столу, схватил бумагу, карандаш и стал чертить какие-то схемы, размахивая карандашом и громко крича:
— Замкнутая цепь! Последовательное соединение! Контакт!
____________
Сначала никто не поверил в Гришину затею. Но когда, дня через два, Гриша поставил у себя в комнате коробку полевого телефона и стал тянуть по коридору какие-то проволочки, когда Костя Иваненко рассказал, что такой же, как и у Гриши, телефон уже установлен и в рубке, все заволновались.
— А ведь, чего доброго, проведет!
И потянулись к Грише просители — поставь мне телефон, поставь мне.
— В первую очередь, — важно отвечал Гриша, — будут телефонизированы правительственные учреждения и научные организации. Если останутся аппараты, будут удовлетворены и частные граждане.
Еще через день появился телефон и у нас на Камчатке. Он был поставлен в красном уголке и еще не работал, но все мы, камчадалы, ходили его смотреть, вертели ручку, снимали трубку, — а вдруг чего-нибудь услышишь, — мечтали, как мы будем жить с телефоном.
— Прямо как в Ленинграде!
И вот однажды у нас на Камчатке раздался вдруг какой-то звонок. Словно где-то зазвонил и смолк будильник. Потом звонок раздался опять. Еще раз. Еще.
Я сидел в своей комнате и сначала не обратил на звонок никакого внимания. Потом я стал прислушиваться — и вдруг вскочил и бросился в коридор. А уж из своей комнаты выбежал Вася Гуткин, выглянул из-за двери Ромашников. Я ворвался в красный уголок, дрожащей рукой схватил трубку и неожиданно каким-то петушиным голосом сказал:
— Алло! Алло!
Телефон был полевой, военного образца, и при разговоре, чтобы тебя услыхали, надо было нажимать на трубке резиновый клапан. От волнения я клапан нажать, конечно, забыл.
— Алло, — уже упавшим голосом опять сказал я. И вдруг из трубки раздался чей-то раздосадованный голос:
— Эй, кто там? Нажмите клапан, пожалуйста!
Я нажал и еще раз повторил:
— Алло. Я слушаю.
— Камчатка?
— Она самая.
— Что же вы не отвечаете? Звонишь, звонишь..
— Мы отвечаем. Это Гриша?
— Да, Гриша. Ваш телефон включен в линию и вступил в эксплоатацию. Запомните, ваш номер 3. Сегодня будет вам прислан список абонентов телефонной сети. Не забывайте при разговоре нажимать клапан. До свиданья.
— Ну? — навалился на меня Вася. — Слыхал? Чего он тебе говорил?
Подошел, дымя папироской, Ромашников.
— Теперь метео будем по телефону в рубку передавать, — сказал он. — Экономия времени-то какая?! Дайте-ка я позвоню куда-нибудь.
На стене около телефона Гриша вскоре пристроил эбонитовую дощечку с медными кнопочками, на которых были написаны номера. По дощечке ходил медный рычажок. Чтобы вызвать какой-нибудь номер, надо было поставить рычажок на кнопку с этим номером и вертеть ручку.
Рядом Гриша повесил список абонентов.
СПИСОК АБОНЕНТОВ
Государственной телефонной сети на острове Гукера
Земли Франца-Иосифа
№ 1 Квартира начальника зимовки.
№ 2 Кают-компания.
№ 3 Камчатка.
№ 4 Радиостанция.
№ 5 Авиационный ангар.
№ 6 Радиоволновая лаборатория.
№ 7 Квартира директора телефонной сети.
Директор телефонной сети: Г. Быстров.Как видно, для удовлетворения нужд частных граждан аппаратов у телефонной дирекции не хватило.
С телефоном жить стало совсем хорошо. Каждый день, когда приближался обеденный час, кто-нибудь из камчадалов шел в красный уголок и вызывал № 2 — кают-компанию.
— Это кто? Желтобрюх? Ну, как с обедом? Еще рано? Слушай, Желтик, позвони, пожалуйста, когда готово будет. Ладно?
Или вдруг раздавался звонок.
— Камчатка? Передайте такому-то, что его вызывает к себе начальник. Живо.
Или звонил Костя Иваненко.
— Скажите метеорологам, что опять забыли свет на флюгере потушить. Если еще раз замечу, всю линию выключу..
А то попросту мы вызывали друг друга, и начинался бесконечный, как будто ленинградский разговор:
— Ты чего сегодня делаешь вечером?
— Да вот, хочу в кино сходить.
— Брось, пойдем в театр лучше. У меня два билета на «Евгения Онегина» есть. Садись на 15-й автобус, доедешь до Невского, тут на углу как раз кафе, я тебя там подожду.
— А чего мы в кафе закажем?
— Салат из помидоров.
— В кафе помидорами не торгуют. Лучше закажем землянику со сливками, яичницу из десяти штук, простокваши по три стакана…
— Творожники со сметаной и цветную капусту.
— Да не торгуют же в кафе ни помидорами ни капустой! Что ты, в самом деле!
— Ну, тогда пойдем в ресторан., не хочу я твоей простокваши. Я хочу помидоров, рассольник из куриных потрохов, цветную капусту в сухарях, арбуз, миноги с уксусом, творожники и копченого сига…
У каждого из нас были любимые блюда, о которых с каждым месяцем зимовки мы мечтали все с большей и большей страстью.
Один мечтал о сосисках и кружке доброго пива, другой об яичнице, третий просто о стакане холодного сырого молока, четвертый о свежих огурцах.
Ничего этого у нас не было. А то, что было, уже начало как-то надоедать нам, хотя и повар и каждый из нас всячески изощрялся, придумывая новые и новые блюда. Но всё они получались какие-то недоделанные: в рассольнике не хватало птичьих потрохов, к пельменям недоставало сметаны, к отварной треске — яиц.
И вот однажды Боря Линев посадил в ящике зеленый лук. То есть посадил-то он обыкновенные луковицы, но надеялся вырастить из них настоящий зеленый лук.
С невероятным трудом он набрал где-то земли, смешал ее с толченым древесным углем, прибавил, по совету Сморжа, зубного порошка и посадил в эту смесь луковицы.
Вся зимовка следила за Бориным луком. Я выпросил у него одну луковицу, самую крайнюю в ящике, с которой мне было разрешено, если лук вырастет, снять урожай.
Боря поставил ящик у себя в комнате, каждый день поливал лук и даже вымолил у Наумыча синюю лампу с никелированным рефлектором, чтобы освещать свой лук «для роста» синим светом.
Кто-то сказал Боре, что без солнца лук вырастет не зеленый, а белый, и это очень огорчило Борю.
— Какой же это зеленый лук — и вдруг белый? — с обидой в голосе говорил он. — Я его лучше тогда своими собственными руками свиньям скормлю.
Лук рос очень медленно. Сначала луковицы треснули, раздались. Потом из них полезли крепкие ростки. Ростки были совершенно белые, но мы успокаивали Борю, что они потом зазеленеют, что это они просто так, еще очень молодые.
И действительно, как только молодые ростки вытянулись, они зазеленели.
День, когда с Бориной плантации мы сняли первый урожай, был настоящим праздником на всей зимовке. В моем дневнике сохранилась такая запись:
13 марта, вторник.
Сегодня у Бори Линева был пир: он угощал всех зеленым луком. Надо взять ломоть свежего черного хлеба, густо посолить его, нарезать меленько лук и луком посыпать хлеб. Получается очень, очень вкусно. Я съел два куска.
____________
Так проходила полярная ночь.
Часто после обеда мы засиживались в кают-компании до самого ужина за бесконечными спорами и рассказами.
Спорили мы о самых разных вещах: о том, как разводятся шампиньоны, сколько лет может прожить морской угорь, есть ли еще на земле никому неизвестные животные, отчего покончил с собой Джек Лондон и какой мост самый длинный во всем мире.
Спорили ожесточенно, иногда по нескольку дней. Никаких словарей, кроме первых 18 томов Большой советской энциклопедии, в нашей библиотеке не было, и часто мы не могли разрешить даже самый пустяковый спор.
Иногда дело доходило до того, что спорщики готовы были посылать на Большую Землю радио с просьбой, например, сообщить, отчего умер Цицерон, и правда ли, что летаргический сон может продолжаться десять лет, и видит ли летаргик какие-нибудь сны.
Больше всего мы, конечно, любили слушать рассказы. Много разных историй рассказывал Наумыч о своем детстве, о рабфаке, о студенческих годах, об интересных и редких операциях.
Но самым замечательным рассказчиком был наш механик Серафим Иванович Редкозубов.
Из его рассказов можно было бы составить целую книгу, вроде «Тысячи и одной ночи». Да что «Тысяча и одна ночь»! Таких небылиц, как те, о которых порассказал нам Серафим Иванович, не найдешь ни в одной сказке.
Я записал только несколько историй, героем которых был Серафим Иванович Редкозубов.
Вот эти истории.
Первый рассказ Серафима Ивановича Редкозубова
Смотрю я на ваши медвежьи охоты, — суеты сколько, крику, пальбы! А в медведя и стрелять-то нечего — в него и слепой попадет. Я, вот было время, на пятьдесят шагов все пять пуль из винтовки в червонного туза одну в одну укладывал. Вот это — да! Думаю, и сейчас бы не промазал, только после одной истории зарок дал — не стрелять в цель никогда в жизни.
А такая была история. Жил я тогда в Москве. И был у меня приятель, некий Жоржик Копытов. Он служил инкассатором в Электротоке. Поехали мы с ним как-то в выходной день на бега. Знаете, в Москве, у Петровского парка?
Посмотрели на бега, поиграли в тотализатор, и идем уж домой, вдруг видим — стенд.
Это такое специальное место, где любители стреляют из ружей по движущейся цели. По голубям или по тарелочкам. Голубей прямо из клеток выпускают, а для тарелочек сделана специальная машинка. Закладывают в нее маленькую такую тарелочку — щелк! — и тарелочка летит в воздух, а стрелок должен в нее попасть. Попал — тарелочка в куски.
Подошли мы к стенду, посмотрели, как стреляют. Прямо стыд. Мазилы все — из десяти только один попадает.
Жоржик и говорит:
— Давай, — говорит, — Серафим, постреляем.
— Давай, — говорю.
А Жоржик тоже, надо сказать, ничего себе стрелял. Взяли мы ружья. Щелк! Вылетает тарелочка. Я ее бац! — в куски. Вылетает другая. Жоржик ее чик! — в песок. Третья, четвертая, десятая, — все вдребезги.
— Давай, — говорит Жоржик, — до первого промаха. Посмотрим, кто мазилой окажется.
— Ладно.
Стреляли мы, стреляли. Народ кругом собрался, удивляются на нас. Потом заведующий подходит и говорит:
— Простите, говорит, пожалуйста: какая оказия случилась! Тарелочек-то больше нет. Все вы перебили.
— Ну, ладно, — говорим. — На сегодня довольно. Завтра запасите побольше, мы доигрывать придем.
— Хорошо, — говорит, — запасу побольше.
Заплатили мы что-то тогда рублей двенадцать и поехали домой.
На другой день приезжаем опять. А заведующий уж ждет, специальную машинку для нас выделил и человека приставил. Начали стрелять. Я хорошо бью, а Жоржик, чего-то с ним случилось, еще лучше. Стреляли, стреляли, я и говорю:
— Стоп, сосчитайте-ка, сколько с нас?
Сосчитали.
— Сорок два с чем-то, — говорят.
Отошли мы в сторонку, пересчитали свои деньги, видим — едва-едва на трамвай остается. Заплатили, разъехались по домам.
На третий день взяли денег побольше и снова на стенд.
Только тут вышла осечка. На пятом же выстреле Жоржик промазал.
— Зх ты, мазила! — говорю. — Стрелять не умеешь, а лезешь.
А Жоржик уже в азарт вошел.
— Давай, — говорит, — снова! Вторую партию! Это я, — говорит, — случайно промазал, ты мне, — говорит, — под руку сказал. Я тебе покажу, — говорит, — как надо по тарелочкам стрелять!
Ну, я, конечно, смеюсь.
— Ладно, — говорю, — давай. Только за выстрелы ты будешь платить. Ладно? А то я безработный, у меня денег нет.
— Хорошо, хорошо, — говорит Жоржик, — заплачу.
Вторую партию мы что-то дней двенадцать расстреливали.
Мне-то что? — я безработный тогда был, мне с утра на биржу труда сходить, отметиться, — всего и делов-то. А у него работа. Ему надо по этажам лазить, счетчики проверять.
Ну, он уж потом и работу забросил. Две-три квартиры обежит — и на стенд.
И вот, представьте себе, на двенадцатый день я даю промах. До сих пор не могу понять, что это такое со мной случилось? Только выстрелил я, гляжу, а тарелочка летит, как ни в чем не бывало, целехонькая.
— Ну что? — кричит Жоржик. — Кто теперь мазила? Видали, — кричит, — стрелка!
А уж народ каждый день ходил на нашу стрельбу смотреть. Одни за меня держат, другие за Жоржика.
Обидно мне стало. Теперь уж я говорю:
— Давай контру. Решающую.
И опять все началось с начала.
Вот я раз приезжаю на стенд. Жду, жду — нет моего приятеля. Потом, смотрю, идет. Подходит он и манит меня пальцем в сторону. А уж кругом народ шумит, заведующий всех гостей бросил, суетится, ружья нам заряжает.
Жоржик и говорит:
— Серафим, — говорит, — все кончено.
— Как это кончено? — говорю. — Ничего не кончено. Ведь решающую играем?
— Нет, кончено, — говорит, — я погиб. У меня растрата. Я три тысячи восемьсот рублей казенных денег на эти тарелки просадил. Ты, — говорит, — что же думал, что я на свои сиротские восемьдесят шесть рублей играю? Нет, говорит, Серафим, мои-то я еще в первую партию все проставил. А это, говорит, все были казенные, за бытовую нагрузку с населения получал и сюда носил, — будь они прокляты, эти тарелки!
Ну, мне неудобно стало, я говорю собравшемуся народу:
— Сегодня ничего не будет. Мой товарищ чего-то заболел.
Все нехотя разошлись, а мы поехали домой.
— Что же теперь делать? — говорит Жоржик. — Надо доставать где-то эти деньги, а то мне Соловки.
— Ладно, — говорю я, — что-нибудь придумаю.
И придумал.
Взял я Жоржика, посадил в автобус и поехал с ним в Фили. Там у меня огородник знакомый жил, у которого была лошадь и плуг. Сговорились мы с огородником, что он нам на три дня даст напрокат и лошадь и плуг. Взяли лошадь, пристроили ей на спину плуг и окольной дорогой, окраинами, пробираемся на стенд. По дороге в скобяной лавке на последние деньги купили крупное решето.
Вот приходим мы на стенд — и прямо к заведующему. А лошадь с плугом и решето в кустах спрятали.
— Так и так, — говорим заведующему, — разрешите нам распахать вашу стрелковую площадку.
Заведующий, конечно, удивился.
— Что вы? — говорит. — Зачем?
— А очень просто, — я говорю, — мы с приятелем еще долго играть будем, это мы только перерыв сделали. Земля у вас твердая, промахнешься в тарелочку, а она все равно о землю разбивается. А вы за бой с нас деньги берете. Нам так невыгодно. Вот мы распашем, тарелочки тогда биться и не будут.
— Хорошо, — говорит, — пашите на здоровье. Только вы ведь и промахнулись-то всего в две тарелочки, а набили, поди, тысяч шесть штук. Ну, да дело ваше.
Вывели мы из кустов лошадь и принялись за работу. Я-то поздоровее буду, я — пашу, а Жоржик другим делом занялся. Жоржик землю сеет.
Сколько уж лет в этом месте стенд был, дроби там в земле, по моим расчетам, не меньше пятнадцати пудов должно было быть.
Вот Жоржик через решето землю и просеивает. Земля комками в решете остается, а дробь просеивается.
Как я думал, так оно и вышло. За три дня я напахал, а Жоржик насеял четырнадцать пудов дроби. Продали мы эту дробь в охотничий союз по 20 рублей кило и выручили четыре с половиной тысячи рублей. Заплатили огороднику за лошадь и за плуг. Жоржик покрыл растрату, да еще нам рублей по триста осталось.
Вот с тех-то пор я больше и не стреляю в цель.
Второй рассказ Серафима Ивановича Редкозубова
Все вы, наверное, видали у меня рюмочки. Интересные рюмочки. Дареные. Генерала Лечицкого подарок. Как говорится, сувенир на память.
Вот, извольте видеть, рюмочки. А вот я вывинтил ножку у одной, у другой, положил их сюда внутрь и свинтил. Получилось, видите, яичко. Яичко положил в карман. Пожалуйста. Удобно. Небьющееся. Всегда под рукой.
Да-а. Попито из них всего. И ликеров, и бенедиктинов, и шампанского, и просто так, водки.
Вы, наверное, слыхали такого: генерал Лечицкий? Известный герой империалистической войны. Он русским экспедиционным корпусом во Франции командовал. Так вот я у него шофером служил. Три машины у него было. Берлие дорожный, трехцилиндровый. Игрушка, а не машина. Потом Кадилляк. Крытый лимузин, синей кожей обит. И Ситроен в пятьдесят сил. Самая быстроходная машина во всей Франции. У Жоффра, у французского главнокомандующего, почти такой же был, только разве ему за нашим угнаться?
Да. Чудак был генерал. И, между тем, любил выпить. Едем мы с ним, как-то ночью, под Верденом.
— А что, — говорит, — Сима, — он меня просто так, Симой звал, — не выпить ли нам? — говорит.
— Хорошо бы, — говорю, — выпить, ваше высокопревосходительство.
Вынимает он бутылку. Чистый спирт. Налил себе вот эту самую рюмочку, отпил. Наливает мне.
— На-ка, — говорит, — выпей.
— Да что же, — говорю, — тут пить-то? Пить-то нечего, ваше высокопревосходительство. Мне бы, говорю, стаканчик.
А у меня под сиденьем всегда стакан был. Алюминиевый, французский. В него наших полтора свободно войдет. Вот я и вынимаю этот стакан. Он налил. Я, конечно, хлоп, и хоть бы что.
— Ну, молодец, — говорит, — Сима. Дарю тебе на память эти рюмочки.
Я два года с этим генералом по всем французским фронтам разъезжал.
Потом произошла в России революция, нас, конечно, весь корпус, интернировали. Заперли нас в концентрационный лагерь. Ля-Куртин назывался. Может, слыхали? Известный лагерь. Деревянные бараки, а кругом колючая проволока в три ряда, и часовые в красных штанах расхаживают.
Сидим мы. Пьем себе желудевый кофий, галеты жуем, в подкидного дурака на сигареты играем. И вдруг нас опять на фронт.
— Н-е-е-т, — говорим. — Повоевали. Кончено.
— Ах, так? — говорят. — Вы что же — в большевики записались?
Вот тогда-то и произошел знаменитый расстрел в лагере Ля-Куртин. Сперва из пушек по нас били, потом из пулеметов. Бараки, конечно, горят, барахлишко наше погибает, а мы хоть бы что, красные флаги выкинули и распеваем «Варшавянку».
А потом пехота цепью на нас пошла.
Да, много народу положили там, а тех, кто уцелел, посадили на пароход, загнали в трюм, закрыли люки и повезли.
— Куда, — говорим, — везете-то?
— В Одессу, — говорят. — Домой. Ну вас совсем.
Плывем, плывем. В трюме, конечно, темно, ничего не видно, куда плывем, но я сразу думаю — не туда заворачиваем. Что-то не похоже, чтоб домой. И жарко стало. Голые валяемся. Дышать — ну совершенно нечем.
Приплыли. Слышим — отдают якорь. Выводят нас на палубу.
Смотрю — нет, это не Одесса. Что-то не похоже на Одессу. Негры какие-то на лодках плавают, на берегу пальмы качаются. Домишки какие-то без окон.
— Что — Африка, что ли? — спрашиваю.
— Африка, — Говорят.
Спустили нас на берег, под конвоем провели через город, приводят опять в бараки. Бараки как бараки — стены дощатые, крыши черепичные, кругом проволока в три ряда, и часовые расхаживают. Только часовые не в красных штанах, а в белых трусиках и в пробковых шлемах от солнца.
Записали нас в иностранный легион. Кого в пехоту, кого в саперы, а про меня знали, что я корпусного генерала возил, — меня зачислили в броневую роту.
И отправили всех нас воевать. Тут уж хочешь не хочешь — пришлось слушаться.
Целый год воевал я в Африке. Каких-то арабов мы усмиряли, негров каких-то. Но война совсем не та. Нет, совсем другая война. День и ночь жарища шестьдесят градусов, а тут еще в броневике сиди. Голышом, конечно, воевали. Сам весь голый, а на голове пробковый шлем.
В Африке, дело известное, — одни пески. Пыль. Машина вязнет, мотор перегревается. А негры эти самые на лошадях, на верблюдах скачут по пескам — хоть бы что. Мы в них из пулеметов, из мелкокалиберных пушек, а они в нас — стрелами. Да ведь как метко бьют! И все стрелы отравлены ядом «кураре». Хоть в палец тебе стрела попадет — кончено. У меня на броневике так механика убили. Вот в это место, около уха, царапнуло его. Так что вы думаете? — Через двадцать секунд раздуло его, черный весь стал и сразу же умер.
Повоевал я, повоевал, нет, думаю, что-то не то. И задумал бежать.
Вот раз ночью вышел я из барака, — а нас уж свободно выпускали — иди, пожалуйста, все равно никуда не денешься. Вышел я и так, сторонкой, слободками, на пристань. На рейде пароходы стоят, мальчишки с лодок крабов всяких и медуз с фонарями ловят. Смотрю — один пароход вроде пары разводит. Дым из труб бежит, на палубе суета, слышно — якорь выбирать стали.
Разделся я, одежу в узелок, узелок вот сюда на загривок привязал, сошел к воде и поплыл. А плаваю я, надо вам заметить, прямо как рыба.
Плыву тихо, саженками. Подплываю к пароходу — «за что бы уцепиться?» — думаю. Плаваю кругом, плаваю. Нет, прямо не за что ухватиться. Заплыл под корму, смотрю — руль. Знаете у океанских пароходов рули — они над водой аршина на два торчат.
Забрался я на руль, уселся верхом и держусь руками. Холодно голышом на железе сидеть, жестко…
Вдруг заработал винт, закипела вода, забурлила, обдает меня прямо с головы до ног. А тут еще руль поворачивается и я вмecтe с ним — еле ногу успел убрать, так и раздавило бы в лепешку.
Вижу — поплыли. Ход набираем. А я прямо как в котле сижу, заливает меня, захлестывает, клокочет вода. Ведь винт под ногами, а машина-то, поди, тысяч на шесть индикаторных сил! Подумать только!
Плывем. Ночь холодная, пасмурная, а я мокрый весь, как мышь, голышом на железе сижу. И рулевой, — пьяный, что ли, он, подлец, был? — то туда, то сюда ворочает, прямо даже голова у меня начинает кружиться. Но ничего, держусь. Вот, наконец, и день наступил. Осмотрелся я по сторонам, а берегов уж не видно. Открытым морем идем. Средиземным. Есть мне хочется, пить — прямо умираю. И не спал, конечно, всю ночь. Но, ничего не поделаешь, — сижу.
Так, наверное, к полудню погода разведрилась, солнышко выглянуло, и начала в море рыба играть. Дельфины разные скачут, плотва в воздухе кувыркается. Даже интересно смотреть. Смотрел я, смотрел, рассолодел от солнца и, представьте себе, задремал.
Задремал и на полном ходу свалился с руля. Как швырнуло меня волной, как закрутило, как оглушило, глотаю морскую воду, тону. Кое-как вынырнул я, а пароход идет себе своей дорогой и уже метров на сто от меня отплыл. Ну, я, конечно, сейчас кролем как заработал, догнал пароход, а попасть на руль никак не могу. От винта такая волна идет, что прямо как щепу меня швыряет. Еле-еле изловчился я, заплыл сбоку, вскарабкался назад, на руль.
Нет, думаю, спать нельзя!
Вцепился обеими руками, держусь изо всех сил. Так еще один день прошел и еще одна ночь. Этой ночью мы Гибралтарским проливом проплывали. Мне из-под кормы все очень хорошо видно было — и форты и сторожевые башни. Проплыли проливом и вышли в океан.
Ну, тут совсем дело дрянь стало. Волна пошла, акулы кругом шныряют, а мне даже прикрикнуть на них нельзя — услышат меня с корабля.
Так шесть суток и плыли мы без захода в порты. На что я здоровый человек, и то уж начал из сил выбиваться — ведь шесть суток на руле, без сна, без питья, без еды! Это не шутка.
Наконец входим в какую-то гавань, бросили якорь. Я с руля — в воду и плыву себе к берегу, будто местный житель, купаюсь.
Доплыл, развязал свой узелок, оделся в сторонке и спрашиваю, будто мимоходом, у одного мужчины: что, мол, за город такой?
— Марсель, — говорит.
— Ага, Марсель. А где тут, — говорю, — скажите, пожалуйста, советское консульство?
— А вон, — говорит, — белый дом на углу с балконами. Это консульство и есть.
Пришел я к консулу, рассказал ему все. Ну, консул, конечно, не поверил. Тогда я говорю: «У вас моторный катер есть?» — «Есть», говорит. Сели мы на катер и к тому пароходу. Подплываем и прямо под корму.
— Видите? — говорю я консулу и показываю на руль. А руль весь в крови.
— А это видите? — говорю, и руки ему свои протянул. А руки у меня прямо до кости железом за шесть суток разъело.
Тут консул:
— Простите меня, Серафим Иванович, — говорит. — Едемте обратно.
Дали мне денег, паспорт, билет купили до Ленинграда и отправили в Россию.
А при чем тут "рюмочки"? — спрашиваете. Да рюмочки, и верно, вроде ни при чем.
Третий рассказ Серафима Ивановича Редкозубова
Это что, это все ерунда. Вот Леонид Иваныч Соболев все жалуется, что резина у него на шарах лопается. Разве это резина?
У меня была одна история с резиной, я вам расскажу. Вот это история!
А так было дело.
Жила в Петербурге, — это еще дело до революции все происходило, я еще тогда молодой был, отчаянный, — жила, значит, в Петербурге одна княгиня. Шилохвостова по фамилии. Темная богачка.
И что интересно — ни один шофер у нее больше двух дней не служил. Наймет человека, а через два дня в шею гонит. Что? Почему? — Никто понять не может.
Вот однажды приезжает ко мне ее управитель, такой старичок, на морскую свинку похож — мордочка розовая, блестит, а сам весь беленький, седенький. Приезжает и говорит:
— Не пойдете ли, Серафим Иваныч, к их сиятельству шофером служить?
А мне что, я парень был отчаянный, почему не попробовать?
— Отчего же, — говорю, — извольте.
Договорились мы со свинкой, и лег я пораньше спать.
Прихожу утром в гараж, осматриваю машину. Ничего машина, «Пирс-Арроу» марки. Заправился, сижу, газету читаю. Вдруг прибегает лакей.
— Подавай, — говорит, — барыня в ресторан едут.
Подал я к парадному, гляжу — выходит. Молодая, красивая, на руках перстни, на плечах лиса какая-то заграничная наброшена, шляпка с птицей-колибри, вуалька.
— Виллу Родэ знаете?
— Знаю, ваше сиятельство, в Новой Деревне.
— Поехали, — говорит.
Хорошо, поехали. А жила она на Загородном. Туда, к Детско-сельскому вокзалу. Я думаю — сейчас по Владимирскому на Невский выедем, а там прямо по Садовой и через Троицкий мост.
Едем. И попадается мне, знаете, такой канализационный люк на мостовой. Круглый такой чугунный блин лежит. Я, конечно, ничего не подозреваю, еду себе. Только стукнул люк под колесами, княгиня мне и говорит:
— Стоп.
Открывает она дверцу и выходит на панель.
— Ну, езжайте, — говорит, — домой, в гараж. Вы больше у меня не служите. А я на трамвае доеду.
Тут я сразу все и понял.
— Простите, — говорю, — ваше сиятельство! Больше этого не будет.
— Чего, — говорит, — не будет? Ничего вы не понимаете.
— Нет, — говорю, — извините, все понимаю отлично. Извольте, — говорю, — сесть в машину и убедиться, что я все отлично понимаю и что больше этого не будет.
Взглянула она на меня, пожала плечиками, лезет обратно в машину.
— Посмотрим, — говорит.
Поехали дальше. Я уж, конечно, сразу сообразил, что у княгини моей блажь такая: не выносит, когда чугун под колесами стучит.
Объезжаю каждый люк, прямо словно околоточного надзирателя какого-нибудь, только и смотрю — не задеть бы как-нибудь. Приехали в Виллу Родэ, вылезает княгиня из машины и говорит мне:
— Молодец, что догадался. Вы, — говорит, — первый умный шофер во всем Петербурге. Будете у меня служить.
Стал служить. Служба хорошая, легкая. Все знакомые ребята прямо головы сломали — ничего понять не могут. Как это Редкозубов удержался? В чем штука? А я посмеиваюсь и живу в свое удовольствие. Два костюма себе справил — один серый, другой синеватый, с зеленой искрой.
Так прослужил что-то года полтора.
И вот как-то весной княгиня мне и говорит:
— Приготовьте к завтрему машину. Осмотрите хорошенько, горючего побольше возьмите. Далеко поедем.
— Осмелюсь спросить — куда, все-таки? — говорю.
— А в Париж, — говорит.
— В Париж? Вот оно что.
В Париж, признаться, я еще ни разу не ездил. Вот это штука, думаю. Как же это туда ехать? Через какую заставу? Прикинул, сообразил, нет, не пойму даже, в какую сторону ехать надо. Если через Московскую заставу — так это в Валдай, в Тверь, а вовсе не в Париж попадешь. Через Нарвскую если взять — в Финляндию выедешь. Опять не то. Как бы, думаю, не сбиться, вот история будет. Это дело посерьезнее, чем с люками.
Ну, ничего, утром, к десяти часам подаю. Оделся получше — серый свой костюм надел, перчатки замшевые, кепку с ушами, положил две смены белья, носков три пары, полотенце.
Выходит моя княгиня с чемоданчиком, села, поправила шляпку и говорит, будто это мы в Гостиный двор за шпильками собрались:
— В Париж, — говорит.
А я, не будь дурак, поворачиваюсь этак через плечо и спрашиваю:
— Как прикажете ехать? Разные дороги есть.
Подумала она и говорит:
— Ну, поезжайте через Ревель.
— Слушаюсь, — говорю.
И как это я сам не догадался, что через Ревель ведь можно ехать? В Ревель-то я дорогу знаю — через Выборгскую сторону.
Поехали. Ехали, ехали, приезжаем в Ревель и прямо в самую лучшую гостиницу. Отдохнули, переспали ночь и утром дальше через Германию.
Ну, только въехали в Германию, тут совсем просто ехать стало. На каждом перекрестке стоит такой полосатый столб, на нем стрела нарисована и надпись «В Париж».
Ехать нам через Берлин. Вот добрались мы до Берлина, отдохнули, конечно, я немножко починился, выезжаем дальше. Только отъехали от гостиницы, останавливает меня полицейский. Подходит ко мне и говорит:
— Покажите, пожалуйста, ваши шоферские права.
Я достаю книжку свою, подаю ему:
— Пожалуйста.
Посмотрел он, ухмыльнулся и головой крутит:
— Вы, — говорит, — не в России, молодой человек, а в Германии. Предъявите, пожалуйста, международные шоферские права. Есть у вас?
Я молчу.
— Ну, что же, есть или нет?
— Вот что, — говорю я, — права-то у меня, конечно, есть, только вот ведь какая досада, — я их на квартире в Петербурге забыл.
— Тогда слезайте.
А моя княгиня уже перчатки от досады рвет. Неудобно — народ сбежался, глядят, смеются.
— Зачем же мне слезать? — говорю я. — Вызывайте лучше вашего инспектора, я ему в два счета на международного шофера экзамен сдам. Все эти сигналы, правила все эти ваши у меня в зубах настряли. Только, — говорю, — не задерживайте нас — нам еще в Париж надо.
Хорошо. Полицейский подошел к столбу, а в столбе у него телефон. Позвонил он кому-то, сказал чего-то, и через пять минут подлетает к нам красный, как у петербургского брандмайора, мерседес. Ничего машина, только тяжеловата. Против нашего пирс-арроу, конечно, никуда. В машине их инспектор сидит. Посмотрел он на меня:
— Вот что, милый, поезжай к Бранденбургским воротам, — говорит, — и без сигналов. Посмотрим, как ты ездишь.
А мне бы только с места тронуться — очень уж неудобно посреди улицы стоять. Прямо скандал. Да и княгиня моя, вижу, совсем разволновалась.
Поехал я впереди, а мерседес сзади на полкорпуса идет. А где у них эти самые ворота — я и понятия не имею. Мне бы только на Парижское шоссе вырваться. Я туда и гну. Оглянусь, вижу — инспектор мне руками машет — не туда, мол, едешь! А я все крою и крою. Выскочил на какую-то улицу — прямая, широкая, вроде нашего Каменноостровского, и вижу — на столбе опять табличка: «В Париж».
Ага, думаю, теперь держись. Дал я газку, взвыл мой пирс-арроу и сразу как рванет, ну, куда там инспектору на его пожарном рыдване за нами угнаться!
Оглянулся я опять, вижу — инспектор даже с места вскочил, из себя выходит, шапку с него ветром сорвало. А я поставил на третью скорость — только нас в Берлине и видали.
Моя княгиня смеется.
— Ну, — говорит, — молодец, Серафим Иваныч. А я уж бояться стала, думала — завернут нас назад.
— Помилуйте, — говорю, — разве вы меня не знаете?.
Приехали в Париж, жили мы здесь долго — полтора месяца. По выставкам по разным ходили, на лодках катались, на Эйфелеву башню, конечно, слазили. Княгиня меня везде с собой водит. Я так на два шага сзади и хожу за ней. Куда она, туда и я.
Пожили мы, пожили и поехали назад. Конечно, уж через Берлин не едем, нас там знают. Объехали Берлин стороной и прямо в Ригу. А у княгини в Риге тетка жила. Мы тут должны были дней пять погостить.
Приехали, значит, в Ригу, и вижу я — надо шины менять, оба ската. Сказал я княгине, выдает она мне четыреста рублей.
— Смените, — говорит, — раз так.
Пошел я в магазин. Была такая фирма «Проводник». Их две было фирмы — одна «Проводник», а другая «Треугольник». Обе резиной торговали. Конкуренция, конечно, у них была между собой зверская. Из-за покупателей они прямо зубами грызлись. И уж такое правило было, что когда берешь в магазине шины, скат там или два, магазин тебе премию десять процентов стоимости преподносит. Чтобы, значит, побольше покупал. Шоферы это все знали и, конечно, подрабатывали на этом.
Вот прихожу я в «Проводник», выбираю себе два ската шин.
— Сколько? — спрашиваю.
— Четыреста рублей, — говорят.
А я знаю уж, что десять процентов мне полагается премии, подхожу к кассе и прямо плачу триста шестьдесят.
— Еще, — кассир говорит, — сорок рубликов с вас.
— И этого хватит, — отвечаю. — Коли первый день работаешь, так хозяина спроси.
Побежал кассир к хозяину, идут ко мне оба.
— Сорок рублей с вас еще, — хозяин говорит.
— Как, — говорю, — сорок?
— Так, сорок. — И смотрит на меня, посмеивается. — В Риге, — говорит, — вашему брату не подают.
— Ага, — говорю, — не подают, значит, в Риге?
— Нет, — говорит, — не прогневайтесь.
Такая тут меня взяла злость. Мне, конечно, ихних сорока рублей не надо, у меня денег хватало, слава богу. Но обидно мне стало, что они со мной как с нищим разговаривают: «не прогневайся», говорят.
Бросил я кассиру в морду сорок рублей, взял счет, погрузил свои скаты и говорю на прощанье хозяину:
— Хорошо. Вам это подороже обойдется.
— Неужели, — говорит, — подороже? — И опять посмеивается.
Приехал я в гостиницу и прямо к княгине:
— Так и так, — говорю. — Мне надо на три дня к двоюродной сестре съездить, не можете ли меня отпустить? Может, не потребуется вам машина?
— Хорошо, — говорит, — пожалуйста, езжайте к вашей двоюродной сестре. Мне машина не потребуется.
Пошел я в гараж, поставил новые скаты, хорошенечко заправился, выехал из ворот, посмотрел на все четыре стороны, надвинул свою кепку с ушами и дал газ. Как чорт выскочил на какую-то дорогу и рванул куда глаза глядят. Лечу через какие-то деревни, города какие-то пролетаю. Народ в разные стороны шарахается, собаки по бокам дороги на дыбы встают, листья с деревьев ветром срывает. А я стиснул зубы и лечу, а куда — и сам не знаю!
Уж вечер наступил, я на ходу зажег фары и, не сбавляя скорости, все крою и крою.
«Не прогневайся, говоришь? — думаю. — Хорошо. Я тебе не прогневаюсь. Ты меня помнить будешь…»
В полночь границу какую-то проскочил. Слышу — стреляют вдогонку, да где же попасть на такой скорости?
Влетел в какие-то горы. Леса пошли, подъемы крутые, дорога опасная, а я все на третьей скорости! Всю ночь по горам мотался. Еще с утра не ел ничего. Наконец у какого-то трактира стоп — бензин весь.
А у них за границей это здорово устроено — на каждом углу колонки бензиновые, и у каждого трактира — тоже.
Соскочил я, а у самого ноги подламываются. Стучу в дверь.
Выбежал какой-то парень, лопочет что-то, а по-каковски — не пойму. Ну, заправился я, вскочил и опять сразу на третью скорость. Паренек мне что-то кричит вдогонку, руки складывает на груди — умоляет, наверное, чтобы я в такую темь не ехал. А меня уж и след простыл.
Утром вылетел я в какую-то долину. Оглянулся, а позади горы до самого неба. Ничего себе, думаю, ночью мотался по таким горам. И мчусь все вперед и вперед.
Раза три в этот день через какие-то границы проскакивал. Где стреляли, а где просто разбегались солдаты в разные стороны.
И вот, уже к вечеру с полного хода вылетаю я из-за какого-то поворота, гляжу — море! А на берегу какой-то город. Ворвался я в город. В городе паника, окна захлопывают, детей на руки хватают, а я пролетел через весь город, повернул налево и опять в какие-то горы вонзился.
Так трое суток не пил, не ел, не спал ни секунды и все крыл, все крыл на третьей скорости. Где уж я побывал за эти трое суток — не могу сказать. Потом я по карте смотрел — что-то, по-моему, вроде Швейцарии я проезжал, в Италии, по-моему, побывал, через Австрию промчался.
На четвертые сутки вернулся я в Ригу, подлетаю прямо к магазину «Проводник» и даю тормоз. Ну, конечно, вы сами понимаете, что такой гонки никакая резина выдержать не может. Все четыре шины у меня в лоскуты. Только лохмотья болтаются.
Вхожу я в магазин и говорю:
— Позовите хозяина.
Выходит хозяин, сразу, конечно, меня узнал, ухмыляется.
— Чем могу служить? — говорит.
А в магазине полно народу. На улице перед магазином автомобилей целый косяк стоит.
— Это что же, — говорю, — за жульничество? Вы чем торгуете? Вы за что деньги берете?
Все в магазине насторожились, у дверей народ собирается, а я уж кричать начинаю:
— Это что же за мошенничество! Разбой просто! Три дня назад взял у вас шины, а сегодня они уже все в лоскуты! Это что же — вашей продукции только на три дня хватает? Это называется мировая фирма?!
Хозяин побелел.
— Успокойтесь, — говорит, — не может этого быть.
— Как не может! — кричу. — Как это не может, раз я говорю!
Выхватил из кармана их счет, третьим днем помеченный, и размахиваю счетом в воздухе. Потом схватил хозяина за локоть, волоку к своей машине, а за нами весь магазин валит. Как увидали мои шины, так все и ахнули.
— Это что? — кричу я на всю улицу. — Это резина называется? Вот вы за что деньги берете!
Ну тут все закричали, замахали руками, а меня уже репортеры окружили, снимают мою машину, кто-то камнем в окно магазина запустил.
Хозяин, белый, прямо как известка, хватает меня за руки, шепчет:
— Тише, вы, тише, пройдемте, поговорим.
А я вырываю руки и еще громче кричу:
— Нет, вы нс замазывайте! Вы меня не подговаривайте! Этот номер не пройдет! Смотрите, все смотрите, какой тут рванью торгуют!
Ну, скандал, конечно, произошел на всю Европу. Во всех газетах об этом напечатали. А фирма-то, конечно, известная, ее везде знают. Все как прочли в газетах о таком скандале — сразу и отшатнулись от «Проводника», перекинулись к «Треугольнику».
Через неделю фирма дочиста разорилась. Хозяин, мне потом рассказывали, спился и пошел в бродячий цирк рыжим у ковра работать.
Вот какие истории с резиной бывают.
Глава восьмая
Светает
С конца января полярная ночь пошла на убыль. Погода была ненастная, низкие плотные облака все время заволакивали небо, но даже и в это ненастье было видно, что днем уже не так темно, как ночью, что в полдень сквозь тучи пробивается какой-то мглистый серый рассвет.
И вот однажды небо расчистилось, ветер стих и, выйдя на крыльцо нашего дома, я остановился, пораженный необыкновенным светом, который озарял и бухту, и плато, и наши дома. За мысом Дунди длинной широкой лентой протянулась по горизонту розовая заря.
Первый раз после стольких месяцев, которые мы прожили как слепые, в непроглядной темени, я вдруг увидел и ровное, беспредельное поле бухты, и дальние мысы и острова, и черную громаду Рубини-Рок, и наши дома, совсем заваленные снегом. Прямыми столбами поднимался из труб густой белый дым, от домов в разные стороны расходились протоптанные в снегу дорожки, виднелись узкие следы нарт. Даже тонкие ниточки проводов были уже отчетливо видны на зеленовато-желтом бледном небе.
Вот лениво бредет собака. Остановилась, потопталась на месте и улеглась, свернувшись клубочком. На высокое крыльцо радиорубки вышел Костя Иваненко, выбросил из ящика какой-то мусор, постоял, посмотрел на небо, зевнул и ушел, хлопнув дверью.
И все это я вижу. Вижу! Уже светло, совсем светло. Значит, скоро взойдет солнышко, скоро конец полярной ночи!
Этот день, когда после бесконечного ненастья, штормов и метелей мы вдруг увидели ясное, чистое небо и на ясном и чистом небе веселую розовую зарю, этот день был каким-то переломным днем на зимовке.
Все как-то сразу подбодрились, ожили, повеселели, вдруг заговорили о лете, о санных походах, о птицах, о лодках.
Сейчас же с восходом солнца большая геолого-геодезическая экспедиция должна была выйти с зимовки и отправиться на собаках проливами и каналами до острова Альджер, составляя по пути карту архипелага и изучая его геологическое строение.
А Шорохов и Редкозубов должны были на самолете обслуживать экспедицию, подвозить ей продовольствие и топливо, производить ледовые разведки пути.
Красный уголок был превращен в штаб экспедиции. Из склада сюда перетащили собачью сбрую, спальные мешки, малицы, геологические молотки, меховые рубахи.
Теперь уже никто не бездельничал на зимовке.
Наступила рабочая пора и для тех, кому в полярную ночь нечего было делать.
Каждый день профессор Горбовский расставлял теперь на льду бухты теодолит и полосатые рейки, пользуясь светлыми часами, проверял свои геодезические приборы и инструменты; целые дни возился теперь на плоской крыше своего актинометрического павильона молчаливый Лызлов, наш «заведующий солнцем», приготовляясь во всеоружии встретить его приход; в мастерской с утра до вечера стоял гром и звон, — это Костя Иваненко гремел жестью и железом, клепал, паял походную кухню по специальным чертежам Савранского.
Шорохов и Редкозубов принялись за сборку самолета. Самолетов у нас было два: один зимний — на лыжах, другой летний — на поплавках. Летний — как мы его привезли, так и стоял на берегу, заделанный в огромный деревянный ящик. А зимний мы с самого начала зимовки затащили в ангар. Его-то сейчас и собирали Шорохов и Редкозубов. Они привесили к фюзеляжу крылья, поставили хвостовое оперение, надели пропеллер и наконец начали выверять мотор. По целым дням теперь из ангара несся ровный звенящий гул, изредка, прерываемый частыми, как ружейные выстрелы, хлопками. А в самом ангаре бушевал ураганный ветер, и желтое пламя било из выхлопных патрубков самолета.
В кожаном пальто и в очкастом шлеме Шорохов сидел в кабинке пилота и то и дело кричал Редкозубову:
— Даю газ!
— От винта!
— Выключено!
И нам, метеорологам, тоже прибавилось работы: в метеорологической лаборатории проверяли для экспедиции походные барометры, Ромашников засел за обработку многолетних материалов о климате на Земле Франца-Иосифа, чтобы наши путешественники заранее знали, какая погода может застигнуть их в феврале и в марте.
Теперь уже никто не засиживался в кают-компании после завтрака или после обеда. Сразу пустела кают-компания, все расходились по своим делам.
Уже давно все оправились после болезни. Только у Бори Линева и у Лени Соболева все еще болели и пухли ноги. Но даже с больными ногами они не сидели без дела.
Каждое утро, вооружившись длинными иголками, мотками толстых ниток, ножницами и всякими выкройками, Боря Линев брел на Камчатку и там, устроившись в красном уголке, штопал для экспедиции палатки, шил рукавицы, чинил а́лыки и потяги.
А Леня Соболев где-то раздобыл длинный бамбуковый шест и ходил, тяжело опираясь на него, как на посох. Теперь, когда начало светать, работы у аэрологов было хоть отбавляй, уже можно было выпускать и дневных и ночных разведчиков, и постоянно на бугре около аэрологического сарая возился Каплин и прихрамывая ковылял Леня Соболев.
Только один Стремоухов, обрюзгший, заросший грязной бородой, по целым дням валялся в постели, хотя давным-давно совершенно выздоровел. То он жаловался на ломоту в спине, то на головную боль, то на резь в желудке. Он еще ни разу даже не вышел на улицу, где мы проводили теперь все свободное время, чтобы посмотреть на зарю, с каждым днем разгоравшуюся все ярче и ярче.
— Чего я там потерял) — презрительно говорил он. — Мне и тут, на кровати, хорошо. Пускай дураки смотрят.
Только к завтраку, к обеду и к ужину он приходил с неизменной аккуратностью, даже раньше всех. Ел он много и жадно. Каждый день, сверх нашей обычной нормы, он съедал еще огромную банку фаршированного перца и сердился, брюзжал и жаловался, если Желтобрюх забывал поставить к его прибору эту добавочную порцию консервов.
И вот как-то за обедом Наумыч сказал:
— Завтра, часов с одиннадцати, как только немножечко посветлеет, надо начать тренировку собак. Теперь уже часа по три в день светло бывает. Терять время нельзя. Как у тебя, Борис, сбруя, нарты? Все в порядке?
— Все готово, Наумыч, — весело отозвался Боря. — Уж рукавицы шьем.
— Ну, вот и отлично. Чтобы не канителиться, сразу начнём объезд обеих упряжек. — Наумыч повернулся к Стремоухову. — Степан Александрович, завтра с утра выходите па работу. К двадцать пятому февраля упряжки должны быть совершенно готовы к походу. Понятно?
— Но почему же я, Платон Наумыч? — обиженно сказал Стремоухов. — Почему я это должен делать?..
— То есть как почему вы? — удивился Наумыч. — Вы же каюр! Или что, по-вашему, я — каюр?
— Что же из того, что каюр? — зло проговорил Стремоухов. — Собаками должен заниматься тот, кто пойдет в санную экспедицию. С собаками надо…
— Так вот вы и пойдете в санную экспедицию, — перебил его Наумыч. — Линев и вы, два каюра.
Стремоухов отодвинул от себя тарелку.
— Нет, — резко сказал он, — я в санную экспедицию не пойду, Платон Наумыч. Я болен.
— Вы больны? — удивился Наумыч. — Це дiло треба розжуваты. Чем же это вы больны?
— Это уж вам виднее чем. Вы доктор, а не я.
И вдруг Стремоухов сбросил с ноги какой-то опорок и поднял босую грязную ногу. — Вот чем я болен! Вот!
— Ничего не вижу, — спокойно проговорил Наумыч. — Нога как нога. Я вам такую же могу показать, только немного почище. Может, вы расскажете, что у вас с ногой.
Стремоухов злобно дернул плечами.
— Вы что же, сами разве не видите, как разнесло подъем?
И он снова поднял над столом свою ногу.
— Ну, хорошо, хорошо, — брезгливо отмахнулся Наумыч, — после обеда. Не отбивайте у людей аппетит демонстрацией ваших немытых конечностей. Посмотрим после обеда, что там у вас такое вдруг случилось с подъемом. А пока запомните, что я, как врач, считаю вас абсолютно здоровым. Понимаете — абсолютно здоровым. Ну, вот таким же здоровым, как себя, как Редкозубова, как Шорохова. И еще, если вам интересно, я, например, считаю, что у Линева, действительно, с ногами еще далеко не благополучно после гриппа, и все же решительно назначаю его сопровождать в качестве каюра очень тяжелую и длительную экспедицию.!
Наумыч пристально посмотрел прямо в глаза Стремоухова, побарабанил по столу толстыми волосатыми пальцами.
— Вот какие дела, Степан Александрович.
Стремоухов молча пожал плечами и с обиженным видом принялся за свой перец…
На другой день, за завтраком, я сказал Боре:
— Когда будете запрягать — забеги, пожалуйста, ко мне, скажи. Очень хочется посмотреть, как вы на собаках будете ездить.
— Кто это «вы»? — недовольно сказал Боря.
— Как кто? Ты и Стремоухов.
— Стремоухов все по бюллетеню гуляет. Испытание ему какое-то Наумыч назначил, велел лежать, всё ноги его ощупывает. Опять мне одному ковыряться.
Боря озабоченно вздохнул, нахмурился.
— Желтобрюха, что ли, попросить помочь? Ведь за ними же бегать надо, как угорелому, а у меня у самого ноги едва ходят. Уж как я буду бегать, не знаю.
Он поманил Желтобрюха, проходившего мимо с тарелками.
— Борис! Поди-ка на минутку. Слушай, Желтик. Как посветлее станет, поможешь мне с собаками? По бухте с тобой покатаемся. Одному мне никак не справиться. А я тебе тоже чего-нибудь потом помогу. Ладно?
Желтобрюх прямо засиял.
— Конечно, о чем разговор! Обязательно! Я сейчас только картошки скорей начищу, вода у меня уже есть, а посуду я потом вымою. Ты, когда соберешься, зайди на кухню и мигни мне, а то Арсентьич еще ругаться будет. Хорошо? Вот так мигни. — Желтобрюх показал, как надо мигать: одним глазом, делая страшное, разбойничье лицо. — Мигнешь и сразу выходи, а я потом уж выскочу.
Весь завтрак Желтобрюх расхаживал по кают-компании с сияющим лицом, то и дело подсаживался к Боре Линеву и что-то ему шептал, потом подмигивал мне и издалека показывал, чмокая губами и по-кучерски вытянув руки, что он, мол, будет править и уж помчится так, что только держись.
В десять часов утра на улице была еще непроглядная ночь. Начинало светать только часов в одиннадцать, к полудню становилось совсем светло и снова темнело во втором часу дня.
Я сидел у себя в комнате, когда под окном вдруг раздался дикий, в четыре пальца, свист, залаяли и завыли собаки. Кто-то постучал в стену снаружи и что-то прокричал.
«Наверно, Боря Линев», — подумал я.
Одевшись, я вышел из дома.
На берегу слышался оживленный разговор и смех, копошились какие-то темные фигуры. Это были Желтобрюх и Боря Линев. Они пристраивали к передку походной нарты длинный сыромятный ремень — по́тяг, к которому были накрепко пришиты три пары металлических колец. Этот по́тяг в собачьей упряжке служит вместо дышла.
На снегу были разложены маленькие, обшитые войлоком хомутики — а́лыки, валялись какие-то ремни с блестящими никелированными карабинчиками. А невдалеке, наблюдая за работой людей, в ряд сидели собаки.
— Ну, вот так, кажется, будет крепко, — сказал Боря Линев. Он подергал за по́тяг, подул на зазябшие руки и надел кожаные голицы.
— Слушай, — сказал он, обращаясь ко мне, — посиди здесь, пожалуйста. Покарауль, чтобы собаки ремни не погрызли. А мы с Желтобрюхом одним духом за лошадьми сбегаем. Хорошо?
Оба Бориса рысью побежали к салотопке.
«Чего же они туда помчались? Ведь вон же собаки сидят.», подумал я. А собаки, выждав, пока Боря Линев скрылся из вида, тихонько подошли поближе к нарте и снова уселись в ряд.
Я узнал косматого Моржика, белую Сову, маленьких Буянов, Вайгача, Гусарку. Это всё были медвежатники, а ездовые, значит, все сидели взаперти, в салотопке.
Вскоре Желтобрюх и Боря Линев вернулись. Каждый вел на цепочках по паре собак. Собаки рвались, выли, изо всех сил тянули к нарте, и Желтобрюх кричал на них срывающимся басом, совсем как заправский кучер на лошадей:
— Балуйся!
— Осади!
Боря Линев передал мне обеих своих собак — Мильку и Джима, а сам принялся разбирать валявшуюся на снегу собачью сбрую.
— А ну, давай-ка теперь Мильку, — сказал он мне. — Она у нас сзади всех пойдет, лодырей подгонять будет.
Он надел Мильке через голову алык, хорошенечко приладил его на шее и застегнул второй ремень, перехватывавший туловище Мильки. От алыка шли два тонких ремешка, что-то вроде постромок, которые заканчивались карабинчиком. Боря защелкнул карабинчик за кольцо на потяге. Вот Милька и запряжена.
Запрячь собаку легко. Самое трудное — заставить ее спокойно ждать, пока запрягут остальных.
В паре с Милькой запрягли Джима — дымчатого вертлявого пса. Он все время лаял, топтался на месте, путал ремни, переступал потяг. Боря Линев то и дело хватал его за лапу и покрикивал:
— Джим, ножку! Ножку!
Во второй паре были Альт и Алх. Пока запрягали других собак, Алх спокойно сидел, посматривая по сторонам, и от нечего делать изредка потявкивал. Но как только Боря Линев надел на него хомут, Алх сразу преобразился. Он завыл, залаял, начал рваться вперед, натягивая свои постромки. От злости, что ему не удается сдвинуть нарту с места, он вставал на дыбы, грыз снег, быстро-быстро рыл его толстыми коротенькими лапами. Видя, что у него ничего не выходит, Алх перескочил на другую сторону потяга, где сидел уже запряженный Альт, поднял его на ноги злым лаем, и они вместе стали дергать и тянуть нарту, спутали все ремни и под конец сами запутались в них, как в сетях.
— По местам! Кэ-э-э! — дико заорал Боря Линев. Он схватил Алха в охапку и бросил на место. Алх упал на бок, вскочил и принялся рвать сбрую. Сослепу, хорошенько не разобрав, в чем дело, вскочила и принялась лаять Милька. Заголосил и запрыгал Джим. Все спуталось и смешалось.
Теперь уже втроем, проклиная собак и щедро раздавая пинки и тумаки, мы принялись голыми руками разбирать упряжь. Руки сразу коченели на морозе, то и дело приходилось совать их подмышки, чтобы отогреть, а собаки тем временем опять начинали возню, и снова все путали.
Наконец все собаки расставлены парами по местам. Впереди становится Чакр. Он — вожак. Он — предводитель.
Чакр сосредоточен и важен. Он поводит плечами, чтобы а́лык лег поудобнее, строго оглядывает всю упряжку и, подняв маленькую умную морду, белыми глазами выжидающе смотрит на Борю.
— Теперь так, — говорит Боря Линев, назидательно помахивая пальцем перед носом Желтобрюха. — Если надо, чтобы собаки вперед бежали, — будем кричать: Та-та! Если понадобится остановить — будем кричать: Кэ! Они уж так приучены.
Желтобрюх с уважением посматривает на смирно лежащих собак и кивает головой:
— Понятно. Кэ!
— Как тронемся, вались на нарту и лежи смирно, а если они будут путать упряжку, уж придется с нарт прыгать и распутывать на ходу.
— Ладно уж, распутаю, — говорит Желтобрюх. — Только поедем поскорей, а то как бы Арсентьич меня не хватился.
Боря Линев еще раз осматривает всю упряжку.
— Приготовьсь! — кричит он, и сразу все собаки вскакивают с мест, натягивают постромки, налегают на алыки и застывают, подавшись всем корпусом вперед. Только Алх подскуливает от нетерпения, топчется, оглядывается, роет снег.
— Та-та!
Собаки дружно подхватывают легкую нарту. Низко опустив голову и помахивая колбаской обрубленного хвоста, Чакр весело бежит впереди. Он быстро-быстро перебирает коротенькими лапками, точно шьет на швейной машине.
Налегая грудью на алык и загнув голову на бок, крупной рысью идет Урал. Напрыгом скачет Хулиган.
Оба Бориса врастяжку лежат на нарте, покрикивая:
— Та-та! Та-та!
Собаки и нарта, похожие издали на пеструю сороконожку, быстро удаляются, оставляя на гладком снегу узкий блестящий след полозьев. Я вижу, как Желтобрюх на ходу соскакивает с нарты и, размахивая руками, мчится рядом с собаками. Он поправляет упряжь, падает, вскакивает и огромными прыжками догоняет нарту.
Нарта делает по бухте большой круг и мчится обратно. Все ближе и ближе слышен отрывистый собачий лай, скрип и свист полозьев, бодрые крики погонщиков.
— К-э-э! — пронзительно кричит Боря Линев, и Чакр с ходу останавливается. Задние собаки с разбегу налетают на передних.
Стоп. Приехали. От Желтобрюха валит пар. Он расстегнулся, сбросил шарф, вытирает пот рукавом.
— Ты долго мне будешь путать! — кричит он на Хулигана, который с виноватой мордой стоит, глядя куда-то в сторону. — Ты долго будешь путать, собачье мясо? А?
Боря Линев слезает с нарты, достает из кармана длинную веревку.
— Вот мы его сейчас приструним, будет тогда знать, — строго говорит Боря. Он привязывает веревку одним концом за ошейник Хулигана, а другой конец сует Желтобрюху в руки. — Как тронемся, беги рядом и тащи его за веревку, чтобы он, подлец, не перескакивал через потяг. Понял?
Упряжку опять ставят головой к бухте, Желтобрюх берется за веревку.
— Приготовьсь! Та-та!
Снова мчится по крепкому снегу легкая нарта, а сбоку, как пристяжная, прыжками скачет долговязый Желтобрюх.
Так все утро они и разъезжают по бухте — то к берегу, то от берега.
А на юге, за далеким мысом Дунди разгорается все ярче и ярче, все выше и выше взбирается на холодное высокое небо розовая веселая заря.
Светает.
Второе преступление
За четырехмесячную полярную ночь и комнаты наши и кают-компания успели здорово нам опостылеть. Теперь, когда начало светать, мы уже не сидели целыми днями по домам. Любимым местом наших сборищ стало теперь крыльцо бани.
Баня стояла высоко на берегу, крыльцо ее было обращено в бухту, и отсюда открывался просторный, спокойный вид.
Только выберется свободная минута — сразу надеваешь малицу, шапку и выходишь на улицу. А на крыльце бани уже чернеют знакомые фигуры.
Вон Ромашников в зырянской шапке с длинными ушами. В этой шапке, которая торчит на нем, как скуфейка, в широком длинном пальто, подпоясанном почти подмышками, он похож на беглого монаха.
Вон Вася Гуткин в рыжем дубленом полушубке, в валенках, в пыжиковой шапке. И полушубок, и шапка, и валенки всегда сидят на Васе как-то особенно ладно, все на нем по росту, все по-хозяйски починено, пригнано, все в порядке.
Леня Соболев сидит на ступеньке со своей неразлучной трубкой, а перед крыльцом вертится Гриша Быстров. Он то поднимет с земли какую-нибудь щепочку, повертит ее в руке и бросит, то примется ногой долбить сугроб, то вдруг вытащит из кармана свисток и ни с того ни с сего свистнет.
Крыльцо бани называлось у нас «Пикквикский клуб».
Было приятно в морозных синих сумерках собираться на этом крыльце, тихо разговаривать, хором петь печальные песни Большой Земли, мечтать о нашем возвращении на эту землю, смотреть, как медленно и неохотно тухнет за далеким черным мысом Дунди лимонная заря, как появляются звезды, сначала едва приметные, а потом яркие, сверкающие, белые.
У наших ног мирно спят собаки, глухо стучит мотор радиорубки и вокруг — такая тишина и покой, что не хочется уходить с крыльца в свою тесную, прокуренную, надоевшую комнату.
Вот так, после целого дня работы, мы и сидели однажды на нашем крыльце, прижавшись друг к другу, закутанные в шубы, в шарфы, сидели и тихо пели:
В саду ягода малина под закрытием росла, А княгиня молодая с князем в тереме жила.В ясном, морозном воздухе далеко разносилась наша стройная песня. Боря Линев, запрокинув голову и глядя в студеное небо, тонким, дрожащим голосом печально запевал:
Как у князя был слугою…И Вася Гуткин сейчас же подхватывал чистым и звонким альтом:
Ванька ключник молодой…Голоса их то сплетались, то расходились, спокойно и неторопливо выводя протяжный и грустный мотив.
А дружный хор тихо и неторопливо подхватывал:
Ванька-ключник, злой разлучник. Разлучил князя с женой…И вдруг вдали у старого дома хлопнула дверь, и чей-то голос в сгустившихся сумерках издалека прокричал:
— Эй, запевалы, Желтобрюха там нет? Начальник требует.
Желтобрюх был здесь. Петь вместе со всеми ему было строго-настрого запрещено: слуха и голоса у него не было решительно никакого, и он только путал всех своим пронзительным фальцетом. Но, как все люди, не умеющие петь, он очень любил пение и постоянно робко и тихонько подтягивал вместе с хором. Если он забывался и голос его вдруг начинал выпирать из хора, кто-нибудь наступал ему на ногу, или грозил кулаком, и Желтобрюх сразу смолкал.
— Ты что же — оглох? Я кому говорю? — закричал Шорохов, подходя к Желтобрюху. — Видали вы — стоит, как ни в чем не бывало! Хорош! А ну, живо к начальнику!
Желтобрюх, недовольно ворча, спрыгнул с крыльца и нехотя побрел к старому дому. А Шорохов сел на место Желтобрюха и закурил папиросу.
Мы уже кончали песню, и Боря Линев проникновенным голосом выводил:
Вот повесили Ванюшу На пеньковой на петле,когда, размахивая руками и громко хрустя снегом, к нам подбежал запыхавшийся, сияющий Желтобрюх. Он сорвал с головы кожаную на меху шапку и дико закричал:
— Ребята, каюром!
— Чего каюрам? — сердито спросил Боря Линев, обрывал песню. — Чего там еще?
— Каюром назначили! Меня! — Желтобрюх бросил на снег шапку и заплясал вокруг нее, гулко топая лыжными башмаками.
— Как каюром?
— Почему?
— А как же Стремоухов? — перебивая друг друга, — заволновались певцы.
Желтобрюх подкинул носком башмака шапку, как футбольный мяч, поймал ее, надел и плюхнулся на крыльцо.
— Каюром! Вторым каюром! Та-та!
Шорохов толкнул его сзади в спину:
— Да расскажи ты толком, обалдел уж От радости. Кто назначил? А Стремоухов?
— Наумыч назначил, кто же еще? Я прихожу — он и говорит: «Ну, как тебе, — говорит, — на кухне работается?» — Желтобрюх передохнул. — Фу ты, чорт, запыхался, никак не отдышусь.
«Ничего, — говорю, — плохо». — «Сам, — говорит, — виноват».
Я соглашаюсь: «Конечно, сам. Я, мол, не жалуюсь». Тут он мне и сказал: — «Хочешь в каюры, с Борисом Линевым работать? А Стремоухов вместо тебя на кухню пойдет».
— Ну, а ты чего? — спросил Боря Линев.
— Я говорю — хочу. Очень, говорю, хочу. Прямо зачах я на кухне. Я уж постараюсь изо всех сил.
— А почему же Стремоухов-то на кухню? — недоверчиво спросил Шорохов. — Он что же — не может, что ли, по болезни? Или что?
— Разговаривает больно смело с начальником. Не подлизывается, вот и попал на кухню, — усмехаясь проговорил Сморж.
Желтобрюх пожал плечами.
— Это уж я не знаю. Наумыч ничего не сказал. Сказал только, что Стремоухова на кухню.
Он радостно потер руки, похлопал себя по коленкам, захохотал, наклонился к Боре Линеву.
— А, Борис! Каюром! Здорово, правда?
— Ничего, — степенно сказал Боря Линев. — Завтра, значит, с утра впрягайся с Хулиганом. Придется уж побегать.
— Пожалуйста, — радостно сказал Желтобрюх. — Разве я чего говорю? Побегать, так побегать. Это не плиту топить.
— Нет, но почему же Стремоухова-то на кухню? — недовольно опять проговорил Шорохов. — Все-таки товарищ, какой ни какой, а специалист… Как-то чудно Наумыч рассуждает. — Он неодобрительно посмотрел на сияющего Желтобрюха, дернул плечами. — Ты-то чего в каюрском деле смыслишь? Ведь не смыслишь же ни бельмеса. Тебе самое подходящее дело посуду мыть. А он уж обрадовался: вторым каюром.
— Ну, я тоже не судомойка, — со смехом ответил Желтобрюх. — Я тоже специалист — борт-механик. Да ничего — мыл, пускай вот он теперь помоет.
— Будет трепаться-то, — сказал Сморж, — специалист! Все мы вроде тебя специалисты. Вот Стремоухов — так это по-настоящему человек ученый: и по английскому может и по французскому… Такого человека — и вдруг на кухню пихать… Что он — мальчишка, что ли? За правду страдает, вот и все.
— Ну, и пускай пострадает на кухне, — смеясь проговорил Гриша Быстров и засвистел в свисток с горошиной.
— Верно, верно, — подхватил Вася Гуткин, — нечего тут богадельню устраивать. Все работают, как лошади какие, один только Стремоухов барином живет. Если не может в санную итти, — ноги там у него что-то болят, — пускай хоть на кухне работает, Арсентьича английскому учит.
— Нет, но почему же именно Борьку каюром? — не унимался Шорохов. — Что Борька понимает? Назначили бы кого-нибудь другого.
— Ну, а кого же? — лениво проговорил Боря Линев. — Тебя, что ли? Или Сморжа? Больше-то ведь некого? Некого. Ну и об чем разговаривать? Давайте лучше «То не ветер ветку клонит» споем.
Шорохов покрутил головой, что-то пробормотал себе под нос и быстро пошел к старому дому, из невидимых труб которого, как длинные огненные волосы, летели искры.
— К Наумычу пошел — отговаривать, — испуганно сказал Желтобрюх. — Ну что я ему такое сделал, что он на меня взъелся? В Москве ходил за мной, упрашивал — поедем, поедем, будем вместе летать, ты мне самый подходящий механик, а вот теперь прямо проходу не дает — и ест и ест, и пилит и пилит. Прямо житья нет от него.
Желтобрюх жалостливо шмыгнул носом, с тоской осмотрел всех нас, ожидая поддержки.
— Он думает — мне легко было: ехал механиком, а попал в судомойки?
Голос Желтобрюха дрогнул от обиды.
— Да ладно тебе, — миролюбиво сказал Вася Гуткин, — ничего он Наумыча не уговорит. Не бойся ты, пожалуйста. Наумыча, тоже, не так-то просто уговорить. Если сказал — каюром, значит — каюром. А на Шорохова ты не обращай внимания. Такой уж у него, значит, характер — не может, значит, человек, чтобы кого-нибудь не пилить. Такие люди есть, я знаю, у меня у самого дядя такой же. Прямо деревянная пила.
— Верно, есть такие, — подтвердил из темноты и Романтиков. — У меня вот теща тоже такая.
Мне стало очень жалко Желтобрюха. Я вспомнил, каким веселым парнем он ехал сюда на зимовку, представил, как он, наверное, мечтал об интересных приключениях, об интересной работе, как ему действительно трудно и тяжело было целыми днями возиться на кухне с грязной посудой, с картошкой, с плитой.
— Вот что, товарищи, — сказал я. — Если Желтобрюха переводят в каюры, значит, он действительно заслужил это. А помните, какой у нас был уговор? Когда Желтобрюх покажет себя взрослым мужчиной, настоящим полярником, мы обещали торжественно его обрить. Я думаю, что теперь для этого самое подходящее время.
— Правильно! Правильно! — закричали кругом. — Брить Желтобрюха!
— Под музыку! — прокричал Ромашников. — В кают-компании!
В этот вечер ужин подавал уже Стремоухов. Ни на кого не глядя, он молча швырнул на столы блюда с тушеным мясом и, шаркая ногами, пошел к выходной двери.
— Что, Степан Александрович, — громко сказал Сморж, искоса посмотрев на Наумыча, — никак новую ученую должность получили? Вот она, правда-то, до чего доводит. Вот как нынче ученым-то быть. — Сморж покачал головой и ухмыльнулся. — Хорошо, что я мореходку-то не кончил, а то и меня, наверное, на кухню бы запихали… Потеха, прямо.
— Какая же потеха? — насмешливо откликнулся Шорохов. — Использование специалистов по назначению! Раз ученый охотовед, — значит, на кухню. Что же тут долго думать?
— Я не намерен каждому зимовщику давать отчет в своих поступках, — вдруг резко сказал Наумыч.
Шорохов со звоном бросил ложку на стол.
— Не каждому зимовщику, а надо было людей спросить. Я Борьку знаю как миленького. И Стремоухова мы все знаем.
— Все знаем, что лодырь, — спокойно вставил Боря Линев.
— Не лодырь, — закричал Шорохов, — а специалист И потом — почему демократия не соблюдается? Все-таки, как ни как, а у нас профком существует. Почему его не спросили? Этак, может, и меня завтра свиней чистить пошлют?
— Если заслужишь — так и свиней пойдешь чистить, хоть ты и председатель профкома, — сказал Наумыч и посмотрел Шорохову прямо в глаза. — А насчет демократии не будем разговаривать. Здесь зимовка, а не новгородское вече.
— Чем же это Стремоухов заслужил? — опять вмешался Сморж. — Что ноги больные? Что ноги ему вылечить не смогли? За это на кухню?
— Хорошо, хорошо, — махнул на него рукой Наумыч. — Все, что тебе надо будет знать, — ты узнаешь. Не расстраивайся, пожалуйста.
Сморж покачал головой и еще раз сказал:
— Потеха!
Только кончился ужин, как мы сами, не дожидаясь Стремоухова, мгновенно убрали со стола грязную посуду. Вокруг пианино столпились музыканты с балалайками, гитарами, мандолинами, из всех комнат собрали самые красивые бритвенные принадлежности — у одного мыльницу, у другого кисточку, у третьего зеркало, у четвертого стаканчик для кипятка. И только с одеколоном вышла заминка. Еще на «Таймыре» наша огромная бутыль с одеколоном разбилась, а личные запасы уже давно у всех иссякли. Одеколона ни у кого не нашлось.
Боря Линев с белоснежной салфеткой был парикмахерским «мальчиком», Леня Соболев сбивал мыльную пену, Редкозубов точил бритву, звонко хлопая ею по натянутому ремню и пробуя точку на волосатой своей руке.
Смущенного и радостного Желтобрюха усадили перед столом и закрыли простыней. Он посмотрел на себя в зеркало, подвигал скулами, с опаской покосился на Редкозубова, который лихо, со щелканьем захлопнул бритву и подал ее мне, громко провозгласив:
— Готово. Не бритва, а огонь.
— Мальчик, воды! — прокричал я.
Боря Линев опрометью кинулся на кухню и сейчас же вернулся со сверкающим подносом, на котором дымился никелированный стаканчик с кипятком. Леня Соболев намылил подбородок, и скулы, и щеки Желтобрюха до самых глаз. Я сделал знак Стучинскому, и оркестр заиграл вальс «Над волнами».
Началось бритье. Желтобрюх вздрагивал, как лошадь, которая сгоняет со спины оводов, испуганно смотрел на себя в зеркало, боясь пошевелиться.
— Мальчик, компресс! — снова прокричал я, когда последние волосочки с верхней губы Желтобрюха были скошены сверкающей бритвой. Боря немедленно притащил салфетку, только что опущенную в кипяток.
— Не беспокойтесь, — галантно сказал я шарахнувшемуся от салфетки Желтобрюху. — Не спалю. Музыка, стоп!
Как заправский парикмахер, я помахал в воздухе горячей салфеткой и ловко набросил ее на сверкающий подбородок Желтобрюха. Желтобрюх заскулил от боли, а я махнул рукой и все, кто были в кают-компании, под аккомпанемент снова грянувшего оркестра запели торжественную кантату, специально сочиненную на этот случай:
Забудем кручину Желтобрюх прощен. Желтобрюх в мужчину Перевоплощен. Ликуют народы, Весь мир потрясен: Каюром отныне Становится он.После каждого куплета был припев:
Желтобрюху слава, Желтобрюху честь. Желтобрюха доблестей Не перечесть!____________
А на другой день на доске в кают-компании появился новый приказ. Вот что прочли мы в этом приказе:
«Каюр Стремоухов С. А., пытаясь обмануть доверие к нему всей полярной станции и ввести в заблуждение меня, как врача и начальника зимовки, симулировал осложнение на ноги после гриппа. Специальное исследование подъема на обеих ногах Стремоухова показало, что на первый взгляд аномальная высота этого подъема является на самом деле не следствием осложнения гриппа, а естественным, от рождения, подъемом и никаких болезненных последствий Стремоухову причинить в санных экспедициях не могла бы, как не причиняла ему до сих пор в течение его 43-летней жизни.
«Однако Стремоухов пытался уклониться от участия в санных походах, ссылаясь на этот подъем как на болезненную «опухоль» ног, что является чистейшей симуляцией.
«Такому недостойному человеку не может быть доверено руководство транспортом во время полярных санных походов, требующих от участников мужества, преданности делу и высокого чувства товарищества.
«А посему каюра Стремоухова С. А. с сего числа перевести служителем на кухню, а служителя тов. Виллих Б. И. зачислить вторым каюром».
Полет
12 февраля я проспал завтрак. Меня разбудил Гриша Быстров. Он забарабанил в мою дверь и громко прокричал:
— Вставай, вставай! Наумыч велел всем сейчас же собраться к ангару. Брезент откапывать будем. Слышишь?
Одна стена нашего ангара, обращенная к бухте, была из брезента. Брезент, как огромную штору, можно было поднять, и тогда самолету открывался просторный выход на пологий дощатый помост, спускающийся прямо в бухту.
За долгую полярную ночь штормы и метели завалили эту брезентовую стену высокими плотными сугробами, и самолет был наглухо заперт в ангаре.
«Ну, раз брезент откапывают, — думал я, торопливо натягивая штаны, — значит, лететь собрались. Вот будет обида, если без меня полетят».
Дверь моей комнаты вдруг приоткрылась, и ко мне заглянул сосредоточенный и очень важный Ромашников. Надменно оттопырив губы, он держал во рту изжеванную, потухшую папироску.
— Скажите там, пожалуйста, Наумычу, — проговорил он сквозь зубы, даже не глядя на меня, — что я сейчас прийти не могу. Я занят составлением прогноза погоды для лётной группы. Ну-с, вот.
Как видно, Ромашникову очень хотелось, чтобы я поговорил с ним о его прогнозе. Он продолжал топтаться в дверях, что-то ворча себе под нос и мусоля во рту потухшую папиросу.
— Прогноз уже составляете? — обрадовался я. — Значит, сегодня действительно полетят?
— Да-а, — небрежно сказал Ромашников, точно речь шла о каких-то сущих пустяках. Он вынул изо рта свою папиросу, с удивлением посмотрел на нее и швырнул в тазик под умывальником.
— Сегодня, кажется, полетят. Пробный полет, испытание машины в воздухе. Надо вот успеть обработать для них все метеорологические сводки. Я уже почти кончил.
— Ну, и как? Что же получается?
— Да ничего. Сегодня летать, пожалуй, можно. Сейчас-то маленький поземочек, но я полагаю, что во вторую половину дня ветерок совсем стихнет. Видимость отличная. Чего же еще?
Он пошевелил бровями и сурово посмотрел на меня, точно ожидая, что я буду с ним спорить.
— Да уж больше, конечно, ничего и не надо, — миролюбиво сказал я и принялся скорее умываться под жестяным рукомойником.
— Ну-с, вот, — еще раз сказал Ромашников и, вздохнув, нехотя вышел из моей комнаты. А я оделся, выскочил на улицу и побежал к ангару.
Наумыч в косматой шубе и пыжиковой шапке командовал раскопками.
Человек десять зимовщиков весело махали лопатами, колотили по замерзшему, обледенелому брезенту палками, обивая с него лед и снег. А из ангара доносились взволнованные голоса, и время от времени Редкозубов стучал изнутри по брезенту кулаками и нетерпеливо кричал:
— Ну, как там? Скоро, что ли?
Тогда Наумыч, отдуваясь и насупившись, сам брался за лопату. Он долго метился в сугроб, неуклюже тыкал в него лопатой, отламывал маленький кусочек снега и, широко размахнувшись, швырял его далеко в сторону.
— Фу ты, чорт, никак опять кому-то по голове залепил. Что такое! — с недоумением и досадой говорил он. — Ребята, кому попало?
— Опять мне, — счастливым голосом откликался Желтобрюх. — Прямо в ухо.
— Ну, в ухо — это еще ничего, вот в глаз бы кому не попасть, — опасливо говорил Наумыч и отставлял лопату.
Наконец все сугробы были срыты. Через узкую боковую дверь, толкаясь и теснясь, мы гурьбой ввалились в полутемный ангар. Теперь оставалось только поднять брезент.
Редкозубов и Вася Гуткин взялись за веревки, пропущенные в кольца по бокам огромного брезентового полотнища, и, приседая, с криком: «Ать, два! взяли!» рывками стали тянуть вниз.
Складываясь длинными продольными складками, брезентовая стена медленно поползла вверх. Вот внизу открылась узкая светлая щель. Щель растет, расширяется, брезентовая стена все уходит и уходит вверх. И вдруг она как-то сразу взвилась и исчезла.
В пропахший бензином, полутемный ангар ворвался свежий ветерок, розовый свет зари, запах мороза и снега.
Далеко-далеко, до самого горизонта лежит перламутровое ровное поле бухты, а на зеленоватом высоком небе, как нарисованная тушью, чернеет громада Рубини-Рок. Такой простор, что, кажется, вот садись на машину и лети прямо в облака!
В ангар вбежали собаки, весело махая хвостами. Байкал подскочил к самолету, склонив голову набок, удивленно посмотрел на него, понюхал лыжу, чихнул и закрутил головой.
— Тю отсюда! — заорал на собак и затопал ногами Редкозубов. — Прочь пошли, окаянные, чтоб вам подохнуть!
Собаки снова выскочили из ангара, уселись снаружи и с любопытством стали наблюдать за нами.
— Все к самолету! — скомандовал Шорохов.
Он суетился, хватал то одного, то другого зимовщика за локоть, подтаскивал к самолету, понукал:
— Ну, что рот разинул? Подходи сюда. Серафим Иваныч, становись на хвост. Эй, осторожней там, за растяжки не хватайтесь. Да что вы, мертвые, что ли? Ну, шевелись. Не развалитесь, не сахарные.
— Ты не очень-то ори, — вдруг сказал Вася Гуткин, — мы не тебе помогаем, а советской авиации. Не воображай, пожалуйста.
— Раз, два! дружно! — затянул Наумыч. — Раз, два! взяли!
Самолет дрогнул, сдвинулся с места и, скользя лыжами по обледенелому полу ангара, покачиваясь и распластав длинные крылья, пошел наружу, на помост.
На одну секунду вздернутый нос и широкие плоские крылья заслонили просторные ворота, лыжи стукнули о деревянный порог, и машина выплыла на волю, сразу став маленькой и хрупкой.
Начался спуск в бухту. Редкозубов налег на хвост самолета, костыль, тормозя ход, начал пропахивать в снегу глубокую борозду. И мы тоже, упираясь в снег ногами, изо всех сил сдерживали тяжелую машину, чтобы она плавно и тихо сошла на лед бухты.
Шорохов бегал вокруг самолета и умоляюще приговаривал:
— Пожалуйста, товарищи, полегонечку. Легче, легче, пожалуйста. Я вас очень прошу.
— Вот это другой разговор, — засмеялся Вася Гуткин. — Так-то дело верней будет.
Наконец самолет спустили в бухту. Снег здесь лежал такой ровный, твердый и гладкий, что лучшего аэродрома и желать было нечего.
Подталкивая самолет, мы отвели его подальше от берега, развернули и поставили носом против ветра.
Погода, как и предсказывал Ромашников, улучшилась, небо расчистилось, стало совсем светло.
И собаки и люди столпились вокруг самолета, с нетерпением ожидая, что же будет дальше.
Вдруг через толпу протиснулся к самолету Наумыч. Он тронул за плечо Шорохова, который возился у левой лыжи самолета, и тихо спросил:
— А ты сегодня завтракал?
Шорохов даже не поднял головы.
— Какой тут еще завтрак? С шести часов ковыряемся.
— Вот и скверно, что не завтракал, — укоризненно проговорил Наумыч, — придется тогда сейчас сходить покушать.
— Действительно, — с раздражением отозвался Шорохов, завинчивая какую-то гайку. — Самое теперь время кофий распивать. — Он выпрямился и крикнул Редкозубову:
— Чехлы с мотора долой!
— Погоди, — опять спокойно и тихо сказал Наумыч, — Григорий Афанасич, погоди минутку. Сходи-ка сначала, пожуй чего-нибудь.
Шорохов даже отшатнулся от Наумыча.
— Ты что, смеяться вздумал? — хрипло спросил он. — Механик мотор заводит, а я пойду прохлаждаться? Что ты? Еще новую моду выдумал!
Он надел кожаные перчатки с раструбами, сердито отстранил рукой Наумыча и поставил ногу на крыло самолета, собираясь подняться в машину. Но Наумыч положил свою огромную лапу в косматой рукавице на его колено и твердым голосом сказал:
— Григорий Афанасич, еще раз говорю тебе — сходи, позавтракай.
— Да что я, мальчик, что ли, в конце концов? — закричал Шорохов, краснея от злости. — Я сам знаю, что мне делать.
— Прошу мне не указывать. Сам, пожалуйста, завтракай, если тебе охота. Пусти!
Он сбросил со своего колена Наумычеву руку и взялся за растяжки.
— Летчик Шорохов, — сквозь зубы, медленно проговорил Наумыч, снова кладя свою лапу на шороховское колено, — я приказываю вам немедленно отправиться в кают-компанию и позавтракать. Прошу вас не забывать, что я начальник зимовки. Полета не будет до тех пор, пока вы не покушаете. Товарищ, Редкозубов! — крикнул он через наши головы. — Наденьте чехлы, чтобы не стыл мотор. Товарищ Шорохов сейчас сходит позавтракать..
Они стояли друг против друга — Шорохов маленький, заросший щетиной, с красным злым лицом, на котором мелко подрыгивал левый глаз, и огромный, румяный Наумыч, нахмуренный, сосредоточенный, спокойный.
— Ты не имеешь права, — глухо, едва сдерживаясь, сказал Шорохов, — ты не имеешь права. Это мое личное дело. Хочу ем, хочу не ем. Какое ты имеешь право соваться? Кто я тебе — сын, брат, сват, что ты мне приказываешь есть или не есть? Новая мода!
— Пойми ты, глупый ты человек, — спокойно проговорил Наумыч, — что я как раз имею это право. И потом — какое же это личное дело? Летчик, который мне подчинен, — Наумыч сделал паузу, — подчиненный мне летчик почти не спал накануне полета всю ночь, ничего не жрал целые сутки и собирается в ответственнейший полет в таком состоянии, что у него вот на морде даже тик от нервного переутомления. Что это, по-твоему, личное дело летчика? Ты же не на лыжах собираешься кататься, чудак ты человек. Ну, скоренько, сбегай, выпей там чего-нибудь, пожуй, а мы тут тебя подождем.
— Я не пойду, — упрямо сказал Шорохов. — Вот не пойду — и все. Я не маленький. Надоели мне твои приказания — сегодня одно, завтра другое.
— Так что же, товарищи, — крикнул Редкозубов, появляясь из-за крыла, — снимать, что ли, чехлы, или нет?
— Я, кажется, русским языком сказал, что не снимать, — ответил Наумыч. — Полетов сегодня не будет.
Шорохов сорвал перчатки и швырнул их на снег.
— Хорошо, — сказал он. — Отлично. Пусть сегодня будет по-твоему. Но когда-нибудь и по-моему будет.
Он круто повернулся, мы расступились, и Шорохов, ни на кого не взглянув, быстро пошел к старому дому.
— Гриша, — сказал Наумыч, обращаясь к Быстрову, — сбегай-ка, скажи Арсентьичу, чтобы дал ему кусок мяса получше и какао. Ну, сыру там, конечно, колбасы, — чего спросит. Да чтобы поживее. Пусть не ковыряется.
Гриша побежал следом за Шороховым, а мы расселись, кто на лыжах самолета, кто на хвосте, а Кто и прямо на снегу.
— Вот еще новая хвороба, — проворчал Наумыч, — следи вот теперь — кто ел, а кто не ел. Как птенчики все равно какие.
Он уселся на снег, хорошенько подоткнул под себя шубу, осмотрел всех нас и, улыбнувшись, сказал:
— Ну, что же, хлопцы, треба спиваты. А, ну, запевай — какую-нибудь поинтересней.
Через полчаса Шорохов вернулся. Он молча поднял свои перчатки, отряхнул их от снега, нахмурившись застегнул кожаное пальто, подтянул пояс и, сотрясая весь самолет, полез на свое место. Редкозубов, не дожидаясь приказаний, проворно стянул с мотора чехлы и забрался на нос самолета.
Мы столпились вокруг, не сводя глаз с летчика и механика. В сосредоточенных и точных движениях их была какая-то особая серьезность и уважительность.
И я как-то сразу, в одно мгновение понял огромную важность того, что происходит: вот сейчас над этими ледяными полями впервые поднимется самолет. Пройдут годы, десятилетия, — может быть, на этом унылом, пустынном берегу вырастут залитые ярким электрическим светом просторные аэродромы, и точно, минута в минуту, по расписанию полетят комфортабельные пассажирские самолеты по трансарктической линии из Европы в Америку. Скучающий пассажир будет рассеянно посматривать через толстые стекла каюты на эту бухту, на скалы и ледники, и никогда, наверное, ему не представить себе этого серенького денечка 12 февраля 1934 года, эту кучу людей на льду около маленького учебного самолета, не представить себе Наумыча, Шорохова, Редкозубова, не понять нашего волнения.
— Контакт! — крикнул через плечо Редкозубов, стоя на носу самолета, около самого винта.
— Есть контакт, — отозвался Шорохов.
Редкозубов взялся обеими руками за лопасть винта, присел и, прокричав: «Раз, два, три!» — крутнул винт, а Шорохов быстро-быстро завертел ручку стартёра. Винт дрыгнул и остановился.
— Выключил, — недовольно сказал Шорохов.
И все началось с начала:
— Контакт!
— Есть контакт!
— Раз, два, три!
Страшная сила рванула винт, в лицо ударил ветер и снег, захлопали полы наших шуб, собаки с воем и визгом шарахнулись в сторону, подхваченные поднявшимся ураганом.
Редкозубов, придерживая рукой шапку, спрыгнул на снег.
В первый полет летчик всегда идет один, без борт-механика: машина еще не опробована в воздухе, и летчик имеет право рисковать только своей жизнью.
Показывая пальцем в сторону мотора, Редкозубов прокричал что-то Шорохову. Тот понимающе кивнул ему и замахал рукой — отойди, мол. Потом он поправил шлем, посмотрел на нас, улыбнулся какой-то странной улыбкой, которой я никогда раньше не видел на этом скуластом калмыцком лице, и дал газ.
Самолет дрогнул, сдвинулся с места и плавно заскользил по гладкому снегу.
Подпрыгивая и покачиваясь, он побежал все быстрее и быстрее, потом помчался, почти не касаясь лыжами снега, и вдруг круто пошел прямо в небо, уменьшаясь, сокращаясь, резко чернея на бледнозеленом небе. Уже выше айсберга, выше дальнего берега, уже над землей.
— Полетел! Полетел!
Вот он над Скот-Кельти. Вот он ложится на левое крыло, поворачивает и летит над дальним проливом.
И как-то дико подумать, что там, высоко в небе, в этой маленькой козявке, чернеющей над красной лентой зари, сидит человек, наш товарищ, что это он летит там один, недосягаемый, недоступный.
Самолет делает огромный круг. Он снижается и вихрем пролетает над самыми крышами зимовки, и земля отдает гул и звон его мотора, в окнах дрожат и звенят стекла, а он уже далеко, снова набирает высоту, тает, растворяется в небе и становится черной точкой, медленно ползущей по небу.
Мы стоим тесной кучкой посреди бухты. Не отрываясь мы смотрим, как эта точка приближается к нам, становится самолетом. Уже видны висящие в воздухе лыжи, — они точно примериваются, как бы им ловчее скользнуть по снежному полю. И вот, наконец, плавно и ловко лыжи касаются снега, самолет мягко, как на рессорах, подпрыгивает и мчится по бухте все тише и тише. Машет сверкающими руками пропеллер, серым дымом палят выхлопные патрубки.
Мы подбегаем к самолету. Мне кажется, что от него теперь даже пахнет особенно — воздухом, холодом, высотой. Что-то капает с его вздернутого носа, левое крыло забрызгано замерзшим желтым маслом.
И Шорохов как-то изменился — почернел и высох за эти тридцать минут полета. На щеках у него намерзли слезы.
Он вылезает из кабины, прыгает на снег.
— Переходной режим ни к чорту, — говорит он, сморкаясь в два пальца и кулаком вытирая глаза и щеки.
Мы окружаем Шорохова, наперебой поздравляем его с первым полетом, с открытием воздушной навигации. Мы уже готовы простить ему его грубость, заносчивость, неуживчивый нрав.
— Ну, чертяка, — говорит Наумыч и трясет шороховскую руку, — пригодился харчишко-то?
Даже Желтобрюх пробивается к Шорохову, протягивает ему руку.
— Поздравляю, Григорий Афанасич. Пожалте теперь на моем моторе прокатиться. Мотор в двадцать собачьих сил, и переходной режим в полном порядке..
Шорохов раздраженно пожимает плечами:
— Это вы не меня, а советскую авиацию поздравляйте. Я человек маленький, меня ведь можно и свиней чистить послать и гонять, как мальчишку…
Он отворачивается и кричит Редкозубову:
— Не надевать чехлы, в ангар пойдем своим ходом!
Катастрофа
В ночь поднялся ветер. Он завывал и гудел в печных трубах, шумел и шуршал на крыше, сотрясал весь наш дом.
Встревоженный Шорохов несколько раз заходил в метеорологическую лабораторию, подолгу молча стоял перед стеклянным шкафиком с висевшей в нем длинной трубкой ртутного барометра, потом вздыхая подходил к полке, на которой, бойко тикая часовыми механизмами, стояли самописцы.
Волнистая фиолетовая линия на ленте барографа скачками опускалась все ниже и ниже: барометр падал.
— Да-а, — с досадой говорил Шорохов, разглядывая через стекло ленту барографа, — похоже, что завтра полетать-то не придется. Ишь ты, как его вниз тянет.
Он качал головой, вздыхал, с надеждой посматривал на Ромашникова, который, нахмурившись, молча сидел за столом и составлял какие-то таблицы.
— Неужели за ночь не перестанет? Как вы думаете?
— Конечно, не перестанет, — не поднимая головы, отвечал Ромашников. — Ясно, что не перестанет.
Шорохов, шаркая меховыми туфлями, уходил к себе в комнату, а через полчаса снова появлялся в лаборатории, снова рассматривал барометр, снова вздыхал и говорил:
— Все падает и падает. Да, пожалуй, и верно не перестанет. Не удастся завтра полетать..
К утру ветер еще усилился, перешел в настоящий ураган. Дребезжали и звенели печные вьюшки, порывы ветра налетали на наши дома с такой силой, что казалось, будто снаружи колотят в стены тараном.
Радист Рино и Костя Иваненко даже не рискнули притти к завтраку. Они позвонили из радиорубки по телефону и сказали, что у них есть банка какао, сгущенное молоко, сыр и масло; что они разведут примус и сами смастерят себе завтрак, а в старый дом не придут.
— Ладно, отсиживайтесь, — прокричал им в телефонную трубку Наумыч. — Если и к обеду эта карусель не кончится, то и обедать не приходите. Уж сами что-нибудь себе состряпайте.
Шторм не стих и к обеду.
В полярную ночь во время шторма совсем замирала жизнь на зимовке. Все сидели по комнатам, боясь даже высунуть нос на улицу, томясь вынужденным бездельем и только прислушиваясь к вою и свисту ветра.
А теперь, хотя и бушевал за стенами дома настоящий ураган, работы всем зимовщикам было по горло.
Сейчас же после завтрака Шорохов и Редкозубое, снарядившись, точно они отправляются к северному полюсу, двинулись в ангар. Если и нельзя было летать, зато можно было в ангаре, на земле, еще раз проверить мотор, наладить переходной режим.
Каюры — Боря Линев и Желтобрюх — сняв фуфайки и засучив рукава рубах, расположились за большим столом в кают-компании и занялись приготовлением сухарей для будущей экспедиции. Они разостлали на столе белую чистую бумагу, вооружились большими ножами и принялись резать на тонкие ломтики пышные белые хлебы, испеченные еще с вечера Арсентьичем.
То и дело звонил телефон. Костя Иваненко спрашивал, какие заклепки ставить на походную печку, узнавал, можно ли новые кольца для собачьей сбруи делать из латуни, или обязательно они должны быть медные, советовался, как ему лучше сконструировать футляр для громоздкого фотографического аппарата, который путешественники решили взять с собой, чтобы производить геодезическую фотосъемку островов архипелага.
А геолог Савранский, точно маленькая старая ключница, гремя связкой ключей и шаркая огромными калошами, озабоченный и важный ходил по коридору дома, поминутно вынося из склада при кухне то консервные банки, то коробки с шоколадом, то полные пригоршни картонных гильз для охотничьего ружья.
Он сносил все это в красный уголок.
Здесь на покрашенном белой масляной краской столе стояли весы с жестяными чашками и лежали гири. На столе был высыпан рис, пшено, сахарный песок, сушеные фрукты.
У весов орудовал Наумыч. Он озабоченно разглядывал бумажку, на которой был записан продовольственный паек экспедиции, и осторожно и тщательно, будто он отвешивает страшный яд, сыпал на чашку весов то рис, то сахар, то соль.
На полу стояли ящички, банки, валялась мешочки, связки веревок, снеговые очки, железные «кошки», чтобы ходить по ледникам, охотничьи ножи.
По предварительным подсчетам Лызлова, солнце должно было взойти над Землей Франца-Иосифа 24 февраля, т. е. через 11 дней.
Решено было, что сразу же с восходом солнца экспедиция трогается в путь.
А работы было еще очень много, и, самое главное, наш самолет летал всего только один раз. Но одного полета было недостаточно для того, чтобы судить, насколько самолет может помочь походу санной партии. Нужны были еще полеты — и над зимовкой, чтобы хорошенько проверить мотор, и над ближайшими островами, чтобы летчик привык ориентироваться среди целого лабиринта каналов и проливов между островами архипелага.
Да и каюры хотели до начала экспедиции сделать вылазку на какой-нибудь ближайший остров, уехать с зимовки дня на два, хорошенько потренировать собак, попрактиковаться разбивать палатку, поучиться варить на походной кухне пищу.
Шторм продолжался два дня. Только пятнадцатого числа ветер стал стихать, но небо все еще было затянуто низкими плотными облаками. Потом повалил густой снег. Барометр стал медленно подниматься, крепчал мороз, и всё предвещало, что дня через два, может быть, снова наступит хорошая, ясная погода.
Теперь, когда начинались полеты, мы, метеорологи, следили за погодой с особенным вниманием, с особенной тщательностью. Каждый день мы давали Наумычу и Шорохову утром, в обед и вечером подробные бюллетени погоды.
И вот, наконец, утром 17 февраля Романтиков, который был в этот день дежурным метеорологом, передавая за завтраком Наумычу и Шорохову очередной бюллетень, важно провозгласил на всю кают-компанию:
— Сегодня в первой половине дня ожидается устойчивая ясная погода. За вторую половину ручаться не могу. В двенадцать часов дам второй бюллетень.
— Значит, что же, можно летать? — с живостью спросил Шорохов.
Ромашников пожал плечами, задумчиво побарабанил пальцами по столу.
— В первой половине дня все же летать я не советовал бы. Рекомендовал бы подождать двенадцатичасового прогноза. Тогда будет уж окончательно ясна вся картина. Думаю, что благоразумнее подождать.
— Ну, а нам ждать нечего, — весело проговорил Боря Линев. — У нас полеты на собачьем моторе. После завтрака айда, Желтик, запрягать! Погоняем по бухте, а завтра можно уж будет и вылазку устроить. Верно, Наумыч?
— Ну, что ж, пожалуй, и можно будет, если Ромаша погоду устроит, — сказал Наумыч. — Устройте, Ромаша, хорошую погоду, что вам стоит?
Шорохов торопливо допил чай, сунул в карман кусок хлеба и показал Редкозубову головой на дверь.
Редкозубов набил трубку, закурил и поднялся из-за стола. Они уже направились было к выходной двери, когда Наумыч окликнул Шорохова:
— Григорий Афанасич, ты как же, значит, думаешь сегодня? Будешь летать, или нет? Сказал бы чего-нибудь.
— А чего мне думать, — нехотя ответил Шорохов через плечо. — Мне думать нечего, посмотрим там, как будут дела итти. Может, и полетим.
— Так вот ты, пожалуйста, имей в виду, что без моего разрешения не вылетать. Я все время буду здесь, в старом доме.
— Ладно, — нехотя сказал Шорохов и вышел в коридор.
После завтрака дом опустел. Каюры отправились запрягать собак, Савранский ушел в мастерскую пробовать походную печку, Гриша Быстров побежал ставить столбы электропроводки, поваленные штормом. Сморж и Стремоухов собрались ехать с нартой за льдом для кухни.
Из упрямства ли, или еще почему, но только после того, как Стремоухов был назначен на кухню, Сморж всячески стал выказывать ему свою любовь и уважение. До сих пор он звал Стремоухова просто Степаном и говорил ему «ты». А теперь он величал его не иначе, как Степан Александрович, и перешел с ним на «вы».
Сегодня он сам вызвался поехать с ним за льдом, и они громко хохотали, одеваясь в коридоре.
— Метафизики-геофизики, — громко, на весь дом, говорил Стремоухов, а Сморж хохотал, захлебываясь и давясь кашлем.
Они вышли в сени, хлопнув дверью, и в доме воцарилась тишина.
Я и Наумыч сидели в амбулатории. Наумыч протер спиртом стол, разостлал чистую клеенку, вытащил из шкафа с лекарствами какие-то стеклянные банки с притертыми пробками и маленькие аптекарские весы с роговыми чашечками на зеленых крученых шнурочках.
Не спеша, благоговейно Наумыч принялся развешивать на весах порошки, хмурился, сопел, шевелил губами.
Я резал ножницами чистую бумагу на продолговатые маленькие кусочки. На середину каждой бумажки Наумыч насыпал белого, как сахарная пудра, порошка, а я заделывал по-аптечному маленькие бумажные конвертики.
— Потом все порошки завернем в резиновый пузырь, чтобы они не подмокли, — говорил Наумыч, доставая роговым совочком из банки какую-то желтоватую муку.
Отвесив порошки, он закрыл притертыми пробками все банки и пыхтя снова полез в шкаф.
— Иоду надо бы им налить побольше. Пузырька вот только подходящего нет. Хорошо бы пузырек от одеколона, да где же его возьмешь?
— А вы бы спросили у ребят, — может, у кого-нибудь и найдется, — сказал я.
— Да я уж спрашивал, ни у кого нет, — прогудел Наумыч, залезая до пояса в шкаф и громыхая какими-то бутылками, пузырьками, склянками.
— У Шорохова спросили бы, — от него, как от барышни, одеколоном каждое утро так и несет.
— Спрашивал и у Шорохова, — говорит, что нет. Я у него еще три месяца назад спрашивал. Для бритья. Не могу без одеколона бриться. «Нету, — говорит, — ни капли. С удовольствием бы, — говорит, — дал, да нет».
Наумыч вылез из шкафа, держа в каждой руке по пучку пузырьков, и сосредоточенно стал рассматривать их на свет, открывать пробки, задумчиво нюхать.
Вдруг хлопнула входная дверь, послышались торопливые шаркающие шажки, стук бамбукового посоха, и задыхающийся голос Лени Соболева прокричал:
— Лаврентий! Лаврентий! Скорей беги, тащи к ангару метеорограф. Ну, поскорей же, Веня, он уже самолет выводит.
Наумыч поставил на стол свои пузырьки, круглыми от изумления глазами посмотрел на меня и, топая так, что зазвенела вся его аптека, выскочил в коридор.
Я вышел следом за ним. Дверь в комнату аэрологов была раскрыта. Каплин сидел на кровати и, кряхтя и вздыхая, перематывал портянки. Леня Соболев, стоя спиной к двери, трясущимися руками поспешно разбирал на столе какие-то бумаги и не поворачиваясь говорил Наумычу, который, широко расставив ноги, стоял среди комнаты:
— Не знаю, Наумыч, не знаю. Я сам вот только что увидел, что брезент у ангара подняли и завели мотор. Ну, я и побежал скорее сюда за метеорографом. Боже мой, да где же у меня запасные ленты? Лаврентий, ты никуда ленты не убирал?
— Не убирал я ваши ленты, — со стоном ответил Лаврентий.
Наумыч круто повернулся и пошел из комнаты. Он запер на ключ амбулаторию, снял с вешалки свою собачью шубу и торопливо начал одеваться.
— Интересно, — сквозь зубы пробормотал он. — Опять, видно, вожжа под хвост попала.
Я тоже оделся, и мы вместе вышли из дома.
От ангара несся веселый звонкий гул работающего авиационного мотора. Мы подошли ближе.
На помосте суетились Редкозубов, Сморж и Стремоухов, разравнивая лопатами наметенный штормом снег. Поодаль стояла пустая нарта, — видно, Сморж и Стремоухов так и не доехали до айсберга.
Не успели мы подойти к ангару, как на помост, словно аэросани, выехал самолет и своим ходом стал спускаться на лед бухты. Редкозубов, Стремоухов и Сморж висели на хвосте и на крыльях, чтобы не дать самолету разогнаться.
У стартовой площадки, отмеченной по углам маленькими красными флажками, cамолет остановился. Из кабины выскочил Шорохов. Он был в легком кожаном пальто, в холодном шлеме, в потертых оленьих пимах, которые он носил только дома.
Мы подошли к самолету.
Нахмурившись и не глядя на Шорохова, Наумыч угрюмо проговорил:
— Что же это такое, Григорий Афанасич? Я же сказал, чтобы без моего разрешения не вылетать.
— Так я ведь еще и не вылетел. Чего же тебе?
— А то, что до двенадцатичасового прогноза я летать запрещаю.
— Начинается, — поморщился Шорохов. — Брось ты, пожалуйста, эти свои фокусы. Я не за тыщу верст собираюсь лететь. Вот попрыгаю по бухте — и все. И полетов-то всего на пять минут. Только оторвусь и сейчас же сяду, оторвусь и сяду. Надо же разбег проверить.
Скрипя снегом, к нам подошел Каплин. Он держал в руках блестящую жестяную коробку метеорографа. Еще издали что-то крича и размахивая своим бамбуковым посохом, приковылял Леня Соболев.
— Вот мы его сейчас здесь и привяжем. Вот сюда, я думаю. Здесь ему будет хорошо, — бормотал Леня Соболев, вертясь со своим метеорографом около самолетного крыла. — Григорий Афанасич, можно мне к крылышку машинку привязать? Я проволочкой, осторожно.
— Какую там еще машинку? — раздраженно закричал Шорохов. — Пожалуйста, ничего не привязывайте.
Леня Соболев от изумления даже развел руками.
— Так это же метеорограф. В нем и весу-то всего-навсего какой-нибудь килограмм. Вы же по нему потом свой высотомер проверить сможете. Как же так?
Шорохов подошел к Лене, покосился на метеорограф.
— Я же говорю, что нечего зря привязывать. Вот разобью я его к чорту, что ты тогда скажешь?
— Почему же разобьете? — удивился Леня.
— А потому и разобью, что я сегодня буду только на отрыв и на посадку упражняться. Понятно? Вот поднимусь и сейчас же сяду, опять поднимусь и сяду.
— Нет, — проговорил Леня, — я все-таки привяжу. Уж разрешите привязать. Я тоненькой проволочкой. Пускай висит. Он же вам не мешает.
Шорохов пожал плечами.
— Привязывай, пожалуйста. — Он подошел к нахмуренному Наумычу, вытащил из кармана секундомер и протянул ему: — На вот, возьми. Как только машина пойдет по снегу, ты сразу же пусти стрелку, а как я оторвусь — останови. Надо проверить, какой у машины разбег. И при посадке то же самое: как только лыжи коснутся снега — пускай, а как машина станет — так и ты останови секундомер.
Наумыч взял секундомер, сунул его в карман, потом посмотрел на шороховские пимы и покачал головой.
— Что же, не мог разве крепкие сапоги надеть? Ведь пальцы наружу торчат..
— Опять нотации, — с досадой проговорил Шорохов. — Полетов-то всего на три минуты, а разговоров на три часа.
Он отошел от Наумыча и крикнул Редкозубову, который возился у медленно вертящегося пропеллера:
— Ну, механик, всё, что ли? Залезай!
— Сейчас, сейчас, — отозвался Редкозубов. — Я одну только минуточку. Вот сейчас только за рукавицами в ангар сбегаю, забыл в ангаре.
Редкозубов, размахивая руками, побежал к ангару, а Шорохов залез в кабину самолета.
Мы все стояли вокруг, посматривая, как Леня Соболев привязывает под крыло свой метеорограф.
Вдруг Шорохов что-то крикнул и дал газ. Под дружный наш хохот Леня Соболев опрометью кинулся из-под крыла. Наумыч даже не успел щелкнуть секундомером, как самолет сдвинулся с места и покачиваясь побежал по снегу. Подпрыгнув последний раз на заструге, он оторвался от земли, и беспомощно и смешно повисли в пустоте его черные толстые лыжи.
От ангара, размахивая рукавицами, бежал Редкозубов. Он остановился на полдороге и, задрав голову, стал смотреть на удаляющийся самолет.
— Догоняй! — закричал ему Сморж. — Серафим Иваныч, крой наперерез, на повороте подсядешь!
Все засмеялись, заговорили, только Наумыч, нахмурившись и стиснув зубы, молча продолжал следить глазами за самолетом, который далеко-далеко, уже над Британским каналом, заворачивал на юг.
Леня Соболев, радостно потирая руки и подмигивая, подошел к Наумычу:
— А не хотел брать, — довольно сказал он, и мотнул головой на черную точку самолета. — Нет, у меня уж такое правило: что бы там человек ни говорил, а лучше сделать по-своему. Послушался бы его, вот и стоял бы тут теперь на земле, как дурак, со своим метеорографом. А теперь приборчик летит, работает, записывает. Хорошо!
Растерянно пожимая плечами и комкая в руках замшевые лётные рукавицы, к нам подошел Редкозубов.
— Что же это такое? Я же только на минуточку побежал. Это, прямо, я не знаю, что такое. Свинство, прямо!
— А ты не зевай, — смеясь проговорил Сморж. — Тут, братишка, надо ловить момент. Прозевал — и кончено.
Все снова стали следить за самолетом.
Прошло десять минут, пятнадцать, двадцать, а самолет и не собирался как будто спускаться на землю. Огромными кругами он поднимался все выше и выше, забирался под самые облака.
Уже едва-едва доносилось до нас ровное стрекотание его мотора.
— Вот тебе и попрыгал по бухте, — сказал Леня Соболев. — Жди его теперь, когда он сядет.
Леня что-то пошарил в карманах своего полушубка, вытащил какой-то ключик и, протянув его Каплину, строго сказал:
— Ну, Лаврентий, пошли. Нечего тут стоять. Надо зонд готовить. Может, сегодня к вечеру выпустим. Сколько дней с этим штормом потеряли.
Они ушли. Ушел и Сморж со Стремоуховым.
Мы остались одни на опустевшей стартовой площадке — Наумыч, Редкозубов и я.
— Вот уж и мотора не слыхать, — тихо сказал Редкозубов. — Куда же это он полетел? Тысячи на полторы уж, поди, забрался. Пожалуй, минут сорок всё поднимается и поднимается. На потолок, что ли, пошел? Не понимаю.
Наумыч все также молча, достал из кардана часы, посмотрел на циферблат, сдвинул брови.
Теперь самолет — уже чуть-чуть приметная черная точка — то и дело исчезал в белесоватых рваных облаках, в какой-то легкой дымке.
— Да, значит, на потолок, — еще раз сказал Редкозубов. — На три тысячи метров, значит, пошел.
Он вздохнул, покачал головой, осмотрелся по сторонам.
— Кто это там бежит — никак Ромаша?
По льду бухты к нам приближался несуразными, мелкими прыжками какой-то человек в длинной шубе, подпоясанной подмышками, в высокой остроконечной шапке.
— Ромаша и есть. Первый раз вижу, как Ромаша бегает. Ну прямо как кролик.
Это был, действительно, Ромашников. Не добежав до нас метров двадцати, он остановился и пошел шагом. Еще издали он закричал, махая в воздухе какой-то бумажкой:
— Что же это, Платон Наумыч, за безобразие такое! Я в таких условиях тогда просто откажусь работать, вот и все. Пусть сами составляют прогнозы!
Лицо у него было обиженное, он с ненавистью посмотрел на Редкозубова, презрительно оттопырил нижнюю губу.
— Прямо издевательство какое-то и больше ничего. Что вы, Серафим Иванович, смеетесь? Это очень прискорбно, а не смешно. Вот что!
— Да я и не смеюсь, — сказал Редкозубое, едва сдерживая улыбку. — Очень уж вы интересно бегаете. Как кролик, прямо.
Ромашников хотел было что-то ему ответить, но от злости только фыркнул и, протянув Наумычу свою бумажку, обиженно сказал:
— Я же при вас, Платон Наумыч, за завтраком говорил, что советую подождать двенадцатичасового прогноза. Неужели же нельзя было тридцать минут подождать? Тогда надо уничтожить к чорту всю нашу метеорологическую службу, вот и все. И вы тоже хороши, — набросился он на меня. — Вы-то, метеоролог, должны бы понимать. Они-то, — он показал плечом на Редкозубова, — конечно, ничего в этом не смыслят, а вы ведь, как ни как, метеоролог.
Наумыч взял у Ромашникова бумажку и молча стал читать ее, а я сказал:
— Да в чем дело-то? Что вы так волнуетесь?
— Что я волнуюсь? — проговорил Ромашников трясущимися губами. — Вот чего я волнуюсь.
И он ткнул пальцем куда-то в сторону Рубини-Рок. Я повернулся.
По склонам горы Чурляниса, точно сметана из опрокинутого великанского горшка, перекатывающимися валами быстро сползал, стекал в бухту плотный, густой туман. Он уже затопил высокие купола ледников и надвигался на бухту, на ледник Юрия, на Рубини-Рок.
— Туман, — бледнея, сказал Редкозубов.
Кругом было все так же тихо. Слышно было, как тонким голосом скучно лает где-то собака, как стучит на айсберге кирка, отбивая глыбы льда, как далеко, у Камчатки, переговариваются Вася Гуткин и Гриша Быстров.
Только теперь мы увидели, что все небо стало, как вата, ровного мутно-белого цвета и, кажется, опустилось совсем низко над землей. Где-то там, высоко над этой серой, плотной ватой, был самолет.
— Вот чего я волнуюсь, — еще раз сказал Ромашников. — Очень странно, что вас это нисколечко не волнует. Как вот теперь он будет садиться?
Редкозубов растерянно посмотрел на Наумыча, потом опять на небо, на подползающий к нам туман.
— Беда, Платон Наумыч, — тихо сказал он.
Наумыч аккуратно спрятал в карман ромашниковский запоздавший прогноз, неторопливо застегнул шубу на все пуговицы, тщательно натянул меховые рукавицы, поправил обеими руками шапку, будто собирался не то бежать куда-то, не то бороться, и наконец спокойно, негромко сказал:
— Ударить тревогу. Всех на улицу.
Мы стояли против него, глядя ему в глаза, ожидая дальнейших приказаний.
— Ну, — так же тихо и спокойно проговорил Наумыч. — В чем же дело? Я, кажется, сказал — ударить тревогу, всех на улицу.
Мы повернулись и бросились бежать к домам, к сараям…
Бам-бам-бам-бам-бам! — понесся над зимовкой бестолковый набат нашего сигнального колокола.
Я вбежал в тихий, пустой старый дом.
— Тревога! Все на улицу! — закричал я, пробегая по коридору и колотя в каждую дверь. — Тревога! Тревога!
Из дверей стали выскакивать перепуганные люди: Ступинский в нижней рубахе, со скрипкой и смычком в руках, Арсентьич со сковородкой, с которой падала на пол мелко нарезанная картошка, профессор Горбовский почему-то с карандашом в зубах.
Савранский выбежал из кладовой, держа в одной руке двухстволку, а в другой стеклянную банку с монпансье. Теряя огромные калоши, он бросился следом за мной.
— Тревога! Тревога! Все на улицу!
Я ворвался в кают-компанию, рывком дернул переводной рычажок на цифру 4 и принялся крутить ручку телефона.
— Алло! Алло! Рубка! Рубка!
Ступинский, Арсентьич, Горбовский, Савранский не дыша стояли возле меня и смотрели мне в рот.
— Рубка? Это кто? Костя? Шорохов улетел с зимовки. Туман. Он не сможет сесть. Немедленно все на улицу, к старому дому. Приказ начальника.
Я положил трубку: вокруг меня уже не было никого. Уже где-то в комнатах гремели стулья, слышался грохот наколачиваемых на ноги сапог, захлопали двери, дробно стуча, промчался по коридору один человек, другой, третий.
Я выбежал из дома.
Ни острова, ни бухты, ни скал, ни айсбергов — только густой белый туман, в котором то и дело проносятся какие-то тени, глухо раздаются тревожные голоса, лай собак, скрип полозьев, какой-то треск и грохот.
— Заворачивай на старую пристань! — кричит кто-то. — Заноси нарту! Держи передового!
— Лопаты брать? Борька, брать лопаты? Да Борька же!
«Это, наверно, каюры вернулись, — они ведь ездили по бухте», подумал я и побежал на голоса.
— Приготовьсь! Та-та!
Мимо меня чортом пронеслась упряжка. На нарте лежали каюры и дико свистели в четыре пальца, а сзади, вытаращив глаза, бежал Вася Гуткин с лопатами на плече.
— Стойте! Стойте! — прокричал он и исчез в тумане.
У дома топорами, ломами, лопатами зимовщики вырубали, выворачивали из сугробов старые, занесенные снегом ящики, тут же кололи, ломали, раздирали их и с охапками обледенелых досок сломя голову бежали куда-то.
Тяжело отдуваясь, промчались мимо меня Редкозубов и Костя Иваненко.
— Я же тебе говорю, — задыхаясь кричал на бегу Костя, — что нет у меня масла! Я сам только что ехать за ним собрался!
— Выпусти из мотора! — крикнул Редкозубов и, свернув вправо, побежал в ангар.
— Как же я его выпущу, а вдруг мотор понадобится! Может, передача какая будет! — закричал вслед ему Костя и, не дождавшись ответа, махнул рукой и побежал в гору, к радиорубке.
Прямо на льду бухты уже лежала целая куча разломанных ящиков. Гриша Быстров суетился около них, поправлял доски, подкидывал щепок. Потом он стал на колени и принялся чиркать спички.
— Они же так не загорятся, Платон Наумыч, — говорил он, снизу вверх взглядывая на огромного Наумыча, который неподвижно стоял над Гришей, как статуя. — Ни за что же не загорятся!
— А я говорю — зажигай, — угрюмо бубнил Наумыч. — Пока они керосин да масло принесут, тут целый год пройдет. Зажигай, зажигай.
Подбежал Савранский, он тоже бросился на снег и, складывая ладони коробочкой, стал чиркать спички, совать их под сырые, обледенелые доски.
Запыхавшись, подошел Ромашников, неуклюже вытянулся и выпятив, как новобранец, живот, по-военному доложил Наумычу:
— Ваше приказание исполнено, только он говорит, что вся картошка перепреет, если обед отложить. Я ему говорю, что можно картошку…
— Ладно, ладно, — отмахнулся Наумыч, — сядьте лучше, отдохните. А что Стремоухов?
— Сейчас идет. Вот он.
Стремоухов подошел, молча остановился, заложив руки за спину и отставив одну ногу.
— Почему около дома не оказалось не только напиленных дров, но и целых бревен? — отрывисто спросил Наумыч. — Вы разве не знаете, что около дома всегда должен быть запас дров?
Стремоухов пожал плечами.
— Не могу же я, Платон Наумыч, и за водой ездить, и за дровами, и картошку чистить, и посуду мыть. У меня не десять рук.
Наумыч с изумлением поднял брови.
— То есть почему же это, собственно, вы не можете? Борис Виллих, у которого тоже только две руки, мог, а вы не можете?
— Я кухонным мужиком никогда еще не работал, — сказал Стремоухов, глядя в сторону.
— Ну, вот что, гражданин Стремоухов. Сейчас не время обсуждать, кем вы работали, а кем не работали. Об этом поговорим в другое время и в другом месте. А сейчас марш на старую пристань — помогать каюрам и Гуткину привезти бревен для костра.
Вдруг Наумыч поднял голову и замер, как бы к чему-то прислушиваясь. Невольно прислушался и я.
И вдруг мне показалось, что где-то в тумане гудит самолет. Я оглянулся на Наумыча. Кажется, и он что-то заметил. Он поднял руку.
— Шш-ш-ш, — сказал он. — А ну, поджигатели, потише.
Гриша Быстров и Савранский замерли над досками, тоже прислушиваясь к какому-то далекому шуму.
— Самолет, — шопотом проговорил Гриша и поднялся с колен. — Ей-богу, самолет.
Да, это самолет. Все ближе, все яснее, все громче. Чуть слышное стрекотание переходит в ровный гул, гул растет, надвигается на нас. В тумане, невидимый, мчится к нам самолет.
С ревом, со звоном, с гудением, как пуля, он проносится прямо над нашими головами. Мы поворачиваемся вслед замирающему гулу и звону. И вдруг, как-то сразу, точно обрезанный ножом, этот гул пропадает.
Путаясь в длинном кожаном пальто, подбегает бледный Редкозубов с бидоном в руках.
— Пролетел! — кричит он. — На полных оборотах. Туда полетел, к ледникам!
— А почему мотор заглох? Почему так сразу? — бросается к нему Наумыч. — Вы слыхали?
— Может, он сел? — растерянно говорит Редкозубов. — Да нет, куда же он может сесть в таком молоке?
— А на ледник он наскочить в тумане не мог? — быстро спрашивает Наумыч. — На купол ледника? Савранский, — поворачивается он, — какой высоты ледник Гукера?
— Около двухсот пятидесяти метров…
Редкозубов качает головой.
— Нет, едва ли. Он шел выше. Метров на четыреста, на пятьсот шел. Он же знает, что тут и Рубини-Рок, и плато, и ледник. Ниже он лететь не мог.
— По-моему, он летел очень низко, — говорит Савранский. — Слышно же было, что низко.
— И по-моему — низко, — говорит Наумыч. — Очень низко. Совсем над головами.
Редкозубов плещет из бидона на кучу досок керосин.
— Нет, нет, — говорит он, — метров на четыреста от земли летел. Это так в тумане отдается. Это обман. Это только кажется так, что низко. Я уж знаю.
Он бросает на доски горящую спичку, и желтый дымный огонь с гудением взвивается над костром.
Совершенно задыхаясь, подбегает Костя Иваненко, тоже с бидоном.
— Пролетел! Пролетел! Слыхали — пролетел? — кричит он.
И свободной рукой показывает, куда пролетел самолет.
Костя весь мокрый, от него валит пар. Он ставит бидон на снег, поспешно вытирает пот варежкой, суетится.
— Из мотора все до капли вылил. Теперь тряпок надо, мешков, что ли, каких-нибудь, рогожек.
— Лей прямо на доски. Тряпки сейчас принесут, — командует Наумыч.
Костя наливает из бидона в консервную банку густого золотистого масла и плещет в огонь. Черный густой дым, как столб, крутясь и завывая, встает над огнем.
К костру сбегаются встревоженные зимовщики. Стучинский приносит целый ворох всякого тряпья — каких-то старых штанов, курток, шапок, ватников. Все это валят в огонь. Костя поливает тряпье маслом.
— Такой дымище из Архангельска, наверное, видно, — говорит Гриша Быстров, загораживая ладонью лицо от жаркого огня.
С гиканьем, со свистом из тумана подъезжает собачья упряжка. На нартах навалены огромные бревна.
Мы плотным кольцом обступаем костер. Красные угли, шипя и дымя, падают с обгорающих досок в уже натаявшую под костром воду.
Огонь, высотой в человеческий рост, гудит, трещит, пляшет, завывает. От огня становится жарко. Наши валенки, пимы, сапоги, высыхая, начинают дымиться.
Мы долго молча стоим у костра.
— Что же теперь делать-то? — наконец говорит Редкозубов. — Может, он заплутался в тумане и летает где-нибудь? А то залетел за остров и сел в пролив, — может, там и тумана-то никакого нет. Бывает ведь так, что в одном месте туман, а рядом совсем ясно? — обращается он к Ромашникову.
— Конечно, бывает, — говорит Ромашников. — За двадцать верст отсюда тумана уже может не быть, а по ту сторону острова и подавно. Может, он залетел и сел. Очень просто.
Опять все замолчали, выжидающе поглядывая на Наумыча.
— Вот что, — наконец говорит он и, насупившись, жует нижнюю губу. — Вот что, товарищи. Безбородов здесь? Сейчас составить список дежурств у костра. Дежурят все без исключения — по одному часу. Нас осталось девятнадцать человек, так вот, чтобы костер горел, не затухая, девятнадцать часов. Сморж тут?
— Здесь.
— Возьмешь две банки аммонала, побольше которые, и взорвешь их на айсберге, так через полчаса одну после другой. Иваненко!
— Здесь Иваненко, — ответил Костя, выдвигаясь вперед.
— Подготовить мотор радиостанции. Ты там масло, что ли, из него вылил? Чтобы мотор через полчаса был совершенно готов. Будет большая передача. Предупредишь радиста.
Наумыч посмотрел в костер, сощурился от яркого света, опять пожевал губу.
— Стремоухов!
Мы переглянулись. Стремоухова среди нас не было.
— Стремоухов! — опять позвал Наумыч.
— Он сказал, что у него руки озябли, — проговорил Желтобрюх, — сказал, что пойдет в дом. Позвать?
— Не надо. Передашь сам Стремоухову от моего имени, чтобы сегодня весь остаток дня и всю ночь в кают-компании был горячий чай и кофе; чтобы был хлеб и всякая еда. Сегодня уж придется ему не поспать. Ну, а сейчас всем, кроме Сморжа и дежурного у костра, итти обедать. На обед — полчаса.
Первым остался у костра Каплин, а мы всей гурьбой, толкаясь и переговариваясь, поспешно пошли в старый дом.
«Как на аврале, — подумал я. — Тогда тоже на обед давалось только полчаса».
В доме, действительно, стало сразу как во время аврала. Всюду хлопают двери, встревоженные люди снуют взад и вперед по коридору, громко переговариваясь и перекликаясь, без умолку звонит телефон, и кто-то кричит:
— Рубка! Рубка! Да что вы там, умерли, что ли? Рубка!.
А в коридоре другой голос орет на весь дом:
— Романтиков! Романтиков! Немедленно к начальнику.
И кают-компания сразу превратилась в какой-то табор: кто сидит в шапке, кто стоит около стола и, наклонившись, поспешно хлебает суп, капая на стол, на одежду, на пол. Все места перепутались — я сижу на месте Стучинского, Лызлов — на моем месте, а во главе стола на Наумычевой табуретке восседает Желтобрюх. Рядом с его тарелкой лежат рукавицы и собачий ошейник.
В кают-компании гам, крик, никто не дожидается, пока служитель принесет следующее блюдо, — каждый сам бежит со своей тарелкой на кухню, где Арсентьич гремит сковородками, кастрюлями, мисками, мечется от плиты к столу, от стола к бочке со снегом.
В кают-компанию поспешно входит Наумыч. Он пристраивается на краешке стола и торопливо начинает есть все, что попадается под руку.
— Фомич! — зовет он и стучит вилкой по тарелке.
— Есть Фомич, — отзывается Стучинский, прожевывая кусок.
— Сейчас вместе с Быстровым и Гуткиным поднимитесь на плато, — говорит Наумыч, пихая в рот колбасу, селедку, шпроты. — С плато хорошенечко, в бинокли, осмотрите окрестности. Ромашников вот говорит, что через полчаса совсем прояснится.
— Да, минут через сорок, думаю, будет чисто, — подтверждает Ромашников.
— Ну, вот. Осмотрите все хорошенечко и сигнализируйте нам. Пять выстрелов из винтовки, если вы что-нибудь услышите, — например, шум мотора. Три выстрела, если увидите какой-нибудь огонь или самолет, или человека. И одиночные редкие выстрелы, если ничего не увидите и не услышите. Отправляться немедленно. Возьмите палки, веревки, фонари. Вы — старший. Есть?
— Есть, — отвечает Стучинский, вставая из-за стола. — Гриша, Вася, пошли.
Быстров и Гуткин бросают ложки и вилки, тоже лезут из-за стола, на ходу прожевывая мясо, надевая шапки, подтягивая пояса, пихая в карманы хлеб, куски сыра и колбасы.
— Ромашникову, Соболеву, Редкозубову, Горбовскому, Линеву, Безбородову, — продолжает Наумыч, — сейчас же собраться в ангаре на совещание.
— А мне скоро уже к костру, — покашливая, басит Горбовский, — после Каплина моя очередь.
— Перенести очередь профессора Горбовского на час позже, — распоряжается Наумыч.
Мы сразу бросаем обед, одеваемся и гуськом выходим из дома.
Тумана уже почти нет. Только у подножья Рубини висит сизая дымка. Уже почти совсем стемнело, хотя еще только два часа дня. На льду ярко горит огромный костер, и черная фигура Каплина отчетливо вырисовывается на золотом искристом пламени.
____________
В опустевшем ангаре стоит огромный самолетный ящик, который Шорохов и Редкозубов приспособили под мастерскую и склад. Ящик такой большой, что в одной половине его помещается склад, а в другой — стоит диван, железная печка, вдоль всей стены устроен широкий стол. Стол завален французскими ключами, гайками, винтовочными патронами, осветительными ракетами. На диване валяются собачьи шубы, бинокли, авиационные очки.
В ангаре и в ящике холодно, как на улице.
Мы рассаживаемся на диване, кутаясь в шубы и постукивая ногу об ногу. Изо рта у нас валит пар, который сразу заволакивает весь ящик.
Тускло, как в тумане, горит над столом электрическая лампочка в 25 свечей.
Наумыч стоит у стола.
— Очевидно, самолет где-то опустился, — медленно говорит он. — Очевидно также, что без борт-механика одному Шорохову снова не подняться. А на самолете нет ни запасов продовольствия, ни топлива, ни оружия, ни теплой одежды, ни палатки, так как Шорохов, по его словам, собирался упражняться только на отрыв и посадку. Ясно, что разутый, раздетый человек без пищи и без оружия на таком морозе долго не протянет. А если допустить, что при посадке в тумане могла случиться авария и летчик мог быть ранен, то положение становится особенно серьезным. Но будем все-таки думать, что Шорохов жив и здоров. В таком случае он или ждет нашей помощи у самолета, или бросил машину и сам, по карте, пошел к зимовке.
— Ему зимовку все равно не найти, — вдруг угрюмо сказал Редкозубов.
— Почему?
— Потому что на самолете нет карты.
В ящике воцарилась глубокая тишина.
— Как нет карты? — медленно и тихо проговорил Наумыч. — Почему нет карты?
— Потому что Шорохов ее не взял, — опять угрюмо сказал Редкозубое. — Вон она, на столе валяется.
Мы все посмотрели на стол. На пачках ружейных патронов лежала какая-то вчетверо сложенная бумажка. Наумыч взял ее и развернул. Это, действительно, была карта Земли Франца-Иосифа.
— Ну, тогда дело совсем дрянь, — сказал Наумыч. — У кого есть какие-нибудь предложения — пусть говорит. Только, товарищи, пожалуйста, высказывайтесь покороче. И так уже много времени прошло.
Мы молчали, поглядывая друг на друга.
— Тогда вот что сделаем, — проговорил Наумыч. — Я буду опрашивать всех по очереди. Ваше мнение, товарищ Романтиков. Что вы считаете необходимым предпринять сейчас для розысков летчика и самолета?
Ромашников судорожно закурил папироску, выпустил огромный клуб дыма и прерывающимся голосом сказал:
— По-моему, надо завтра утром послать на поиски экспедицию. Товарищи рассказывали, — я-то сам в это время дома был, — что самолет промчался вот в ту сторону, примерно туда, где купол ледника. В этом направлении и надо искать. Только, по-моему, экспедицию надо послать не прямо через ледники, а по берегу, чтобы она обогнула остров Гукера и разыскивала самолет на той стороне.
Наумыч взял со стола карту, передал ее Ромашникову.
— Как, по-вашему, где это может быть, где его надо искать?
Ромашников разостлал карту у себя на коленях, и мы все склонились над ней.
— Он, наверное, вот сюда полетел, — сказал Ромашников, прочерчивая пальцем линию с запада на восток, через бухту Тихую и ледники. — Значит, вот в районе этого острова. Как он называется? Ага, остров Королевского общества. Вот здесь и надо искать самолет.
Наумыч взял карту.
— Следующий, товарищ Редкозубов. Ваше мнение?
— А по-моему итти надо прямо через ледники, — решительно сказал Редкозубов. — Незачем обходить остров. Это и далеко и долго. Прямо подняться на ледник и по леднику итти. Вот мое мнение. И не такое уж это трудное дело. У меня в Альпах почище случай был…
— Хорошо, потом расскажете, — перебил его Наумыч. — Безбородов, ты что думаешь?
— Я присоединяюсь к Ромашникову, но считаю, что экспедиция должна выйти не утром, а немедленно. Сейчас же надо начать сборы и, как только все будет готово, — выходить. По-моему, часа в три ночи можно было бы уже отправиться.
— Соболев?
— Поддерживаю предложение Безбородова.
— Вы что скажете, Илья Ильич?
Профессор Горбовский басисто откашлялся, склонил голову набок, как пристяжная, и, не глядя ни на кого, сказал:
— Предложение товарища Ромашникова я считаю наиболее эффективным. Но подобная экспедиция нуждается в тщательной подготовке. Выступать надо не раньше утра. Иных предложений не имею.
— Ну, ты, Борис?
— Я думаю, что выступать надо немедленно, как только соберемся, — сказал Боря Линев.
— Значит, экспедицию? — спросил Наумыч.
Боря пожал плечами.
— А чего же еще? Конечно, экспедицию. Послать сегодня большую, дальнюю экспедицию, а завтра с утра искать поблизости на лыжах и пешком. По-моему, так.
Наумыч минутку подумал, посмотрел на карту, пожевал губами, потом решительно хлопнул ладонью по столу.
— Хорошо. Значит, посылаем экспедицию.
Он опять задумался, пристально осмотрел нас.
— В экспедицию пойдут: Горбовский, Редкозубов и Линев. Троих вполне достаточно. Забрать все продовольствие и снаряжение, приготовленное для экспедиции на Альджер. Сборы начать немедленно. Выступить в три часа ночи. Вас, Илья Ильич, — продолжал Наумыч, обращаясь к Горбовскому, — я назначаю начальником экспедиции. Линев и Редкозубов поступают с этого момента в ваше полное распоряжение. Подробную инструкцию о маршруте и всей организации похода вы получите от меня через час. Больше разговаривать не о чем. Совещание закрыто.
— Платон Наумыч, — прогудел Горбовский, — я прошу, чтобы вы послали не троих, а четверых. Еще Савранского. Он уже практиковался и разбивать палатку, и нарты упаковывать, и всякие там пайки с вами составлял. Весьма разумно послать еще и Савранского.
— Нет, — твердо сказал Наумыч, покачав головой, — Савранский останется на базе. Я не могу сразу отпустить всех людей, хоть как-нибудь подготовленных к санным походам. Мы должны быть готовы ко всему. Может, нам еще и вас придется спасать. Вот тогда-то Савранский нам и пригодится. Нет, ретешно. Вы идете втроем. Ну, за работу!
Мы толпой вышли из ангара. Было уже совсем темно. Все так же ярко пылал в бухте огромный костер. Освещенный красным огнем, около костра ходил долговязый Желтобрюх, а по льду двигалась, обгоняя его, огромная черная тень.
И вдруг где-то в черноте, в высоте прозвучал одинокий винтовочный выстрел. Потом через минуту — другой. Еще через минуту — третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Редкие одинокие выстрелы.
— Значит, ничего не увидели и не услышали, — проговорил Наумыч.
Глава девятая
На поиски
Я сижу в комнате Наумыча у стола, заваленного бумагами, картами, бланками радиограмм. Пепельница полна окурков. Окурки и на блюдце стакана с остывшим чаем, и прямо на столе, и на полу.
Наумыч ходит из угла в угол, иногда останавливается за моей спиной, диктует мне приказы. Ежеминутно в дверь стучат, и входит то один, то другой зимовщик.
Ромашников приносит Наумычу на подпись радиограмму. Я заглядываю через руку Наумыча и читаю:
«Аварийная Сигнал X
«Всем станциям Карского бассейна точка Сегодня около 1 3 часов летчик Шорохов улетел с зимовки и пропал точка Рассвете Отправляем поисковую экспедицию точка Немедленно сообщите метеосводки за все сегодняшние сроки для составления синоптической карты погоды необходимой экспедиции Руденко».
Наумыч подписывает радиограмму.
Потом заявляются Боря Линев и Желтобрюх. Они докладывают, что вместо Буржуя, который чего-то кашляет, решено в упряжку поставить слепую Мильку. Не возражает ли Наумыч против Мильки? — Наумыч не возражает.
Потом врывается Савранский и захлебываясь начинает кричать, что у него забирают все мешочки для пшена и риса, которые он нашил и приготовил для своей экспедиции на Альджер.
Наумыч приказывает без разговоров мешочки отдать и помочь Горбовскому снарядить экспедицию.
После Савранского снова появляются каюры. Милька, оказывается, еще вчера порезала лапу о консервную банку, и ставить ее в упряжку никак нельзя.
— Может, Байкала взять? — говорит Боря Линев. — Он у нас тут по бухте ничего ходил.
— Байкала, Байкала, — ворчит Наумыч, — ты своего Байкала жалеть будешь, а тут жалеть собак не придется.
Боря Линев прижимает левую руку с растопыренными пальцами к груди:
— Ей-богу, Наумыч, жалеть не буду. В случае чего, лупить буду без спуску. Разве я не понимаю?.
— Ну, раз так, тогда бери своего Байкала.
Каюры выходят из комнаты, а в комнату уже лезет Редкозубов. Он просит разрешения взять в экспедицию ракетный пистолет, два килограмма аммонала и четыре капсюля.
За Редкозубовым появляется повар Арсентьич, за Арсентьичем — радист.
Каждую минуту я отрываюсь от бумаги, жду, пока Наумыч выслушает очередного просителя, разрешит или откажет, подпишет что-то, или спрячет в папку какой-нибудь рапорт, какую-нибудь расписку.
Наконец приказы готовы. Наумыч вызывает Горбовского и Ступинского. Ступинский давно уже вернулся с плато и уже доложил, что «никаких следов летчика Шорохова и его самолета установить не удалось».
— Илья Ильич, — говорит Наумыч, обращаясь к Горбовскому, — сейчас я передам вам приказ, который будет служить вам инструкцией, совершенно обязательной для исполнения. Читай, Сергей.
Я читаю приказ.
ПРИКАЗ № 11
по научно-исследовательской базе на Земле Франца-Иосифа.
17 февраля 1934 года, 18 часов 15 минут
Бухта Тихая
§ 1
В ночь с 17 на 18 февраля, немедленно по окончании подготовки спасательной экспедиции в составе тт. Горбовского И. И., Редкозубова С. И. и Линева Б. Ф., выйти на поиски летчика Шорохова, вылетевшего на самолете У-2 с аэродрома бухты Тихой в 12 ч. 20 мин. и до сего времени не возвратившегося на базу.
Начальником спасательной экспедиции назначаю профессора Горбовского Илью Ильича.
§ 2
Экспедиции с одной собачьей упряжкой итти по береговой линии острова Гукера на вест, вест-норд-вест, выйти в пролив Аллена Юнга и следовать проливом вдоль береговой линии Гукера, стремясь осмотреть с северо-восточной стороны остров Королевского общества.
§ 3
В случае если экспедиция найдет летчика Шорохова живым, тов. Шорохов Г. А. поступает в полное и беспрекословное подчинение начальнику экспедиции профессору Горбовскому, которому приказываю приложить все усилия к скорейшей доставке тов. Шорохова на базу.
§ 4
В случае гибели летчика Шорохова принять все меры к доставке трупа погибшего на базу. В последнем случае надлежит составить полное описание положения и состояния самолета У-2 и его командира, снять с самолета метеорограф и доставить его на базу, а остальные приборы и механизмы самолета ни в коем случае не трогать и не изменять их положения для последующего фотографирования как места катастрофы, так и самих механизмов управления самолета.
§ 5
Всем участникам экспедиции вменяю в обязанность беспрекословно исполнять все приказания и поручения тов. Горбовского, памятуя, что он несет целиком всю ответственность за успешное завершение данной экспедиции.
§ 6
Проф. Горбовскому предлагаю вести, с момента выхода экспедиции, путевой журнал, занося в него все полагающиеся в таких случаях сведения о маршруте, происшествиях, состоянии людей и упряжки.
Начальник научно-исследовательской базы на Земле Франца-Иосифа доктор Руденко.
Я торжественно передаю Горбовскому приказ. Он складывает его вчетверо, бережно прячет во внутренний карман меховой куртки и говорит, по обыкновению сипло покашливая:
— Будет сделано все, что только можно. Сейчас люди ложатся на два часа спать. Собак ловит Желтобрюх, а отбирает продукты и упаковывает их Савранский. Думаю, что часам к четырем, к пяти утра мы уже сможем выступить.
— Не к четырем, — перебивает его Наумыч, — а к трем. В три часа вы должны выступить. Ровно в три часа.
Горбовский молча встает и выходит из комнаты.
— Теперь с вами, — говорит Наумыч, обращаясь к Стучинскому. — Вот возьмите этот приказ, ознакомьтесь с ним и вывесите его в кают-компании.
Стучинский берет у него из рук лист бумаги, начинает читать:
ПРИКАЗ № 12
по научно-исследовательской базе на Земле Франца-Иосифа 17 февраля 1934 года, 19 ч.10 м.
Бухта Тихая
§ 1
С рассветом 18 февраля пешеходной партии в составе тт. Стучинского, Лызлова и Сморжа вновь подняться на плато Гукера и достигнуть наивысшей точки плато, с которой открывалось бы максимальное поле зрения.
Приказываю продвигаться только по естественному грунту, отнюдь не поднимаясь на ледники.
К вечеру 18 февраля партия должна возвратиться на базу, а в случае ухудшения погоды повернуть обратно немедленно.
§ 2
Начальником партии назначаю тов. Стучинского, которому приказываю своевременно обеспечить партию продовольствием из расчета 3-дневных запасов и необходимым снаряжением.
В случае нахождения летчика Шорохова и самолета У-2 руководствоваться § 3 и 4 приказа № 11.
§ 3
К утру 18 февраля тт. Безбородову и Виллих выйти с базы на лыжах и итти в направлении мыс Медвежий, мыс Дунди для обследования этого участка острова и проливов.
§ 4
Начальником лыжной партии назначаю тов. Безбородова, которому и приказываю вернуться на базу до наступления темноты, а в случае ухудшения погоды повернуть назад немедленно. В случае обнаружения летчика Шорохова или самолета У-2 руководствоваться § 3 и 4 приказа № 11.
Начальник научно-исследовательской базы на Земле Франца-Иосифа
доктор Руденко.
Было уже около полуночи, но никто, кроме Горбовского, Линева и Редкозубова, и не собирался спать.
Выйдя из старого дома, я отправился к костру, у которого стояло несколько человек.
С треском и воем пылали цельные бревна, стреляя золотыми искрами. Лызлов, дежуривший у костра, все время плескал на огонь керосином. Под бревнами уже натаяло целое озеро. В мутной воде плавали черные угли и весело отражалось высокое рыжее пламя.
Около костра, кроме Лызлова, стояли Желтобрюх и Сморж.
— Да, не имеет права, — горячо говорил Желтобрюх, заслоняя ладонью лицо от жара пылающих бревен. — И на Большей Земле нет такого порядка, а здесь и подавно.
Сморж исподлобья взглянул на меня, подвинулся, давая мне место, ловко сплюнул сквозь зубы в самый огонь и упрямо сказал:
— Летчик никому не подчиняется. Ему указывать нечего. А какой там порядок на Большой Земле, этого мы не знаем.
— Ты не знаешь, а я знаю, — резко ответил Желтобрюх.
Сморж опять сплюнул в огонь.
— То-то тебя и вышибли из борт-механиков. Больно уж ты много знаешь.
— Меня не за это вышибли, — сказал Желтобрюх. — А вот что Шорохову на Большой Земле за его самоуправство скажут, это мы еще посмотрим. Думаешь, он орден получит? Не получит, не думай. За такой полет у нас в Таганроге сразу бы под суд отдали. А там и карта-то совсем почти не нужна — кругом деревни, города, станции. Летишь, например, в Ростов — держись все время вдоль железной дороги и все. Никуда не собьешься. А вот теперь поглядим, как он будет дорогу искать. Тут дороги ни у кого не спросишь.
— А чего ему спрашивать? Я вот, например, по одному компасу куда хочешь корабль проведу. Мне никакой карты не нужно. И летчик тоже без карты не пропадет. Что я не знаю, что ли? Я мореходку почти что кончил. Вся эта навигация у меня от зубов отскакивает.
— Как же это ты без карты корабль проведешь? — тихо спросил Лызлов, поправляя ногой обгоревшие бревна.
— Очень просто. Надо мне, вот, например, к салотопке проплыть, я сразу взгляну на салотопку, потом на компас. Ага, салотопка на север. Значит, подаю команду рулевому: курс норд, полный вперед. К салотопке.
— Ну, а если тебе, например, надо не к салотопке, а в Лондон проплыть, тогда как? — все так же тихо, не глядя на Сморжа, спросил Лызлов.
— В какой Лондон? — растерянно спросил Сморж.
Желтобрюх радостно захохотал.
— В Лондон, в Англию, — сказал он. — До салотопки-то я не то что без карты, а даже без компаса доплыву. А вот как ты в Лондон без карты попадешь? Тоже, значит, сначала на Лондон посмотришь, потом на компас, и давай командовать: полный вперед, качай в Лондон! Или как?
Сморж толкнул Желтобрюха локтем.
— Что ты мне голову-то морочишь! Лондон совсем другое дело, а он ведь не в Лондон полетел. Зачем ему карта, раз он тут, вокруг зимовки летает. Лондон — дальнее плавание, а это каботажное. Две больших разницы.
— Ну, ладно, — смеясь проговорил Желтобрюх. — Тогда скажи, как ты к мысу Сесиль Гармсуорт, например, поплывешь вот отсюда, от костра, если у тебя нет карты? Это уж не в Англию, это тут, на Франце — каботажное плавание.
— По компасу и поплыву, — свирепея, закричал Сморж. — Если на юг, так на юг, если на север, так на север.
— А магнитное склонение? — улыбаясь спросил Лызлов.
Сморж махнул рукой.
— А ну вас к чорту! Вы кого хочешь с толку собьете. Что вы ко мне привязались! Карта, карта! И молодец, что полетел без карты. По карте-то каждый дурак слетает. Вот увидите, он вам всем носы утрет.
Желтобрюх ничего не ответил и только с досадой пожал плечами. Все замолчали.
— А мороз-то все крепчает, — вдруг ни с того ни с сего сказал Лызлов, — градусов, поди, уж под тридцать.
— Да-а, — вздохнул Желтобрюх, — где-то он теперь?
Ночь была темная, морозная, тихая. Чуть виднелись в темноте смутные очертания Рубини-Рок и каким-то странным фосфорическим светом мерцал, отражая звездный блеск, круглый купол ледника Гукера.
И я вдруг ясно представил себе, что, может быть, вот сейчас, в эту самую минуту, где-то во тьме бредет человек — один, голодный, замерзающий. Может быть, он заплутался и все дальше и дальше уходит от нас. Он будет итти день, два, и ни один звук не нарушит тишины вокруг него, и сколько ни зови, ни кричи, ни плачь, — никто его не услышит, и сколько ни иди, — вокруг него будет все тот же лед и снег, только лед и снег, какие-то острова, какие-то проливы, безлюдные, молчаливые…
А может быть, он уже мертв?.. «Как странно, — подумал я, — никто из нас ни разу громко не сказал о том, что, может быть, Шорохов уже умер».
— А собаки-то у тебя готовы? — тихо спросил Лызлов у Желтобрюха.
— Да нет, — ответил Желтобрюх и, прищурившись от яркого света, посмотрел во тьму, — никак переловить всех не могу. Четырех поймал, а Хулиган, Байкал и Чарлик, как будто догадались проклятые, никак в руки не даются. Измучился прямо. Мясом вот манил, — он вытащил из кармана кусок нежно-розового сырого мяса и показал нам, — и на мясо даже не идут.
— Никак свинина? — подозрительно спросил Сморж.
— Свинина. Арсентьич выдал для приманки. Ну, пойду ловить, — добавил он, бросил в костер окурок папироски, неторопливо натянул рукавицы, поправил шапку и зашагал в темноту — долговязый, тонконогий, нескладный.
— Тоже каюр называется, собак поймать не может, — проворчал Сморж, глядя ему вслед.
Я медленно пошел в старый дом. Снег под моими ногами визжал и звенел. «А верно ведь градусов тридцать будет», — подумал я, подходя к дому.
В кают-компании, у стола, заставленного тарелками, кружками, банками консервов, сидели Вася Гуткин, Савранский, Каплин и пили чай. Пили они лениво, медленно, видно было, что они давно уже пьют, что пить им уже надоело, а делать больше нечего.
— Человек без пищи долго не протянет, — тихо, со знанием дела говорил Вася Гуткин, прихлебывая чай. — Две недели — это уж я считаю самое большее, а так, на круг, надо класть дней десять. Опять-таки где: в комнате если, в тепле, это — одно, а на дворе, в мороз или там в буран — другое.
— В Америке какой-то американец сто дней ничего не ел на спор, — проговорил Каплин и, вздохнув, стал жевать кусок копченой колбасы.
— А воду он пил? — спросил Вася Гуткин, прищурившись.
— Воду, кажется, пил. Да, верно, пил, — воду с сахаром.
— Ну, вот. Это, милок, совсем не то. А ты попробуй, чтобы ни синь пороху во рту не было. Больше десяти дней ни за что не выдержать.
— Он и десяти дней в такой мороз не выдержит, — проговорил Савранский. — Скотт замерз на шестой день, а у Скотта была и палатка, и спальный мешок, и теплая одежда. Нет, я считаю, что больше трех дней он не продержится.
Савранский посмотрел на старинные стенные часы «Король Парижа», висевшие у нас в кают-компании, и поднялся из-за стола.
— Пожалуй, пора уже будить.
Через несколько минут в кают-компанию пошатываясь вошел заспанный, красноглазый Боря Линев. Громко зевая и потягиваясь, он плюхнулся на табуретку, посмотрел на нас осоловелыми глазами.
— А где Желтобрюх?
— Собак ловит, — сказал я. — Никак твоего Байкала поймать не может.
Боря сразу проснулся, нахмурился, стал застегивать прорезиненную куртку.
— Так, — медленно сказал он. — Ну, что ж, значит, скоро и в путь-дорогу.
Громко стуча новыми черными башмаками, вошел выбритый, умытый, свежий Редкозубов. В руках у него была бритвенная кисточка, стакан с мутной мыльной водой и безопасная бритва.
— Борис, — сказал он, мельком взглянув на Борю Линева и проходя на кухню, — обязательно перед уходом побрейся, в дороге борода будет обмерзать — наплачешься.
— С бородой лучше, не так морду обморозишь, — угрюмо ответил Боря и потрогал подбородок, заросший рыжеватыми волосами. — Волосы, они греют.
В коридоре раздалось сиплое покашливание и кряхтение, и на пороге показался профессор Горбовский с измятым, посеревшим лицом. Он прижимал к груди два термоса, походный барометр и какие-то кулёчки.
— Вот это разложите по своим мешкам, — сказал он, передавая Боре термосы и кульки. — Поровну вам и Редкозубову. И сейчас же идите к салотопке. Будем укладываться..
У порожней нарты неподвижно и молча стоит закутанный в косматую шубу Наумыч. Он засунул руки в карманы, поднял воротник и спокойно наблюдает за бегающими вокруг людьми.
Костя Иваненко, кряхтя и чертыхаясь, тащит к нарте тяжелый фанерный ящик, из которого торчит железный верх походной печки.
— Примус с двумя горелками? — с опасением спрашивает его Боря Линев.
— С двумя, с двумя. И иголки там же, в коробочке в отдельной.
Ежеминутно к нарте подносят то одно, то другое: винтовку, связку веревок, какие-то свертки, лыжи, оленьи шкуры, малицы, спальные мешки.
Савранский и Боря Линев быстро и аккуратно укладывают все это на нарту, а рядом суетится Стучинский с каким-то ящиком в руках.
— Товарищи, — умоляющим голосом говорит он, — а куда же хронометр? Хронометр-то куда же? Илья Ильич, я там вложил записочку внутрь, в футляр. Поправка все та же: 8 часов 43 минуты 23,3 секунды.
— Где пол от палатки? — кричит Боря Линев.
Лают собаки, мелькают фонари.
К Наумычу подходит Горбовский.
— Ну, как у Ромашникова прогноз погоды? — тревожно спрашивает он.
Наумыч гудит из воротника:
— Еще не готово. Перед уходом все зайдем в кают-компанию, он его туда принесет.
Наконец все упаковано и привязано к нарте.
Желтобрюх выводит из салотопки воющих собак. У нарты в темноте начинается невообразимая кутерьма: собаки грызутся, всё путают, рвут ремни, оба Бориса кричат на них дикими голосами. Мы все бросаемся помогать, но от этого путаница становится еще больше.
— Что за паника? Держите каждый по одной собаке! — командует Наумыч. — А запрягают пусть только каюры.
Я хватаю за ошейник Байкала и оттаскиваю его от Чарлика, в которого Байкал, как видно, уже норовил вцепиться.
— Букаш, ну чего ты, чего? Стой вот тут, подожди.
Байкал прижимается к моей ноге и начинает тереться крепким широким лбом, ворча и поскуливая. Я чешу у него за ушами. Он совсем успокаивается, блаженно закрывает глаза, чуть пошевеливает головой, помахивая из стороны в сторону пушистым хвостом.
Боря Линев торжественно выводит Чакра. Чакр — вожак.
Он чинно и важно шествует мимо упряжки, деловито посматривает на собак. Потом спокойно становится вперед и оглядывается на Алха, который начал было топтаться и завывать от нетерпения. Алх сразу смолкает и покорно садится на снег.
Боря надевает на Чакра хомутик, расправляет постромки.
Ну, наконец все готово. Мерным шагом, держа собак за ошейники, мы подводим нарту к старому дому. Желтобрюх остается караулить, чтобы собаки не перегрызлись и не спутали упряжь, а мы всей толпой вваливаемся в старый дом.
Наши путешественники торопливо расходятся по комнатам, чтобы переодеться в дорогу, уложить свои рюкзаки.
Я захожу к Боре Линеву. Он поспешно пихает в рюкзак меховые носки и запасные рукавицы. В комнате страшный разгром. Постель сбита. На полу, на столе, на стульях разбросаны лыжные ремни, какие-то веревки, пачки печенья, пакеты с бинтами.
Боря рывками стаскивает с себя свитер и швыряет его прямо на пол, потом выхватывает из-под подушки меховую оленью рубаху, быстро надевает ее и, помогая себе зубами, завязывает тесемки на рукавах.
Вот сейчас, через несколько минут, он уйдет, и кто знает, когда он вернется, какие ждут его приключения и опасности.
Мне вдруг становится жалко его и хочется сделать ему что-нибудь приятное. Я выскакиваю из комнаты, выбегаю на улицу и мчусь с свой дом.
В комнате у меня темно и холодно. Я зажигаю свет, быстро оглядываю стол, шкафик, стены, — ищу, высматриваю, что бы подарить Боре Аиневу на прощанье. Банку лыжной мази? Охотничий нож? Бинокль? Нет, это все у него есть. Надо что-нибудь другое. На столе лежит новая, чистая записная книжка. Я хватаю книжку и выбегаю из дома.
Когда я снова влетаю к Боре, он уже совсем готов. На нем длинная коричневая норвежская непродуваемая рубаха с капюшоном, подпоясанная широким поясом. На поясе висят большой нож и патронташ. На ногах у Бори расшитые разноцветными сукнами оленьи, выше колен, пимы, спереди на груди болтаются на тесемке огромные косматые собачьи рукавицы, на боку — термос.
— Вот, Борька, — говорю я, протягивая ему книжку, — это тебе. Возьми. Будешь вести дневник. Ладно?
Боря берет книжку, рассматривает ее, книжка ему нравится. Он бережно кладет ее в боковой карман рубахи, тщательно застегивает карман.
— Ну, спасибо, — говорит он, — буду вести дневник.
Он протягивает мне руку, и я пожимаю ее. Вместе мы выходим из комнаты и идем в кают-компанию.
Здесь уже собралась вся зимовка.
За столом под лампой сидит Ромашников, а вокруг него, склонившись над столом и что-то рассматривая, сидят Наумыч, Горбовский, Редкозубов, Леня Соболев.
Горбовский и Редкозубов одеты так же, как и Боря Линев. Они сидят в шапках, перепоясанные ремнями термосов и полевых сумок. На столе перед ними лежат рукавицы.
Сзади, заглядывая на стол через их головы, теснятся Савранский, Гриша Быстров, Стучинский, Костя Иваненко. Радист Рино и Вася Гуткин стоят у стола и тоже что-то внимательно разглядывают. Даже повар Арсентьич и тот выполз из кухни и, прислонившись к дверному косяку, слушает, что говорит Ромашников.
Только Сморж и Стремоухов сидят в стороне, в углу, и молча пьют чай с вареньем.
— Циклон, — важным профессорским голосом говорит Ромашников, — очевидно, надвигается вот в этом направлении, от берегов Гренландии.
Перед Ромашниковым на столе разложена синоптическая карта, вся исчерченная какими-то синими и красными стрелками, извилистыми линиями, концентрическими кругами. Ромашников показывает по этой карте, откуда надвигается циклон.
— Последние метеорологические данные, только что полученные нами с Новой Земли, — продолжает он, — заставляют думать, что наш архипелаг тоже будет захвачен циклоном. Барометрическая тенденция.
— Стоп, стоп, стоп, — говорит Наумыч, трогая Ромашникова за руку. — Ваш доклад мы переносим на завтра. Сейчас, пожалуйста, расскажите нам, только покороче, что за погода будет завтра и вообще в ближайшие дни. Нам некогда. Время позднее, уже пятый час.
— Хорошо, — недовольно пожимает плечами Ромашников, — как хотите. Я ожидаю завтра, то есть уже сегодня, 18-го числа, похолодания…
— Ого, — крякает Боря Линев.
— Возможны проходящие осадки, туман, поземок. Что же касается 19-го, то в этот день возможен сильный ветер юго-восточного направления, с некоторым повышением температуры.
— Шторм? — коротко спрашивает Горбовский.
— Да, шторм, — говорит Ромашников. — И 20-го, очевидно, тоже шторм, во всяком случае — сильный ветер. Вообще ожидается неустойчивая, ветреная погода с осадками и туманом. Очаг циклона.
— Насчет очага тоже потом расскажете, — опять перебивает его Наумыч. — Насколько я понял, ничего хорошего вам ожидать не приходится, — говорит он, обращаясь к Горбовскому. — Вы должны очень спешить, чтобы как можно скорее дойти до цели и вернуться. Имейте в виду, что Шорохов долго не продержится в таких условиях.
— Три дня, самое большее, — говорит Вася Гуткин. — Мы уже высчитали.
Наумыч не слушает его.
— В туман подавайте какие-нибудь сигналы — стреляйте, рвите аммонал. Во время шторма сидите лучше в палатке. Мазь от обмораживания взяли?
— Взяли, — гудит Редкозубов.
Наумыч осматривает кают-компанию.
— Ну, что ж, — говорит он, — теперь, по старинке, посидим минутку, чтоб удача была в пути. Либо полон двор, либо с корнем вон.
Все рассаживаются на табуретках, на стульях. Сморж приносит из кухни пустой ящик и торжественно, со строгим лицом садится посреди кают-компании, уставившись в передний угол.
Мы сидим молча, поглядывая друг на друга. Мне и смешно и страшно, как в детстве, когда бабушка уезжала на богомолье.
Первым встает Наумыч. И все сразу поднимаются, гремя табуретками, стульями, теснясь и галдя, всей толпой устремляются в коридор. Дверь наружу распахнута настежь, в дом валит морозный, клубами пар.
Желтобрюх скачет у нарты, колотит себя руками по бокам, как извозчик.
— Да что же вы там пропали? — плачущим голосом говорит он. — Замерз тут, как собака. Ждал, ждал, думал — уж отложили, что ли.
Мы обступаем нарту со всех сторон, в последний раз пожимаем уходящим руки. Боря Линев на лыжах становится впереди упряжки. Горбовский и Редкозубов — позади нарты.
— Только бы вот ноги не подвели, — говорит Боря Линев, натягивая рукавицы, — а то придется обратно на бровях ползти. Ну, собачки, приготовьсь!
Собаки вскакивают со снега, налегают на постромки.
— Та-та!
Нарта рывком трогается с места. Визжа и лая, собаки бегут по Бориному следу. Скрипит снег, Редкозубов на ходу что-то кричит и машет нам рукой, но ничего уже не разобрать за дружным собачьим лаем. Кто-то из провожающих стреляет в воздух из винтовки — раз, другой, третий. А через минуту путники узке совсем пропадают во мраке, и только издалека еще доносится собачий лай и Борино покрикивание: «Та-та! Та-та!» — но и оно вскоре затихает.
Теперь до утра уже делать нечего, и мы все разбредаемся по домам, по комнатам, спать.
Не раздеваясь, я ложусь на кровать и укрываюсь сверху малицей: ведь и спать-то осталось каких-нибудь три часа, ведь чуть только начнет светать, мы с Желтобрюхом отправляемся в лыжный поход, на поиски самолета.
На столе, совсем около моего уха, что есть мочи трещит будильник. Но так трудно пошевельнуться, даже протянуть руку, что я даю будильнику вызвониться до конца.
Как не хочется вылезать из-под теплого меха, умываться, выходить из дома! Глаза точно засыпаны мелким горячим песком, голова тяжелая-тяжелая. Хорошо бы поспать еще хоть полчасика. Но спать нельзя. Надо вставать.
Пошатываясь, с трудом раздирая слипающиеся глаза, я выхожу в коридор, чтобы пойти будить Желтобрюха.
Что такое?
В конце коридора, у входной двери стоит сам Желтобрюх, свежий, умытый Желтобрюх, и, сосредоточенно нахмурясь и шевеля губами, натирает мазью широкие горные лыжи.
— Встал? — спокойно спрашивает он, слегка поворачиваясь в мою сторону. — А я уж собирался было итти трясти, думал — будильник тебя не разбудит. Ты на каких пойдешь — на своих?
— На своих, — сиплю я, еще хорошенечко не опомнившись от такой неожиданности: Желтобрюх встал сам, никто его не будил, никто не стаскивал с него одеяла и не обливал водой.
— Как же это ты так? — с изумлением спрашиваю я. — Как же это ты встал?
— Подумаешь, — небрежно говорит он, втирая ладонью мазь в шоколадную сверкающую лыжу, — подумаешь, какая невидаль. Захотел — и встал. Будешь свои натирать?
Я тоже натираю свои лыжи, осматриваю «лягушки», ремни, резину. Все в порядке.
Мы идем в старый дом покушать чего-нибудь на дорогу. В доме тихо и пусто — все спят. Только на кухне молча, угрюмо возится у плиты Арсентьич, переливает что-то из кастрюли в кастрюлю, двигает на плите сковородки.
— Искать, что ль, пойдете? — нахмурившись, спрашивает он. — Стучинский со своими уже с полчаса как ушел.
— Искать, — говорит Желтобрюх, наливая в кружку кофе.
— Куда же пойдете-то? К Дунди?
— Ну да, к Дунди.
Арсентьич качает головой, вздыхает и, шаркая ногами, уходит в кладовку и возвращается оттуда, неся в руках несколько плиток шоколада, две пачки печенья и какой-то сверток в промасленной бумаге. Он кладет все это на столе около нас.
— Возьмите-ка вот ссобойку. Может, перекусить захочется, — все так же угрюмо говорит он и снова уходит на кухню.
В свертке оказываются холодные котлеты и несколько ломтей жареной свинины. Мы рассовываем все это по карманам и, наскоро выпив по кружке кофе, выходим из дома.
День только еще начинается. Мутный, туманный, ветреный день. Сугробы дымятся сухим поземком. Длинными живыми дорожками мчится поземок по бухте. Над самой вершиной Ру-бини летят серые плотные облака.
Мы становимся на лыжи и скатываемся в бухту. Ветер дует нам в спину. Холодный северный ветер.
Желтобрюх бежит впереди. Он бежит хорошо — ровно, спокойно, неутомимо, как верблюд.
До мыса Дунди, если итти напрямик, — добрых пятнадцать километров. А мы хотим еще завернуть в залив около ледника Юрия. Значит, туда и обратно выйдет километров сорок. Сейчас уже одиннадцатый час, а темнеет теперь часа в два, в третьем, так что нам надо спешить, чтобы по приказу Наумыча вернуться домой еще засветло.
Вскоре мы огибаем Рубини. Вблизи скала кажется еще неприступней, еще угрюмей. Даже снег не залеживается на этих гладких базальтовых стенах, отвесно поднимающихся вверх. Вокруг Рубини на льду валяются черные камни. Скала осыпается, трескаясь от морозов, от резких ветров.
Мы останавливаемся и вынимаем из-за пазух бинокли. Не снимая рукавиц, я подкручиваю барашек.
И вдруг совсем около глаз, так что, кажется, достанешь рукой, вылезает черный, в каких-то медно-красных и бронзовых подпалинах, промерзлый базальт Рубини. Я перевожу бинокль правее. Скала отодвигается, и за ней, в легкой дымке, до самого ледника Юрия расстилается снежное поле. Вот какой-то холмик. Что это? Уж не самолет ли? Я еще подкручиваю бинокль. Нет, это торос, ясно видно зеленое ребро вставшей дыбом льдины. Вот еще торос, еще. У подножья ледника лед так изломан и нагроможден, что кажется, будто это засыпанные снегом развалины.
Мы достаем папиросы, закуриваем. Холодно стоять на месте, ветер так и пронизывает насквозь, мерзнут ноги, обутые в норвежские лыжные сапоги.
— Как ты думаешь, что с ним может быть? — спрашиваю я Желтобрюха.
Он пожимает плечами, задумчиво глядит на дальние ледники, долго молчит.
— Я думаю — он уже замерз, — наконец говорит Желтобрюх. — В самолете даже от ветра укрыться негде. Если бы это АНТ был, тогда другое дело. Там кабины такие, что можно хоть неделю жить, а тут всё открытое. А потом в такой одежде, как у него, да без пищи…
Желтобрюх снова пожимает плечами, швыряет окурок, берется за палки.
— Ну, пошли.
Мы бежим дальше, к Медвежьему мысу.
«Как все-таки странно, как нелепо складывается иногда человеческая жизнь, — думаю я, скользя за Желтобрюхом. — Вот человек ехал, плыл куда-то за тридевять земель. Добрался, устроился. Четыре месяца жил, поджидал, готовился к какой-то своей работе, ради которой он сюда приехал. И когда наступило наконец время для этой работы, он погибает, так ничего и не сделав. И погибает глупо, в последний раз обманув всех нас, из какого-то упрямства, из мелкой гордости не желая ни с кем и ни с чем считаться… А у него, наверное, есть жена или мать, или сын, которым он кажется самым лучшим человеком на свете. Как мы расскажем все это его матери? Ведь это же нельзя рассказать.»
Итти становится все труднее и труднее. Лед наворочен, нагроможден, навален огромными глыбами, высоченными валами. Мы взбираемся на каждый торос, на каждую ледяную гору и подолгу осматриваем пролив, склоны ледника, пустынный берег.
Нигде — ничего.
Лыжи трещат, застревают в расщелинах острых льдин, прогибаются, когда мы, как по дощатому мостику, перебираемся на лыжах через глубокие рвы между торосами.
То и дело мы срываемся и падаем, снег забивается в рукава, за шиворот, за пояс штанов, в сапоги.
Наконец последний торос взят приступом, и мы в полном изнеможении валимся прямо на снег. Боже мой! Что стало с моими лыжами? Я привез их с собой из Ленинграда и очень гордился выжженным на них круглым клеймом «Made in Norway». А сейчас у моих лыж такой вид, точно их грызли собаки. Даже клейма и те пострадали, и надписи: «Made in Norway», теперь почти уж и не разобрать — точно рашпилем счищена выжженная надпись.
Желтобрюх тоже, покачивая головой и причмокивая, разглядывает свои лыжи.
— Дрянь дело, — говорит он. — Назад придется искать другую дорогу, а то так нам, пожалуй, не хватит лыж до дома.
Мы съедаем по куску шоколада и трогаемся дальше.
Вот наконец и Медвежий мыс. Снова мы вытаскиваем свои бинокли и долго шарим по каждой излучине низкого берега. Нет, и тут никого не видно.
А далеко впереди на унылом ледяном поле, почти у самого мыса Дунди виднеется какое-то темное пятно. Может быть, самолет? А может быть, опять торос?
До мыса Дунди еще добрых восемь километров.
Надо спешить. А то, пожалуй, нам не вернуться на зимовку засветло.
Мы изо всех сил работаем руками и ногами и быстро мчимся по крепкому снегу, не спуская глаз с темного пятна. Но вот такое же пятно показалось немного правее, вот еще одно у самого конца мыса. Нет, конечно, это торосы!
В два часа дня мы добрались до мыса Дунди. Ветер усилился, и тут, на просторе, в широком проливе Де-Брюйне началась настоящая метель.
Дальше итти уже было нельзя. Укрывшись от ветра за маленьким айсбергом, мы с жадностью съели Арсентьичеву «ссобойку», отдохнули и двинулись в обратный путь.
Теперь ветер дул нам прямо в лицо, ледяной северный ветер. Нам пришлось поднять капюшоны рубах и затянуть их так, чтобы снаружи остались только одни глаза. Теперь мы шли напрямик к зимовке, больше уже никуда не заходя.
Вскоре стало темнеть, ветер усилился и поднял сухой мелкий снег. Снег стегал по глазам, намерзал на бровях, на ресницах. От дыхания капюшоны отсырели и покрылись лохматым инеем. Наверное, был очень большой мороз, потому что даже ноги, которые обычно при ходьбе на лыжах не зябнут, начали у нас неметь и мерзнуть.
Мы спешили изо всех сил, но только в четыре часа, когда было уже совсем темно, добрались до зимовки.
Шатаясь от усталости, запорошенные снегом, обмерзшие, мы добрели до старого дома. Долго, окоченевшими руками, отстегивали мы лыжи и наконец ввалились в коридор, громко и тяжело топая промерзшими сапогами.
Во всем доме было тихо, только издалека, из кают-компании доносились голоса и шум.
Обед был в самом разгаре — гремели ложки, тарелки, с кухни несло вкусными щами и звонко трещало на сковородке кипящее масло.
Мы вошли в кают-компанию. Прямо против двери, на своем обычном месте, сидел краснолицый Стучинский. Лицо его, вымазанное вазелином, блестело, как лакированное. Размахивая руками, он громко рассказывал что-то, а Лызлов и Сморж, загорелые от мороза и ветра, дружно поддакивали Стучинскому со своих мест.
Чуть только мы раскрыли дверь, все головы разом повернулись в нашу сторону.
— Ага, и эти притопали! Ну что? Ну как? — закричали кругом.
Желтобрюх остановился на пороге, отрывая от капюшона сосульки, а я прошел к Наумычу и отрапортовал:
— Товарищ начальник! Лыжная партия благополучно возвратилась на базу. В дороге были задержаны тяжелым торосистым льдом около Медвежьего мыса. В обследованном нами районе никаких следов летчика Шорохова или самолета У-2 не обнаружено.
— Хорошо, — сказал Наумыч. — Живо раздевайтесь и обедать.
Он повернулся к кухне и закричал:
— Арсентьич! Выдайте лыжникам по чарке согревающего, чтобы у них кровь гопака заплясала.
После обеда я едва дотащился до своей комнаты. Все тело было точно изломано, ныли руки и ноги, лицо, настеганное холодным ветром, горело, как обожженное.
В моей комнате было так холодно, что я невольно посмотрел на градусник, висевший около стола.
Градусник показывал + 2°.
Но топить печку не было уже никаких сил. Я повалился на койку и сразу, как убитый, уснул.
Неожиданные находки
После ужина Наумыч принес в кают-компанию большую карту острова Гукера и кнопками прикрепил ее к стене. На карте красным карандашом был прочерчен путь санной экспедиции Горбовского, наш с Желтобрюхом путь до мыса Дунди и маршрут пешей партии Стучинского.
Мы все столпились около карты.
— Вот где его теперь надо искать, — важно говорил Ромашников, водя пальцем по юго-восточному берегу нашего острова. — С севера Горбовский все осмотрит, тут Безбородов был, тут Виталий Фомич. Вот это только место и остается.
— А как ты к нему подберешься, к этому месту-то? — прищурившись, сказал Вася Гуткин. — По воздуху? Да? Тут, если вокруг острова итти, верст полтораста будет.
— Зачем по воздуху? — невозмутимо ответил Ромашников. — По земле, по льду.
— На чем? На чем? — закричали вокруг. — Собак-то самых лучших Горбовский взял! На Буянах, что ли, пойдешь или на Жукэ?
— Стойте, хлопцы! — крикнул Наумыч и хлопнул рукой по столу. — Ромашников правильно говорит: искать надо здесь. Вторую санную экспедицию до возвращения Горбовского подождем пока посылать, а будем шарить вокруг пешком и на лыжах. Завтра опять пошлем две партии в разные стороны. Я думаю так: Безбородов, Виллих, и дадим им еще Костю Иваненко, пусть на лыжах идут к острову Мертвого Тюленя. Вот сюда, — Наумыч повел по карте толстым пальцем. — А другая партия — Гуткин, Сморж, Савранский — пойдут вот туда: до горы Чурляниса, поднимутся на гору и немного пройдут по леднику. Гора высокая, им далеко видно будет.
— Верно, Наумыч, правильно, — загалдели кругом. — Кошки надо будет взять, веревки. Можно дымовых шашек захватить, зажечь наверху, на горе. Если он где-нибудь бредет, ему дым издалека видно будет.
— Как же, бредет, дожидайся, — угрюмо сказал Каплин. — Поди, уж и косточки медведи обглодали. Сколько времени-то уж прошло. Давно бы добрел.
— Ничего не обглодали, — сердито сказал Желтобрюх. — Что ты каркаешь? Ничего неизвестно.
Все как-то сразу замолчали, нахмурились, стараясь не смотреть друг на друга.
— Конечно, обглодали, — в тишине упрямо опять проговорил Каплин. — Я и сон сегодня такой видал, будто не одна у нас могила, а две: одна Зандера, одна его.
— Да замолчи ты! — крикнул Сморж и ударил кулаком по столу. — Сдрейфил, так уж хоть молчи, не разводи сырость!..
Один за другим, молча, торопливо все разошлись из кают-компании. Я тоже пошел к себе — топить печку.
Чтобы не возиться с лучиной, с растопкой, я, наскоро вывалив в печь ведерко каменного угля, плеснул керосина и бросил на уголь зажженную спичку. Керосин сразу вспыхнул, печка загудела, зашумела, завыла. Я прикрыл дверцу и пошел в комнату.
За последние дни у меня накопилось много несделанной работы: на столе лежала целая стопка необработанных лент барографа, да еще надо было составить месячный отчет за январь. Я вооружился лупой, карандашами, таблицами и принялся за работу.
Вдоль каждой ленты, разграфленной на мелкие миллиметровые клеточки, идет волнистая фиолетовая линия, прочерченная перышком самописца. Эту линию, которая показывает, как изменялось давление, я делю на 24 равные части, по числу часов в сутках. Потом при помощи лупы я высчитываю с точностью до десятых долей миллиметра давление воздуха для каждого часа суток. Но это еще не настоящее давление. По табличке я ввожу в эти цифры поправки, и только тогда наконец получаю истинную картину, как изменялось за сутки давление воздуха. Потом я нахожу самое высокое — максимальное — и самое низкое — минимальное — давление за эти сутки, откладываю ленту в сторону и принимаюсь за новую.
Так я работал несколько часов, когда вдруг в мою комнату без стука ввалился Наумыч, а за ним протиснулся Леня Соболев.
Наумыч держал в руках листы чистой бумаги, карандаши, палку красного сургуча и медную круглую печать с деревянной ручкой.
— Кончай базар, — сказал Наумыч. — Пойдем.
С удивлением посматривая то на Наумыча, то на Леню, я вылез из-за стола.
— В чем дело? Куда? Одеваться, иль нет?
— Нет, не надо. Пойдем, пойдем.
Мы вышли в коридор. Наумыч, громко топая и пыхтя, направился к двери шороховской комнаты, остановился на минуту, решительно дернул за ручку и шагнул в темноту.
— Входите, — прогудел он и принялся шарить по стенам рукой, отыскивая выключатель.
Комната вдруг осветилась ярким электрическим светом, и мы с Леней вошли.
Наумыч прикрыл за нами дверь, сложил на столе бумагу, карандаши, сургуч и сел на шороховскую кровать. Мы остались стоять посреди комнаты.
— Вот что, хлопцы, — сказал Наумыч, серьезно глядя на нас снизу вверх. — Конечно, будем надеяться, что Шорохова мы еще найдем живого. Но надо сказать, что надежды эти не ахти какие. Сейчас мы, на всякий случай, составим опись его имущества и опечатаем его комнату. Вы будете понятыми. Мне по чину полагается возиться с такими делами, а уж вы не взыщите, что я вас выбрал.
Наумыч ткнул в меня пальцем.
— Ты бери бумагу и карандаш, будешь записывать, а мы с тобой, — он ткнул в Леню Соболева, — займемся барахлом. Итак, пиши сверху: «Опись имущества погибшего летчика Г. А. Шорохова, составленная согласно приказа начальника островов Земли Франца-Иосифа 18 февраля 1934 года, в 23 часа 45 минут при понятых таких-то»… Написал? Ну, начнем.
Леня Соболев беспомощно помялся, посмотрел на стены, на кровать, на письменный стол.
— Невеселое дело, — усмехаясь сказал он. — С непривычки-то как-то неловко в чужих вещах рыться. Может, уж вы один, Наумыч, будете, а я постою для декорации?
Наумыч нахмурился, засопел, потемнел.
— Я тоже могильщиком никогда не служил, — отрывисто сказал он. — Напрасно ты думаешь, что для меня это такая уж сладость. Ну, начнем с вешалки. Говори, что там висит.
— Кожаное пальто на белом барашковом меху, — покорно проговорил Леня, роясь на вешалке. — Меховая собачья шуба. Меховой лётный комбинезон. — Леня запнулся. — Потом вот это, уж и не знаю, что это такое, как это записать.
Он вытянул что-то, действительно ни на что не похожее. Наумыч сосредоточенно осмотрел какой-то грязный, в лохмотьях, балахон и решительно сказал:
— Запишем: ватный спорок от шубы.
Потом Наумыч и Леня раскрыли чемоданы, мешки с грязным бельем, гуртом записали кучу сваленных в углу пыльных, даже не разрезанных брошюр и книг и дошли наконец до письменного стола.
В среднем ящике лежала папка с документами, какими-то письмами и фотографическими карточками.
— Перепишем только одни документы, — сказал Наумыч, — а личные бумаги смотреть не будем, просто укажем, — «папка с письмами и фотографиями».
Я записал под диктовку Наумыча: паспорт, профсоюзный билет, книжечка МОПРа, удостоверение на право управления автомашинами.
Наумыч вытащил из папки еще какую-то книжечку и бережно развернул ее.
— Пиши: лётное свидетельство за номером таким-то.
Наумыч рассеянно проглядел несколько страничек свидетельства и хотел было уже положить его обратно в папку, как вдруг насторожился, нахмурился, засопел пуще прежнего и, уткнувшись в книжечку, принялся что-то читать.
«— Вот это история, — растерянно сказал он, кладя свидетельство на стол и глядя на нас с Леней круглыми, изумленными глазами. — Вот это — да-а..
— Что такое? В чем дело?
Наумыч снова взял серенькую книжечку в руки и, покачивая головой, прочитал:
«Заключение главной комиссии: допустить к управлению самолетом со следующими, согласно данных медицинской комиссии, ограничениями: 1) запрещаются полеты с пассажирами, 2) запрещаются высотные полеты..»
— Это что же такое? — тихо сказал Леня Соболев. — Выходит, что он даже и вообще-то не имел права летать на высоту в три тысячи метров? С одежей там или без одежи, но вообще не мог?
— А вы, значит, не знали про это? — спросил я.
— Нет, — медленно сказал Наумыч, — не знал.
Он задумался и, пошевеливая бровями, уставился в одну точку.
— Я еще в Архангельске потребовал у него лётное свидетельство, — наконец проговорил Наумыч. — Ну, он принес. Перелистал у меня перед носом все странички, а я и не подумал, что надо у человека из рук вырвать и самому посмотреть: не утаил ли он чего?
Наумыч задумчиво положил лётное свидетельство обратно в папку, завязал тесемки и отложил папку в сторону. А Леня Соболев кряхтя полез выдвигать нижний ящик стола. Он выдвинул ящик, и сразу вся комната наполнилась таким тонким и непривычным для нас благоуханием, что у меня даже защекотало в носу.
— Эге, — сказал Леня, — да тут целый Ленжет.
Одну за другой он вынул из глубокого ящика пять больших картонных коробок, в которых плотно стояли флаконы одеколона.
— Тут на десять лет запасы, — сказал Леня, покачал головой и добавил: — Вот это, кажется, и называется — собака на сене.
— На ландыше, — поправил Наумыч, рассматривая один флакон. Он понюхал пробку, сокрушенно вздохнул. — Помнишь наш разговор в амбулатории? — спросил он меня.
Я кивнул головой. Сразу, как только Леня открыл ящик, я вспомнил этот разговор, когда Наумыч, отыскивая пузыречек для иода, рассказывал мне, как Шорохов еще три месяца назад клялся, что у него уже не осталось ни одной капли одеколона.
В остальных ящиках были аккуратной стопкой сложены 14 простынь, 16 полотенец, пачки наволочек и носовых платков. Все было новенькое, наглаженное, еще с магазинными ярлыками. Это было белье всей лётной группы.
Молча, подавленные этими неожиданными находками, мы закончили опись и расписались внизу листа. Наумыч спрятал опись в карман, последний раз осмотрел комнату и глухо сказал:
— Хорошо бы ванну принять после такой работы.
Мы вышли в коридор, и Наумыч, связав бечевкой замочные кольца на двери, припечатал концы бечевки сургучной печатью.
Медленно вернулся я в свою комнату.
На столе попрежнему лежали ленты барографа, а со стенки прямо на меня изумленно смотрели круглые, ясные глаза моего сынишки.
— Так-то, брат, — сказал я ему. — Вот какие бывают в жизни истории…
Возвращение
Я проснулся под шум и вой ветра. Предсказания Ромашникова сбылись: на дворе бушевал шторм. Опять звенели и дребезжали печные вьюшки, и весь наш дом дрожал, как от морского прибоя.
Но в самом доме было тихо. Теперь уже некому было будить нас по утрам. Никто не барабанил в двери наших комнат и не кричал: «Камчадалы, вставать!» Запертый в опечатанной комнате, молчал патефон.
Медленно, не спеша начал я одеваться. Вдруг издалека донесся прерывистый, еле слышный звоночек. «Телефон», подумал я и, шлепая босыми ногами, бросился в красный уголок.
— Камчатка слушает! — прокричал я в трубку.
Совсем около моего уха прогудел голос Наумыча:
— Это ты, Сергей?
— Я.
— Почему на завтрак не идете?
Я притворился, что не расслышал.
— А как же с экспедицией-то, Наумыч? — закричал я в трубку. — На дворе-то — слышите, что творится?
— Все экспедиции пока отменяются. Но надо быть наготове. Может, ветер чуть-чуть стихнет. Так что, пожалуйста, не размундиривайтесь и топайте поскорее завтракать, — вас ждать не будем.
— Есть, — сказал я, — сейчас топаем.
Я обежал все комнаты, разбудил Ромашникова, Васю Гуткина, стащил на пол и растолкал Желтобрюха.
Через четверть часа мы гурьбой вышли из дома. Пригибаясь от яростного ветра, бьющего в лицо жгучим снегом, держась за руки, помогая друг другу карабкаться на сугробы, мы кое-как добрались до старого дома.
В кают-компании было тепло, пахло свежеиспеченным хлебом, вкусно дымилось в кружках кофе.
— А каково-то нашим теперь? — сказал Вася Гуткин, усаживаясь за стол и пододвигая к себе масло. — Сидят, поди, в палатке и нам завидуют.
— Наверное, так из спальных мешков и не вылезали с утра, — проговорил Желтобрюх. — Борька мне перед уходом сказал: «Если шторм, — говорит, — будет, завалюсь на целый день спать».
— А чего же им еще делать? Конечно, спать, — важно сказал Ромашников. — Это теперь надолго.
И на этот раз он оказался прав. Шторм не стихал весь день.
И вдруг оказалось, что всем нечего делать, сразу стало видно, какой всюду беспорядок и кавардак.
В красном уголке разбросаны, раскиданы мешочки, кулечки, ящики, все перевернуто вверх дном — сорваны со стен и разбросаны по полу малицы и собачьи хомуты; моток суровых ниток валяется на полу рядом с ножницами, а на столе горой лежит спальный мешок.
И никому не приходит даже в голову хоть немного прибрать. Ведь, может быть, завтра, а может быть — и сегодня, все равно придется опять все перерывать и опять наспех, суматошно снаряжать еще какую-нибудь спасательную партию.
Так проходит два дня. Чуть ли не каждый час Наумыч звонит нам с Ромашниковым по телефону, а то и сам приходит на Камчатку.
И каждый раз повторяется одно и то же.
— Ну что, — спрашивает Наумыч, грузно усаживаясь посреди лаборатории, — как барометр?
— Плохо, Наумыч. Стоит, как проклятый, на 730.
Наумыч подозрительно посматривает на звонко тикающие за стеклом самописцы и полушутя, полусерьезно говорит:
— Нельзя ли там чего-нибудь на небе подкрутить? Этак, чего доброго, еще Горбовского придется итти спасать.
Он прислушивается к вою ветра за окном и качает головой.
— Вот ведь, как не во-время завернул, проклятый. Двое суток потеряли. Может, человек там умирает, а ты тут сиди, сложа руки. Фу ты, ерунда какая!
И каждый раз он с сожалением говорит:
— И когда только вы научитесь погоду по заказу делать? Приказал бы вот сейчас устроить пять дней отличной погоды, — и чтобы никаких отговорок. Вот это, я понимаю, — наука.
— Ну, если так рассуждать, — выйдет, что и ваша хирургия тоже не многого стоит, — говорю я. — Ногу отпилить дело не хитрое, — вы бы вот научились так делать, чтобы вместо отпиленной новая вырастала. Приказал — и выросла. Вот это, я понимаю, — наука.
— Ну, тоже, сравнил, — возмущается Наумыч. — Хирургия, это, брат ты мой, знаешь какое дело? Трепанация черепа, например, или там вскрытие лобной пазухи! Какие операции! Прямо симфонический концерт. Да какой там концерт! Тут не сфальшивишь. Тут чуть кто соврет — уже, глядишь, закапывать понесли пациента. Чистота, ловкость, точность. Все по секундной стрелке. Все блестит, сверкает. Знатное, брат, дело.
Наумыч опять злобно косится на барометр и уходит, глухо топая по коридору валенками.
К вечеру второго дня я вышел из дома зарисовать облака. Правда, весь день сегодня никаких облаков разглядеть на небе совершенно невозможно, но выходить каждый час все равно надо, хотя бы только для того, чтобы поставить в книжечке знак вопроса и записать: «неба не видно».
Я взобрался на сугроб, с которого мы всегда зарисовывали облака, и еще раз убедился, что по прежнему «неба не видно».
Я уже собирался было слезать с сугроба, когда вдруг где-то далеко за нашим домом, в тумане, в пурге, послышался отрывистый, слабый собачий лай.
Я остановился и стал пристально вглядываться.
Лай все слышнее и слышнее. Вот в тумане появились какие-то тени, а потом уже совсем отчетливо стало видно, как по косогору пологого берега поднимаются к зимовке гуськом запряженные собаки, тащут запорошенный снегом, увязанный веревками воз. Сзади и спереди упряжки быстро идут закутанные, заиндевевшие люди.
Это же наши вернулись, наша экспедиция!
Я шеметом скатился с сугроба и со всех ног бросился навстречу путникам.
Впереди упряжки, опираясь на лыжную палку, шагал Горбовский. Из поднятого капюшона его норвежской рубахи торчал белый, точно фарфоровый, отмороженный нос. Сбоку спокойно вышагивал Редкозубов, а позади, держась рукой за нарту, ковылял Боря Линев.
Со всех сторон с громким лаем и воем уже мчались к нарте наши собаки, из домов выскакивали зимовщики и, на ходу натягивая шубы и шапки, тоже бежали навстречу путникам, прыгая по сугробам и громко крича:
— Ну как? Ну что? С приездом, товарищи! Нос, нос трите скорее!
Мы обступили нарту со всех сторон, пожимали руки, мяли и тискали наших товарищей.
Да что же они какие черные, грязные, точно их три дня коптили в трубе?!
— Ничего не нашли? Шторм у вас был? Да трите же нос снегом!
— Никого и ничего, — сказал Горбовский сиплым басом и, схватив в горсть снега, принялся оттирать нос.
— Вот тоже несчастье, целый день все тру и тру, прямо измучился.
— А до Королевского-то дошли?
— Дошли. В первый же день дошли, — сказал Боря Линев, развязывая тесемки капюшона. — Да что же вы, черти, на улице-то нас морозите! Дайте хоть в дом-то войти. Ничего себе встреча!
— Домой, домой! Ведите их в дом. Арсентьичу скажите, чтобы разогрел там все!
— Кофейку бы сейчас, — прогудел Редкозубов.
— И кофейку, всего получите.
Желтобрюх схватил Чакра за ошейник и повел всю упряжку к салотопке, чтобы распрягать там, а мы толпой, с шумом, гамом, толкаясь и крича, повалили в старый дом.
— Туда хорошо дошли, — размахивая руками, рассказывал Боря Линев, — вдоль берега и торосов не много, дорога хорошая. Стали на ночевку, а с ночи-то и началось, и началось. Целый день в палатке сидели. Еще примус, скаженный, чего-то испортился, коптил, шипел, прямо задушил гарью. Одно только утешение и было — вот Симочка нас все ободрял, говорил, что ему в Пинских лесах еще хуже приходилось..
— Не в Пинских, а в Брынских, — поправил шагающий рядом Редкозубов, — В Брынских чащах.
— А чего же в Брынских чащах-то с тобой было? — со смехом спросил Леня Соболев. — Ты что-то про чащи никогда не рассказывал.
— В лесной пожар попал, — нехотя сказал Редкозубов. — Семь суток в болоте под водой сидел. Выставил наружу тростинку, через тростинку и дышал, а сам под водой, как головастик. Длинная история, неохота рассказывать.
В кают-компании уже стояли на столе три прибора. Арсентьич уже раздувал на кухне плиту и кричал на Стремоухова:
— Да что ты как опоенная лошадь! Двигайся ты поживей! Давай досок, лучины! Шевелись!
Мы рассаживаемся за столами и долго с нетерпением поджидаем наших путешественников, которые разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться и умыться. Ну вот наконец и они. Отмытые, чистые, причесанные. Наверное целых полкуба горячей воды сразу извели у Арсентьича, чтобы смыть примусную копоть и сажу. Нос у Горбовского уже порозовел и, густо смазанный вазелином, сияет, как утреннее солнце.
Все трое садятся за стол на свои привычные места и с жадностью поглядывают на кухню, нетерпеливо трогая ложки, вилки, ножи.
Желтобрюх не отходит от Бори Линева ни на шаг и смотрит на него восторженными, влюбленными глазами.
— Ну, как Байкал работал? — спрашивает он. — Ничего?
Вася Гуткин перебивает его:
— Да брось ты со всякой глупистикой лезть. Расскажи лучше, Борька, как вообще. Здорово досталось?
— Ну, что же, — конечно, досталось, — говорит Боря, откусывая хлеб. — Сидеть в палатке — это не то, что вот здесь чай распивать. А в общем ничего. Я не жалуюсь. Лучше расскажите, как у вас тут дела. Ходили куда-нибудь, искали?
Мы подробно рассказываем, как ходили и к Дунди и на плато.
Стремоухов молча приносит миску дымящегося борща и ставит ее на стол. Наши путешественники с жадностью набрасываются на еду, причмокивают, приговаривают:
— Добрый борщец. Вот это харч. Не то, что ты, Борька, варил.
— А что, — бубнит Боря Линев, прожевывая хлеб, — скажешь, я плохой суп варил?
— Плохой, — весело отвечает Редкозубов. — Теперь уж прямо скажу — плохой.
— Суп-то сам по себе еще ничего был, — покашливая, говорит Горбовский, — но почему-то в супе очень уж много оленьей шерсти плавало.
Боря Линев хохочет, кричит на весь дом:
— Да суп-то какой у меня был? Как назывался? «Консоме сюрприз, а ля Фритьоф Нансен».
— Сюрпризов было, пожалуй, чрезмерно много для одного супа, — серьезно гудит Горбовский.
А Редкозубов машет на Борю ложкой.
— У тебя и чай тоже сюрприз был, и каша — сюрприз. Я бы вам рассказал — один случай у меня был в Марокко, — вот это действительно сюрприз. Да есть вот только охота. Потом как-нибудь расскажу.
— Да уж, конечно, лучше потом, — говорит Боря.
Наконец они наедаются, напиваются и, довольные, сытые, веселые, закуривают папиросы и трубки.
— Теперь потолкуем серьезно, — говорит Наумыч, который, все время улыбаясь, молча сидел поодаль. — Значит, ничего утешительного вы нам рассказать не можете?
Горбовский пожимает плечами.
— Нет, не можем. Мне кажется, однако, что наша экспедиция не была бесполезной. Можно считать установленным, что на всем участке от зимовки до острова Королевского общества Шорохова нет. Это значительно суживает площадь, на которой надо продолжать поиски. Теперь остается только юго-восточная часть острова и проливов.
— Так, — говорит Наумыч. — Мы тоже так думаем. Как ты считаешь, Борис, сколько надо дать отдыха вашим собакам, прежде чем снова итти с ними в большой поход?
— Да чего им особенно отдыхать, — говорит Боря Линев. — Мы и так целых полтора суток отдыхали в дороге. Ну, дать им два дня передышки — и хватит.
— Нет, это много, — решительно говорит Наумыч. — Уже четвертые сутки, как Шорохов пропал. Надо спешить изо всех сил. Завтра, если хоть немного потишает и разведрится, выйдут на поиски лыжники, а 22-го с утра надо выходить уже санной экспедиции. Состав решим завтра.
Наумыч поворачивается к Горбовскому.
— А вы, Илья Ильич, подайте мне сейчас кратенький рапорт. Мы его передадим по радио в Москву, в Главсевморпуть. Ушаков меня каждый день запрашивает о ходе поисков. Надо сообщить, что вы вернулись и ничего не нашли.
Горбовский поднялся из-за стола.
— Хорошо, сейчас составлю.
Боря Линев и Редкозубов тоже встали.
— Поспать бы теперь не вредно, — потягиваясь, сказал Боря Линев.
Редкозубов с презрением посмотрел на Борю и, страшно перекосившись от проглоченного зевка, укоризненно сказал:
— Эх ты, рохля. Одну ночь недоспал, и уж скулишь. Как же я-то восемь суток на руле плыл и ничего? А руль — это тебе не спальный мешок.
— Откуда же, Симочка, восемь уже набралось? Ты ведь рассказывал, что только шесть суток плыл, да и то весь руль в крови оказался.
— Рассказывал, рассказывал, — разозлился Редкозубов, — мало ли что рассказывал. Ты бы даже и трех суток не выдержал..
— Да будет вам, — смеясь сказал Наумыч. — Идите лучше оба спать.
На другой день, к полудню, погода вдруг разгулялась. Ветер стих, метель улеглась.
Хотя солнце еще и не показывалось над землей, но на улице было уже совсем светло, и казалось, что солнце только на минуту спряталось за легкие облачка и вот-вот выглянет и осветит землю.
Во всех домах начались торопливые сборы.
Обе партии — моя и Стучинского — наперегонки принялись снаряжаться, чтобы, пользуясь хорошей погодой, как можно скорей выйти на поиски.
Все разошлись по своим комнатам, чтобы собрать рюкзаки, переодеться и смазать лыжи.
Вбежав к себе, я торопливо снял со стены плотные суконные штаны, непродувайку, свитер и, натягивая все это на себя, старался вспомнить, что нам еще нужно взять с собой в дорогу. На одну минуту я задумался, что надевать: лыжные сапоги или валенки. Вдруг в комнату вошел Наумыч. Сесть ему было негде, так как на единственном стуле лежал рюкзак, а на кровати сидел я сам, и Наумыч остановился у порога.
— Не очень там надрывайтесь, — сказал Наумыч. — Идите быстро, но не скачите. И поосторожней, пожалуйста. У Мертвого Тюленя и в Британском канале могут быть полыньи, — там лед никогда на месте не стоит. Вы и по сторонам смотрите и под ноги глядеть не забывайте.
Вдруг дверь опять отворилась, и в комнату заглянул Костя Иваненко. Лицо у него было обиженное, вытянутое.
— Ну, чего же ты тут копаешься? — проговорил он. — Опять Савранский первый ушел. Возишься, как на поминках.
— Как ушел? — хмурясь, спросил Наумыч. — Куда он ушел? Никуда он не может уйти, не доложивши мне.
— А он со своими ребятами взял да и ушел, — упрямо сказал Костя. — Сейчас я видел — бегут со всех ног по бухте, а мы все еще собираемся.
— Путаешь ты чего-то, — недовольно сказал Наумыч. — С чего это они вдруг побежали? Я, кажется, бегов никаких не объявлял.
— Не верите — сами посмотрите, — сказал Костя.
Мы все трое вышли в коридор.
Но не успели мы пройти и трех шагов, как выходная дверь с грохотом и треском распахнулась настежь, трахнув по стене так, что задрожал весь дом.
Прямо на нас, как безумный, налетел Романтиков. Лицо его было искажено, глаза вытаращены, он не то плакал, не то смеялся. Как — то нелепо взмахнув руками, он тонким, заячьим голосом закричал:
— Шорохов идет! Шорохов идет! Возвращается! Боже мой!
— Вы с ума сошли? Где? — закричал Наумыч, хватая Ромашникова за руку. Но Ромашников вырвался и побежал куда-то по коридору, выкрикивая:
— Идет! Идет! У Рубини! Боже мой! Боже мой!
Мы выскочили из дома. По льду к Рубини цепочкой бежали, обгоняя друг друга, черные фигурки, мчались гуськом собаки. А далеко, около самой скалы, на ровном и чистом снегу чернела кучка народа.
Наумыч огромными прыжками помчался по льду, сбросив на бегу тяжелую собачью шубу.
Я сразу же обогнал Наумыча и бежал, бежал до тех пор, пока горло не перехватил сухой, палящий жар. Ноги у меня подкашивались, дыханье перехватило, и, жадно глотая сухой морозный воздух, я пошел шагом.
Навстречу, размахивая руками, в съехавшей на затылок шапке, скакал Гриша Быстров.
— Что там? — просипел я срывающимся голосом. Гриша промчался мимо меня, крикнув на ходу:
— Везут! Отморозил ноги!..
Теперь навстречу мне бежала уже целая толпа народа. Ближе, все ближе. Я остановился.
Впрягшись в потяг вместо собак, люди везли нарту. На нарте что-то лежало, покрытое оленьей шкурой.
Толпа поровнялась со мной, и я увидел, как приподнялся край оленьей шкуры и из-под нее на мгновенье показалась голова с почерневшим безумным лицом. Глухо стукнув, голова снова тяжело упала на нарту.
Из последних сил я побежал вместе с толпой.
Вот и берег. Навстречу уже с какой-то банкой и толстой пачкой бинта в руках спешит Наумыч.
— В ангар! В ангар! — кричит он. — Везите его в ангар!
— Почему в ангар? — кричит Вася Гуткин. — В дом надо!
— Что ты одурел, что ли! — набрасывается на него Леня Соболев. — Обмороженного человека в тепло! Конечно, в ангар надо!
Нарту шагом подвозят к самой двери ангара, и кто-то сдергивает оленью шкуру.
Вся зимовка, все до одного человека, сбежались на берегу. Зимовщики кричат, толкаются, протискиваются к нарте. Шорохов лежит врастяжку, лицом вниз. Он опять поднимает голову, дико озирается и пробует встать. Я подхватываю его, поднимаю, ставлю на ноги. Он, как подрубленный, сразу виснет на моих руках.
— Сереженька, — слабым голосом говорит он, взглянув на меня полными слез глазами, и я с удивлением слышу, что от него пахнет спиртом.
Кто-то подхватывает его с другой стороны, и мы осторожно, на руках, вносим его в ангар. Вся зимовка валит за нами.
— Я пьяный… Я совсем пьяный… Сереженька… — бормочет Шорохов.
Дверь в ящик распахнута настежь.
— На диван, на диван, — командует Наумыч, пристально, испытующе вглядываясь в лицо Шорохова. Мы осторожно кладем его на диван. Он вытягивается во весь рост, руки его бессильно падают вдоль тела. На почерневшем лице Шорохова белеют только одни глаза да оскаленные в слабой, жалкой улыбке зубы. Отросшие черные усы и борода свалялись и смерзлись, как овечья шерсть.
Ящик сразу набивается народом до отказа. Шорохов водит глазами по сторонам, слабо заплетающимся языком говорит:
— Дошел все-таки, дотопал.
— Теперь уж не помрешь! — кричит кто-то сзади.
— Не помру, — бормочет Шорохов. — Нет, не помру… Нет..
Наумыч проворно снимает с рук Шорохова рукавицы, ловко ощупывает пальцы, кисти.
— Снять пимы, — отрывисто командует он, и несколько человек сразу бросаются к ногам Шорохова, начинают стягивать с них стоптанные, протертые пимы, а потом и сбившиеся носки.
— Никак примерз, — испуганно говорит Желтобрюх, отдирая носок.
Все пять пальцев на левой ноге точно фарфоровые, — белые, блестящие, плотно прижатые друг к другу. У ногтей вымерз иней.
— Снегу! — командует Наумыч и, сморщившись, осматривает пальцы, трогает их, разглядывает подошву ноги, хмурится.
— Снегу! — снова говорит он, мельком взглянув и на правую ногу — пальцы на ней такие же белые, мертвые, замороженные.
— Вы уж трите, ребята, — лепечет Шорохов, — трите, ребята, на ять. Резать, ребята, не будете?
По очереди, меняясь, мы трем и трем снегом шороховские ноги.
Ящик заволакивает паром, собаки вертятся под ногами и визжат, хлопают двери ангара.
Гам, крик, суматоха.
— Георгий Иванович, — кричит Наумыч, быстро приготовляя на разостланной по столу вощанке какую-то прозрачную мазь. — Рино!
Радист протискивается к Наумычу.
— Возьмите карандаш, бумагу. Сейчас я продиктую телеграмму. Пишите: «Правительственная. Молния. Москва. Главсевморпуть. Ушакову». Есть? Дальше: «Сегодня около 12 часов зимовщик Стучинский заметил льду бухты около Рубини-Рок трех-четырех километрах от зимовки летчика Шорохова. Нартах Шорохов благополучно доставлен зимовку. Подается первая помощь. Подробно через час. Руденко». Есть?
Шорохов приподнимает голову.
— Чего, чего ты там пишешь? — говорит он. — Это я вас заметил, а не вы меня. И потом: не доставлен, а сам дошел. Напиши — сам дошел…
— Ладно, ладно, — кивает головой Наумыч. — Скажи-ка лучше свой домашний адрес. Жена где живет?
— Жена? — удивляется Шорохов. — Какая жена?
— Твоя жена. Адрес твой, на Большой Земле.
— Ах, на земле. Москва, — он запинается, — Москва… Нет, не помню… где-то в Москве..
— Хорошо, — говорит Наумыч радисту. — Найдите его домашний адрес по старым телеграммам и дайте такое радио:
«Вернулся жив и здоров целую Миша».
— Кого я целую? — медленно, с удивлением говорит Шорохов.
— Жену! Жену! Свою жену! — кричат вокруг.
— Ага, жену. — Шорохов закрывает глаза, что-то совсем неразборчиво бормочет.
— Пойдите на Камчатку, — тихо говорит Наумыч, подозвав меня и Васю Гуткина, — вскройте шороховскую комнату, возьмите две простыни, одеяло, подушку и приготовьте постель на диване, в красном уголке. А в его комнате затопите печку.
Мы с Васей бежим в наш дом.
— Ноги наверно пропадут, — говорит Вася на бегу. — Видал, какие пальцы? Сколько уж терли, и никак не отходят. Где же это он, интересно, пропадал? И что теперь с ним будет? Знаешь, я думаю, за такую историю его могут с работы снять.
— Еще что с самолетом — неизвестно, — говорю я. — Может, разбился?
— Наверное, разбился, — говорит Вася. — Скверная штука, если разбился…
Через полчаса Шорохова на руках переносят из ангара в красный уголок и укладывают на диване. Обе его ноги уже забинтованы и похожи на огромные белые коконы.
Вокруг Шорохова вьется, хлопочет, старается изо всех сил взволнованный Сморж. Он принимается укутывать одеялом его ноги, но Наумыч строго говорит:
— Оставь ноги в покое. Сними одеяло с ног.
— Холодно же, — удивляется Сморж, — тут ведь не топлено.
— Вот и хорошо, что холодно. Так и надо, чтобы ногам холодно было, — спокойно отвечает Наумыч. — Не суетись, пожалуйста.
Сморж садится прямо на пол около дивана и сидит, не спуская глаз с Шорохова.
— Все пять дней шел? — спрашивает Сморж.
И опять Наумыч останавливает его.
— Разговаривать будем потом. Сейчас никаких разговоров. Всех прошу выйти и заняться своими делами. Ему нужно отдыхать, а не сказки рассказывать.
В красный уголок протискивается запыхавшийся Арсентьич. Он тащит спиртовой кофейник, какие-то свертки, банки, коробки.
— Вот все, что приказали, — говорит он Наумычу. — Спирт налит, и вода тоже. Можно зажигать.
— Ну, товарищи, — еще раз говорит Наумыч, — по домам. Потом он нам все расскажет, все узнаем, все обсудим. Теперь уж он никуда не денется. А сейчас ему надо подкрепиться, поспать, отдохнуть, успокоиться. Кто-нибудь один пусть останется за сиделку, а остальные выйдите.
— Ромашу сиделкой! Ромашу! — загалдели кругом. — У него стаж! Он умеет!
— Нет, я, — закричал Сморж. — Я останусь. Я посижу, покараулю, пускай спит. Можно мне? Позвольте мне.
— Ладно, оставайся, — сказал Наумыч, зажигая под кофейником спиртовую горелку. — Только имей в виду — никаких разговоров, ни одного слова. Завтра сколько хочешь можешь разговаривать, а сейчас я запрещаю. Ну, хлопцы, — махнул он на нас рукой, — айда. И в коридоре, пожалуйста, не галдите.
Теснясь и переговариваясь, мы вышли из красного уголка.
— Вот это ловко — даже разговаривать запрещается. Выходит дело — под домашний арест попал, — ухмыльнувшись, сказал Стремоухов и, громко топая, пошел из дома.
В этот день, конечно, работа валилась у всех из рук. И за обедом в кают-компании, и после обеда по комнатам, и в сумерках на крыльце бани только и было разговоров, что о возвращении Шорохова. Никто еще ничего не знал — что с самолетом, как Шорохов добрался до зимовки, где он пропадал все эти четверо суток.
Без конца, на разные лады мы гадали о том, что будет теперь делать Наумыч и с оставленным где-то самолетом и с самим Шороховым.
— Что будет делать? Ясно что, — громко говорил Вася Гуткин. — За такие фокусы по головке гладить не полагается. Снимет с работы, вот и все.
— Без Москвы не имеет права, — качал головой Желтобрюх. — Как Москва посмотрит, А Москва может и не снять — ведь летать-то надо. Кто же будет летать-то?
Ромашников важно, как опытный доктор, говорил, попыхивая папироской:.
— Еще неизвестно, что с ногами у него. Если придется ступню отнимать, тогда хочешь не хочешь, а никаких полетов не будет. Без ног ведь не полетишь.
— А за самолетом, наверное, экспедицию пошлют. Может, и я тогда пойду, — мечтательно сказал Желтобрюх. — Нам бы с тобой вместе, а, Борька? — и он умильно заглянул в глаза Боре Линеву.
Боря пожал плечами.
— Там видно будет, кто пойдет. Наверное, упряжки три придется гнать. Одному-то мне, конечно, со всеми собаками не справиться.
— Вот, наверное, я и пойду, — обрадовался Желтобрюх и весело потер руки. — Вместе пойдем.
В шесть часов вечера мне нужно было зарисовать облака.
Я тихонько вошел в наш дом и, чтобы не беспокоить Шорохова, на цыпочках прошел по коридору в метеорологическую лабораторию. Книжечки для зарисовки облаков на столе не оказалось. Я обыскал все ящики и полки — книжечки нигде не было.
«Может, Леня Соболев взял?» — подумал я. Леня часто брал наши облачные книжки, чтобы справляться по ним, какие были облака, когда он выпускал свои пилоты или зонды. Может быть, и на этот раз он унес книжечку в свою лабораторию?
Все так же осторожно, на цыпочках, я вошел в аэрологическую лабораторию и принялся искать книжечку на Ленином столе, бесшумно передвигая и переставляя какие-то коробки и банки. И вдруг я услыхал за тонкой фанерной стеной, в красном уголке какой-то разговор.
Кто же это там разговаривает? Ведь Наумыч же приказал никакими разговорами Шорохова не беспокоить.
Я прислушался.
Тихий, глухой голос Сморжа монотонно бубнил за стенкой:
— А Борька Виллих говорил, что вы будто не имели права лететь без карты, и что вам за это влетит.
— А начальник что говорил? — сипло спросил Шорохов.
— Начальник тоже говорил, что вам это даром не пройдет. Что вы преступление сделали.
— Я — преступление? — изумился Шорохов. — Какое же преступление?
— Ага, преступление. Вот что без продуктов, без карты и без одежи улетели, вот это и преступление. А еще что будто не доложили никому. Я им говорю: «Шорохов вам всем носы утрет, вот увидите, он вернется», а начальник говорит: «Только бы вернулся живой и здоровый, я тогда его на кухню, заместо Стремоухова, определю».
— Меня на кухню?
— Ага, вас. Им всем завидно, что вы теперь прославитесь. Они вас засыпать хотят. Все уж думали, что вы в ящик сыграли, а вы, оказывается, живой. Им завидно, что это не они такой подвиг сделали.
— Так, так, — просипел Шорохов, — а еще чего говорили?
Я нашел на столе свою книжечку и вышел из лаборатории.
Допрос
В одиннадцать часов ночи Наумыч вызвал меня по телефону к себе. В комнате Наумыча уже сидели Арсентьич и Леня Соболев. Сам Наумыч ходил из угла в угол, широко шагая и заложив руки за спину.
Когда я вошел, Наумыч остановился около стола, посмотрел на часы и сказал:
— Прошло уже полсуток, как Шорохов вернулся на зимовку. Я думаю, что он уже успел достаточно хорошо отдохнуть для того, чтобы ответить нам на некоторые вопросы. Сейчас мы пойдем к нему и поговорим с ним обо всем, что произошло. Это должен быть совершенно официальный разговор, с протоколом, со свидетелями. Дело серьезное. Самолет разбит, почти все планы нашей летней работы, очевидно, будут теперь сорваны. Мы вот посовещались с Арсентьичем, — так сказать, комфракцию собрали, — и решили, что прежде, чем предпринимать что-нибудь, надо хорошенько выяснить, как все это произошло.
Наумыч взял со стола пачку писчей бумаги и передал ее мне.
— Будешь вести подробный протокол разговора. Постарайся как можно точнее записывать и вопросы и ответы. А Леонид пусть насчет навигации всякой его поэкзаменует. Ну, пошли.
— А что, Наумыч, ноги у него здорово обморожены? Резать не придется? — спросил я.
— Трудно еще сказать, — медленно проговорил Наумыч. — Если не начнется гангренозный процесс, то пальцы отболят и отвалятся сами. А если начнется гангрена, тогда, конечно, придется резать.
Мы вышли из дома и направились на Камчатку.
Наумыч постучал в комнату Шорохова и растворил дверь. У кровати сидел на стуле Стремоухов и что-то оживленно рассказывал Шорохову. Завидев Наумыча, Стремоухов сразу замолчал и встал со стула.
— Кто вам позволил сидеть здесь? — сухо спросил Наумыч у Стремоухова. — Вы разве не слыхали, что я приказал до завтра товарища Шорохова не беспокоить?
Шорохов рванулся на кровати и отрывисто сказал:
— А разве я под арестом, что никто не может притти навестить меня?
— Вы не под арестом, а под наблюдением врача, — ответил Наумыч. — И приказания врача в данном случае должны всеми выполняться беспрекословно. Товарищ Стремоухов, отправляйтесь на кухню. У вас еще не убрана посуда после ужина.
Стремоухов молча вышел из комнаты, а мы расселись на стульях около большого шороховского стола.
— Григорий Афанасич, — сказал Наумыч, — ты понимаешь сам, что события всех этих дней не могут остаться тайной и что по возвращении на Большую Землю нам всем придется держать за это дело ответ.
— Ну, что ж, и ответим, — запальчиво сказал Шорохов.
— Да, ответим. А сейчас я считаю нужным записать целый ряд фактов и восстановить все обстоятельства этого злосчастного полета. Мы будем вести протокол, который ты потом прочтешь и подпишешь. Если у тебя будут какие-нибудь дополнительные сообщения или возражения, или особые мнения, то ты сможешь потом в протоколе все это записать. Не возражаешь против такого порядка?
Шорохов пожал плечами.
— Нет, не возражаю…
— Отлично. Значит, начнем.
Я пододвинул к себе чернильницу, расчистил на столе место и быстро, как только мог, принялся записывать.
Руденко. Считаете ли вы себя в состоянии отвечать на вопросы, которые вам будут предложены?
Шорохов. Да, я отдохнул и свободно могу разговаривать.
Руденко. Когда вы приняли решение подниматься на три тысячи метров — еще на земле, до начала полета, или уже в воздухе?
Шорохов. Я решил, что полечу до потолка, еще на земле.
Руденко. На земле?
Шорохов. Да.
Руденко. Сообщили ли вы об этом решении начальнику базы?
Шорохов. Нет, не сообщил. Я не считал нужным это делать.
Руденко. Почему вы предприняли полет на три тысячи метров, не имея на борту самолета ни запасов продовольствия ни карты и будучи очень легко одеты для высотного полета в арктических условиях?
Шорохов. Я считал все это излишним. Это был обычный полет над аэродромом. В такие полеты можно и не брать с собой запасов продовольствия. А о карте я скажу потом.
Руденко. Еще один предварительный вопрос. Ознакомили ли вы начальника зимовки и врача с заключением психотехнической и медицинской комиссии, записанным в вашем лётном свидетельстве?
Шорохов. Нет, не знакомил. Это излишнее дело.
Руденко. Теперь расскажите, пожалуйста, все обстоятельства вашего полета 17 февраля вплоть до возвращения на зимовку 21 февраля.
Шорохов. Пожалуйста. Когда я поднялся метров до восьмисот, до тысячи, самолет стал попадать в облака. Но, выходя из облаков, я каждый раз отчетливо видел внизу и остров, и бухту, и зимовку и нисколько не беспокоился насчет посадки. Залетев почти до потолка, я вдруг заметил, что все подо мной скрыто не то облаками, не то туманом, — земли совершенно не видно. Я начал снижаться. На высоте примерно полутора тысяч метров самолет попал в снежную бурю, из которой сразу же мне удалось вырваться, спускаясь все ниже и ниже. Тут я увидел, что на земле туман и бухту мне не найти. Над туманом возвышался только купол какого-то ледника, все же остальное вокруг было словно затоплено туманом. Я решил сесть на этот купол. Но при посадке левая лыжа самолета наскочила на заструг, — самолет перекосило, правая плоскость ударилась о снег, и самолет пошел на свечу. Порывом ветра машину опрокинуло на капот.
Соболев. Откуда дул ветер, не можете сказать?
Шорохов. Идя на посадку, я ошибся в направлении ветра и садился не в лоб против ветра, а под углом к нему.
Руденко. Поэтому самолет и опрокинулся?
Шорохов. Самолет опрокинулся потому, что левая лыжа наскочила на заструг. Ветер тоже сыграл тут свою роль. Если бы я садился правильно против ветра, — может быть, капота и не было бы. Прежде чем машина опрокинулась, я успел остановить мотор и выскочить из кабины. Дул очень сильный ветер. Первым делом я вынул карту и попытался ориентироваться.
Руденко. Разве у вас была с собой карта архипелага?
Шорохов. Была.
Руденко. А какая же карта находится в самолетном ящике, в ангаре?
Шорохов. Это какая-нибудь другая карта. Надо спросить борт-механика.
Руденко. Ваш борт-механик уже заявил, что это и есть ваша лётная карта и что вы, таким образом, летали без карты. Вы принесли с собой карту, о которой говорите?
Шорохов. Нет. Когда я развернул ее, чтобы попробовать ориентироваться, порыв ветра вырвал ее у меня из рук и унес. Я не побежал за ней, боясь заплутаться на леднике в тумане.
Руденко. Значит, вы спокойно дали ветру унести свою карту, сознавая, что тем самым падают ваши шансы на спасение? Ведь вы даже еще не успели определить, где именно вы находитесь.
Шорохов. Я не рискнул отойти от самолета в туман и метель. Весь день 17-го погода была такая, что я все время сидел внутри самолета или ходил вокруг него, чтобы согреться. К ночи я разобрал перегородку внутри фюзеляжа и смог даже лечь, забравшись внутрь самолета, как в нору. Было очень холодно, и я почти не спал. Весь день 18-го туман и поземок не прекращались, и я то дремал, то ходил, чтобы согреться. 19-го вдруг немного стихло и прояснилось. Примерно в километре от самолета я увидел высокий черный гурий. Зная, что в гурии может быть спрятано какое-нибудь продовольствие и записка с указанием его местоположения, я пошел к нему. Гурий стоял на очень высокой базальтовой скале, отвесно обрывающейся к морю. Руками я принялся разбирать камни и копать снег и вдруг нашел банку консервов. Тут опять поднялся ветер, стало темнеть, и я, захватив банку, вернулся к самолету. В банке оказались рыбные консервы. Я принялся есть их. Весь день 20-го я пробыл около самолета. Никуда нельзя было итти, так как видимость была очень плохая. Наконец в ночь на сегодня, — я думаю, это было часа в четыре ночи (часы у меня стали), — рассеялся туман, ветер стих, и я решил попробовать дойти до зимовки. Сняв с самолета компас и захватив молоток, я пошел по леднику.
Руденко. В каком направлении?
Шорохов. На зюд-вест.
Руденко. Почему на зюд-вест?
Шорохов. Зимовка, по-моему, была именно в этом направлении.
Соболев. Была ли перед полетом устранена девиация компаса?
Шорохов. Нет, этого сделано еще не было. Я не успел это сделать.
Соболев. Известна ли вам величина склонения магнитной стрелки компаса для этих широт?
Шорохов. Нет, не известна.
Соболев. Какую же пользу в таком случае мог принести вам компас?
Шорохов. Вот дошел же, — значит, польза была.
Руденко. Значит, вы считаете, что дошли до зимовки совершенно сознательно, а не случайно вышли именно в этом месте?
Шорохов. Конечно, не случайно.
Руденко. Значит, вы сможете указать нам на карте, как именно вы шли через ледники и где находится самолет?
Шорохов. Мне надо еще подумать. Я шел не прямо, а поворачивая то вправо, то влево. Потом я шел по луне.
Соболев. Это не очень правдоподобно. Как же вы могли определить свой курс по положению луны на небесном своде, если у вас остановились часы и не было никаких астрономических пособий?
Шорохов. Вы что же — ловить меня собираетесь?
Руденко. Нет, мы стараемся как можно подробнее восстановить все обстоятельства вашего полета и аварии. Что вы можете ответить на вопрос Соболева?
Шорохов. Ничего не могу ответить. Если желаете, считайте, что я пришел случайно. Как вам угодно, так и считайте. А я буду говорить так, как было. Значит, сначала я шел на зюд-вест. Часа четыре или пять я шел так. Потом слева я увидел какую-то черную точку. Я пошел к ней. Шел очень долго. Когда дошел, увидел, что это торчит из ледника вершина какой-то скалы. Я отдохнул, доел рыбные консервы. Я очень устал и замерз. Тут я сообразил, что в компасе налит чистый винный спирт, который мог бы меня подкрепить и согреть. Я отвинтил пробку, выпил несколько глотков спирта и пошел дальше. Так я дошел еще до какой-то скалы и от нее снова повернул направо. Шел часа три, четыре. Ледник кончился. Передо мной был какой-то пролив и скала. Я спустился с ледника. Местность была мне совершенно незнакома. Я уже думал, что вышел куда-то по другую сторону острова и что зимовки мне уже не найти. Тут я еще выпил спирта. Решил итти до последних сил. Вдруг я увидел на снегу старую песцовую ловушку. Конечно, я очень обрадовался. Значит, где-то близко зимовка. Я обошел скалу и вдруг увидел, что я нахожусь около Рубини. Я обошел Рубини и вышел в бухту. Тут уж я сразу заметил на берегу дома зимовки. Я так устал и обессилел, что лег на снег. Меня тоже, оказывается, разглядели, и скоро ко мне подбежали зимовщики с нартами. Вот и все.
Руденко. В каком положении вы оставили самолет?
Шорохов. Самолет лежит лыжами кверху. Винт сломан. Повреждена правая плоскость, нервюры и элероны. Своими силами, без доставки с Большой Земли запасных частей, думаю, отремонтировать его не удастся.
Руденко. А мотор?
Шорохов. Мотор совершенно цел, в полной исправности.
Руденко. Значит, вы не можете точно сказать, где именно находится ваш самолет?
Шорохов. Нет. Сейчас не могу. Мне надо подумать, посмотреть по карте, сообразить.
Руденко. Есть ли у вас какие-нибудь заявления, которыми вы считаете нужным дополнить этот протокол?
Шорохов. Я хотел бы отметить, что ко мне никого не допускают, будто я какой-нибудь преступник.
Руденко. Это все?
Шорохов. Все.
— Так, — сказал Наумыч. — Теперь прочти все с начала до конца, — обратился он ко мне.
Я прочел.
Наумыч передал исписанные мною листки Шорохову, и тот написал внизу:
«Правильность заданных мне вопросов, а также и моих ответов на них подтверждаю. Летчик Шорохов».
А еще ниже, под этой припиской расписались и мы:
Начальник Научно-исследовательской базы на Земле Франца-Иосифа доктор Платон Руденко.
Старший аэролог Соболев.
Метеоролог-наблюдатель Безбородов.
Повар Крутицкий.
Глава десятая
На юг
Три раза ходили мы на поиски шороховского самолета. Искали на ледниках около мыса Дунди, поднимались на ледник у Медвежьего мыса, ходили вглубь острова.
Самолета нигде не было.
Теперь оставалось только одно — отправиться на собаках вдоль южного берега, найти ту высокую черную скалу, на вершине которой, по рассказам Шорохова, стоит сложенный из камней высокий столб-гурий, и уже около этого гурия искать самолет.
Такие гурии всегда складывают в Арктике на приметных мысах, на скалах, в бухтах. Гурии помечают на карге, и они помогают путешественникам ориентироваться во время странствий по безлюдным полярным землям. В гурий иногда закладывают среди камней небольшой запас продовольствия — консервы, сухари, спички, табак, вино, керосин и обязательно кладут записку с указанием, что это за место, где стоит гурий, кем он сложен и когда.
У полярников есть свой закон: брать из гурия положенные туда запасы может только попавший в беду.
Путешественники, которым встречается на пути такой гурий, часто оставляют в его камнях записочки. Так, недавно в одном из гуриев на северном берегу Сибири была найдена записка, положенная сюда чуть не двадцать лет тому назад Роальдом Амундсеном во время его плавания вдоль берегов Сибири на судне «Мод».
И сам Амундсен во время этого путешествия часто искал такие гурии. Вот, например, запись в его дневнике:
«18 ноября Хансен и Вистинг поехали на собаках к мысу Челюскин. Мне очень хотелось узнать, сохранились ли записки Норденшельда, которые он положил в гурий, поставленный им на этом мысе. Но поездка оказалась неудачной. Они действительно нашли гурий, но, к большому разочарованию, никаких бумаг там не оказалось.»
Гурий, о котором рассказывал Шорохов, был, наверное, сложен недавно, кем-нибудь из советских путешественников, так как на наших старых картах Земли Франца-Иосифа никакого гурия на южном берегу острова Гукера не было.
Выходить на поиски самолета надо было как можно скорей.
Пока держатся морозы, с мотором ничего не сделается, а начнутся оттепели, и мотор может испортиться, поржаветь, да и сам самолет может сползти с крутого склона ледника и бухнуться в море.
В субботу 24 февраля Наумыч отдал приказ: готовиться в санный поход.
Экспедиция должна была выступить на следующий день в составе: Руденко, Редкозубов, Савранский и Безбородов. Наумыч решил итти на этот раз без каюров. У Бори Линева после первого похода совсем разболелись и распухли ноги — это давал себя знать старый грипп. А Желтобрюха Наумыч взять не рискнул — больно уж молод.
____________
До глубокой ночи снова никто не спит на зимовке. Наумыч, запершись в своей комнате, пишет инструкцию для Ступинского, которого он оставляет своим заместителем. На огромном полотняном конверте, запечатанном сургучной печатью, написано: «Вскрыть, если я не вернусь до 15 марта». В этом пакете — подробный наказ зимовке, на случай, если с начальником стрясется какая-нибудь беда.
Савранский упаковывает продовольствие — нам нужен запас не меньше чем на десять дней. Я выбираю малицы и спальные мешки, Редкозубов спешно переделывает печку. Во время похода Горбовского в ней обнаружились некоторые конструктивные недостатки: большая кастрюля своим дном глушила пламя горящего примуса.
Все остальные зимовщики, кто как может, помогают нам.
Боря Линев и Желтобрюх отобрали и заперли в салотопке собак для нашей нарты.
Арсентьич приготовил в дорогу питье и разлил в наши термосы. Вася Гуткин по радиосигналам выверил наши часы.
Только поздно ночью я вернулся в свою комнату. Если позволит погода, мы выступим завтра, с рассветом. Значит, я должен сейчас приготовить и уложить все, что нужно в дорогу.
Я уже решил: я надену пару холодного белья, теплую рубаху, меховые штаны, шерстяные чулки, меховые носки, валенки, два свитера и норвежскую суконную рубаху. В рюкзак я кладу: еще пару шерстяных носков, меховые чулки, шерстяной шарф, меховую рубаху, толстые шерстяные варежки, кожаные финские рукавицы, моток крепкого шнура, «кошки» для ледников, записную книжку, два карандаша и термос.
Когда все это наконец уложено в мешок, а моя походная одежда проверена и аккуратно разложена на стуле, я быстро раздеваюсь и ложусь спать.
За стеной тихо, ветра как будто нет, барометр весь день стоял высоко. «Может, нам повезет, и завтра будет хороший день», — думаю я, засыпая.
____________
Но нам не повезло. Утро настало пасмурное, ветреное, туманное. Даже собаки попрятались под крыльцом бани, в ангаре, под навесом «Торгсина». На пустынном берегу целыми тучами носится сухой мелкий снег. Ветер рвет на длинные ленты серый, жидкий дым печных труб.
У салотопки кипит работа: мы пакуем нарту. На самый низ нарты мы расстилаем палатку, так чтобы ее краями можно было потом закрыть весь наш скарб, и укладываем вдоль нарты пять длинных шестов — это стойки палатки. Сверху мы кладем свернутые мехом внутрь четыре оленьи шкуры. На шкуры — четыре спальных мешка, на метки ставим большой ящик с печкой, с консервами, с бидонами керосина. Рядом с большим ящиком мы устанавливаем маленький ящик — в нем примус и бутылки бензина, — а поверх всего кладем мешок нарубленного большими кусками медвежьего и нерпичьего мяса для собак, мешок шоколада, мешок сухарей, мешки и банки с рисом, солью, сахаром, чаем, какао, табаком, папиросами, спичками.
Все это мы укрываем большим куском прорезиненной материи — это пол для нашей палатки. Потом мы поднимаем разостланные по снегу края палатки и со всех сторон укрываем, укутываем воз. Крепкой веревкой, захватывая петлей каждый колышек полозьев, мы тщательно, накрепко увязываем нарту.
Сверху мы наваливаем еще малицы и тоже привязываем их веревками. Но привязываем так, что стоит только распустить один узел, и малицу можно достать, не развалив всего воза. А с самого верха, тоже легким узлом, привязываем винтовку и подсумок с патронами, по бокам нарты укрепляем маленькую походную лопаточку и топор.
Наконец укладка кончена.
Вокруг нарты толпится вся зимовка. Стучинский в вязаной лыжной шапочке, отогревая нос рукавицей, все расспрашивает Наумыча, как бинтовать Шорохову ноги, мазать ли на ночь или лучше поутру, когда топить баню и можно ли без нас начинать новый свиной окорок.
Посиневший от ветра и холода Романтиков, с прозрачной капелькой, висящей на кончике носа, стоит у самой нарты и, держа меня за пуговицу, снова и снова долбит, чтобы в отсчеты походного барометра я не забывал вносить поправку на температуру.
Боря Линев, стоя на коленях, в последний раз поправляет собачью сбрую, ласкает и треплет собак.
Широко расставив ноги и запихав руки чуть ли не по локоть в карманы кожаных штанов, в стороне стоит обиженный Желтобрюх. Правда, Наумыч обещал ему, что он обязательно пойдет в экспедицию с Горбовским или Савранским, но Желтобрюху так хотелось именно в этот раз пойти в санный поход, что он никак не может скрыть свою обиду.
А Гриша Быстров уже расставил в стороне треногу, накрылся какой-то тряпкой и сизыми от холода пальцами вертит барашек аппарата, наводит на фокус.
— Товарищи! — кричит Гриша. — Пожалуйста, станьте в живописную группу! Путешественников попрошу вперед!
Он отбегает от треноги, хватает нас за руки, толкает, расставляет, распихивает, приговаривая: «Вот так. А ты вот здесь. Немножко в бочок. Вот хорошо». Он подталкивает упирающегося Желтобрюха: «Сюда, сюда, Желтик. Только, пожалуйста, я тебя прошу, не смотри так мрачно, ей-богу, объектив лопнет».
Гриша снова мчится к своему аппарату, с удовлетворением осматривает издалека, как живописно и красиво он расставил всех нас вокруг парты, и бодро кричит:
— Ну, теперь стойте так и не шевелитесь. Выдержка будет двадцать секунд.
Он вытягивает заслонку кассеты.
— Спокойно. Снимаю.
Но в этот самый миг, непонятно почему. Чакр вскакивает на ноги, начинает выть и рваться. Вскакивают и остальные шесть собак, они дружно налегают на хомуты, и нарта, вокруг которой мы стоим живописной группой, тихо трогается.
— К-э-э-э! — яростно сипит Боря Линев, стараясь не шевелиться и не двигать мускулами лица. — Кэ-э вы, проклятые!
Но собаки с радостным лаем подхватывают нарту, и Ромашников, который очень красиво опирался о нарту, потеряв точку опоры, падает на снег во весь рост.
Съемка сорвана. Чуть не плача, Гриша Быстров мечется, уговаривает каждого из нас постоять «еще только двадцать секунд», но времени уже много, уже десять часов утра, и Наумыч, надевая огромные рукавицы, говорит:
— Хватит, хватит. Ну, если даже маленькая недодержечка и получилась, не беда. Главное, чтобы Ромашников хорошо вышел.
Савранский становится впереди упряжки, я и Редкозубов по бокам нарты, Наумыч сзади.
— Ну, — говорит Наумыч, — все в порядке? Можно трогаться? Ефим, — кричит он Савранскому, — пошли!
Собаки дружно берут с места. Поскрипывая полозьями, нарта быстро скользит по крепкому гладкому снегу, мы шагаем большими торопливыми шагами, оборачиваясь и помахивая рукавицами неподвижно стоящей у берега черной кучке народа.
— Держи прямо на Медвежий! — кричит Савранскому Наумыч.
Порывистый ветер валит набок пушистые собачьи хвосты. Итти хорошо, не холодно. И дорога хорошая — ровная. Собаки, часто-часто семеня короткими толстыми лапами, тявкая и поскуливая, волокут неуклюже покачивающуюся нарту все вперед и вперед, все дальше и дальше от зимовки.
Я оборачиваюсь назад. В мутном, косо летящем поземке почти неразличимы очертания далекого берега. На берегу уже нет никого.
И впереди тоже никого. Теперь мы одни — четыре человека и семь собак.
Путь
Около четырех часов дня мы обогнули пологий и голый мыс Дунди и повернули на восток. Уже почти совсем стемнело, и впереди какими-то белыми призраками смутно маячили айсберги, севшие на мель под самым берегом.
Теперь надо было глядеть в оба. За мыс Дунди еще не заходила ни одна наша партия. Это были еще не осмотренные нами места.
Нарта глубоко вязла в снегу, собаки то и дело останавливались и сейчас же ложились. Пинками и криками мы поднимали их и, изо всех сил налегая плечами на нарту, сдвигали ее с места. Проваливаясь почти по колено в снег, мы брели дальше, до тех пор пока собаки снова вдруг не останавливались.
— Нет, видно, надо разбивать ночлег, — сказал Наумыч. — И темно уж совсем становится, ничего не разобрать. Держи, Ефим, к берегу.
Савранский круто повернул налево. Собаки нехотя потащились по следу Савранского.
Все мы уже выбились из сил. Я был совершенно мокрый, и ноги мои подламывались от усталости. Наумыч так сопел и кряхтел, что казалось — он вот-вот лопнет от натуги, а Редкозубов совсем притих и только на остановках вздыхал, громко сморкался и покачивал головой.
Наконец упряжка выбралась на пологий и́зволок берега.
— Кэ-э! — закричал Ефим, и все собаки разом повалились на снег. Мы подошли к нарте.
— Ну, — сказал Наумыч, отдуваясь, — вот здесь и остановимся. Местечко, кажется, ничего, подходящее. И за водой недалеко бегать. — Он кивнул на едва различимые в густых сумерках айсберги. — Давайте, хлопцы, устраиваться. Как это там Нансен все это проделывал? Ну-ка, Серафим Иваныч, покажи. Ты у нас уже бывалый путешественник.
Редкозубов не спеша подошел к нарте.
— Вот как он делал, — сказал Редкозубов и ловко распустил веревку, которой была увязана вся наша кладь. Он сбросил на снег наши малицы. Пока мы шли, нам было даже жарко в своей походной одежде, но теперь, когда мы стояли на месте, мороз уже начинал забираться под суконную рубаху. Мы поспешно разобрали свои малицы и надели их, а Редкозубов уже откинул края палатки и проворно составлял на снег ящики и мешки.
Мы все принялись помогать ему.
Один расстилал на снегу прорезиненный пол палатки, другой забивал топором на углах пола деревянные шесты так, чтобы верхние концы каждой пары шестов перекрещивались, третий распрягал и привязывал к нарте собак. До дома было не так уж далеко, и оставить на ночь собак не привязанными мы побоялись: собаки могли убежать домой, и тогда вся наша экспедиция с позором провалилась бы.
Когда все четыре шеста были забиты, на них, как на козлы, мы положили продольный шест и сверху набросили полотнище палатки. Потом все вчетвером мы принялись натягивать палатку, забивая в снег колышки и наматывая на них тесемки, пришитые по краям палатки.
Палатка должна быть очень хорошо натянута, чтобы стенки ее не провисали, — тогда она сможет устоять даже в сильный шторм и снегопад. А если натянуть ее кое-как, то первый же сильный порыв ветра сразу опрокинет ее, или она так провиснет под тяжестью нападавшего снега, что в ней совершенно нельзя будет повернуться.
Палатку мы разбили за двенадцать минут — на четыре минуты дольше, чем это делал Нансен. Потом мы затащили внутрь всю вашу кладь, и Савранский, забравшись в палатку, принялся раскладывать все по местам, вытаскивать из ящиков и мешков походную печку, посуду и продукты для ужина. Его мы единогласно выбрали поваром и завхозом нашей экспедиции. И сейчас, чтобы не мешать ему устраиваться, мы ждали снаружи.
— Давайте льду! — глухо закричал Ефим из палатки. Дверной полог приподнялся, и на снег к нашим ногам полетели зеленая эмалированная миска и топор. — Нарубите помельче.
Целый город айсбергов стоял тут же, в нескольких шагах от берега. Мы выбрали один айсберг с пологими боками и взобрались на его вершину. Редкозубов принялся рубить лед, а я и Наумыч собирали его и складывали в миску.
Вокруг уже была черная тихая ночь. Звон топора и наши голоса далеко разносились в морозной тишине.
— А вдруг соленый, — встревоженно проговорил Наумыч и, положив в рот кусочек льда, сосредоточенно принялся его сосать. Я и Редкозубов с интересом наблюдали за Наумычем. Лицо его расплылось в довольную улыбку.
— Хорош, прямо как нарзан, — сказал Наумыч. — Рубай дальше.
Наконец миска наполнилась до краев звонкими прозрачными кусочками льда, и мы двинулись к своему брезентовому жилью.
Внутри палатки уже горел огонек, мерцая в темноте мутным размытым пятном, слышалось шипенье и чиханье примуса.
— Каптер, принимай воду! — закричал Наумыч, просовывая миску в дверную щель. Он собрался было и сам лезть внутрь палатки, но оттуда послышался громкий испуганный крик Савранского:
— Ноги! Ноги хорошенечко обметите. Снегу натащите.
Мы посмотрели на наши валенки. Они, действительно, были в снегу прямо до колен.
— Да-а, — сказал Наумыч, — с такими копытами лезть в порядочный дом прямо как-то неловко. Придется, хлопцы, обметать. Жалко, веник с собой не захватили. Пригодился бы теперь.
Редкозубов снял собачьи рукавицы.
— А мы бальными перчатками обмахнем. Не хуже веника будет, — сказал он и принялся колотить рукавицами по своим валенкам. — Это меня Борька Линев в прошлую экспедицию научил.
Один за другим, ползком мы забрались в палатку. От стены до стены вряд лежали четыре спальных мешка, как четыре египетские мумии. У дальней стены, прямо против входа были сложены ящики и свертки. Посреди палатки, запрятанный в железную печку, бушевал примус.
Савранский, в рыжей косматой малице, точно колдун, сидел около печки и огромным охотничьим ножом взрезал консервные банки.
— Занимайте места, — сказал он, даже не взглянув на нас. — С самого края, около входа, будет спать Редкозубов, потом Сергей, потом Наумыч и я. Так и рассаживайтесь, чтобы лишней толкотни не было.
Но занять места оказалось не так-то легко. В палатке страшно тесно, печка уже докрасна накалилась от примуса, и, как только мы пробуем переместиться, начинает так вонять паленой шерстью, что Савранский кричит истошным голосом:
— Горим, братцы! Спасайся, кто может.
Наконец все разместились. Сидеть в палатке можно только скорчившись. Лучше всех маленькому Савранскому, хуже всех — Редкозубову. Он такой длинный, что ему приходится все время полулежать, мечтательно склонив голову набок и подобрав под себя ноги. Но Редкозубов не унывает. Он достает коробку с табаком, трубку и, блаженно покрякивая, неторопливо начинает набивать ее.
— Давненько не курил с таким удовольствием, — говорит он, попыхивая трубкой.
А Савранский недовольно ворчит:
— И так дышать нечем, а он еще дымища подбавляет..
Воздух в палатке, действительно, не так чтобы очень свежий.
От спальных мешков, от малиц и оленьих шкур остро воняет какой-то псиной. Савранский сушит у печки свои валенки, и от них тоже изрядно попахивает прелью и мокрым войлоком, а ко всему еще примешиваются пары керосина и примусная гарь. Но зато в палатке тепло. Наумыч даже снял шапку и тщательно причесался маленьким гребешком.
Меня начинает клонить в сон, — так приятно согреться после морозного резкого ветра, после целого дня ходьбы, так хорошо под монотонное гудение примуса неподвижно сидеть, закутавшись в мягкую теплую малицу, и чувствовать, как сладкая усталость разливается по всему телу.
Лед в миске уже растаял, и Савранский, одну за другой, вываливает в миску три банки мясных консервов. Палатка наполняется запахом бульона, лаврового листа, мяса. Наумыч даже крякает, жадно посматривая на миску, а Савранский встревоженно говорит:
— Как же мы будем его есть? Из одной миски? Нам же с Наумычем не дотянуться, а если в наш угол поставить, то Сергею и Серафиму Иванычу не достать.
— Есть надо из кружек, — решительно говорит Редкозубов. — Разлить по кружкам, и каждый из своей будет есть.
— Правильно, — соглашается Савранский. — Так и сделаем. Вот он опыт-то что значит. Научился там около Борьки Линева.
— Да я это все и раньше знал, — небрежно говорит Редкозубов. — Слава богу, не первый раз путешествую…
Савранский осторожно зачерпывает ложкой немного варева, долго дует и сосредоточенно пробует. Мы все не спускаем с него глаз.
— Ничего, — важно говорит Савранский, кивнув головой. — Посолил в самый раз.
— А скоро готов будет? — спрашиваю я.
Сон у меня как рукой сняло. Мне так хочется есть, что я то и дело глотаю слюну, и живот у меня сводят прямо какие-то судороги.
Савранский раздает нам эмалированные большие кружки, алюминиевые ложки, достает и ставит посреди палатки мешок с сухарями.
Уже кипит в миске суп. Кипит и клокочет, заволакивая всю палатку аппетитным паром.
— Да не томи ты, Христа ради, — жалобным голосом стонет Редкозубов. — Сил никаких больше нет…
— Давай! Будет колдовать! — кричим и мы с Наумычем.
Савранский снимает миску, три руки с кружками разом протягиваются к нему.
— Начальнику первому, — говорит Савранский, но Наумыч сразу отдергивает свою кружку.
— Если начальнику, — говорит он, — тогда последнему.
— Ну, не начальнику, — смеемся мы. — Не начальнику, а просто самому толстому.
— Вот это другое дело.
Обжигаясь, громко дуя, хрустя сухарями, причмокивая, покрякивая, мы принимаемся за суп.
Чертовски вкусный был этот суп: жирный, горячий, пахучий. Каждый глоток, как огонь, разливался по всему телу. Нам стало жарко, даже пот выступил на лбу.
— А у меня еще чего-то есть, — хитро проговорил Наумыч, громко прожевывая мясо. — Ни за что не догадаетесь.
— Бум-гум-гум-гум, — прогудел Редкозубов туго набитым ртом.
— Нет, ни за что не догадаетесь, — опять сказал Наумыч.
Но раздумывать и догадываться нам некогда: мы торопливо дохлебываем последние капли супа, прямо в рот вытряхиваем последние кусочки мяса и снова протягиваем Савранскому пустые зеленые и коричневые кружки.
— А ну, плесни-ка еще. Уж больно знатный супец. И без всяких сюрпризов, не то что у Борьки Линева.
Мы улыбаясь посматриваем друг на друга.
— Чего же это вы там такое припасли? — говорит наконец Редкозубов, тоже снимая шапку и вытирая рукавицей голый сверкающий череп. — Чего-нибудь от бешеной коровки, наверное?
Настоящего свежего молока у нас на зимовке нет, и «молочком от бешеной коровки» называется у нас вино, которое мы получаем раз в шестидневку, по пятидесяти граммов на человека.
Наумыч трясет головой.
— Не-е-ет, какое там молочко! К чаю чего-то!
Но кружки снова наполнены, и снова в палатке только звон ложек, громкое хрустение сухарей и чмоканье.
Когда миска супа совершенно опорожнена и вытерта куском чистого бинта, Савранский ставит чай.
Мы разваливаемся на спальных мешках, сытые, довольные. За тонкой брезентовой стенкой иногда раздается хрустение снега, какая-то возня и яростное рычанье. Тогда кто-нибудь из нас, даже не поднимая головы, кричит страшным голосом:
— Кэ, окаянные! — и за стеной сразу все стихает.
Мы лежим молча, каждый думает о своем. Только Ефим все время копошится и возится, шарит в мешках, роется в ящиках, достает сахар, чай, клюквенный экстракт, сгущенное молоко.
— Будем мыть кружки? — спрашивает он.
— Нет, — мечтательно отвечает Редкозубов из своего угла. — Я думаю — просто оближем, и все. Зачем же кипяток зря тратить? Мы в тот поход ни разу не мыли.
Но Наумыч протестует.
— Нет уж, к чорту, это я как начальник, а не как толстяк говорю. Нечего опускаться. По две ложечки кипятку — расход не большой, а есть надо из чистой посуды.
— Да тут ведь, Наумыч, никаких бактерий, никакой заразы нет, — лениво говорит Редкозубов. — Тут — прямо как в раю…
— Дело не в заразе, — отвечает Наумыч. — Дело в том, что распускаться не к чему. А насчет заразы, если хочешь знать, то гриппом-то мы, по-твоему, от ветра болели?
Савранский повернулся к Наумычу, держа в руке банку сгущенного молока.
— А верно, Наумыч, откуда он мог здесь взяться? Как вы думаете?
Наумыч засопел, долго молчал, наконец задумчиво проговорил:
— Разное может быть… Может, мы сами занесли, а может — собаки. Вы думаете — это мы одни, что ли, гриппом в Арктике болели? Мы первые? Я вот недавно прочитал, что у Берда в Антарктике тоже половина людей, оказывается, валялась от гриппа. Доктор Коман так прямо и говорит, что инфекция в лагерь Берда была занесена собаками. Может, и у нас также. Собаку ведь не прокипятишь…
Наконец чай готов. Наумыч, хитро поглядывая на нас, лезет в свой рюкзак, долго копается в нем, шелестит бумагой.
— Фу ты, чорт, опять не то, — говорит он, вытаскивая то пачку бинтов, то какую-то мазь в банке. Наконец он извлекает что-то, завернутое в тряпочку. Смеющимися глазами осмотрев всех нас, он не спеша начинает разматывать тряпочку. Мы сидим молча, глядя ему на руки. Вот он снял одну тряпку, а под ней оказалась другая. Под той тряпочкой бумага, потом опять тряпка.
— И нет, наверное, ничего, — тихо сказал Редкозубов.
Наумыч на минуту остановился и потом как-то с вывертом, словно фокусник в цирке, сорвал последнюю бумажку, и мы увидали, что на огромной его ладони лежит золотой, свежий, с остреньким носиком настоящий лимон!
— Ого-го-го! — заголосили мы такими дикими голосами, что за стенкой даже залаяли и завыли собаки. — Лимон! Ура-а!!..
Наумыч взял нож и не торопясь, аккуратно, осторожно и бережно отрезал каждому из нас по тоненькому, прозрачному ломтику, а остальное снова завернулось в свои десять бумажек и тряпок.
— Чтобы не замерз, — назидательно сказал он, снова пряча лимон в свой мешок.
— Ну, фокус, вот это фокус, — никак не мог успокоиться Редкозубов. — Да где же вы его раздобыли? У нас ведь и свежих лимонов-то не было, кажется, ни одного? Мы ведь еще в Архангельске все их порезали и засыпали сахаром?
— А я припрятал парочку, — посмеиваясь сказал Наумыч. — Думаю — пускай полежат. Пригодятся как-нибудь. Вот и пригодились!
Редкозубов выловил из кружки свой ломтик, посмотрел на него, понюхал, покрутил головой.
— Скажи, пожалуйста, вот ведь рос где-нибудь в Италии, около какого-нибудь Неаполитанского залива и сроду, поди, не думал, что его на Земле Франца-Иосифа большевики будут харчить. Вот, брат, куда судьба-то заносит.
Пили мы с наслаждением, долго, грея руки о кружки. Чтобы чай не остывал, мы завалили миску всеми четырьмя парами наших собачьих рукавиц, а когда наконец напились до отвалу, слили остатки в термос.
В Арктике снегу и льда кругом сколько угодно, — кажется, о воде и заботиться нечего, а захочется пить — и нечем напиться. Снег не утоляет, а только разжигает жажду. Снегом не напьешься, а простудиться снегом легко.
Поэтому мы и берегли каждую каплю питьевой воды.
Савранский убрал печку, примус и кастрюлю. Мы втроем снова вылезли из палатки, а он принялся укладываться спать. Сразу всем четверым спать не улечься, — негде повернуться четверым в нашей палатке.
Сначала лег Савранский, потом полез Наумыч. Он долго возился, сотрясая всю палатку, пыхтел, несколько раз ронял свечку, и она тухла, а Наумыч с проклятиями принимался шарить по всей палатке, отыскивая спички, снова зажигал огонь и снова возился и пыхтел. Наконец он затих, и полез я.
Савранского совсем не было видно в огромном спальном мешке, а из мешка Наумыча торчала только одна его голова в шапке. Лицо у Наумыча было сосредоточенное. Он что-то поправлял внутри мешка, укладывался, дрыгал ногами.
Задевая головой за стенки палатки и ударяясь о продольный шест, я кое-как стащил малицу и бросил ее в ногах. Потом я снял норвежскую суконную рубаху и аккуратно разостлал ее внутри мешка. От снега и от пота рубаха отсырела, и ее приходилось сушить теплотой своего собственного тела. Потом я достал из рюкзака сухую оленью рубаху, надел ее и, как был — в валенках и шапке — полез в мешок.
Спальный мешок сшит длинным кульком, мехом внутрь. К ногам кулек суживается. В широком конце его сделан продольный разрез, так что мешок распахивается на две стороны. По бортам разреза пришиты застежки: с одной стороны — маленькие деревянные кругляшечки, а с другой — петельки из узкого сыромятного ремня. Борты далеко заходят один на другой, и мешок наглухо застегивается.
С огромным трудом я втиснулся в мешок, расправил под собой норвежскую рубаху и, высунув одни только руки, начал застегиваться. Дело это нелегкое: никак не найдешь ни деревяшек ни петелек.
От возни, от натуги мне стало даже жарко, и я, оставив несколько пуговиц не застегнутыми, высунул голову из мешка и осмотрелся. Редкозубов, стоя на коленях, завязывал тесемки на двери палатки, потом тоже, ногами вперед, полез в свой мешок.
Вот он исчез с головой в мешке, вот показались его пальцы, которые принялись шарить, отыскивая застежки.
Я чуть приподнял голову и легонько дунул на свечку.
В палате воцарились мрак и тишина.
— Спокойной ночи, — громко сказал я. И в ответ мне откуда-то, словно из-под земли, послышалось справа и слева какое-то глухое гудение.
В палатке было уже почти так же холодно, как и снаружи. Примус давно был потушен, и тепло сразу улетучилось сквозь тонкие брезентовые стенки. Странно было подумать, что ты зимой, в жестокую стужу должен спать под этим тонким брезентом, лежа только на двух тонких оленьих шкурах, под которыми был уже промерзлый снег. Я даже чувствовал боками его неровности.
Но мне было тепло и удобно. Сначала холодила сырая норвежская рубаха, но потом и она согрелась. Было легко и приятно дышать студеным, морозным воздухом. Я опустил уши своей шапки, завязал их под подбородком, повернулся на бок и сразу сладко уснул.
Спал я без снов, крепким, глубоким сном уставшего человека, и проснулся сразу, точно от толчка. В палатке было полутемно. Слабый свет начинающегося пасмурного дня почти не пробивался к нам в палатку. Савранский уже вылез из мешка и тихо передвигал с места на место печку, выбирал что-то в большом резиновом мешке.
Я лежал не шевелясь, молча и долго наблюдая за ним. Интересно наблюдать за человеком, когда он думает, что его никто не видит.
Савранский достал из мешка горсточку риса, понюхал его, покачал головой и ссыпал обратно, потом он стал копаться в ящике с консервными банками, вытянул одну, потряс ее около уха, кивнул головой.
Выражение его лица все время менялось: то он хмурился и поджимал губы, то удивленно поднимал брови, то одобрительно кивал головой. Иногда он даже принимался что-то бормотать, пожимая плечами или оттопыривая губы.
Было что-то воробьиное, смешное в его маленькой фигурке, в том, как он нахохлившись сидел над ящиком и копался в нем маленькими ручками.
Потом проснулся Наумыч. Он высунул из мешка всклокоченную голову, с изумлением осмотрелся и так протяжно и громко зевнул, что, наверное, разбудил Редкозубова, который завозился и закашлял в своем мешке.
Наумыч вытянул из-за пазухи часы, посмотрел на них, покачал головой и снова зевнул.
— Сколько? — сипло спросил я.
— Без двадцати девять, — ответил Наумыч. — Поздно. — Он спрятал часы и вдруг закричал диким, страшным голосом — С правого фланга подымайсь!! Считаю до пяти!!
Редкозубов высунулся из мешка, испуганно осмотрелся, соображая, кто же должен подниматься первым, если начинать с правого фланга.
— Это что же выходит, что мне первому вставать? — хрипло спросил он. — Ложились сначала с той стороны, а вставать с этой?
Наумыч кивнул головой: — Так будет меньше толкотни, — и выкрикнул:
— Раз!
При счете «пять» Редкозубов уже выползал из палатки, согнувшись в три погибели. Вторым поднялся я и, надев малицу, тоже вылез наружу.
За ночь понападало снежку. Собаки мирно спали. Их совсем занесло, и вокруг нарт возвышалось только семь снежных кучек.
День был тусклый, пасмурный. Тянул ровный восточный ветер. «В лицо будет дуть», подумал я, стоя около палатки.
И вдруг я услыхал какой-то странный свист, точно где-то в небе махали в воздухе огромной шашкой. Я поднял голову.
— Смотрите! Смотрите! — закричал я, бросаясь к Редкозубову.
Невысоко над землей, с юга, из-за моря быстро летели черные маленькие птички. Они уверенно летели прямо на север, пересекая мыс Дунди.
— Птицы! — закричал Редкозубов. — Птицы!
В палатке послышался какой-то грохот, возня, сдавленные крики, дверь палатки отлетела, сперва оттуда выскочил Савранский, а за ним быстро-быстро на четвереньках, озираясь по сторонам, выполз Наумыч в одном свитере, без шапки.
— Где? Где птицы?
— Вон, вон полетели! Над мысом!
От нашего крика проснулись, повскакали собаки, шумно принялись отряхиваться, зевать, скулить, греметь железными цепочками.
— Ну, хлопцы, — сказал Наумыч, радостно потирая руки и все еще глядя в ту сторону, куда улетели птицы, — значит, наше дело добре! Значит, весна! Зиме крышка!
— Выходит, скоро уж и за ландышами можно, раз весна наступает, — усмехаясь проговорил Савранский. — За ландышами и за фиалками.
А Редкозубов добавил:
— Здесь эта весна еще месяца четыре, наверное, будет продолжаться. Еще раз двадцать нос отморозить успеешь.
Но Наумыч продолжал потирать руки и радостно улыбаться.
— Ничего, ничего, — говорил он, — какая ни какая, а все-таки весна. Раз уж птицы летят, значит, дело в шляпе. Птица и без календаря знает, что к чему.
Мы вернулись в палатку. Савранский быстро разжег примус, и вскоре мы уже пили чай со сгущенным молоком, с сухарями, на которые мы клали толстые ломти замерзшего сливочного масла.
Завтракали и собаки. Ворча и огрызаясь друг на друга, они глодали куски мороженого медвежьего мяса, которые им роздал Савранский.
После чаю, пока Савранский убирал кастрюлю, печку и кружки, пока упаковывал ящик и завязывал мешки, Наумыч вытащил из полевой сумки карту нашего острова и разостлал ее у себя на коленях. Я и Редкозубов придвинулись к нему.
— Вот здесь мы стоим, — сказал Наумыч, тыча пальцем в излучину берега, около мыса Дунди. — А теперь пойдем вот так. Будем держаться ближе к берегу. Сейчас надо глядеть да глядеть, чтобы не проворонить скалу с гурием.
Он принялся внимательно рассматривать карту.
— Как будто вот здесь что-то вроде скалы. Может, здесь он и нашел гурий?
— Едва ли это такая уж отвесная скала, как рассказывал Шорохов, — проговорил я. — Смотрите, если бы здесь был обрыв, горизонтали шли бы очень близко друг от друга. А тут они нанесены не так. Это не может быть здесь.
— Карте верить нельзя, — сказал Савранский, запихивая в ящик примус. — Надо глазами глядеть. Карта тут так наврет, что по карте выйдет семь верст до небес, и всё лесом.
Наумыч покачал головой.
— Да, верить, конечно, нельзя. Смотрите, как тут мыс Дунди изображен? Разве он такой на самом деле? Он вроде галушки, а тут нарисовано чорт знает что — не то сапог, не то овечий хвост. Конечно, будем глядеть сами как следует..
Когда посуда и продовольствие были уложены, мы быстро сняли палатку, снова разостлали ее на нарте и опять так же, как и вчера на зимовке, уложили все наше имущество.
Погода совсем испортилась. Ветер крепчал, поднялся поземок, и мы уже едва различали сквозь мутный крутящийся снег айсберги, стоявшие в каких-нибудь пятнадцати шагах от нас.
Собаки нехотя вставали на ноги, отворачивались от ветра и норовили снова улечься в снег. А мы уже сняли свои малицы, упаковали их, и возиться с собаками в одних суконных рубахах было нестерпимо холодно.
Наконец все готово. Мы в последний раз осматриваем место нашей стоянки — не забыли ли чего?
А уже так метет, что даже наши следы сейчас же заносит, засыпает, сравнивает, и уже не найдешь места, где стояла палатка, где мы спали эту ночь.
— Трогай! — кричит Наумыч, отворачиваясь от встречного ветра. Собаки лениво, вразброд дергают по́тяг, нарта чуть сдвигается с места и останавливается.
— Та-та! Та-та! — кричим мы, изо всех сил толкая нарту.
Савранский хватает Чакра за ошейник и тащит его вперед, собаки начинают выть, рваться, и нарта наконец трогается с места и быстро мчится под горку, на лед пролива.
Савранский бежит впереди, прокладывая след, а мы трое скачем позади нарты. Рюкзак прыгает у меня на спине и рвет меня за плечи, ноги вязнут в глубоком рыхлом снегу, я задыхаюсь под капюшоном и на бегу откидываю его.
И вдруг с полного хода нарта останавливается: правая лыжа провалилась и глубоко утонула в снегу. Мы наваливаемся сзади на нарту и толкаем ее вперед, не переставая истошными голосами кричать:
— Та-та! Та-та!
Поскрипывая и переваливаясь, как утка, тяжелый воз выбирается из колдобины, собаки дружно подхватывают его, и уже снова мы бежим по глубокому снегу, обливаясь потом и задыхаясь.
И снова через минуту нарта останавливается, точно уткнувшись в стену. Но на этот раз дело гораздо серьезнее: на этот раз левый полоз застрял между льдинами, сверху припорошенными снегом. И пока мы на руках вытаскиваем нарту, собаки уже улеглись в снег, перепутав всю сбрую.
А ветер так и хлещет, так и сечет лицо. Мы начинаем зябнуть, на глазах замерзают слезы, коченеют руки — мы уже давно сбросили неуклюжие меховые рукавицы и развязываем ремни собачьей сбруи голыми пальцами.
Наконец все в порядке, можно трогаться дальше. Но тут оказывается, что мы взяли слишком вправо и уже потеряли из виду берег. Мы поворачиваем влево и через несколько минут выезжаем к какому-то косогору.
Ничего не поймешь в мутном, беснующемся снежном вихре.
— Это берег! — кричит Савранский. — Надо держать правее!
— Ну так и держи правее! — тоже криком отвечает Наумыч. — Только недалеко отъезжай, чтобы берег видно было!
А собаки опять уже лежат, и только один Алх еще топчется, крутится на месте, выбирая, как бы ему поудобнее улечься, чтобы спрятать морду от ветра.
И опять начинаются крики, проклятья, снова мы сбрасываем рукавицы, возимся с обледенелыми ремнями, с замерзшими пряжками, которые прилипают к мокрым пальцам и жгут их как огнем.
И не успеваем мы проехать каких-нибудь двухсот метров, как берег снова пропадает в тумане, в пурге, и нам начинают мерещиться какие-то утесы и скалы, может быть те самые скалы, которые мы ищем! И мы снова поворачиваем налево и снова утыкаемся в какой-то ледник.
От снега мы уже совершенно белые, точно сделанные из ваты елочные деды. И собаки тоже поседели и побелели, и уже не разберешь, какая из них Чакрик, а какая — Алх.
Так проходит два с лишним часа.
Наконец, когда нарта снова застревает среди льдин, Наумыч решительно командует:
— Стоп машина! Разбивать палатку!
А мы только этого и ждали. Сломя голову, мы бросаемся к возу, начинаем поспешно развязывать веревки, в одну минуту разгружаем нарту, укрепляем в снегу высокие шесты-стойки и набрасываем на них палатку. Ветер рвет ее из рук, надувает как парус, стреляет и хлопает краями полотнищ.
— Становитесь на углы! — орет Редкозубов.
Мы трое коленями прижимаем к снегу три конца палатки, а Редкозубов, махая топором, заколачивает колышек, укрепляет, привязывает четвертый конец. Потом он перебегает к Наумычу, потом ко мне, потом к Савранскому.
Теперь все четыре конца палатки пришиты к земле. Остается только заколотить в снег маленькие колышки и притянуть к ним боковые полотнища палатки так, чтобы они стали тугими, как барабан.
Пока мы возились с палаткой, весь наш скарб — и малицы, и спальные мешки, и шкуры — совершенно занесло снегом.
Мы встряхиваем их, выколачиваем, обметаем рукавицами, поспешно тискаем в палатку, а потом, кое-как обмахнувшись, лезем туда же и сами.
— Прямо скачки с препятствиями, — бормочет Редкозубов, расстилая свой спальный мешок. — Вот у нас такая же история в проливе Аллена Юнга была, тоже шторм прихватил.
Теперь мы возимся в палатке сразу все четверо. Мы пыхтим, толкаемся, наваливаемся друг на друга.
— Люблю грозу в начале мая, — усмехаясь декламирует Савранский, ехидно посматривая на Наумыча, — когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом..
— Ладно, ладно, — бубнит Наумыч, сваливая мне на голову свою малицу, — птички-то все-таки прилетели! А это просто так, случайное явление. Как это там у вас, у метеорологов, называется?
— Это называется — «возможны проходящие осадки», — говорю я и перекладываю Наумычеву малицу на Редкозубова.
Редкозубов отпихивает малицу ногой.
— Нет уж, к чорту! — кричит он. — Я со своей-то не знаю, что делать, а тут еще — проходящие осадки!
Наконец мы водворяем кое-какой порядок. Уже гудит примус, и от железной печки так и пышит жаром. Есть нам не хочется, и мы принимаемся за просушку аммуниции.
Сняв норвежские рубахи и облачившись в неуклюжие косматые малицы, мы, как пещерные дикари, сидим вокруг огня и держим в протянутых руках свою одежду, прислушиваясь к свисту и вою метели.
Сушить нам нужно много — и рубахи, и валенки, и шарфы, и портянки. Прелый теплый пар заволакивает всю палатку, так что свечка едва мерцает.
Когда все более или менее высушено, Савранский принимается за стряпню.
Обедаем мы роскошно: суп из консервированного мяса с рисом и на сладкое — какао. Потом, покормив собак, все укладываются спать.
Уже лежа в спальном мешке, Наумыч чиркает спичку и глядит на часы:
— Шесть часов, — говорит он. — Последний раз в шесть часов вечера я ложился спать, кажется, в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Но тогда у меня и профессия-то совсем другая была.
— Какая же профессия? — сонным голосом отзывается из мрака Савранский.
— Профессия? Мирской подпасок. В шесть ложишься, а в три уже надо стадо выгонять. А сейчас вроде и зазорно — все-таки доктор хирургии, начальник островов. Ну, да не беда, как вы думаете?
— Не беда, — говорю я. — Мы вас выбираем почетным каюром. Это тоже вроде подпаска..
На другой день лагерь поднялся в пять часов утра. Ветер уже стих, на чистом небе мерцали крупные ясные звезды, такая тишина царила вокруг, что начинало звенеть в ушах.
Мы дождались рассвета, хорошенечко покормили собак и двинулись в путь.
День обещал быть спокойным и ясным, и нам очень хотелось пройти до темноты как можно дальше на восток. Отдохнувшие за вчерашний день собаки бодро и старательно тащили нарту.
Мы шли вдоль невысокого берега, обрывающегося в море то отвесной стеной ледника, то базальтовой осыпью. А справа, до самого горизонта, лежало неровное, торосистое замерзшее море.
Внимательно и пристально осматривали мы каждую излучину берега, каждую глыбу базальта, торчавшую из снега и льда, а иногда там, где берег совсем полого спускался к морю, мы даже останавливали упряжку, выходили на берег и в бинокли разглядывали ледники. Ни гурия ни самолета нигде не было видно.
Так шли мы час, два, три, пять часов.
Вдруг за излучиной берега вдалеке показалась высокая черная скала. Она торчала из ледника, как чортов палец.
Савранский, который попрежнему шел далеко впереди упряжки, обернулся к нам и что-то прокричал, указывая рукой на скалу. Наумыч знаками ответил, что надо поворачивать. Точно почуяв отдых, собаки приналегли на хомутики, и мы бегом, едва поспевая за нартой, помчались к далекой скале. Вот она все ближе и ближе. Уже можно разглядеть отдельные камни, нагроможденные у подножья скалы. Но гурия что-то не видать.
— Конные, слезай! — кричит Наумыч, размахивая рукавицей над головой, словно командир конной батареи, командующий шашкой. — Привал!
Упряжка лихо подлетела к берегу.
Бросив собак и нарту, мы побежали к скале и, обгоняя друг друга, принялись карабкаться, взбираться по отвалившимся камням наверх. Подъем был не крутой, и мы быстро добрались до вершины.
Гурия здесь не было. До самого горизонта лежал перед нами ровный белесоватый снег, покрывающий ледники. Ни одной черной точки, ни одного пятнышка не было на этом снегу.
— Значит, не та скала, — разочарованно сказал Наумыч. — Выходит дело — надо дальше топать..
Мы медленно спустились вниз, подошли к своей нарте. Собаки уже сладко похрапывали, вздрагивая и перебирая во сне лапами.
— Ну, что же, надо малость перекусить, — сказал Наумыч. — Я чего-то проголодался, как антипкин щенок.
Мы облачились в малицы, вытащили из рюкзаков консервы, шоколад, пачки печенья и расположились у нарты прямо на снегу, словно на зеленой лужайке во время пикника.
Редкозубов взрезал ножом консервные банки, Наумыч наломал шоколада, Савранский распечатал пачки печенья, а я принялся бережно, чтобы не пролить ни одной капельки, обносить всех питьем. Остатки утреннего чая опять были слиты в термосы, и теперь я наливал каждому в крышечки от термоса бурую тепловатую жидкость. Тут же, на снегу, стояла алюминиевая бутылочка с клюквенным экстрактом. Каждый капал из нее в крышечку с питьем несколько капель по вкусу, добавлял туда же снегу, чтобы набралась полная крышечка воды, и медленно, с наслаждением выпивал.
Наумыч, лежа на боку и с аппетитом уплетая промерзлые консервы, опять вытащил карту.
— Хорошо бы нам сегодня вот до этого места дойти, — говорил Наумыч, разглядывая карту. — Здесь какая-то бухточка, и что-то вроде скалы изображено. Здесь бы и заночевали.
Вдруг Редкозубов, который молча сидел, прислонившись спиной к нарте, и деловито огромным ножом выгребал из консервной банки остатки мяса, бросил свою банку и дико закричал, показывая куда-то на небо тускло блеснувшим ножом:
— Смотрите! Смотрите!
Невысоко над горизонтом сизые облака раздались узкой длинной щелью. На темном предвечернем небе она сияла белым, как раскаленная сталь, светом. И вот из-за края щели по сгрудившимся облакам, по всему небу ударил прямой и плоский луч. Он осветил и небо и землю каким-то жарким светом. Мне даже на миг показалось, что все вокруг ожило и как-то сдвинулось с места.
А уже в щель между облаками медленно и величественно выползало желто-красное, усталое, огромное солнце!
Солнце!
Мы увидели его впервые после четырехмесячной разлуки! Мы снова увидели солнце! Оно нашло нас в промерзлой, дикой пустыне, у подножия изглоданной ветрами черной базальтовой скалы!
Молча, как зачарованные, мы не отрываясь смотрели на солнце. Казалось, оно согревает нас своим закатным, медно-красным светом. И скалы, и снег, и торчком стоящие глыбы льда, и далекие айсберги, и округлые края облаков, — все налилось этим светом, все стало розово-красное, живое, теплое.
И вдруг свет погас. Снова сошлись края облаков, и там, где только что слепящим огнем горело багровое солнце, были только сизые тяжелые облака, крутыми валами сбившиеся у горизонта.
Все посерело, померкло, потухло. Снова стало холодно, пусто и одиноко.
Наумыч поднялся на ноги, отшвырнул валенком пустую консервную банку.
— Ad perpehiam rei memoriam2, — торжественно сказал он, — назовем, товарищи, эту скалу Солнечной.
Мы тоже встали.
— Ладно, пусть будет Солнечная, — сказал Савранский. — На обратном пути я положу ее на карту…
Снова мы тронулись в путь. Берег становился все круче, все выше; над черными пятнами обнаженного базальта высокой шапкой возносился белый купол ледника.
К четырем часам вечера, когда уже почти совсем стемнело, мы вышли к бухточке. Вдалеке, на берегу чернела высоченная отвесная скала. Но было уже так темно, что вершину ее нельзя было разглядеть.
По крутому склону берега, заваленному огромными глыбами камня, отвалившегося от скалы, мы поднялись к самому ее подножию. Здесь было тихо. Снег слежался и был такой плотный и твердый, что с большим трудом мы вырубили топором и лопатой ровную площадку для палатки.
Маленькой и жалкой показалась мне она рядом с наваленными, навороченными, нагроможденными глыбами базальта. Все небо позади палатки закрывала черная угрюмая скала.
Вскоре уже гудел в палатке примус, слабо мерцало сквозь брезент пламя свечи, доносился звон мисок, ложек, банок. Савранский уже возился с ужином, а мы, засучив рукава свитеров и широко расставив ноги, умывались снегом, повизгивая от холода и предвкушая удовольствие от горячего супа, от чая с лимоном и отдыха в теплом мешке.
Заколдованный самолет
Наутро мы проснулись под завывание ветра.
Нет, нам положительно не везет! Из палатки даже носа нельзя высунуть — так крутит и несет снег. Ничего не поймешь, ничего не разберешь в мутном вихре!
Хмурые и злые, мы молча сидим около печки. Савранский, почерневший от примусной копоти, варит рисовую кашу. В маленькое зеркальце Наумыч задумчиво по частям разглядывает свою физиономию — сначала левую щеку, потом правую, потом подбородок и лоб. Он вытягивает губы, страшно таращит глаза, поднимает брови. Потом, вздохнув, прячет зеркальце в карман и протяжно зевает.
— Дураки, что книжку никакую не взяли, — мрачно говорит Редкозубов. — Ведь думал же взять книжку, и забыл. Сейчас бы хоть почитали вслух, а то вот теперь сиди, как в яме. С ума сойдешь.
— А ты рассказал бы чего-нибудь, все повеселее бы стало, — говорит Савранский, помешивая кашу. Но Редкозубов угрюмо молчит, потом принимается за свою трубку — развинчивает ее, прочищает, продувает.
Кашу мы едим медленно, чтобы хоть как-нибудь убить время. После каши кипятим чай и до одури напиваемся — по четыре, по пяти кружек.
К полудню ветер немного стихает. Редкозубов, который по-прежнему ютится около самой двери палатки, высовывает голову наружу и радостно говорит:
— Потишало. Можно итти. Честное слово, можно!
Все четверо мы поспешно вылезаем из палатки.
— Ничего себе потишало, — ворчит Савранский. — Тут не то что гурий, шестиэтажный дом не разглядишь.
Мы тщательно завязываем снаружи вход в палатку и гуськом начинаем взбираться на скалу. Впереди идет Редкозубов, за ним я, потом Савранский. Шествие замыкает Наумыч. Собаки, спавшие вокруг нарты, поднимают головы и с удивлением смотрят нам вслед: куда это их понесло в такую погоду?
С камня на камень, цепляясь за выступы, ставя ноги в расщелины и трещины базальта, мы поднимаемся все выше и выше.
Уже совсем потерялась из виду среди запорошенных снегом базальтовых глыб наша палатка. Ветер звенит и воет, прямо в лицо метет мелкий снег.
— Зря тут полезли! — кричит сзади Савранский. — Вон где надо было!
И он показывает налево, на пологий откос ледника, спускающийся прямо в пролив. Там, действительно, лезть было бы гораздо легче, но возвращаться уже поздно.
Наверху, на просторе, ветер гуляет и свищет во-всю. Какая-то серая мгла — не то туман, не то низко упавшие облака — окутывает все вокруг.
Наша скала с трех сторон затоплена ледником. Маленькая, заваленная щебнем площадка, с которой ветры сдувают дочиста весь снег, сразу переходит в ледяное поле. Куда-то прямо в небо уходит это поле. Где-то там, в тумане, в пурге, купол ледника.
Ни направо ни налево ничего нельзя рассмотреть. Мы бродим по площадке, подходим прямо к обрыву, заглядываем вниз, идем направо, потом возвращаемся и идем налево.
Никаких следов гурия нигде нет.
— Бесполезное занятие, — говорит наконец Наумыч, усаживаясь на камень. — Надо переждать непогоду и тогда снова подняться сюда и хорошенько осмотреться.
— Что-то мне кажется, что это где-нибудь здесь, поблизости, — многозначительно говорит Редкозубов, озираясь по сторонам.
— И мне тоже, — кивает Савранский.
Мы долго сидим, курим, все посматривая по сторонам. Но по-прежнему ничего не видать во мгле низовой метели.
Назад мы спускаемся там, где показал Савранский. Итти легко, под гору, да еще ветер подгоняет, подталкивает сзади. Мы выходим прямо к нашей палатке, и собаки, завидя нас, поднимают радостный лай.
— Обед, что ли, готовить? — нерешительно говорит Савранский, когда наконец, отряхнувшись и обмахнув рукавицами валенки, мы затискались обратно в палатку. — Может, сегодня без супа обойдемся? Сварить разве мясо с рисом?
Снова гудит и фырчит примус. Наумыч достает из рюкзака толстую записную книжку в клеенчатом переплете и, нахмурившись, начинает что-то быстро писать.
Редкозубов принимается обтирать бинокли, отвинчивает стекла, дышит на них, протирает чистым бинтом. Мне делать нечего, и, подложив под голову рюкзак, я начинаю дремать.
Я засыпаю и просыпаюсь. Все так же гудит в палатке примус и воет за стенками ветер. Наумыч все пишет что-то в своей клеенчатой книжке. Савранский мешает ложкой в кастрюле. Редкозубов храпит, запрокинув голову, а рядом с ним валяется его потухшая трубка. И я снова засыпаю.
После обеда, когда Савранский потушил примус, убрал в ящик печку и в палатке стало просторней, Наумыч достал свою полевую сумку и вытащил из нее карту.
Он хитро подмигнул нам и посмеиваясь, с видом человека, который придумал что-то интересное, стал тщательно осматривать карту со всех сторон, пробуя наощупь бумагу. Бумага была плотная, толстая, почти как картон. По бокам карты шли широкие белые поля. Снизу на этих полях, как всегда на географических картах, были напечатаны условные обозначения, масштаб карты и т. д.
Наумыч достал ножницы и неторопливо стал обрезать эти поля. Срезал с одной стороны длинную белую полоску бумаги, повернул карту другой стороной и здесь отрезал поля, потом отрезал их и с третьей стороны и с четвертой. Он разложил у себя на коленях все четыре полоски и начал что-то прикидывать и подсчитывать, шевеля губами.
Мы молча, с интересом следили за ним. Каждую полосу бумаги Наумыч разрезал на девять частей, потом, все так же хитро посмеиваясь, достал из сумки красный карандаш, положил на колени кусок фанеры от крышки ящика и сопя принялся писать что-то на одном кусочке бумаги, потом на другом, потом на третьем.
Я взял у него с колен один кусочек и прочел: «Туз буб». Взял другой — «Король буб». Третий — «Дама буб».
— Он карты делает! — закричал я.
Наумыч затрясся от смеха.
— Сейчас в полярного дурака сыграем, — проговорил он.
Все сразу оживились, засуетились, начали шарить по карманам, по рюкзакам, достали карандаши и, поделив между собой масти, принялись надписывать карты.
— А вот, например, десятка. Как ее — буквами писать «десятка», или можно цифрой? — задумчиво проговорил Редкозубое, склонившись над своими кусочками бумаги. — Буквами, пожалуй, не упишется.
— Пиши цифрой, — решительно сказал Наумыч. — Только девятку и шестерку надо снизу подчеркнуть, чтобы потом не спутать.
Когда карты были готовы, Наумыч долго тасовал их, вынимая то одну, то другую и с любопытством разглядывая.
— У Ефима почерк очень уж корявый, — сказал он, — недоразумений много будет.
Мы разделились на две партии: я с Наумычем, Савранский с Редкозубовым.
— В шесть карт в подкидного, — громко провозгласил Наумыч и принялся сдавать, поплевывая на пальцы. — Кто первый останется, тот полярный дурак.
— А отыгрываться можно? — с тревогой спросил Редкозубов.
— Нет, — отрезал Наумыч. — Первая партия решительная. Без отыгрыша.
Козыри выпали черви. Молча, нахмурившись, вертя и разглядывая каждую карту, мы сидели друг против друга.
— Руки мерзнут, — проговорил Савранский, — если бы знать, перчатки бы взял. Хожу с семерки треф. Серафим Иваныч, бросайте семерки.
— Нет у меня семерок, — проворчал Редкозубов. — Кто же это химическим карандашом писал? Валет пик совсем расплылся, ничего и не поймешь.
Наумыч, как коршун, следил за игрой. Он брал каждую брошенную карту и проверял.
— Чем кроешь? — говорил он и, медленно прочитав: «король бубен», клал карту обратно: — Верно покрыл.
— Что это такое? — вдруг с обидой сказал Редкозубое. — Я эту карту не возьму.
— Почему?
— Да как же — все карты незаметные, а эта заметная. Видите — у нее на обратной стороне какой-то «масш» напечатан.
— Ну, и что же из этого? — проговорил Наумыч. — А вот у меня, видишь — «таб» напечатано. Это из нижней полоски сделано. Там еще условные знаки пойдут. Надо прятать, чтобы не видно было.
Первую партию выиграли я и Наумыч. В палатке поднялся страшный крик.
— Не считается! Не считается! — кричал Савранский. — У Редкозубова было «отдельно стоящее дерево», а все знают, что дерево — это восьмерка пик!
— А почему он свое дерево не прятал?
— Он прятал, а вы подсмотрели, когда он его из колоды брал!
— Ничего мы не подсматривали! У меня все время на руках торчал «Астрономический пункт», его все видели, да я ведь не остался…
— Тогда с отыгрышем давайте, раз есть заметные карты, — сказал Редкозубов, яростно тасуя.
— Ладно уж, отыгрывайтесь.
Вторую и третью партию выиграли они. А четвертую сыграть не пришлось. Наумыч вдруг поднял руку, прислушался и сказал:
— А ну-ка, отдельно стоящее дерево, посмотри, что там на проспекте делается. Никак стихло.
Редкозубов выглянул из палатки.
— Стихло. Совсем хорошо.
Наумыч собрал карты, бережно спрятал их в боковой карман.
— Надо выползать, — сказал он. — А то опять может эта чертовина подняться.
— Зачем же нам табуном ходить? — сказал я. — Давайте мы вдвоем сходим на разведку. Я и Редкозубов. Посмотрим, что там видно, а потом уж решим, как действовать. Может, это и не здесь вовсе, может, дальше надо итти. Ведь ничего еще неизвестно.
— Ну, ладно, идите. Бинокль захватите на всякий случай.
Мы хорошенько переобулись, взяли по плитке шоколада и, подтянув пояса, вылезли из палатки.
Ветер стих. И туманная мгла как будто почти рассеялась.
По склону ледника, крутой косой спускающемуся к нашей скале, мы выбрались наверх.
Перед нами расстилалось ровное и белое, как бумага, без единой тени, без единой складки или черной точки, бесконечное поле ледника.
Отвесной, высоченной стеной ледник обрывался к морю. Наша скала, как мыс, выдавалась из ледника, а направо и налево от скалы шла извилистая, изломанная линия крутого обрыва.
— Смотрите, что это там справа? — тихо сказал Редкозубое.
Вдалеке на востоке смутно темнела еще такая же скала, как наша. Туман еще не совсем рассеялся, и хорошенько рассмотреть ее нельзя было даже и в бинокль.
— Пройдем, посмотрим, что это за штука, — сказал Редкозубов. — До нее как будто не очень далеко — верст пять, не больше.
Мы двинулись на восток, вдоль обрыва ледника, далеко обходя глубокие, метров, наверное, до двухсот, ледяные ущелья, то и дело преграждавшие нам путь.
— Не хотел бы я загудеть туда, вниз, — проворчал Редкозубов.
— Я бы тоже, пожалуй, не согласился, — ответил я и посмотрел по сторонам. Что такое? Далеко на леднике едва-едва темнело какое-то пятнышко. Оно было чуть различимо, но сразу бросилось мне в глаза на совершенно ровном белом снегу.
Я остановился.
— А это что там такое, посмотрите-ка! — сказал я Редкозу-бову.
Он тоже остановился и стал щурясь смотреть, потом медленно поднял к глазам болтавшийся у него на груди большой морской бинокль, проворно завертел его барашек, наводя на фокус.
— Ничего не разберешь, — пробормотал он. — Но, кажется, что-то такое лежит на леднике.
Он протянул мне бинокль. Да, что-то лежит, но что — рассмотреть нельзя.
Мы переглянулись.
— Пошли?
— Пошли.
Круто повернув налево от обрыва, мы быстро зашагали на ледник, не спуская глаз с темного пятнышка.
— А вдруг это самолет? — неуверенно проговорил наконец Редкозубов. Он сказал то, что я давно уже подумал. — Вот будет здорово. Но где же гурий? Гурия нигде что-то не видать.
Мы молча и быстро продолжали итти вперед. Уже чувствовался подъем, — мы начали подниматься на купол, вершина которого тонула в сером угрюмом тумане.
— Стоп! — вдруг закричал Редкозубов, хватая меня за руку. — Гурий!
Он показал рукой в ту сторону, где еще раньше мы видели вторую скалу. Она была теперь видна очень хорошо. На вершине ее стоял маленький черненький столбик.
Это был гурий.
— Значит, нашли! — радостно сказал я.
— Как будто так, — подтвердил Редкозубов. — Пошли скорее.
Темное пятнышко на леднике стало уже принимать какие-то очертания. Мы снова остановились, и снова Редкозубов поднес бинокль к глазам.
— Самолет, — тихо сказал он. — Самолет. Ну, конечно. Смотрите.
Да, самолет. Снег так бесцветен, так однообразно и ровно бел, что кажется, будто это в воздухе лежит на лопатках, задрав кверху две лыжи, маленький аэропланчик.
— Ну, дело в шляпе! Пошли скорее.
Мы шагаем молча, все время глядя на самолет. Теперь самолет виден даже простым глазом. До него осталось не больше чем полтора-два километра.
И вдруг самолет на секунду пропадает у меня из глаз.
Уже давно от напряженного вглядывания в ровный, бесцветный снег мои глаза устали, их давно уже начало ломить и пощипывать, и я несколько раз с досадой подумал: «Как глупо мы сделали, что не взяли с собой снеговые очки». И сейчас, когда самолет пропал у меня из вида, я только заморгал глазами и покрепче зажмурился.
Так, зажмурившись, я прошел шагов двадцать. Глаза как будто отдохнули, но когда я снова открыл их и посмотрел туда, где минуту назад был самолет, я увидел только ровный, мутнобелый снег.
— Что за чорт, — пробормотал я. — Серафим Иваныч, вы видите самолет?
Редкозубов остановился.
— Значит, и вы не видите? — с удивлением и страхом сказал он. — А я думал, что это только у меня чего-то случилось с глазами. Куда же он девался?
— Может, его закрыло каким-нибудь возвышением ледника? Может, он лежит в лощинке? — неуверенно сказал я.
— Чорт его знает, — пожал плечами Редкозубое. — Во всяком случае, пойдем дальше.
Мы зашагали дальше. Вдруг я опять увидел впереди, но уже немного в стороне, какое-то серое пятно. Я остановился.
— Глядите, что это еще такое? Не самолет, а?
— Нет, это что-то другое, — медленно проговорил Редкозубое. — Очень уж далеко. Самолет должен быть гораздо ближе и совсем в другом месте, левее.
— А ну, посмотрите-ка в бинокль, что это еще за новость.
Редкозубое долго рассматривал серое пятно, потом передал мне бинокль.
— Ничего не разберешь, — сказал он.
Я навел бинокль: что-то расплывчатое, неясное, мутно-серое, вроде какого-то вала, далеко-далеко, километров самое меньшее за десять. Что бы это могло быть?
Мы постояли и медленно побрели дальше.
Я упорно разглядывал это загадочное пятно, не отрывая от него глаз, и только мы сделали каких-нибудь четыре шага, как случилось чудо.
Так бывает ночью, в темной комнате. Вдруг просыпаешься, и тебе начинает так ясно, так отчетливо казаться, что стена у тебя не справа, а слева, что ты лежишь головой не к окну, а к печке, что дверь не там, а вот здесь. Вся комната оказывается вдруг как-то повернутой шиворот-навыворот. Но стоит только протянуть руку и неожиданно наткнуться на стул, который, казалось, должен стоять в противоположной стороне, как мгновенно все становится по местам — и печка, и окно, и стена, и дверь, и ты, успокоенный, засыпаешь.
Так и сейчас, на леднике, вдруг в один миг все стало на место, и совершенно ясно и отчетливо я увидел, что далекий серый вал, который мы разглядывали в бинокль, это — просто-напросто малюсенький заструг. Этакая морщинка на снегу, в двух шагах от нас.
Редкозубов даже снял шапку.
— Прямо, какое-то колдовство, — растерянно сказал он. — До него же было верст десять!
Мы присели на корточки и потрогали заструг, потом опять поднялись, посмотрели друг на друга.
И вдруг я вспомнил, как Берд в книжке об экспедиции к южному полюсу рассказывает про такие же чудесные обманы зрения.
Уже позднее я снова перечитал книгу Берда. Он описывает там несколько случаев, которые приключились с ним на ледниковом щите Барьера Росса.
Так, например, однажды Бротен принял за гору Ронникен, до которой было не меньше трех километров, маленький сугробик снега в пяти шагах от него.
«Едва я вышел из палатки, — пишет Берд в своем дневнике, — как снова был поражен тем оптическим обманом, который создают условия видимости в Антарктике. Как я ни старался вглядеться, как ни напрягал зрение, я никак не мог определить ни расстояния до отдельных предметов ни их очертаний. Очень часто нам казалось, что в отдалении мы видим высокую снежную гору, а на самом деле «гора» превращалась в небольшой сугроб, находившийся в каких-нибудь 20 метрах от нас.»
Но адмирал Берд ошибается. Эти оптические обманы объясняются не какими-то «исключительными условиями видимости в Антарктике», а необыкновенной бесцветностью снега и полным отсутствием теней, отсутствием красок и контрастов. А бывает это и в Арктике, и в Антарктике, и на любом леднике в пасмурный день при ровном рассеянном свете.
Вот этот-то рассеянный свет и сыграл с нами 28 февраля такую злую шутку.
Убедившись, что это действительно крохотный заструг, а не какой-то огромный вал, мы двинулись дальше.
Но самолет, который мы только что отчетливо и ясно видели, все-таки бесследно пропал.
Это можно было объяснить только одним: впереди был туман. Он закрыл самолет — единственный темный предмет в этой мутно-серой, бесцветной мгле. Но увидеть туман мы, конечно, не могли, как не могли бы разглядеть в абсолютном мраке черную стену.
И мы продолжали итти дальше в том направлении, где несколько минут назад видели самолет.
И вдруг как-то сразу стало вокруг подозрительно тускло. Я с беспокойством осмотрелся по сторонам. Мы шли в зелено-розовом густом молоке. Откуда взялся этот странный зелено-розовый свет? Может быть, мы уже начинаем слепнуть от снега?
Нигде ни одной темной точки, ни одной тени, ни одной линии, на которой глаз мог бы остановиться. Я посмотрел вверх, посмотрел под ноги, огляделся по сторонам. Повсюду — только мутное зелено-розовое молоко.
Мне приходилось попадать и раньше в густой туман, когда в пяти шагах не разглядишь человека. Но даже в таком тумане есть оттенки, есть движение, есть какой-то объем, и стоит только посмотреть себе под ноги, чтобы сразу увидеть землю.
А здесь не было ничего — ни неба, ни воздуха, ни земли. Может, мы поднимаемся, может, опускаемся, может, стоим на краю обрыва.
Мне стало страшно.
Внезапно откуда-то сзади подул ветер.
— Пройдем еще немного? — неуверенно спросил Редкозубов.
— Пройдем, пожалуй, — нерешительно сказал я.
А ветер все крепчал, он уже нес стеной мелкий сыпучий снег. Еще непроглядней, еще мутнее стало вокруг.
Нет, итти было бессмысленно, и мы повернули назад. Сначала наши следы были отчетливо видны, но вскоре мы начали терять их. Каждый раз, как мы сбивались со следа, он оказывался далеко вправо. Значит, мы все время забирали влево, наверное потому, что туда шел скат и было легче итти. Но слева, мы это знали, был отвесный обрыв ледника и глубокие ледяные ущелья, которые мы час назад обходили.
Если бы мы подошли к обрыву, мы, конечно, не заметили бы его и свалились вниз.
Так мы шли около часа, молча, не произнося ни одного слова. Изредка я посматривал на Редкозубова. Лицо у него стало совсем красное, на глазах замерзли слезы. Наконец впереди показалось какое-то темное пятно.
— Скала! — закричал я.
Мы остановились и перевели дух. Пройдя еще метров двести, мы уже отчетливо увидели черные камни и линию обрыва ледника.
Когда мы залезли в палатку, Савранский спал, свернувшись клубочком, а Наумыч, разложив на коленях записную книжку, играл сам с собой в «извозчика».
— Ну, как дела? — весело спросил он и, взглянув на нас, добавил — Какие-то вы дикенькие, точно с цепи сорвались.
— Мы нашли самолет! — выпалил я.
Наумыч даже выронил свою книжку.
— Нашли? — закричал он. — Где нашли? Мотор цел?
— Да мы около самого-то самолета не были, — сказал Редкозубое, тяжело усаживаясь и вытирая лицо.
— Какой-нибудь километр не дошли, — добавил я. — Но все разглядели. Как Шорохов говорил, так и лежит, лыжами кверху.
— Стойте, стойте, — проговорил Наумыч и принялся трясти Савранского. — Приехали! Гражданин, приехали, пора вставать!
Савранский, кряхтя и охая, сел, мутными, ничего не понимающими глазами посмотрел на нас и зажевал губами.
— Самолет нашли! — закричал Наумыч ему в ухо, точно Савранский был глухой.
— Как нашли? — с испугом, хрипло спросил Савранский, отшатнувшись от Наумыча. — Где нашли? Кто?
Он опять с удивлением посмотрел на нас, облизал губы и сказал:
— Ничего не пойму. Верно нашли?
— Нашли, — улыбаясь ответил я.
Наумыч поспешно достал жестяную коробку с папиросами, уселся поудобнее, закурил, жадно затянулся дымом.
— Ну, докладывайте, где и как.
Выслушав наш рассказ, он недоверчиво покрутил головой, скривился и медленно проговорил:
— М-д-а-а. История. А может, это тоже какой-нибудь заструг был?
— Какой же заструг? — обиженно сказал Редкозубов. — Какой же заструг может быть с лыжами? Мы и лыжи видали и плоскости. Оба глядели и в бинокль и так, простым глазом потом уж видно было. Никакой это не заструг.
Наумыч повернулся к Савранскому.
— Как ты на это дело смотришь?
Савранский хмыкнул, пожевал губами.
— Свежо предание, а верится с трудом, — сказал он, покачивая головой. — Посмотрим, посмотрим. Если он и верно здесь, так никуда от нас не денется.
— Вы, что же — не верите нам? — спросил я. — Не верите?
Наумыч пожал плечами.
— Что значит — не верите? Я вот чему только верю, — он выпростал руки из собачьих рукавиц и помахал ими в воздухе. — Глаз — несовершенное орудие. Принесли бы какой-нибудь винтик, — ну, тогда другое дело. А то сами же рассказываете, что заструг за крепостную стену приняли. Как же вам верить?
— Значит, врем, да?
— Зачем же врете? Ты Гоголя читал? Помнишь, какие там чертовины семинаристу Хоме Бруту представлялись?
— Хорошо, — сказал я, — пусть только немного разведрится, мы вам покажем семинариста с лыжами.
Но в этот день так и не разведрилось. Ветер немного стих, но навалился густой туман, а потом снова поднялся ветер, и ночью палатку так мотало, что несколько раз я просыпался и со страхом думал, что вот-вот наша палатка сорвется и улетит, и мы окажемся под открытым небом.
На другой день, сейчас же после завтрака, Наумыч, Редкозубов и я двинулись на поиски самолета. Мы забрали на этот раз снеговые очки, компас, веревки, положили в рюкзак 20 банок мясных консервов, резиновый мешок сухарей, банку сливочного масла, пачку спичек. Эти запасы мы решили оставить в гурии.
Шторм к утру стих, но все еще заметал поземок, на куполе ледника лежал густой туман.
Ни самолета ни второй скалы с гурием не было видно в белесоватой мгле.
Мы надели очки и гуськом двинулись в том направлении, где вчера мы заметили самолет. Мы шли двадцать минут, полчаса, час, туман стал густеть, снова вокруг нас сомкнулась белая, бесцветная муть, снова поднялась вдруг метель, и мы повернули обратно.
Мокрые, усталые, злые, мы возвратились в свою палатку.
— Ну, нашли? — бросился к нам навстречу Савранский.
— Ищи ветра в поле, — злобно проворчал Наумыч, пролезая на свое место. — Вымокли только, как цуцики.
Савранский недоверчиво покосился на нас с Редкозубовым и протяжно сказал:
— Ин-те-рес-но.
Отдохнув и напившись чаю, мы снова вылезли из палатки. На этот раз решено было искать вторую скалу с гурием.
Мы блуждали по леднику часа три. То и дело мы подходили к самому обрыву, то и дело дорогу нам преграждали извилистые каньоны, далеко вдающиеся в ледник. Мы выбились из сил, совсем потеряли в тумане всякую ориентировку и кое-как снова вернулись назад.
После обеда мы пошли в третий раз. Мы забрали с собой все пустые консервные банки, которые только накопились у нас, взяли камней, пустые коробки от спичек. По дороге мы вместо верстовых столбов расставляли банки, камни, складывали из спичечных коробочек приметные знаки. Но скоро наши запасы иссякли. Мы опять шли в зелено-розовом тумане, ничего не видя, ничего не различая вокруг.
— Стойте, — сказал вдруг Редкозубов. — Я кое-что придумал.
Он снял со спины рюкзак, развязал его, вытащил банку мясных консервов, потом снова завязал мешок, надел его на спину и, размахнувшись, швырнул банку ребром на снег. Она покатилась, махая этикеткой.
— Лучше бы мячик, конечно, катить, — сказал Редкозубов, — но раз мячика нет, и это сойдет.
Теперь мы смело шли вперед. Теперь мы уже не опасались, что свалимся под кручу ледника. Раз впереди катится банка, значит дорога есть, никуда мы не свалимся.
Но и на этот раз мы повернули назад ни с чем: снова поднялась метель.
Мы уже совсем подходили к своей скале, когда вдруг метель стихла, и, обернувшись назад, Наумыч вдруг увидел вдали, там, откуда мы только что возвратились, высокую черную скалу с гурием на вершине.
— Ну что? Скала или нет? — радостно закричали мы с Редкозубовым. — Теперь верите?
Наумыч засопел.
— Надо еще до нее дойти, посмотреть, скала ли, — может, опять какой-нибудь заструг.
— Хорошо, пошли назад, — решительно сказал Редкозубов. — Теперь хоть видно, куда итти. Не собьемся.
Мы повернули и быстро зашагали назад. Туман немного рассеялся, и нам уже не нужно было катить перед собой консервную банку.
В каких-нибудь сорок минут мы дошли до скалы. Она была очень похожа на нашу: такая же черная, высоченная, дикая, голая. На лысом ее темени стоял высокий, сложенный из больших камней столб — гурий.
Мы подошли к гурию и тщательно осмотрели его со всех сторон.
— Вот здесь похоже, что кто-то копал снег, — сказал Редкозубое, показывая на небольшую ямку у подножия гурия. — Может, Шорохов отсюда и выкопал консервы-то?
— Может быть, — согласился Наумыч, осматривая ямку. — А ну-ка, покопайте поглубже.
Мы вытащили охотничьи ножи и, став на колени, принялись ковырять крепкий снег. Наумыч стоял тут же и наблюдал за нашей работой.
Вдруг что-то звякнуло, заскрипело под ножом Редкозубова.
— Что-то есть! — обрадовался Редкозубое, и мы принялись копать с еще большим усердием. Вот уже показался металлический край не то коробки, не то банки. Мы сделали ямку пошире и выворотили большую плоскую четырехугольную коробку.
— Бидон, — сказал Наумыч. — Наверное, керосин.
Мы очистили бидон от снега и с трудом отвинтили заржавевшую пробку.
Редкозубов понюхал, покачал головой.
— Не похоже на керосин. Вроде спирта что-то.
Наумыч взял у него бидон и тоже понюхал.
— Денатурат, что ли? — нерешительно сказал он. — Наверное, выдохся.
Мы опять завинтили пробку, положили бидон в яму и засыпали снегом. Свои банки и мешок с сухарями мы заложили внутрь гурия между камней так, чтобы сразу было видно, что в гурии что-то лежит.
Потом мы написали записку:
«1 марта 1934 года. Экспедиция по розыскам советского самолета У-2. Оставлено в гурии 20 банок мясных консервов, банка сливочного масла, мешок сухарей и пачка спичек. Советская полярная обсерватория находится отсюда на северо-северо-западе, в двух переходах вдоль береговой линии. Ближайший нанесенный на карте мыс — мыс Сесиль Гармсуорт в двадцати километрах на восток. Доктор Руденко, борт-механик Редкозубое, метеоролог Безбородов».
Мы завернули записку в резину, потом в свинцовую бумагу от шоколада, обмотали проволочкой и крепко-накрепко привязали к одному из камней гурия.
Уже темнело; мы поспешно двинулись назад и через час благополучно спустились к своей палатке.
Была уже ночь. В палатке светился огонек. Прислонившись к стойкам палатки, у входа неподвижно стоял Савранский. В руках у него была винтовка.
— Что же как долго-то? — недовольно сказал он. — Я уж стрелял, стрелял, думал, что вы заплутались на леднике. Уже собирался вылезать наверх и жечь ящик. Даже керосина отлил.
— А мы около гурия были, — радостно сказал Наумыч. — Теперь наше дело верное. Черви козыри!
Все вчетвером мы залезли в палатку. В железной печке едва шипел «на малой скорости» примус.
— Каша, поди, вся перепрела, — ворчливо сказал Савранский и начал раздавать нам ложки. — Расскажите про гурий-то. Завтра обязательно вместе с вами пойду. Надоело мне киснуть тут у примуса.
После ужина Наумыч придвинул к себе свечку, достал свою куцую, обстриженную карту, разложил ее на коленях.
— Значит, гурий этот вот здесь, — проговорил он, ставя на карте маленький крестик красным карандашом. — Ну, правильно, мы так и написали в записке, что километрах в двадцати от мыса Сесиль Гармсуорт.
Он свернул карту, спрятал ее в сумку и сказал Савранскому:
— Как у нас с харчами? Сколько мы еще можем здесь пробыть?
— Самое большее два дня, — не задумываясь сказал Савранский. — Мы уже пятые сутки в дороге. Два дня еще просидим здесь, — будет семь. На обратную дорогу надо еще трое суток класть, а ведь вы в гурий сколько харчей положили! Я уж и то рассчитываю на урезанный паек. А то бы завтра надо обратно поворачивать.
— Гарно, — сказал Наумыч. — Завтра мы его, голубчика, спимаем!
Но ни завтра ни третьего числа нам так и не удалось отыскать самолет. Он точно провалился сквозь землю.
Пять раз мы выходили на ледник, и каждый раз, — словно колдовство какое тяготело над этим проклятым местом, — стоило нам только отойти немного от нашей скалы, как начиналась метель, падал туман, нас слепил и валил с ног страшный ветер. Консервные банки, которые мы каждый раз катили перед собой, чтобы не свалиться под кручу, уносило ветром, и нам приходилось гоняться за ними, ловить их, так как продовольствия у нас было в обрез и разбрасывать на леднике мясные консервы мы не могли.
К полдню 3 марта мы в пятый раз вернулись с ледника совершенно разбитые, обледенелые, злые, голодные.
В палатке был дикий холод. Что-то испортилось в примусе, и Редкозубов, ежеминутно отогревая руки подмышками, принялся отвинчивать горелку, прочищать ее, продувать, пачкаясь в саже и керосине.
Мрачный сидел Наумыч на своем спальном мешке, покусывая отросшие усы.
— Надо поворачивать, — наконец угрюмо сказал он и, помолчав, обратился ко мне. — Значит, ты продолжаешь утверждать, что вы видели самолет? Самолет, а не сугроб?
— Да, мы видели самолет, — твердо сказал я. — Я это могу повторить хоть сто раз.
— Ладно, — прогудел Наумыч. — Хорошо. Через пять-шесть дней мы опять тут будем. Может, в тот раз нам повезет. А теперь вскипятим чай, подзакусим, покормим собак и назад. Как там у тебя дела?
— Сейчас должен гореть, — сказал Редкозубое, навинчивая горелку. — Дай-ка, Ефим, бензинчику.
Утром 5 марта мы подходили к зимовке. Уже от мыса Дунди, как только упряжка повернула на север и вдалеке смутно затемнел остров Скот-Кельти, похожий на вмерзший в лед броненосец, собаки забеспокоились, приналегли на хомуты, точно чувствуя, что тут уж и до дома недалеко.
Вот уже пошли знакомые места, вон виднеется Рубини-Рок, вон и наш берег, но домов еще разобрать нельзя: еще далеко, еще осталось километров девять-десять.
Мы молча шагаем за нартой. От быстрой ходьбы становится так тепло, что все мы снимаем норвежские непродувайки и идем в одних свитерах.
Только каких-нибудь восемь суток мы пробыли в экспедиции, а кажется, что мы ушли отсюда давно-давно, что все изменилось вокруг. И Медвежий мыс вроде какой-то куцый и коротенький стал, и Скот-Кельти, кажется, сделался ниже, и Рубини какая-то не такая. Снег на ней, что ли, потаял, или еще что?
— Смотрите! — закричал Савранский. — На Рубини — птицы!
И верно, вокруг скалы словно вилась мошкара.
— Это наши птицы! — прокричал в ответ Наумыч. — Мы видели, как они летели сюда!
Теперь уже можно разобрать на пологом берегу дома. Какими они издалека кажутся маленькими и одинокими. Несколько фигурок спускаются в бухту и, махая шапками, идут к нам навстречу. Бегут собаки.
Наши псы тоже, наверное, увидели зимовку, увидели бегущих навстречу собак. Точно сговорившись, они вдруг взвыли в один голос и быстро-быстро помчались к берегу.
— Стой! кэ-э! — заорали мы, кидаясь за нартой. Но где же нам догнать собак! Во весь опор, карьером они мчатся к зимовке, оглашая бухту радостным воем и лаем.
Нам видно, как вышедшие встречать нас ловят упряжку и кто-то ведет ее к салотопке.
— Крайний — Фомич, — говорит Редкозубое. — А кто же рядом-то, что-то не разобрать. Не Желтобрюх?
— Кажется, он, — отвечает Наумыч и, вынув из кобуры наган, три раза стреляет в воздух. В ответ нам что-то кричат. Один человек отходит в сторону и расставляет на снегу тонконогий Треножник.
— Гришка Быстров! — хохочет Наумыч. — Совкиножурнал!
Мы встречаемся посреди бухты. Какие они чистенькие, свеженькие, прямо щеголи!
— Негры! Негры! — орет Желтобрюх, показывая на нас пальцем. — Меня за это на кухню послали! А сами? Поди, всю ночь примус коптил!
— Это благородная копоть, — говорит Наумыч. — А у тебя была преступная!
Нас окружает целая толпа: Стучинский, Боря Линев, Желтобрюх, Вася Гуткин, Леня Соболев, Ромашников.
— Ну, как? Не обморозились?
— Нашли самолет?
— Да вот никак не можем сговориться, — разводит руками Наумыч. — Безбородов с Редкозубовым нашли, а мы с Ефимом не нашли.
— Ну, если Редкозубов нашел, значит, дело в шляпе, — хохочет Боря Линев.
Мы с Редкозубовым многозначительно переглядываемся и с грустным сожалением смотрим на злопыхателей.
— Ну, а у вас что? — спрашивает Наумыч. — Шорохов как? Нагноения нет?
— Да как будто нет, — говорит Стучинский. — Как вы велели, так мы всё и делали — и мазали, и бинтовали, и промывали. Вчера ему даже как будто получше стало, к обеду сам на костылях притащился, так на пятках и приковылял.
Мы выходим на берег, и я бегу в свой дом, растворяю дверь своей комнаты.
Кровать с одеялом, с подушкой! Стол! Чистое полотенце висит у дверной притолоки! Книги! Коврик на полу! Ночные туфли выглядывают из-под кровати.
Умываться! Скорее умываться, а потом в баню. Ее затопили тотчас же, как только заметили нас у Медвежьего мыса. Сейчас, пробегая мимо бани, я видел, как дымит ее труба, а на крыльце валяются одноручная пила и куски снега.
Как хорошо у нас на зимовке!
Три голоса
Я проснулся утром. В комнату едва пробивался тусклый, серый свет. Будильник показывал восемь часов.
«Сколько же я спал? — подумал я. — Лег в два часа дня, а проснулся на другой день в восемь часов утра! Выходит, восемнадцать часов! И обед и ужин проспал».
И вдруг мне так захотелось есть, что я мигом вскочил с кровати, наскоро оделся, умылся и пошел в старый дом. В доме все еще спали. Только с кухни доносились шаркающие шаги и громыханье посуды.
Я прошел на кухню. У плиты, заставленной кастрюльками и сковородками, возился угрюмый, заросший щетиной Стремоухов. Шаркая ногами, он прошел в кухонную кладовую, вынес оттуда новенький белый ящик, поставил его среди кухни и с плеча рубанул топором. Ящик крякнул и раздался. Стремоухов руками разодрал его и стал пихать доски в плиту, забитую шлаком и пеплом.
«Зачем же он ящик жжет? — подумал я. — Наумыч нам велел сохранять ящики, чтобы отправить их потом на Большую Землю, а он жжет».
Огонь в плите едва теплился. Стремоухов молча, не глядя на меня, взял большую кастрюлю, налил до краев холодной, из бака, водой и шлепнул ее на плиту. Потом он снова прошел в кладовую и вернулся, неся в руках два пакета. Один с кофе, другой с цикорием.
Стремоухов разорвал один пакет и высыпал весь цикорий в холодную воду, разорвал другой и тоже весь высыпал. Коричневая куча так и осталась на поверхности воды.
— Что же вы делаете? — тихо сказал я. — Разве так надо заваривать кофе?
Стремоухов бросил бумажки на пол, быстро и зло взглянул на меня и отрывисто проговорил:
— Как умею, так и делаю. На повара не учился.
Он пошел к выходу и с порога добавил:
— И так сожрут. Не велика знать. — Потом хлопнул дверью и зашагал по коридору в свою комнату.
Слабый огонь потрескивал и шуршал в плите, коричневатая куча плавала в миске кругами.
Я прошел в кают-компанию. Было без двадцати минут девять. Через двадцать минут этот тепловатый брандахлыст должны будут пить девятнадцать человек.
Глухая злость зашевелилась во мне.
Вдруг на кухню вошел Арсентьич. Мне слышно было, как он, громко позевывая, подошел к плите, громыхнул каким-то противнем, потом вдруг все стихло.
— Ах, собака, собака, — тихо сказал Арсентьич. — Вот бешеная собака.
Арсентьич заглянул в кают-компанию.
— Степана нет? — хрипло и зло спросил он.
— Нет.
Арсентьич вышел из кухни, протопал по коридору. Шаги его замерли у дальней двери. Потом в коридоре послышались голоса, — один визгливый, тонкий, другой низкий, хриплый.
— Разжигай сейчас же примус! — прогудел Арсентьич, входя на кухню. — Бесстыжие твои глаза!
— А раз я не умею его варить! — взвизгнул Стремоухов. — Я не повар, не кухмистер!
— Сволочь ты, вот ты кто! Просто сволочь, а не повар и не кухмистер, — проговорил в ответ Арсентьич. — Ты думаешь, я — слепой? Думаешь — я не вижу, что ты делаешь? — Арсентьич подошел к Стремоухову вплотную так, что тот попятился. — Ты почему сам этот брандахлыст не жрешь? Ты себе отдельно варишь, думаешь — я не замечаю? Себе умеешь, а всем не умеешь? Куда розетки спрятал? Говори, где розетки?
— Какие розетки? — опять тонким голосом закричал Стремоухое. — Не знаю я никаких розеток!
— Врешь, знаешь. Куда все чайные розетки подевал? Припрятал со злости, чтобы люди не могли по-людски есть! Все равно найду. Эти не найду — новые достану…
На кухне загудел примус, заглушая голоса. Стремоухов вышел в кают-компанию и, с треском распахнув дверцы буфета, стал расставлять по столу кружки и тарелки.
Ровно в девять часов заявился Ромашников, осмотрел столы, прошел на кухню, посмотрел, что там делается, и, поглаживая бороду, уселся на свое место.
— Что же это они примус-то зажгли? — лениво сказал он. — На примусе никогда не дождешься, пока вскипит.
Потом гурьбой ввалились Боря Линев, Желтобрюх, Гриша Быстров и Вася Гуткин. Потом пришел опухший от сна Редкозубов, а за ним, стуча костылями, медленно приковылял Шорохов. Он неумело, высоко подняв плечи, переставлял костыли и глухо стучал по полу пятками обутых в оленьи пимы ног. Не поздоровавшись ни с кем, он проковылял на свое место и тяжело опустился на стул.
Кают-компания наполнилась народом. Широко растворив дверь, вошел розовый, свежий Наумыч.
— Доброе утро, хлопцы! — громко сказал он, и вся кают-компания гаркнула одним духом: — Доброе утро!
Все расселись по местам, нетерпеливо поглядывая на кухню.
— То за два часа до завтрака кофе сварит, пьешь какую-то холодную бурду, то ждать целый час приходится, — проговорил Боря Линев. — Совсем с нашим новым служителем сладу не стало.
Он поерзал на стуле, откусил кусок хлеба.
— Пойду пока, водички попью.
Боря встал и направился на кухню. Слышно было, как он загремел ковшом, откинул крышку бака, всплеснул ковшом воду.
— Арсентьич! — вдруг закричал он. — Это что ж у тебя тут квасится? Никак покойник какой!
— Чего еще? — недовольно прогудел Арсентьич, не отходя от примуса. — Какой там покойник?
— Ого-го! — опять закричал Боря. — Вот это сюрприз, так сюрприз!
Боря поспешно вошел в кают-компанию, осторожно держа двумя пальцами какую-то черную мокрую тряпку, с которой бежала на пол вода.
— Наумыч, рукавица в котле! Да какая рукавица — самая что ни на есть грязная! Глядите!
Боря обошел все столы, демонстрируя свою находку. Это, действительно, была старая брезентовая рукавица, черная от каменноугольной пыли, от масла, чорт ее знает еще от чего. Рукавица набрякла, разлохмаченный край ее даже побелел — отмок в воде.
Арсентьич остановился в дверях кухни, не спуская глаз с Наумыча.
— Платон Наумыч, — сказал он сдавленным голосом, — сроду такой вещи со мной не было. Хотите — верьте, хотите — нет…
— Да ты не беспокойся. Мы знаем, милок, чье это дело! — закричал с места Вася Гуткин. — Знаем, знаем! Прелестно знаем!
— Безобразие!
— Когда же прекратится это свинство?
— Чорт знает, что такое!
Кают-компания зашумела, все заговорили разом, кто-то даже ударил кулаком по столу.
— Может, Фомич вам уже докладывал, — снова закричал Вася Гуткин, — но только позвольте уж тогда, Платон Наумыч, и мне сказать. Тут, без вас, мы просто как свиньи жили. Тарелки грязные, немытые, все ножи ржа поела, вилки сальные, а чайные ложки и розетки — так те совсем пропали. Были, да сплыли! У кого, ребята, есть чайная ложечка?
— У меня, — сказал Желтобрюх.
— И у меня, — сказал Каплин.
— Вот видите. Две ложечки на двадцать человек! А где остальные? Куда остальные девались? Это что же такое за фокусы?
— Правильно! Правильно! — закричали кругом.
— Конечно, правильно! — еще пуще загорячился Вася. — А вчера я захожу в кают-компанию, а он убирает со стола, этак ухмыляется и говорит, — ведь прямо в глаза, мошенник, говорит: «Вот, — говорит, — свиньи какие! Я две недели тарелки не мою, а никто даже и не заметил!»
Наумыч постучал ножом по столу.
— Это про кого речь? — спросил он.
— Как про кого? Про Стремоухова! А то про кого же? — закричали вокруг.
— Хорошо, — сказал Наумыч. — Отлично. Пусть товарищ Шорохов, он пока что председатель нашего профкома, пусть он соберет сегодня в семь часов вечера общее собрание зимовщиков. Там и обсудим поведение Стремоухова.
— Да что вы человека оговариваете? Может, это и не он вовсе! — вдруг закричал Сморж. — Кто видал? Не пойманный — не вор! Просто, утопить человека хотите — вот что!
Наумыч потемнел.
— Ну, кончили, — твердо сказал он. — Вот придешь сегодня на собрание, там и ораторствуй. А еще лучше, вместо того чтобы языком трепать, занялся бы табуретками. Я тебе уж второй месяц говорю, чтобы ты починил табуретки. Стыдно все-таки даром хлеб есть.
Наумыч отвернулся от Сморжа, помолчал и спокойным уже голосом добавил:
— А сейчас после завтрака у меня в комнате собраться всем коммунистам и комсомольцам. Арсентьичу, значит, Линеву, Виллиху, Каплину. Есть о чем поговорить.
— Кофе готово, — робко сказал Арсентьич. — Можно брать.
Гремя стульями, все повскакали с мест и двинулись на кухню.
Арсентьич большим уполовником разливал из миски дымящийся, душистый кофе.
Когда снова все расселись по местам и в кают-компании стало потише, Наумыч сказал:
— Авария самолета и болезнь летчика, я думаю, не должны сорвать всю нашу работу. Экспедицию на Альджер нужно, во что бы то ни стало, провести.
— А самолет искать? — с испугом спросил Желтобрюх.
— А чего его искать, — насмешливо сказал Шорохов, — чего зря утруждаться? Лучше подождать, — может, он сам придет.
Наумыч в упор посмотрел на Шорохова и спокойно продолжал:
— За самолетом мы сходим потом. Сначала надо провести научную экспедицию. А кроме того я жду кое-каких указаний из Москвы. Ну, так вот. Я думаю, что на Альджер экспедиция может выйти двенадцатого числа, то есть через шесть дней. За это время и собаки хорошенечко отдохнут. Итти надо на двух нартах, по девяти собак. Пойдут Горбовский и Савранский. Каюрами оба Бориса — и Линев и Желтобрюх.
— Правильно! — закричал покрасневший от радости Желтобрюх. — Конечно, оба!
Все засмеялись, а Боря Линев облапил отбивающегося Желтобрюха и, поглаживая его по голове, ласково приговаривал:
— Ах, ты, Желтинька ты моя хорошая! Конечно, оба, оба, милый, оба..
После завтрака все разбрелись по своим делам, а в комнате Наумыча заперлась партийно-комсомольская фракция зимовки. Сквозь тонкие стенки из комнаты доносился громкий голос Бори Линева, гудел Арсентьич, слышны были тяжелые шаги Наумыча. Он, наверное, по обыкновению ходил из угла в угол комнаты, заложив руки за спину и покусывая нижнюю губу.
А в нашем новом доме совещалась другая фракция. Не успел Шорохов вернуться после завтрака к себе, как тотчас же к нему прибежал Сморж, а потом быстро прошел Стремоухов и тщательно притворил за собою дверь.
Несколько раз, проходя по коридору мимо комнаты, я слышал раздраженный голос Шорохова, слышал, как, захлебываясь и стуча кулаком по столу, что-то выкрикивает Сморж, как торопливо бубнит Стремоухов, иногда нервно посмеиваясь тонким хохотком.
Совещание у них было бурное. Вскоре из комнаты послышался такой громкий и яростный крик, что можно уже было отчетливо разобрать запальчивый голос Шорохова:
— Это мы еще посмотрим! Я — преступник, ты — преступник! Все, кроме него, преступники! Поговорим еще, не бойся!
А Сморж, перебивая его, закричал:
— Конечно, не бойся! За правду все как один станем! Посмотрим, чья возьмет!
Перед обедом я сидел у Васи Гуткина, когда в комнату к нему вошел Стучинский. Лицо его было печальное и грустное. Вздохнув, он сел на диван, покачал головой, медленно набил трубку.
— Что же это такое будет? — тоскливо сказал он. — Нехорошо все это, очень нехорошо.
— Что нехорошо? — спросил я. — Что вам не нравится?
— Да вот, — Стучинский поморщился, — все эти собрания, разбирательства, репрессии. Не гуманно это.
Вася Гуткин отложил мандолину, на которой он наигрывал вальс «Дунайские волны», и с удивлением посмотрел на Ступинского.
— Не гуманно? — подняв брови, сказал он. — Ты что, Фомич, на букву «г» сейчас словарь, что ли, читаешь? Не гуманно! Видали вы Иисуса Христа? А за свиней нас держать — это гуманно? Ты что же хочешь — чтобы мне в морду плевали, а я чтобы кружевным платочком утирался? Не-е-е-т, брат. Гуткин не такой! Если Наумыч ему ничего не сделает, так я сам чудесным образом ему все зубы выколочу.
— Ну и варварство, — печально сказал Стучинский. — Ненужная жестокость и варварство. Я не понимаю, зачем это нужно — публично судить человека, наказывать, когда можно вызвать к себе, поговорить, воздействовать гуманными средствами?
Вася Гуткин захохотал:
— Эх ты, скрипач, живая душа на костылях! — Вася хлопнул Ступинского по плечу и подмигнул ему — Ты не толстовец ли, чего доброго? Вам бы с Ромашей на пчельнике жить, пчелок бы разводить, цветочки лекарственные собирать, вот была бы прелестная вещичка! А вы — в Арктику!
— Я не толстовец, — обиженно сказал Стучинский, — но думаю, что и в Арктике жить надо гуманно, культурно, вежливо.
— Знаете что, Фомич, — вмешался я. — Насчет гуманности я вам вот что скажу. Грили расстрелял своего солдата Генри за то, что тот крал у своих товарищей последние куски кожи. А эта кожа была единственной пищей умиравших от голода людей. Кто, по-вашему, поступал гуманно: Грили или Генри?
— Вот именно! — подхватил Вася Гуткин. — Если один прохвост мешает жить двадцати человекам, надо его убрать. И никаких разговоров. — Вася снова взял мандолину и, уже улыбаясь, сказал Ступинскому: — Толстовец! по глазам вижу, что толстовец — глаза мутные, как у бешеного судака.
Вася заиграл марш, смеющимися глазами посматривая на Ступинского. А Стучинский, тихонько отбивая такт ногой, продолжал задумчиво посасывать трубочку, изредка покачивая головой и двигая бровями.
Когда пришло обеденное время, мы двинулись в старый дом.
Здесь уже собралась вся зимовка. Столы были накрыты, но обед опаздывал. Никто не хотел садиться без Наумыча.
Наконец дверь Наумычевой комнаты распахнулась, и в клубах табачного дыма оттуда вышли заседавшие. Арсентьич рысью побежал на кухню, а остальные прошли в кают-компанию.
Молча расселись все по местам, выжидающе посматривая на Наумыча. Но Наумыч съел щи, съел картофельные котлеты с грибным соусом, съел компот и только тогда, поднимаясь из-за стола, сказал:
— Значит, в семь часов общее собрание зимовки. Быть всем до одного.
Встал из-за стола и Боря Линев. Он толкнул Желтобрюха локтем в бок и показал глазами на дверь.
— Пошли. Нартами надо заняться. Развихлялись все, как старый драндулет.
Я догнал Борисов в коридоре:
— Ребята, чего решили?
Боря Линев уклончиво сказал:
— Вот в семь часов узнаешь, а то не интересно будет.
И Каплин тоже ничего не хотел рассказывать. Он, по обыкновению, вздыхал, кряхтел и сумрачно говорил:
— Спросите у Наумыча. Что я — начальник, что ли?
В семь часов все двадцать человек собрались в кают-компании. Стремоухов, кусая заусенцы, сидел в кухонных дверях на пустом ящике и искоса посматривал на всех нас. Шорохов, осторожно наступая на забинтованные, втиснутые в резиновые калоши ноги и опираясь на костыли, прохромал на свое место и грузно сел, сложив костыли на полу около себя.
Наконец вошел Наумыч. Он долго усаживался в конце большого стола, разложил перед собой какие-то бумажки, жестяную коробку с папиросами, карандаши и, осмотрев кают-компанию, наконец сказал:
— Все собрались?
— Все.
— Ну. — сказал Наумыч, быстро взглянув на Шорохова, — я думаю, можно начинать.
Шорохов придвинул к себе пустой чайный стакан и постучал по нему карандашом.
— От имени профкома зимовки, — сказал он, — объявляю общее собрание открытым. На повестке дня как будто только один вопрос. Начальник хочет, чтобы мы поговорили насчет товарища Стремоухова. Ну, что же, поговорим. Изменений и дополнений к повестке дня нет?
— Есть, — спокойно сказал с места Боря Линев. — Разрешите?
Все, как по команде, повернулись в ту сторону, где сидел Боря, и уставились на него во все глаза. А Боря уже встал с места, вопросительно глядя на Шорохова:
— Можно?
Шорохов снова постучал по стакану:
— Только покороче, — недовольно сказал он. — Нечего тут рассуждать. Все и так ясно. Побыстрее, пожалуйста.
Боря весело посмотрел на Шорохова.
— Я быстро, — сказал он, — одну минуту. Вот что, товарищи, партийно-комсомольская фракция зимовки предлагает дополнить повестку еще одним вопросом. Мы считаем нужным этот вопрос поставить на повестку дня первым.
— Какой там еще вопрос? — перебил его Шорохов.
Боря поднял руку.
— Одну минуточку. Мы предлагаем в первую очередь поставить на обсуждение общего собрания вопрос о председателе нашего профкома летчике Шорохове. Мы считаем, что летчик Шорохов не может руководить профсоюзной работой на зимовке.
— Правильно! — весело крикнул Вася Гуткин и хлопнул ладонью по столу. — Это одна шайка-лейка!
На Васю зашикали и замахали руками:
— Тише ты! Не ори! Вот горластый!
— Ну, верно же, что одна шатия, — сказал Вася, разводя руками. — Чего же тут молчать?
Боря Линев постучал костяшкой пальца по столу и продолжал:
— Мы предлагаем сейчас обсудить резолюцию фракции по этому вопросу. Резолюцию огласит Платон Наумыч.
Уже не спрашивая разрешения у Шорохова, который растерянно, ничего не понимающими глазами продолжал смотреть на Борю Линева, спокойно поднялся со своего места Наумыч. Он взял со стола какой-то листочек бумаги и, поднеся его к глазам, спокойно и внятно прочел:
«Резолюция партийно-комсомольской группы по поводу поведения председателя профкома зимовки Шорохова Г. А.
«Ввиду того, что летчик Шорохов:
«1) Своим полетом 17 февраля грубо и преступно нарушил производственную дисциплину на зимовке, что имело последствиями гибель самолета У-2 и частичный срыв экспедиционных работ.
«2) демагогически и склочнически пытался обернуть свое воздушное хулиганство как акт гражданского мужества и почти геройства и
«3) до самого последнего времени группировал вокруг себя все недисциплинированные и склочнические элементы зимовки, партийно-комсомольская группа считает, что летчик Шорохов не может возглавлять профессиональную организацию зимовки, в задачи которой в первую очередь как раз и входит укрепление производственной дисциплины и сплочение всех зимовщиков. Партийно-комсомольская группа считает нужным снять летчика Шорохова с работы председателя профкома».
— Это кто же такие элементы-то? — крикнул Сморж, а Стремоухов вскочил с ящика и, размахивая руками, закричал: — Я не позволю пятнать свое имя! Я буду жаловаться!
В кают-компании поднялся страшный шум и крик. Шорохов изо всех сил стучал карандашом по пустому стакану, Вася Гуткин, тоже вскочив с места и перегнувшись через стол, что-то кричал Стремоухову и грозил волосатым большим кулаком. Кто-то выкрикивал: «Слова! Прошу слова!» Гриша Быстров, подбежав к Шорохову и тряся его за плечо, настойчиво повторял: «Голосуйте же предложение! Что же вы не голосуете!» А Стучинский, сжав виски руками, покачивался из стороны в сторону, приговаривая: «Что делается, боже мой, боже мой.»
Тогда Наумыч стукнул по столу своей папиросной коробкой и зычно гаркнул:
— А ну, хлопцы, тихо! Председатель ставит на голосование дополнение фракции к повестке собрания. Ставите ведь, верно? — обернулся он к Шорохову.
— Товарищи, — растерянно сказал Шорохов. — Что же это такое? Это все Борька Виллих подстроил. В отместку!
— А вот ставьте на голосование, — сказал Леня Соболев, — тогда сразу будет видно, кто это подстроил. Ставьте, ставьте, что вы задумались? Сами же торопили!
— Ну, хорошо, ставлю на голосование, — покорно сказал Шорохов. — Кто за?
Семнадцать рук поднялись, как одна.
— Кто против?
— Я против! — запальчиво крикнул Сморж. — Из зависти утопить человека хотите!
— И я тоже против, — сказал Стремоухов.
— Против подавляющее меньшинство, — сказал Наумыч. — Предложение принято. Теперь надо избрать нового председателя собрания. Какие есть кандидаты?
— Линева! Борьку Линева! — закричали вокруг. — Садись, Борис! Председательствуй!
— А куда мне садиться? — проговорил Боря Линев. — Мне и здесь хорошо. Итак, значит, продолжаем собрание. Кто, товарищи, хочет слова? Ты, кажется, Гриша, хотел? Сначала будем, значит, о председателе профкома. Ты об этом?
— Да, да, — быстро проговорил Гриша, — об этом самом. Давно бы пора нам поговорить, товарищи, насчет Григория Афанасьича…
— Да и о компании его тоже не мешает поговорить, — крикнул Леня Соболев.
— И о компании, верно, — продолжал Гриша. — О всей троице. Я говорить не умею, уж извините, буду говорить так, как могу.
— Давай, давай! Ничего! Мы поймем!
Все стихло в кают-компании, только Стремоухов недовольно возился на своём скрипучем ящике.
Вдруг я вспомнил так ясно, точно это было только вчера, другую кают-компанию, лакированную, в зеркалах, с ярко начищенной медью, со столом, покрытым белой скатертью, с книжным шкафом красного дерева, с матовыми шарами лампионов.
У карты, на которой маленький синий кораблик из картона огибает мыс Канин Нос, стоят два человека в толстых кожаных штанах.
— Ну, нам-то делить будет нечего, — говорит один, долговязый, вихрастый. — Из-за чего нам ссориться? Будем жить, как при коммунизме: ни зависти ни злости! Денег у нас не будет!.. Ничего не купишь, не продашь, не украдешь!
«Да, — думаю я, — денег у нас нет. Последний двугривенный, завалявшийся у кого-то в кармане, еще месяц назад Редкозубов расковал и сделал из него обруч на свою трубку. Денег у нас нет. Это верно. Но верно ли, что от этого уже больше нет ни у кого из нас ни алчности ни корысти? Нет, это не верно, — думаю я. — Неправда, что здесь жить легче, потому что нет денег, нет соблазнов, потому что людям здесь нечего делить. Здесь жить неизмеримо труднее, потому что все хорошее и все дурное, что есть в человеке, никуда здесь спрятать нельзя. Здесь все на виду. Здесь не соврешь, не прикинешься, не обманешь. Словно просвеченное лучами Рентгена, здесь вдруг становится видимым самое нутро человека, то, что, может быть, десятки лет он тщательно прятал от окружающих, а может быть, даже и сам не ожидал найти в самом себе. Но ни один даже самый непорядочный человек не сможет разрушить, развалить наше дело, потому что он всегда встретит решительный и дружный отпор».
_________
Далеко за полночь собрание постановило:
1) Исключить Стремоухова из союза и в случае, если он будет продолжать свою антиобщественную деятельность, просить начальника уволить Стремоухова с отдачей под суд по возвращении на Большую Землю.
2) Снять летчика Шорохова с работы председателя профкома, а вместо него выбрать товарища Линева.
Предложения приняты при 17 голосах «за» и трех «против».
Три голоса, это — Шорохов, Стремоухов и Сморж.
Глава одиннадцатая
Птичий базар
Со времени злосчастного полета Шорохова редко-редко собирались мы все вместе. Всегда кто-нибудь был в отъезде.
Сперва трое уходили к острову Королевского общества на поиски Шорохова. Вернулись они — мы ушли за самолетом. Потом отправилась на Альджер научная экспедиция Савранского и Горбовского. Экспедиция вернулась из похода через десять дней.
Всего только три дня Наумыч дал отдохнуть собакам и снарядил новую экспедицию — опять на поиски самолета.
После долгих обсуждений и споров решено было самолет на зимовку не доставлять, а только снять с него мотор и приборы.
На этот раз в поход отправились: Наумыч, Редкозубов, Быстров, Линев.
Уходя, Наумыч опять передал бразды правления Стучинскому и приказал всем нам взяться как следует за научную работу, чтобы наверстать упущенное время. А времени было упущено довольно много. С того дня, как пропал Шорохов, все мы только и заняты были что им самим и его самолетом.
Но теперь уже все понемногу успокоилось, и ничто уже больше не мешало нам заниматься своим делом.
Дни стояли ясные, солнечные.
Наш «директор Солнца», актинометрист Лызлов, так ретиво взялся за работу, что даже добился от Стучинского приказа, чтобы камчадалы топили свои печи только до 10 часов утра или после 9 вечера, так как дым из печных труб «закрывает Лызлову солнце».
— Может, нам еще и курить нельзя от десяти утра до девяти вечера! — кричал Вася Гуткин. — Это просто вылазка, и больше ничего! Мы Наумычу будем жаловаться.
Но Стучинский был непреклонен, и, проклиная Лызлова, нам пришлось покориться.
Савранский завалил всю свою комнату привезенными из экспедиции камнями, кусками окаменевших деревьев, пробирочками с пробами почв и с утра до вечера сидел теперь за столом у окна, разглядывал камни в лупу, шлифовал их, пробовал кислотами и что-то писал в толстой клеенчатой тетрадке.
И Горбовский, разложив по всей комнате — и на столе, и на кровати, и на табуретках — таблицы, справочники, листочки бумаги, испещренные мелкими цифрами, засел за свои геодезические вычисления.
Аэрологи стали выпускать одного за другим дневных разведчиков и назначали премии — шоколадом и папиросами — тем, кто найдет спустившиеся на парашютиках метеорографы.
Только один человек не принимал участия в том, что происходило на зимовке.
Это был Шорохов.
По целым дням он угрюмо сидел в своей комнате.
С ногами дело у него кончилось не так уж ладно. На правой ноге пальцы отболели и отвалились сами, а на левой началась гангрена. Тут уж помочь могла только хирургия. Перед тем, как второй раз итти за самолетом, Наумыч сделал Шорохову операцию. Чтобы не запустить гангрену, он отнял на левой ноге у Шорохова полступни. На этот раз Наумыч показал все свое искусство, и хотя операцию он делал без наркоза, она прошла совсем легко и благополучно.
Теперь рана понемногу заживала, и Шорохов мог бы свободно ходить, правда, еще на костылях, но он упорно отсиживался в своей комнате и никого не хотел видеть. Только Сморж и Стремоухов были постоянными его гостями, и по вечерам из комнаты Шорохова слышались какие-то разговоры, шушуканье, смех.
Однажды вечером, когда после дневных трудов я сидел на крыльце бани, лениво покуривая, и смотрел, как собаки гоняются за стремительно пролетающими над берегом чистиками, ко мне подошел Леня Соболев. Лицо его было торжественно и спокойно. Он сел рядом со мной, не спеша достал огромную круглую коробку с махоркой, набил свой «самовар» и задымил.
— Пора открывать сезон, — серьезно сказал он, попыхивая трубкой.
— Какой сезон?
Леня помолчал, выпустил густой клуб дыма и сказал:
— Охотничий. Видишь, как разлетались, прямо на сковородку просятся. Завтра на Рубини хочу сходить, за кайрами.
— А есть? — спросил я.
— Есть. Я в теодолит специально смотрел. Так и снуют, так и вьются вокруг скалы. Набью патронов, возьму ружьишко и завтра непременно пойду.
Он опять искоса посмотрел на меня.
— Разве и мне сходить? — сказал я. — Ружья-то у нас есть?
— Ружей сколько хочешь, только стреляй. Пойдем вместе? Всё веселее будет.
— Ладно. Завтра как раз Ромаша дежурит. После завтрака пойдем?
— Ну, да. А патроны набьем сегодня и ружья приготовим.
Вечером мы взяли у Стучинского ключ от нашего оружейного склада, выбрали два ружья шестнадцатого калибра, захватили порох, дробь, закрутки, барклаи, пыжи, гильзы и уселись в комнате Лени Соболева набивать патроны.
— Покрупнее дробь кладите, — бубнил со своей постели Каплин, — у кайры перо должно быть густое, крепкое, ее бекасинником, например, не возьмешь.
— Бекасинником и простую утку не возьмешь, — ответил Леня. — А кайру и подавно. Знаем, что перо крепкое. Раз в таких холодах живет, значит, крепкое.
— И чего только они сюда летят? — задумчиво опять приговорил Каплин. — Что им плохо там на земле, что ли? Трава, цветы, мухи летают… А они сюда, в снега летят. Глупая птица. Все на юг, а они на север.
Он замолчал, задумался, покачал головой, потом опять заговорил медленно, как бы сам с собой:
— А может, это они по привычке? Может, чорт те знает когда и здесь были леса, речки, озера. А потом все льдом заплыло. А птицы, как привыкли сюда прилетать, так и летают сдуру до сих пор. Интересно, были здесь когда-нибудь леса?
— Были, — отрывисто сказал Леня, заколачивая в гильзу пыж, — были. Савранский нашел целый окаменелый пенек. Разве не видал? — Он быстро взглянул на Каплина. — С сучками, с корой. Ему, может, сто тысяч лет.
— Ну, вот я же говорил, — обрадовался Каплин. — Значит, по привычке и летают.
— Так ты что же — думаешь, кайра в лесу живет? — спросил Леня. — В лесу она через два дня сдохнет. Кайра — морская птица. Она в море живет. Вроде чайки.
— Чего жe они сюда прилетели? Им же здесь жрать нечего? Один ведь лед кругом?
Леня закрутил картонный готовый патрон, полюбовался на него, бережно поставил на стол.
— Они тут и не жрут ничего, — сказал он, принимаясь за новый патрон. — Они в открытое море летают жрать. Рачков ловят, рыбу. А тут у них гнезда. Тут они будут птенцов выводить.
— Ага, гнезда, — сказал Каплин с удовлетворением. — Вот оно что. Значит, что же, — он рассмеялся, — это у них Рубини выходит вроде родильного дома?
Засмеялись и мы с Леней.
— Вроде так.
— Далеко им кормиться-то летать, — с сожалением заметил Каплин и вздохнул. — Ну пусть летают, а я спать буду.
На другой день, сейчас же после завтрака, мы отправились па охоту.
Собаки целой толпой побежали за нами следом, весело помахивая хвостами. Не успели мы отойти от берега, как сзади послышался топот и громкие крики. Мы обернулись. Костя Иваненко, размахивая мелкокалиберной винтовкой, бежал к нам.
— И я с вами! — кричал он. — Постойте!
Он догнал нас и пошел рядом, отдуваясь и тяжело переводя дыхание.
— Чего же это ты собираешься с ней делать? — насмешливо спросил Леня Соболев, показывая на Костину винтовку. — Нормы на значок ГТО, что ли, сдавать?
Костя самодовольно тряхнул головой.
— Посмотрим, кто больше дичи принесет — вы или я. У меня стрельба будет снайперская: выцелил — чик! и готово. Сто патронов — сто птиц!
— В глаз будешь бить? — серьезно спросил Леня.
— Ну, в глаз, не в глаз, а, конечно, в общем, в голову. Тут птица должна быть не пуганая. К ней хоть на два шага подходи, она только смотрит — интересуется, что это за зверь такой идет.
Еще издали от Рубини донесся до нас разноголосый птичий гам: удивленными тонкими голосами кричат люрики, хрипло каркают поморники — фомки, или разбойники, как их называют на Севере, — заливаются хохотком чистики, вопят кайры.
У скалы вьются, то и дело слетают с утесов, прилетают, просто перескакивают с места на место тысячи птиц. Тысячи птиц рядами сидят на черных уступах Рубини, прихорашиваются, взмахивают крыльями, поворачивают из стороны в сторону головы, перекликаются, и вдруг ни с того ни с сего срываются с места и черной живой тучей, шумя крыльями, как ветер в сосновом лесу, летят куда-то на юг.
А навстречу им, с юга, уже несется другая стая. Она высоко взмывает перед самой скалой и планирующим полетом, свистя крыльями, оседает на скалу, и скала на один миг шевелится от тысяч усаживающихся птиц.
Мы подошли к самой скале. Птичий гам и крик был тут такой, что и нам пришлось почти кричать, чтобы услыхать друг друга.
— Идите дальше, а я здесь останусь! — прокричал Костя Иваненко. — Вы своими пушками только мешать мне будете!
Мы с Леней пошли дальше. Собаки, видя, что мы разделились, тоже разбежались на две партии: одни отправились следом за Костей, другие — за нами.
Птицы поделили между собой всю скалу. Кайры, поморники и чайки поселились на высоких утесах Рубини, обращенных к проливу Меллениуса, дальше шли владения чистиков, потом люриков и наконец угодья всякой мелочи вроде пуночек.
Гнезда кайр были высоко-высоко, на совершенно отвесных утесах. До сих пор никто толком не знает, как первый раз спускаются с такой высоты на воду маленькие птенцы кайры. Некоторые биологи уверяют, что кайра-мать, когда наступает время учить своего детеныша плаванию и самостоятельной охоте, сажает птенца к себе на спину и слетает с ним вниз, на воду, и птенец сходит с материнской спины, как пассажир с самолета.
Чистики для своих гнезд выбрали на скале места с осыпями, полого спускающимися к воде, а люрики расселились на северо-восточной части Рубини, где она сходит в бухту Тихую длинной песчаной косой.
И мы тоже поделили скалу между собой. Костя забрал себе кайр, а нам с Леней пришлось заняться чистиками и люриками.
— У парня губа не дура, — говорил Леня, взбираясь к самому подножью скалы. — Он будет кайр бить, а мы всякую шушеру.
— Ну, постреляем здесь, потом к нему пойдем, — сказал я, — поменяемся.
То и дело над нашими головами с криком, похожим на какой-то визгливый хохот, проносятся стайки чистиков.
Мы поднимаемся все выше и выше, собаки карабкаются за нами. Наконец мы выбрали удобное местечко возле острого выступа скалы. Каждую минутку сюда прилетали целые косяки птиц. Мы засели за камнями и зарядили ружья. Птицы садились вплотную, шеренгой, так что было выгодно бить их сидячих — с одного выстрела можно было убить сразу несколько штук.
— Будем стрелять залпом, — сказал Леня.
Мы притаились за камнями.
Ждать пришлось недолго. Стая птиц просвистела крыльями над нашими головами и сразу облепила утес. Мы подняли ружья, прицелились.
— Раз. Два. Пли! — скомандовал Леня.
Грохнул залп. Точно черный дождь, сорвались со скалы испуганные птицы. Они на миг закрыли небо мелькающими крыльями и огромной, растянувшейся cтаей проворно понеслись прочь от Рубини.
Два убитых наповал чистика, ударяясь о камни, шлепнулись около наших ног, один упал подальше, три подранка, кувыркаясь в воздухе, грохнулись на лед.
С радостным лаем наши собаки сорвались с места и кубарем скатились вслед за птицами. Не успели мы даже крикнуть, как собаки поймали подранков и моментально сожрали их. Облизываясь и помахивая хвостами, они снова вскарабкались к нам и улеглись, ожидая следующего выстрела.
Так из шести сбитых птиц нам достались только три.
— Придется этот нарпит прикрыть, — сказал Леня и кулаком погрозил собакам. — Как только выстрелим, ты сейчас же беги за подранками, — сказал он мне. — У тебя ноги крепче.
Птицы вскоре вернулись и, как ни в чем не бывало, снова расселись на том же месте. Снова громыхнул залп, и, бросив ружье, я кинулся вниз, видя, как улетающая стая теряет подраненных птиц. Но собаки оказались проворнее меня. Легкими прыжками они быстро соскочили на лед и, как я ни кричал, как ни проклинал их, снова сожрали нашу добычу прежде, чем я успел спуститься.
— Прогони их к свиньям! — кричал сверху Леня Соболев. — Гони их прочь!
Камнями и криками я отогнал собак, а сам опять поднялся на скалу. Теперь собаки сидели вдалеке, внимательно наблюдая за нами.
Запыхавшийся, усталый, я повалился на камень рядом с Леней.
— Теперь сделаем так, — сказал я. — Как выстрелим, я побегу вниз, а ты бросай в собак камнями и не давай им подходить к подранкам. Хорошо? Камни приготовим заранее.
Мы набрали целую кучу щебня и снова притаились в своей засаде. На этот раз птицы прилетали поодиночке, по две, по три штуки. Они садились в разных местах, и нам пришлось долго ждать, пока наконец не подобралась подходящая кучка, по которой мы снова выстрелили залпом.
С дикими воплями, которые должны были, по моим расчетам, устрашить собак, я бросился вниз, прыгая по огромным, отвалившимся от скалы базальтовым глыбам, не спуская глаз с черневших на снегу птиц. Я мчался к ним сверху, а по льду крупным галопом к ним скакали собаки. У собак передо мной было серьезное преимущество: над моей головой свистели Лёнины камни, угрожая проломить мне череп, а собакам не грозила никакая опасность.
Когда я прибежал к тому месту, куда упали подранки, Вайгач, хлопая челюстью, как крышкой сундука, торопливо пожирал последнюю птицу.
— Отгони их как можно дальше! — советовал сверху Леня Соболев. — Надо, чтобы у тебя была фора!
Полчаса я бегал по льду за собаками, загнал их к самому леднику Юрия и, совершенно разбитый и охрипший, наконец вернулся к Лене.
Но не успел я сесть на землю, как Леня с ужасом сказал, показывая вниз:
— Идут!..
Собаки неторопливо возвращались обратно к скале и снова уселись полукругом на прежнем месте.
— Надо засыпать их каменным дождем, тогда они не посмеют подойти к нашим птицам, — бодро сказал Леня.
— Хорошо, — покорно согласился я, — засыпай каменным дождем.
Леня так и сделал. Но дождь захватил слишком большую площадь, и несколько каменных капель угодило и в меня. Здоровенный камнище тяпнул меня в плечо, второй так треснул в спину, что сбил меня с ног, и я кувырком скатился вниз. На этот раз я успел захватить одну птицу из четырех. А три опять достались собакам.
Потирая плечо и охая от острой боли в спине, я дотащился до Лени и бросил к его ногам маленького чистика.
— Теперь будешь бегать ты, а я буду засыпать каменным дождем, — решительно сказал я.
Но Леня наотрез отказался от моего предложения.
— Давай лучше бить птиц поодиночке. Наверняка, наповал.
Часа через два охоты у нас было набито восемнадцать птиц.
Сбили мы их больше сорока, но добрая половина попадала вниз, и нам оставалось только смотреть, как собаки с аппетитом закусывали ими, благодарно посматривая на нас.
Наконец внизу показался Костя. Он шел усталой, расхлябанной походкой, а в отдалении за ним бежали облизывающиеся собаки.
— Скоро обед! — закричал нам Костя. — Слезайте! Пора домой!
Мы спустились вниз. На поясе у Кости, раскинув широкие длинные крылья, болтался один серый поморник.
— Один выстрел — одна птица? — спросил Леня.
— Разве это охота? — дрожащим голосом ответил Костя. — Это не охота, а просто какая-то всесоюзная олимпиада! Я, наверное, верст восемьдесять избегал, еле на ногах стою. — Он обернулся к собакам и с ненавистью погрозил им кулаком. — Разве на такую прорву настреляешь? Кайр всех пожрали, а вот эту падаль, — он тряхнул своим поморником, — даже и есть не стали. Только поэтому и достался мне, а то с пустыми руками пришлось бы итти домой.
Собаки, видя, что кормежка закончилась, весело побежали впереди нас, а мы, усталые и разбитые, медленно потащились к зимовке.
Добычу мы сдали Арсентьичу, который с презрением отшвырнул Костиного поморника, а чистиков долго задумчиво рассматривал и обнюхивал со всех сторон, наверное соображая, как же их надо готовить.
На другой день за обедом была торжественно подана свежая дичь с клюквенным вареньем. Каждому досталось по маленькой птичке.
Так начался охотничий сезон. Теперь, как только выдавалось свободное время, мы брали двухстволки и направлялись на птичий базар Рубини-Рок.
Чистиков мы бить совсем перестали и охотились только на кайр.
Хотя чистики и были очень вкусны и напоминали не то рябчика, не то куропатку, но их нужно было на каждый обед вдвое больше, чем кайр. Половиной кайры можно было наесться лучше, чем целым чистиком.
Снайперы, а их оказалось у нас немало, охотились на кайр с мелкокалиберными винтовками или даже с винтовками Росса, у которых для уточненной стрельбы имеются специальные оптические приспособления.
Теперь мы уже знали, что первое условие удачной охоты — это не брать с собой собак.
А иногда устраивались специальные собачьи охотничьи пикники. Тогда мы собирали всю свору, и к Рубини направлялась целая толпа людей и собак. Мы стреляли только чаек, поморников, бургомистров, и собаки безнаказанно нажирались до отвала.
Победа
Ранним утром пятого апреля я вышел из дома, чтобы посмотреть, что делается на улице. Я был дежурным метеорологом и через полчаса должен был проводить утренние наблюдения.
Долго стоял я на высоком сугробе возле нашего дома. Утро было сухое, морозное, ясное. Солнце низко висело над горой Чурляниса, и поперек всей бухты ложилась черная длинная тень Рубини. Кричали птицы на склонах нашего плато, лениво бродили у домов собаки. Кругом было все так знакомо, так привычно, точно я родился и прожил здесь весь свой век. Я уже знал каждый камешек, каждую излучину берега, каждый островок, который смутно синел в чистом и тихом утреннем воздухе.
Нехотя вернулся я в тихий и спящий наш дом и прошел в свою лабораторию. Привычно тикали в самописцах часы, на привычном месте лежали карандаши, записные книжечки, таблицы. Спокойно и не торопясь я зажег свет в шкафике с барометром и принялся за работу.
Через десять минут, сдав свою телеграмму радисту, я вышел из рубки и потихонечку побрел к себе на Камчатку, любуясь сверкающим утром, осматриваясь по сторонам, прислушиваясь к голосам птиц. Выйдя из-за бани, я спокойно осмотрел бухту и остановился. Что такое?
К берегу усталой, медленной походкой по бухте шел человек. Рослый, плечистый, замотанный шарфом, в рукавицах, в низко надвинутой шапке.
Да это же Редкозубов! Ну да, он! Редкозубое возвращается один. А где же собаки, нарты? Где Ндумыч? Где Боря Линев, Гриша Быстров?
Страшное предчувствие новой беды бросило меня в жар. Я молча побежал навстречу Редкозубову. А он остановился, сдвинул шапку на затылок и, широко и радостно улыбаясь, поджидал меня.
— Что случилось? — закричал я, подбегая к нему. — Где Наумыч?
Редкозубов рассмеялся.
— Поди уже чай пьют в кают-компании.
— Какой чай? — спросил я, ничего не понимая. — Где Борька, Гриша, собаки?
— Да дома уже все давным-давно, — добродушно сказал Редкозубое. — Что вы, в самом деле? Разве вы их не видели? Они от Дунди поехали на пустой нарте, а я пешком потихонечку пошел.
— А мотор?
Редкозубов свистнул.
— Мотор! Весь самолет у Медвежьего стоит. Притащили весь самолет, целиком.
— Как притащили? Что вы городите?
— Так и притащили. До Медвежьего доволокли, а уж дальше никаких сил не хватило. Оставили на льду. Теперь вы потащите. — Он хлопнул меня по плечу. — Там он и был, где мы с вами его видели.
— Так идите же скорее домой, — засуетился я. — Ребят надо бы разбудить, Арсентьича..
Но в кают-компании было уже и так полно народу. Это только у нас на Камчатке, на отшибе, никто ничего не знал, а в старом доме все уже проснулись и полуодетые сбежались в кают-компанию.
Наумыч, грязный, засаленный, заросший до глаз черными волосами, широко расставив ноги, устало сидел посреди кают-компании и громко рассказывал:
— А у нас всего-навсего одна лопатка и один топор на четверых. Что тут делать? Ну, да голь на выдумки хитра: приспособили лыжные палки, ножи, просто руками рыли снег. Так и откопали.
— А он на леднике был? — спросил Леня Соболев. — Далеко от спуска к морю?
Наумыч мотнул головой.
— Порядочно. Со спуском-то мы и покорячились. Спуск крутой, того и гляди — на раскате разобьет всю машину к чорту. Уж как мы только ни тормозили! И нартой и лопатой. Наконец пилотский стул, как плуг, пристроили и пахали стулом снег. Ничего, все-таки спустили. Ну, а когда уж с ледника-то спустили — тут дело пошло. Уж раз на ровный лед поставили, так что же бросать его? Надо тащить до хаты.
— А про торосы-то расскажите! — раздался чей-то сипловатый голос.
Я оглянулся. Боже мой! неужели это Гриша?
Вместо юркого, чистенького, всегда очень опрятно одетого Гриши Быстрова, развалясь на стуле, сидел около буфета черномазый, с татарскими редкими усишками, с всклокоченными волосами бродяга.
— Гриша! — закричал я. — Да что же это с тобой случилось? Тебя же мать родная сейчас не узнала бы.
А вот и Боря Линев — обветренный, загорелый, похудевший.
— Борька, ты?
— Я, — захохотал Боря. — Как юный пионер.
— Да что же ты тощий-то какой?
— Отощаешь, — сказал Боря. — От такой работки и ноги протянуть можно, не то что отощать.
Наумыч громко захохотал:
— Он у нас за коренника был. Как на ровное место вышли, сейчас и запрягли Борьку в самолет. Симочка хвост тащил, а мы с Гришей вроде пристяжных — плоскости.
Боря Линев махнул рукой.
— Это-то ерунда. Меня торосы совсем угробили. До сих пор правой рукой не пошевельнуть. — Боря тряхнул головой. — Охотничьим-то ножом рубить торосы! Их чертей, аммоналом еле-еле взять можно, а тут — ножом. Наумыч хитрый, он себе топор забрал, Гришка — лопату, а нам с Симочкой пришлось ножами…
Сейчас же после завтрака все, кроме «слабосильной команды» — Ромашникова и Савранского, двинулись к мысу Медвежьему за самолетом.
Был крепкий мороз, дул северный ветер, и даже дух захватывало от сухого, студеного воздуха.
Изуродованный, облепленный снегом, с разбитым в щепки пропеллером, с изорванной в лоскуты обшивкой, стоял на льду самолет.
Мы обвязали его веревками, на концах сделали петли-лямки и впряглись в них, как бурлаки, которые тянут на бечеве груженые барки. Несколько человек приподняли хвост самолета, те, кому не хватило мест у веревок, стали к плоскостям.
— Раз, два, дружно! — закричал Вася Гуткин.
Самолет дрогнул и пополз по гладкому, ровному снегу…
Через два часа он уже стоял в ангаре, из которого только полтора месяца назад, весело гудя сильным мотором, он легко, своим ходом сбежал на лед бухты. Тогда это была красивая, сильная машина. А теперь в ангаре стоял разбитый, изувеченный, ни на что не годный инвалид.
_________
На следующий день, 6 апреля, вышел экстренный выпуск нашей стенной газеты «Осада Арктики». Номер был богато иллюстрирован фотографиями Гриши Быстрова. На одних фотографиях заиндевевшие люди рубили топором, лопатой, охотничьими ножами высокие ледяные торосы. На других — те же люди, вытаращив от натуги глаза, тянули за веревки, привязанные к хвосту дыбом стоящего самолета; на третьих — копали снег; на четвертых — впряглись вместе с собаками и, наклонившись так низко, что руки их свисали до самого снега, тащили по белому полю осевший на один бок самолет.
А вместо передовой был помещен рассказ Бори Линева, под названием: «Мы у цели..»
Вторая зимовка
День 27 апреля был первым настоящим весенним днем. Ярко светило с безоблачного синего неба высокое солнце, как-то особенно хлопотливо сновали птицы, и их обеспокоенные голоса и их суета напоминали весенний гам и возню грачей в еще голых, черных деревьях там, на Большой Земле.
Пять с половиной градусов мороза — но такая теплынь, так печет солнце, такой мягкий и влажный ветер тянет с юга, оттуда, где сейчас, наверное, уже чистая вода, свободное море, что все мы целый день ходим без шапок, без рукавиц, в одних свитерах.
Перед вечером Боря Линев заметил в бинокль далеко, у Скот-Кельти, на льду какую-то черную точку. Мы долго, по очереди, смотрели на эту точку в Борин бинокль, строя всевозможные предположения, что бы это могло быть.
— А может, это нерпа? — неуверенно сказал наконец Желтобрюх.
— Может, это и нерпа, — согласился Боря Линев. — Пожалуй, что правда — нерпа. Пойти, посмотреть, что ли?
Как были — без шапок, в одних фуфайках — мы спустились на лед бухты и зашагали к Скот-Кельти.
Это, действительно, была нерпа. Еще издали мы увидели, как она то и дело поднимала маленькую круглую головку, посматривала по сторонам и снова укладывалась на лед.
Нерпа видит очень плохо. У нее плохое, слабое зрение, но зато она превосходно слышит. Лежа на льду, она каждую минуту поднимает голову, прислушивается и озирается по сторонам — не крадется ли к ней медведь. Убедившись, что все вокруг спокойно, она снова ложится. Но долго дремать ей нельзя — медведь может подобраться в любую минуту. И нерпа снова поднимает голову. И так без конца, целый день, пока она греется на солнце, она ежеминутно вскидывает голову и озирается.
Мы остановились метрах в ста от нерпы и долго наблюдали за ней. Потом смело, хрустя снегом и громко разговаривая, пошли прямо на нее, и только тогда, услышав наше приближение, она проворно нырнула в лунку.
Лунка была круглая, величиной с большую тарелку, а рядом с лункой был скользкий подтаявший, обледенелый снег. Здесь целый день лежала нерпа. Она всегда лежит у самого края лунки, чтобы в случае опасности в одну секунду успеть соскользнуть в воду.
Под водой она может пробыть очень долго — час, а то и больше, и ни за что не вынырнет в той лунке, возле которой ее вспугнул охотник.
И охотник, который хочет убить нерпу, должен метко стрелять. Даже смертельно раненая, она успевает нырнуть в воду и уже там подо льдом подыхает. Надо, чтобы выстрел охотника положил ее на месте.
Эскимосы никогда не бьют нерп из ружей. Они охотятся на них с ножами, палками и копьями. Эскимосы ухитряются подкрасться к нерпе вплотную и убить ее наповал, с одного удара.
Мы так охотиться не умели. Много нерп у нас ушло под лед подраненными, многие совсем не подпустили к себе даже на ружейный выстрел.
Редко-редко только самым настойчивым и метким нашим охотникам удавалось застрелить хоть одну из них.
В конце апреля на льду нашей бухты поселилось целое семейство нерп. Каждый день мы видели теперь и у Рубини и у Скот-Кельти точно валяющиеся на снегу черные обгорелые головешки. Это были нерпы.
Но они радовали нас не потому, что это была заманчивая добыча для охотника. Нерпы были самыми верными вестниками наступившей весны.
— Уж если нерпы появились, — говорили мы друг другу, — значит, уже настоящая весна, значит, уже скоро и бухта вскроется!
И верно — прямо на глазах темнел и оседал снег вокруг наших домов, точно это опускалась, оседала земля. Уже из-под снега показались крыши, и даже кое-где торчали верхние планки оконных рам. Ноздреватые, как пропитанный водой сахар, стояли сугробы; совсем стаял снег с утесов нашего плато, и черная, без единого снежного пятнышка, угрюмо возвышалась Рубини.
К середине мая на крышах наших домов уже повисли длинные сверкающие сосульки. Собаки шлялись с высунутыми от жары языками. Шерсть на собаках сбилась, словно прелый войлок, и болталась бурыми клочками. Эту шерсть они обдирали с себя, катаясь и ползая по снегу, обтираясь об углы домов или просто выкусывая зубами и вычесывая лапами. Она всюду валялась вокруг зимовки — рыжая, бурая, черная, грязно-серая шерсть.
Лед в нашей бухте потрескался и раздался. Наступили совсем теплые, туманные дни, а ночи были тихие, черные и глухие, как бывает на Большой Земле перед ледоходом.
Уже совсем нельзя было ходить по снегу в валенках, — валенки сразу промокали насквозь, и Боря Линев уже варил в салотопке какую-то особую смесь из нерпичьего сала и стеарина для смазки кожаной обуви.
_________
Вечером 25 мая я работал со Стучинским в фотолаборатории магнитного павильона. Сначала мы проявляли длинные ленты магнитограмм, потом стали печатать снимки с негативов Гриши Быстрова. В фотолаборатории было жарко и душно, мы накурили, пахло гипосульфитом, от красного света болели глаза. Около часа ночи я встал с табуретки.
— Довольно. Больше не могу. Устал.
Стучинский остался в лаборатории, а я вышел в сени и оттуда на высокое крыльцо павильона.
Была черная, сырая ночь, полная каких-то весенних шорохов и запахов. Я постоял на крыльце. И вдруг мне на щеку упала теплая капля. Я протянул руку. Несколько капель упало на мою ладонь.
— Дождь! Неужели дождь?
Я сбежал с крыльца.
Да, шел дождь! Мелкий, беззвучный, теплый дождь! Блестели фарфоровые изоляторы на стене павильона, блестела крыша, а снег стал совсем серый.
Я стоял под дождем, сняв шапку. Теперь я уже слышал, как он шуршит по сугробам, как монотонно и тихо долбит в крышу, как ударяются капли о мою одежду.
Медленно-медленно я побрел к домам, радостно и взволнованно повторяя вполголоса:
— Дождик! Дождик!.
А дождь все усиливался. Крыши домов уже сверкали, как лакированные, дождь стегал косыми длинными спицами, и справа, там, где в густой черноте должны быть утесы и скалы плато, что-то гудело и шумело, как на плотине.
Я вбежал в наш домик. По крыше и по стенам звонко и дробно стучал дождь.
Мокрый, счастливый, я промчался прямо в нашу лабораторию, схватил наблюдательскую книжечку, чтобы отметить в ней первый весенний дождь. Внизу на страничке с пометкой: «25 мая, пятница», уже стояла большая черная точка. Черной точкой метеорологи обозначают дождь.
Удивленный, я смотрел в развернутую книжечку, когда сзади меня послышался какой-то шорох. Я обернулся. В дверях лаборатории стоял улыбающийся Ромашников. На отлете, в растопыренных как-то по-дамски пальцах, он держал дымящуюся папиросу.
— Уже записал, записал, — тихо сказал он, — такую радость, да не записать…
— Ромаша, значит, правда весна?
Он засмеялся, пожал плечами.
— Во всяком случае — температура положительная..
Дождь шел весь следующий день. Совсем съежились и как-то сморщились сугробы, наши дома вдруг выросли, крыльцо у бани отмылось до блеска, и кое-где на склоне, позади радиорубки, уже чернели голые камни. А к вечеру в Британском канале уже виднелась длинная черная лента чистой воды.
Под дождем, сверкая мокрыми резиновыми рубахами, весь день сегодня неторопливо ходили по берегу каюры, — откапывали из-под рыхлого, мокрого снега лодки, таскали багры, уключины, весла.
А наутро ударило из-за горы Чурляниса такое веселое, яркое, горячее солнце, что задымились мокрые крыши домов. Все зимовщики высыпали на улицу, по-весеннему одетые, в расстегнутых рубахах. А Костя Иваненко, завидя нас с высокого крыльца радиорубки, через всю зимовку закричал веселым, звонким голосом:
— Идите ручьи смотреть! — и показал куда-то в сторону, где блестели под солнцем крутые, как арбузы, голые черные камни.
Позади радиорубки гремели, булькали, журчали ручьи. Они сбегали со склонов плато и то уходили глубоко под снег, то снова выскакивали из-под какого-нибудь камня.
Мы принялись расчищать им дорогу, освобождать от мелких камней и мусора их глубокие, извилистые русла, возились и болтались в воде, совсем как маленькие ребятишки.
— Смотрите-ка, что это с Буянами? — вдруг сказал Вася Гуткин. — Какая-то веселенькая вещичка!
Вдали, около белой, отмытой дождем стены Торгсина, возились, яростно копали снег, тявкали и скулили все четыре Буяна.
Мы подошли к Буянам. Завидя нас, они принялись еще усерднее рыть снег, далеко отбрасывая его сильными, длинными лапами и ежеминутно нюхая яму. Где-то глубоко под снегом глухо шумела вода.
Буяны родились прошлой осенью. Первый раз в жизни они видели и слышали весенние ручьи. Живой шум и возня весенней воды обманули молодых Буянов. Они решили, что там, под снегом, сидит какой-то, еще невиданный зверь, которого можно откопать, стоит только покрепче упереться в снег задними лапами и быстро-быстро, изо всех сил царапать когтями рыхлый, легкий снег.
Все вчетвером они рыли одну большую широкую яму. Через час они докопались до ручья, который быстро бежал меж камнями по мерзлому грунту. Все четыре Буяна залезли в яму так, что сверху торчали только четыре пары задних лап и четыре пушистых хвоста, и долго жадно и звонко лакали студеную чистую воду.
— А ведь и мы могли бы теперь без хлопот попивать такую-же прелестную водичку, — задумчиво сказал Вася Гуткин.
Гриша Быстров насторожился.
— Какую водичку? — спросил он. — Из ручья, что ли?
— Ну да, из ручья, — ответил Вася. — Видишь, сколько воды зазря пропадает, а мы с водой маемся. Изобрел бы что-нибудь.
Гриша хмыкнул, покрутил головой, осмотрелся по сторонам.
— Ручья подходящего близко нет, — сказал он. — Был бы ручей — другое дело. А все-таки надо подумать, — может чего-нибудь и соорудим..
На другой день с утра Гриша побежал в склад при радиорубке, оттуда в Торгсин, из Торгсина зачем-то полез на чердак старого дома. Весь день он озабоченно бегал по всей зимовке, копал в снегу ямы, белой эмалированной кружкой пил из всех ручьев воду и до того напился водой, что, когда пробегал мимо, слышно было, как в животе у него тяжело бултыхается вода. Он собрал со всей зимовки и свалил у ручья за Торгсином целую кучу железного лома. Потом он о чем-то долго совещался с Васей Гуткиным.
Я стоял на крыше большого дома и прочищал механизм анемографа, когда увидел их обоих, направляющихся к Торгсину. Вася решительно шагал впереди, а Гриша покорно брел немного сзади.
— За мешками с пшеном и лежит, — громко говорил Вася Гуткин, оборачиваясь к Грише. — Как войдешь, по правой руке. Вот сейчас сам увидишь. Что же ты сразу-то не спросил, чудак человек? А я смотрю — ищет, ищет чего-то, а чего — не знаю.
Они вошли в Торгсин и через минуту появились снова. Сияющий Гриша тащил в руках какой-то серый плоский моток, похожий на огромный точильный камень. Вася и Гриша исчезли за стеной Торгсина. Потом галопом промчался один Гриша, схватил две лопаты, стоявшие у бани, и с лопатами опять скрылся за Торгсином.
Я кончил свое дело на крыше, спустился вниз и пошел посмотреть, что это они задумали.
За Торгсином, уже промыв глубокий снег до земли, бежал быстрый ручей. У ручья возились Вася и Гриша.
Вооружившись круглым камнем, Вася стучал по длинным полоскам ржавого железа и сгибал их так, что получалось что-то вроде железных желобов. А Гриша, размахивая лопатой, расчищал русло ручья. Потом он бросил лопату, присел на корточки и тоже принялся сгибать железные полосы. Сбоку на снегу лежал брезентовый пожарный рукав, скатанный плотным рулоном. Его-то я и принял издалека за точильный камень.
— Водопровод делаем — закричал Вася, размахивая камнем. — Прелестная вещица!
Один кусок железа Вася и Гриша согнули в виде совка, который кончался дудочкой. Этот совок они пристроили так, что ручей падал на широкую часть совка, устремлялся в дудочку и бил из нее уже тонкой сильной струей. Под дудочку совка Вася подставил самодельный железный желобок, и вода сразу заполнила его до краев и весело побежала по желобку, смывая ошметки ржавчины. К первому желобку Гриша быстро приставил второй, второй желобок надставил третьим, потом они уложили четвертый, пятый, шестой.
Теперь ручей бежал по железному руслу. Вася и Гриша вывели русло за угол Торгсина, откуда была уже прямая дорога до окон кухни.
— Беги к Арсентьичу, — сказал мне Гриша, — пускай он приготовляет бочку для воды. Бочку пусть подставит под форточку. Мы ему прямо в форточку воду подадим.
Я побежал.
Арсентьич, прищурив один глаз от назойливого дыма папироски, со скрипом вертел ручку мясорубки, пихая в ее раструб темные куски медвежатины. Мрачный, нахмуренный Стремоухов сидел в углу кухни на ящике и медленно чистил картошку.
— Арсентьич! — закричал я, вбегая на кухню, — давайте бочку! Сейчас будет вам водопровод!
Не переставая крутить мясорубку, Арсентьич недоверчиво посмотрел на меня и сказал:
— Какую там еще бочку? Некогда мне с вашими затеями. Уже двенадцатый час, а у меня еще картошка не начищена. — Он со злобой быстро взглянул на Стремоухова и еще быстрее завертел ручку.
— Ну, тогда я сам сделаю, — сказал я.
Большая двенадцативедерная бочка для запасов снега и льда стояла у нас в коридоре, рядом с кухней. Каждый день дежурные набивали снегом или льдом полный куб в плите и наколачивали бочку, чтобы у повара всегда был под руками «полуфабрикат» воды.
Сейчас в бочке лежало несколько больших глыб белого скользкого льда. Я поспешно вытащил их и выбросил на улицу, ополоснул бочку и подкатил ее к кухонному окну, в котором была проделана форточка.
Не успел я подкатить бочку к окну, как снаружи в стекло забарабанил Гриша Быстров. Он что-то кричал, нетерпеливо размахивая руками. Я поспешно отворил форточку.
— Бочку скорей давай! — закричал Гриша. — Уж магистраль подводим! — И он отбежал от окна. Потом он появился вместе с Васей. Они пятились, ежеминутно оборачиваясь, и осторожно разматывали плоскую ленту еще пустого пожарного рукава.
— Как раз! — закричал Вася. — Хватает прямо в обрез! Прелестно! Включай магистраль!
Гриша опять исчез, а Вася остался у окна, держа конец рукава и озабоченно глядя куда-то в сторону, где, наверное, Гриша включал «магистраль».
— Тряпкой замотай! — вдруг закричал Вася. — Да не эту, не эту! Попробуй переставить! Выпрями колено!
Стоя на кухне под форточкой, я с интересом следил, как меняется выражение Васиного лица. Сначала оно изображало заботу и беспокойство: наверное, Гриша сделает что-нибудь не так, потом — досаду, что Гриша действительно что-то путает, потом — одобрение: Гриша исправил свою ошибку, потом любопытство: получится или не получится? И наконец лицо расплылось в широкую улыбку.
— Идет! — заорал Вася. Он просунул ко мне на кухню через форточку конец рукава. Арсентьич перестал вертеть свою мясорубку и тоже подошел к окну.
Брезентовый рукав будто ожил. Он начал пухнуть, шевелиться, все складочки на нем разгладились; из плоского, как лента, он стал круглым, словно труба. И вот наконец в бочку из разлохмаченного конца рукава потекла вода, — сначала она текла тоненькой прерывистой струйкой, и вдруг толчком ударила струя толщиной в руку.
— Эх, в рот те шило! — захохотал Арсентьич. — Вот это фокус!
Он схватил со стола кружку, подставил ее под весело падающую воду и, наполнив до краев, с наслаждением начал пить, мотая головой и крякая.
— Сладкая, — сказал он, переводя дух, — горная.
В кухню вбежали Гриша и Вася. Они бросились к бочке.
— В десять минут накачает! — закричал Вася, заглядывая в бочку. — Вода-то какая! Прямо ситро!
Арсентьич вдруг забеспокоился:
— А как же, если ее надо остановить? Если довольно? Ведь этак она и затопить нас может! Крана-то никакого ведь нет?
— А зачем же кран? — засмеялся Гриша. — Как довольно вам воды, — просто взяли и вышвырнули конец из форточки.
Вода и будет уходить в снег. А как опять понадобилось — опять протянули рукав в форточку. Вот и все.
— А ведь верно, можно и без крана, — с удивлением сказал Арсентьич. — Ну, молодцы. Сделаю вам за это квас с изюмом. Так уж и быть..
Вечером этого дня мы, по обыкновению, сидели на крыльце бани. Бухта была уже какая-то серая, мокрая, а за мысом Дунди виднелись широкие черные разводья и полыньи.
— Вот жизнь настала, — медленно говорил Романтиков, — прямо, хоть не уезжай отсюда. Ну чем не Ленинград? Электричество есть. Телефон есть. Водопровод есть. Все коммунальные услуги.
— Мы еще с Васей в баню проведем водопровод, — проговорил Гриша Быстров. — И устроим душ. Вот увидите.
— А трамвай вы с Васей можете устроить? До Рубини и обратно чтобы ходил, — сказал Боря Линев. — А то без трамвая как-то скучно.
Вася Гуткин укоризненно покачал головой.
— Трамвай это уж по твоей части. Сам можешь устроить. Запряг две нарты — вот тебе и трамвай. На одну нарту повесил табличку: «Маршрут № 1. Обсерватория — Рубини-Рок». На другую: «Маршрут № 2. Салотопка — мыс Маркама». И дела-то всего на полчаса.
— Разве, верно, устроить такую штуку? — усмехнулся Боря Линев. — Только тогда уж и светофоры надо повесить на айсбергах, чтобы все было честь-честью.
К крыльцу медленно подошел Наумыч, шапкой смел сор со ступеньки, грузно сел.
— Наумычу мы дадим почетный билет с правом входа через переднюю площадку, — весело сказал Боря Линев. — А Желтобрюха контролером назначим.
— Желтобрюх на колбасе пусть катается. А то какой же трамвай, если без колбасника? — сказал Леня Соболев.
Наумыч молча слушал наш разговор, потом усмехнулся и медленно проговорил:
— Так, так. Мечтайте, мечтайте. Может, что-нибудь нам и пригодится. Может, что-нибудь на будущий год и сделаем.
— Как на будущий год? — удивился Вася Гуткин. — При чем тут будущий год? На будущий год об эту пору мы уже будем по Крыму в белых штанах этакими кренделями расхаживать.
Наумыч опять усмехнулся.
— Отложить, Вася, белые штаны-то придется. Вместо Крыма-то еще годик по острову Гукера походишь.
— Чего вы? — с испугом сказал я. — Чего это вы, Наумыч?
Все притихли, с удивлением глядя на Наумыча. А он затянулся папироской, пустил через ноздри дым и прищурившись посмотрел вдаль.
— А на вторую зимовку не хотите? — тихо сказал он.
— Нет, не хотим, — быстро ответил Вася Гуткин. — Конечно, не хотим.
— Ага, значит, не хотите, — кивнул головой Наумыч. — Так. Ну и не хотите себе на здоровье.
Он замолчал, все так же задумчиво поглядывая на бледный далекий закат.
— Что за чорт! — тревожно проговорил Боря Линев и завозился на месте. — Наумыч, не томи ты, пожалуйста. Чего ты? При чем тут вторая зимовка? — Боря растерянно посмотрел на нас. — Из Москвы, что ли, чего получил?
— Да, получил, — все так же спокойно, не глядя на нас, проговорил Наумыч. — Получил кое-что.
— Ну? — крикнуло сразу несколько голосов.
— Ну, и ничего. Остаемся на вторую зимовку.
На крыльце воцарилась тишина. Желтобрюх поспешно вытащил из кармана папироску, закурил, жадно глотнул дым.
— Шутите, — растерянно сказал он, глядя на Наумыча умоляющими глазами. — Не может быть….
— Конечно, шутит! — закричал Гриша Быстров с фальшивой веселостью. — Шутит! Шутит!
Наумыч пожал плечами, медленно достал из кармана телеграфный бланк, исписанный косым почерком радиста, и помахал в воздухе.
— Шутки плохие, — сказал он, пряча телеграмму обратно в карман. — Это называется — палкой по лбу пошутил, — напугал до смерти.
— Так вы серьезно?
— Вот пеньки какие, — с досадой сказал Наумыч. — Ну, что же мне, божиться, что ли, прикажете?
И мы сразу поняли, что Наумыч не шутит. Все задвигались, заговорили, загалдели, повскакали с мест, окружили Наумыча, который все так же спокойно сидел на ступеньке, крепко упершись в колени широкими руками.
— Все остаемся?
— Как же мы можем остаться? Нам мяса не хватит!
— И дров не хватит!
— И угля!
Вася Гуткин даже схватил Наумыча за руку.
— Да говорите же что-нибудь!
Наумыч улыбнулся.
— Вы же слова мне сказать не даете, — загалдели, как грачи.
— Тише, ребята! — свирепо закричал Боря Линев. — Дайте человеку высказаться!
— Все остаемся? — поспешно спросил Ромашников.
— Нет, не все, — загадочно ответил Наумыч. — Не все. Конечно, и дров, и угля, и мяса хватило бы для всех еще на целый год. Да только зачем же нам всем оставаться? Половину людей мы свободно можем домой отправить.
— Как отправить?
— На чем?
— Ну, на чем? На промысловом судне, например. Зайдет же какое-нибудь к нам промысловое судно, вот мы половину людей и могли бы с ним отправить. Боюсь только, что больше трех-четырех человек они не возьмут.
— А кого, Наумыч? — дрогнувшим голосом спросил Желтобрюх. — Вы уже знаете, кто поедет, а кто останется?
Все прямо впились глазами в Наумыча. А Наумыч, как нарочно, замолчал, пожевал губами.
— А об этом вот и давайте поговорим, — сказал он. — Давайте посоветуемся. Сначала так давайте, — он внимательно посмотрел на нас. — Кто сам, добровольно хочет остаться на вторую зимовку?
— Я, — глухо сказал кто-то сзади. Все сразу, как по команде, обернулись. Прислонившись спиной к стене бани, стоял Лызлов. Спокойный, серьезный, с плотно сжатыми, точно вырезанными из дерева губами. — Я хочу остаться добровольно, — еще раз повторил он.
Мы молча смотрели на него.
— И я, — вдруг сказал с другого конца Ромашников, и все головы сразу повернулись в другую сторону, и все теперь уставились на Ромашникова. — Тогда и я останусь, — добавил он.
Боря Линев судорожно хрустнул косточками пальцев, вскочил, снова сел на крыльцо, сбил шапку на затылок, хлопнул себя по коленке. Видно, он никак не мог решить — оставаться ему или нет. Он быстро взглянул на меня и вопросительно дернул бровями: как, мол, ты? Я покачал головой: нет, мол, не останусь. Боря что-то забормотал, опять хрустнул пальцами.
— Что ж, остаться разве? — наконец нерешительно сказал он. — Ну, да ладно, — он сорвал с головы шапку, — останусь с Ромашей! Стрелять его научу! Оставайся и ты! — крикнул он Желтобрюху.
— Да, оставайся! — ответил Желтобрюх дрожащим голосом. — У меня мама старая, она, того и гляди, умрет. А потом я учиться хочу. В школу летчиков хочу поступить. Мне в сентябре заявление подавать надо. Нет уж, я не останусь…
Наумыч потер ладонями коленки.
— Значит, все? — сказал он и, подняв брови, посмотрел на нас. — Больше никто не хочет добровольно?
Все молчали.
— Остальных надо спросить, — глухо сказал Вася Гуткин. — Здесь ведь не вся зимовка. Радиста надо спросить, Костю Иваненко, Арсентьича, Горбовского.
— Добре, — сказал Наумыч и крякнул. — Ну, а теперь кому обязательно надо быть в этом году на Большой Земле?
— Мне! — раньше всех крикнул Желтобрюх.
— Мне! — крикнул за ним Вася Гуткин. И Каплин, и Леня Соболев, и Савранский, и Гриша Быстров, и я, и Стучинский тоже сказали, что нам непременно надо в этом году вернуться домой.
Наумыч покачал головой.
— Нет, — усмехнувшись, сказал он, — так не выйдет. На вторую зимовку должны оставаться: начальник, то есть я, повар, радист, механик, один метеоролог, один аэролог, один магнитолог, два каюра, радиоволновик, служитель. Это уж обязательно. Сколько я насчитал?
— Одиннадцать, — в один голос крикнули мы.
— Одиннадцать, — продолжал Наумыч. — Да вот Лызлов сам остается, — это уже двенадцать. Кого же мы должны в первую очередь отправить? В первую очередь — Арсентьича. Он человек старый, больной. Его непременно надо отправить. Как-нибудь уж сами обойдемся. Вот Боря Линев «консоме-сюрприз» будет нам варить, а Савранский — рисовую кашу. Потом отправим одного метеоролога, — Ромашникова отправим.
— Как Ромашникова? Почему? — от удивления я даже развел руками. — Он же сам хочет остаться? Он ведь сказал же вам, что хочет! А я не хочу!
— Ромашников опытней, — поддержал меня и Вася Гуткин. — Конечно, лучше Ромашникова оставить.
Наумыч продолжал, покачивая головой:
— Что опытней, это верно. А только Ромаша, кроме метеорологии, делать-то ведь ничего не умеет. Баню вот на днях топил, так и то у него кипятильник чуть не взорвался. Одной учености в Арктике мало, вы уж меня простите, Ромаша.
— Да, нет, что же, я ничего не говорю, — сказал Ромашников. — А кипятильник, верно, чуть не взорвался. От повышенного давления.
— Значит, двое уже есть, — продолжал не спеша говорить Наумыч, — повар и Ромашников. Из магнитологов останется Гриша Быстров. Нам изобретатели очень пригодятся.
— Знать бы такое дело раньше, — обиженно проговорил Гриша, — сидели бы вы без света, без телефона и без водопровода. Изобрел на свою шею..
Все засмеялись.
— Ничего, Гриша, — хлопнул его по плечу Боря Линев, — мы с тобой зимой аэросани устроим. Поставим на нарту мотор от разбитого самолета — и все в порядке.
Гриша пожал плечами.
— Аэросани-то, конечно, устроить дело не хитрое, но мне с осени в институт поступать надо. Я учиться хотел. Что же недоучкой-то жить.
Наумыч задумался.
— Ну, раз учиться, тогда дело другое. Давайте-ка, товарищи, вот как сделаем. Отпустим всех студентов: Иваненко — ему институт надо кончать, Желтобрюха — пускай учится на летчика, Гришу Быстрова. Да еще Арсентьича с Ромашей — вот уже пять человек. Больше промышленники, пожалуй, и не возьмут. Остальным придется остаться на вторую зимовку.
— Жалко вот только, — недовольно сказал Боря Линев, — наша святая троица остается. С такими субъектами еще год под одной крышей жить не очень-то приятно. Нельзя ли и их отправить?
— Отправьте их, Наумыч, — заговорили со всех сторон. — Не хотим мы с ними! Если уж вторая зимовка, то хоть с настоящими людьми оставаться, а не с барахлом!. Да и делать-то они ничего не делают. Лодыри царя небесного.
— Да я бы с удовольствием отправил, — сказал Наумыч. — только ведь не возьмут же больше пяти человек. Придется уж с ними жить.
— А мы не хотим с ними!
— Довольно с нас и одного года!
— Раскусили товарищей, хватит, пожили! Пускай едут. Мы одни проживем!
Наумыч хитро посмотрел на Желтобрюха, на Гришу Быстрова.
— Пускай студенты им свои места уступят, а сами останутся. Вот тогда и вопрос решен будет.
Боря Линев хлопнул ладонью по коленке, закричал Желтобрюху и Грише:
— Неужели, ребята, такую свинью нам подложите: сами уедете, а нас с Шороховым да со Стремоуховым оставите?
Все закричали:
— Оставайтесь, ребята, одни будем жить! Заживем-то как? Малина! Зря, что ли, год с ними прожили?
— Платон Наумыч, — сказал Ромашников, смущенно покашливая. — Меня, конечно, никто не упрашивает остаться, — я ведь слабосильная команда. Но раз такое дело, товарищей, конечно, подводить нельзя. Позвольте уж мне остаться тогда служителем, а Стремоухова отправьте назад. Тарелки-то мыть да свинушник чистить наверное научусь. Тарелки ведь не стреляют.
Вася Гуткин вскочил с крыльца, бросился к Ромашникову, сгреб его в охапку:
— Ромаша ты наша дорогая! Живая душа на костылях! Сестрица милосердная!
Ромашников тщетно пытался вырваться из Васиных объятий.
— Тише ты, — с натугой простонал он. — Ты же мне диафрагму раздавишь.
— Вот это друг! Вот это полярник! — орал и Боря Линев, гулко хлопая бедного Ромашникова по спине.
А Стучинский протиснулся к Ромашникову и прерывающимся голосом проговорил:
— Дайте вашу благородную руку…
Тогда Желтобрюх вдруг топнул ногой, бросил на снег шапку и закричал диким голосом:
— Эх, была не была — остаюсь! Не могу от таких ребят уезжать! Пускай Шорохов вместо меня едет! Остаюсь!
Снова все закричали, бросились к Желтобрюху, принялись тискать его и тормошить.
— Не зря мы его брили, ребята! — завопил Боря Линев. — Каюры всегда вместе! В огонь и в воду!
— Конечно, и я могу вместо Сморжа остаться, — быстро проговорил Гриша Быстров. — Ученье от меня никуда не уйдет, только чур без подвоха: если аэросани не будем делать — ни за что не останусь!
— Будем! Будем! — захохотал Наумыч. — И аэросани и глиссер!
У бани поднялся крик, хохот, гам. Все обступили Ромашникова, Желтобрюха, Гришу Быстрова, точно те совершили какой-то геройский поступок.
— Ай да Ромаша! Молодец Желтик! Ну, удружил Гришка!
Потом, когда все немного успокоились и снова расселись по местам, Леня Соболев набил трубку и, с трудом отдышавшись после крика и возни, сказал:
— Оно, собственно говоря, и правильно, ребята. Ну, чего тут за один год можно сделать? Только успеешь привыкнуть, присмотреться, глядишь — уезжать нужно.
— Верно, — подхватил Вася Гуткин, — правильно говоришь! Что же мы приехали сюда — сосунками, мальчишками! Теперь только во вкус-то и вошли. Вот на будущее лето мы уж покажем, как надо Арктику осваивать.
— Базы везде за ночь устроим! — закричал Желтобрюх. — На трех упряжках по всему острову разъезжать будем.
— Если бы за ночь немножко подучить народ, — робко сказал Ромашников, — можно было бы временные метеорологические пункты поставить на ледниках или, например, на Скот-Кельти, на Альджере. Это очень интересные наблюдения. А жить в палатках многие уже научились, так что устроить это было бы не трудно.
Наумыч посмеиваясь долго молча слушал наши разговоры, потом снова вытащил из кармана радиограмму и, как бы от нечего делать, принялся ее перечитывать.
— Прочтите хоть, что там написано-то, — сказал я. — Уж раз остаемся, то хоть бы узнать почему и как.
— Прочесть разве, правда? — сказал Наумыч. — Ну, слушайте. — Он откашлялся и медленно, равнодушным голосом стал читать: «Земля Франца-Иосифа Руденко. К вам выходит из Архангельска промысловый бот «Ленсовет», на борту которого находится пилот Волосов и борт-механик Твердынский. Приготовьте сдать им все лётное имущество — самолеты, горючее, снаряжение. Шорохов отстранен от работы. Середине августа вас сменит новая зимовка на ледоколе «Таймыр». Привет всем товарищам».Наумыч аккуратно сложил телеграмму и спрятал в карман. Все сидели молча, вытаращив глаза и ничего не понимая.
Наумыч посмотрел на наши глупые морды и принялся хохотать. Он весь сотрясался от хохота, хлопал себя по коленкам, сгибался в три погибели, на глазах у него блестели слезы.
— Ой, умру! — стонал он. — Нет, невозможно! Ну разыграл! Ну купил!
Снова на крыльце поднялся настоящий содом.
— Змея подколодная! — орал Боря Линев, тиская и пихая Наумыча в бока. — Бить его смертным боем!
А Наумыч хохотал пуще прежнего, он просто повалился на крыльцо, и мы с хохотом и криками долго молотили кулаками по огромной, гудящей, как бочка, его спине.
— Сдаюсь! — взмолился он наконец. — Сдаюсь. Вы мне все почки отобьете.
Он сел, несколько раз глубоко вздохнул, вытер платком лицо, помотал головой.
— Хорошие вы все ребята, — сказал он отдуваясь. — Я вас испытать хотел. Думаю — научились чему-нибудь, сдружились мои хлопцы или нет? Теперь вижу — год даром не пропал. Ничего, хлопцы, не горюйте. Отдохнем годик на Большой Земле, а потом всем кошем куда-нибудь на Северную Землю закатимся годика на три. Мы уж теперь ученые, бывалые люди. Уж знаем, как надо жить на зимовке. Так поедем на Северную Землю, или нет?
— Поедем! — заорали мы. — Всем скопом! На три года!
У старого дома звонко ударил колокол.
— Ну, а теперь ужинать, — посмеиваясь сказал Наумыч. — К ужину Арсентьич квас какой-то особый соорудил.
Все шумно, толпой поднялись с крыльца.
— Ну, а я-то кем же на Северную Землю поеду? — спросил Ромашников. — Служителем, или все-таки метеорологом?
— Старшим метеорологом, — серьезно ответил Наумыч. — Только чтобы за год в Ленинграде непременно научился: стрелять, бегать на лыжах, плавать, грести, стирать, шить, топить баню, колоть дрова, ходить под парусами. А так не возьму.
— Ну, что ж, — грустно сказал Ромашников, — придется, видно, учиться на старости лет. На нашей улице как раз и тир есть. Недалеко ходить будет.
Глава двенадцатая
Люди с Большой земли
В середине июля пронеслась над Землей Франца-Иосифа полоса ураганных штормов. Ветер взломал и выгнал весь лед из нашей бухты. Огромные айсберги, как ледоколы, проплывая проливом Меллениуса, крошили толстые льдины, мяли их и распихивали.
И перед нашими домами снова, как год назад, уже ходили пенные волны, и чайки с тонким криком падали до самой волны и боком улетали по ветру.
Уже совсем стаял снег, и в расщелинах черных базальтовых утесов зацвела скромная бледная камнеломка, и рыжие, красные, ярко-желтые мхи цветными пятнами разукрасили неприступные обрывы Рубини.
Давно уже круглые сутки не заходило над нашей землей солнце. Теперь на целых четыре месяца оно ни на один миг не уйдет от нас, как бы вознаграждая за то, что четыре месяца оно не показывалось к нам ни на одну минуту.
И как в полярную ночь трудно было сначала привыкнуть к вечному мраку, так и теперь, в полярный день, было удивительно и странно и в полночь, и в два часа ночи, и в три видеть на небе солнце.
Но и к солнцу мы привыкли так же быстро, как быстро полгода назад от него отвыкли. Даже стал надоедать этот постоянный яркий свет, и мы начали потихоньку грустить о ночной темноте.
И вот однажды я устроил у себя в комнате «праздник ночи».
Я тщательно завесил свое окошко так, что в комнате стало совершенно темно, зажег нарочно керосиновую лампу и пригласил к себе друзей.
Лампа горела желтым тусклым светом, в комнате сделалось сразу душно, тоскливо, и, посидев «ночью» с четверть часа, мы сорвали с окна занавеску, задули лампу, распахнули форточку, и в комнату снова ворвался солнечный свет, птичьи голоса и глухой немолчный шум темного моря.
Нет, день все-таки лучше, чем ночь!
Теперь постоянно, то на моторном катере, то просто на лодках, а то на легком паруснике, с утра до вечера мы плавали по бухте и по проливам, охотились на птиц, составляли ледовые карты.
С нетерпением ждали мы новых вестей о «Ленсовете», о первых людях с Большой Земли. Но дни проходили за днями, а «Ленсовет» словно провалился сквозь землю. О «Ленсовете» не было ни слуху ни духу.
Каждый вечер, собираясь вместе, мы подолгу разговаривали о новом летчике и борт-механике, мечтали, как мы будем их встречать, и даже пытались представить, какие они из себя. Каждый представлял по-разному.
Один думал, что летчик обязательно молодой, высокий, сухощавый, другой, напротив, уверял, что он окажется низеньким, краснолицым человечком с огромной лысиной и свисающими вниз усами. Третий представлял себе летчика широкоплечим детиной, увальнем, заросшим до глаз бородой.
— По фамилии видно, что с бородой! Как же может быть — Волосов и вдруг без бороды?
Четвертый уверял, что у летчика маленькие усики и что он обязательно должен хорошо играть на рояле.
Борт-механик не вызывал особых споров. Все сразу сошлись на одном: борт-механик — широкоплечий, длиннорукий, уже в летах человек.
И часто теперь но утрам, когда все уже сидели в кают-компании за завтраком, входил кто-нибудь из запоздавших и ни с того ни с сего вдруг говорил:
— Нет, я передумал. Он не рыжий. Он брюнет. И подстрижен ежиком.
И все уже знали, кто это он, и никто даже не спрашивал. Он — это, конечно, новый летчик.
Или:
— Сегодня их обоих во сне видал. Летчик совсем такой, как Желтобрюх говорит.
И опять все сразу себе представляли, каким приснился летчик, потому что все знали, что Желтобрюхов летчик с бородой.
И вот вдруг, утром на триста пятый день нашей одинокой жизни, радист Рино принял радио с «Ленсовета».
«Проходы к бухте со всех сторон забиты непроходимым льдом, — радировал капитан зверобойного судна. — Пробиться к вам не можем. Летчика и механика высаживаем южном берегу Скот-Кельти. Идите сейчас же на катере к кромке льда заберите летчиков. Привет. Капитан Михеев».Невообразимая суматоха поднялась на зимовке. Все выскочили из домов и в бинокли и просто так, прикрывая рукой глаза от солнца, уставились на Скот-Кельти.
Но остров был совершенно пустынный. Никого на берегу не было.
А Редкозубов уже возился на катере, гремел бидонами, поспешно навешивал руль, потом сбегал в ангар к водрузил на корме катера большой красный флаг. Настоящий кормовой флаг советского флота.
Все, кто только был свободен, набились в катер. Гриша Быстров стал на руль, и Редкозубов, запустив мотор, сердито крикнул ему:
— Смотри, подходи к берегу по-адмиральски, с шиком!
— Знаю, знаю, — ответил Гриша. — Не первый раз.
Наумыч надел свой парадный морской китель и, торжественный и важный, стал рядом с Редкозубовым. Как настоящий капитан, он скомандовал:
— Полный вперед!
Гулко стреляя и бурля, катер отвалил от берега, плавно обогнул застрявший на мели айсберг и полным ходом бойко побежал прямо через бухту, через пролив, к низкому, словно утюг, острову Скот-Кельти.
Ветер развернул за кормой красный флаг. Флаг хлопал, широкое полотнище его развевалось по воздуху, мелко дрожало круглое деревянное древко.
— Прямо как на свадьбу едем, — сказал Вася Гуткин, подумал и добавил: — А вдруг и верно с бородой?..
Катер круто обходит длинные косяки льда, плывущие по проливу. О борта позванивают мелкие льдинки, то и дело из-под самого носа катера с шумом взлетают кайры, но на кайр никто уж не обращает никакого внимания. Не останавливаясь, вспарывая острым носом тяжелую темную воду, катер летит вперед и вперед.
Я сижу на кормовой скамейке. Ветер, холодный сырой морской ветер, дует мне прямо в лицо, гудит в ушах, придавливает, прижимает веки. Я закрываю глаза. Так хорошо, так радостно, непонятно даже, почему так сильно и звонко бьется сердце.
— Держи вдоль восточного берега! — кричит Наумыч. И Гриша Быстров бойко отвечает:
— Есть, вдоль восточного берега.
Крутой поворот, и мы уже мчимся вдоль бурых низких берегов Скот-Кельти.
Теперь все столпились у правого борта и, вытянув шеи, всматриваются в быстро проносящиеся мимо бурые, медно-красные, грязно-желтые осыпи.
— Люди по курсу! — вдруг кричит Гриша Быстров. Мы вскакиваем на скамейки, приподнимаемся на цыпочках.
Да, верно. Впереди, у самой воды, на размытом ручьями топком берегу стоят три человека. Они машут нам руками и шапками.
— Трое! — кричит Гриша Быстров. — Почему же трое? Смотрите, ведь трое!
А Редкозубов, не отрываясь от гремящего мотора, с сердцем кричит Грише:
— Руль держи! Подходим!
Катер забирает левее, в пролив, потом круто поворачивает и на всех парах несется прямо на берег. Точно в кинематографе беззвучно вырастают, поднимаются, закрывают небо обрывистые берега острова. Ближе, все ближе. Уже отчетливо видны люди. Они одеты в одинаковые синие куртки с металлическими пуговицами, с большими меховыми воротниками. Куртки ловко схвачены в талии кушаками. Люди почему-то похожи на японских солдат.
С полного хода катер почти под прямым углом, повалив всех нас на бок, поворачивает налево и лихо подлетает к берегу. Редкозубов, скрежеща коробкой скоростей, дает задний ход.
Стоп!
Боря Линев прыгает с борта прямо в воду и багром ловко подтягивает катер.
Это и есть адмиральский подход: чисто, смело, на полном ходу.
Мы скачем за борт, словно дессант, высаживающийся на вражеский остров.
Люди подходят к нам, радостно улыбаясь. Впереди идет низкорослый человек с круглым, веснущатым, давно небритым лицом.
— Пилот Волосов, — басом говорит он, протягивая Наумычу руку.
За ним подходит долговязый сухой детина с мужественным и серьезным лицом и глухим сдавленным голосом произносит:
— Борт-механик Твердынский.
А кто же третий?
Он одет так же, как Волосов и Твердынский, на нем почти такие же сапоги, но есть в его повадке что-то неуловимое, какая-то щеголеватость. Очень тонкая талия, белые маленькие руки, длинное матовое, чистое лицо. Он и здоровается как-то по-другому: с почтительным полупоклоном, щелкнув каблуками. Глядя прямо в глаза Наумычу, он говорит:
— Инструктор Морзверпрома Цапкин, — и во рту его блестят белые, платиновые коронки.
— Ну совсем, как я говорил, — шепчет мне Гриша Быстров, показывая глазами на пилота. — И никакой бороды нет.
Мы со всех сторон обступаем гостей.
— А барахлишко у вас есть? — спрашивает Наумыч.
— Да, да, — говорит Волосов, — как же, есть, есть. Вот тут свалено. Нас высадили по ту сторону ледовой перемычки, но мы уже все перетащили сюда, чтобы поближе было.
На берегу свалены чемоданы и мешки. Простые, гранитолевые чемоданы пилота и борт-механика, большой кожаный чемодан в чехле — инструктора Морзверпрома.
Мы сразу разбираем всю гору вещей.
— Не беспокойтесь, пожалуйста, — суетится Цапкин. — Зачем же, я сам. Пожалуйста, не беспокойтесь. Ведь тяжело.
— Ничего, — говорит Боря Линев, — разве это тяжело? Это же не баллоны с водородом.
Все снова погружаются в катер. Мы исподтишка разглядываем новых людей.
Вот Твердынский вынул из кармана папиросы. Шеи всех вытягиваются, все с интересом смотрят ему в руки. Какая-то синенькая коробочка. Кажется, новые, при нас таких еще не было.
— Можно поинтересоваться коробочкой? — не выдерживает Желтобрюх.
— Пожалуйста, пожалуйста, — радушно протягивает Твердынский папиросы.
Желтобрюх бережно берет коробку, громко читает:
— «Дюльбер». Кажется, таких при нас не было.
— Не было! Не было! — подхватываем мы все. — Это новые!
— Скажите, пожалуйста, сколько такие стоят? И везде можно купить? Без очереди?
Твердынский изумленно смотрит на нас.
— Как без очереди? — спрашивает он. — Конечно, без очереди. В любом киоске сколько угодно и каких угодно папирос.
— Не может быть! — удивляется Вася Гуткин. — И «Звездочка» есть?
— Есть, — все так же серьезно отвечает Твердынский. — А разве при вас по-другому было? Я уж не помню, как в 33 году было. Плохое забывается быстро.
— Мы когда уезжали, за махоркой по Невскому очереди стояли, — говорит Гриша Быстров. — Я-то не курю, но знаю, что с табаком плоховато было.
— «Трактор» по три рубля у спекулянтов покупали! — кричит Желтобрюх. — Да и то больше одной пачки, сволочи, не продавали в одни руки!
Твердынский пожимает плечами.
— Может быть, при вас и коммерческих магазинов еще не было?
— Каких коммерческих? — удивляемся мы. — Это что такое?
— А это такие магазины, где вы можете купить все, что вам угодно, — обстоятельно объясняет Твердынский. — Обувь, платье, велосипед, патефон, сигары. И продуктовые такие же есть: икра всякая, мясо, рыба, масло.
— Будет вам, — с каким-то испугом говорит Вася Гуткин. — Неужели масло? Выходит дело — что же? Приедем к себе домой, прямо как за границу? Ничего и не узнаешь. Будешь бирюком, пугалом гороховым ходить по улицам, лошадей пугать.
— А вы что же по радио разве не слыхали о коммерческих магазинах? — спросил Твердынский.
— Да какое сейчас радио! — махнул рукой Вася Гуткин. — Солнце-то не заходит круглые сутки. Одни только разряды и слышны.
Катер летит полным ходом к зимовке.
Твердынский осматривается по сторонам, внимательно разглядывает далекий берег нашего острова.
— Это что — Рубини-Рок? — спрашивает он.
И мы бросаемся наперебой объяснять:
— Это Рубини, а вон там гора Чурляниса, а это виднеется ледник Юрия, это — Медвежий мыс, а вон тот — мыс Седова.
Твердынский качает головой.
— Художественный у вас тут уголок, — говорит он. — Кто это, интересно, давал тут названия?
— Почему художественный? — спрашивает Желтобрюх.
— Ну как же? Все названо именами, так сказать, деятелей искусств. Рубини был знаменитый итальянский тенор, а Чурлянис — художник-символист. — Он прищурившись осматривает берег. — Да, хорошо у вас тут, красиво.
И мы очень довольны, что ему понравилась наша бухта, а Желтобрюх с притворным равнодушием говорит, сплевывая за борт:
— Да, ничего себе, подходяще. Жить можно.
Катер подходит к зимовке. На берегу стоят Ромашников, Арсентьич, Сморж, Костя Иваненко, Стучинский. Вдалеке медленно ковыляет на костылях, осторожно шагая по камням, Шорохов.
— А это кто? — спрашивает Твердынский, показывая на Шорохова глазами.
— Это летчик Шорохов, — говорим мм.
— А-а, — равнодушно отвечает Твердынский, но я вижу, как он сжимает зубы и на скуле у него перекатывается круглый желвак.
Гости высаживаются первыми.
Как смешно они ковыляют по камням, озираются, боязливо сторонятся собак, которые бесцеремонно обнюхивают их. Какие они заметные, в своих новеньких аккуратных синих куртках, ни на кого из нас не похожие, робкие, неуверенные.
— Сюда, сюда, — приглашаем мы их, направляясь к большому дому.
— Смотрите, спасательные круги! — говорит Волосов, оборачиваясь к борт-механику. Тот быстро взглядывает на спасательные круги, развешанные между окон большого дома, и молча кивает головой.
И меня, помню, тоже очень удивили эти круги.
В кают-компании уже накрыты для завтрака все столы. Наумыч ведет гостей прямо к себе в комнату, а мы рассаживаемся по местам и с нетерпением поджидаем их.
Быстро, как шарик, вкатывается Волосов, смеющимися глазами осматривает кают-компанию, за ним, размахивая длинными руками, идет Твердынский. Входит степенной, неслышной походкой Цапкин, неся подмышкой какой-то сверток.
— Кто тут товарищ Безбородов? — мягко спрашивает он. — Начальник просил ему, как библиотекарю, передать газеты, которые мы привезли.
Газеты!
Все срываются с места и бросаются к Цапкину.
— Мне «Вечорку»!
— Мне «Правду»!
— «Смена» есть?
— По очереди! Больше одной не выдавай! — кричит Вася Гуткин. — «Вечорку» одну на двоих!
Входит Наумыч.
— Газеты после завтрака, — говорит он. — Сейчас кушать.
Я забираю газеты, потихоньку просматриваю их под столом.
А со всех сторон мне кивают, подмигивают, показывают знаками — мне, мне, мол, первому.
— «Вечорку», — свистящим топотом через всю кают-компанию шипит Ромашников и тычет себя пальцем в грудь.
— Хорошо, хорошо, — киваю я головой. — Обязательно вам первому.
Шорохова за столом нет. Прямо с берега он ушел к себе в комнату. И Стремоухов на подносе торжественно несет ему через кают-компанию завтрак.
— А это кому? — удивленно спрашивает Волосов.
— А это Шорохову, — как ни в чем не бывало говорит Наумыч. — Ему еще трудно сидеть за завтраком вместе со всеми.
— Не еще трудно, а уже трудно сидеть вместе со всеми, — говорит Боря Линев, и все мы смеемся.
Конец зимовки
17 августа, рано-рано утром кто-то тихо вошел в мою комнату.
В комнате было темно: я плотно занавешивал свое окно куском толстой шерстяной материи, чтобы яркий свет незаходящего солнца не мешал спать.
Приглядевшись, я узнал Ромашникова. Он осторожно подошел к моему столу, положил что-то и так же тихо вышел из комнаты.
Не поднимаясь с кровати, я отдернул занавеску. На столе лежала чистая лента барографа.
«Зачем это он мне ее положил?» — подумал я, с изумлением разглядывая ленту. Ничего не понимая, я вертел ее в руках и вдруг увидел, что на обратной стороне вдоль всей ленты написано красным карандашом:
«Таймыр» прошел мыс Флера».
Долго и неподвижно я лежал в кровати, держа в руках ленту барографа.
Я смотрел на свою комнату.
Вот мой стол, заваленный бумагами, книжками, коробками. Все на столе лежит на своих привычных местах. Даже в темноте я могу найти на моем столе любую вещь. Я уже привык к этому столу, мне очень удобно и писать за ним, и читать, и заниматься.
Над столом висит электрическая лампочка. Я сам сшил на лампочку абажур. Он сделан из простого ситца и не очень-то красив, но я делал его сам — долго и старательно. В абажуре прорезано окошечко: когда я лежа читаю в кровати, через эго окошечко яркий свет падает на мою книгу.
На шкафике лежат камни, которые я собрал на нашем плато, яркие мхи и лишайники, шкурки кайр и поморников. И в шкафике все уложено по своим привычным местам, и лежит по этим местам вот уже целый год.
Странно и как-то грустно подумать мне, что я сам, своими руками, должен буду разрушить этот привычный порядок, разрушить все то, что я с таким старанием, так заботливо и долго себе устраивал. Должен буду снять книги с полочки, все убрать со стола, распотрошить шкафик, поснимать со стен фотографии и уйти, не затворив за собой дверь.
Голой, холодной и пустой станет опять моя маленькая комнатка.
А потом в ней поселится какой-то человек со своими книгами, со своими дневниками, со своей судьбой. Что-то он будет думать, лежа на этой кровати, как часто и я лежал долгой полярной ночью, когда уже спит весь дом и только дикий ветер шумит и шумит за стеной?
Будет ли он думать обо мне, как часто я думал о тех людях, которые жили в этой комнатке до меня?
Вот он увидит на фанерной стене карандашную надпись:
22 июня.
Будет ли он думать, что значит эта дата, кто ее написал здесь, чем и для кого она была памятна? А может быть — он рядом тоже напишет какую-нибудь свою дату. Так за многие годы на фанерной стене этой комнаты вырастет пестрый загадочный календарь разных жизней.
Тихо в нашем доме, тихо и безмолвно за стеной, на берегу.
«Вот и кончилась наша зимовка, кончилась наша жизнь на острове Гукера, — думаю я. — Все. Сейчас подойдет пароход, загремят якорные цепи, на берег сойдут новые люди. Много новых людей. С любопытством они будут осматривать наши дома, наши комнаты, наши лодки, наши приборы, будут гладить наших собак.
«Вот мы давно уже ждали, с нетерпением ждали, когда наконец за нами придет пароход. Сейчас он идет проливом Миерса, он приближается к нашей бухте, он в каких-нибудь только тридцати милях от зимовки и часа через два станет на якорь вот здесь, против окон».
Дверь тихо скрипнула, и в мою комнату заглянул встревоженный Ромашников.
— Уже дым на горизонте, — сказал он, увидев, что я еще лежу. — Вставайте. Сейчас ударим подъем.
Я оделся и вышел из дома.
Было тихое, ясное, солнечное утро. На тысячи голосов кричали птицы на склонах плато, через бухту проворно и низко мчался косяк быстрых чистиков. Грелись на солнце собаки: Байкал, Моржик, Гусарка, Сватья. Облезлый тощий Жукэ ходил по берегу, обнюхивая камни.
Пестрые морские флаги лениво колыхались на растяжках радиомачт. Ровно и четко бил мотор в рубке, и из выхлопной трубы, как от выстрелов, выскакивал клубочками сероватый дымок.
Кто-то издали позвал меня. У аэрологического сарая, высоко на бугре, стоял Гриша Быстров и махал мне рукой. Я медленно пошел в гору.
Я вспомнил, как этой самой дорогой я бежал первый раз на метеорологическую площадку, как где-то здесь в шторм, в ревущем снеге, во тьме мы с Гришей Быстровым искали Ромашникова, как пускали радиозонды с Леней Соболевым.
Я оглянулся. Вся зимовка была внизу, — дома, ангар, салотопка.
Вон сверкает ленточка нашего водопровода. Вот эти столбы поставили мы, и эти провода тоже протянули мы. Мы спустили на воду этот катер, выкрасили и починили лодки, заново натянули антенну.
Сколько радостей, трудностей, огорчений, веселья связано уже у нас с каждым клочком этой земли.
Как же можно уехать отсюда с легким сердцем? И не потому ли сейчас так грустно, что мы приехали сюда, страшась этой дикой, — угрюмой природы, боязливо и недоверчиво озираясь по сторонам, а сейчас это все стало привычное, нестрашное, родное. И полюбили мы это не сразу, не в один день, а полюбили исподволь, через трудности, через ошибки, через горести.
Наверное, так же трудно и грустно уезжать из дома, где ты родился и прожил детство.
Я подошел к сараю. На столбе, поблескивая стеклом, стоял теодолит, задрав в небо короткую толстую трубу.
— Дым уже видно, — сказал Гриша. — Хочешь посмотреть? Левее Скот-Кельти бери.
Я приложился к трубе. Вот скользнул кусок нашего берега. Две собаки — Сова и Сватья — вырывают друг у друга какую-то кость; вот зарябела вода бухты — плавают кайры, ныряют люрики; вот угрюмые откосы Скот-Кельти, а дальше — стальная чистая вода и у самого горизонта слабый серый дымок, относимый ветром налево.
— Идет, — сказал я, — топает.
Внизу, у большого дома часто и гулко зазвонил колокол:
Бум-бум-бум-бум!!!
Он звонил очень долго и кончил певучей дрожащей нотой, которая еще с минуту звучала в воздухе и растаяла незаметно и бесследно, как дым.
Гриша снял теодолит, осторожно уложил его в ящик, захлопнул крышку, выпрямился и посмотрел по сторонам.
— А хорошо все-таки здесь, — тихо сказал он. — Посмотри! — И он показал на сверкающую шапку ледника, из-за которой медленно выплывали на синее чистое небо белые, пухлые, как сбитые сливки, облака. — Простору сколько, тишины!
— Гришка, — сказал я, — тебе хочется уезжать отсюда?
Гриша пожал плечами, задумчиво обкусал ноготь на мизинце и сказал:
— Что значит хочется? Конечно, грустно, а с другой стороны, конечно, хочется. Меня вот в Африку всю жизнь тянет, а если попаду когда-нибудь туда, наверное, поживу годик, и захочется еще куда-нибудь, — может, в Индию.
— В Африке, наверное, хуже, чем здесь, — сказал я.
— Наверное, — задумчиво согласился Гриша. — Пылища, мухи кусают, блох, поди, до чорта.
Мы спустились к старому дому. Двери были распахнуты настежь. По коридору, громко топая, бегали люди, и Боря Линев громко кричал кому-то:
— Салют будет троекратный! К австрийским винтовкам выдавай по пяти патронов — у них всегда заедает!
Из маленького склада вышел Желтобрюх, таща три банки из-под монпансье, а за ним, шаркая калошами, Наумыч. Наумыч, запирая склад, говорил:
— Как услышишь наш винтовочный салют, так и взрывай. Да смотри, пожалуйста, — чтобы как-нибудь камнем тебя не стукнуло. Собак обязательно разгони, чтобы, часом, какую не задело.
Наумыч увидел пробегающего по коридору Васю Гуткина и вдруг, отвернувшись от Желтобрюха, закричал:
— Гуткин! Почему не бритый?
— Я вот за кипятком и бегу, — ответил Вася и скрылся на кухне.
Я подошел к Наумычу.
— Выходит, мотать удочки надо? — спросил я. — Кончилось наше дело?
Наумыч быстро взглянул на меня, улыбнулся, развел руками.
— Дело без конца что кобыла без хвоста, — сказал он. Потом подумал с минуту и, снова улыбнувшись, сказал: — Что ж, в конце концов три человека это только тринадцать процентов мусора. Тринадцать процентов мусора, — это не так уж и много. Бывает и хуже. Верно?
— Верно, — сказал я.
Во всех комнатах поспешно одевались, начищались, прихорашивались.
То и дело кто-нибудь пробегал по коридору то с тазом мыльной воды, то с начищенными сапогами, то с бритвой.
Только в кают-компании, вытянув длинные ноги, скучая сидел борт-механик Твердынский и медленно пил квас.
— Нам торопиться некуда, — спокойно сказал он. — У нас еще целый год впереди.
Наконец снова зазвонил колокол. Хлопая дверями, переговариваясь, гремя винтовками, все повалили из дома.
Под колоколом стоял Наумыч в морской форме, выбритый, причесанный, чуть бледный.
А в проливе мимо Скот-Кельти полным ходом, растянув по всему небу длинную дорожку черного дыма, вспахивая спокойную зеленую воду, шел прямо к нам ледокол.
— Становись! — скомандовал Наумыч.
Ледокол подходил все ближе и ближе. Уже было видно, как у бортов теснятся люди, как кто-то размахивает руками на верхнем ледовом мостике.
Собаки с воем, с лаем, с рычанием бросились к самой воде.
— К торжественному салюту приготовьсь! — скомандовал Наумыч. — Тремя патронами заряжай!
Низкий страшный гудок вдруг завыл, заорал на всю бухту.
Скалы, обрывы, ледники подхватили крик парохода, все задрожало от стократного эхо.
Наумыч вынул из кобуры сверкнувший наган и поднял вверх руку.
— Группа! — крикнул он. — Пли!
Сентябрь 1934 г. — aвгуст 1936 г.
1
Противоположное противоположным излечивается.
(обратно)2
В вечную память события (латинск.)
(обратно)



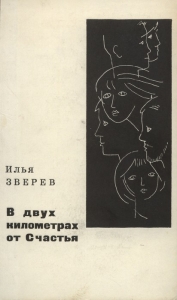
Комментарии к книге «На краю света», Сергей Константинович Безбородов
Всего 0 комментариев