Виктор Александрович Курочкин Короткое ДЕТСТВО
Глава I. Первый лёд. Поход на озеро за налимами. Побег Локтя. Витька Выковыренный вещает. В полынье. Коршун спасает Локтя, а потом — самого себя. Награда за труды
Ещё только была середина ноября, ещё на берёзах кое-где трепыхались листья и сирень стояла по-летнему зелёная, как вдруг ударил мороз. Всё вокруг стало белым, и грязь на дороге окостенела.
Стёпка Коршун выскочил из дому на улицу и, подняв вверх руки, закричал:
— «Зима. Крестьянин торжествует!»
За домом, рядом с огородом, находилась яма с зелёной протухшей водой. Стёпка подбежал к яме и увидел тёмный гладкий лёд. Коршун легонько стукнул по нему пяткой, потом встал обеими ногами, потом, разбежавшись, прокатился, потом попрыгал, лёд даже ни разу не треснул.
— Вот заковало, так заковало! — воскликнул Стёпка. — Наверное, и на озере такой же. В самый раз налимов глушить.
Не прошло и четверти часа, а Коршун уже шагал по улице с корзинкой в руке и размахивал деревянной колотушкой. Первым попался навстречу Васька Самовар. Васька чуть свет сбежал из дому, уже нагулялся и теперь не знал, что ему делать.
— Куда это ты? — спросил он Коршуна.
— На озеро.
— Зачем?
— Налимов глушить.
— И я с тобой.
— Очень-то ты нужен. Катись подальше.
— Подумаешь, какой царь, — обиженно проворчал Самовар и поплёлся за Коршуном.
Петька Лапоть рубил хворост. Рубил с большим удовольствием. Эта работа ему очень нравилась.
— Эй, Лапоть, айда на озеро налимов глушить! — крикнул Самовар.
— Не могу. Надо хворост рубить. Гляньте, какая куча.
Но Коршун даже не посмотрел на кучу и, повертев над головой колотушкой, пошёл дальше.
Лапоть стукнул пару раз топором и задумался. Работа в один миг опротивела. Он швырнул топор и побежал догонять Коршуна.
Братья Вруны, Сенька с Колькой, были заняты очень важным делом. Готовили к зиме ледень. Сколотив из досок кособокий ящик, они теперь замазывали днище коровьим навозом.
— Эй, куда?! — закричали Вруны.
— Налимов глушить, — ответил Лапоть.
Сенька посмотрел на Кольку, Колька — на Сеньку, потом оба посмотрели на ящик и… отправились на озеро.
Витька Выковыренный сидел у дома на завалинке и от нечего делать циркал сквозь выбитый зуб. Когда ребята поравнялись с ним, он встал и спросил:
— Куда это вас понесло?
— На озеро. Налимов глушить, — пояснил Колька Врун. — Айда с нами?
Витька циркнул.
— Под лёд провалиться? Что мне, жить надоело?
Коршун вспыхнул.
— Эх ты, трус! Распоследний трус. Пошли, ребята.
— А вы олухи! — крикнул им вслед Витька.
Он опять сел на завалинку и опять принялся циркать. Но через минуту ему стало так скучно, хоть волком вой. Витька сорвался с завалинки и бросился догонять ребят. Потом к ним присоединились Лилька Махонина с братом Аркашкой. Когда Лилька узнала, что ребята идут на озеро налимов глушить, то решительно заявила, что пойдёт с ними.
— Вот только нам девок и не хватало, — сказал Самовар.
— Ладно. Пусть идёт, — вступился за Лильку Коршун.
Подошли к дому Митьки Локоткова.
— Эй, Локоть, выходи! — крикнул Стёпка.
— Локоть, выходи! — хором поддержала компания.
Митька выскочил на крыльцо без шапки и босиком.
— Вы куда?
— На озеро.
— Налимов глушить.
— Одевайся, мы подождём.
— Нельзя. Надо Нюшку нянчить, — сказал Митька.
Коршун злорадно ухмыльнулся.
— Ага, попался жучок на крючок.
— Нянька-Манька! — крикнул Самовар.
— Нянька-Манька! — подхватили ребята, а Коршун заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул.
Нюшка лежала в люльке и сосала палец. Разъярённый Митька подскочил к люльке, сжал кулаки и свирепо прошипел:
— Ты почему не спишь, а? Чего глаза пялишь, а? Хочешь, чтоб я их выколол? Сейчас я их выколю, — Локоть наставил два пальца и прорычал: — У-у-у!
Нюшка, разинув беззубый рот, стала смеяться.
— Удавить тебя мало! — простонал Локоть и заплакал.
Кроме Нюшки, в доме никого не было. И Митька плакал громко, не стесняясь. А Нюшка смеялась, дрыгала ногами, а потом тоже заплакала. Этого Митька вынести не смог. Одно дело — реветь самому, а терпеть вой сестры он не мог. Митька взобрался на печку, разыскал валенки, схватил шапку с полушубком и бросился на улицу. Пронзительный крик Нюшки на минуту остановил его. Он вернулся и погрозил пальцем.
— Я тебе Нянькой-Манькой больше не буду… Прощай и реви сколько хошь, хоть до самой смерти.
Пока Митька говорил, Нюшка молчала, а когда хлопнул дверью, она опять заревела. Но Локтю было на всё теперь наплевать. Домой он решил не возвращаться.
Ребят Митька догнал за деревней у леса и гордо заявил, что навсегда убежал из дому.
— А если Нюшка вывалится из люльки и разобьётся? Тогда что? — ехидно спросила Лилька Махонина.
Митька беззаботно махнул рукой:
— Не вывалится. Люлька глубокая.
Озеро пряталось в лесу в трёх километрах от деревни. Издали озеро похоже на огромную лиловую сливу. Вода в нём прозрачная, дно каменистое — раздолье для налимов. Кроме налимов, здесь водятся и лещи с язями, голавли, щуки и, конечно, плотва с краснопёрыми окунями и масса другой мелкой рыбёшки. На песчаном отлогом берегу озера стоит избушка, как в сказке: без окон, без дверей и даже без крыши. Построили её давным-давно, ещё до революции, когда здесь брали камень на строительство шоссейной дороги.
Ребята подбежали к озеру и остановились. Оно замёрзло только у берегов. Средина озера была окутана паром, как будто озеро снизу подогревали.
— Ну, что? Я говорил. Только зря притащились, — сказал Витька Выковыренный.
— Этак можно и буль-буль сыграть, — заметил Петька Лапоть.
Коршун презрительно посмотрел на Лаптя и плюнул.
— Испугался? И в прошлый год было так же, а мы сколько тогда налимов поймали. Помнишь, Локоть?
— Помню, — Митька зябко поёжился, — и льда тогда было больше.
— Ну и что? Нам и не надо на середину озера. Налим-то теперь около берегов, — пояснил Коршун, решительно ступил на лёд и ударил колотушкой. Лёд прозвенел гулко и протяжно.
— Смотри, даже трещины не дал. Айда, Локоть! — позвал Стёпка Митьку.
Митька попробовал лёд каблуком.
— Боишься? — усмехнулся Коршун.
— Это я-то боюсь! — возмутился Митька и смело шагнул за Стёпкой.
— Близко не подходи. А то вместе провалимся. Есть такая точка опоры, — предупредил Коршун. За Локтем на лёд ступил Лапоть, за ним Вруны, потом Лилька с Аркашкой и, наконец, Самовар. Витька Выковыренный остался на берегу. Так они прошли цепочкой друг за другом шагов пятнадцать. Вдруг лёд под ногами Митьки звонко ахнул, и, словно стрела, протянулась длинная трещина.
— Ложись! — крикнул Коршун.
Ребята легли и торопливо поползли к берегу.
— Куда ты, Локоть? — спросил Стёпка.
Митька пополз за Коршуном.
— Это ничего, что он трещит, — успокаивал Стёпка. Осенний лёд трещит, да держит. А вот весенний, так тот молчит, молчит, а потом — раз и проломился. А если и провалимся все — всё равно не утонем. Здесь и воды-то по пупок.
— А ты думаешь, приятно вымокнуть, — возразил Локоть.
— Конечно, неприятно. Поэтому ты не вставай, а ползай. Есть точка опоры и площадь. Если точка, то сразу провалишься, а площадь ничего. Площадь всё выдержит, — поучал Стёпка товарища.
Ребята ползали около берега.
— Эй вы, есть налимы-то? — кричал Лапоть.
— Не видать пока, — ответил Митька. — Давай к нам.
— Не хотца!
— Такой здоровый этот Лапоть, а трус, как заяц, — сказал Митька.
— Факт, трус. А Выковыренный трусливее Лаптя. Глянь, один стоит на берегу.
Витька Выковыренный так и не сошёл на лёд. И не потому, что был трус, а потому, что считал себя очень умным человеком.
Они ползали, внимательно разглядывая дно озера. Лёд был прозрачный, отчётливо были видны и водоросли, и камни, и жёлтый песок. Меж камнями ползали усатые гольцы, сновали крохотные плотвички. Митька заметил клешню рака. Она высовывалась из-под камня и норовила ущипнуть ерша.
— Давай застукаем рака, — предложил Локоть.
Коршун отмахнулся и прилип ко дну.
— Кажется, один стоит.
Митька подполз к Стёпке.
— Видишь, в тине, около камня.
— Вижу. На полкилограмма будет…
— Конечно, будет, а может, и больше.
Налим пошевелил хвостом и выставил чёрную губастую голову.
Стёпка поднял колотушку и сильно ударил. Лёд под колотушкой побелел. Стёпка ударил ещё раз и пробил лёд. Налим всплыл вверх брюхом. Коршун сунул руку в лунку и вытащил его.
— Есть один, — закричал Стёпка, — давай сюда корзинку!
Лилька с корзинкой бежала по льду.
— Ложись, — приказал Коршун, — буль-буль захотела?
Налима бросили в корзинку, и Стёпка упросил Лильку носить корзинку, пообещав за это ей две рыбины. Митьке же было приказано вести разведку. Он искал усердно и вскоре выглядел под жёлтыми листьями кувшинки огромную налимью голову с выпученными глазищами. Митьке вначале показалось, что это почерневшая деревянная чушка. Но внимательно приглядевшись, он заметил, что у чушки шевелятся усы. Митька снял с головы шапку и замахал.
— Чего у тебя? — спросил Стёпка.
Митька, боясь испугать налима, широко развёл руки.
Коршун усомнился.
— Врёшь.
Митька отчаянно закивал головой и побожился. Увидев налима, Коршун ахнул.
— На полпуда будет, — прошептал он.
Подползла Лилька, посмотрела налима и поклялась, что полпуда ни за что не будет.
— Вода всегда увеличивает рыбу, — пояснила она.
Стёпка спорить не стал. Он занёс за плечо колотушку.
— Сильнее бей, а то только испугаешь, — предупредил Локоть.
— Учи учёного, — и Коршун что есть силы ударил. Лёд откликнулся гулким эхом, длинная трещина протянулась к берегу. Ребята испуганно переглянулись.
— Ничего, выдержит, — сказал Коршун. — Только ты, Лилька, отползи подальше! — Стёпка ударил ещё раз, пробил лёд. Запустил руку в лунку, стал шарить.
— Вот он. Толстенный, слизкий, никак не ухватишь.
— Давай помогу, — и Митька сунул руку в лунку. — Ага, вот он. Хвост нащупал.
— Не мешай. Чего ты его у меня из-под рук отталкиваешь! — закричал Коршун.
— Сам мне мешаешь, а кричишь, — возмутился Митька.
— Вынь свои грабли! — взревел Стёпка.
— Не выну! Подумаешь, какой начальник нашёлся, — и Митька запустил под лёд вторую руку.
— Ах, ты так! — Коршун навалился на Митьку и стал колотить его по затылку. И тут случилось то, что и должно было случиться. И чего никак не ожидали Стёпка с Митькой. Лёд под ними угрожающе заворчал, и они оба очутились в воде.
— Караул! Тонем! — заревел Митька.
— Тонем! Помогите! — заревел Стёпка.
— Тонут!! Коршун с Локтем потонули! — закричали у берега ребята и бросились в деревню.
Стёпка попытался вылезти из полыньи.
Он навалился грудью на кромку льда, но лёд под ним обломился. Лилька с ужасом смотрела на барахтавшихся в воде ребят.
— Чего ты смотришь, Махоня? Хочешь, чтоб мы и в самом деле потонули? Беги на берег за жердиной. И не посмей домой удрать. А то я тебя отделаю так, что и своих не узнаешь. Всё равно мы не потонем. Видишь, воды-то всего нам по грудки.
Лилька побежала к берегу. Лёд под ней гнулся и трещал. Ребята стояли в полынье. Коршун попытался ещё раз вылезти. Он ухватился за край льда, но подтянуться не смог. Полушубок намок, валенки превратились в пудовые гири.
— Подсади меня, — попросил он Митьку.
Митька стал подсаживать Стёпку, но лёд опять обломился.
— Погибли мы, — сказал Митька и заплакал.
— Не реви! — прикрикнул на него Коршун. — Чего ревёшь? Панику распускаешь. Вылезем. Сейчас Лилька приволокёт жердину — и вылезем.
— Она тоже сбежит, как и все.
«А что, если сбежит?» — с ужасом подумал Стёпка и, поборов в себе страх, решительно заявил:
— Если сбежит, то будем дожидаться, когда прибегут из деревни и вытащат.
— До тех пор мы замёрзнем. У меня уже ноги совсем онемели от холода.
— Ничего не замёрзнем. Я читал, как один моряк целый день пробыл в ледяной воде и не замёрз. А тут какой-нибудь час потерпеть.
— А ты думаешь, через час прибегут? — с надеждой спросил Митька.
— Факт, прибегут. Только не реви. Понимаешь, когда ты плачешь, мне тоже страшно становится.
Митька пообещал больше не плакать и вытер слёзы. Он подвинулся к кромке льда, привалился к ней и сказал сам себе:
— Вот так и буду стоять, пока не замёрзну.
Прошло минут десять. Локоть совсем посинел от холода.
— У меня уже, и сердце замерзает, — пожаловался он.
— Махай руками, — сказал Стёпка.
— Как же я буду махать руками, если я совсем закоченел?
— Махай, дурак! — заревел Коршун. — А то как врежу между глаз.
Митька поднял над головой руки и стал размахивать.
— Несу, — услышал он голос.
Локоть увидел Лильку. Она волочила по льду длинный берёзовый сук.
— Молодец, — похвалил её Коршун.
Сук положили поперёк полыньи.
— Давай ты первый, — приказал Коршун Митьке.
Митька ухватился за шершавый сук и не смог оторвать от дна валенки. Они были словно чугунные.
— Всё равно мне не вылезти, — сказал Локоть.
— Не ной, — вспыхнул Стёпка. — Вылезешь. Цепляйся за сук, крепче цепляйся. Уцепился? Лилька, тащи на себя!
Лилька потащила сук. Стёпка подталкивал Митьку сзади. Из воды показались валенки. Коршун стащил их с ног и выбросил на лёд.
— Давай, давай! — кричал он на Лильку.
— Я совсем из сил выбилась! — кричала Лилька.
— Тяни! — ревел Стёпка. Он поднатужился и вытолкнул Локтя на лёд. Митька распластался на льду, как лягушка. Лилька подобрала валенки, вылила из них воду и надела Локтю на ноги.
Теперь надо было вытаскивать Коршуна. Лилька подала ему сук. Коршун снял полушубок и выбрался из полыньи сам.
— Ну вот, — сказал он Митьке, — а ты говорил — потонем. Со мной никогда не потонешь. Жаль только, что колотушку утопили.
На Локтя было страшно смотреть. Он посинел, вода с него текла ручьями, а зубы так громко лязгали, что было слышно.
— Замёрзну, как сосулька. В воде было теплее, — сказал Митька.
— Ничего. Сейчас доберёмся до избушки, разведём костёр и высушимся, — сказал Коршун.
— А где спички?
Коршун снял шапку и показал Митьке коробок.
— Хорошо, что в моём полушубке карманы дырявые, — похвастался он, — а то мы бы шиш высушились.
Ребята уже подходили к берегу, когда услышали крики. Из леса выбежала Стёпкина мать, за ней — Митькина, потом Лилькина, и к озеру высыпала толпа женщин и ребятишек.
Стёпка посмотрел на Митьку и съёжился.
— Вот теперь-то нам с тобой будет выволочка.
— И всё из-за тебя, — упрекнул Митька товарища.
Глава II. Ромашки. Обитатели Ромашек. Ходячие зонты. Бабка Люба собирается умирать, потом раздумывает и варит суп с бараньей головой
Деревня Ромашки насчитывала ровно двадцать домов, семь овинов, около десяти сараев для сена, примерно столько же амбаров для хлеба, три бани и один скотный двор. Здесь содержалась вся живность колхоза: коровы, овцы, свиньи, лошади и даже козёл, которого держали «на счастье».
Шла война, ужаснейшая из всех войн на нашей планете. К счастью, в Ромашках этих ужасов не испытали.
Деревня находилась в отдалённой от фронта области и в самом глухом углу этой области. Сюда даже солдаты не заглядывали. А если какой солдатик случайно попадал в Ромашки, то на него смотрели, как на генерала. Перед ним снимали шапки, каждый старался затащить в свой дом, посадить за стол, а на стол выставить ну абсолютно всё, и даже такое, что никогда бы не поставили перед самым дорогим гостем. Вот как уважали и любили солдата в Ромашках.
Правда, ужасов-то в Ромашках не видели, но войну все переживали, и переживали очень тяжело. Война с первого дня показала себя. На фронт ушли все мужики, парни, увели из колхоза лошадей, в деревне теперь не играла гармошка, не распевали песен, люди перестали смеяться и даже громко разговаривать.
Войну переживала и бабка Люба, которой по старости лет было совершенно на всё наплевать. Бабка Люба — самая древняя старуха в Ромашках. Когда-то у неё была сестра, бабка Фёкла. В те далёкие времена сестёр звали ходячими зонтиками. Бабка Фёкла — маленькая пышная старушонка, походила на распущенный зонт, бабка Люба — высокая, тощая, в длинном тёмном платье, очень напоминала свёрнутый зонт. До революции беднее бедняка, чем эти сёстры, в Ромашках не было. Пришла Советская власть, бабкам дали землю, дали корову и лошадь тоже дали.
Бабка Фёкла давно умерла. А бабка Люба всё ещё живёт. И сколько ей теперь, никто не знает, да и сама бабка Люба тоже не знает. Страшна она до ужаса, как будто нарочно живёт, чтоб пугать ребятишек. Тощая, чёрная, как обгоревшая палка, на которой, словно закопчённый горшок, торчит голова с широкими толстыми ушами. Кожа на лице как будто гофрированная, вместо волос на затылке пучок седой щетины, а меж впалых щёк торчит нос, похожий на ручку от зонта. Все ромашкинские ребятишки её боятся, кроме Митьки Локоткова. Он иногда забегает к ней в избушку ловить тараканов. Кому не известно, что таракан с майским жуком великолепная нажива на язя с голавлем. А тараканы у бабки Любы водились, больше их не только в Ромашках, но и во всех окрестных деревнях не было. Попасть в бабкину избушку не так-то просто. Старуха и взрослых-то не очень жалует, а ребятишкам вообще вход закрыт наглухо. Одному только Митьке Локтю бабка иногда открывает дверь. Не потому, что бабка Люба обожает Митьку, а потому, что он сын председателя колхоза.
В густых зарослях акации с сиренью, словно воронье гнездо, сидит бабкин дом, насквозь изъеденный червями и гнилью. Если взять поувесистей камень и с размаху швырнуть на крышу, то над домом поднимется туча пыли.
Половину избы занимает русская печь. Здесь бабка Люба спит, думы думает, вяжет чулки и даже карты раскладывает. Мебели в избе немного: стол, скамейка и две табуретки. Над столом в углу доска с черным пятном. Каждый день утром и вечером бабка Люба отвешивает доске низкие поклоны. Есть ещё полка для посуды. На полке две глиняных миски, крышка и жестяная банка с надписью: «Ландрин». Сбоку на гвозде висит тяжёлая медная поварёшка. Около печи под шестком — чугун с отбитым краем. На шестке тоже чугун, только поменьше и совершенно целёхонький. На стенке картинка какого-то грандиозного сражения: не то Полтавского, не то Бородинского. На картинке можно разглядеть только одного генерала, впрочем, не столько генерала, сколько его усы. Их Митька Локотков подчернил карандашом. Есть ещё сундук. Громоздкий, с железными обручами и тяжёлым висячим замком, он бабке дороже избы. На случай пожара она поставила сундук у двери. У порога в стене торчит здоровенный костыль, на который бабка Люба вешает свою тяжёлую овчинную шубу. В углу под лавкой вот уже тридцать с лишним лет, не вылезая, сидит тупоносый утюг. От тоски и безделья утюг покрылся хлопьями ржавчины…
В тот день бабка Люба поднялась чуть свет. Вставать так рано ей совершенно незачем. Она бы могла спать круглые сутки, и никто бы на это не обратил внимания. Но бабку Любу, как говорят в деревне, черти подняли ни свет ни заря.
Дело в том, что бабка Люба вообще плохо спала, а эту ночь особенно.
Накануне председательша Елизавета Максимовна зарезала барана и прислала с Митькой бабке полголовы и облитое жиром баранье сердце. Всю ночь бабка Люба мечтала о том, как утром наварит жирного супа со свежей убоинкой и натушит картошки с бараньим сердцем. И как только лиловый рассвет прилип к окну её избушки, бабка сползла с печки, нашарила в печурке спички и засветила коптилку. Коптилка с полминуты погорела и потухла.
— Ба, керосинцу-то вовсе нет. Как же это я, слепая тетеря, не заметила, — обругала себя бабка и, вздохнув, села ожидать, когда совсем развиднеется.
Облокотившись на стол, подпирая рукой голову, бабка Люба стала размышлять, где бы ей достать керосинцу. Она перебрала всех односельчан и пришла к выводу, что, пожалуй, никто ей не даст керосинцу, кроме председательши.
После керосинца мысли бабки Любы перекинулись на дрова, которых оставалось не больше двух охапок, потом на соль, потом на валенки, которые совсем развалились. В течение часа, пока не рассвело, мысли её прыгали с предмета на предмет. Наконец старуха задумалась.
— Почему это мне бог смерти не даёт? — прошептала бабка. Она стала думать о смерти, как о великом счастье, которое избавит её от всех хлопот и страданий и приведёт её к златым вратам рая.
— Да есть ли рай-то? — укололо бабку сомнение. — Может, ни рая, ни ада нет. Ребятишкам в школе говорят, что на том свете ничего нет. Совершенно ничего.
Бабке Любе стало до жути страшно. В слове «ничего» она увидела сырую вязкую глину, червей, ощутила промозглый холод, и ей сразу же расхотелось умирать.
— Чего ж туда торопиться. Туда никогда не поздно. Экая я глупая, прости меня, господи, — бабка Люба перекрестилась и постаралась подумать о чём-нибудь приятном. Но как нарочно с утра бабку оседлали тяжёлые думы. Вдруг она вспомнила чёрного кота Миху.
— Пора бы ему уж из леса вернуться, — сказала вслух бабка, и сердце у неё ёкнуло. Вот Миха для неё был страшнее смерти. Бабка покосилась на окно, где между рам лежало пол бараньей головы и жирное сердце.
— Не приведи, господи, если явится. Хоть бы его, разбойника, волки сожрали!..
Кот Миха появился у бабки Любы два года назад, а может, и три, она точно не помнит.
У председателя окотилась белая с чёрным хвостом кошка. Митьке было приказано утопить котят. Он сложил котят в корзинку, вышел из дому и сделал вид, что направляется к озеру. Но за домом он круто свернул и огородами побежал к бабке Любе.
Вначале бабка Люба наотрез отказалась взять котят. Митька уверял её, что его котята самые умные, самые красивые и что таких ещё на свете не было, и если бабка возьмёт себе котят, то она осчастливит себя на всю жизнь. Наконец, когда Митька пообещал носить для котят каждый день крынку молока, бабка Люба сдалась и взяла их. Бабка Люба мало рассчитывала на крынку молока и котят взяла из уважения к Митьке. Митька — сын председателя колхоза. Сколько председатель ей сделал добра!
Но бабка Люба оставила только одного чёрного котёнка и назвала его Михой.
Миха любил играть с бабкиным клубком, умел ловко ловить тараканов, и бабка Люба наглядеться не могла на желтоглазого шалуна. Но чем больше Миха подрастал, тем больше бабка печалилась. Из шаловливого котёнка Миха превратился в чёрного огромного кота, хитрого ворюгу. Ел он всё: и суп, и картошку, и пареную брюкву, и, к ужасу бабки, не наедался. А потом вдруг неожиданно исчез на всё лето и вернулся только глубокой осенью. Всю зиму Миха безобразничал и обижал бабку, а весной опять пропал…
Попросив у бога себе долгой жизни, а Михе смерти, бабка Люба успокоилась. Из щелей выглядывали косоглазые тараканы, свирепо шевеля усами.
Бабка Люба затопила печку, достала из-за окна пол бараньей головы с сердцем, положила на стол и долго любовно ощупывала и переворачивала мясцо. Потом взяла топор и разрубила голову пополам. Одну половину положила в чугунок, залила водой и поставила в печку. Другую — вместе с сердцем опять спрятала между рамами. Из жёсткой экономии бабка решила отказаться от тушёной картошки.
Когда печка истопилась, в избушке стало тепло, как в бане, и пахло супом с бараниной. Тараканы-прусаки ошалело носились по стенам, по лавке, храбро разгуливали по столу. «Кыш, кыш, проклятые!» — крикнула бабка Люба и, взяв тряпку, смахнула их на пол. Потом стала накрывать стол. Поставила крохотную миску и рядом положила ложку, вытащила из печки чугунок с супом. Когда она сняла крышку с чугунка, в нос ударил такой пар, что у бабки зашевелились ноздри и закружилась голова. Вынув из супа бараний черепок, она стала тщательно счищать с него мясо. Когда кость стала чистой и гладкой, бабка её облизала и опять положила в чугун. Мясо раскрошила и тоже положила в суп. Потом, всё смешав, подцепила полповарёшки и вылила в миску. Миска была почти полная. Однако бабка почерпнула ещё немножко и заполнила миску до верхней кромки. Это было много, слишком много, бабке хватило б полмиски, но уж сегодня был такой день. Потом она достала из горшочка кусочек хлебца, который хранился там от тараканов, и села обедать. Тараканы, на миг присмиревшие, вдруг как по команде ринулись на стол.
— Кыш, изверги! — прикрикнула на них бабка Люба и, подцепив ложку супа, хлебнула. «Вот это суп! Такого я, кажется, сто лет не ела!» — подумала бабка.
Тараканы наседали со всех сторон, они смотрели бабке в рот и ждали, когда она уронит крошку или капельку супа. От нетерпения они не только трясли усами, но и подпрыгивали. Бабка Люба держала хлеб крепко. Она знала, что стоит ей положить хлеб на стол, тараканы гуртом набросятся на хлеб и утащат. Поэтому она была настороже и ела очень аккуратно. Всё-таки один кусочек хлеба выпал из её беззубого рта. Находившийся рядом рыжий прусак схватил кусочек и бросился с ним наутёк. Наперерез ему ринулась орда тараканов. Они опрокинули прусака, отняли хлеб и организовали кучу малу. А сбитый прусак лежал на спине и беспомощно сучил лапками.
— Ишь ты, тоже жрать хотят, животные, — усмехнулась бабка Люба и вылила на стол ложку супа.
Суп был очень сытный, и бабка Люба объелась. Она почувствовала такую слабость и головокружение, что у неё не хватило сил прибрать стол. Откинувшись к стене, бабка прямо за столом задремала. Этого только и ждали прусаки. Они в три слоя облепили миску и в один миг вылизали её до блеска. Убедившись, что больше им ничего тут не обломится, расползлись по щелям и ещё долго о чём-то возбуждённо шуршали. А бабка Люба легонько похрапывала, и в носу у неё посвистывало.
Когда она проснулась, то день из белого стал серым. В углах избы сгустилась темень, предметы потеряли свои очертания, печка расползлась по всей избе и походила на огромное грязное пятно.
Бабка Люба вздохнула и, вспомнив, что в коптилке догорела последняя капля керосина, забеспокоилась.
— Эх, ведь старая тетеря. Голова-то совсем уже не соображает, — бормотала бабка, разыскивая бутылку. Потом она влезла в свою шубу и, закрыв избушку на два висячих замка, взяв палку, потащилась искать керосину для коптилки.
Глава III. Зима приходит в лес. Миха уходит в деревню. Радость вороны. Встреча с уткой. Переправа через речку Гуляйку. И прочие неприятности, случившиеся в этот день с чёрным котом Михой
Накануне моросил мелкий противный дождь. Миха отлёживался в дупле старой осины. Дупло было и широким, и сухим, и даже удобным: по крайней мере, Миха мог вытянуть лапы. В далёкие времена здесь жил дятел, потом белка, а когда лаз в дупло стал широким, поселилась сова. В один прекрасный весенний день Миха вытащил совушку из собственного дома, сожрал птицу и поселился в дупле сам. Так появился в этом светлом мирном лесу беспощадный смелый хищник. И не стало от него покоя бедным птицам и малым зверюшкам.
Во второй половине ночи ударил мороз, сковал землю, мокрые кусты обледенели, а бурая осока под осиной зазвенела, как стеклянная. Миха свернулся клубком и не мог уснуть до утра. С рассветом ещё больше похолодало. С севера поплыли чёрные тучи, полетел снег и летел беспрерывно весь день, завалил землю, опушил кусты и деревья белым холодным мохом. Наступила вторая ночь, а снег шёл и шёл. Миха с тревогой прислушивался к неясному шороху снежинок, который способны уловить лишь чуткие уши кота.
К утру третьего дня снег перестал сыпаться. Тусклый свет с трудом пробивался сквозь тёмные тяжёлые тучи, от которых белизна земли, запорошённые лапы елей, жидкие макушки сосен под пушистыми шапками даже при свете этой унылой зари блестели ослепительно.
Миха высунулся из дупла, и его жёлтые, как солдатские пуговицы, глаза невольно зажмурились. Потом Миха спустился на землю и увяз в снегу. Его круглая, словно ком шерсти, голова завертелась на снегу и напугала ворону. Ворона сидела на макушке ёлки. Ёлка, которую ворона выбрала себе для отдыха, походила на пилу: лапы у неё росли только с одной стороны. Ворона не заметила, как Миха вылез из дупла, и теперь с удивлением разглядывала шевелящийся на снегу чёрный комок.
— Кра-а-а?! — прокричала ворона громко и пронзительно.
Миха сделал невероятно высокий и длинный прыжок. Пролетев метров пять по воздуху, он уцепился за ствол упавшей берёзы, отряхнулся и покосился на ворону. Она не обращала на него никакого внимания и спокойно чистила клювом перья.
Зима?.. Надо отправляться в деревню. Миха повертел головой, потом хвостом и жалобно мяукнул. Идти в деревню ему очень не хотелось. Что там его ждало? Ничего хорошего. Жизнь впроголодь, вот что. Однако другого выхода не было.
Миха поточил о бревно когти, выгнул спину и, подняв хвост, пошёл в деревню. Ворона снялась с ёлки, пролетела над Михой и уселась на ольху. Она внимательно следила за котом.
Миха, казалось, не шёл, а плыл по снегу. Снег был хоть и глубокий, но рыхлый, как пух.
Миха не торопился. Да и куда торопиться? Кто его ждал в деревне? Он брёл тихо, часто останавливался, озирался и удивлялся, как изменился до неузнаваемости этот лес, в котором он знал всё, до единого кустика с кочкой. Вот камень, обросший жёстким, как щетина, коричневым мхом. Весной под ним какая-то крохотная зеленогрудая пичужка свила гнездо. Миха набрёл на гнёздышко, когда в нём было пять крохотных неоперившихся птенцов. Они, открыв свои огромные жёлтые рты, удивлённо смотрели на кота. Миха тоже на них смотрел и ухмылялся. Есть ему вовсе не хотелось. Он недавно задрал здоровенного крота. Миха просто так, из любопытства, накрыл лапой гнездо, а когда поднял лапу, то на когтях повис маленький птенчик. Миха поднёс его к усам, понюхал и… проглотил. Такой способ еды показался коту очень забавным. И он стал подцеплять птенцов одного за другим и отправлять их в рог. Когда птенцы были проглочены, Миха перевернул лапой гнездо. Прилетела зеленогрудая птаха, отчаянно заверещала, заметалась, как полоумная. А Миха, растянувшись около камня, блаженно щурил глаза и постукивал хвостом.
А теперь камень завалило снегом, и он походил на огромный кусок сахара. Под ним в это время вряд ли б стала прятаться даже мышь. Но Миха всё-таки обошёл его кругом, обнюхал, жалобно мяукнул:
— Зима! — и пошёл дальше. Ворона тоже снялась с ольхи и, залетев вперёд, уселась на осину. В лесу тихо, тепло, деревья отряхиваются, снег оседает, начинает линять. Высунулся из-под снега серый пенёк, показалась чёрная головка засохшего колокольчика, словно обугленная, торчит крапива. Ярко-зелёный можжевельник сдвинул набекрень белую высокую папаху.
Из-под носа кота выпорхнул рябчик. Миха испуганно вздрогнул и проводил рябчика злым голодным взглядом.
На окраине леса плотно, как забор, стоял молодой ельник. Совсем недавно в этом ельнике Миха задрал тетерева. Кот был голодный и в один присест сожрал птицу. Потом его тошнило и рвало от обжорства.
Миха и сейчас забрался в ельник, долго там сидел, что-то выглядывая, что-то вынюхивая, к чему-то прислушиваясь. А ворона в это время чучелом торчала на обгорелой сосне и тоже чего-то ждала. Неподалёку от вороны лакомились мороженой рябиной дрозды и так хвастливо трещали, как будто слаще рябины на свете ягод нет. На берёзе тетерева в глубокой задумчивости обклёвывали почки.
Миха вылез из ельника и оказался на краю ровного заснеженного поля. Оно было так бело и так резало глаза, что жёлтые Михины пуговицы уменьшились в пять раз и теперь походили на крохотные бусинки.
На противоположном конце поля сгрудились грязно-серые облака и придавили к земле маленькую деревушку. Что-то там ждёт кота? От тоски у Михи сжалось сердце и уныло повис великолепный чёрный хвост. Волоча хвост по снегу, Миха потащился в деревню. Ворона камнем свалилась с сосны, пронеслась над Михой, чуть ли не задевая крылом, потом взмыла вверх и, радостно крича: «Кр-а-а! Крра-а-а!» — полетела над лесом. Она несла радостную весть пернатым, что бандит кот Миха ушёл в деревню.
Вначале Миха плёлся, как говорят, нога за ногу, потом прибавил шагу, потом побежал трусцой и, наконец, припустил со всех ног и бежал так быстро, насколько это позволяли ему четыре лапы. Около ржаной скирды он присел отдохнуть и почиститься. Почистившись, Миха стал напряжённо прислушиваться: «Авось зашевелится мышь». Он был так голоден, что у него кружилась голова и перед глазами плавали жёлтые кольца. Но мыши, почуяв запах кота, замерли. Полчаса Миха сидел не шелохнувшись, но так ничего и не высидел.
Кот презрительно фыркнул и побежал в деревню. Он бежал по засыпанной снегом стерне, острые ржаные стебли кололи ему лапы. Михе было очень больно, но он бежал, бежал и бежал. На озимом поле кот увидел множество заячьих следов, но он не обратил на них никакого внимания, бежал и бежал.
Наконец Миха добежал до реки Гуляйки и остановился. Там, где раньше был мост, теперь торчали заплывшие грязью и тиной столбы. Около столбов, как в воронке, крутилась вода, и показалась она Михе чернее дёгтя.
Ничего другого не оставалось, как форсировать речку вплавь. Будь на месте кота собака, она бы ни секунды не задумалась и давно б была на том берегу. Да и что за река Гуляйка! Горе, а не река! Но Миха был кот, плавал кое-как и очень боялся воды. Он спустился к реке, окунул лапу и тотчас её выдернул. Миха закричал тоненьким жалобным голоском. Но никто не откликнулся. Тогда Миха заревел требовательно и зло. Он ревел долго. Впрочем, если б кто и увидел Миху, то всё равно не помог бы ему. Миху ненавидели все: и звери, и птицы, и люди — за подлость, воровство и жестокость. Это Миха отлично знал и ревел не потому, что надеялся на помощь, а от отчаяния.
Наревевшись до хрипоты, Миха пошёл искать переправу. Он рассчитывал найти бревно, перекинутое с берега на берег, или просто упавшее дерево. Прошёл километр и увидел чирка. Он плавал в небольшой заводи. Инстинкт охотника и голод в один миг овладели Михой. Он лёг на живот, завертел хвостом и пополз к воде. Берег густо зарос осокой. Услышав шорох травы, чирок встрепенулся, захлопал крыльями, но, пролетев метра три, опять сел на воду. У чирка было перебито крыло. Усевшись на берегу, Миха стал жадно следить за ним. Чирок теперь спокойно плавал по заводи и даже один раз подрулил к Михе. Миха задрожал, сунул в воду лапу и сразу же её выдернул. Ему показалось, что он потрогал раскалённое железо.
Миха пробежал ещё с километр. Начало темнеть и подмораживать. Снег стал острым, и ходить по нему босиком было не так уж приятно. А сапог у Михи не было потому, что кот он был не волшебный, а обычный, гладкий, короткошёрстный. За лето в лесу он отъелся, и шерсть на нём блестела и переливалась, как хорошо начищенные сапоги.
Наступил вечер, а Миха всё ещё топтался на противоположном берегу реки. Небо неожиданно очистилось от облаков. Там, где солнце садилось за серую воздушную гору, играли три цвета: голубой, зелёный и розовый. А над Михой небо было тёмно-синее, и в глубине этой синевы уже появились звёзды.
Река в этом месте была узкая, не больше шести метров. Вода текла стремительно и бурлила. Миха изготовился, то есть присел на задние лапы, сжался, как пружина, и прыгнул.
Прыжок получился великолепный. Миха не долетел до берега всего полметра, плюхнулся в воду и камнем пошёл на дно. Вынырнув, он закричал: «Мауау!» Стремительное течение подхватило Миху и понесло… На повороте его прижало к ольховому кусту. Миха вцепился в куст. Выскочив на берег, он долго старательно отряхивался и фыркал, а потом во все лопатки пулей полетел в деревню к бабке Любе.
Глава IV. Миха возмущён. Труды и награда. Бой у печной трубы. Миха выигрывает сражение. Бабка Люба плачет. Перемирие. Бабка Люба засыпает и видит cчастливые сны
Если бы не речка Гуляйка, Миха наверняка бы успел к обеду. Подбежав к дому, он увидел на дверях огромный замок.
Замок Миху не испугал. Ему было просто смешно. От него, Михи, на замки закрываться?! Вот глупость! Да зачем коту вообще дверь, когда есть отличная дырка в подполье. Но каково же было возмущение Михи, когда эта дырка оказалась заткнутой соломой.
Миха взревел и, подняв хвост палкой, побежал вокруг дома. Он обежал его два раза, потом обошёл медленно, всё обнюхал и ощупал. Никаких надежд попасть в избу. В одном месте он обнаружил щель, но она была настолько узка, что с трудом пролезала лапа. А коту надо было просунуть голову.
Миха вернулся к дыре, заткнутой соломой, и завыл от обиды. Ревел долго, то горестно, то злобно. Когда же ему надоело реветь, принялся драть когтями солому. Работал Миха быстро и ожесточённо. Наконец ему удалось раскачать соломенную пробку, он упёрся в неё головой и вытолкнул в подпол. За ней проник туда и сам. Но тут его поджидал новый удар. Кошачий лаз в избу бабка завалила дровами. Отчаяние придало Михе силы, и он лапой расшвырял дрова. К счастью, их было немного: всего три полена.
В избе пахло бараниной. Миха завертел головой, глаза у него округлились, и он, как ошалелый, заметался из угла в угол. Бараний запах привёл его к печке. Он вскочил на шесток и лапой ударил по заслонке. Заслонка загудела — Миха замер. Никакого сомнения — запах полз из печки. Миха обеими лапами забарабанил по заслонке, потом навалился на неё и стал драть когтями. Заслонка с грохотом опрокинулась и больно стукнула Миху по носу. Кот соскочил с шестка, забился под лавку и стал наблюдать. Заслонка не шевелилась. Тогда Миха опять прыгнул на шесток и сунул голову в печку. Но там было так жарко, что у Михи на затылке шерсть зашевелилась.
Пять раз Миха совал в печку голову и пять раз её оттуда выдёргивал. Жара надёжно охраняла бабкин суп с бараниной. Кот стал бесцельно шляться по избе. Рыжие прусаки таращили на него глаза и громко шуршали. Миха подцепил одного когтем, попробовал на зуб, с омерзением выплюнул. Он был ещё не настолько голоден, чтоб жрать тараканов, однако знал, что со временем и до тараканов доберётся, живя с бабкой Любой, но только не теперь. Под великолепной чёрной шкуркой у Михи находились личные запасы: толстый слой жира.
— Мышку, маленькую, мяу, мяу, серую, мягонькую, мяу, мышку!! — простонал он и, притаившись, стал ждать: авось зашевелится где-нибудь в углу. Надежды кота были совершенно напрасны. В бабкиной избе мышам делать было нечего. А если бы какая-нибудь по своей глупости здесь жила и даже бы шевелилась, Миха всё равно бы не услышал. Прусаки шумели так, как будто в избе перетряхивали сено.
Неожиданно глаза Михи остановились на окне. Мясо! Да неужели? Миха закрыл глаза и вновь открыл.
Мясо. Самое настоящее, свежее мясо!
Миха вскочил на подоконник и носом уткнулся в стекло, потом легонько постучал лапой, потом поскрёб когтями, потом навалился на него всем телом. Стекло с честью выдержало Михин вес. Тогда Миха спрыгнул на пол, забегал по избе кругами, набирая скорость, и вдруг ринулся на окно. Стекло не выдержало удара Михиной головы и со звоном рассыпалось.
Облитое жиром сердце Миха уничтожил в каких-нибудь пять минут и принялся за голову.
Поужинав, кот умылся, почистился и махнул на печку. Печка у бабки Любы была отменная. На ней могли спать сразу пять человек, а если потеснятся, то и все десять улягутся.
Миха выбрал место потеплее, у трубы, улёгся на голенище драного валенка, блаженно вытянул лапы и закрыл глаза. Кот не страдал бессонницей, как бабка Люба, и уснул мгновенно. Но и о снах он тоже не имел никакого понятия и просыпался от малейшего стука.
Когда в сенях хлопнула дверь и зашаркали валенки, Миха уже был начеку: хвост у него дрожал, а глаза горели.
Бабка Люба перевалилась через порог и, не снимая шубы, проковыляла к столу, заправила коптилку керосинцем, засветила её. Жёлтое пятно света упало на стол, и прусаки бросились от него во все стороны. Сняв шубу и повесив её на костыль, бабка села передохнуть.
Отдохнуть бабке Любе не пришлось. Она увидела валявшуюся на шестке заслонку и подивилась, почему она упала. Бабка Люба встала, поставила заслонку на место и опять хотела сесть. Но тут ей под ноги попался кусок бараньей головы.
— Кто же его на пол бросил? — спросила неизвестно кого бабка Люба и посмотрела на окно. Тут она охнула, ноги у неё подкосились — и старуха бессильно опустилась на скамейку. С минуту она сидела не шевелясь, тупо глядя в одну точку, потом её глаза встретились с латунными глазами кота.
— Пришёл, фашист проклятый? — спросила бабка.
— Ур-р-лы, — отозвался Миха.
— Ах, ты, мазурик черномазый. Ну, погоди, я сейчас тебя. Вот я сейчас тебя…
Бабка Люба схватила берёзовое полено и полезла на печку. Миха выгнул спину, прижался к трубе.
— Вот тебе, вот тебе, фашист проклятый, — тыкала бабка Люба Миху поленом, — вот тебе, вот тебе, бандит, ворюга.
Миха отмахивался лапой, ловко увёртывался, злобно шипел и фыркал. Бежать не было возможности. Бабка Люба заткнула собой лаз на печку, как пробкой. Конечно, можно было броситься на старуху и разодрать ей когтями лицо. Но Миха почему-то не решался.
Полено загнало Миху в угол. Миха заревел. Старуха лупила его изо всех сил по чему попало. А Миха орал. Наконец бабка Люба устала.
— Пошёл вон, пакостник. Что я тебе говорю? — закричала на него старуха.
Миха отряхнулся и спокойно улёгся у трубы на валенок. Бабка Люба опять взяла полено, но уже поднять его не смогла. У плеча нестерпимо ломило руку. Старуха заплакала. Плакала она горько, по-детски всхлипывая, причитая тоненьким голоском:
— Что же теперь моей бедной головушке делать?..
А Миха, насмешливо прищурив глаза, весело мурлыкал. Наплакавшись вдоволь, бабка Люба стала мыть баранью голову. Миха её только обкусал да обслюнявил. Ведь не собака же он. Собаки мастера глодать кости. А коты этому делу плохо обучены.
Бабка вымыла кость, положила её в чугун. Чугун накрыла сковородой, а сверху поставила утюг, который тридцать лет ничего не делал. Потом бабка Люба в компании прусаков похлебала супцу, задув коптилку, забралась на печку и накрылась шубой…
До полуночи бабка Люба думала, как ей избавиться от кота.
— Надо убить Миху, — решила она. — Но как? Самой мне с ним не справиться. В деревне одни бабы. Неужто они пойдут ловить кота. У них и своих дел по горло. Разве что ребятишкам сказать. Конечно, ребятишкам, — рассуждала бабка Люба, — завтра скажу Стёпке Коршаткину. Бедовый парень. Он пакостника поймает, посадит в мешок и в реке утопит. Только бы кот не сбежал до утра, — забеспокоилась старуха. — Ей-ей, сбежит, мазурик. Надо дырку заткнуть поленом.
Бабка Люба сползла с печки и заткнула поленом кошачий лаз.
Приняв твёрдое решение утопить Миху, старуха успокоилась и даже повеселела. А повеселев, протянула руку и стала гладить Миху. Миха зажмурился от удовольствия и затянул своё бесконечное «урлы-урлы-урлы».
— Ишь какой гладкий, мазурик. А шерсть-то мягкая, густая, тёплая, — говорила бабка, ощупывая Миху. — А ведь из шкурки-то можно рукавицы сшить. И впрямь почему бы мне не сшить рукавицы? — Бабка Люба задумалась. — А не получатся рукавицы, так шкурка в хозяйстве сгодится. Пусть мне Стёпка кота убьёт, а потом я отнесу его Тимофею Глухому. Тимофей мне обдерёт кота. Он же был охотником и зайцев-то небось не раз обдирал.
Тимофей Глухой жил на другом конце деревни. Хоть он считался моложе бабки Любы, но выглядел на десять лет старше. Тимофей даже позеленел от старости и походил на изжёванный махорочный окурок, в котором табаку оставалось всего лишь на одну затяжку.
— Снесу, снесу Тимофею, — шептала бабка, ласково поглаживая Миху.
Когда бабка Люба, измученная мечтами о тёплой мягкой котовьей шкурке, уснула, Миха спрыгнул на пол, подошёл к дыре и попытался вытащить полено. Но оно засело в дыре намертво. Миха махнул хвостом, забрался под стол и там напакостил.
Потом Миха долго ходил около чугуна, в котором лежала недоеденная баранья кость. Он пытался свалить чугун. Но утюг не позволил. Он с такой силой давил на чугун, что когда Миха ударил его головой, то чугун даже не покачнулся. Свою службу утюг нёс добросовестно, старался изо всех сил, вероятно, чтоб оправдать своё тридцатилетнее безделье.
А бабка Люба ничего не слышала. Ей снился удивительный сон: она молодая, красивая, здоровая, идёт по деревне, и на руках у неё тёплые красивые меховые рукавицы, и все ей завидуют.
Проснулась бабка от страшного грохота. Она сжалась под шубой и замерла.
«Неужто немцы подошли к деревне и из пушек палят? — подумала бабка и перекрестилась. — Господи, прими меня к себе, грешную. Вот сейчас вдарит — и конец мне, отмучилась». — Бабка Люба вытянулась под шубой, готовая безропотно встретить смерть на собственной печке.
Прошла минута, вторая, третья — бабка ждала. Тараканы, напуганные грохотом, сперва присмирели, потом начали потихоньку шушукаться, потом выползли из щелей и забегали по стенам. А бабка Люба, вытянув ноги и сложив на груди руки, ждала смерти. Вдруг она услышала ворчанье. Старуха высунула из-под шубы голову. Теперь не только кто-то ворчал, но и постукивал. Бабка Люба, набравшись храбрости, свесила голову с печки.
На полу валялся опрокинутый чугун. Около него Миха обгладывал баранью голову, сердито поглядывая на старуху.
— Фашист ты проклятый, — простонала бабка и запустила в Миху валенок. Валенок угодил в чугун. Миха подпрыгнул и, схватив кость, бросился под стол.
Бабка Люба сползла с печки, взяла кочергу и принялась ею шуровать под столом. Миха с костью в зубах вылетел на середину избы и махнул на печку. Старуха за ним. Миха с печки опять под стол.
Побегав с кочергой за Михой, бабка Люба устала и, сев на табуретку, заплакала. Однако на этот раз она плакала недолго, только всплакнула чуть-чуть. Потом заторопилась, стала надевать шубу и, погрозив Михе пальцем: «Ну, погоди, мазурик!» — хлопнула дверью.
Обмусолив голову, Миха только раздразнил аппетит и, бросив возиться с костью, забрался в печку, а там доел бабкин суп. И, конечно, не наелся. Но больше в избе ничего не было, ни крошки. Дверь была плотно закрыта, дыра под печкой заткнута поленом. Оставалось одно — окно. Миха, недолго раздумывая, вышиб головой стекло и выскочил на улицу.
День был обычный, серый и холодный. Снег жёсткий и тоже холодный. На кустах калины сидели, нахохлившись, красногрудые снегири. Они равнодушно смотрели на Миху, как будто ему до снегирей никакого не было дела. У Михи, конечно, горел на них зуб, но охотиться зимой за снегирём — это всё равно что ловить журавля в небе.
Тут Миха вспомнил о диких голубях, которые жили в колхозной шоре…
Когда бабка Люба привела Стёпку Коршаткина с Пугаем убивать кота, в избе было так же холодно, как и на улице.
Тараканы, спасаясь от мороза, густо сидели на печке, словно пчёлы на сотах.
— Ты, бабушка, оставь на всю ночь открытыми окно с дверью, и тогда все тараканы замерзнут, — посоветовал Стёпка.
Старуха ответила, что она весь свой век прожила с тараканами и они ей ничего плохого не сделали.
— А вот Миху ты мне, Стёпушка, пореши. Я тебе за это гостинец дам, — пообещала бабка Люба.
— Ладно, мы его с Митькой Локтем укокошим как пить дать, — заверил Стёпка и покосился на бабкин сундук. «Наверное, гостинцы в нём прячет». Однако он не спросил об этом бабку Любу, а только подумал да намотал себе на ус.
Глава V. Страдания Митьки Локоткова и радости Стёпки Коршаткина. Пугай помазывает фокусы. Разговор о смертельном убийстве. Митька уговаривает Стёпку отмазаться от преступления, а потом пытается всучить ему перемёт без крючков. Радостная весть. Митька ищет шапку. Поездка на станцию за галошами
Митька Локоть, упираясь пятками в потолок, лежал на печи. От жары лицо у него покраснело, от слёз опухло и напоминало мокрый помидор. Митьку скребла тоска. Мать пообещала засадить его на весь день с плаксивой Нюшкой. Свою угрозу привела в исполнение немедленно, спрятала полушубок и валенки под замок в сундук.
И во всём виноват Стёпка Коршун. «Пойдём на озеро налимов глушить», — Митька передразнил Стёпку. А там и лёд-то всего полсантиметра. Вот и наглушились. Колотушку утопили и чуть сами не утонули. Ребята опять на озеро пойдут. А лёд, наверное, за ночь стал толстый. Вон какой морозище. Даже стёкла на окнах побелели, — сердце у Митьки так заколотилось, что он не сдержался и закричал:
— Не буду качать Нюшку! Пусть до смерти заревётся. Не буду! Не буду!
— Не качай. А на улицу всё равно не пойдёшь, — спокойно ответила мать. Елизавета Максимовна гремела кочергой, вытаскивая из печки пироги. По избе расползался густой запах печёной картошки и пареной капусты.
— Можешь не давать мне пирогов. Всё равно есть не буду, — пригрозил Митька.
— А я и не собираюсь. Не заслужил ещё, — сказала мать.
У Митьки перехватило дыхание, и только поэтому он не заревел.
— Вот погоди, приедет папка с войны. Всё расскажу, как ты надо мной издеваешься, — заявил Митька.
Елизавета Максимовна неожиданно вскочила на печку, сгребла рукой Митькин лохматый чуб и приподняла голову.
— Вот что, Дмитрий Кириллыч, на той неделе пойдёшь в школу. А то совсем ошалеешь от баловства.
— Опять в четвёртый класс? — насмешливо спросил Митька.
— А что делать, если пятого в нашей школе нет?
— Не пойду. Все ребята дома будут сидеть, а я в школу. Не пойду, — решительно заявил Митька.
— Пойдёшь. И ребята пойдут. А то за войну и буквы забудете, — Елизавета Максимовна вздохнула и сказала сама себе: — Надо об этом с бабами поговорить. А то совсем ребятишки от рук отобьются.
Мать надела полушубок, накинула на голову платок.
— Ма-а-а! Дай валенки, — заныл Митька.
— Сиди дома, смотри за Нюшкой, — безжалостно сказала мать и хлопнула дверью.
После ухода матери стало ещё тоскливее. Митьку расстроил разговор о школе.
Он не любил учиться и в школу ходил потому, что так хотели родители. Всё-таки Митька осилил четыре класса и перешёл в пятый вместе с Коршуном, братьями Врунами, Колькой Лаптем и Лилькой Махониной. Васька Самовар остался на второй год. В Ромашках была начальная школа, а десятилетка в большом селе Раменье, в семи километрах от их деревни. Там учились ромашкинские ребята с пятого по десятый класс. До войны ребят возили в Раменье на лошадях. Но вот началась война, в колхозе осталось всего две лошади, а жизнь стала в десять раз тяжелей. Делать было нечего, и, чтоб ребятишки не бездельничали, матери решили: «Опять ходить в четвёртый класс». Но мальчишки наотрез отказались: «Вот ещё придумали. Что мы, второгодники?» Истинный второгодник Васька Самовар тоже не стал учиться, заявив своей матери: «А я что, рыжий?..»
— Не пойду. Назло не пойду, — клялся сам себе Митька, стуча ногами в стену.
Митька по опыту знал: если матери что взбредёт в голову, она обязательно настоит на своём. Недаром она после отца стала председательшей.
Митька сполз с печки, босой походил по полу, полизал лёд на окнах. Заревела Нюшка. Чтоб развлечь её, Митька поймал кошку и привязал ей к хвосту бумажный бант. Кошка вертелась волчком, лизала хвост и злыми глазами смотрела на Митьку. Потом Митька раскрыл книжку и стал разрисовывать «Лягушку-путешественницу». Уток он переделал в чёрные аэропланы, а лягушку в зелёный пузатый огурец с красными лапами.
— Что бы ещё такое сделать? — Митька задумался. — А кролики-то голодные сидят, — вспомнил он.
Митька разыскал на печке отцовские шубные рукавицы, пришил к ним верёвочки и стал натягивать на ноги. В это время раздался собачий лай, стукнула калитка, через минуту дверь отворилась, вместе с клубами холодного пара в избу ворвался здоровенный пёс Пугай и сразу же бросился под стол, а за ним через порог перевалился похожий на деда-мороза Стёпка Коршун.
— Дверь закрывай. Выстудишь избу! — закричал на него Митька.
Стёпка сдвинул шапку на затылок и топнул ногой.
— Пугай, ко мне!
Пугай вылетел из-под стола, лизнул Стёпкин мокрый нос и покорно уселся около его ног. Вислоухий кобель был полугончая, полудворняга, полурыжий, полубелый, наполовину умный и наполовину абсолютный дурак. Иногда взгляд его больших печальных лиловых глаз был настолько умным, что казалось, он читает мысли человека. А через минуту Пугай вдруг ни с того ни с сего принимался гоняться за своим хвостом и прыгать, как сумасшедший. До войны хозяином Пугая был Васька Тракторист. Василий ушёл на фронт и заколотил досками свой дом, Пугай остался без хозяина, долго побирался, пока его не приютил Стёпка Коршаткин. За это Пугай предан Стёпке, как настоящая собака.
— Дай кусочек хлебца, — приказал Стёпка.
— Зачем?
— Сейчас увидишь.
При виде хлеба Пугай чуть не сбил Митьку с ног.
— Тубо́! — заревел Стёпка.
Пугай упал на пол и закрыл лапами голову, словно ему было ужасно стыдно.
— Положи ему хлеб под нос, — приказал Стёпка.
Митька положил, Пугай рванулся к хлебу и в ту же секунду Стёпка с размаху ударил его по голове кулаком.
— Тубо́!
Пугай лёг и трусливо завилял хвостом.
— Зачем ты его так. Ему же больно, — сказал Митька.
Стёпка с презрением посмотрел на товарища.
— А как же, по-твоему, надо учить собак уму-разуму? По головке гладить? Кто гладит собак, тот их портит, — солидно произнёс Стёпка и щёлкнул языком. — Умный пёс, как человек, только не разговаривает. А ну-ка положи ему хлеб на нос.
Митька положил хлеб собаке на мокрый нос. Пугай даже не повёл глазом.
— Пиль! — крикнул Стёпка.
Пугай подбросил хлеб и, лязгнув зубами, ловко поймал его на лету.
— Молодец, — похвалил Стёпка.
Пугай радостно взвизгнул и пустился ловить свой хвост.
— Ай-ай-яй! Такой умный пёс, а ведёт себя, как настоящий дурак, и не стыдно? — спросил Стёпка.
Пугай запрыгал, повалился на пол и стал кататься. Стёпка топнул ногой.
— Лечь и не шевелиться! А то… — и Стёпка выразительно погрозил Пугаю пальцем.
— Коршун, а что такое «тубо»?
— Нельзя.
— А пиль?
— Взять.
— А откуда ты всё это знаешь? — удивился Митька.
Стёпка наморщил лоб и с достоинством ответил:
— Заведёшь собаку, не то узнаешь, — и добавил как бы между прочим: — В книжке вычитал. — Стёпка сел, снял шапку, похлопал ею по колену. Коршаткин — приземистый, крепко сложённый мальчик, веснушчатый, как галчиное яйцо. У Митьки лоб высокий, лицо чистое, а глаза ясные, добрые. У крутолобого, с хитрыми глазами Стёпки уже проглядывает воля и характер. Себя он считает старше и умнее Митьки по крайней мере лет на десять. В Ромашках он то атаман, то генерал, то ещё какой-нибудь важный начальник над мальчишками. Его и боятся, и уважают, и не очень любят. Хотя товарищ Стёпка отличный.
— А я к тебе, Локоть, по важному делу, — солидно начал Стёпка. — Одевайся. Идём кота Миху убивать. Вчера он вернулся из лесу, сожрал у бабки Любы всё мясо, разбил стекло и напакостил под столом. Бабка Люба приходила к нам, плакала и на коленях просила меня убить Миху.
— Ну, уж на коленях. Ври больше, — усмехнулся Митька.
У Стёпки потемнели глаза.
— Конечно, просила. Мамка тоже говорит: надо его прикончить, а то в деревне от него спасения не будет. Идём? И Пугай с нами.
Услышав своё имя, Пугай дёрнулся, но Стёпка погрозил ему кулаком.
— А как же мы его убивать будем? — спросил Митька.
Стёпка почесал затылок.
— Топором по голове — и шабаш ему. А то можно Пугаем затравить. Только бабка просила шкурку ей оставить. В общем, убивают котов по-разному, как придётся, так и убьём, — решительно заключил Стёпка и надел шапку.
Локоть покосился на сундук, в котором под замком лежали полушубок с валенками, и сказал:
— А может, бабка Люба нарочно наговорила. Откуда у неё мясо?
— Тю-у-у! — удивлённо протянул Стёпка и показал на Митьку пальцем. — Кто позавчера баранью голову носил?
— Ну, носил, носил. А может, она сама её съела, а теперь на Миху валит.
— Бабка Люба врать не будет. Ты и сам это знаешь, — отрезал Стёпка.
Признаться приятелю, что у него валенки под замком, Локтю было до слёз стыдно, да и разбойника кота он жалел.
— Из-за какой-то бараньей головы убивать такого красивого кота. Так только фашисты делают. — Митька горестно вздохнул.
Стёпка махнул рукой.
— Фашисты ещё почище делают. Они с живых людей сдирают кожу, а потом из неё шьют рукавицы. А Миху я всё равно убью. Вредный кот. Он живёт всё лето в лесу, разоряет гнёзда, жрёт птенцов и ловит птах. Если охотник увидит в лесу кошку, он обязательно её убьёт. Так в инструкции сказано, товарищ. Локотков.
— В какой инструкции? Откуда ты знаешь?
— Я всё знаю, — гордо заявил Стёпка и как бы между прочим добавил: — Мне глухой кузнец Тимофей говорил. А ты знаешь, какой он охотник. Один на медведя ходил.
Дед Тимофей действительно был знаменитый охотник на всю область. Митька вздохнул и умоляюще посмотрел на Стёпку.
— Давай ему на первый раз простим. А если он опять натворит такое, тогда и убьём.
Стёпка усмехнулся.
— Нашёл кому прощать, неисправимому бандиту.
— А может быть, он исправимый, — возразил Митька, — а потом, на первый раз всегда прощают. Помнишь, как ты в школе намазал девчонкам губы перцем? Небось забыл? — от удовольствия, что ему так ловко удалось поддеть Коршуна, Митька подпрыгнул и завертелся волчком.
Стёпка это хорошо помнит, ещё бы не помнить, тогда его батька порол вожжами.
Стёпка насупился и хмуро посмотрел на Митьку.
— Что же ты меня с чёрным котом сравниваешь? Я тебе кто — животное али человек? — грозно спросил он.
Митька, уважавший Стёпкины кулаки, испугался.
— Конечно, человек. Это я так, для примера сказал, а ты уже и обиделся.
Стёпка снисходительно буркнул:
— То-то же, а то смотри…
— А правда, Стёпа, давай на этот раз простим Михе, а? — Митька присел на корточки и заглянул в лицо товарищу. Оттянуть коту смерть он решил даже ценой собственного унижения. — Ну, я очень, очень прошу.
Это польстило Стёпке, и он самодовольно улыбнулся.
— Ладно уж. Подождём, когда он твоих кроликов слопает. Я и не знал, что ты такой жалостливый мужик, Локоть.
— Кто? Я жалостливый! — заорал Митька. — Да пойми же, у меня… — тут Митька прикусил язык и отвернулся.
Стёпка хлопнул приятеля по плечу.
— Ладно. Не обижайся. Айда на озеро.
— Не хочу, — сказал Митька так, словно ему и в самом деле не хотелось на озеро.
Стёпка ухмыльнулся.
— Знаю, как не хочешь. Наверное, матка опять валенки с полушубком в сундук заперла.
— Ну да, заперла! — Митька вспыхнул.
— Факт, заперла, — отрезал Стёпка.
Такого оскорбления Митька не выдержал.
— А тебя порют, всегда порют, — съязвил он.
Стёпка засопел, наглухо завязал шапку и двинулся к выходу.
— Коршун, Стёп, куда ты? Останься, — Митька схватил приятеля за рукав, — у меня интересная книжка есть. Ужасно интересная.
Митька забрался на печку и показал Стёпке «ужасно» интересную книжку.
— Залазь ко мне.
Стёпка в нерешительности потоптался и стал раздеваться. Валенки снять у него не хватило терпения. Они свалились сами, когда он, залезая на печку, подрыгал ногами. Пугай тоже полез за ним. Стёпка показал ему кулак. Но Митька вступился за Пугая, и ему тоже разрешили, погреться на печке.
Интересную книжку читали вслух. Читал Митька, потому что он умел читать, как артист, с чувством, с толком и выражением. Однако Стёпка слушал плохо.
— О чём ты думаешь, Коршун?.. — спросил Митька.
— Так, обо всём. О войне. У Витьки Выковыренного батю убили.
— В госпитале помер, — уточнил Локоть.
— Витькина матка ревела, как зарезанная. Мамка моя её всю ночь нашатырным спиртом отпаивала.
— Нашатырный спирт нюхают, — заметил Локоть, — а Витька что? Ты видел его?
— Видел, когда к тебе шёл. Стоял около своего дома в батькином пальто, словно поп. Пальто длинное, по снегу волочится.
Настоящая фамилия у Витьки была Семёнов, и в Ромашки он приехал из города как эвакуированный. Поэтому его и прозвали Выковыренный.
— У него такое горе, а мы зовём его Выковыренный, — вздохнул Митька.
— А кто его так прозвал? — спросил Стёпка.
— Я сказал нарочно. А вы, и рады стараться. Выковыренный, Выковыренный…
— Я могу тебе поклясться чем хочешь, что слово «выковыренный» ты от меня не услышишь, — заявил Стёпка.
— И я тоже, — сказал Митька.
После длительного молчания Митька сообщил:
— Мой батя тоже в госпитале. Мама говорит, хоть бы он там подольше полежал.
— А от нашего вторую неделю писем нет, — пожаловался Стёпка. — Мамка каждый день плачет. А я ей говорю, что папка не любит их писать. Правда, ужас как батя не любил писать. Я тоже не люблю. Наверное, характером весь в батьку пошёл, — не без гордости заявил Коршун.
Митька тяжко вздохнул.
— Мамка сказала, что в школу погонит.
— Тебя?
— Всех!
— Опять в четвёртый класс?
— Ага.
После глубокомысленного раздумья Стёпка поскрёб макушку.
— Раз она сказала — значит, погонит. Она тоже с характером.
— А я всё равно не пойду, — сказал Локоть.
— И я… — сказал Коршун.
— А Лилька Махонина пойдёт.
— Почему ты так говоришь? — спросил Стёпка.
— Она всегда была выскочкой.
— Не выскочкой, а отличницей, — веско заметил Коршун.
Митька, ехидно прищурясь, посмотрел на Коршуна.
— Чего это ты за неё так заступаешься?
Стёпка покраснел и поспешно заговорил о Ваське Самоваре.
— А Самовар сказал своей матке, что если она будет гнать его в школу, то он сбежит на войну.
Митька засмеялся.
— Самовар-то на войну! Брешет…
— Факт, брешет.
— Он же трус.
— Последний трус, — заверил Коршун.
На этом разговор оборвался. Митька принялся читать книжку про войну. Читал он старательно, на разные голоса. Но Коршун его не слушал. Митька обиделся и сердито спросил:
— О чём ты опять думаешь?
— О пушке, — спокойно ответил Коршун.
— Какой?
— Настоящей. Из которой можно камнями стрелять.
— Где ты её возьмёшь?
— Сам сделаю, — заверил Коршун. — Если б нашёл толстую резину, давно бы эту пушку сделал.
«Чепуху какую-то порет Коршун», — подумал Митька и сказал:
— Ничего-то ты не сделаешь!
— Сделаю!
— Много ты наделал, языком!
— Ты у меня сейчас схлопочешь. — Стёпка нащупал рукавицу и что есть силы хватил ею Митьку по голове.
— А вот и не больно! — заорал Митька и тут же хлопнул Стёпку другой рукавицей.
На печке стоял треск, словно кололи дрова. От пыли Пугай зачихал и с грохотом прыгнул на пол. Нюшка проснулась и заревела.
— Это всё из-за тебя, — сказал Митька.
— Сам больше орал, а на меня сваливаешь, — обиделся Стёпка и стал одеваться.
Митька испугался.
— Стёп, куда ты? Не уходи.
Стёпка пыхтел, натягивая пальто и завязывая у шапки уши.
Митька торопливо вытащил из-под лавки ящик, в котором хранилось всё его богатство: и рогатка, и разбитая радиолампа, и циферблат от ходиков с двумя стрелками, кусок медной проволоки, свинцовое грузило и… всего не перечислишь, здесь были даже бинокль без стекла и изолятор с телефонного столба. У Стёпки раздулись ноздри. Митька отвернулся от ящика и жалобно сказал:
— Бери всё, что хочешь.
— У меня и своего барахла некуда девать.
— Погоди, погоди, Стёп, — уцепился за него Митька, — у меня есть перемёт, он совсем новый.
— Да, новый!.. Половины крючков не хватает.
— А ты привяжешь свои — и будет как новый, — горячо убеждал Митька. Он готов был отдать Стёпке последнюю рубашку, чтоб только Стёпка остался. Но в это время вошла Елизавета Максимовна. Увидев Пугая, который, высунув язык, лежал около люльки, она поморщилась.
— Сколько я вам говорила, чтоб в избу собаку не пускали. Когда же вы будете слушаться?
— Да мы, мама… — заныл Митька.
— Ладно уж. Не время с тобой разбираться. Сейчас на станцию поедешь с тёткой Груней, — сказала Елизавета Максимовна и, открыв сундук, бросила Митьке валенки с полушубком. У Митьки от радости чуть не лопнуло сердце.
— Зачем? — спросил Митька, задыхаясь от волнения.
— Картошку с огурцами повезёшь. Обменяешь там. Соли надо, бумаги мне в правление надо. Может быть, галошки себе выменяешь и Нюшке материала на пелёнки. Быстро справляйся, пока я набираю картошку, — строго приказала Елизавета Максимовна.
— Мы только вдвоём с тёткой Груней?
— Ещё поедет Лилька Махонина с яблоками.
— Лилька! — воскликнул Стёпка и опрометью бросился на улицу.
На столь поспешное бегство Коршуна Митька не обратил внимания. Ему теперь было не до Стёпки. Митька и сам не верил неожиданно свалившемуся на него счастью. Неужели это правда, что он поедет на станцию, за тридцать вёрст, вместе с Лилькой Махониной?
Митька с такой поспешностью собирался в дорогу, что у него все валилось из рук и не ладилось. Надевая тёплые штаны, он никак не мог попасть ногой в штанину, а когда наконец попал, то оказалось, что надел штаны задом наперёд. А, шапка чуть не свела Митьку с ума. Где он только её не искал! Сундук Митька вывернул наизнанку, разрыл кровать, барахло с печки сбросил на пол. Раз десять лазал под стол. Заглянул к Нюшке в люльку, в помойную лохань, в горшок с кашей, в крынку с молоком. Нигде шапки не было.
«Неужели я вчера без шапки домой пришёл?» — с ужасом подумал Митька, и дорога на станцию показалась ему короткой-короткой, как от окна до двери. И он горько заплакал. А шапка висела там, где ей и положено висеть, на гвозде у двери. Митька вытер слёзы, погрозил ей кулаком и сказал:
— Всегда повесят туда, куда не надо.
Когда Елизавета Максимовна выволокла из подпола мешок с картошкой, Митька был в полной готовности. Он даже шапку завязал наглухо. Елизавета Максимовна, увидав, какой разгром учинил Митька в избе, ахнула. По избе словно Мамай со своей ордой прошёл.
— Что же ты натворил-то, мазурик?
У Митьки от страха подогнулись ноги, он бросился убирать.
— Я сейчас, сейчас… уберу, уберу. Только не сердись.
— Садись есть, балбес, — приказала мать.
— Да я не хочу!
— Садись, а то не поедешь, — сурово приказала Елизавета Максимовна.
И Митька стал раздеваться с такой же торопливостью, как и одевался. Снимая шапку, он оборвал завязки. Машинально хлебал суп, машинально ел пироги. Он ничего не чувствовал, кроме страха.
Митька всё время боялся, что мать скажет: «Снимай, балбес, валенки, никуда не поедешь».
Елизавета Максимовна составила список покупок, пришила к ушам шапки завязки, грустно посмотрела на Митьку, вздохнула и стала снаряжать его в дорогу. Надела на сына фланелевую рубаху, на рубаху свитер, а на свитер ещё тёплую куртку.
— Не надо куртку. Мне не пошевелить руками! — закричал Митька.
— Хорошо, тогда не поедешь, — сказала мать.
У Митьки показались слёзы.
— Ладно, надевай.
Он был готов терпеть всё. Если бы сверху шубейки ему ещё надели железные латы, Митька бы и то ничего не сказал. Елизавета Максимовна перетянула Митьку ремнём, а поверх шапки повязала шерстяной платок. Митька посмотрел в зеркало и не узнал себя. Он походил на пузатый бочонок, туго стянутый обручами. Сам себе Митька ужасно не понравился. Но ради поездки на станцию с Лилькой Махониной он готов был терпеть и не такие издевательства.
Глава VI. Лилька Махонина ест яблоки, а потом отвешивает Митьке оплеуху. Митька жалеет Витьку Выковыренного. Поехали! Пугай останавливает лошадь. Лилька угощает Стёпку яблоками. Митька ревнует
У дома тётки Груни, запряжённая в сани-розвальни, стояла гнедая лохматая лошадёнка. В санях на ивовой плетёнке около большой корзинки сидела Лилька Махонина и с хрустом кусала яблоко. На Лильке ловко сидел кокетливый полушубок, отороченный чёрным овечьим мехом, а на голове красовался платок цвета синей промокашки. Вокруг саней прыгали ребята и клянчили у Лильки яблоки. Собрался весь четвёртый класс. Братья Вруны: Колька Врун и Сенька Врун, Петька Лапоть, вечный второгодник Васька Самовар. Настоящая фамилия у Васьки — Чайников, но его все почему-то звали Самоваром.
Увидев Митьку, обвязанного платком, Лилька чуть не задохнулась от смеха.
— Глянь, какое чучело вырядили! — закричала Лилька.
Ребята захохотали.
— Наверное, на Северный полюс собрался. Медведей пугать, — заливалась Лилька.
Митькину радость как рукой смахнуло. Он-то мечтал погордиться, побахвалиться перед ребятами, что едет на станцию. А тут такое оскорбление.
— Замолчи, квашня немытая! — закричал он на Лильку.
«Квашня, да ещё немытая» — совсем не подходило Лильке. Девочка она была стройная, с белым румяным личиком и весёлыми зелёными глазами. Всем ребятишкам она нравилась, а Митьке ужасно. Он и не думал так её обзывать, просто она вывела Митьку из себя, и он ляпнул первое, что попало на язык.
— Это я-то квашня немытая? — возмутилась Лилька. Она спрыгнула с дровней, подбежала к Митьке и отвесила ему оплеуху. — Это тебе за квашню, а это за немытую, — и закатила вторую.
Ребята надрывались со смеху, а громче всех хохотал Витька Выковыренный.
— Будешь знать, как ругаться. Попросишь у меня яблочка. Шиш я тебе дам. На-кось, выкуси, — Лилька показала Митьке кукиш, гордо подняла голову, пошла к дровням и опять села на корзинку.
Митька был так взбешён, что не знал, на кого броситься.
— А ты чего смеёшься, Выковыренный? Чего смеёшься? — сжав кулаки и ругаясь, он пошёл на Витьку.
— А что мне, плакать, что мне, плакать? — пятясь, отступал Витька и вдруг, наступив на полу волочившегося по земле батькиного пальто, кувырнулся в снег, задрав вверх ноги. Ребята ещё громче захохотали. Теперь они смеялись над Витькой. Локоткову стало так легко, словно гора с плеч свалилась.
Витька беспомощно барахтался в снегу. Батькино пальто не давало ему встать на ноги. Вдруг смех застрял у Локоткова в горле. Он вспомнил, что у Витьки убили отца, что живёт он с матерью и двумя маленькими сестрёнками очень плохо: как говорят — на воде да на картошке; барахло, которое привезли из города, давно уже проели, кроме этого пальто, в котором только птиц пугать на огороде, а не по деревне разгуливать. Вспомнил Митька, что он дал Семёнову глупую обидную кличку «Выковыренный», и ему стало до слёз жаль щупленького, слабосильного Витьку, который во всех играх почему-то должен изображать фашистов.
Он помог Витьке подняться, отряхнул его и, сам не зная для чего, спросил:
— У тебя батю убили?
Витька всхлипнул:
— Убили.
— Ладно, не обращай на них внимания. Все они дураки.
Под словом «все они» Митька имел в виду всех, кто смеётся над Витькой. Но ребята не обиделись на это. Они опять обступили Лильку и принялись унизительно выпрашивать яблоки. Лилька смеялась над ними, уплетала яблоко за яблоком и бросала в ребят огрызки.
— Жадина-говядина, дай хоть Витьке яблочко. У него на фронте батьку убили, — сказал Митька Локотков.
— Уби-и-или? Подума-а-ать только… — протянула Лилька и сунула Витьке два яблока, — бери, бери, на́ ещё одно. А вам не дам, — заявила наотрез Лилька и как принцесса развалилась на корзине с яблоками.
Пришла Елизавета Максимовна, уложила в сани картошку, сунула Митьке узелок с пирогами и строго-настрого наказала, чтоб он дорогой вёл себя тихо, а на станции не совался под вагоны. Потом тётка Груня уложила свои мешки. Кроме картошки, она везла три связки луку и брюкву.
— Ты им помоги там, Аграфена, — сказала Елизавета Максимовна.
— Ладно, помогу ужо, — отвечала тётка Груня, здоровенная баба с толстыми лиловыми щеками.
— Смотри за ними. Не давай баловаться, — наставляла председательша.
— Я им побалуюсь, — говорила тётка Груня, свирепо размахивая кнутом.
— Ну, поезжайте потихоньку, — сказала Елизавета Максимовна.
— Поехали! — крикнула тётка Груня и взмахнула кнутом.
Сани дёрнулись, и Митька уткнулся носом в колени Лильки. Лилька вдруг раздобрилась и дала Митьке яблоко. Правда, выбрала самое плохое.
За деревней дорога круто свернула к полуразвалившемуся овину. Тут, откуда ни возьмись, выскочил Пугай и бросился на лошадь. Лошадь, присев на задние ноги, захрапела.
— Ах ты, растреклятый, брысь с дороги! — закричала тётка Груня.
Лошадь шарахнулась в сторону, Пугай опять ей перегородил дорогу, злобно и оглушительно лая.
— Ах ты, растреклятый, ах ты, собачья образина! — ругалась тётка Груня, безжалостно настёгивая лошадь.
— Эй, погодите! — услышал Митька голос.
Прямо по полю бежал Стёпка с мешком на спине.
— Стой! Стой! — кричал Стёпка, размахивая руками.
Догнав сани, Стёпка прыгнул на плетёнку.
— Ух, бежал, чуть сердце не вывалилось, — задыхаясь, проговорил он и вытер шапкой мокрое лицо.
— Ты куда? — грозно спросила тётка Груня.
— На станцию, за жилеткой.
— За какой такой жилеткой?
— А за такой, у которой рукавов нет, — пояснил Стёпка.
Тётка Груня подняла кнут.
— А ну, слезай. А то я тебя так опояшу!
— За что, за что? — закричал Стёпка. — Меня мамка отпустила. Честное пионерское, отпустила.
Тётка Груня вытерла рукавицей нос.
— Врёшь.
Митька с Лилькой тоже поняли, что Коршун врёт.
— Вот и не вру, — сказал Стёпка, — а тебе жалко, что поеду. Вам ещё лучше будет. Пугай на станции лошадь будет караулить.
Тётка Груня посмотрела на собаку, которая бежала за дровнями, высунув язык, и сдалась.
— Бес с тобой, поезжай, мне-то что. Но-о-о! Милой! — и огрела лошадь кнутом.
— Але, Пугай, — свистнул Стёпка.
Пугай обогнал лошадь и, высоко вскидывая задние ноги, пулей пустился по дороге.
— Видал-миндал, — и Стёпка хвастливо щёлкнул языком.
— Стёп, а тебя мать в самом деле пустила? — спросил Митька.
Стёпка ткнул Митьке под рёбра кулак.
— Молчи, дурень, умнее будешь. Понятно? — и Стёпка как барин развалился на плетёнке. — А ну-ка, Лилька, кинь яблочко, — приказал он.
— Подумаешь, какой командир нашёлся. Не дам!
Стёпка с презрением посмотрел на неё и плюнул.
Лильку это ещё больше оскорбило. Однако ссориться с ребятами в дороге ей было совсем не выгодно.
— Если бы ты попросил как порядочный человек — может быть, я и дала бы, — сказала Лилька.
Просить яблоко как порядочному человеку Стёпке не хотелось. Это Лильку ещё больше обозлило. Но желание помириться со Стёпкой, который ей нравился больше всех мальчишек, было сильнее обиды.
— На уж, подавись, — сказала Лилька и кинула Стёпке огромное краснобокое яблоко.
«Самое лучшее выбрала», — подумал Митька, и сердце от ревности у него так сжалось, что показались слёзы. Чтоб скрыть их, Митька потупился и стиснул зубы.
— На и тебе, — сказала Лилька и положила ему на колени яблоко, правда, не такое красивое, но тоже ничего.
Хорошо зимой на санках! Снег под полозьями скрипит, повизгивает. Впереди, взлягивая задними ногами, бежит Пугай, за ним хлопает копытами и машет хвостом лошадь, по сторонам тянутся чёрные, словно обугленные, кусты. Тёмные ели, угрюмо насупясь, медленно плывут навстречу и так же тихо, безмолвно удаляются. На ухабах санки подкидывает, ребята утыкаются носами в широченную спину тётки Груни и заразительно хохочут. Тётка Груня, помахивая кнутом, погоняет лошадь и сыплет прибаутками.
— Но, милый вороной, самый дорогой!
Чудесно! На душе так легко и отрадно, как будто и нет никакой войны, не стреляют где-то пушки и не приходят в деревню извещения, что такой-то в этот день погиб смертью храбрых…
Стёпка доел яблоко, бросил в снег огрызок и сказал:
— Кислятина, а не яблоки.
Лилька вспыхнула и надула губы…
Глава VII. Пир во время голодной зимы. Сорока вещает. К чему приводит неосторожность и зазнайство. Миха заселяется на чердаке Стёпиного дома
Шора — это крытый ток, проще — крыша на столбах, а ещё проще — огромный сарай без стен.
В шору свозили с полей рожь, пшеницу, овёс, горох, гречиху, лён. А потом всё это здесь обмолачивали… После обмолота оставались вороха мякины. И зимой шора превращалась в дармовую общественную столовую для птиц. Какие на этих ворохах мякины закатывались пиры и обеды!
Хозяевами шоры считались голуби. Зимой со всей деревни слетались воробьи, здесь день-деньской околачивались болтливые сороки, из леса прилетали клесты с рябчиками. В соломе во множестве водились серые мышки и даже крысы.
Первой заметила Миху сорока. Она сидела на крыше и вертелась, как заводная игрушка.
— Тра-ра-ра, тра-ра! — заверещала сорока.
Птицы в столовом насторожились.
— Чив-чив-чи! Чив-чив-чи! — в смятении закричали воробьи и захлопали крыльями. И только молодой воробышек, не обращая внимания на сороку, весело прыгал и задорно чирикал. Чёрной бомбой ворвался в столовую Миха. Воробьи брызнули во все стороны. Голуби с громким хлопаньем взлетели под крышу и уселись на перекладину. Молодой воробей, еле вырвавшись из лап кота, примостился на жёрдочку, посмотрел на свой хвост, в котором осталось два пера, и жалобно чирикнул.
— Тра-ра-ра, тра-ра! — не переводя дыхания, сыпала сорока, что, видимо, означало: «Я говорила вам, я говорила. Вы не слушали, вы не слушали».
Миха покосился на неё жёлтым глазом, злобно фыркнул, обошёл шору, обнюхал мякинные вороха, вдруг незаметно юркнул под веялку и там притаился.
Наступило молчание. Первой нарушила тишину, конечно, сорока. Она задёргалась как на пружине и принялась трещать: «Тра… Тра… Трррр» — «Спрятался, спрятался, спрятался».
Птицы и без неё опасливо косились на веялку.
Михины повадки великолепно знала и серая куропатка. Минувшей весной он разорил у неё гнездо с птенцами. Кормилась куропатка в лесу, а ночевать летала в деревню к овинам. Она должна была с рассветом улететь в лес. Но по каким-то неизвестным причинам задержалась.
Миха лежал с закрытыми глазами, как мёртвый, даже не шевелил хвостом.
Воробьи осмелели, спустились на землю и принялись перетряхивать мякину.
Голуби, видя, что воробьи безнаказанно ворошат мякину, которую они считали своей личной собственностью, возмущённо заворковали и, забыв про опасность, слетели на землю, оттеснили воробьёв от пшеничной мякины, принялись в глубоком молчании работать клювом и лапами. Они даже не обращали внимания на веялку, под которой притаился Миха. Или они поверили, что Миха сдох, или просто забыли про кота. Смелее всех был голубь-почтарь.
Миха следил за ним одним глазом. Когда почтарь приблизился к веялке, кот сжался, как пружина, и вдруг стрелой метнулся на почтаря. Посыпались перья, и почтарь с перекушенным крылом забегал вокруг веялки. Миха опять бросился на голубя. Почтарю с трудом удалось взлететь на веялку. Миха за ним. Положение у почтаря было безвыходное. Собрав последние силы, он попытался взлететь под крышу на перекладину. Но сил у него хватило только долететь до столба. Почтарь вцепился в столб, прижался грудью. Сидел он не слишком высоко, но и не так низко. Кот Миха злобно ревел и драл когтями столб.
Птицы метались от страха. Одна только ворона как будто с интересом ждала, чем же кончится эта трагедия. Кончилась она очень печально. Сил у почтаря не хватило, и он упал прямо в лапы коту. Миха перекусил почтарю шейку. Птицы в ужасе разлетелись…
Шора опустела. Осталась одна лишь ворона. Она мечтала после Михи поживиться остатками голубя. Но она напрасно мечтала. Миха съел голубя вместе с костями и начисто вылизал землю, где была кровь.
Потом Миха зарылся в солому и проспал до вечера. Вокруг него пищали и перетряхивали солому мыши. Но коту было лень даже пошевелить лапой. Он был сыт по горло.
Когда стемнело, Миха пошёл домой. Бабка Люба забаррикадировалась наглухо. Окно завесила старым половиком, а дыру в подпол забила доской. Миха долго ходил вокруг дома, возмущённо кричал и драл когтями дверь. Доброе бабкино сердце на этот раз не дрогнуло.
Миха побежал в соседний дом, где жил Стёпка Коршаткин. Там ему без труда удалось проникнуть в хлев, из хлева в сени, а из сеней на чердак.
На чердаке Миха улёгся на тёплый боров дымохода и блаженно вытянул лапы.
Утром Миха обошёл куриные гнёзда и, не найдя в них яиц, придушил молоденькую курочку. Затащив её в подполье, половину съел сразу, а остатки вечером.
Вторую ночь он тоже ночевал на чердаке на тёплом борове и был очень доволен собой и своими успехами, да и вообще жизнью в деревне…
Глава VIII. Встреча с ленинградцами. Стёпка ищет жилетку. Ходячий череп. Стёпка берёт уроки бокса. Митька выменивает на картошку новые галоши, а Стёпка — дорогую скрипку
Станция Веригино маленькая и захудалая. Однако ребятам из деревни Ромашки она показалась городом.
Железнодорожные пути были тесно заставлены эшелонами и товарными поездами. Около вагонов толкались женщины, бегали ребятишки, ходили солдаты.
Крошечный вокзал был набит людьми, как бочка селёдками. Когда ребята открыли дверь, то в нос ударил такой тяжёлый дух, что их чуть не стошнило.
На вокзальной площади, изрытой грязным снегом, народу тьма-тьмущая. У дощатого барака с вывеской «Пункт питания эвакуированных» длинный хвост очереди. Митька посмотрел на эвакуированных ленинградцев, и ему стало жутко. Таких страшных людей он и во сне не видывал. Все женщины походили на бабку Любу, девочки — на маленьких старушек, мальчики — на старичков. Ноги они переставляли медленно, осторожно и качались, как будто дул сильный ветер. Хотя ветра не было и падал лёгкий снежок.
На площади, как на базаре, вовсю шла торговля. Эвакуированные меняли на картошку костюмы, рубахи, шапки, сапоги, посуду и даже игрушки.
Тётка Груня, поставив между ног мешок с картошкой и ведро с огурцами, распевала:
— Картошка, картошка, рассыпчатая! Огурцы солёные! Лук репчатый!..
К ней подошла женщина, худущая, как удилище, и вынула из сумки шёлковую рубаху.
Тётка Груня схватила рубашку и сунула в мешок, а женщине дала три картофелины.
— И не стыдно вам? — сказала женщина.
Тётка Груня сунула ей огурец.
— За такую рубашку три картофелины с огурцом! — ужаснулся Стёпка. — Ну и грабиловка!
Лилька Махонина торговала яблоками. Яблоки шли нарасхват. Лилька, не торгуясь, брала всё: и бусы, и платки, и какие-то тряпки. За два яблока ей дали меховую шапочку. Лилька тут же напялила обнову на свою голову и сияла от радости.
— Я не знал, что Лилька такая крохоборка, — сказал Стёпка и плюнул.
Ребята ходили по базару. У Стёпки за спиной болтался вещевой мешок с картошкой. Митька таскал картошку в сумке. Галош было много, но все они не подходили к Митькиным валенкам Стёпке за картошку предлагали новое бобриковое пальто, хромовые сапоги и прочие дорогие вещи. Стёпка от всего отказывался. Он искал жилетку. Один эвакуированный ленинградец умолял Стёпку купить новый костюм.
— Это же бостон, молодой человек. Ему сносу не будет. Поймите, он в сто раз дороже жилетки, — уверял ленинградец.
— Мне нужна жилетка, — стоял на своём Стёпка.
— Ну, пожалуйста, молодой человек, возьмите! Уважьте!
Стёпку ещё никто в жизни не называл молодым человеком. Он смущался и не знал, что делать. Если бы ленинградец ещё раз назвал его молодым человеком и умоляюще сказал «пожалуйста», Стёпка бросил бы ему свою картошку и сбежал от стыда. Но в это время подошла какая-то колхозница и стала торговать бостоновый костюм.
Наконец Митьке повезло. Галоши с красной подкладкой и блестящими носами как раз подошли к его валенкам. Обрадованный Митька высыпал из сумки в подол старухи всю свою картошку. Старуха от такой щедрости опешила и не знала, что ей делать: то ли радоваться, то ли плакать.
Под вторым номером в записке матери стояли пелёнки для Нюшки. Митька побежал за картошкой. Она находилась в санях. И охранял её Пугай. Набив сумку картошкой, Митька вернулся на площадь и выменял столько пелёнок, словно Нюшка собиралась качаться в люльке двадцать лет.
Теперь надо было достать бумагу. И Митька опять побежал за картошкой. Однако на базаре бумаги не было, и ребята отправились за ней к эшелону. Стёпка всё ещё не терял надежды выменять жилетку.
На станции у вагонов торговля шла куда шибче, чем на вокзальной площади. То, что увидели здесь ребята, вряд ли забудут. Такое забыть невозможно. Здесь ленинградцы были ещё страшнее… Остроносые, с провалившимися глазами и такие усталые, как будто целый год не спали. Улыбаться люди совсем разучились, говорили так медленно и тягуче, словно их действительно тянули за язык. Ходили, как в потёмках: ноги ставили неуверенно, словно боялись оступиться и провалиться в яму.
Митька дёрнул Стёпку за рукав.
— Стёп, глянь, череп стоит.
Около вагона стоял длинный, тощий, как шест, человек. На верху шеста торчал череп, обтянутый жёлтой кожей. У шеста были руки. В одной он держал чёрный футляр. Череп заметил уставившихся на него ребят, поманил согнутым пальцем.
Стёпка с Митькой переглянулись, помялись с ноги на ногу и подошли.
— Что у вас? — спросил Череп и ткнул пальцем в Стёпкин рюкзак.
— Картошка.
— Что вам надо?
— Нам? — Стёпка замялся. — Жилетку.
— А вам? — и Череп строго посмотрел на Митьку.
— Бумагу, — испуганно ответил Митька.
Череп вдохнул и выдохнул воздух.
— Бумаги у меня нет и жилетки нет. А есть у меня, мальчики, вот что, — Череп раскрыл футляр и показал скрипку.
Приставив скрипку к плечу, он провёл по струнам смычком. Скрипка тоненько и жалобно пропела: «и-и-и-ой!»
— Нравится? — спросил Череп.
Стёпка кивнул головой. Череп улыбнулся. От этой улыбки у Митьки задрожали губы.
— Ты, мальчик, дашь мне картошку, а я тебе скрипку. Договорились?
— Ага, — и Стёпка протянул Черепу рюкзак с картошкой.
Череп положил скрипку в футляр, закрыл на застёжки и передал Стёпке.
— Береги. Если я останусь жив — приеду к тебе и заберу скрипку. А если умру, то она навсегда останется у тебя. Запомни, мальчик, — это очень хорошая скрипка и очень дорогая. А теперь ты мне скажи свой адрес. Где ты живёшь? — Череп вытащил коричневую книжицу и ручку-самописку.
Стёпка сообщил свой адрес: то есть деревню, область и район.
Череп взял Стёпкин рюкзак с картошкой, пошёл к вагону. Шёл он так тихо и осторожно, словно боялся, что ноги вот-вот отвалятся. Сам он забраться в вагон не смог. Его подхватили за руки и втащили.
Стёпка ничего не понимал. Он вертел в руках футляр и удивлённо пожимал плечами.
— Коршун, дай я подержу немного? — попросил Митька.
— На, подержи, только не ставь на снег, — предупредил Стёпка.
Митька подержал футляр, погладил его и со словами «ну и повезло же тебе» отдал Стёпке.
Неподалёку от них стояли два маленьких человечка в одинаковых пальтишках и одинаковых шапках с завязанными ушами.
— Карлики! — воскликнул Митька.
Стёпка сдвинул шапку со лба на затылок.
— Ух ты!
— Давай поговорим с ними, — предложил Митька.
Ребята подошли к человечкам, переглянулись и хихикнули.
— Вы карлики? — спросил Митька.
— Мы не карлики, а дистрофики, — обиженно ответил звонкий мальчишеский голос. — Мне тринадцать, а сестре Ирке — четырнадцать.
Ирка обиделась:
— Не ври, Генка. Четырнадцать с половиной.
— А почему же вы такие старые? — спросил Стёпка.
— От голода, — ответил Генка.
— Посидел бы ты в блокаде, не такой бы был, — добавила Ирка.
— Вы и сейчас жрать… — Митька запнулся и покраснел, — есть хотите?
— Да ещё как! — вскрикнул Генка.
— А вас разве не кормят? — спросил Стёпка.
Генка возмутился.
— Кто тебе сказал, что не кормят?
Ирка вздохнула.
— Доро́гой хорошо кормят.
— А почему же вы голодные?
— Потому что мы дистрофики. А дистрофиков сколько ни корми — всё равно жрать хочется.
— Почему? — изумился Стёпка.
Генка презрительно усмехнулся.
— Потому что ты дубина деревенская и ничего не понимаешь.
Стёпка поставил на снег футляр и сжал кулаки.
— Ты чего обзываешься. Хочешь, чтоб я тебе врезал?
— А ты попробуй, — вызывающе сказал Генка и принял стоику боксёра.
Между ними встала Ирка.
— Не задевай его, — сказала она Стёпке. — Генка все приёмы знает. Он во Дворце пионеров в боксёрской секции занимался.
— Ври-и-и! — протянул Стёпка и с уважением посмотрел на Генку.
— А чего врать. Давай попробуем. По-дружески. Бей меня. Я буду только защищаться.
Стёпка посмотрел на Митьку и засмеялся.
— Дай ему, Локотков.
Митька отказался. Он дрался, только когда на него нападали. А драться так, нарочно, ни за что ни про что, он не любил.
Генка стоял в прежней позе, прикрывая лицо кулаками. Стёпка слегка ударил и попал Геньке в выставленную ладонь.
— Ещё! — крикнул Генка.
Стёпка напал и опять попал в руку.
— Давай, давай, — подбадривал Генка.
Стёпка «давал», но как он ни старался попасть Генке в лоб или в ухо, у него ничего не получалось.
— Ушёл в глухую защиту! — кричал Генка, когда Стёпка замахал руками, как мельница. Неожиданно Генка упал.
— Ну, вот видишь, — с гордостью сказал Стёпка и помог Генке подняться.
— Это не удар, а толчок. И упал он потому, что ослаб от голода, — пояснила Ирка.
Генка усмехнулся.
— Если б я захотел, то изуродовал бы тебя, как бог черепаху. Но мне не позволяет боксёрская этика. Понятно?
— Понятно, — сказал Стёпка, хотя совершенно не понимал, что такое «боксёрская этика».
— У тебя всё было открыто: и челюсть и корпус. В общем, в боксе ты, парень, не тянешь, — решительно заключил Генка.
Коршун не обиделся. Он и сам видел, что Генка настоящий боксёр и если б не ослаб от голода, то Стёпке бы досталось немало.
Митька бочком подвинулся к Ирке и тронул её за рукав.
— А этот тоже с вами в одном вагоне едет?
Ирка удивлённо посмотрела на Митьку.
— Ну, этот, который променял скрипку. Дяденька Череп.
Ирка гневно сдвинула брови.
— Он не череп, он музыкант. В Ленинграде в театрах концерты давал. А ты, мальчик, умеешь играть на скрипке? — спросила она Стёпку.
— Ничего он не умеет, — сказал Митька.
— Зачем же тебе скрипка?
— Так, — Стёпка помахал футляром, посмотрел на небо, потом на свои ноги и буркнул: — Он сам её отдал.
Ирка вздохнула и покачала головой.
— Он съест вашу картошку, а потом умрёт.
— Почему умрёт? — прошептал Митька.
— Так… Возьмёт да и умрёт. А чего ему делать без скрипки?
— У нас полвагона поумирало дорогой. Мама тоже умерла, — сказал Генка.
Митьку от макушки до пят прохватил озноб. Он посмотрел на Стёпку. Тот, опустив голову, ковырял носком валенка снег.
— Как же вы теперь без мамки жить будете? — спросил Митька.
— Приедем на большую станцию, и нас сдадут в детдом, — ответила Ирка.
— Небось не хочется в детдом?
Ирка подняла глаза на Митьку.
— А куда ж нам теперь? Мы остались круглыми сиротами. Мама умерла, папу убили. А в детдоме нас будут кормить, одевать, учить и… — Ирка всхлипнула и смахнула с ресниц слезину.
Генка подошёл к сестре, положил ей на плечо руку.
— Ничего, Ируха, выживем. Я в детдоме отъемся и на фронт рвану.
— А я? — испуганно спросила Ирка.
— А ты пойдёшь в госпиталь, за ранеными ухаживать. Мы все свои силы должны отдать для победы! — заявил Генка и погрозил кулаком.
Митьке стало стыдно и за себя и за Стёпку. Он с ненавистью посмотрел на сумку с картошкой. Он готов был в эту минуту растоптать её ногами, но тут он вспомнил, что Ирка с Генкой голодные.
— Возьмите мою картошку.
Генка взял сумку, подержал её и протянул Митьке.
— Нам нечего менять. Всё уже променяли.
— Бери, бери, мне ничего не надо. Мамка хотела, чтобы я бумаги выменял. Плевать на бумагу. Что, мы без бумаги не проживём?
— А у нас есть бумага, — хвастливо заявила Ирка. — В вагоне, в жёлтом чемодане. Вот таких пять тетрадок. — И она пальцами показала, какие толстые тетради лежат у неё в чемодане.
— Точно, — заверил Генка, — пошли к нам в вагон?
— А можно?
— Конечно, можно!
Товарный вагон, в котором ехали эвакуированные, был переделан в теплушку. С двух сторон стояли двухэтажные нары. Посредине — круглая железная печка. Вокруг печи, вытянув руки, сидели исхудавшие пассажиры. Дяденька Череп пёк картошку.
С правой стороны на нижнем этаже нар лежала старуха и что-то бормотала.
— Что это она? — спросил Митька Генку.
— Умирает.
— Ври-и-и!
Генка небрежно махнул рукой.
— Точно! Как только человек забормотал, значит, ему крышка.
У Митьки от страха шапка поднялась на волосах.
— Она помрёт?!
— Факт. Двух дней не протянет, — Генка посмотрел на бабку и, вздохнув, добавил: — Наша мама тоже бормотала.
На втором этаже нар с краю лежало два чемодана: жёлтый и чёрный.
— Здесь наше место, — сказал Генка. — Когда в вагоне народу было битком, я спал на жёлтом чемодане, а Ирка на чёрном.
Стёпка усмехнулся.
— Куда же ты ноги девал?
— Очень просто. Подтянешь колени к подбородку и храпишь за милую душу. Конечно, не совсем удобно. А теперь ехать благодать. Спи хоть целый день, никто слова не скажет. А раньше по очереди спали.
Митька с недоверием посмотрел на Генку.
— Сколько же вы едете?
— Третью неделю, — и Генка показал на жёлтый чемодан. — Волоките на пол. Мне не стащить. Отощал я, братцы, — с огорчением сказал он.
Чемодан стащили на пол. Ирка разыскала в кармане крохотный ключик, отомкнула замки и вынула из-под белья три толстых в клеёнчатых переплётах тетради.
— Мама ещё до войны припасла, — Ирка вздохнула и отдала их Митьке. — Пиши на здоровье.
— Это не мне, а матери, в правление. Она председатель колхоза.
Ирка достала ещё одну тетрадь.
— А это тебе. На память. Бери, бери. В детдоме бумаги, наверное, сколько хочешь.
— Спасибочка, — пробормотал Митька и засунул тетрадку за пазуху.
Стёпка опять затащил чемодан на нары. Поговорили ещё кое о чём и стали прощаться.
— Скоро поезд пойдёт? — спросил Стёпка.
— Как ему вздумается, так и пойдет, — ответил Генка.
— Мы не по графику следуем, — пояснила Ирка.
Стёпка кивнул головой. Хотя ему было совсем не понятно, как это — следовать по графику.
— А как вас звать-то? — вдруг вспомнила Ирка.
— Я — Стёпка Коршаткин, а он — Митька Локотков. Живём в деревне Ромашки.
— Какое красивое название, — сказала Ирка.
— А ты бы посмотрела, какая она на самом деле, — воскликнул Митька. — И озеро у нас огромадное: за день не обойдёшь. Рыбы там пропасть. Вот такие лещи. — Митька широко развёл руки и показал, какие у них водятся лещи.
Ребята, торопливо попрощавшись, выпрыгнули из вагона и побежали. От ужаса они не чувствовали под собой ног и неслись, как сумасшедшие. Пятнадцать минут, которые они пробыли в теплушке, показались им кошмарным сном, а сам вагон, где каждый день умирают люди — мертвецкой.
Но вдруг Стёпка остановился, присел на корточки и начал хохотать.
— Что это тебя схватывает? — с удивлением спросил Митька.
— Ты не знаешь, ты не знаешь? — кричал, заливаясь, Стёпка и хлопал себя по коленкам. — Я же надул музыканта!
— Как?
— Скрипку-то в вагоне оставил!
Митька тоже принялся хохотать. Насмеявшись вволю над скрипачом, ребята, взявшись за руки, пошли вдоль эшелона и наткнулись на тётку Груню с Лилькой. Они всё ещё торговали.
У тётки Груни на шее, словно огромные бусы, висела связка луку. Придирчиво рассматривая пиджак, она говорила:
— Старый пиджачок-то. Старый-престарый. Три луковицы дам.
Высокая бледная женщина всплеснула руками.
— Побойся ты бога!
— Ещё четыре картофелины дам. Беру только из милости. Пиджак-то мне всё равно носить некому, бог мужем обидел меня, — говорила тётка Груня, запихивая в мешок пиджак. У женщины из глаз посыпались слёзы.
— Что же это она делает, — ужаснулся Митька.
— Погоди, синерылая, я с тобой рассчитаюсь, — сквозь зубы процедил Стёпка.
— А я ей все огурцы летом на огороде нарочно вытопчу, — сказал Митька.
Лилька выторговывала платье чёрное в белый горошек. Платье она выменяла за четыре яблока.
— Гадина, — прошипел Стёпка и крикнул: — Лилька, подь сюда!
Лилька, подхватив корзинку с яблоками, подбежала.
— Ну, что?
Стёпка сжал кулак, поднёс к её носу.
— Понюхай, чем пахнет!
— Чего ты? Чего ты… Что я тебе сделала? — испуганно залепетала Лилька.
— За яблоко готова шкуру содрать. Они же от голода помирают. А ты пользуешься их горем.
Лилька посмотрела на Стёпку, хотела что-то сказать и, не сказав, потупилась.
— Крохоборка! — Стёпка плюнул, растёр валенком плевок и так дёрнул Митьку за руку, что тот чуть не упал. — Идём, а с ней мне и разговаривать не хочется.
Они пошли. Митька оглянулся. Лилька что-то говорила тётке Груне и размахивала руками. Тётка Груня тоже стала что-то говорить и тоже размахивать руками.
Глава IX. Эшелон уходит. Поиски соли. Рябой солдат. Драка с цыганами. Лилька плачет. Тётка Груня возмущается. Домой
— Если бы Генка жил в нашей деревне, то он был бы атаманом, — говорил Митька.
— Ну, это ещё бабушка надвое сказала, — возразил Стёпка.
— Спорим!
Стёпка спорить не стал. Он мрачно посмотрел на Митьку и сжал кулаки. Митька сразу же заговорил о другом.
— А ленинградцы ребята ничего. Только уж очень страшные.
Стёпка усмехнулся.
— А если б тебя не кормить много месяцев? Каким бы ты был, а?
Митька задумался. И словно сквозь туман увидел дистрофика Генку, скуластого, с запавшими глазами, острым носом и сморщившуюся, как старушка, Ирку.
— Локотков, у тебя картошка осталась? — неожиданно спросил Стёпка.
— Осталась. А что?
— Давай отдадим им… Что, жалко стало?
Митьке не было жалко картошки, ему было обидно, что не он, а Стёпка до этого додумался.
— Мне жалко? Да я и огурцы отдам. Их там целое ведро.
Они побежали к саням. Лошадь стояла на месте. Пугай, уныло повесив голову, бродил вокруг саней. Увидев ребят, лошадь замахала хвостом и громко заржала. Пугай бросился на Стёпку и лизнул его прямо в губы. Стёпка плюнул и сказал.
— А ну тебя, отстань. Мы дело делаем.
Картошки в мешке оставалось порядочно. Митька высыпал туда и огурцы. Стёпка взвалил мешок на спину.
— Бежим!
Митька вспомнил об узелке с пирогами и сунул его за пазуху.
Они побежали к эшелону. Пугай бросился за ними.
— Куда! — заревел Стёпка. — Назад! Сидеть на месте!
Пугай сел и сердито залаял.
— Жрать собака хочет. Где твои пироги?
Стёпка взял пирожок и, показывая его Пугаю, пошёл к санкам. Посадив Пугая в сани, Стёпка дал ему пирожок и строго погрозил пальцем.
Ребята только успели добежать до переезда, когда затрубил паровоз и вагоны задёргались.
— Скорее, скорей, — подгонял Митька Стёпку.
Стёпка бежал изо всех сил. Навстречу медленно плыли вагоны.
— Генка, Ирка! — кричал Митька.
Генка с Иркой стояли в дверях теплушки и махали руками.
— Мы вам картошки притащили! — заревел Стёпка и бросился к теплушке. Он поднял мешок, но Генка не успел подхватить, и мешок упал. Стёпка подхватил; его, побежал за вагоном. Поезд набирал скорость, колёса начинали выстукивать дробь. Стёпка остановился, поднял мешок над головой. Чья-то рука подхватила его, и через минуту пустой мешок вылетел из вагона.
Ребята долго смотрели поезду вслед, пока последний вагон не скрылся за поворотом.
— Если бы ты не провозился с Пугаем, как раз успели бы, — сказал Митька. — А теперь кто будет есть нашу картошку?
Стёпка обнял Митьку и сильно сдавил его.
— Не горюй, Локоть. Все они голодные.
— Хорошо, что ещё мешок выбросили, — сказал Митька.
— А мой рюкзак тю-тю, — и Стёпка свистнул.
Митька грустно посмотрел на товарища.
— Опять матка пороть будет.
— Ну и что? Подумаешь, — и Стёпка беззаботно махнул рукой.
Митька вспомнил наказ матери: достать соли.
— Картошку всю роздали. Теперь и соли не на что выменять, — пожаловался он.
Стёпка снял шапку, помахал и опять надел.
— Может, ещё достанем.
— Где?
— У солдат. У них всё есть: и соль, и мыло, и махорка.
— Так-то они и дадут, даром-то…
— Может, и дадут. Попросим. Айда, — и Стёпка нырнул под вагон.
Все пути были заставлены военными эшелонами и товарными поездами. Вынырнув из-под вагона с другой стороны, ребята неожиданно увидели огромную пушку… Она стояла на платформе, задрав вверх длинное дуло.
— Вот это да! — ахнул Митька.
— Зенитка, — пояснил Стёпка.
На других платформах стояли точно такие же пушки. Вдоль эшелона ходил часовой с винтовкой. На ходу он приплясывал и стукал каблуком о каблук.
— Дяденька, это зенитки? — спросил Стёпка.
Солдат с ног до головы измерил Стёпку и строго сказал:
— С часовым нельзя разговаривать.
На соседнем пути стоял эшелон с пленными итальянцами. Стёпке с Митькой очень хотелось посмотреть на пленных, но часовой закричал:
— Кругом марш!
Они бросились под вагон. Вылезая, уткнулись в огромные валенки. И не успели ребята моргнуть глазом, как солдат в тулупе схватил их за воротники, поставил на землю и спросил:
— Вы что тут лазаете?
— Мы соль ищем, — выпалил Митька.
— Зачем соль?
— Солить.
— Кого солить?
— Огурцы, — ляпнул Стёпка.
— Огурцы зимой не растут, — солдат сдвинул брови, — топай отселева, пока я вам уши не надрал.
Подошёл эшелон с ранеными. Ребята пошли вдоль состава. Здесь часовой не обратил на них внимания. Вагоны с красными крестами были наглухо закрыты. И только в одном из приоткрытой двери торчала забинтованная голова, похожая на ком снега.
— Какая станция? — спросила голова.
— Веригино, — ответил Стёпка.
— А что вы тут делаете?
— Соль ищем.
— А сало у вас есть?
Стёпка отрицательно помотал головой.
— А что есть?
Митька пожал плечами и развёл руки.
— Ничего.
— А вы, дяденька, с фронта? — спросил Стёпка.
— А ты что, слепой? Не видишь? — сердито сказала голова и с грохотом задвинула дверь.
— Почему они все сердитые? — спросил Митька Стёпку.
Стёпка почесал затылок и солидно изрёк:
— Война!
Ребята обошли все поезда. Соли им никто не дал. В тупике стояло шесть вагонов-теплушек. У крайнего вагона широкоплечий рябой солдат умывался снегом. Растирая огромными ручищами волосатую грудь, солдат крякал от удовольствия. Стёпка с Митькой остановились и стали смотреть. Солдат подмигнул им.
— А вы небось так не умеете.
Стёпка зябко поёжился.
— Холодно.
Солдат оскалил зубы.
— С непривычки. А привыкнешь — благодать!
Митьке очень понравился весёлый солдат. «Наверное, и добрый», — подумал он и спросил:
— Дяденька, а соль у вас есть?
Солдат подхватил горсть снега, швырнул себе на спину.
— А как же, сколько хочешь.
— А у нас соль кончилась, — пожаловался Митька.
— Это плохо, — заметил солдат. — А сами-то вы откуда будете?
Стёпка подробно и толково рассказал солдату, где они живут и зачем приехали на станцию. Солдат так ожесточённо тёр полотенцем шею, словно собирался содрать с неё кожу.
— Понятно. Значит, вы живодёры, — сказал он.
— Почему живодёры? — испуганно спросил Митька.
— Потому что вы за картофелину с огурцом готовы с голодных ленинградцев содрать шкуру, — пояснил солдат.
— Неправда! — возразил Стёпка и стукнул себя по груди кулаком. — Мы не живодёры. Тётка Груня настоящая живодёрка. А я свою картошку так, даром отдал. И он тоже отдал, — и Стёпка показал на Митьку. Митька вспомнил, что на картошку он выменял галоши с пелёнками и четыре тетрадки, покраснел, но ничего не сказал. «А то ещё по шее даст», — подумал он.
Солдат натянул рубашку, подпоясался ремнём и, подойдя к Стёпке, протянул руку.
— Извини, брат. Ошибся малость.
— Ладно уж, — сказал Стёпка, пожимая солдату руку.
— Батька-то на фронте?
— А где ж ещё! И у Митьки на фронте. Все мужики на фронте. Одни бабы в деревне остались. А Митькина матка за председателя.
— Понятно, — сказал солдат. — Значит, вам соль нужна? А у меня соли нет. — Солдат так сокрушённо вздохнул, и Митька понял: солдату очень жаль, что нет у него соли.
Митька тоскливо посмотрел в насмешливые глаза солдата и безнадёжно махнул пустым мешком.
— Пошли, Стёпка.
— Стой! — остановил их солдат. — Я же не сказал, что вообще соли нет. У меня её нет, а у другого есть. Шагом марш за мной, — скомандовал он.
Ноги у солдата были длинные, как ходули. Ими он отмеривал такие шаги, что Стёпка с Митькой едва успевали за ним бегом. У последнего вагона солдат остановился и забарабанил по стене кулаком.
— Яшка!
— Чего? — отозвался Яшка.
— У тебя есть соль?
— Есть. А для чего тебе?
— Тут пацанам нужна соль. Открой дверь.
Дверь вагона с визгом поползла вправо, и показался Яшка, толстый, круглый солдат. Голова и туловище у Яшки срослись. И он походил на два шара, поставленных друг на друга. Стёпка прыснул в кулак. А Митька, чтоб не расхохотаться, закусил губы.
— Кому тут соль? — оглушительным басом спросил Яшка.
— Мне.
Солдат Яшка уставился на Митьку и для чего-то щёлкнул толстыми, словно сосиски, пальцами.
— Зачем?
— Солить.
— Кого солить?
Митька испуганно посмотрел на рябого солдата. Тот ему ободряюще подмигнул.
— Суп, — ответил за Митьку Стёпка.
— Ишь ты, чего захотели суп солить, — и Яшка захохотал.
— Не дури. Дай ребятам соли, — серьёзно сказал рябой солдат.
— А ты дрова мне поколешь? — спросил рябого солдата Яшка и хитро прищурился.
Рябой солдат махнул рукой.
— Ладно. Давай топор, эксплуататор.
Эксплуататор Яшка взял у Митьки мешок и насыпал в него столько соли, что ребята вдвоём еле-еле дотащили до вокзала.
…Быстро темнело. В домах зажигались огни. Площадь перед вокзалом опустела. Лошади с розвальнями и Пугая тоже не было.
— Вот так штука! И Пугай куда-то пропал, — возмущённо сказал Стёпка.
Митька с ужасом посмотрел на мешок с солью.
— А если они домой уехали!
— Без нас-то? — И Стёпка вдруг стукнул себя полбу кулаком. — У тётки Груни сестра на станции живёт. Сизорылая, наверное, к ней поехала. Ты оставайся здесь, а я пойду искать. С мешком тяжело таскаться.
— А ты меня не бросишь?
— Не бойся. Я быстро. Дуй на вокзал… Там тепло, — посоветовал Стёпка.
Митька взвалил мешок на спину и, согнувшись пополам, потащился к вокзалу. В зале ожидания было тесно, шумно и дымно. Солдаты беспрерывно курили махорку, дети не переставая плакали, матери на них всё время кричали, около солдат, закутанная в шаль, вертелась цыганка и уговаривала их погадать на картах.
Митька кое-как примостил мешок около двери и сел на него верхом. Ему вдруг очень захотелось есть. Он сунул руку за пазуху. Узелка с пирогами там не было. «Вот так штука, — подумал Митька и стал вспоминать, где он потерял пироги. — Наверное, когда под вагонами лазал».
— Эх, жисть моя, жестянка ржавая, — вздохнул Митька и поднял глаза. Перед ним стояли два цыганёнка. Они походили друг на друга, как два грязных пальца. У одного на голове сидела рыжая шапка, у другого — замызганный красноармейский шлем.
— Что у тебя? Картошка? — спросил цыганёнок в шлеме.
Митька крепко сжал ногами мешок.
— Соль.
— А если бы у тебя была картошка — я бы сплясал на животе, — похвастался цыганёнок в рыжей собачьей шапке.
Митька усмехнулся.
— Соври ещё что-нибудь.
Второй цыганёнок стащил с головы шлем.
— Сыпь с краями, и я научу тебя плясать на животе!
Митька, вспомнив, с каким трудом ему досталась соль, ещё крепче вцепился в мешок.
— Я и без тебя умею плясать на животе.
— Врёшь, врёшь! — закричал цыганёнок, размахивая шлемом. Потом он присел на корточки и, заглядывая Мите в глаза, таинственно сказал:
— Парень, давай играть в таску.
— Я не умею, — чистосердечно признался Митька.
— Научим. Хочешь? Поучим его, Киряй, — он подмигнул цыганёнку в рыжей шапке.
— Научим! — воскликнул Киряй. — Во, игра! На большой с покрышкой, — он выставил палец и накрыл его ладонью. — Давай?
Митька беззаботно махнул рукой.
— Валяй. Всё равно делать нечего.
Цыганята принялись учить Митьку играть в таску. Они сорвали с него шапку, вцепились в волосы и принялись раскачивать Митькину голову из стороны в сторону, приговаривая:
— Левый, правый, левый, правый…
Митька взвыл и бросился на Киряя. Они, обхватив друг друга, упали на пол. А цыганёнок в шлеме схватил мешок с солью.
Стёпка и Пугай подоспели вовремя. Митька с Киряем катались по полу и колошматили друг друга. А цыганёнок в шлеме тащил мешок. Стёпка бросился спасать соль. Догнав цыганёнка, он с размаху хлобыстнул его по уху. Цыганёнок хотел было кинуться на Стёпку, но, увидев Пугая, от страха забился под лавку. Митька с Киряем всё ещё возились, сопели и изо всех сил лупили друг друга кулаками: наконец Митька изловчился и расквасил Киряю нос. Киряй, увидев кровь, заревел. А Митька бросился на улицу. Стёпка, схватив мешок с солью, побежал за ним.
Совсем стемнело. Стёпка огляделся, Митьки нигде не было.
— Локоть! Где ты?
— Здесь. За сараем, — отозвался из темноты Митька.
— Чего там делаешь?
— Ничего не делаю. Стою. А ты один?
— Один. Не бойся…
Митька, пугливо озираясь, подошёл к Стёпке.
— А здорово я ему дал?
— Молодчина! — похвалил приятеля Стёпка.
— Вдвоём на меня навалились. Я им показал, почём фунт пряников, — бахвалился Митька.
— Если б я не пришёл, они бы тебе так дали, что и своих бы не узнал. И соль бы отняли.
Митька вспыхнул.
— Ну да ещё…
— Не ещё, а точно, — перебил Стёпка Митьку. — Когда ты дрался, другой цыганёнок соль тащил. Я ему так врезал, что он двадцать метров по воздуху летел. Скажи мне спасибо, а то соль бы твоя тю-тю.
Митька свистнул:
— Так они нарочно драку затеяли, чтоб соль стибрить.
— Конечно. Бери мешок и пошли. Наши здесь недалеко. Тётка Груня с Лилькой чай хлещут. А барахла они наменяли!
— Живодёры проклятые, — выругался Митька и плюнул.
— А знаешь, что я нашёл? — воскликнул Стёпка. — Вот это штука. Ни за какие деньги не купишь. Она у меня в санях под сеном упрятана. Увидишь — от зависти лопнешь. Пошли.
Митька, согнувшись, тащил соль и размышлял, что же такое нашёл Стёпка, что можно от зависти лопнуть. Любопытство не давало ему покоя. И он бросил мешок.
— Скажи, что нашёл?
— Сам увидишь, — отрезал Стёпка.
— Тогда я не пойду, — заявил Митька и сел на мешок.
— А мне-то что. Не ходи, — равнодушно сказал Стёпка и, свистнув Пугая, побежал.
Митька, взвалив мешок на спину, качаясь из стороны в сторону, потащился за Стёпкой.
Около небольшого бревенчатого дома стояла их лошадь. На морде у неё висела торба. Свалив мешок в сани, Митька вытер шапкой лоб и пожаловался:
— Ужас, как замучился.
Стёпка расшвырял сено и вытащил свою находку. Это была рваная камера от автомобильного колеса.
— Ну, а я-то думал, — разочарованно протянул Митька.
Стёпка возмутился.
— Эх, ничего ты не понимаешь.
— А зачем она тебе?
— Надую и буду разъезжать на ней по озеру, как на лодке.
Митька захохотал.
— Да у неё же дырка на дырке!
Стёпка вырвал из рук Митьки камеру.
— Заклею.
— А где клей?
Стёпка задумался. Но сколько он ни думал, так и не мог придумать, где достать клей.
— Всё равно пригодится. Мы из неё столько рогаток наделаем, на сто лет хватит.
— Рогатки из неё получатся что надо, — согласился Митька.
Вдруг Стёпка взмахнул руками.
— Так я же пушку сделаю! Давно бы сделал, если бы была такая резина.
— А чем она стрелять будет?
— Чем хочешь. Камнями, картошкой, снежками. Такая пушка получится, что все сдохнут от зависти, — заверил Стёпка.
Митька хотел, возразить, но смолчал. «Кто знает, может, и сделает», — подумал он.
Митька вытащил из-под сена свои покупки, сложил их в мешок с солью. Стёпка снял с морды лошади пустую торбу и бросил ей под ноги охапку сена.
В тесной избе, заставленной шкафами и кроватями, под потолком висела керосиновая лампа. На столе потихонечку попискивал самовар, стояли три стакана и пустая сахарница.
Лилька, нахлебавшись чаю, спала, положив голову на руки. Тётка Груня раскладывала на лавке выменянное барахло. Другая тётка, с такими же лиловыми щеками, как у Груни, завистливо ахала:
— Экая ты проворная, Аграфена. Смотри-ка, сколько добра наменяла!
Тётка Груня самодовольно ухмылялась и говорила:
— Ништо, ништо… Всё годится. — Увидев ребят, она сдвинула брови. — Вы где шатаетесь, лоботрясы?
— Тебе какое дело, живодёрка? — огрызнулся Стёпка.
Тётка Груня побагровела от ярости.
— Ты это почему так со мной разговариваешь! Какая я тебе живодёрка?!
— Ай-яй-яй! Никакого уважения к старшим, — как клуха закудахтала хозяйка.
— А вот я его сейчас за уши! — тётка Груня грозно двинулась на Стёпку.
— Только дотронься, — сказал Стёпка. — Пугай из тебя кишки выпустит.
Тётка Груня остановилась, сложила на груди руки и покачала головой.
— Эх вы, шалоберники. А ну, показывай, что у тебя есть? — Она схватила Митькин мешок, вытащила из него покупки и насмешливо спросила. — И это всё? Пороть-то тебя некому. — Потом взвесила на руке соль. — Около пуда будет. Может, ты мне половину отсыплешь? — вкрадчиво спросила она Митьку. — А я тебе рубашку подарю…
— Не надо мне твоей рубашки, — сказал Митька и вырвал из рук тётки Груни мешок.
— А где ты её достал? Я всё кругом избегала. Да что же вы стоите, — вдруг спохватилась тётка Груня. — Садитесь пить чай. Вот хлеб, сало. Ешьте, пейте, — тётка Груня положила на стол хлеб с салом.
Ребята принялись есть хлеб с салом, пить остывший чай.
Тётка Груня подсела к Митьке.
— Где ты, Митенька, соль взял?
Митька посмотрел на Стёпку. Тот кивнул головой.
— У солдата, — буркнул Митька.
Тётка Груня вынула из-за пазухи мешочек с сахаром и дала им по крохотному кусочку.
— А где этот солдат с солью? — спросила она.
— На станции, в вагоне живёт.
— А на что он соль-то меняет? — пытала тётка Груня.
— А мы не меняли. Он нам просто так дал.
— И много у него соли? — глаза у тётки Груни от жадности стали круглыми, как у совы.
— Целый вагон. Бери, сколько хочешь, — соврал Митька.
Тётка Груня вскочила, засуетилась.
— Надо бежать, надо бежать, — говорила она, напяливая шубу.
— Беги, сестра, беги, сестра, — торопила её хозяйка.
Повязав кое-как платок, тётка Груня сунула за пазуху кусок сала, схватила мешок и погрозила ребятам пальцем.
— Сидите дома. Чтоб никуда не шляться. Как только вернусь — сразу домой поедем, — предупредила она и хлопнула дверью.
Митька со Стёпкой переглянулись и подмигнули друг другу.
Выпив по два стакана чаю и съев хлеб с салом, ребята задумались. Хозяйка убрала со стола посуду и пошла в хлев кормить корову. Лилька всё ещё спала, положив на стол голову. Стёпка толкнул её локтём. Лилька проснулась, замигала и, откинув со лба растрёпанные волосы, сердито спросила:
— Чего тебе?
— Ишь разоспалась, купчиха, — насмешливо сказал Стёпка и дёрнул её за косу.
— Отстань, — и Лилька смазала Стёпке по носу.
Митька увидел, как у Коршуна затряслись губы. Стёпка медленно поднялся. Лилька выскочила из-за стола, подбежала к печке, схватила ухват.
— А ну, попробуй подойди, — говорила Лилька и вертела ухватом, как солдат винтовкой. — Попробуй подойди, без глаз останешься.
По выражению её лица и по решимости, с какой орудовала она ухватом, Стёпка понял, что Лилька не задумываясь выколет ему глаза. Он засунул руки в карманы и презрительно плюнул:
— Живодёрка?
— Сам живодёр, — огрызнулась Лилька.
— Тряпичница.
— Сам тряпичник.
— А ещё пионерский галстук носишь! — закричал Стёпка.
— И ношу! — ещё громче закричала Лилька.
— И не стыдно твоей роже бесстыжей? — укоризненно спросил Коршун. — Люди с голода помирают, а ты пользуешься их горем. За одно яблоко шляпку. Дрянь! Хуже тётки Груни. А я ещё с тобой водился, защищал.
— Сами-то, сами-то вы лучше, — залепетала Лилька.
Стёпка неожиданно подскочил к Лильке, вырвал у неё ухват, поставил на место, хотел было отвесить оплеуху, но раздумал и махнул рукой.
— И бить-то тебя противно!
Лилька села, сжалась в комочек и вдруг заплакала.
Коршун с Локтем удивлённо переглянулись. Лилька Махонина, у которой кулаком слезу не выбьешь, и вдруг ревёт.
Сколько раз её колошматили в школе, хоть бы пикнула. А тут вдруг заревела, хотя её и пальцем не тронули. Лилька плакала навзрыд, причитая:
— А я виновата, а я виновата… Сами меня бросили. А тётка Груня кричит: меняй во все лопатки! Чего их жалеть. Походили они в шелках, теперь мы будем ходить. А вы меня бросили…
Митьке жаль стало Лильку. И в самом деле, почему они не взяли с собой Лильку. Дверь распахнулась, в избу ввалилась тётка Груня с пустым мешком.
— Ты чего ревёшь?! — накинулась она на Лильку.
— А тебе какое дело? — отрезала Лилька и отвернулась.
Вошла хозяйка с ведром.
— Принесла? — спросила она тётку Груню.
— Принесла… как же… Держи карман шире, — огрызнулась тётка Груня. Губы у неё трепыхались, как тряпки, и всю её трясло и колотило от злобы. Она швырнула мешок и стала ругать рябого солдата.
— Это не солдат, а бандит. Я ему сало даю. А сало-то как масло, хоть на хлеб намазывай. А он, чёрт рябой, берёт меня за воротник, поворачивает спиной и коленкой… И это называется наш защитник. Старую женщину коленкой…
Ребята захохотали.
— Вы чего зубы скалите! — возмущалась тётка Груня. — Вам смешно, как над женщиной надругались. Эх вы! — тётка Груня плюнула и приказала немедленно собираться в дорогу.
…Дорога домой не была такой весёлой, как на станцию. Темно. Холодно. Лес по сторонам тянулся бесконечной чёрной стеной. Над лесом низко висело прожжённое звёздами небо. Дул ветер, и звёзды мигали.
Стёпка, Лилька и Митька лежали под тулупом, прижавшись друг к другу. Каждый думал о своём. Митька думал о Генке с Иркой, о том, как они будут жить без матери в детском доме. Лилька думала о том, как ей теперь помириться с ребятами, перед которыми она чувствовала себя виноватой. Стёпка, человек практичный, разрабатывал в уме конструкцию своей пушки. О том, что мать его будет пороть за эту поездку, как сидорову козу, он не думал. Это само собой разумелось.
Тётка Груня сидела на своём мешке с барахлом, погоняла лошадь и всю дорогу ругала рябого солдата. За санками, высунув язык, плёлся Пугай. Ему очень хотелось забраться в сани и ехать вместе с людьми. И не потому, что он устал, а потому, что Пугай очень боялся волков. Лошадь торопилась поскорее попасть домой в тёплый хлев. Мороз разгуливал по лесу, постукивал по сучьям, хватал лошадь за ноздри, а тётку Груню за толстые лиловые щёки.
Глава X. Расплата. Встреча с Михой. Локоть воспитывает Нюшку. Дед Тимофей и его кузница. Второе появление бабки Любы. Страшные сны и счастливое пробуждение
Когда Коршун проснулся, в избе было тепло и ярко светило солнце. Стёпка зажмурился и с удовольствием потянулся. А когда он опять открыл глаза, то увидел мать. Она держала в руках ремень, на котором тятька правил бритву.
— Лежишь, поросёнок, — грозно сказала мать и сдёрнула с кровати одеяло.
— Пороть будешь? — спросил Стёпка и почувствовал, как на затылке зашевелились волосы.
— А ты думал, по головке гладить? — ехидно спросила мать.
— Ладно уж, пори, — Стёпка вздохнул, перевернулся на живот, уткнулся носом в подушку и вытянулся.
Ремень свистнул, и Стёпка дёрнул ногами. После второго удара ему показалось, что его ошпарили кипятком.
— За что? — закричал Стёпка.
— За старое, за новое и за два года вперёд, — сказала мать и так стеганула, что у Стёпки покатились из глаз жёлтые кольца.
— Хоть до смерти запори, не пикну, — заявил Стёпка и вцепился зубами в подушку. Но мать бросила ремень и сказала:
— Вставай завтракать, поросёнок.
Стёпка соскочил с кровати, сунул ноги в валенки и побежал умываться. Намочив под рукомойником нос, он долго и усердно тёр полотенцем сухое лицо.
Мать поставила на стол горячую картошку и миску солёных огурцов.
— А масло? — спросил Стёпка.
— Не за что, — холодно заметила мать.
Стёпка принялся уминать картошку с огурцами. Он так проголодался, что глотал не прожёвывая. Расправившись с картошкой, принялся за молоко и выпил две больших алюминиевых кружки.
Мать пожаловалась, что пропала курица.
— Поискал бы ты её.
— Ладно, ужо поищу, — сказал Стёпка.
— Не ужо. А сейчас же отправляйся искать, — строго приказала мать и стала убирать посуду.
Приказ огорчил Стёпку: его мысли были заняты пушкой.
Сразу же после завтрака он собирался бежать к Локтю, чтобы вместе отправиться на поиски ствола для пушки. Бревно требовалось найти ровное, не толстое и не слишком тонкое, и притом с трухлявой сердцевиной, лучше всего осиновое. Задача нелёгкая! А тут ещё как назло курица пропала.
Стёпка вышел на двор и глубоко задумался: «Где же искать эту паршивую курицу?» Пугай вылез из соломенной конуры, потянулся, зевнул и потерся о Стёпкины ноги.
— Отстань, не до тебя.
Пугай потряс ушами и уставился на хозяина.
— Курица пропала. Понимаешь ты?
Пугай, разинув пасть, громко щёлкнул зубами, как бы говоря: «понимаю и сочувствую».
Поиски курицы Стёпка решил начать с чердака, потом обшарить хлев и подполье.
Миха лежал на трубе и, навострив уши, слушал, как Стёпка, пыхтя, взбирается на чердак. Когда показалась Стёпкина голова, Миха вскочил и дугой выгнул спину.
Увидев кота, Коршун остолбенел.
— Миха, — прошептал он.
Миха стрелой пролетел мимо Стёпки и махнул с чердака в сени.
— Пугай! — заревел Коршун, — хватай его!
Пугай и без Стёпки знал своё дело. Он бросился на Миху и цапнул его за хвост. Миха свернулся клубком, зашипел, как змей, и, выпустив когти, кинулся Пугаю на морду. Пугай завизжал, схватился лапами за нос. А Миха пулей вылетел на улицу.
— Эх ты, мазила, — обругал Коршун Пугая, — с котом не мог справиться. А ещё гончар.
Пугай жалобно скулил. Миха разодрал ему нос… Стёпке стало жалко собаку. Он внимательно осмотрел царапину, поплевал на неё, растёр пальцем и сказал:
— Ничего. До свадьбы заживёт.
Стёпка был убеждён, что курицу сожрал Миха. Теперь надо было убедить в этом и мать. Он продолжал поиски. В подполе Стёпка нашёл куриные перья.
…Митька сидел дома. Настроение у него было ужасное. Мать ушла на работу, а его заставила нянчиться с Нюшкой. К его счастью, на этот раз Елизавета Максимовна забыла спрятать в сундук валенки с полушубком.
Митька качал люльку второй час подряд. Нюшке спать не хотелось. Митька же применял всё, чтоб только она уснула: и ласкал, и уговаривал, и упрашивал, и грозил, и ругался…
— Баю-бай, поскорее засыпай, — пел Митька. — Ты чего не спишь?!
Нюшка сучила ногами, раскрыв беззубый рот, пускала пузыри и что-то хотела сказать. Но вместо слов у неё получалось только: «Гы, гы».
— Я тебе погыгыкаю! — закричал на неё Митька.
— Гы, гы, гы, — ответила Нюшка.
— Подразнись, подразнись, лягушка голопузая, — зловеще прошипел Митька.
Нюшка заулыбалась и протянула братцу ручонки. Митька вытащил Нюшку из люльки, взял в охапку и стал уговаривать.
— Ты поспи немножко, а я к Коршуну сбегаю. Ненадолго. А потом я тебе буду картинки рисовать. Ну, пожалуйста, Нюшечка, милая сестрёнка, поспи чуть-чуть. Мне очень надо к Стёпке…
Митька запихал сестру в люльку и опять принялся напевать: «Баю-бай, поскорее засыпай…»
Вдруг у Нюшки испортилось настроение. Она заплакала.
— Эх ты, поросёнок немытый, — простонал Локоть. — Просил тебя, а ты… — И тут Митьку осенило: «А что, если напугать Нюшку…»
Он вывернул полушубок наизнанку, стал на четвереньки и пошёл вокруг люльки. Нюшка на минуту замолкла, а потом опять принялась хныкать. Терпение у Митьки лопнуло. Он вскочил на ноги и, размахивая руками, заревел, как настоящий медведь. Того, что случилось, Митька никак не ожидал. У Нюшки перехватило дыхание, она съёжилась и посинела.
«Что я наделал. А если умрёт!» — от страха у Локтя всё закрутилось перед глазами, и он, не помня себя, так, в вывернутое наизнанку шубе, бросился к двери…
— Что такое? — испуганно спросила Елизавета Максимовна. Митька поднял глаза. На пороге стояла мать. Он не успел сообразить, что ответить, как по ушам хлестнул пронзительный Нюшкин крик. Мать метнулась к люльке, а Митька, схватив шапку, бросился на улицу.
Митька бежал к Стёпке. Стёпка бежал к Митьке. Встретились они около дома Витьки Семёнова.
— Я к тебе, Коршун, — сообщил Митька.
— А я к тебе, Локоть. Миха у нас курицу задрал.
— А я насовсем из дому сбежал.
— Неужели насовсем? — изумился Коршун. — Почему?
Митька не успел рассказать, как он напугал Нюшку. На крыльце показался Витька Семёнов с портфелем в руке.
— Гляди-ка, никак он ополоумел, — сказал Стёпка. Витька подошёл к ним, высморкался, помахал портфелем и важно изрёк:
— Баклуши бьёте. Ну-ну, бейте. А я пошёл.
— Куда? — в один голос спросили ребята.
— На работу. В правление. Меня счетоводом назначили…
Стёпка злорадно усмехнулся.
— Кто это тебя назначил?
— Елизавета Максимовна. Ну, мне с вами болтать некогда, — Витька повернулся и пошёл.
Стёпка догнал его, схватил за воротник.
— Почему тебя, а не… — Стёпка хотел сказать «меня», но осекся. — Почему тебя? — повторил он и дёрнул Витьку за воротник.
— Потому что больше некого назначать! А у меня шесть классов и по арифметике четвёрка. А если ты меня будешь лапать за воротник, я пожалуюсь Елизавете Максимовне. Убери руки! — вдруг приказал Витька и топнул ногой.
Стёпка спрятал руки за спину.
— Вот так-то, — сказал Витька и зашагал, размахивая портфелем. Шёл он важно, как гусь, переваливаясь с боку на бок. Длинное пальто волочилось по снегу, хлестало по пяткам.
— Чучело канцелярское, — сказал Стёпка и сердито плюнул. Назначение Витьки счетоводом он воспринял как личное оскорбление. Митьке же просто не верилось, что Витька Выковыренный, которого он в любое время мог щёлкнуть по носу, вдруг пролез в начальники. Это было и смешно, и обидно…
Ребята отправились на поиски бревна для пушки. Сначала перерыли дрова у Митьки, потом у Стёпки, потом у соседей, и, наконец, нашли там, где и не подумали бы искать. Бревно валялось на дороге. Было оно и осиновое, и подходящего размера, и с гнилой сердцевиной.
— Замечательное! Как будто специально для нас подбросили! — воскликнул Стёпка.
Поиски бревна были долгими и утомительными. Митька так измучился, что еле держался на ногах. И Стёпкина затея с пушкой в его глазах поблёкла, показалась сомнительной. Он хмуро посмотрел на «замечательное» бревно и сердито пнул его ногой.
— А дальше что?
— Просверлим дыру с кулак шириной, и будет дуло.
— А чем сверлить?
— Сверлом.
Митька безнадёжно махнул рукой.
— Где же такое сверло найдём…
Стёпка опешил. «И в самом деле такого сверла в деревне не найти», — подумал он.
— А если прожечь? — предложил Митька.
— Прожечь? — переспросил Стёпка. И стукнул себя кулаком по лбу: — Вот балда, не мог догадаться. Айда в кузницу. Дед Тимофей нам её в один час прожжёт.
Кузница — бревенчатый прокопчённый насквозь домишко — стояла на берегу реки. Чтобы попасть к ней по дороге, надо было кругом обойти деревню. Но ребята очень торопились. И поволокли бревно напрямик по сугробам.
Кузнец дядя Тимофей, маленький, коренастый, длиннорукий, считался в деревне чудаком.
Кузнец был занят важным делом: ковал кочергу. Увидев ребят, дед бросил кочергу, подошёл к Стёпке и ущипнул его за щёку.
— Хорошая щека, — похвалил дед. Митьку он подёргал за нос и сказал, что нос тоже хороший и совсем без соплей.
Митька посмотрел на измазанные Стёпкины щёки, Стёпка — на чёрный Митькин нос, и они принялись хохотать. Шутки деда Тимофея им всегда нравились. Сам же дед Тимофей смеялся, как маленький: хлопал руками себя по бокам и приплясывал. Насмеявшись вдоволь, дед вытащил кисет с махоркой и стал свёртывать цигарку. Стёпка подсел к нему и закричал в ухо:
— Дедушка Тимофей, просверли нам дырку!
— Ась, чего ты пищишь, как комар. Ори громче.
Стёпка заорал изо всех сил.
— А зачем тебе дыра?
Ребята с обеих сторон принялись кричать деду в уши, что они собираются делать пушку.
Дед Тимофей осмотрел бревно и подёргал свою грязную бородёнку.
— А чем будете расплачиваться?
Стёпка поскрёб затылок, Митька почесал шею. Дед понял, что платить ребятам нечем.
— Ладно, — сказал кузнец. — После войны рассчитаемся.
— Согласны.
Работа закипела. Деду Тимофею надоело возиться с кочергой, и он с радостью принялся прожигать в бревне дырку. Стёпка с Митькой по очереди качали мехи́. Кузнец добела накаливал железный шкворень[1] и выжигал им сердцевину. Бревно шипело, выбрасывая клубки белого едкого дыма.
Дыра получилась, как у настоящей пушки, ровная и гладкая.
Пока искали бревно, пока сверлили дырку, и день кончился. В Ромашках кое-где в избах светились тусклые огоньки. В правлении колхоза окна тоже были жёлтые, а из трубы валил дым.
— Посмотрим, что делает Витька-счетовод, — предложил Стёпка.
Витька сидел за столом и, высунув язык, выводил на обложке толстой тетрадки лиловые буквы. Увидев ребят, он встал, засунул руки в карманы и строго спросил, что надо?
— Зашли посмотреть, как ты счетоводишь, — сказал Стёпка.
— Прошу садиться, — Витька поставил около стола две табуретки и обмахнул их рукавом.
Ребята робко присели. Витька взгромоздился на стул, отодвинул тетрадку, побарабанил по столу пальцами.
— Ну… я вас слушаю.
Такого приёма они никак не ожидали. Ребята посмотрели друг на друга и потупились.
— Уж очень ты сразу важным стал, — сказал Стёпка.
— Должность такая, — не без гордости заявил счетовод. От такого ответа Митька поёжился. Стёпка тоже не знал, с какой стороны подъехать к Витьке, который вдруг в один день поднялся на недосягаемую высоту.
В правлении было чисто и тепло. Всё лежало на своём месте. Счёты, обычно валявшиеся на столе, теперь висели на гвоздике. Портрет Ленина блестел, как новый. Красный флаг был обёрнут газетой и перевязан шпагатиком. Ржаного снопа, который пять лет сидел в простенке между окнами, теперь не было.
— А кто сноп выкинул? — спросил Митька.
— А что ему тут делать? Пыль собирать? — засунув руки в карманы, Витька прошёлся по канцелярии, подкинул в печку дров и, опять сев за стол, постучал пальцами.
— А что ты сегодня наработал? — спросил Стёпка.
Витька взял тетрадку, дунул, на неё и положил перед Стёпкой.
— Сначала руки вытри, а потом лапай, — предупредил он.
Стёпка вытер о штаны руки, взял тетрадь и вслух прочитал:
«Ведомость по учёту трудодней колхоза „Красный партизан“».
Написано было так, словно напечатано. Стёпка с уважением посмотрел на Витьку.
— Сам писал?
— А то кто?
— Неплохо.
Глаза у Витьки засияли, но он сразу же погасил радость и нахмурился.
— Ничего особенного.
Стёпка листал тетрадку и с трудом сдерживал себя, чтобы не ахать от удивления. Все страницы были разлинованы красными столбцами, среди них попадались и синие, и даже зелёные.
— И это ты сам?
— Что?
— Столбцы рисовал?
— Не столбцы, а графы, — поправил Витька Стёпку и отобрал у него тетрадку.
— А мы пушку делаем, — похвастался Митька. — Хочешь посмотреть? — И, не дожидаясь согласия, выскочил на улицу, приволок бревно. — Глянь, какую дыру прожгли.
Витька внимательно осмотрел дыру, потом взял линейку и измерил.
— Малый калибр, — авторитетно заявил он. Стёпка с Митькой даже и слова такого не слыхали, но, чтоб не показать своё полное невежество, скромно промолчали. Потом они стали наперебой рассказывать, как прожигали с дедом Тимофеем дыру.
Витька нахмурился и серьёзно сказал:
— Деду надо инвентарь к весне готовить, а он с вашей пушкой возится.
Стёпка исподлобья посмотрел на Витьку и процедил сквозь зубы:
— Не очень-то задавайся. Подумаешь, какой указчик нашёлся.
Витька встал, одёрнул рубаху, посмотрел на ходики.
— Топайте домой. Болтологию мне с вами некогда разводить. У меня во сколько работы, — и Витька выразительно провёл пальцем по шее. — С начала войны дела запущены. Как ушёл счетовод на фронт, никто ими не занимался. А мне надо всё в две недели выправить. Вот так-то. — И он протянул им руку. Стёпка с Митькой осторожно пожали Витькину руку и, взяв бревно, выволокли его на улицу.
— Постойте! — окликнул их Витька.
Ребята остановились и почтительно замерли.
— Когда будете испытывать пушку, не забудьте позвать меня. Понятно?
— Ладно, — неохотно отозвался Стёпка.
— Я вас больше не задерживаю, — Витька взобрался на стул, обхватил руками голову, сделал вид, что глубоко задумался.
Локоть помог Стёпке дотащить бревно до самого дома. Всю дорогу они молчали, подавленные величием Витьки Выковыренного. Свалив на крыльце бревно, ребята посидели и стали прощаться.
— А из Витьки, наверное, неплохой счетовод получится, — сказал Локоть.
Стёпка мрачно усмехнулся.
— Цыплят по осени считают.
— И рисует он здорово!
— Задаётся ещё здоровее. Ну, да мы его проучим! — решительно заявил Стёпка.
— Конечно, проучим, — согласился с ним Митька.
— Ну, будь здоров. Мы-то уж с тобой дружбы терять не станем, — Стёпка похлопал приятеля по плечу и крепко сжал руку. — Завтра с утра будем колёса делать. Смотри не задерживайся.
— Ладно, — сказал Митька и поплёлся домой.
Если б не зима, Митька ни за что бы не пошёл в избу. Где-нибудь на сеновале переночевал бы. Он знал, что побег из дому не пройдёт так даром.
В отличие от Стёпкиной матери, которая воспитывала сына ремнём, Елизавета Максимовна читала Митьке длинные и нудные нотации, потом ставила на два часа в угол и на весь день запирала в сундук валенки с полушубком. Это для Митьки было в сто раз хуже порки.
«Стёпке благодать. Вытянут два раза ремнём — и свободен, — позавидовал Митька товарищу. — А мне опять лекции. Как только открою дверь, так сразу и начнёт: „Чадо ты, чадо непутёвое. Становись в угол, чадо“, — передразнил Митька Елизавету Максимовну. — И всё из-за кого? Из-за Нюшки. Какая бы у меня расчудесная житуха была, если бы не Нюшка. И зачем только она народилась. Ни у кого из ребят нет Нюшек, только у меня. Разнесчастный я человек!»
Митьке так стало жалко себя и такой ненавистной показалась ему жизнь, что он подумал: «А не умереть ли мне? Лягу на снег и замёрзну. Вот уж тогда наплачутся». Мысль о смерти показалась Митьке отрадной. Он даже стал высматривать местечко, где бы поудобней лечь и замёрзнуть. Однако удобного местечка не нашлось, и он отложил эту затею на другой раз.
Митька не заметил, как ноги сами притащили его к дому. Окна были ярко освещены.
«Интересно, зачем это мама сегодня вместо коптилки лампу жжёт. А может, у нас гости. Вот было б хорошо! При гостях она не станет меня пилить и ставить в угол…»
Митька залез на завалинку и прилип к окну. Но как он ни всматривался, так ничего и не увидел. Двойные рамы промёрзли насквозь и заплыли льдом.
Митька спрыгнул с завалинки, потоптался около крыльца и толкнул дверь.
Каково же было удивление Митьки, когда он увидел бабку Любу. Она сидела около люльки и показывала пальцами Нюшке «козу». Елизавета Максимовна собирала на стол ужин.
— Баду, баду, — говорила бабка Люба и делала вид, что хочет забодать Нюшку.
Нюшка, разинув беззубый рот, дрыгала ножками и пыталась ухватить бабкин палец. Около печки стоял окованный железными полосами сундук.
«Неужели бабка жить у нас будет? Наверное. Зачем же тогда сундук притащили». Митька чуть не запрыгал от радости. И только огромном силой воли сдержал себя. Он чинно разделся: то есть пальто с шапкой повесил на гвоздь, поплевал на ладони, пригладил волосы, вежливо поздоровался, потом сел за стол и, как Витька-счетовод, побарабанил пальцами.
— Что это ты такой сегодня тихий? — спросила Елизавета Максимовна. — Или заболел?
— Здоров, как бык, — ответил Митька и одним глазом покосился на бабку Любу. — Она жить у нас будет?
— Будет.
— Долго?
Елизавета Максимовна с удивлением посмотрела на Митьку.
— А ты разве не хочешь, чтоб бабушка Люба жила у нас?
Дальше сдерживать радость у Митьки не хватило сил.
— Конечно, хочу! — воскликнул он. — Что мне, жалко? Пусть живёт и… — чуть не выпалил: «нянчится с Нюшкой», но вовремя прикусил язык и сказал совсем не то, что думал: — Одной-то ей жить не сладко.
— И за Нюшкой присмотрит. А то из тебя нянька никудышная, — сказала Елизавета Максимовна.
— Совсем никудышная! — горячо заверил Митька.
Сели ужинать. Митька, как только мог, ухаживал за бабкой Любой: подкладывал ей хлеб, отдал свой кусок мяса и рассказал, как он ездил на станцию, как познакомился с ленинградскими ребятами, про соль, про пушку. Рассказ у него получился длинный-предлинный. Бабка Люба половину не поняла, а половину не расслышала. Она погладила Митькины волосы и сказала:
— А малец-то у тебя, Елизаветушка, говорун.
— Болтушка. Не знаю, в кого такой уродился, — сказала Елизавета Максимовна.
— В папу, — заявил Митька.
Елизавета Максимовна грустно улыбнулась.
— Из Кирилла, бывало, слова клещами не вытянешь. — И вздохнула: — Что-то давно от него писем нет.
— Я спрашивал у почтальона. Он сказал, что пишет, — сообщил Митька.
После ужина Елизавета Максимовна объявила:
— На печке будет спать бабушка Люба, там потеплее, а ты, Митя, будешь спать вместе со мной на кровати.
Митька теперь готов был спать хоть под кроватью.
Бабка Люба забралась на печку, Митька нырнул под одеяло. Елизавета Максимовна, покормив Нюшку, села за стол и стала писать.
— Письмо? — спросил Митька.
— Спи и не мешай, — сердито сказала мать.
Митька закутался с головой в одеяло и попытался уснуть, но не спалось. На печке похрапывала бабка Люба, Елизавета Максимовна скрипела пером и что-то про себя шептала. Митька, высунув голову из-под одеяла, следил за ней. Чуть склонив набок голову, она писала. Свет лампы падал на её лицо, худенькое, бледное, с очень чёрными узкими бровями. Со всего лица на лоб сбежались морщины. Митька впервые увидел, что мать-то у него хрупкая и болезненная, а не такая сильная и здоровая, как он думал. Ему стало до слёз жалко её. «А что, если она умрёт», — с ужасом подумал Митька. Елизавета Максимовна перестала писать, задумалась, лицо её побледнело, стало как у покойницы. Глаза широко раскрылись, уставились в одну точку. Митька от страха вскочил.
— Мамка! — закричал он.
Мать вздрогнула и сердито спросила:
— Ты чего орёшь?
— А ты чего так смотришь?
Елизавета Максимовна не ответила, и перо опять забегало по бумаге. Митька завернулся в одеяло, зажмурил глаза и стал считать: раз, два, три… — досчитав до сорока, сбился и начал снова. Но не спалось, хоть лопни.
— А правда, что Витька Выковыренный будет счетоводом? — спросил Митька.
— Правда.
— Я тоже хочу работать.
— Будешь и ты работать, — как эхо ответила мать.
Митька оживился.
— Кем?
— Навоз возить.
Митька оскорбился:
— Он счетоводом, а я навоз!
Елизавета Максимовна подняла голову, нахмурилась и грозно спросила:
— Ты будешь спать в конце концов? Или я…
Митька нырнул под одеяло, закутался с головой, подтянул колени к подбородку и не заметил, как уснул. И снилось ему всю ночь, как он возит в поле навоз.
Он возит, а Витька Выковыренный стоит посреди поля с огромными канцелярскими счётами и отшвыривает костяшки: «раз воз, два воз, три воз», — сто возов насчитал — и всё мало.
— Когда же я кончу? — кричит Митька.
— Как все костяшки справа налево перешвыряю, так и кончишь. Работай, работай, — погоняет Витька и щёлкает его по носу.
Митька замотал головой, открыл глаза. Около кровати стоял Стёпка.
— Это ты меня щёлкнул по носу? — спросил Митька.
— Я же потихоньку. Чуть-чуть дотронулся.
Митька облегчённо вздохнул и блаженно потянулся.
— А мне приснилось, что Витька Выковыренный.
Елизавета Максимовна давно ушла на работу. Бабка Люба сидела около люльки и показывала Нюшке «козу». Митька натянул штаны и побежал к рукомойнику.
«А для кого умываться? — подумал он. — Кому это нужно? Мамки всё равно дома нет». Неумытый, нечёсаный Митька сел завтракать. Выпив полкрынки молока и умяв краюху хлеба, Митька похлопал себя по животу…
— Во, надулся, как барабан.
Накинув на плечи полушубок и крикнув бабке Любе: «Я пошёл», — Митька выскочил на улицу.
Утро выдалось морозное. Под солнцем снег блестел, резал глаза. Митька натянул шапку, застегнулся на все пуговицы, похлопал рукавицами.
— Айда на озеро.
— А пушку кто будет делать? — спросил Стёпка.
— Пушку так пушку. Мне всё равно.
Ему теперь действительно было всё равно. Теперь он был свободен, как птица. Весь день до темноты они выпиливали колёса, потом мастерили лафет с затвором… а потом у них всё поломалось и развалилось. На другой день ребята поволокли пушку в кузницу к деду Тимофею.
Глава XI. Бездомное житьё. Встреча с бабкой Любой. Миха заселяется на чердаке Митькиного дома
Миха долго и бесцельно слонялся, не зная, куда податься.
В конце концов он опять отправился на колхозное гумно. Голуби с воробьями, конечно, были там и старательно перетряхивали мякину. Увидев кота, птицы всполошились.
Голуби сразу же поднялись и улетели. Расправа с почтарём их кое-чему научила. Воробьи вспорхнули под крышу, уселись на перекладине. Миха походил вокруг и нырнул под веялку.
Прошло полчаса. Миха ждал. Ждали и воробьи. Это было своего рода соревнование — кто кого пересидит. Воробьи надеялись, что Миха не выдержит, уйдёт и тогда они попируют. Но терпение у Михи было железное. Он его выковал в лесу. Да и идти ему всё равно было некуда.
Прошёл час. Воробьи заволновались, загалдели. Потом они снялись с перекладины и понеслись к колхозному лабазу.
У лабаза разгуливали голуби. Воробьи, не задерживаясь, повернули к коровнику.
Миха вылез из-под веялки, посидел около кучи с соломой. Но и тут он ничего не высидел. Мыши притаились.
Долго не раздумывая, Миха побежал к лабазу. Но там уже никого не было. Одна ворона сидела на крыше. Она равнодушно посмотрела на кота и, взмахнув крыльями, почти задевая брюхом снег, полетела в сторону скотного двора.
Двери коровника были распахнуты настежь. Колхозница, засучив рукава лиловой шерстяной кофты, таскала вилами навоз. От навоза шёл пар, а из коровника пар валил клубами. Голуби с воробьями толкались у ворот.
Миха хотел с ходу прошмыгнуть в коровник. Но колхозница неожиданно подняла вилы и, размахнувшись, метнула в кота. Миху спасла только случайность. Вилы пролетели у него над ухом и, уткнувшись в снег, закачались.
— Ах, ты, промахнулась, — в сердцах сказала колхозница.
Миха бросился от коровника и побежал по рыхлому глубокому снегу.
Бежать было очень тяжело. С трудом он выбрался к какому-то сараю. Забравшись в сено, кот отдыхал до вечера. Свернувшись клубком, он, наверно, думал о своей неустроенной жизни, тосковал по лету, по весёлому солнечному лесу, где было так сытно и так вольготно.
Мороз жал вовсю. Миха продрог до костей. Вылез он из сарая, только когда стемнело. Его трясло, как соломенный сноп на ветру.
Куда пойти? Куда податься? К бабке Любе. Больше некуда.
Миха пробирался крадучись. Теперь в деревне ему все враги. Бабка Люба — тоже враг, но не такой страшный.
Как и в первый день возвращения из леса, так и теперь на двери висел огромный замок.
Миха без труда проник в подпол. Из подпола в избу. В избе было немногим теплее, чем на улице.
Он походил по избе, обнюхал углы. Ничего, ни крошки! Кот махнул на печку, лёг на драный валенок, попытался согреться…
Миху трясло и колотило от холода. Миха спрыгнул на пол, вскочил на шесток и лапой свалил заслонку. В печку со всей избы сползлись тараканы. Они сидели там друг на друге. Пройдя в самый дальний угол, Миха лапами расшвырял прусаков, улёгся на кирпичи животом. Он согрелся и уснул. Часа через два Миха проснулся. От голода кружилась голова. Ещё бы! Двое суток у него во рту не было ничего, даже заплесневелой крошки.
Миха подцепил когтем прусака и, зажмурив глаза, проглотил.
— Мяу… мра… а… азь! — простонал Миха. Но есть было нечего, а жить надо! — и он принялся жевать тараканов. Они хрустели на зубах, как поджаристое мясо. Только вкус был совсем не мясной. Потом Миха опять уснул и проснулся от холода. Печка совсем остыла. Прусаки густым слоем усыпали под. Миха вылез из печки и, разбив последнее стекло, выскочил на улицу.
Уже светало.
Миха отправился шастать по хлевам. Проверил один, второй, третий — ничего. В четвёртом наткнулся на розового пухлого поросёночка.
Поросёнок, похрюкивая, лопал варёную картошку с молоком. Миха возмущённо зашипел, отогнал от кормушки поросёнка и набросился на картошку. Набив пузо, он с трудом вскарабкался на чердак и пролежал там весь день у тёплой трубы. Вечером он оставил поросёнка без ужина. Утром следующего дня хозяйка накрыла Миху у кормушки и огрела пустым ведром.
Ещё два дня Миха жил впроголодь. Ему только раз удалось пробраться в погреб и полакомиться сметаной.
Как-то, совершая очередной поход по куриным гнёздам, Миха забрёл в один хлев и увидел клетку с кроликами. Два белых красноглазых кролика уставились на него. Миха подбежал к клетке, ударил по ней лапой и, зацепив когтем сетку, потянул на себя.
Однако проволока оказалась прочной, и сколько Миха ни драл её когтями, она только звенела. Походив вокруг клетки, Миха нырнул в подпол.
Лаз под печкой вёл прямо в кухню. Миха высунул голову и сразу же втянул её обратно. Он увидел бабку Любу. Она мыла горшок. Миха стал терпеливо ждать.
Заревела Нюшка.
Бабка Люба пошлёпала к люльке показывать Нюшке «козу». Миха вылез и… замер. Он увидел на столе блюдце с кашей для Нюшки. Миха съел кашу и, прихватив с собой бабкин кусок хлеба, нырнул в погреб.
Пообедав, Миха забрался на чердак и, развалясь около тёплой трубы, крепко уснул. И снились, наверно, ему всю ночь красноглазые кролики.
Глава XII. Бабка Люба замаливает грехи. Испытание пушки. Разгром крепости. Коршун думает. Миха в осаде. Жестокая расплата. Драка Коршуна с Локтем. Запоздалые раскаяния. Страшный сон Митьки Локоткова
Митька проснулся ни свет ни заря. Мать только что затопила печку.
— Куда? — спросила Елизавета Максимовна, когда тот, сунув ноги в валенки, потянулся к полушубку.
Митька сбросил с ног валенки, забрался под одеяло и стал ждать, когда мать истопит печку, приготовит завтрак и уйдёт на работу. На печке ворочалась бабка Люба. Потом она сползла на пол, встала посреди избы на колени и принялась отвешивать поклоны. Бабка молилась усердно и всё просила господа, чтобы он простил её, грешную.
«В чём же это бабка провинилась перед ним? — размышлял Митька. — Вот я, например, стибрил банку с зелёной краской. Мамка её берегла, чтоб покрасить наличники у окон, а мы с Коршуном выкрасили пушку. Мне надо молиться, чтоб она не узнала».
Митька высунул нос из-под одеяла и стал одним глазом наблюдать за матерью. Она шуровала в печке кочергой. Вместе с багровым языком огня в трубу летели искры.
Когда же мать уйдёт на работу? Чего всё топчется около проклятой печки? Надо пушку испытывать, а она всё топчется.
В конце концов терпение у него лопнуло.
— Мам, а ты сегодня на работу не опоздаешь?
— А тебе не терпится на улицу сбежать?
— Я просто так спросил. Уж и спросить нельзя.
— До чего же ты изоврался, сынок, — укоризненно сказала Елизавета Максимовна.
— Когда изоврался? Нельзя уже и кроликов накормить?
— Кто же тебе мешает? Встань да и покорми.
Митька спрыгнул с кровати и заметался по избе. На поспешность, с которой сын одевался кормить кроликов, Елизавета Максимовна не обратила внимания.
Митька набрал в шапку моркови, выскочил из избы в сени, потом в хлев, подбежал к клетке, открыл двери, швырнул морковку кроликам и, не оглядываясь, бросился со двора на улицу.
Пушку испытывали за огородами около пустого сарая. Ещё издали Митька увидел, что все уже собрались. Когда Локоть прибежал, на него никто не обратил внимания. Ребятам было не до Митьки. Они строили снежную крепость. Строительством распоряжался Витька Выковыренный. Лилька Махонина, накатав ком снега, пыталась поднять его на стену. Витька, засунув руки в карманы, наблюдал, как Лилька пыхтит под снежной глыбой. Увидев Митьку, он закричал:
— Чего рот разинул, Локоть, помоги!
Митька и сам видел, что надо помочь, но грубый приказ его оскорбил.
— Сам помогай. Стоит тут руки в брюки. Может, в рыло хочешь? — и Митька сжал кулаки.
Витька не хотел, чтоб ему дали в рыло, и бросился помогать Лильке.
— Вот так вас задавал-счетоводов надо учить, — сказал Локоть и пошёл в сарай.
В сарае стояла пушка. На фанерном зелёном щите её было выведено мелом: «Смерть немецким фашистам!!!» Стёпка ощупывал затвор.
— Всё возишься? — спросил Митька.
— А ты всё спишь? — спросил Коршун. — А ну, помоги оттянуть затвор.
Затвор был сделан из берёзовой палки. На одном конце её находился набалдашник, или, как его называл Коршун, казённик, — на него надевалась резина. Оба конца резины были наглухо, гвоздями, прибиты к стволу.
Оттянули затвор назад, поставили на зарубку, и Коршун приказал Митьке зарядить пушку. Здесь же лежали снаряды: картошка и десяток камней.
— Чем? — спросил Локоть.
— Сперва попробуем картошкой.
Митька запихал в ствол картофелину. Коршун навёл пушку на стену и спустил затвор. Он щёлкнул, и картофелина, ударившись о стену, разбилась вдребезги.
— Вот это да! — закричал Митька.
— Заряжай камень!
Пальнули камнем, и он оставил в стене вмятину.
— Видал, Локоть, какую мы штуку сработали! — Коршун обнял Митьку, помял его, нахлобучил на глаза шапку. Явился Выковыренный и доложил, что крепость готова.
— Сейчас мы её громить будем, — сказал Стёпка и приказал выкатывать артиллерию.
Колёса у пушки были настоящие. Дед Тимофей пожертвовал ось от телеги и два старых колеса. На оси укрепили лафет — деревянный брус. В нём продолбили жёлоб. В жёлоб положили ствол, притянули его к лафету проволокой. Поэтому ствол можно было опускать и поднимать, как говорят артиллеристы: стрелять под любым углом.
Пушку выкатили, поставили перед крепостью, зарядили камнем.
— Думаешь, пробьёт? — насмешливо спросил Выковыренный.
— Насквозь пролетит и вылетит, — заверил Коршун.
— Спорим! — и Витька протянул руку.
— А чего спорить. Если уверен, что не прострелит, садись в крепость, а я пальну.
Витька посмотрел на крепость, потом на пушку и поёжился.
— Что, боишься? — спросил Коршун. — Кто засядет в крепости? Дам раз выстрелить.
— Я! — сказала Лилька и спряталась за снежную стену.
— Готова? — крикнул Стёпка.
— Готова! — ответила Лилька.
— Огонь! — заревел Коршун и спустил затвор.
От страха у Митьки невольно закрылись глаза. А когда он их открыл, то увидел над стеной крепости Лилькино лицо с высунутым языком.
— Ну что, попал? — кричала она.
Пошли смотреть. Камень и наполовину не пробил стену. Счетовод усмехнулся:
— Я же говорил… Слушай, Коршун, дай раз стрельнуть, и я пойду в правление. Дел по горло, валять дурака мне с вами некогда.
Коршун смерил Витьку с ног до головы и махнул рукой.
— Заряди ему, Локоть. Пусть стрельнёт и катит восвояси.
Митька зарядил. Выковыренный стрельнул в небо и, засунув руки в карманы, потащился в правление. Потом стала стрелять Лилька. Митька положил на стену шапку, Лилька пульнула и сбила.
— Молодец, — похвалил её Коршун и разрешил ещё раз стрельнуть.
Митька тоже пулял по своей шапке и ни разу не попал.
Потом все по очереди стали стрелять по Митькиной шапке. И все, даже Коршун, промахнулись. Стрелять по цели надоело. Ребята разбились на две армии и стали играть в войну. Первой армией командовал Коршун. Второй — Локоть.
Коршун взял себе пушку, Лильку Махонину и вечного второгодника Ваську Самовара. Он считался последним воякой в Ромашках. Стёпка его взял с единственной целью, чтоб тот лепил снежки для пушки.
В отряде Митьки находилось пять бойцов. Братья Вруны: Колька Врун и Сенька Врун. Третьим бойцом был Петька Лапоть, четвёртым — второклассник, Лилькин брат Аркашка.
Долго устанавливали правила игры, прежде чем договорились «фрицев» и «наших» играть по очереди. Коршуну выпал жребии «фрицы». Он должен был осаждать крепость Армия Локтя — отражать атаки.
«Наши» засели в крепости. Стёпка начал осаду. Лилька с Самоваром готовили «снаряды», а Коршун стрелял. Потом Лилька стреляла, а Стёпка с Самоваром готовили снежки. А потом Стёпка с Лилькой вместе стреляли, а Самовар всё лепил снежки.
Осаждённые в крепости чувствовали себя прекрасно. Они даже не прятались. Вместо снарядов из пушки вылетала снежная пыль. «Наши» забрались на стену крепости и начали обстрел «фашистской батареи». Лильке попали в голову. Самовар выковыривал снег из уха. Коршун прятался за щит пушки. Но вот и ему закатили прямо в глаз. Стёпка охнул, завертелся волчком, потом зарядил пушку картофелиной и, не целясь, выстрелил. Лапоть, как мельница, замахал руками, свалился со стены и заревел: «Убили!»
— Эй вы, «фрицы», уговор картошкой не стрелять! — закричал Митька.
Стёпка не ответил и опять пульнул картофелиной. Она пролетела около Митькиного уха.
В крепости притихли. И вдруг с диким воем «наши» высыпали из крепости и пошли в атаку. Коршун и пушку зарядить не успел, как на него навалились сразу трое. Стёпка пытался их сбросить, но они прижали его, сели верхом и стали кормить снегом. Отчаянный вояка Аркашка в один миг расправился с Самоваром.
— Сдаюсь! — закричал Самовар и поднял руки.
Но Аркашке этого было мало. Он сбил Самовара с ног, вывалял в снегу, а потом бросился на помощь командиру. Митька атаковал Лильку, и не особенно удачно. Она сопротивлялась отчаянно, и если бы на неё сзади не напал брат, Лилька бы ещё повоевала. Аркашка схватил сестру за ногу, и она полетела в снег носом. Брат оседлал её и принялся кормить снегом. Действовал он решительно и безжалостно, видно, давно на сестру точил зуб. Разгромив «фрицев», Митькина армия поволокла пушку в крепость.
Малость передохнули и опять принялись за войну. Теперь «фрицами» стала «Митькина армия». Учитывая неравенство сил, Коршун потребовал себе еще одного бойца. Ему отдали Лаптя.
Осада крепости длилась недолго. «Наши» перешли в решительное наступление, развалили крепость и в рукопашном бою одержали полную победу. Особенно досталось Аркашке-букарашке. Лилька набила ему снегу не только за рубашку, но и в штаны.
Усевшись на развалины крепости, ребята стали думать, во что бы ещё сыграть. Думали, думали и ничего интересного не придумали.
— Не делом мы занимаемся. Люди на фронте воюют, кровь за нас проливают, а мы, как маленькие, в снежки с Аркашкой играем, — сказал Коршун.
Аркашку это глубоко обидело.
— Я не маленький. Мне уже десятый пошёл.
Стёпка, засунув руки в карманы, прошёлся, посвистал и опять сел. Ребята обалдело смотрели на своего атамана и ничего не понимали.
— Ну, а что нам делать? — спросил Сенька Врун.
Коршун усмехнулся.
— Что хотите, то и делайте. Мне-то что. И давайте-ка топайте по домам. Хватит, побаловались. Ты, Локоть, останься. Мне с тобой надо серьёзно поговорить.
— О чём? — спросил Митька.
— После скажу. Пусть разойдутся.
Но ребятам не хотелось расходиться. Они переминались с ноги на ногу, смотрели на Стёпку.
Это возмутило Коршуна.
— Чего ждёте? — спросил он. — Давай проваливай. И пушку забирайте!
— Ты что, с ума сошёл? — воскликнул Митька.
— Пусть забирают. Теперь она нам не нужна. У нас теперь с тобой поважней дела, — проговорил Стёпка.
Миха появился неожиданно. Его заметила Лилька и показала пальцем.
— Ой, что это? Вон, вон, из-за угла высунулось.
Ребята глянули и увидели чёрную голову Михи. В зубах он держал что-то белое, похожее на большой ком ваты.
— Тихо, — прошептал Стёпка.
— Кролик, — шепнул Митька.
— Замри, — и Стёпка до боли сжал ему руку.
С минуту Миха смотрел на ребят, потом вылез из-за угла и пошёл к двери. У двери он остановился, оглянулся и юркнул в сарай.
— Ни с места! — и Стёпка погрозил кулаком.
Он осторожно подкрался к сараю и захлопнул дверь. Состоялось короткое совещание, на котором было решено Миху прикончить на месте.
Чуть приоткрыв дверь, ребята пролезли в сарай и опять плотно закрыли. Посреди сарая валялся белый кролик. Митька нагнулся над ним и перевернул на спину. Шейка у кролика была перекушена, два красных, как брусничины, глаза уже затягивала мутная плёнка.
— Это ж моя крольчиха. У неё скоро должны были быть маленькие, — простонал Митька.
Стёпка тоже осмотрел крольчиху и спросил:
— Как же это он её?
— Я, видно, забыл закрыть клетку. А он, — Митька до боли сжал зубы и махнул рукой, — убивайте. Теперь мне его ничуть не жалко.
— Бей Миху! — заорал Аркашка, размахивая палкой.
— А где же он? — спросил Лапоть.
Стали искать Миху. Открыли настежь дверь и увидели его под самой крышей на перекидном бревне.
— Ого, куда забрался! — удивился Стёпка.
— Ну и кот, как в сказке, — сказал Сенька Врун.
— Его и не вызволишь оттуда, — усомнился Лапоть.
— Вызволим, как миленького, — заверил Стёпка, отобрал у Аркашки палку и, размахнувшись, запустил в Миху. Палка ударилась о бревно. Миха не пошевелился.
— Да разве в него попадёшь? Видишь, он как блин растянулся на бревне, — сказала Лилька.
— Попаду, — пробормотал Стёпка и, размахнувшись, изо всех сил запустил палку в крышу. Она уткнулась в солому и застряла там. Стёпка огорчённо поскрёб затылок.
— Пушкой надо, — предложил Аркашка.
— Верно, уничтожим фашиста из пушки. Давай волоки её сюда.
Притащили пушку, установили, зарядили камнем. Стёпка прицелился, и камень насквозь пробил крышу. Второй камень тоже оставил в крыше дыру. Изменили прицел, и камень, отскочив от бревна, чуть не пробил Самовару голову.
Миха лежал на бревне, словно мёртвый. А бомбардировка продолжалась. После очередного выстрела Миха вдруг жалобно мяукнул и затряс лапой.
— Ранили! — обрадовался Аркашка.
Миха приподнялся, свесил с бревна голову. Его латунные глазищи с ненавистью уставились на ребят.
— Стреляй, стреляй! — завопил Колька Врун. — Он прыгать собирается.
Стёпка на этот раз очень тщательно прицелился, и Миха шлёпнулся на деревянные настил сарая. Он попытался подняться и не смог.
Митьке стало жутко. Он посмотрел на Лильку. У неё текли по щекам слёзы. Дальше Митька не помнит, как всё получилось. Он не помнил, как бросился на ребят, как расшвырял их и как ударил Стёпку.
— За что? — спросил Стёпка.
— Не сметь! Слышите, не сметь! Это мой кот! — не помня себя, кричал Митька.
— Локоть с ума сошёл, — сказал Стёпка.
— Это ты с ума сошёл, — и Митька кинулся на Стёпку, повалил его, схватил за горло.
— Задушит, задушит, — заревел Самовар.
Братья Вруны навалились на Митьку и оттащили его от Коршуна. Стёпка встал, отряхнулся, поднял шапку, долго колотил ею по колену, потом нахлобучил на уши и подошёл к Митьке.
Митька закрыл глаза. Та неимоверная сила, с которой ему удалось расшвырять ребят, повалить Коршуна, куда-то внезапно пропала. Теперь он не мог и пальцем пошевелить. Он стоял и ждал.
— Не бойся. Я не такой, как ты, чтоб из-за паршивого кота бить своего товарища, — Стёпка повернулся и пошёл, сильно сутулясь. У двери остановился и с грустью сказал: — Прощай, Локоть. Больше мы с тобой не увидимся.
Ребята тоже ушли, оставив Митьку одного, а с ним и пушку, избитого Миху и задушенного кролика.
…Дома Митька ещё получил нахлобучку от матери. За обман, за то, что оставил открытой кроличью клетку, и ещё за кучу грехов, в которых он был повинен с головой. Елизавета Максимовна прочитала ему нудную лекцию и отобрала валенки с полушубком. Митьке теперь было всё равно. После этой драки никому не хотелось показываться на глаза, он взял книгу про войну и стал читать. Прочитал две страницы, ничего не понял. Прочитал ещё раз, опять не понял. Из головы не выходила драка.
— Эх! — громко вздохнул Митька и покачал головой.
— О чём ты так тяжко вздыхаешь? — насмешливо спросила мать.
Митька не ответил. «А кто виноват? — мысленно спросил он себя. — Не только я. И Коршун тоже. Разве Миха его кролика задушил? Какое он имел право чужого кота убивать? Факт — никакого!» Таким образом Митька доказал, что с его стороны драка была справедливой. Однако ему не стало от этого легче. Он вспомнил последние Стёпкины слова: «Прощай, Локоть! Больше мы с тобой не увидимся».
— Такого товарища потерять, — прошептал Митька и невольно простонал сквозь зубы.
— Что с тобой? Живот, что ли, схватило? — уже с тревогой спросила Елизавета Максимовна.
Митька не ответил и притворился, что спит. Но он не спал и всё думал. Думал он обо всём и обо всех: и об отце, который воюет с фашистами, и о ленинградских ребятах, но больше всего о Стёпке. Ему было до слёз жаль, что так внезапно и глупо порвалась с, ним дружба.
«Из-за кого? — чуть не закричал он. — Из-за Михи!» И у него вспыхнула лютая ненависть к коту. Он припомнил ему всё: и разбитые стёкла в бабкиной избушке, и съеденную курицу, и задушенного кролика.
— Вот дурак! Зачем я полез его спасать?
От обиды на себя Митька так крепко сжал кулаками глаза, что посыпались искры, потом искры закружились вихрем, потом пропали и появился яркий, как солнце, круг. Митька отнял от глаз кулаки, и круг медленно потух. Митька опять зажал кулаками глаза, и круг снова появился, стал разгораться и разгорелся так, что стало глазам больно. А потом стал постепенно тускнеть. В центре появилась дырочка. Она всё расширялась и расширялась, пока не превратилась в дыру с оранжевым ободом.
Обод всё время менял свои цвет, то на синий, то на коричневый, то на зелёный… И вдруг из дыры вылез мужик в рыжем кафтане и в шляпчонке с обкусанными полями. Митька сначала подумал, что это кузнец дед Тимофей, и хотел было спросить: «Откуда ты, дед?» — но мужик повернулся, и Локоть узнал Миху.
— Подвинься, — сказал Миха и улёгся рядом прямо в кафтане и шляпе, подняв вверх лапы и положив на грудь хвост. Митька подвинулся и уступил ему половину подушки.
«Как же это он стал человеком?» — подумал Митька, но спросить не успел. Миха сам заговорил:
— Ты удивляешься, как я стал человеком. А вот взял нарочно и стал. Мы, коты, всё можем.
«И ты теперь всё время будешь человеком?» — хотел спросить Митька, но кот опять перехватил его мысль.
— Зачем же всё время быть человеком? Я кот.
«Значит, мало тебя учили», — подумал Митька. Но кот опять угадал Митькину мысль.
— Не мало, а даже чересчур много. Рёбра не раз мяли, а теперь лапы переломали. Искалечили что надо.
Митька приподнялся и открыл рот.
— Погоди, погоди, — остановил его Миха. — Что ты понимаешь под словом «не безобразничай». Это то, что я у старухи баранью голову съел, у Стёпки курицу стащил, а у тебя кролика задушил? Так?
— Птиц ещё жрёшь, — подсказал Митька.
— И птиц жру, — подтвердил Миха. — Жить-то как-то надо. Ты же меня ни разу не покормил. И не дал мне ни одной ложки молока. Только всё ругал. А если тебя хотя бы один день не покормить? Что бы ты стал делать? А? — Миха ухмыльнулся и пошевелил усами.
— У мамки попросил, — прошептал Митька.
— А если бы мамки не было? И никто бы тебе ничего не дал?
— Не знаю.
Миха опять ухмыльнулся и пошевелил усами.
— А я знаю. Пошёл бы воровать. Ты даже воровал, когда тебе совсем есть не хотелось. Вспомни, как вы за яблоками в Лилькин сад лазали.
Митька вспомнил. Они со Стёпкой забрались к Лильке в сад, нарвали зеленцов, а потом их выбросили.
— А вспомни-ка про конфеты, про огурцы, про краску, — продолжал Миха.
— Хватит, хватит, — замахал руками Митька.
— Ну, тогда я пойду, — сказал Миха и поднялся.
— Ты на нас не сердись, так уж получилось, — сказал Митька.
— Неважно получилось. Искалечили и бросили. Уж лучше бы убили сразу. Разве можно так над животными издеваться?!
— Я не бил, я не калечил. Я тебя спасал! — закричал Митька.
— Может быть, может быть. Ты хороший, хороший, — промурлыкал Миха, положил на голову Митьке лапу, стал нежно гладить… И Митька проснулся.
Рядом с ним лежала бабка Люба и гладила его волосы.
— Фу, а я думал, это кот, — сказал Митька.
— Сон небось плохой снился? — спросила бабка Люба.
На улице было темно. Мать сидела за столом и писала. Митька слез с печки, подошёл к столу, почесал живот.
— Письмо пишешь?
Мать не ответила.
— Ма-а-а!
Елизавета Максимовна подняла голову.
— Дай мне валенки с полушубком. Я только схожу в одно место. А потом ты их опять в сундук запрёшь.
— Не выдумывай, а ложись спать, — сердито сказала мать.
— Дай, очень надо.
Елизавета Максимовна отложила перо и пристально посмотрела на Митьку.
— Ну!..
Митьке пришлось рассказывать всё как было. И только о драке он умолчал.
— Завтра сходишь к Михе. Если жив, то ничего с ним за ночь не случится, — сказала Елизавета Максимовна.
Митька заявил решительно:
— Если ты не дашь мне валенки — я уйду босиком.
Елизавета Максимовна вздохнула и пошла открывать сундук…
Миха валялся в сарае, там же, где его бросили. Локоть присел на корточки и тихонько погладил кота. В темноте вспыхнул жёлтый глаз.
— Жив, жив, — прошептал Митька и потрогал Михин нос. Кот лизнул ему палец. Митька взял Миху на руки и понёс домой. Ночь была тёмная, дул сильный ветер. Деревня укладывалась спать. В домах гасли огни. Проходя мимо Стёпкиного дома, Митька остановился.
«Наверное, Коршун спит», — подумал он.
Но в это время окна внезапно осветились и подслеповато замигали, как будто Стёпкина избушка проснулась и теперь протирает глаза. Митька испуганно нырнул в темноту и побежал к дому.
Аркашка Махонин тоже не спал в эту ночь. Он волок от сарая пушку. Пушка безнадёжно застряла в сугробе. Аркашка бился над ней уже четвёртый час. И за это время подвинулся всего лишь на двадцать шагов. Но Аркашка не сдавался. Он был очень упорным человеком. Его упорству мог бы позавидовать даже Стёпка Коршаткин.
Глава XIII. Митька сочиняет стихи. Ошеломляющая весть. Чрезвычайное собрание. Начало трудовой деятельности. Возвращение Коршуна
Елизавета Максимовна с рассветом ушла на работу. Митька ещё утром всё переделал: наносил в кадку воды из колодца, накормил кроликов и застелил хлев свежей соломой. Бабка Люба подмела пол и уселась качать люльку. Больше Митьке ничего не хотелось делать, даже книжку читать. Однако он скоро убедился, что ничегонеделанье — самое скучное занятие. Надо хоть что-нибудь да делать.
Митька вырвал из тетрадки лист бумаги и стал рисовать. Нарисовал дом с оградой и дорогу. Потом дорогу переделал в речку. Через речку перекинул мост с перилами. На перилах посадил воробья с вороной. Посреди моста нарисовал человека с кривыми ногами, огромной головой и руками, похожими на грабли. Критически оценив своё творчество, Митька огорчился. Дом получился кособоким. Он его кое-как выправил, на крышу поставил трубу и пустил из неё густой чёрный дым. За домом нарисовал зелёным лес, а над лесом — синее небо с плоскими коричневыми облаками.
— Ну чем бы ещё заняться? — с тоской простонал Локоть. — Бабка, ты сказки знаешь?
Бабка Люба махнула рукой.
— Не знаю я сказок.
— Ну какая же ты бабка, если сказок не знаешь. Вот у Пушкина была Арина Родионовна, какие она сказки рассказывала! После них Пушкин стал стихи писать и сделался великим поэтом.
— Кем, кем, ты говоришь, он сделался? — неожиданно заинтересовалась бабка Люба.
— Поэтом! Понимаешь, по-э-том!
— Не понимаю, — сказала бабка Люба.
«Хорошо бы самому сочинить какой-нибудь стишок», — подумал Митька. Он перевернул картинку и на обратной стороне вывел: «Зима». Посмотрел на потолок, подёргал ухо, и его осенило:
На дворе зима, зима, Она очень холодна, Попрошу у маменьки, Чтобы дала валенки И шапку с полушубком…«Стоп! — остановил себя Митька. — Пошла нескладуха», — и он вычеркнул «шапку с полушубком». Митька смотрел на потолок, на окна, в угол, уши дёргал, в затылке копался, но, кроме шапки с полушубком, ничего не смог выдумать. Он скомкал бумагу, бросил под стол и полез на печку.
На печке, под связками лука, на куске половика лежал Миха.
— Болеешь? — спросил Митька.
Миха прикрыл глаз и пошевелил хвостом.
— Что у тебя болит? Лапа? Эта? И эта тоже болит? — Митька пощупал другую лапу. Миха зашипел. — Бедняга, даже охрип, — посочувствовал Митька.
— Может, ты есть хочешь? — спросил Митька.
Миха, разумеется, не ответил. Митька слез с печки, налил в черепок молока и поставил под нос Михе. Кот посмотрел в черепок с молоком и отвернулся.
— Ешь! — приказал Митька и окунул морду кота в молоко. Миха замотал головой, дёрнулся, и черепок опрокинулся.
В сенях послышался шум, дверь распахнулась, и в избу вошли: Елизавета Максимовна, Серафима Коршаткина — Стёпкина мать и Витька-счетовод. Серафима села на лавку и закрыла руками лицо.
— Слезай! — строго приказала Елизавета Максимовна.
Митька сполз на пол, заправил в штаны рубаху и, как солдат, вытянулся перед матерью. Он понял: в чём-то его хотят обвинить — и теперь лихорадочно перебирал в уме, что же он такое натворил.
— Где Стёпка? — спросила мать.
У Митьки гора с плеч свалилась, и он весело ответил:
— Не знаю.
— Врёшь. По глазам вижу, врёшь, — сказал Витька-счетовод.
— По каким глазам! — закричал на него Митька.
— Не ври, — оборвала его мать, — смотри мне в глаза.
Митька вылупил глаза и открыл рот.
— Ты с ним вчера дрался?
— Дрался.
— Из-за чего?
— Из-за Михи.
— А где пушка? — ехидно спросил Витька.
— Откуда я знаю, где пушка. И чего вы ко мне привязались. Ничего я не знаю! — решительно заявил Локоть.
Елизавета Максимовна в задумчивости прошлась по избе, села рядом с Серафимой.
— Как же ты не заметила, когда он сбежал? — спросила она.
Серафима тяжело вздохнула.
— Да разве за ним уследишь. Пришла я поздно, уже стемнело. Зову: «Стёпка, Стёпа», — не отвечает. Посмотрела на кровать. Лежит, накрывшись одеялом. Ну, думаю, пусть спит, и даже ужинать будить не стала. Утром истопила печку, уже завтрак готов, а он всё лежит. Правда, поспать-то он любил. Но тут меня сомнение взяло. Как же это он за ночь даже на другой бок не перевернулся? И меня как будто кто в сердце шилом кольнул. Подбежала к кровати, сдёрнула одеяло, а там свёрнутое батькино пальто. Ну, как, мошенник, ловко подстроил, словно под одеялом человек лежал.
— Запрягай лошадь и поезжай на станцию! — сказала Елизавета Максимовна.
— Ты думаешь, он там?
— Чему же удивляться. Я была в районе на совещании. Один председатель колхоза жаловался, что у него сразу двое сбежали на фронт.
— Батюшки мои, на фронт! — Серафима всплеснула руками, потом вскочила, торопливо завязала платок и побежала запрягать лошадь. За ней вышла и Елизавета Максимовна.
Локоть оглянулся на бабку Любу и, подойдя к Витьке-счетоводу, сказал:
— Ты знаешь, он и меня хотел на фронт взять. Ух, как жалко, что мы подрались!
Витька насмешливо посмотрел на Локтя.
— Какой из тебя вояка?!
Митька вспыхнул.
— Получше тебя-то! Ты бы ни за что не удрал на фронт.
— Конечно, нет, — спокойно ответил Витька.
— Сразу видно, что ты трус.
Счетовод снял шапку, повертел её на пальце.
— Не трус, а разумный человек.
— Трус, трус, трус!
— Чего орёшь, как дурак, — оборвал его Витька. — Подумай своей глупой башкой. Если все побегут на фронт, то кто же в тылу будет ковать победу?
— Кто? — переспросил Митька и ядовито сказал: — Уж очень ты умным стал. Даже смотреть противно.
Счетовод с сожалением покачал головой и, заложив руки в карманы, важно направился к двери.
Через пять минут ввалился Лапоть и в упор спросил Митьку, правда ли, что он вместе с Коршуном на фронт собирался? Митька хотел сказать: «Ничего я не знаю», но язык, неизвестно почему, вывернул: «Правда». Лапоть стал пытать Митьку, почему он тогда тоже не сбежал.
— Потому что, — и Митька, не задумываясь, выпалил: — Мамка валенки с полушубком в сундук заперла.
После Лаптя заявились братья Вруны, а потом Лилька с Аркашкой. И всем Локоть говорил, что он действительно собирался с Коршуном на фронт и что он наверняка бы сбежал, будь у него на ногах валенки. О том, что Елизавета Максимовна частенько оставляет сына без валенок, было известно всей деревне. Однако Аркашка Локтю не поверил и заявил, что тот просто струсил. Митька схватил Аркашку за воротник и вытолкал из избы на улицу. Аркашка полчаса стоял у окна и орал, что Локоть трус и предатель.
Весть о том, что у Серафимы Коршаткиной сын сбежал на фронт, в четверть часа облетела деревню и всех переполошила. Лаптя схватили на улице, приволокли домой и отобрали пальто с шапкой. Врунов закрыли на замок. Аркашку раздели чуть не догола. А когда он попытался в таком виде выскочить на улицу, жестоко выпороли. Всю ночь матери не спускали с ребят глаз. Утром у всех был на языке один вопрос: «Привезли Стёпку?..»
Коршун пропал. Серафима Коршаткина вернулась со станции одна.
После завтрака Елизавета Максимовна открыла сундук и выкинула валенки с полушубком.
— Одевайся.
— Куда? — удивлённо спросил Митька.
— На собрание, — ответила мать.
В правлении колхоза собралась вся деревня и даже ребятишки. Здесь были абсолютно все, кроме бабки Любы. И Локоть понял, что собрание это очень важное.
Когда Митька с матерью вошли, шум сразу стих. Витька-счетовод вылез из-за стола и сказал:
— Садитесь, товарищ председатель.
Елизавета Максимовна села, вынула из кармана измятый листок, разгладила его и сказала:
— Так вот, товарищи колхозники, дела у нас не очень хороши. Нам надо серьёзно поговорить.
— Ась? — спросил дед Тимофей и подставил к уху ладонь. Женщина в рыжей шубе наклонилась и громко сказала:
— Председатель говорит, что дела у нас плохие.
— Знамо дело, плохие, — глубокомысленно изрёк дед, и все засмеялись. Елизавета Максимовна постучала карандашом и встала.
— Товарищи колхозники, страна переживает тяжкую годину…
Председательша говорила долго. Рассказывала о том, с какими трудностями приходится сдерживать фашистов, о зверствах, которые творят гитлеровцы на нашей земле. Призывала здесь, в тылу, работать не покладая рук, чтобы помочь фронту. Заявила, что теперь в колхозе обязаны работать все, в том числе и ребята.
— Трудом надо воспитывать детей! — заключила свою речь Елизавета Максимовна.
Её дружно поддержали колхозники. Все выступавшие жаловались, что ребятишки без отцов совсем от рук отбились, и если их не заставить работать по-настоящему, то они, как Стёпка, удерут на фронт. Когда все высказались, Елизавета Максимовна объявила:
— Слово имеет Виктор Васильевич Семёнов.
— Вот это да! Уже Виктор Васильевич, — сказал Самовар.
Елизавета Максимовна повернулась к Витьке и ободряюще кивнула ему головой.
— Выковыренный! — закричал Аркашка и показал язык.
Витька, не обращая внимания на дурацкую выходку Аркашки, встал, одёрнул рубашку, кашлянул в кулак, налил из графина в стакан воды, выпил и вдруг резко выбросил вперёд руку.
— Товарищи ребята колхоза «Красный самолёт», я обращаюсь к вам как равный к равным! Пора прекратить эти шалтай-болтай! — выкрикнул он и пощёлкал пальцами. — Пора работать! — он опять пощёлкал пальцами и, не найдя слов, схватился за графин. Колхозники засмеялись.
Елизавета Максимовна постучала карандашом, шум стих.
Витька выдул ещё стакан воды и вдруг, как из пулемёта, посыпал слова. Речь Витьки сводилась к тому, что раз их отцы сражаются на фронте, то ромашкинским ребятишкам стыдно ничего не делать. Счетовод резко критиковал Стёпку Коршаткина. Внёс предложение осудить его поступок и пропесочить на собрании, когда его приволокут с фронта.
— Кто же будет в тылу ковать победу, если все побегут на фронт? — воскликнул Витька и оглянулся. Все молчали. Витька повертел над головой пальцем и ткнул в Локтя. — Мы, товарищи, своим трудом! — На этом он кончил и выпил ещё стакан воды. Ему громко хлопали. Даже Аркашка аплодировал. Всё-таки здорово Витька-счетовод выступил.
На этом собрание и закончилось. Елизавета Максимовна объявила, кому и куда идти сегодня работать. Митьку, Самовара, Лаптя и Лильку назначили в бригаду Натальи Махониной — старшей сестры Лильки — в лабаз, сортировать зерно. Вруны попали на скотный двор, навоз возить. Без работы остался один Аркашка. Ему не было ещё десяти лет. Аркашка обиделся. Сначала он грозился сбежать на фронт, а потом заревел. Над ним сжалились и определили в одну бригаду с Митькой. Наталья Махонина собрала свою бригаду, насмешливо посмотрела на неё и сказала:
— Пошли, товарищи колхознички.
Наталья привела ребят в лабаз. Лабазом в Ромашках называли большой колхозный амбар. В нём хранился семенной фонд. По обеим сторонам лабаза находились закрома: два с рожью, два с овсом, один с клевером, в шестом было немного гречихи, а седьмой был совсем пустой. Стены лабаза были увешаны лошадиной сбруей: хомутами, уздечками, сёдлами. Посреди лабаза стоял триер — сортировочная машина, с помощью которой отбирают годные на посев семена. Машина простая. Маховое колесо с приводными ремнями, длинный стан, в котором поставлены в три этажа сита. Верхнее сито с крупной ячеей, нижнее — с мелкой. Когда крутят колесо, сита качаются, и таким образом зерно сортируется.
Митьке с Самоваром досталась самая тяжёлая работа: крутить колесо. Лаптя назначили засыпать триер зерном. Лильку — отбирать очищенные семена. Аркашке досталась работёнка пыльная, но зато самая лёгкая. Его поставили выгребать из-под триера мусор и выбрасывать его на улицу.
Работа закипела. Первые полчаса работали так, что пар шёл. Митька с Самоваром даже сняли полушубки и засучили рукава. Однако в конце второй половины часа полушубки пришлось надеть. Ещё час усердно крутили ручку и таскали корзинки с зерном. Когда пошёл третий час, Самовар стал завидовать Стёпке.
— Молодец Коршун, что на фронт сбежал, а то бы и его заставили крутить это проклятое колесо, — сказал он.
Первым забастовал Аркашка. Он заявил, что ему надоело работать, и ушёл. Прошло три часа, и ребята совсем выдохлись. Митька крутил колесо и считал:
— Восемьдесят пять, восемьдесят шесть… девяносто два. — Досчитав до ста, он остановил колесо. Самовар, внимательно следивший за счётом, запротестовал:
— Ещё крути десять раз.
— Это почему? — возмутился Митька.
— Я следил, как ты считаешь. Семьдесят, а потом сразу девяносто.
Митька не стал спорить и отсчитал ещё десять кругов. Неожиданно взорвался Лапоть. Он швырнул корзинку и принялся ругать Стёпку:
— Это из-за Коршуна желтоглазого нас засадили в лабаз. Если б он не сбежал, я бы сейчас на озере рыбу ловил.
Митька хотел ему возразить, но так устал, что не было сил даже языком пошевелить.
— А когда мы кончим? — спросила Лилька.
— Ещё полчасика — и кончим, — сказала Наталья. Она, по мнению Митьки, занималась совершенно бесполезным делом. Перетаскивала мешки из одного угла в другой.
Неожиданно заявился Витька-счетовод. Размахивая портфелем и разметая полами батькиного пальто пыль, он прошёлся по лабазу, солидно кашлянул и спросил:
— Ну, как поработали?
— Неплохо. Центнера три отсортировали, — сказала Наталья.
— Молодцы! — похвалил Витька, сел на мешок, вытащил из портфеля бумажку с карандашом и стал подсчитывать: — Одиножды нуль — нуль… семью девять — шестьдесят три… Полтора трудодня поделить на четверых. Итого, — громко объявил он, — каждый из вас заработал по тридцать семь соток.
— Значит, нам и трудодни будут писать? — удивлённо спросил Лапоть.
— А ты думал как? — и Витька похлопал его по плечу. — Только давай старайся. Ещё и в газете пропечатают.
Это было новостью. Ребята думали, что они работают так, задарма, как в школе на воскреснике. Но оказывается, за трудодни. Значит, на них смотрят как на взрослых. И усталости — словно не бывало. Оставшиеся полчаса работали азартно и разошлись по домам весёлые и довольные.
За ужином Митька сообщил матери, что он сегодня заработал тридцать семь соток. Елизавета Максимовна взлохматила Митькины волосы.
— Устал?
— Чепуха. Только чуть-чуть лопатки болят.
— С непривычки. А втянешься, и всё пойдёт как по маслу, — сказала Елизавета Максимовна.
Поужинав, Митька прилёг отдохнуть и не заметил, как уснул, а когда проснулся, было уже утро.
— На работу пора, — сказала мать.
«На какую работу?» — чуть не спросил он, но, вспомнив про лабаз, тяжело вздохнул.
В этот день Лапоть с Лилькой крутили колесо. Локотков засыпал триер зерном. Работали до вечера. Витька Выковыренный записал им по пятьдесят соток и выдал каждому личную трудовую книжку. На третий день перестали болеть руки. Митька подсчитал, что за это время он выработал полтора трудодня. А Стёпка всё ещё не возвращался, и ребята решили, что он уже давно воюет.
Четвёртый день начался с невероятных событий. Когда пришли в лабаз, то вместо Натальи они увидели там Ваську Тракториста. Васька, накинув на плечи шинель, расхаживал по лабазу и громко насвистывал. Ребята столпились у дверей и обалдело уставились на Ваську.
— Привет, товарищи колхознички! — сказал Васька и посмотрел на ручные часы. — Тридцать минут опоздания. Сегодня прощаю, завтра не прощу. Время военное. Понятно?
— А где Наталья? — спросил Самовар.
— Я за Наталью. Понятно?
Ребята прыснули. А потом принялись хохотать.
— А ну, за работу, шагом марш! — скомандовал Васька и сбросил с плеч шинель. Ребята примолкли. На груди у Васьки висела белая медаль на голубой ленте, а левый пустой рукав гимнастёрки был аккуратно заправлен под ремень.
Второе событие было куда похлеще первого. В обед в лабаз прибежал Аркашка и сообщил, что со станции приехал милиционер и привёз Коршуна с отмороженными ушами.
Глава XIV. Рассказ Коршуна о том, нам он съездил на фронт
Когда ребята прибежали к дому Коршуна, на крыльцо вышла Серафима и сказала:
— Не пущу!
— Почему? — спросил Аркашка.
— Он сам не хочет. Так и сказал: «Не пущай».
Ребята потоптались, посудачили и вернулись в лабаз сортировать овёс. Однако работали они в этот день кое-как. Всё время говорили о Стёпке.
— Почему он не захотел с нами видеться? — возмущался Самовар.
— Форсу на себя напустил, — отвечал Лапоть.
— А чем форсить-то? Отмороженными ушами? — сказала Лилька.
«Да, — подумал Митька. — Форсить отмороженными ушами смешно».
— А я знаю, почему он не захотел видеться, — заявила Лилька. — Ему стыдно. Не доехал до фронта и отморозил уши.
— А может, он их на фронте отморозил, — сказал Митька.
Самовар с Лаптем принялись спорить, был ли Коршун на фронте или не был. Лапоть уверял, что Стёпка испугался войны и нарочно заморозил себе уши.
Митька в споре не участвовал. Он размышлял о том, как бы сегодня повидать Коршуна и узнать, что с ним случилось. Обвинение Лаптя, что Стёпка нарочно заморозил себе уши, он считал глупым. Как можно нарочно самого себя заморозить?
После работы он побежал к Стёпке. В нерешительности потоптался у крыльца, потом осторожно поднялся по ступенькам и постучал. Никто не ответил. Митька постучал сильнее, потом забарабанил кулаками, а потом стал бить в дверь ногой. За дверью раздался Стёпкин голос:
— Ты что, хочешь дверь сломать?
Митька замер и ждал, что ещё скажет Стёпка. Но он молчал.
— А я к тебе, Стёп… — голос Локтя прозвучал так жалобно, что ему самому стало противно.
Брякнул крюк, дверь приоткрылась, и показалась голова, похожая на кочан капусты.
— Ух ты, — воскликнул Митька, — как раненого, забинтовали!
— Проходи. Не видишь, что я в одной рубашке из-за тебя здесь мёрзну, — проворчал Стёпка. И опять закрыл дверь на крюк.
— Зачем ты так запираешься? Словно тебя украдут, — сказал Митька.
— Не твоё дело, — обрезал его Коршун.
Такого приёма Митька не ожидал и растерялся. После драки он побаивался Коршуна. А теперь ему стало ещё страшнее. Митька выдавил угодливую улыбку.
— Чего это ты лыбишься? — угрожающе спросил Коршун.
Митька вздрогнул и с перепугу выпалил:
— Ребята говорят, что ты нарочно отморозил себе уши.
— Почему нарочно?
— Чтобы не ехать на фронт, — невольно вырвалось у Митьки.
Коршун взял Митьку за грудки и скрипнул зубами.
— Кто сказал?
— Лапоть. Я не поверил, — и, что окончательно убедило Стёпку, добавил: — Даже хотел набить ему морду.
Митька вообще ничего не говорил Лаптю. А морду бить даже и не решился бы. Лапоть был в два раза сильнее Митьки.
— Врёшь, врёшь. Сам, наверное, такое надумал, — и Стёпка принялся раскачивать Митьку из стороны в сторону.
— Не вру. Если бы я так говорил, разве б я тогда к тебе пришёл, — оправдывался Митька.
Стёпка перестал трясти Митьку.
— Ладно, — сказал он. — Я с этим делом разберусь.
Митька поднял с полу шапку, прошёл к столу, сел на табуретку.
— Матки дома нет? — спросил он.
— А ты что, не видишь?
Разговор не вязался. Коршун ходил по избе кругами и сердито фыркал.
Митька поднял голову и покосился на Стёпку.
— Ты на меня очень сердишься?.. За драку.
— На дураков и хлюпиков не сердятся, — буркнул Стёпка.
«За дурака и хлюпика меня считает. Вот уж до чего дошло», — с тоской подумал Митька.
— Здорово уши-то отморозил? — спросил он.
— А ты думал как?
— Покажи, — невольно вырвалось у Митьки.
— Развязывай, — Стёпка повернулся к Митьке затылком. Митька опешил.
— Развязывать? С ума сошёл? А матка что скажет?
— Наплевать. Мне надоело в бинтах ходить. Говорят тебе, развязывай, — приказал Коршун.
Митька стал развязывать. Снял бинты с ватой и ахнул. Уши у Коршуна разбухли, кожа полопалась и свисала клочьями.
— Ну как, здорово? — спросил Стёпка.
— Здорово. Толстые, как у поросёнка.
Стёпка взял с комода зеркало, внимательно осмотрел свои уши и сокрушённо покачал головой.
— Точно, как у поросёнка.
— Давай опять завяжем, — предложил Митька.
— Не надо.
— А что матка скажет?
— Пусть что хочет говорит. А пороть всё равно не будет.
— Конечно, с такими ушами не будет, — согласился Митька. Почувствовав, что Стёпка малость подобрел, Митька осмелился задать самый главный вопрос:
— Стёп, расскажи, как ты съездил, — и, помолчав, добавил: — На фронт.
Стёпка пренебрежительно отмахнулся.
— Чего рассказывать. Съездил, да и всё, — и выжидательно посмотрел на Митьку. — Ладно уж. Расскажу. Только, чур, не перебивать.
Митька поклялся молчать как рыба.
— Когда мы подрались с тобой, — начал Коршун, — и ты разодрал мне своими граблями шею, я так обозлился, что хотел избить тебя, но у меня не было времени. Надо было на фронт собираться. Пришёл домой, поужинал как следует, положил в сумку краюху хлеба, три огурца и луковицу. Потом сел матери письмо писать, что ухожу на фронт. Написал письмо и разорвал. Если б я его оставил, то мамка сразу бы за мной на станцию, и тогда крышка. Верно?
— Конечно, верно! — воскликнул Митька.
— В общем, письмо решил ей написать прямо с фронта. А чтоб мамка сразу не бросилась искать меня, я взял батино пальто, свернул и положил под одеяло. Так, как будто я сплю…
— Здорово придумал! — сказал Митька.
Стёпка погрозил ему пальцем:
— Не перебивай! — и продолжал: — Оделся потеплее. На шерстяные чулки портянки навернул. Взял сумку и пошёл… Отошёл немного от дома, гляжу, Пугай за мной лупит. С Пугаем, конечно, веселее идти. Но, думаю, убьют ещё собаку на фронте, да и кормить её нечем. Вернулся, привязал Пугая на верёвку, попрощался с ним и пошёл. Идти тяжело, снегу навалило пропасть. Вот дурак, что лыжи не взял. Хотел воротиться за лыжами, да побоялся. Темнеть начало. Дотащился до села Раменье. Устал, как чёрт. Хотел попроситься к кому-нибудь на ночлег, а потом раздумал. Начнут расспрашивать: «Кто такой? Откуда? Куда? Зачем?» Могли бы и назад вернуть. Отыскал сарай, закопался в сено, поел хлеба с огурцами и лёг спать.
— И не страшно было одному? — спросил Митька.
— А чего бояться, на фронте небось пострашней. А ты не перебивай, а то и рассказывать не буду, — вскипел Стёпка.
Митька дал слово, что даже не пикнет.
Стёпка подулся на Локтя и продолжал:
— Проснулся чуть свет, доел горбушку с огурцами и пошёл. От села Раменья дорога гладкая, накатанная, в один час добежал до станции. Стал дожидаться эшелона на фронт. Они идут один за другим, и всё мимо. Ждал, ждал, замёрз, и есть хочется. А у меня осталась одна луковица. Ну и ругал же я себя, что хлеба мало взял! Другой раз бежать буду, так сначала целый мешок сухарей насушу. Пошёл на пункт, где эвакуированных кормят, подстрелить хоть какого-нибудь супчишку. Встал в очередь, подошёл к окну, а мне говорят: «Давай талон». А где я возьму талон? Я же не эвакуированный. Верно?.. Ну, я им наврал: сказал, что потерял талон. Повариха поморщилась, а потом говорит: «На, лопай и не ври!» А супчишко во! — и Стёпка показал большой палец. — Наваристый, с макаронами, объеденье. Рубанул я супчишку и опять побежал на станцию ловить эшелон. Два часа ловил, и хоть бы один остановился. Все на фронт чешут, аж земля дрожит и искры из-под колёс хлещут. Замёрз стоявши. Побежал на вокзал греться. А там народу — игле не пролезть. А я пролез. Пробрался к печке. Уселся, греюсь. Вдруг слышу: «Граждане, вы моего мальчика здесь не видели?» Глянул и обомлел — матка с кнутом. Вот уж я и труханул. Она бы с меня кнутом шкуру спустила. Знаешь, какая она горячая. Заполз под лавку. Завалился за мешки и притаился, как заяц. А мамка всё ходит и ищет меня. Не знаю, сколько она меня искала, только я уснул. А когда проснулся, в зале никого народу не было. Уборщица пол подметала. Увидела меня под лавкой и давай по рукам веником хлестать. Вылез я из-под лавки и побежал эшелон ловить. А его и ловить не надо. Стоит себе и как будто меня дожидается. Вагоны открыты. У дверей сгрудились солдаты, курят, смеются. Я спросил, куда едут. «Куда и все», — отвечают. Я сразу же догадался, что на фронт. Куда ж теперь все едут. Верно? Стал проситься, чтоб и меня взяли.
— И взяли? — не удержался Митька.
— Взяли… Как же, держи карман шире, — мрачно ответил Стёпка. — Я тебе сказал, не перебивай, ты хочешь, чтоб я сбился и всё снова начал?!
— Не буду, не буду, — замахал руками Митька. — А если хоть слово пикну, делай со мной, что хочешь, хоть по уху бей.
— Ладно, — сказал Стёпка и продолжал свой рассказ: — Посмеялись надо мной солдаты и сказали, чтоб я не выкидывал фокусов и немедленно отправлялся домой. Я пошёл к другому вагону. Там тоже стали по-разному насмехаться, а один бородатый солдат хотел даже выпороть. Уже и ремень снял. Я не стал дожидаться, когда начнут лупить, и бросился бежать. А эшелон длинный, вагонов сто. Бежал я, пока не выдохся, а потом остановился и хлопнул себя по лбу: «Дурак ты, Стёпка. Разве ж так уедешь на фронт. Надо применить военную хитрость». А паровоз уже пары пускает. Вот-вот тронется. Подбежал я к одному вагону и давай реветь.
— Нарочно? — удивился Митька.
— Конечно.
— Как же это тебе удалось, нарочно?
— Когда надо, и нарочно заревёшь. Ты опять за своё, — Стёпка поднял кулак. Митька сжался и втянул голову в плечи. Стёпка дал ему по лбу щелчок и продолжал: — Стою и реву во всю глотку. Солдаты из вагона выскочили и давай меня успокаивать. Я нарочно для виду успокоился и стал просить их подвезти до города. Солдаты стали пытать: «До какого города?» Я сказал, что забыл. Тогда они стали вспоминать. И один солдат сказал, что, наверное, до Вологды. До неё от нашей станции сто пятьдесят километров. Я ужасно обрадовался. Сто пятьдесят километров! Шутка ли! А там и до фронта рукой подать. Они опять стали меня пытать: зачем я еду в Вологду? Я опять применил военную хитрость — сказал, что мамка у меня там, а жил у бабушки в деревне, в селе Раменье. Здорово я придумал?!
— Здорово. Ну и мастер же ты пули отливать, — восхищённо сказал Митька. — И они поверили?
— Поверили, и уговорили командира взять меня в теплушку. Командир сказал: «Ладно, возьмём. Но если обманул, то уши выдергаю». Хороший командир: молодой, весь в ремнях, и пистолет на боку. Посадил меня в теплушку к печке. Ух и шикарно было ехать! Солдаты про войну всё рассказывали. Ужинал вместе с ними из полевой кухни.
— Врёшь! — воскликнул Митька.
Коршун усмехнулся.
— Попробуй соври так. Целый котелок пшённой каши умял. Ты, Локоть, и в жизни такой каши не едал.
Митька вздохнул:
— А потом?
— Потом опять стали байки про войну рассказывать. Много разных баек, всех не упомнишь. Я даже не заметил, как заснул. Утром будит меня командир и говорит: «Вставай, парень, приехали». У меня сердце ёкнуло: «Неужели уже фронт?» — «Твоя Вологда», — смеётся он. «А я думал, фронт», — сказал я и от страха язык прикусил. Командир уставился на меня и говорит: «Постой, постой, ты не на фронт ли собрался?» Я весь обомлел. «Ну, — думаю, — сейчас он мне выволочку даст, а потом назад домой повернёт!» Схватил я свою сумку с луковицей и из вагона кувырком… Станция Вологда в сто раз больше Веригина. Эшелонов, поездов тьма-тьмущая, и ни в один не пущают. Пробовал проситься — к вагону не подойдёшь. Так обидно стало. До фронта рукой подать. Решил день просидеть на вокзале, а ночью на платформу под какую-нибудь пушку или танк взобраться. Ехать-то чепуха — рукой подать. Слышно, как пушки бухают.
— А здорово было слышно? — спросил Митька.
— Не так, чтоб очень. А если хорошенько прислушаться, слышно. Ну, ты не перебивай меня, а то плюну и рассказывать не буду… Просидел я на вокзале до вечера, съел последнюю луковицу, а жрать так хочется, аж в глазах свербит. Стемнело, подтянул ремень на последнюю дырку и пошёл под вагонами шнырять, как заяц. Часовые злые, как черти: «Стой! Кругом! Стрелять буду!» — и затворами щёлкают. А один даже стрелять начал.
— Да ну! — ужаснулся Митька.
— Я между рельсов лёг и руками голову закрыл. А пули шасть, шасть — и всё мимо. Пострелял он, пострелял и бросил. Наверное, подумал, что убил. А я дальше пополз. Гляжу, стоит длиннющий поезд с танками. Часового не видно. Я потихоньку забрался на платформу — и под танк.
— Чего ты меня с собой не взял? — простонал Митька.
Стёпка насмешливо посмотрел на Локтя и продолжал:
— Лежу под танком, жду, когда поезд пойдёт. Целый час, наверное, он стоял, я аж окоченел, а потом пошёл. Вначале было ничего, потом ужас как холодно. Ветер хлещет, до костей прохватывает. «Ну, — думаю, — этак я не на фронт попаду, а в „Могилёвскую“ губернию спичками торговать». Помнишь, как Васька Тракторист говорил про покойников: поехал в «могилёвскую» спички чертям продавать.
Митька захохотал, а Стёпка обиделся.
— Тебе смешно. Побыл бы ты на моём месте, небось в сосульку бы превратился. А я выжил! Ночь морозная, ветер злющий. Думаю, надо как-то спасаться. Вылез из-под танка. Смотрю, люки открыты. Я обрадовался. Хоть можно малость согреться в танке.
Митька схватил Стёпку за руку:
— Неужто в танк забрался?!
— Забрался! — Стёпка тяжко вздохнул. — Только когда залезал — шапка с головы свалилась, ветер её подхватил и унёс. Остался я без шапки. Хорошо, что у меня волосы густые, как овчина. Пощупай, какие у меня волосы.
Митька пощупал Стёпкины волосы и сказал, что они густые, как баранья шуба.
— Если б не волосы, наверняка бы меня отправили в «могилёвскую». Ты думаешь, в танке тепло? Ха, тепло! В погребе в сто раз теплее. А мне наплевать, только бы до фронта добраться. Сжал я зубы и еду. А холодно невтерпёж. Вдруг как кольнёт мне уши. Словно гвоздём их через голову насквозь проткнули. Схватился я за уши — как ледяшки. Пощёлкал — звенят. Я давай их щипать. Изо всех сил щиплю — не больно. Ну, я сразу догадался, что отморозил уши. Если бы снег был, я их сразу бы оттёр. А где же в танке найдёшь снег? Поезд мчится, как сумасшедший. Если бы он хоть на минуту остановился, я набрал бы снегу и спас бы уши.
Стёпка замолчал, опустил голову.
— А дальше? — спросил Митька. — На фронт-то попал?
— Попал, — неохотно ответил Стёпка. — Как раз к самому фронту поезд подошёл.
— Рассказывай, рассказывай. До самого интересного места дошёл и молчит, — возмутился Митька.
— Да чего рассказывать, — Стёпка посмотрел на потолок. — Разыскал главного начальника фронта и сказал ему, что воевать приехал. Он мне говорит: «Поезжай домой лечить уши. Какой же ты вояка без ушей?» Да я и сам понимал: какой же я боец без ушей? — И Стёпка тяжко вздохнул. — Если б я не потерял шапку, теперь наверняка бы в разведку ходил за «языком». Из-за чего погорел? Из-за дурацкой шапки!
— Глупо из-за шапки погореть, — посочувствовал Митька.
Стёпка подошёл к окну, стал пристально разглядывать запушённые инеем стёкла.
— Ну, а потом? — спросил Локоть.
— Потом забинтовали уши и повезли в Веригино.
— А как тебя везли? — пытал Митька.
Стёпке не хотелось отвечать на вопросы, смотреть в глаза товарищу.
— Поездом повезли. Понятно? — сердито спросил он.
— Каким? Санитарным, с ранеными вместе?
— Конечно, санитарным и с ранеными вместе.
— А почему тебя в госпиталь не взяли?
Такого вопроса Стёпка, видимо, не ожидал. Он нахмурился и буркнул:
— Сам не захотел в госпиталь.
Митька хотел сказать: «Не ври!», — но побоялся, что Стёпка обидится и совсем перестанет разговаривать. Во всё, что говорил Коршун, Митька верил и не верил. О том, как пробирался к фронту, как отморозил уши, он рассказывал подробно и с удовольствием. А конец, самое интересное место, скомкал. Митьке показалось это подозрительным.
— А фронт ты видел? — спросил он.
— Конечно, видел! — озлобленно закричал Стёпка. — Совсем рядом был!
— Какой он?
— Обыкновенный. Пушки выстроились в ряд и лупят почём зря. Пулемёты строчат… танки.
— А самолёты?
— Самолётов там больше, чем ворон в нашей деревне. Всё время летают и бомбят. В общем, Локоть, фронт есть фронт. Это тебе не в снежки с Лаптем играть. Там в один миг голову снесут. Свалится сверху вот такая штукенция, — Стёпка показал руками, — и, как муху, прихлопнет.
Однако это не очень-то убедительно звучало, и Митька продолжал допрашивать:
— А фрицев ты видел?
Стёпка презрительно усмехнулся:
— Мне на них и смотреть-то надоело.
— Какие они?
Стёпку взорвало:
— Вот пристал, как банным лист. Что, ты не знаешь, какие фрицы? Звери.
— Неужели с рогами?
Стёпка безнадёжно махнул рукой:
— А ну тебя. С таким дураком и разговаривать не хочется.
Митька обиделся.
— Пусть я буду дурак. А ты всё это выдумал.
Стёпка засмеялся, потом вытащил из-под кровати сумку и, загадочно улыбаясь, спросил:
— По-твоему, я всё выдумал? Хорошо. Попробуй ты так выдумать.
Он развязал мешок, покопался в нём и вынул горсть патронных гильз. Митька схватил их и стал внимательно рассматривать.
— Фашистские, — пояснил Стёпка. — А сейчас я тебе покажу такое… Смотри, чтоб глаза не лопнули, — и он вытащил немецким пистолет с обгоревшей рукояткой и без курка.
— Вот это да! — ахнул Митька. — Дай хоть в руках подержать.
Локоть вертел в руках пистолет. Стёпка, улыбаясь, наблюдал за ним.
— Жаль, что испорчен, — сказал Митька.
— Исправим, — Стёпка отобрал пистолет, запрятал в сумку и загадочно подмигнул. — Вот сейчас я покажу тебе штуку. Смотри не умри от зависти. — Он так долго копался в мешке, что у Митьки от напряжения взмокли волосы. — На, смотри! — Стёпка разжал кулак, и Митька увидел чёрный, обведённый жёлтой каёмкой крест.
Крест не произвёл на Митьку впечатления.
— Ну, а я-то думал…
— Дурак, — сказал Стёпка. — Это же орден. Сам Гитлер фрицам такие на шею вешает. А ну, дай сюда! — он вырвал из рук Митьки крест, запрятал в мешок и крепко завязал верёвкой.
Теперь Митька не сомневался, что Стёпка побывал на фронте, и очень ему завидовал. Он готов был бежать на фронт сегодня, сию минуту, даже не поужинав. Стёпка насмешливо посмотрел на Митьку и снисходительно похлопал его по плечу.
— Вот так-то, товарищ Локотков. Теперь поверил, что я был на фронте?
У Митьки от обиды покатились слёзы.
— Что же ты меня с собой не взял?
— Я хотел взять, но ты сам всё испортил, — заявил Стёпка. — А потом, тебе нельзя на фронт. Ты слабохарактерный.
— Я слабохарактерный?! — закричал Митька. — Да я сегодня же Миху на улицу выброшу. Пусть сдыхает. Ничуть не жалко мне его.
— Ага! — воскликнул Стёпка. — Всё-таки ты подобрал Миху. И лечишь, наверно?
Митька стукнул себя по груди кулаком:
— Я сказал тебе, что вышвырну его на улицу.
— Не надо. Пусть выздоравливает. Ему тогда порядком досталось. Авось теперь малость поумнеет, — сказал Стёпка.
Митька обрадовался и заговорил торопливо, взахлёб.
— А знаешь, я за тебя ужасно переживал. Всё боялся, что тебя поймают и вернут с фронта домой. Не веришь?
Стёпка усмехнулся и ничего не сказал. Митька покраснел. Ему стало стыдно. Он очень хотел, чтобы Стёпкин побег не удался. Митька посмотрел на потолок, потом покосился на Стёпку.
— А ты знаешь, Васька Тракторист с войны без руки пришёл.
— Знаю. Наверное, Пугая заберёт.
— Жалко небось Пугая?
Стёпка пожал плечами.
— Конечно, жалко. Такой умный пёс. Ну, да ладно. Теперь мне не до него.
Митька даже подпрыгнул.
— Опять на фронт собираешься?
Стёпка подозрительно скосил глаза.
— Кто тебе сказал?
— Сам же говорил, что сухари сушить будешь.
Стёпка оглянулся на дверь, подошёл к Митьке, взял его за ворот рубашки и прошипел сквозь зубы:
— Поклянись, что не раззвонишь!
— Честное слово!
Стёпка поморщился.
— Это не клятва. Клянись жизнью матери.
Митька горячо поклялся жизнью матери.
— Так вот, слушай, — Стёпка посадил Митьку на стул и облокотился ему на плечи. — Как только заживут уши, начнём готовиться. И не так, как я, даже шарф повязать забыл. По-настоящему, организованно. Надо вести себя так, чтоб никто и не подумал, что мы на фронт собираемся. Чтоб комар носа не подточил. Знаешь, как теперь за нами следить будут?
— Уже глаз не спускают, — пожаловался Митька.
— Надо слушаться, подчиняться, работать хорошо. Завоевать доверие. А как завоюем доверие, так и утекём. И второе условие — сухари сушить. Без сухарей на фронте делать нечего. А главное — никому ни слова. Будешь молчать?
— Клянусь жизнью матери! — воскликнул Локоть.
— А то — во-о! — и Коршун показал кулак.
Заключив тайный союз, ребята стали рассуждать о местных повседневных делах. Митька поведал Стёпке, что теперь все ребята работают в колхозе. Похвастался трудовой книжкой, в которой было записано полтора трудодня. К Митькиной работе Коршун отнёсся презрительно и заявил, что, как только он поправится, пойдёт работать в кузницу к деду Тимофею. Расстались они, как и прежде, закадычными друзьями; Стёпка даже подарил Локтю железный крест.
— Зачем мне фашистский орден? — сказал Коршун. — Я на фронте наш заслужу. А ты бери, может, пригодится.
Митька хотел сказать, что фашистский орден ему тоже не нужен, но не сказал и, зажав в кулаке крест, побежал домой.
Глава XV. Ребята входят в доверие. Накануне побега. Старые знакомые. Кровопролитная битва из-за ячменного зерна. Падение Михи
Прошёл февраль, за ним март… Всё это время Коршун с Митькой готовились к побегу на фронт. Готовились тайно: входили в доверие и потихоньку сушили сухари.
Доверие они завоевали быстро. В Ромашках теперь о них говорили, как о самых послушных и трудолюбивых молодых колхозниках. Стёпка всё время пропадал в кузнице. С глухим Тимофеем он ремонтировал плуги, бороны, делал мотыги с лопатами, словом, всё, что нужно для обработки земли.
Митьку бросали с одной работы на другую. После сортировки семян он с Лаптем весь февраль проработал на заготовке корма для скота. Сена за прошедшее лето было накошено мало, и оно быстро кончилось. Кормили скот чем попало. Ездили на озеро косить прошлогодний камыш, в лесу резали молодые побеги берёз, ивы, осины, заготовляли сосновую хвою. Скот к весне отощал, обессилел, едва держался на ногах. Зима 1941/1942 годов была самой тяжёлой из всех зим в деревне Ромашки.
Локоть подрос, похудел, а на солнце так изжарился, что походил на обугленную головешку. С работы домой приходил усталый и, поужинав, засыпал как убитый. Елизавета Максимовна уговаривала Митьку хотя бы два дня посидеть дома и отдохнуть. Но он отказывался, говоря, что некогда отдыхать, надо ковать победу.
Однако Локоть ни на одну минуту не забывал о побеге на фронт. Ежедневно тайком тягал со стола ломоть хлеба и сушил его на печке в голенище валенка. А потом складывал в мешок.
Когда сухарей накопилось порядочно, он показал их Коршуну. Стёпка взвесил на руке и сказал:
— Мало. Суши ещё.
Митька сушил сухари и, не щадя сил, работал. А Коршун откладывал побег со дня на день. Наконец всё было готово. Ещё с утра они условились в эту ночь бежать на станцию. А в обед Коршаткиным почтальон принёс ужасную весть: письмо из воинской части, что рядовой Андрей Коршаткин подо Ржевом в бою с фашистами пал смертью храбрых.
Стёпкина мать схватилась за сердце и упала. Её подняли, положили на постель. Стёпка упрашивал её не умирать, а потом горько расплакался. И ромашкинские ребята увидели, что их атаман Коршун тоже умеет плакать.
Неделю Серафима пластом пролежала в постели, а когда смогла встать и ходить по избе, Стёпка опять пошёл работать в кузницу. В тот же день Митька пришёл к нему и прямо спросил:
— Собираешься ли ты на фронт?
Стёпка опустил голову и, не поднимая глаз, ответил:
— Мамка очень слабая. А потом, ещё и холодно.
Они условились: как только поправится Стёпкина мать и потеплеет, не медля ни одной минуты, утекут на фронт.
…И вот пришёл апрель. Солнце с каждым днём всё ярче и ярче. Снег на глазах оседает, синеет и плавится. На полях из-под снега выглядывают чёрные комья пашни, на лугах — рыжие кочки. Лес темнеет, становится гуще. Лёд на озере взбух, приподнялся. Дороги раскисли, превратились в непролазное месиво грязи. С крыш домов давно уже сбежал снег, они высохли, и дранка покоробилась. Во дворе Митькиного дома отопрела огромная куча навоза. Куры с утра до вечера копаются в ней и весело распевают. Весна!
Во время болезни Миха ослаб и похудел. Шерсть на нём потеряла блеск, вываливалась клочьями. Лопатки заострились, живот, казалось, присох к позвоночнику, бока провалились, и рёбра можно считать не щупая.
Миха, забравшись на чердак, в слуховое окно вылез на крышу. Прошёлся по коньку туда и обратно, остановился у трубы, и, выбрав место на припёке, лёг. Кот блаженно сощурил глаза. Ах, как хорошо! Всю зиму он не слезал с печи. И вот теперь опять на воле. Наслюнив лапу, Миха стал умываться. Он усердно тёр нос, глаза, голову, когда же дело дошло до шеи, он задел лапой бечёвку и принялся теребить её. Уже третий день она не давала ему покоя. «Что же это за штука?» — думал Миха. На бечёвке висел фашистский крест. Митька долго не знал, что ему делать с орденом, а потом взял и повесил его коту на шею. Миха был очень недоволен такой наградой. Однако как ни старался он снять крест с шеи, и на этот раз ему не удалось.
Миха разочарованно мяукнул и посмотрел на небо. Оно было глубокое, чистое и ласковое. У Михи затуманились глаза, он протёр их и посмотрел вдаль на лес. Лес ещё голый, затянут лиловом дымкой. Лёгкое прозрачное облачко скользило по остропиким макушкам высоченных ёлок. Миха глянул на поле. Оно уже было чёрное и, подсыхая, дымилось. В бороздах, ямках ещё лежал снег, и был он белый-белый, как облачко над лесом.
Миха разглядывал деревню. И ничего приятного не увидел. Деревня как деревня: дома тёмные, дорога грязная, заборы дырявые, за заборами тощие кусты. Его глаза задержались на жидком кустике, в окружении которого прижалась к земле какая-то развалина с трубой: не то шалаш, не то куча хлама. Миха пристальней вгляделся и узнал. Это был дом бабки Любы.
В одно мгновение, как кинолента, пробежала вся его жизнь с бабкой: голод, ругань, побои. Потом он вспомнил кролика, пустой сарай, пушку и… Миха скосил глаза, посмотрел на свои рёбра, облезлый хвост и фыркнул от омерзения.
Солнце припекало, дул мягкий весенним ветерок. Ветерок в одну минуту развеял мрачные думы, и Миха стал смотреть, что делается внизу во дворе.
Посреди двора стояла огромная лужа. Митька прорывал канавку от лужи до сточной ямы. У завалинки в коляске сидела Нюшка и без передышки вопила: «А-а-а-а!» Бабка Люба показывала ей «козу».
Из хлева высунулась чёрная с белыми бровями коровья голова. И, разинув пасть, заревела. Потом корова напилась из лужи и, подойдя к забору, стала обтирать об столб бока. Забор затрещал.
— Ты что делаешь? — закричал Митька. — Забор хочешь сломать?! — и замахнулся лопатой. Корова уставилась на Митьку, потом, вдруг взлягнув задними ногами и подняв хвост, пустилась со двора на улицу. Нюшка, увидев, как бежит, подняв хвост, корова, а за ней, размахивая лопатой, скачет братишка, засмеялась и перестала плакать.
Во дворе стало пусто и тихо. Но не надолго. Из хлева вышел петух и, подняв ногу, остановился. Так, на одной ноге, он стоял минуты две, выпятив грудь и потряхивая великолепным гребнем. Чёрный, с синеватым отливом хвост он выгнул серпом, а на шее топорщился оранжевый воротник. Потом петух пошёл, как солдат, высоко поднимая ноги. Обойдя навозную кучу, остановился и вдруг, хлопнув крыльями, взлетел на вершину и принялся расшвыривать навоз лапами и клювом. Так он работал минуты три и… о радость! Он увидел ячменное зерно, разбухшее, но вполне съедобное. Петух захлопал крыльями и, вытянув шею, издал победный крик. Никто не отозвался. Петух заходил вокруг зерна, громко, но очень добродушно кокая. Он звал кур. Всем известно, что весной петухи очень добрые, последнее зерно отдадут. Осенью же, наоборот, последнюю крошку от курицы отнимут.
Петух продолжал кричать, хлопать крыльями и квокать. Вот появился белый петух. Ноги у него до крыльев были ободраны, на крыльях кое-где перо, хвост — как мочалка, словно он только что сбежал с кухни, где его ощипывали. Петух воинственно затряс гребнем, который был до того исклёван, что почернел от болячек, потом поточил шпоры и вдруг, нагнув голову, припустился к навозной куче.
Миха пошевелил усами, припал к крыше и насторожился.
Чернохвостый петух бросился навстречу белому. Ударились грудью. Удар был настолько сильный, что оба взлетели вверх. Из чернохвостого, как из подушки, посыпались перья, у белого затёк глаз. Они опять сшиблись, и опять полетели перья. Так они раз пять сшибались и расходились, а потом, упав на землю, замерли, настороженно следя друг за другом. Белый хоть и был меньше чернохвостого, но зато был упрям и на редкость ловкий. Когда чернохвостый опять первым бросился на него, он чуть посторонился и вдруг стремительно сбоку напал и всей шпорой провёл по крылу. У чернохвостого крыло распустилось, как веер, и повисло. Белый, торжествуя победу, подпрыгнул и закричал: «Ку-ка-реку!». Но он рано торжествовал. Чернохвостый неожиданно подмял его под себя и принялся долбить клювом голову. Всё-таки белому удалось вырваться. Он отбежал в сторону и лёг на землю. Чернохвостый тоже лёг.
Миха прижал уши и вдруг оглянулся. Он увидел воробья, того самого, который на колхозном гумне чуть не выклевал у него правый глаз. Миха задрожал от злости и зашипел.
Воробей сидел на краешке крыши и пристально смотрел на ячменное зерно, ему очень хотелось украсть зерно из-под самого носа петухов. Поглощённый зерном, он не видел опасности. Миха подползал всё ближе, и когда до воробья осталось не больше двух метров, завертел хвостом и сжался, как пружина. И в ту же секунду, когда Миха прыгнул, воробей камнем упал на навозную кучу, схватил зерно и опять взлетел на крышу. А Миха шлёпнулся в лужу. Упал он не так, как обычно падают коты — на лапы, а плашмя, как доска. Ничего оскорбительнее для кота и не придумаешь.
Петухи перестали драться и с удивлением уставились на Миху, который барахтался в луже и жалобно мяукал. А воробей вертелся на одной ноге, махал крыльями, дразнил петухов — чив-чив-чив.
— Эй, длиннохвостые дураки, безмозглые тупицы, где ваше зерно? — кричал он на своём птичьем языке.
Чернохвостый петух взобрался на кучу и стал искать зерно.
— Чив-чив, — хвастался воробей.
Чернохвостый петух, увидев зерно в клюве воробья, принялся ругать воробья, но так быстро, что никто ничего не понял. Белый петух с презрением посмотрел в сторону воробья, сердито щёлкнул клювом и, прихрамывая, пошёл со двора.
Больше всех пострадал Миха. Он не только публично опозорился, но и сильно ушибся.
Когда Митька, пригнав корову, увидел мокрого жалкого дрожащего Миху с фашистским орденом на шее, то, вместо того чтобы пожалеть его, стал смеяться. Миха недобрым глазом посмотрел на Митьку, сердито фыркнул и, волоча хвост, поплёлся куда глаза глядят.
Дойдя до шоры, Миха передохнул, высушился на солнышке и принялся сдирать с шеи крест. Долго он возился с ним, пока не оборвал когтями бечёвку.
Покинув гумно, Миха остановился на распутье. Куда идти? В лес или в деревню? Он долго смотрел на лес, потом повернулся к нему хвостом, стал смотреть на деревню Ромашки. Какая борьба происходила в это время в Михиной голове, трудно сказать. Он ещё раз оглянулся на лес и, помахав ему хвостом, побежал в деревню и уже больше не оглядывался.
Глава XVI. 1 Мая. Игра в чехарду. Откровенный разговор в кузнице. Письмо ленинградских ребят. Митька пишет ответ
Вечером, когда солнце раскалённым шаром осторожно садилось на остропикие верхушки ёлок, ребята возвращались с работы. Они весь день выгребали из буртов картошку. Шли усталые, голодные и злые. Ещё издали они увидели на крыше правления Витьку Выковыренного. Он прибивал к коньку красный флаг.
— Глянь, братва, счетовод с ума сошёл, — сказал Лапоть.
— Верно, зачем это он? — спросил Митька и посмотрел на Лильку.
Лилька пожала плечами, скорчила гримасу, как бы говоря: «Ничего не понимаю…» Ребята свернули к правлению.
— Эй, ты, Выковыренный, зачем флаг? — закричал Лапоть.
Витька не ответил.
— Он не любит, когда его называют «Выковыренный», — пояснила Лилька.
Локоть приставил ко рту руки трубой.
— Витька, зачем флаг ставишь?
— Завтра праздник, — ответил Витька.
— Какой?
— Первое мая!
— Первое мая! — воскликнул Локоть.
— И мы забыли про такой праздник, — укоризненно сказала Лилька.
— За этой работой всё на свете забудешь, — пожаловался Лапоть, — я даже не знаю, какой сегодня день. Не то понедельник, не то вторник.
— Среда, — заявил Колька Врун.
Лапоть с Вруном заспорили, разругались и полезли друг на друга с кулаками. Витька сполз с крыши, подошёл к ребятам и прекратил драку, сказав, что сегодня пятница, тридцатое апреля.
Локоть спросил у него, как будут справлять праздник.
— Никак. Выходной день, да и всё, — ответил Витька и, помолчав, добавил: — На каждого трудоспособного выдадут из колхозной кладовой по сто граммов мёда, остальным — по пятьдесят.
— А ещё что? — спросила Лилька.
Витька широко развёл руками:
— Больше ничего нет.
Обычно Первого мая ромашкинцы чуть свет уезжали на демонстрацию в село Раменье и забирали с собой ребятишек. На вопрос Локтя о демонстрации Витька ответил, что всякие демонстрации в этом году отменены.
— Ну, какой это праздник. Даже фонарь со звездой не повесили, — мрачно сказал Лапоть, плюнул, растёр резиновым сапогом плевок и, не прощаясь, пошёл домой.
Всю дорогу от правления до дома Митька проклинал войну. Он был так зол, что, не ужиная, завалился спать. Проснулся рано: мать ещё не затопляла печь. Вспомнив, что сегодня праздник и на работу бежать не надо, Митька блаженно потянулся и сказал сам себе: «Посплю ещё часок». Он перевернулся на другой бок и увидел удивительный сон.
Огромное село, в два раза больше Раменья. Длиннющая демонстрация. А кругом знамёна, флаги, и такие яркие, что глазам больно. Они с отцом идут по улице. Подходят к трибуне. Она, затянутая кумачом, полыхает, как огромный костёр. Отец поднимается на трибуну, выбрасывает вперёд руку и говорит: «Товарищи…» И сон оборвался. Локоть открыл глаза и увидел перед собой Витьку-счетовода, Коршуна, Лаптя, двух Врунов и Самовара.
— Товарищ Локотков, поздравляем тебя с революционным праздником Первое мая, — провозгласил Витька.
Подошёл Стёпка, пожал руку и сказал:
— Смотри не опухни.
Вид у ребят был торжественный. У Коршуна новая синяя рубашка с белыми пуговицами, штаны, которые он надевал только по большим праздникам, волосы слегка подмаслены и расчёсаны на прямой пробор. Лапоть вырядился в зелёный свитер, выменянный у ленинградцев на картошку, и в огромные сапоги, от которых крепко воняло дёгтем. Вруны тоже приоделись в чистые рубахи и жирно смазали волосы коровьим маслом. У Самовара на голове сидела батькина фуражка с лакированным козырьком. Витька-счетовод своими нарядами перещеголял всех. На нём, как на палке, болтался батькин костюм, белая рубаха с галстуком и шляпа. Чтоб брюки не волочились, он подвернул их и сверху и снизу. Рукава на пиджаке тоже были подвёрнуты. А воротник рубахи сзади закололи булавкой. Не снимая шляпы, Витька важно расхаживал по избе и поддёргивал штаны.
— Витька, ты очень похож на сыроежку, — сказал Локоть.
Ребята засмеялись. Витька сконфузился, стащил шляпу, повертел в руках и опять нахлобучил на голову. Ребята захохотали. В праздничном шерстяном платье из кухни вышла Елизавета Максимовна и, узнав, что ребята потешаются над Витькиной шляпой, сказала, чтоб он её снял. Витька снял шляпу и не знал, что с ней делать. Елизавета Максимовна отобрала у него шляпу, повесила на гвоздь и приказала Митьке немедленно вставать и одеваться.
— И не стыдно! Пришли гости, а ты валяешься, как поросёнок, — сердито сказала она.
В честь праздника Митька вымыл не только лицо, но и шею с ушами. Мать вынула из сундука вельветовый костюм, сандалии с носками, купленными в городе за неделю до войны. Митька натянул костюм, и мать ахнула. Когда покупали, он был в самый раз, а теперь руки высунулись из рукавов чуть ли не до локтей, а штаны походили на трусики.
Митька, как хозяин, пригласил гостей к столу. Гости чинно расселись, положили на колени руки и приняли серьёзный вид. Пока Елизавета Максимовна накрывала стол, они сидели не шевелясь, с постными вытянутыми физиономиями, словно перед фотоаппаратом. Елизавета Максимовна поставила перед ребятами две больших миски с холодцом, горшок тушеной картошки с мясом и жбан домашнего пива, сваренного из свёклы. Наполнив стаканы чёрным, как дёготь, пивом, она сказала:
— С праздничком, дети.
Витька Выковыренный встал, кашлянул в кулак и сказал:
— Смерть немецким оккупантам!
Как взрослые, чокнулись, выпили, набросились на студень и в три минуты очистили обе миски. В пять минут опорожнили горшок с картошкой. Потом выпили ещё по стакану пива и Стёпка сказал:
— Теперь пошли ко мне угощаться.
Такой уж был обычаи в Ромашках. По праздникам ходить угощаться из дома в дом. У Стёпки выпили по стакану точно такого же пива, поели точно такого же студия и попробовали точно такой же, как у Митьки, картошки. От Стёпки потащились к Лаптю. Попробовали пива, по разу ткнули вилкой в студень и наотрез отказались от картошки.
Идти угощаться к Врунам не хотелось, но, чтоб не обидеть их, пошли.
Посидели за столом, поковырялись в студне и отправились гулять. Прошли деревню из конца в конец. Остановились у дома бабки Любы. Сирень в палисаднике уже проклюнулась, выпускала крохотные листочки.
— Наломаем сирени, — предложил Лапоть.
— Куда она такая, — сказал Локоть.
— Дома поставишь в крынку с водой — распустится.
Стёпка пренебрежительно махнул рукой.
— Возиться тут ещё с ней.
День был ярким. Солнце припекало. У счетовода под шляпой взмокли волосы, с ушей капал пот.
— Хоть бы шляпу снял. Такая жарища, а он в шляпе франтит-финтит, — сказал Сенька Врун.
Стёпка посмотрел на солнце.
— Жгёт. Ещё так три дня пожгёт — землю в самый раз пахать, — сказал он, снял кепку, взял за козырёк и запустил в небо. Кепка, описав дугу, шлёпнулась на дорогу. Митька тоже подбросил свою кепку. Самовар долго вертел в руках свой картуз с лакированным козырьком. Очень было жалко картуз и очень хотелось запустить его в небеса. Он запустил, и картуз упал в канаву с протухшей водой. Самовар выудил его палкой, выжал, напялил на голову и сказал:
— Ух, как приятно.
— Айда купаться! — закричал Коршун.
Витька Выковыренный возразил:
— Вода холодная.
Коршун презрительно смерил его взглядом с ног до головы и передразнил:
— Хо-лод-ная! Можешь не ходить. Никто тебя не зовёт. Айда, ребята! — и помчался прямо по полю к реке. Ребята, перегоняя друг друга, понеслись за ним. Позади бежал Витька-счетовод, размахивая шляпой.
Откуда ни возьмись выскочили Лилька с Аркашкой. Они обогнали Витьку. Лилька закричала:
— Эй, куда?
Стёпка остановился.
— Купаться.
— И я с вами!
— Только тебя не хватало.
— А тебе что, жалко?
— Не жалко. У нас трусов нет.
— Мы будем нагишом, — пояснил Лапоть.
— Эх вы, шантропа несчастная, — язвительно сказала Лилька и помчалась назад в деревню, только пятки засверкали.
Река неширокая. Вода неслась стремительно, крутя воронками. Торопливо стащили рубахи и выстроились у воды.
— Кто первый? — спросил Стёпка.
Лапоть сунул в воду ногу и сразу же её выдернул.
— Страх какая холодная, — сказал он.
— Ещё бы, на озере лёд не стаял, — пояснил Митька.
Аркашка зачерпнул пригоршню воды и выплеснул её на Лаптя. Лапоть охнул и столкнул Аркашку в реку. Аркашка выскочил из реки, как пробка.
— Хороша водичка? — насмешливо спросил Коршун.
— Вода как мёд, вылезешь — бр-рр, — и, лязгая зубами, Аркашка запрыгал на одной ноге.
— Эх, была не была! — крикнул Коршун, разбежался и как камень пошёл на дно. Вынырнув, поплыл сажёнками на ту сторону реки. Выскочив на берег, Стёпка замахал руками.
— Локоть, давай сюда!
Митька разбежался, нырнул, и ему показалось, что он прыгнул в кипяток, так его ошпарило. Митька высунул из воды голову. Над ним стремительно вертелся синий купол неба, плясало солнце и раскачивались берега. Ледяной холод сжал сердце. «А что, если утону?» — с ужасом подумал Митька. Он поплыл изо всех сил, по-собачьи, громко хлопая по воде ногами.
— Куда ты? — закричал Стёпка.
Митька повернул на голос. Он из последних сил работал руками. У берега ноги начала сводить судорога.
— Тону! — истошно заревел Митька и поднял руку. Стёпка схватил её и вытащил Митьку на берег.
— Думал, что утону, — прохрипел Локоть. — Ужас какая вода.
Братья Вруны и Лапоть барахтались у берега.
— Давай к нам! — крикнул Коршун.
— Не хотца, — ответил Лапоть.
— Они умней нас, дураков, — сказал Митька. — Ну, как теперь поплывём обратно?
— Доплывём, — успокоил его Стёпка. — Ты не крутись в воде, а плыви прямо.
Передохнули и поплыли обратно. Доплыли быстро, легко, и вода уже не казалась такой холодной. Но когда вылезли на берег, долго не могли согреться. Губы у Митьки посинели, нос заострился, и весь он дрожал, как камышинка на ветру.
— Эх, жаль, что спички не взял. А то бы костёр развели, — сказал Коршун.
Витька Выковыренный похвастался, что у него есть спички. Он сидел в сторонке и насмешливо смотрел на посиневших купальщиков. Развели костёр, согрелись и стали просить Коршуна рассказать, как он съездил на фронт. Митька назубок знал этот рассказ, однако слушал с интересом. Стёпка рассказывал его по-новому.
После рассказа опять искупались и стали играть в чехарду. Потом организовали турнир по «классической» борьбе. Боролись на вылет. Аркашка уложил Самовара. С Аркашкой в один миг расправился Сенька Врун. Сеньку разделал под орех брат Колька. Локоть швырнул на лопатки Кольку. Но против Лаптя оказался слаб. Лапоть сгрёб его в охапку, придавил к земле, и Митька прохрипел: «Сдаюсь».
Борьба Лаптя с Коршуном была долгой и упорной. Лапоть стоял на ногах, как чугунная тумба. Стёпке никак не удавалось свалить его. Он же Коршуна без труда бросал на землю. Но положить на лопатки не мог. Стёпка каждый раз выскальзывал из-под Лаптя. В конце концов оба выдохлись, и судья объявил ничью.
Не заметили, как солнце скатилось за лес. Ребята проводили его грустным взглядом, посмотрели на свои измятые, испачканные грязью наряды и пошли домой притихшие и унылые.
Митька проводил Коршуна до дома и, когда Стёпка подал ему руку, шёпотом спросил:
— Ну, когда же?
— Скоро, — буркнул Стёпка и, вырвав руку, не оглядываясь, вбежал на крыльцо и хлопнул дверью.
Митька оглядел свой новый вельветовый костюм, измятый, измазанный глиной, болезненно поморщился и побрёл к дому. Уже темнело. В домах кое-где светились окна. А прошлый год в этот вечер в каждом доме пели песни, на улице ребята с девушками плясали под гармонь. Вот так прошёл этот Первомай в деревне Ромашки. Не весело он начался и быстро кончился. Завтра с утра опять на работу.
На четвёртый день после праздника колхоз «Красный самолёт» приступил к весенней пахоте и севу. Пахали плугом оставшиеся две лошади. В основном поля раскапывали лопатами. Работали все: женщины, старики, старухи, ребятишки. Митькина бригада: Лапоть, братья Вруны, Самовар, Лилька и ещё две девчонки — работали отдельно. Копали наперегонки — кто больше выработает. Победу в соревновании всегда одерживал увалень Лапоть. Самовар работал кое-как. Его уговаривали, стыдили, ругали и даже пытались колотить, но ничто не помогало.
Митька решил окончательно выяснить вопрос о побеге на фронт.
«Стёпка что-то нарочно тянет, — думал он. — Говорил, как потеплеет и поправится мать, так и рванём. Мать давно поправилась, на улице жара, а Коршун ни мычит ни телится. Сегодня же побегу к нему…»
В обеденный перерыв Локоть объявил бригаде, что ему надо сходить домой и что если он скоро не вернётся, то чтоб его не дожидались и продолжали копать. За себя он назначил Лаптя. Лилька возмутилась и сказала, что она не станет подчиняться Лаптю.
— Попробуй только, — сквозь зубы процедил Локоть и погрозил ей кулаком.
С поля Локоть направился к кузнице. Ещё издалека он услышал звонкий крик наковальни.
Стёпка махал кувалдой, дед Тимофей постукивал молоточком.
— Стоп, — сказал кузнец и, подхватив клещами железную пластинку, сунул её в горн.
Стёпка швырнул кувалду, вытер рукавом взмокший лоб и оглянулся. У входа стоял Локоть с лопатой на плече.
— Здоро́во. Чего прибёг?..
— Поговорить, — ответил Митька.
Стёпка сел на порог, Митька примостился рядом.
— Работаешь, значит? — спросил Локоть. — Чего делаете?
— К жнейке махало ладим, — ответил Коршун.
Помолчали. Стёпка догадывался, зачем пришёл Локоть.
Митька ждал, когда первым заговорит Коршун. Он не заговаривал первым. Митька встал, взял кувалду, стукнул два раза и бросил.
— Не под силу, — усмехнулся Коршун.
— Нам тоже достаётся немало. Посмотри, — и Локоть показал ладони с чёрными мозолями.
Дед Тимофей выхватил из огня раскалённую пластинку, швырнул на наковальню и крикнул:
— Давай, паря!
Коршун схватил кувалду, занёс её за плечо. Глухо ахнула наковальня, и посыпались искры. Дед, звонко постукивая молоточком, указывал, куда бить. Стёпка махал кувалдой, искры разлетались брызгами, пластина на глазах растягивалась, меняла цвет, а когда она посинела, дед крикнул «стоп!» и, подхватив железяку клещами, бросил в ведро с водой.
Вода зашипела и выбросила клубок пара. Стёпка размазал по лицу копоть, подсел к Митьке. Дед Тимофей вышел из кузницы, опустился на чурбан, вытащил из кармана кисет с махоркой и стал закуривать.
Стёпка толкнул Митьку локтем.
— Зачем прибёг?
— Как будто сам не знаешь, — буркнул Митька и оглянулся на деда. Он, согнувшись, жадно курил. — Когда же, наконец? Так и лето пройдёт.
Стёпка поднял ржавый гвоздь и нацарапал на земле: «Ни когда».
— Что же ты молчишь? — прошипел Митька.
Коршун кивнул головой.
— Читай.
— «Ни когда», — прочёл Митька и усмехнулся, — Грамотей. «Никогда» пишется вместе.
Стёпка нахмурился, сдвинул брови к переносице.
— А мне наплевать, как пишется. Только на фронт я теперь не побегу.
Митька опешил. Ему показалось, что он ослышался.
— Чего ты вылупил глазищи? — грубо спросил Коршун. — Сказал нет, и всё!
— Почему?
Стёпка не ответил и стал чертить гвоздём треугольники. Митька схватил его за руку.
— Почему ты не хочешь? Я столько сухарей насушил и…
— Потому что всё равно поймают и вернут. А потом, правильно говорит Выковыренный: «Надо и в тылу победу ковать». Понятно?
— По-нят-но! — по складам протянул Локоть и с горькой обидой добавил: — Тебе хорошо так говорить. Сам-то на фронте уже побывал.
Коршун вспыхнул.
Глаза у него заметались, он сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на Митьку. Но потом притих, согнулся и глухим голосом выдавил:
— Не был я на фронте.
Локоть схватил Стёпку за плечи, с силой повернул к себе лицом и, задыхаясь, спросил:
— Значит, ты всё наврал?!
— Не всё. До Вологды — правда. А потом…
Стёпка рассказал, что случилось потом. Он действительно попал в эшелон с танками. Но что это были за танки? И куда шёл эшелон? В темноте он не рассмотрел, что танки-то были немецкие, горелые, подобранные с поля боя, и везли их в глубокий тыл на переплавку. Поезд не охранялся, поэтому Коршуну так легко удалось забраться на платформу. Поезд пошёл назад и привёз Стёпку опять на станцию Веригино. Здесь его, окоченевшего, вытащили из танка и отправили в больницу. А потом на милицейской лошади привезли в Ромашки.
— А где же ты пистолет, патроны, орден взял? — спросил Локоть.
— В танке. Там можно было много чего набрать. Даже пулемёт вытащить. А патронов этих хоть лопатой греби. Теперь ты обо мне, наверное, всем расскажешь. Да?
Локоть не ответил. Он взял гвоздь и стал чертить на земле крестики. Дед Тимофей, попыхивая цигаркой, смотрел на согбенные фигурки ребят, часто мигал и неизвестно кому говорил:
— Эх, голуби вы мои, голуби, вам бы только и бегать взапуски да на рыбалке с удочкой сидеть. А вон ведь как получилось-то. В их-то годы такой кувалдой махать. Коротко у нынешних ребят детство. Ох, как коротко! — Он раскрошил в пальцах окурок и опять полез в карман за кисетом.
Стёпка вдруг встрепенулся, стукнул себя по лбу кулаком:
— Вот дурак! Баранья голова. Ведь нам письмо!
— Какое ещё письмо? — равнодушно спросил Митька.
— Сто лет будешь гадать и не догадаешься! — воскликнул Коршун.
Митька гадать не собирался. Его мечта о фронте так неожиданно и глупо лопнула. И теперь ему было на всё наплевать. Стёпка запустил под рубаху руку и вытащил синий конверт, склеенный из тетрадной обложки.
— Специально захватил, чтоб тебе показать. Читай…
Митька нехотя взял конверт и прочитал обратный адрес: «… Кудымкарский район, п/о Болохонь, детдом № 3, Дудаковым».
— Дудаковым, — повторил Митька. — Придумают же люди фамилию.
— Ты читай, а потом будешь смеяться, — сказал Стёпка.
Митька вынул из конверта тетрадный листок в клетку и стал читать про себя.
— Вслух читай, — приказал Коршун.
Митька откашлялся и стал читать вслух.
— «Здравствуйте, Стёпа и Митя! Давно собирались написать вам, как мы устроились и живём. Генка хотел сам написать, да у него никогда не хватает времени». — Митька даже подпрыгнул. — Это же от ленинградцев. Ух ты, чёрт подери, письмо прислали! — Митька взъерошил волосы и посмотрел на Стёпку. — Как же это они узнали, где мы живём?
— Читай, читай, там всё прописано.
— «Я говорю: когда ты, Генка, напишешь письмо? А он: „Ладно, завтра напишу“. Так всё и кормил меня „завтраками“. Тогда я махнула на него рукой и стала писать сама.
Живём мы в детдоме, на берегу реки Орданки. Природа здесь очень красивая: много берёз, сосен тоже порядочно, а ёлок мало. Кое-где ёлка. Вода в речке светлая. С берега видно, как плавают рыбки, как по дну ползают разные жучки с паучками. Дом у нас не так чтоб очень большой, но порядочный, деревянный, покрашенный голубой краской. От солнца краска потрескалась и облупилась. В доме две спальни, для мальчиков и для девочек, и одна столовая. В столовой мы едим и занимаемся.
Генка, как только отъелся, сразу же побежал на фронт. Его поймали на станции, привезли в детдом и сказали, что если ещё побежит, то посадят в карцер. Генка не послушался и опять утёк. Его схватили и посадили на неделю в карцер. Мы его по очереди караулили, как арестанта. А в карцере ничего нет: пустая комната, железная койка и табуретка. Генка просидел два дня и заныл: „Выпустите, больше не побегу…“ Теперь он исправился, ходит как шёлковый. Генку назначили бригадиром нашей рыболовецком бригады. Он рыбу ловит для столовой, потому что с продуктами у нас пока не всё налажено. А осенью будет много продуктов. Организуем своё подсобное хозяйство. Сейчас пашем землю, сажаем картошку с капустой и морковку. Плотники рубят свинарник для поросят. Мы за ними сами будем ухаживать. Ещё строят мастерскую. Будем шить рукавицы для фронта. Адрес ваш дал нам музыкант. Помните, вы его называли „дяденька Череп“, а его зовут Игорем Владимировичем. Он тогда продал вам за картошку свою скрипку. А вы скрипку оставили. Игорь Владимирович, как увидел её, обрадовался и сказал, что вы настоящие ребята. Он не умер. И на своей скрипке играет в Москве, мы его слышали по радио. Наверное, помогла ваша картошка. Мы тоже с Генкой пекли картошку и всё вспоминали вас и сейчас вспоминаем. Писать кончаю. Допишет Генка. А меня девочки торопят идти в деревню на пекарню за хлебом. Мы каждый день ходим туда. До свидания. Жду ответа, как соловей лета. Ира Дудакова».
Генка продолжал письмо так:
«Привет, Суслики! Я вас не забыл. Чертовски вкусная картошка у вас в Ромашках родится. Прислали бы хоть пару картофелин на развод. Не подумайте, что я и взаправду прошу. Это так просто, дядя шутит. — Митька посмотрел на Стёпку, и они захохотали. — Не верьте Ирке, что она вам написала. Я не боюсь карцера. И в любую минуту могу рвануть на фронт. Но у меня сейчас очень важные дела. Организую военный кружок. Обещают дать малокалиберную винтовку и учебные гранаты. Потом я решил обучать ребят боксу. Вот если б Стёпка ко мне попал, я бы из него сделал боксёра первого класса. Он, по-моему, способный парень. Надоело писать, рука устала. Пишите, Суслики, и не обижайтесь, что я вас так называю. Здесь в детдоме никто на это не обижается. Крепко жмёт ваши лапы: Г. Дуд…»
Митька аккуратно свернул письмо, вложил в конверт и передал Коршуну.
— Молодцы. Не забыли нас, — сказал он.
Стёпка повертел в руках конверт и вернул Локтю.
— Возьми да сегодня же напиши ответ. Я и сам бы мог написать, но у меня работы по горло, а потом, у тебя лучше получится. Опиши всю нашу жизнь. Ясно?
— Ясно.
— А как напишешь, дашь мне прочитать. Я проверю. А то ещё наврёшь разной чепухи. — Стёпка похлопал Локтя по спине. — Дуй домой, бери карандаш с бумагой и катай во все лопатки. А мне надо мотовило к вечеру сварганить… Глянь, дед-то мой уже носом клюёт. Как сядет покурить, так и заклюёт. Вот работничка мне навязали, — Коршун горестно вздохнул и сокрушённо покачал головой.
Дед Тимофей, сгорбившись, сидел на чурбаке и потихоньку похрапывал. Митька сунул конверт за рубашку и пошёл домой. Он шёл и мучительно думал, с чего же начать письмо.
День был жаркий. Солнце висело посреди неба и нещадно кололо Митькину макушку с белыми, как лён, волосами. Деревня Ромашки задыхалась от зноя. На улице ни души. Даже куры запрятались в подворотни. Один Аркашка расстреливал из пушки свой забор. Увидев Митьку, он подбежал к нему, схватил за рукав.
— Локоть, давай постреляем из пушки.
— Стреляй! Кто же тебе не даёт… — сказал Митька.
— Одному и стрелять-то не хочется, — пожаловался Аркашка.
Митька с грустью посмотрел на одичавшего от одиночества и скуки Аркашку, и ему впервые стало жаль этого черноглазого озорного мальчишку. Однако стрелять из пушки Локоть отказался.
Придя домой, Митька вымыл руки, вытянул из сундука толстую тетрадку, которую ему подарила Ирка, раскрыл её, взял карандаш и глубоко задумался…
1970
Примечания
1
Шкворень — металлический стержень, соединяющий переднюю ось с телегой.
(обратно)
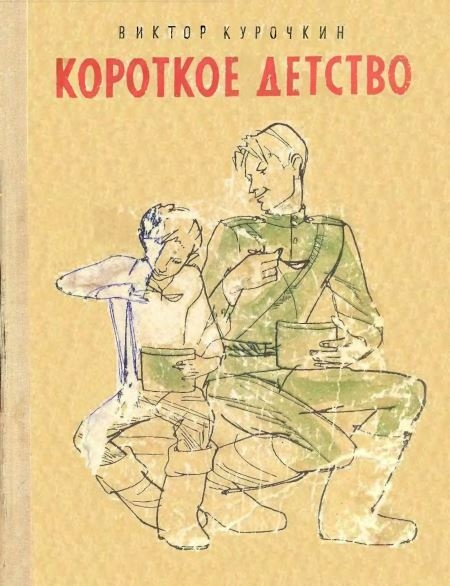



Комментарии к книге «Короткое детство», Виктор Александрович Курочкин
Всего 0 комментариев