Юрий Томин ШУТКА
Когда я вошел в класс, на местах оказались всего несколько человек. Остальные сгрудились в углу возле Кости Радужного. Он что-то рассказывал. Увидев меня, ребята со смехом расселись по своим партам. Впрочем, «расселись» — это не то слово. Они разбежались по классу, толкаясь, перепрыгивая через парты, стараясь нашуметь как можно больше. В проходе у окна они устроили «пробку». Они давили друг на друга, делая вид, что очень торопятся: им не терпится сесть на место, но… Ничего не поделаешь — «пробка»!
Я ждал. Я уже успел привыкнуть к своему классу. Они считали, что в первые десять минут после каникул им позволено все. Эти десять минут — их право, которое они сами себе присвоили. Я не оспаривал этого права. Мой класс любил делать вид, что поступает так, как ему хочется. И я давно уже решил, что не стоит изображать из себя непримиримого человека, который не может подарить им десять минут. Наконец они уселись.
— Здравствуйте, шестой «а»! — сказал я.
— Здравствуйте, Юрий Васильевич, — отозвался один.
— Юрий Васильевич, здравствуйте, — сказал другой.
— Здравствуйте! Здравствуйте! — говорили они по очереди, и, наконец, из дальнего угла класса послышалось тихо, но отчетливо:
— Юрий, здравствуйте, Васильевич!
Да, это был мой класс. Они ничуть не изменились за две недели. Здороваться по очереди (опять же в первый день) было их выдумкой, которой они очень гордились.
— Ну, каникулы кончились, — сказал я.
— Каникулы кончились, — грустно повторил Костя Радужный.
— Кончились каникулы… — вздохнули на первой парте.
— Совсем кончились, — донеслось из угла.
— Начисто! — подтвердили на первой парте.
Они говорили, ничуть не скрываясь, и смотрели прямо на меня и сияли от удовольствия потому, что поступали так, как им хотелось.
— Ну и хорошо, — сказал я. — А теперь достаньте новые тетради в клетку. Мы приступаем к изучению алгебры.
Защелкали замки портфелей, в последний раз стукнули крышки парт, и в классе установилась тишина. Десять минут прошло.
— Итак, — начал я, — раньше мы с вами имели дело только с числами. Если нам нужно было произвести сложение, мы писали так.
Я подошел к доске и написал:
2 + 3 = 5.
— Теперь представьте себе, что нам нужно записать сложение не двойки и тройки, а каких-то двух других чисел. Любых. Как поступить в этом случае? Давайте попробуем заменить цифры буквами. И я написал на доске:
Вместо 2 подставим a
Вместо 3 подставим b
Тогда имеем:
2 + 3 = 5 или a + b=
Я не успел написать, чему равна сумма. С последней парты, где сидел Костя Радужный, послышался шепот. Потом зашептались другие. Кто-то хихикнул, и вслед за ним рассмеялся весь класс.
— В чем дело? — спросил я.
За партой поднялся Радужный. Весь класс с надеждой смотрел на него.
Костя радостно объявил:
— Юрий Васильевич, вы лучше напишите другие буквы, а то мы все равно будем смеяться.
— Почему?
— А потому, — сказал Костя, — что, когда мы читаем эти буквы, у нас получается не «а» плюс «б». Получается «а» плюс «ве».
Снова раскатился по классу дружный смех. Теперь все смотрели уже не на Костю, а на вторую парту в левой колонке, где сидели Аня Мельникова и Володя Ефремов.
Я сделал вид, что ничего не понял.
— Сядь, Радужный! Ты прекрасно знаешь, что в математике русское «ве» читается как «бе».
И я дописал:
a + b = c
Ребята уткнулись в свои тетради. Еще минута, и формула эта, в том смысле, в каком понимал ее Костя, была бы забыта навсегда. Но Костя считался самым остроумным человеком в классе. Он очень дорожил своей славой.
— Юрий Васильевич, — сказал он, — если вы пишете «а» плюс «ве», то справа нужно поставить другую букву…
— Какую букву? — спросил я, глядя прямо на Костю. Я думал, что он не посмеет сказать, и тогда все кончится само собой. Но если можно рассмешить класс, Костя себя не щадит.
— Букву «л»! — выпалил он.
Опять грохнул смех. Кто-то от восторга затопал ногами. Аня Мельникова покраснела. Володя Ефремов сидел, повернувшись к окну, и не отрываясь смотрел на белую равнину замерзшей бухты. Он как будто ничего не слышал, но я видел, как медленно, почти незаметно он отодвигается от Ани на край скамейки.
— Радужный, выйди из класса! — сказал я.
На другой день Костя привел в школу мать. Она теребила руками углы платка и усталым голосом говорила привычные извинения. Я всего второй год работаю в школе, и мне было неловко, что передо мной извиняется и просит за сына такая пожилая женщина. Я был рад, когда она ушла.
Два дня Радужный боялся даже шевельнуться, и я уже забыл об этой истории с буквами. В конце недели я вызвал к доске Аню.
— Напиши алгебраическую сумму.
Аня взяла мел и аккуратно вывела на доске:
a + b —
Рука ее задержалась всего на секунду, но это решило дело.
— Эл! — донеслось из глубины класса.
— Кто это сказал?
— Я, — встал Радужный. — Извините, Юрий Васильевич, вы же сами говорите, что у меня язык бежит впереди мыслей. Я только подумал, а оно само вырвалось.
Я видел, что Радужный говорит правду: «оно» действительно само вырвалось.
— Тебе нужно извиняться не передо мной.
— Конечно, — сказал Костя. — Я понимаю, Юрий Васильевич. — Он взглянул на Аню и вежливо — слишком вежливо! — произнес:
— Извини, Аня, — затем обернулся к Володе. — И ты, Ефремов, извини, пожалуйста.
Костя вздохнул и поморщился. Он страдал. Он просто изнемогал от раскаяния. В голосе его было столько нежности, что шестой «а» прямо-таки взвыл от восторга.
Аня положила мел и, ссутулившись, пошла к своей парте. Она подняла крышку и села на самый край скамьи, словно боялась испачкаться о Володю. Володя покраснел и сжал кулаки. Мне показалось, что он сейчас бросится на Радужного.
Но шестой «а», самый дружный, самый горластый класс нашей школы, не научился еще быть добрым. Он не замечал ничего. Ему было весело, и он смеялся, а все остальное не имело никакого значения.
Эту историю с формулой надо было прекратить, пока не поздно.
— Вот что, друзья, — сказал я, когда ребята немного успокоились. — Это очень скверно — то, что сейчас делается.
И я произнес речь. Прекрасную речь! Я говорил о том, что на грубость можно ответить грубостью, на удар — ударом. Но что можно сделать, когда над тобой смеются? Не оскорбляют, не бьют, а только смеются… Можно прикрыться от кулака и от пули… Но от смеха защиты нет!
Я говорил долго и горячо. Мне самому понравилась моя речь. Я гордился тем, что нашел понятные ребятам слова. Они слушали внимательно, и, когда, закончив, я спросил: «Ясно?» — они хором отозвались: «Ясно!»
В тот день у меня было великолепное настроение.
А на следующее утро перед уроком на бортике доски появилась надпись:
a + b = любовь
Я заметил ее сразу, как только вошел. Я обвел взглядом класс.
Передо мной сидели ангелы: локти на партах, тетради развернуты, возле каждого — промокашка. Внимательные, серьезные, с честными глазами. Они не замечали никакой формулы! Они пришли сюда учиться, только учиться…
Надо сказать, я здорово разозлился из-за того, что моя вчерашняя речь пропала даром. И я уже думал начать разбирательство. Но пока я перелистывал журнал, мне пришла в голову мысль, что этого как раз не следует делать. Ведь получалось так, что каждое мое слово, сказанное в защиту Ани и Володи, оборачивалось против них. Я только лишний раз привлекал внимание ребят к этой формуле.
— Дежурный, сотри с доски.
Класс вздохнул: пронесло!
Урок прошел спокойно.
В перемену ко мне подошел Володя.
— Юрий Васильевич, можно, я пересяду на другую парту?
Я был классным руководителем и должен был спросить: почему? Но я не спросил, хотя во мне все сильнее поднималось раздражение. Мне уже надоело делать вид, что я ничего не понимаю.
— Хорошо, садись.
— Спасибо… — сказал Володя и ушел, так и не взглянув на меня.
Во время большой перемены в учительскую вошел Коля Боков.
— Юрий Васильевич, — прошептал он, отведя меня в сторону, — ведь ребята поступают нехорошо. Я про «a» + «b».
— Отвратительно. Вот и скажи ребятам, если это повторится…
— Конечно, — сказал Коля. — Какое нам дело, если они влюбились! — Он посмотрел на меня, словно проверяя, как я отнесусь к этому слову.
— Хорошо. Что же ты хочешь?
— Это не по-пионерски, — сказал Коля.
Странный был парнишка Боков. Он очень любил говорить правильные слова. Уже не в первый раз он подходил ко мне с такими разговорами. И вид у него был какой-то правильный: румяные щеки, белый воротничок, гимнастерка аккуратно собрана сзади. Порядочный, скромный мальчик. Но я знал, что Боков тайно завидует Радужному. В прошлом году они долго соревновались в остроумии. Но класс не оценил Колиных острот, — всем было видно, что он очень старается. Получалось умнее, чем нужно. Класс предпочел Радужного.
«Что ему нужно от меня сейчас?» — подумал я.
— Верно, не по-пионерски, — повторил я вслед за Боковым. — Только почему ты говоришь об этом мне? Скажи тому, кто пишет на доске глупости. Ты знаешь, кто написал?
Боков покраснел.
— Ну… Вообще… как бы сказать…
— Радужный?
— Ну… вообще… я сам-то не видел…
Боков опустил голову. Пальцы его забарабанили по пряжке. Всем своим видом он показывал, что я угадал правильно.
— Ну что же, — я пожал плечами, — если ты не видел, тогда и говорить не о чем. Иди в класс.
После уроков я задержал Радужного.
— Слушай, Костя, если я еще увижу на доске эти надписи, будет худо.
— Кому?
— Тому, кто пишет.
— Да ведь ничего особенного нет, — сказал Костя. — Мы просто шутим. А они уж очень заводятся. Вы же знаете, если человек обижается на шутки, его еще больше хочется дразнить.
— Да за что их дразнить? — возмутился я.
— Так… Ну, ходят они всегда вместе… Письма друг дружке пишут… Чего им писать, если они рядом живут? Смешно ведь. Вот смотрите, Юрий Васильевич, видите, Мельникова идет?
Я взглянул в окно. По двору школы медленно шла Аня. Она миновала ворота, осмотрелась и повернула за угол дома. Костя расплылся в улыбке.
— А за углом Ефремов стоит! Думает, он хитрее всех… Смотрите, смотрите! Видите, где забор?..
В просвете между домами снова появилась Аня. Но теперь рядом с ней шел Володя.
— Во как! — торжествующе воскликнул Костя.
— Ну вот что, Радужный, — сухо сказал я. — Или на доске больше не будет этих плюсов, или…
— А это не я писал, — беззаботно сказал Костя.
— Кто же?
— Не знаю.
— А я тебе не верю.
— Пожалуйста, — Костя сделал обиженное лицо. — Мне всегда не верят. Если что, так — Радужный…
Но я-то уже насмотрелся на Костю. Он в любой момент мог сделать лицо, какое угодно. И я, конечно, не поверил ему. Я оказался прав, потому что с этого дня надписи прекратились.
Прошел целый месяц. Класс как будто забыл о Володе и Ане. И они, уже не скрываясь, уходили из школы вместе, хотя по-прежнему сидели на разных партах. Я был доволен, что все забыто и ничто больше не отвлекает класс от занятий.
Но я ошибался. Они ничего не забывали. Вернее, кто-то из них…
Наш городок небольшой, наполовину деревянный, наполовину каменный. С трех сторон окружает нас кольцо высоких гряд, и лишь в одном месте кольцо это размыкается, чтобы пропустить море. Море подходит к городу широкой бухтой. Школа стоит на пригорке, у самой бухты. И это плохо.
Даже сквозь двойные рамы доносятся грохот якорных цепей и тарахтенье мотоботов. Ребята, увидев в окно траулер, идущий в море, начинают спорить — куда? Одни говорят — на Айновы острова, другие — на Великий. Начинают спорить они в перемену, но спор иногда затягивается. Тогда спорят и на уроке, только шепотом.
Левее, пониже школы, течет река Нива. И это тоже плохо. Приливная волна заходит в реку, и ребятам, сидящим у окна, доставляет необъяснимое удовольствие следить за подъемом воды и гадать, скоро ли скроется островок на середине реки.
Для учителя самое хорошее время — зима. Она у нас долгая. Не летают гидросамолеты, стоят траулеры. Залив белый и ровный, не на чем задержаться взгляду. Нива, промерзшая, покрытая снегом, не шелохнется. А над ней отвесная стенка утеса — «Барыня». Кругом камень да снег. Хорошо! Зимой даже успеваемость лучше.
Но эта зима была какая-то особенная.
В один из февральских дней, войдя в класс, я увидел, что ребята сгрудились у окна, выходящего к Ниве. Они толкались, лезли друг на друга, смеялись. Они были так возбуждены, что мне пришлось потратить пять минут, чтобы их успокоить.
— Что вы там увидели?
— А вы посмотрите, — сияя, сказал Радужный.
Я подошел к окну. Плоская белая Нива. Пушистые от инея провода высоковольтной передачи. Баркасы на берегу, занесенные снегом. Все обычно… И вдруг я увидел: «Барыня»! На темной отвесной стене «Барыни» громадными белыми буквами было выведено:
A + B = Л
Буквы большие, почти в рост человека.
Я повернулся к ребятам. Они сразу притихли.
— Ну что ж, молодцы!.. — сказал я.
Они переглянулись. По выражению моего лица они, конечно, поняли, что я не собираюсь радоваться вместе с ними.
— А может, это и не мы… — пробурчал кто-то в глубине класса.
И тогда они задвигались и зашумели. Они закричали: одни с обидой, другие — с возмущением, третьи — просто так, чтобы покричать:
— Да! Не мы!
— Не мы, Юрий Васильевич!
— Мы сами не знаем!
— Мы что, виноваты?
Я посмотрел на Радужного. Он тоже кричал что-то, но, встретившись со мной взглядом, осекся, выпятил губы и уткнулся носом в парту.
«Он!» — подумал я.
После уроков я снова задержал его. Я был настолько уверен, что разговаривал с ним очень сурово. Он стоял, покраснев, надувшись, и отрицал все. Он не писал на доске. Он не писал на скале. У него даже нет краски, пускай хоть обыск делают.
— Но кто же тогда?
— Не знаю, — угрюмо ответил Костя. — А если знал бы, не сказал. Пусть сам признается.
Я ничего не добился от него.
Положение было не очень приятное. Ребята, кажется, действительно не знали, кто написал буквы. Но кто-то один в классе должен был знать. Как заставить его сознаться? Я был уверен, что это делал Радужный. Но как заставить сознаться Радужного, если он не хочет? И вообще, кто я такой — учитель или сыщик?
Итак, я все больше запутывался в этой истории. А она, кажется, еще только начиналась. С этого дня все, что имело отношение к Володе и Ане, отражалось на скале. Они перестали друг с другом разговаривать. Это заметил я, а уж ребята и подавно. И немедленно на «Барыне» появилась надпись:
A + B =?
Буква «Л» была переделана на знак вопроса — громадный знак вопроса, видный, наверное, с любой возвышенной точки города.
В один из вечеров я пошел к «Барыне». В глубине души я надеялся, что мне повезет и я встречу там писавшего эти буквы.
Я перешел Ниву, утопая в глубоком снегу. В сумерках поднималась надо мной громада «Барыни». В обход, по крутому склону, я взобрался до половины утеса и подошел к началу узкого карниза. Мне захотелось вблизи посмотреть на эти буквы. Карниз косо шел вверх. Он был шириной в три ладони, с неровными, источенными краями.
Я осторожно ступил на него и, прижимаясь грудью к скале, сделал первый шаг. Нашарив рукой небольшой уступ, я уцепился за него и сделал второй шаг. Крутой склон остался слева, совсем рядом. Но все же это был склон, а не отвесная стена. На нем можно было стоять, прыгать и даже падать. А за спиной была пустота… Я слышал, как глубоко внизу с тихим шорохом текут струи поземки. Это просто удивительно, как можно спиной чувствовать пустоту. Она рядом, она притягивает, и в такие минуты самым большим счастьем кажется стоять на твердой земле, просто стоять и ничего больше.
Голые пальцы коченели от холода. Пересиливая себя, я сделал третий шаг. Перекладина буквы «А» находилась на уровне живота. Опустив одну руку, я колупнул чешуйку застывшей белой краски и слегка качнулся. Всего на несколько сантиметров… Стена медленно поплыла от меня. Не успев еще ничего подумать, я протянул руку и опять схватился за выступ.
Надо признаться, что эти несколько секунд были самыми неприятными в моей жизни. Когда я вернулся на склон и начал спускаться, то у меня дрожали ноги и рубашка прилипла к спине. Мне было жарко, несмотря на мороз градусов в двадцать пять.
Только дома я осознал, насколько рискованным было мое путешествие. А ведь тот, кто писал эти буквы, пробирался по карнизу, держа в руках кисть и банку с краской. Видно, шутник этот был не из трусливых. И все то же подозрение вернулось ко мне. Радужный! Радужный, который не щадит ни себя, ни других, если можно заслужить одобрение класса.
Через несколько дней я встретил Володю и Аню у кинотеатра. Я хотел подойти к ним и сказать, что не стоит обращать внимания на глупую и злую шутку. Но Володя увидел меня раньше, чем я подошел, и, резко повернувшись, зашагал прочь.
— Володя! У меня же билеты! — крикнула Аня.
Володя остановился. Лицо его, освещенное синим огнем рекламы, показалось мне очень злым.
— Можешь порвать свои билеты, — сказал он, глядя куда-то между мной и Аней.
Он быстро пошел по улице и скрылся за углом. Я посмотрел на Аню. Она с трудом сдерживала слезы. Я не умею утешать девочек и снова — в который раз! — сделал вид, что ничего не заметил.
Володя и Аня дружили давно, ребята говорили: с первого класса. Нужно было во что бы то ни стало прекратить проделки неизвестного «художника». И я вызвал Бокова.
— Коля, ты, кажется, знаешь, кто писал на доске. Он же, наверное, пишет и на «Барыне». Скажи мне — кто? Я не буду его наказывать. Мы вместе с тобой пойдем сейчас к этому ученику и поговорим с ним. Иначе ему будет хуже — рано или поздно это откроется.
Боков смутился. Я понимал его. Никогда и никому из ребят я не задавал подобных вопросов. Но все-таки я настаивал.
— Ну?
— Не знаю, Юрий Васильевич.
— Я не верю, что ты не знаешь. Но дело не в этом. Разве ты не понимаешь, что это просто подло — так относиться к товарищам. Ведь они ваши друзья.
Боков переступил с ноги на ногу и одернул рубаху. Он не глядел на меня. Этот разговор был ему явно неприятен.
— Да весь класс не знает, — сказал он. — Все хотят узнать и не могут.
— А кто писал на доске?
— На какой доске?
— В самом начале четверти. На бортике.
— А вы разве не знаете?
— Нет.
Боков проглотил слюну. Брови его сдвинулись над переносьем. Он думал, мучительно думал. Я подошел к окну, чтобы не мешать ему; пусть решает сам.
— А почему вы спрашиваете меня? — осторожно спросил Боков.
— Я же объяснил. Мне показалось, что ты знаешь.
Боков снова помолчал.
— Нет, — сказал он наконец, — я тоже не знаю.
— Ну, тогда иди. Считай, что этого разговора не было. Понял?
— Конечно! — горячо воскликнул Боков. — Конечно! До свиданья, Юрий Васильевич.
Он ушел. Честно говоря, я не был на него в обиде. Я думал о себе и о том, что, пожалуй, напрасно стал учителем.
Белый знак вопроса по-прежнему маячил перед нашими окнами. Он постепенно бледнел и скоро стал едва заметен среди светлых прожилок кварца, рассекавших «Барыню». К маю его уже почти не было видно. Надпись не обновлялась. Я решил, что Боков все-таки сообщил о нашем разговоре неизвестному «художнику».
Наступил день 1 Мая. По главной улице ребята шли к морю, чтобы зажечь костер. Они двигались шеренгами по восемь человек, взявшись за руки, веселые и дурашливо-шумные. Володя с Аней были в одной шеренге, рядом. И так же, как все, они пели песни и бросали в передние ряды комками мокрого снега.
А третьего мая на «Барыне» засияла свежая надпись:
A + B =!!!
В этот день ни Мельникова, ни Ефремов не пришли в школу.
Я объяснял урок, и внутри у меня все кипело. Не знаю, что я сделал бы, попади мне под руку этот «художник». Ребята, видно, чувствовали мое настроение. Никто не смотрел в окно, никто не улыбался. Они сидели тихие и немного растерянные.
Прозвенел звонок.
— После уроков — собрание! — бросил я и вышел из класса.
Последний урок я проводил не в своем классе. Примерно в середине урока мне послышалось какое-то бормотанье, как будто вдали говорили несколько человек сразу. Звуки доносились с улицы. Продолжая объяснять, я подошел к окну. Возле «Барыни» стояла толпа. Два человека отделились от этой толпы. Они несли третьего.
Еще не веря своей догадке, я взглянул на стену, туда, где был карниз. Буква «A» и половина буквы «B» были замазаны чем-то черным.
И, уже не глядя на тех двоих, я знал, что они несут Володю Ефремова.
Они поднялись на гору, направляясь в поликлинику. А я все стоял у окна и никак не мог вспомнить, на чем я прервал объяснение.
Я вернулся к столу. Ребята смотрели на меня с недоумением.
— Мне нужно отлучиться на пятнадцать минут. Сидите тихо, — сказал я и вышел из класса.
Я прибежал в поликлинику без пальто. Оттолкнув сторожа, который пытался меня задержать, я вбежал в операционную. Человек в белом халате мыл руки. Володи не было.
— Что с ним?
Доктор повернулся.
— Нужно лучше смотреть за своими детьми, молодой человек, — сказал он, нахмурясь.
— Он не мой… Что с ним?
— Пожалуй, пожалуй, — задумчиво отозвался доктор, — вы еще слишком молоды для такого сына. Так почему тогда вы лезете в операционную?
— Я учитель.
— Значит, надо лучше смотреть за своими учениками, — невозмутимо произнес доктор и принялся вытирать каждый палец в отдельности.
— Я вас спрашиваю, что с ним? — Мне хотелось убить этого доктора.
— Ничего особенного. — Доктор вытер одну руку и принялся за другую. — Вашему, как вы говорите, ученику повезло так, как везет один раз в жизни. У него вывих плечевого сустава. Сейчас он поорет немного, пока мы будем вправлять, и через несколько дней будет здоров. А теперь будьте любезны, выйдите.
— Спасибо! Спасибо, доктор! — сказал я.
Я вернулся в школу к концу пятого урока. Класс встал мне навстречу.
Они уже все знали, я понял это по их лицам.
— Что же будем делать? — спросил я.
Класс молчал. Вид у ребят был растерянный.
— Юрий Васильевич, он поправится?
— Не знаю. Об этом нужно было думать раньше.
Радужный стоял, наливаясь краской. Внезапно он крикнул:
— Это не мы!.. Не мы! Никто не знает…
Словно по команде, ребята сорвались со своих мест, бросились к столу и обступили меня. Они кричали все сразу. В этом шуме ничего нельзя было понять.
Я обводил взглядом ребячьи лица — негодующие, обиженные, возмущенные…
«Нет, не из моего класса…» — с облегчением подумал я и вдруг увидел Бокова. Он не кричал. Он стоял позади всех и глядел в пол.
— Тихо! — сказал я.
Ребята не унимались.
— Тихо! Я знаю, кто это сделал.
Шум оборвался, как будто выключили радио.
— Садитесь.
Ребята расходились очень медленно.
— Я знаю, кто это сделал. Пусть признается сам.
Молчание.
— Тогда я буду спрашивать. Скопин, ты?
— Не я.
— Богатырева?
— Ой, Юрий Васильевич!..
— Радужный.
Радужный выдохнул воздух и мотнул головой.
— Кленов?
— Юрий Васильевич, разве…
— Боков?
Боков поднялся. У него дрожали губы, и, скажу по-честному, на какое-то мгновение мне стало его жалко.
— Почему… я…. нет…
— Ты или нет?
— Юрий Васильевич! — заорал Радужный. — Смотрите, ребята! На валенках… краска! Белая краска!
Ребята снова вскочили.
— Юрий Васильевич… — дрожащим голосом сказал Боков. — Можно вам одному?.. Можно с вами выйти?
— Нет, говори при всех!
Боков отвернулся и, не глядя ни на кого, пошел к выходу.
— Ребята, он забыл портфель! — воскликнул Костя.
Несколько человек подбежали к парте Бокова. Портфель, тетради, лежавшие сверху, авторучка и недоеденный завтрак пролетели через весь класс и шлепнулись у двери.
Боков не подобрал ничего. Он ушел, и класс проводил его молчанием.
Вечером Боков догнал меня на улице.
— Юрий Васильевич, — сказал он, заглядывая мне в лицо, — это не я. Честное слово, не я!
— Почему же ты ушел из класса и ничего не объяснил ребятам?
— Все из-за краски… Я только подавал банку с краской. На меня случайно капнуло, а писал не я. Я рядом стоял.
— Кто писал?
— Мой знакомый. Он из другой школы. Я с ним почти не дружу… Я рассказал ему, а он говорит: «Давай напишем!» А я согласился… Но я только краску подавал… и еще размешивал… Извините, Юрий Васильевич. Больше не буду. Я ведь честно признался… Хотите, я вам его адрес скажу? Красная улица, дом девять, квартира…
— Не нужно квартиры, — перебил я. — Думаю, Боков, тебе лучше уйти из нашей школы. Самому.
— Я же честно признался… — растерянно повторил Боков.
На другой день мать Бокова принесла заявление о переводе сына в другую школу. Она даже не пыталась увидеться со мной и прошла прямо к директору. Директор не возражал.
За лето надпись на скале выгорела, поблекла, и осенние дожди стерли ее окончательно.
Володя давно уже совсем здоров. Но они с Аней по-прежнему сидят на разных партах.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
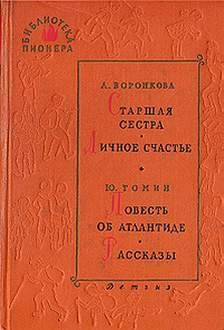



Комментарии к книге «Шутка», Юрий Геннадьевич Томин
Всего 0 комментариев