Петр Проскурин ИЗБРАННОЕ (сборник)
Предисловие
Нужно идти путём горькой правды
Его звезда взошла на литературном небосклоне в начале 60-х годов ХХ века. Роман «Горькие травы» стал во многом принципиально новым произведением и по содержанию, и по форме. А в романе «Судьба», увидевшем свет в 1973 году, зазвучала ставшая впоследствии основной для творчества писателя тема — отношения власти и народа. О том, насколько эта тема была близка и понятна самому народу, можно судить по тому, что в 70-х годах снятая по мотивам П.Л. Проскурина кинодилогия «Любовь земная» — «Судьба» стала лидером общенационального кинопроката, а «Судьба» и второй роман-трилогия «Имя твое» в течение нескольких лет лидировали в библиотечных рейтингах СССР.
Эта главная для писателя тема была развита в третьем романе-трилогии «Отречение». Роман этот оказался пророческим: в нем писатель предугадал отчуждение народа от власти, которое так трагически проявилось в событиях 1991 года.
В последнее десятилетие своей жизни Петр Лукич необыкновенно много работал, по большей части в Твери. Здесь были написаны романы «Седьмая стража» и «Число зверя», повести «Аз воздам, Господи» и «Мужчины белых ночей», вторая часть автобиографической повести «Порог любви», многочисленные рассказы, удивительные по своей тонкости и глубине образов поэтические произведения. И при этом — острейшая злободневность и актуальность!
Будучи на вершине писательской славы, Петр Проскурин обращается к самым острым, самым животрепещущим вопросам современности, высвечивая грозные черты нарастающего день ото дня общественного неустройства: разрыв между словом и делом, засилье краснобайства, казнокрадства, социальной коррозии. Писатель-патриот идет путем правды, какой бы горькой она ни была.
Страстное желание понять, что происходит с русским народом, с Россией, а главное, что такое народ, в данном случае — русский народ, денно и нощно преследовало Петра Проскурина, пронизывало его прозу последних лет жизни. В одной из наших бесед он признавался мне: «Это очень сложный вопрос, больной для всякого мыслящего человека. Потому что, на мой взгляд, русский народ, то ли в силу своей исторической судьбы, то ли в силу каких-то непонятных обстоятельств, как народ, по сути дела, перестал существовать. Это очень тяжелый вывод».
Тем не менее, даже в самых трагических своих произведениях, написанных на рубеже тысячелетий, Проскурин попытался отыскать те образы, с которыми он связывал надежды на будущее, на прорыв, на возрождение русского духа. И всегда эти образы были связаны с борьбой против власти, борьбой активной и бескомпромиссной.
Рассказ «Свидание с собой» сразу обращает нас к нынешней действительности с ее «свинцовыми мерзостями». Прошедший «Афган и Чечню», главный герой рассказа Гоша видит их на каждом шагу в родном городе, столице России. С болью в сердце и ожесточением слушает он откровения соседки, сердечной подруги своей умершей матери: «Сейчас даже но-шпу купить — половина моей пенсии… Никак не нажрется наш всенародный, чтоб он подавился нашим горем! А я еще, дура старая, за него голосовала, горло драла! Всех одурманил… гляди-ка, мол, свой в доску! Простить себе не могу…»
Реальность сегодняшнего дня во всей наготе своей встает перед израненным и едва оставшимся в живых Гошей. Видит он первопрестольную в зазывной рекламе чуждых России казино и иных «вертепов». Видит он и «зримые плоды» «дерьмократии», пестуемой «всенародно избранным» и его камарильей, — «однорукого» мальчика-нищего (он имитирует свое убожество), сидящего в конце подземного перехода на грязной подстилке. И вдруг (вдруг ли?) между этим маленьким нищим и бывшим офицером, уволенным в запас после взрыва чеченской мины «по пожизненной инвалидности», установилась какая-то больная и необходимая связь, и она прорастала с каждой новой встречей все глубже, подчас становилась неодолимой, пронзительно сквозящей, мучила Гошу, и он не знал, что это такое.
Еще совсем недавно боевой офицер, защитник России, он принимает бескомпромиссное решение стать покровителем мальчика, эксплуатируемого как побирушка и крепостной, мафиозным жлобом, шикарно одетым, вооруженным и ездящим на иномарке. Тайно оберегаемый посторонним дядей мальчик бросается убивать «хозяина», когда тот схватился в смертельном поединке с Гошей. Закабаленное детство ринулось защищать доброту.
Концовка рассказа — ясный и недвусмысленный прогноз. Увидеть Россию, поруганную ее недругами, снова державной, единой и непобедимой доведется если не Гоше, то Ваньке (так, оказывается зовут мальчика-нищенку) — это уж точно. В том убеждают слова маленького мстителя, завершающие рассказ: «Я не маленький! Вы меня еще не знаете… да!»
Повесть «Аз воздам, Господи» являет логическое продолжение отмеченного нами выше. Будучи талантливым и совестливым писателем, искренне любящим Россию, главный герой Тулубьев не приемлет все то, что творят сокрушители и растлители.
Сосед по подъезду, преуспевающий «новый русский» опасается «тлетворного» влияния Тулубьева на своего сына-подростка, тянущегося к светлому и праведному писателю. И здесь, в этой повести П. Проскурин сводит в диалоге людей, коих можно определить так: «небо» и «земля», «свет» и «мрак»:
«— Сознавайтесь, Родион Афанасьевич, — пытается убедить прохвост Тулубьева, — ваш прекраснодушный и романтический мир разрушился, исчез. Россия теперь другая, теперь главное в России — деньги. Это и сила, и власть…
— Ошибаетесь, господин Никитин! — покачал головой Тулубьев. — Россия… сейчас она в глубоком помрачении, но это, поверьте, обязательно пройдет. Вы слишком много на себя берете. Не нами было сказано: „Аз воздам!“… Так было, так будет всегда: „Аз воздам!“ Ну а если все повернется по-вашему, то это будет уже не Россия, а нечто иное».
«Цена человеческой жизни» — ничто для «новых бесов», наводнивших Россию, грабящих ее, растаскивающих награбленное по своим многоэтажным и многомерным преисподним. «Господин» Никитин, не отягощая себя даже проблеском мысли о суде Господнем, по-своему разрешает намечающийся союз писателя-патриота и своего смертельно больного сына Сережи. Трагичность ситуации усиливается тем, что убийство Тулубьева происходит в тот самый момент, когда он узнает об исполнении своей самой сокровенной мечты — рождении внука: «Тулубьев расправил плечи, и в тот же миг тяжелая пуля, вылетевшая из мрака, точно ударила ему в середину лба и, выходя, выломила рваный кусок кости из затылка. Время вспыхнуло, рассыпалось и погасло. Вздернув руки, он обвис на решетке балкона, в одно мгновение разделившей два несовместимых, взаимно исключающих и непрерывно переливающихся друг в друге мира».
Сам Петр Проскурин о книге «Аз воздам, Господи» говорил следующее: «В ней я размышляю о том, что сейчас происходит с нашим обществом, с нашим народом. В общем-то, оптимизма у меня там мало. Я, не желая что-то предрекать, хочу сказать, что предстоит очень и очень трудный период русской жизни, русского пути. Слишком глубоко зашло разрушение. А спасение только в осознании своего национального пути, своего национального характера. Спасение придет только тогда, когда русский народ осознает себя историческим народом, как это было раньше, и чего попытались его лишить».
Пётр Майданюк, кандидат филологических наук член союза журналистов РоссииАз воздам, Господи (Повесть)
Над Москвою, бессонной и беззащитной, пластались низкие осенние тучи, высыпая на первопрестольную ледяные пронизывающие потоки. Вспыхивала рекламы прославленных международных картелей и фирм, клешнясто, как бы навечно впаявшихся московское небо. Громоздясь на своем балконе на двенадцатом этаже, Тулубьев вновь и вновь оглядывал расстилавшийся перед ним, все более отторгавшейся от его сердца город. Он привычно скользил взглядом по знакомым очертаниям кремлевских башен и вновь, в пронзительно короткий срок, вознесшихся к небу куполов и крестов храма Христа Спасителя, по привычному зубчатому рельефу сталинских высотных зданий с характерно взбегавшими их шпилям ленточками мерцающих огней замыкавших центральное пространство Москвы от тех вокзалов до Поварской и дальше по кольцу, — архитекторская мысль советской эпохи, казалось бы, на вечные времена определила и утвердила опорные столбы в пространстве столицы, — но не успел завершиться неистовый двадцатый век, а уж по свей Москве, по всей России зазвучали совершенно другие гимны. опрокидывающие и оскверняющие всё прошлое отцов и дедов, и уже хищно возносились рядом со сталинскими высотками стоэтажные банковские чудища призванные символизировать безоговорочную и всеобъемлющую власть капитала, и конец-то победившей и на российских просторах мировой идеи вседозволенности сильного и всепокорности слабого, недостаточной для утоления всех печалей страстей и пороков, издревле гнездившихся в душе человека от самого его рождения…
На балконе, словно обрывающемся в знобящую пропасть, озоровал и посвистывал ветер, он почти не чувствовался внизу — у замусоренной, отравленной тяжелыми городскими испарениями, задушенной бетоном и асфальтом земли. Тулубьев был уже достаточно стар, чтобы не думать о смерти и не бояться её, но еще достаточно здоров и ожесточен духом для окончательного смирения и покорного ожидания Он стремился понять, осмыслить происходящее, хотя и этого у него недоставало высшей мудрости всё той же тишины души перед непостижимым, громадным и первородно проклятым окаянным миром.
Неровно заросшее, большое, скуластое лицо, Тулубьева тронула крупная рябь — это он решил поиздеваться над самим собою, и тотчас перехватит и задавил смешок, — перед ним корчилась в конвульсиях великая империя и нужно было соответствовать. Да, старина, сказал себе Тулубьев, вот оно, видит око да зуб неймёт. Не осилить тебе этот распад, нет, не осилить, не успеть переработать случившееся… Не хватит времени.
Усмешка тронула его потрескавшиеся от старости губы. Прежде чем вновь появится образ человека, как эталон некой высокой пробы, пройдет слишком много времени. Не успеть! A просто наблюдать этот распад и гниение — не интересно! Хотя сам по себе путь по этому лабиринту под космическими сводами игры первородных сил любопытен. Хотя жить, не имея сил вмешаться в происходящее, неинтересно! Чего стоит одна Москва, вон как полыхает электронным разливом. прельщения, на любой вкус — ешьте, пейте, развратничайте, обогащайтесь, только не думайте ни о чем, все уже продумано за вас, взвешено, вперед по проторенному пути! Не оглядываться! — Тулубьев, выпрямившись, зябко поднял воротник когда-то дорогой и модной, а теперь вытершееся на локтях куртки, — он вспомнил, что еще ничего не ел, и обрадовался — на кухне, на столе лежало с полбулки белого хлеба и стоял пакет кефира, хорошо, что не нужно одеваться и спускаться в булочную, жаль времени, можно еще посидеть за столом, записать одну мысль, показавшуюся ему стоящей. И еще можно заварить чай — единственное, в чем он себе не отказывал даже теперь, когда из квартиры почти все вплоть до известной всей Москве библиотеки, было вывезено и продано кроме справочной литературы, энциклопедии и самых необходимых ему книг. Правда, оставалась еще сама пятикомнатная квартира — за нее ему всё настойчивее предлагали бешеные деньги, уже весь дом, можно считать, сменил своих доперестроечных всяких там известных ранее народных художников, писателей и престарелых артистов да композиторов, весь дом уже давно заселили новые русские, миллиардеры и президенты различных отечественных и закордонных громких кампаний и банков, и только он, старый чудак, упорно держался, без лишней фаты слов выставлял за порог юрких квартирных маклеров и сводников.
Приоткрыв балконную дверь и не зажигая света, Тулубьев по памяти двинулся через бывший свой кабинет затем спальню, гостиную и прихожую на кухню. В окнах отсвечивала всё та же бессонная реклама и неровно озаряла пустынные углы совсем недавно ухоженного и благополучного жилища. Тулубьеву захотелось узнать точное время, и он уже было шагнул по привычке к телефону в прихожей, старинному тяжелому от бронзы аппарату, висевшему на стене, и сразу остановился — телефон молчал, выключили за неуплату. Забыл вовремя уплатить, вот теперь надо ехать на телефонный узел, к черту на кулички, суетиться, писать заявление, а стоит ли? Телефон молчал как мертвый.
Проворчав себе под нос что-то невнятное, Тулубьев замер — рядом кто-то был, он это отчетливо чувствовал, и первой его мыслью была мысль, о том, что пришли наконец крутые ребята, как сейчас принято выражаться, пришли прикончить его за несговорчивость — таких случаев теперь сколько угодно в первопрестольной.
Протянув руку, он щелкнул выключателем и оторопел — недалеко от входной двери в прихожей стоял мальчик, самый настоящий живой мальчик лет десяти, чистенький, русоволосый изысканно и модно одетый. В руках он держал, меховую кепку и щурился от внезапного яркого света. Какой-то незнакомый холодок и нежность сжали уставшее и ожесточившееся сердце Тулубьева — он никогда не видел таких хорошеньких мальчиков, таких мальчиков в жизни просто и не могло быть.
Глаза мальчика, широко расставленные, светились до прозрачности, и Тулубьев на какое-то время потере дар речи — стоял и молча смотрел. Молчал и мальчик, не опуская странных прозрачных глаз, смотрел пристально и неотступно. И тогда в глубинах памяти Тулубьева что-то дрогнуло, ему показалось, что он узнал нежданного гостя, что это он сам, вернувшийся после утомительного, долгого пути к своим истокам, к началу самого себя. Тулубьев коротко и глубоко, с явным облегчением вздохнул — да, вот не хватало только такого ясного знака. Теперь он явлен, давно и с нетерпением ожидаемый знак.
— Ну, здравствуй, — обрадованно потянулся Тулубьев навстречу видению, в то же время страшась, что вот-вот все пропадет, рассеется — ему больше не хотелось бесполезного продления Мальчик не исчез, не растаял в воздухе, а переступил с ноги на ногу.
— Я звонил, — сказал он, по-прежнему не смыкая немигающих, наполненных светлой синевой глаз. — Правда, правда, раз пять звонил. Толкнул, дверь — открылась. Простите, нехорошо входить без разрешения. Я позвал — тихо… темно… А теперь — вы дома. Я знал. Простите…
— Значит, я забыл запереть дверь, — сказал Тулубьев. — Чем обязан, молодой человек?
— Я живу над вами, — сообщил мальчик, доверительно склонив голову набок. — Сережа, — добавил он. — Я много раз хотел прийти…
— А-а! — неопределенно протянул Тулубьев. — Значит, ты их этих — новых наших соседей? Ты, очевидно, ошибся дверью, тебе нужен кто-то другой.
— Нет, нет, Родион Афанасьевич! — возразил мальчик, и в глазах у него пробился горячий блеск. — Я к вам! Прочитал вашу книгу «Идущий следом»… хотел спросить… Я не ошибся, вы добрый, вы все знаете… Пожалуйста, не прогоняйте меня!
— Ага, — догадался Тулубьев, — значит, тебе понравился Рыжик?
— Да! — обрадовался мальчик. — Сегодня нет, вчера ночью опять приходил. Сел рядом, высунул язык и дышит.… А потом лизнул ладонь и смотрит, я знаю, он сказать хотел: ничего не бойся.
— Погоди, погоди, — попросил Тулубьев чувствуя, что в его мир вламывается что-то ненужное; лишнее и не находя в себе сил сразу решительно его отсечь. — Погоди… Значит, ты Сережа? Слушай, у меня в глазах рябит. Ты хочешь выпить со мной чаю?
Мальчик обрадованно кивнул и вскоре уже осторожно держал в руках чашку с дымящимся чаем, дул на него и отхлебывал маленькими глотками, — в лице у него проступил лихорадочный румяней.
— К чаю у меня ничего нет, — сказал Тулубьев. — Ты уж прости, но я ведь тебя не ждал. А твои родители знают, что ты здесь?
Пристально и спокойно взглянув, Сережа промолчал — вопрос был ему явно неприятен, и в уголках губ мелькнуло недетское отчуждение.
— Нет, — ответил он не сразу, взглянув исподлобья. — Да им все равно, правда, правда…
Он оборвал, осторожно, без стука, поставил чашку, осторожно отодвинул ее подальше от края стола. Тулубьев чувствовал, что его странный, непрошеный гость в чем-то совершенно не походил на мальчишек своего возраста, в нем все время шла напряженная внутренняя работа; и тут Тулубьев подумал, что за этим странным; взрослым не по голам ребенком стоит что-то больное, и от этого ему сделалось неуютно и зябко. Он налил себе еще чаю, из-под бровей взглянул на Сережу, что-то проворчал себе под нос — его не устраивало даже поверхностное, мимолетное общение с верхними соседями, нахватавшими свои миллиарды и теперь считавшими себя владыками всего сущею, но нельзя было срывать свое раздражение на мальчугане, явно отмеченном какой-то болезненной тенью, так доверчиво и простодушно потянувшемся к нему, нельзя спугнуть душу ребенка, даже если тебе самому тяжко и неуютно в жизни. Их глаза встретились, и оба улыбнулись — Сережа открыто и широко, а Тулубьев неуверенно, с трудом преодолевая желание положить ладонь на голову мальчугана и ощутить его шелковистые мягкие волосы:
— Сережа, а почему тебе так уж понравился Рыжик? Ну, пес и пес…
— Он — верный, — быстро сказал Сережа. — Он теперь всегда рядом, такой верный и добрый. И когда спать — он рядом. Я его все время слышу. Я знаю, я скоро умру, а Рыжик все равно будет. С ним не страшно…
— Господи Боже, — сказан Тулубьев, растерянно глянув на своего гостя. — Что за бред? Ты о чем таком говоришь?
Да, я знаю, — повторил Сережа бесцветным голосом. — Я подслушал недавно, мама говорила с доктором и плакала — у меня не та формула крови сделалась и ничему не поддается. Знаете, меня много лечили, в Израиль возили, в Германию. Папа говорит, все без толку. Мама, когда одна, плачет, а я не боюсь. Я знаю — Рыжик придет. Скажите, Родион Афанасьевич, он не пропал, как в книге у, вас? Как же, он мог пропасть? — тихо, словно самого себя или кого-нибудь совершенно невидимого Тулубьеву, спросил Сережа — Он, наверное, приходит к тем, ну, кто его любит. Сидит у двери, ждет… Нехорошо, он у вас совсем не вернулся…
Заставив себя через силу улыбнуться, Тулубьев почти явственно ощутил на себе пытливый взгляд из неведомого потустороннего мира, даже глазам стало горячо, он не опустил их, не отвел в сторону — он должен был принять вызов, не имел права уклониться. И в лицо ему словно пахнул порыв горьковатого сухого ветра.
Что ты, Сережа, — сказал он спокойно. — Книга-то недописана, пока только первая часть. А вторую я как раз завершаю… вероятно, скоро сдам в издательство, вот ты и прочитаешь дальше. Рыжик там такой забияка…
— Правда? — обрадовался Сережа, глаза у него брызнули ярким всплеском.
— Правда подтвердил Тулубьев весело, и в тот же момент раздался слабый, неуверенный звонок в прихожей.
— Мама, — тихо подумал вслух Сережа и опустил глаза. — Она всегда знает, где я, даже если я ничего не говорю. Это как Рыжик… Вы откроете. Все равно теперь не уйдет…
Тулубьев кивнул, встал и пошел открывать. и увидел в проеме двери невысокую женщину с напряженно-приветливым лицом, в накинутом на плечи дорогой легкой шубе из морского котика, её ворот она придерживала у самого подбородка.
— Простите, — сказала она, с надеждой и робко вглядываясь в широкое небритое лицо Тулубьева. — Я за Сережей. Я сверху — ваша соседка по подъезду, Елена Викторовна… Сереже давно пора спать, вы простите…
Тулубьев слегка поклонился.
— Здравствуйте, Елена Викторовна… Проходите, пожалуйста.
— Нет, нет, что вы! — заторопилась она, увидев сына, вышедшего в прихожую, и в одно мгновение становясь уверенной и оживленной. — Мы не должны вам больше мешать, поздно… Так, Сережа?
— Можно, Родион Афанасьевич, я еще приду к вам? — вместо ответа спросил Сережа.
— Приходи, когда хочешь, — быстро ответил Тулубьев, стараясь не смотреть в сторону женщины. Едва увидав её лицо, он сразу понял, что всё услышанное от мальчика, правда. — Какие здесь могут быть церемонии, мы же, Сережа, с тобой друзья… так?
… Они распрощалась по-взрослому, пожав друг другу руки, и, оставшись один в своей громадной и гулкой от пустоты квартире, Тулубьев. долго бродил из комнаты в комнату, не в силах остановиться и сосредоточиться, и только ближе к полуночи, когда Москва — уже начинала слегка затихать, он с трудом отыскав нужную ему сейчас папку со старыми аккуратно собранными еще покойной женой, сел за стол и до самого утра, словно в незапамятной молодости, лихорадочно и торопливо, пропуская слона и почти не ставя запятых и точек, писал, отшвыривая прочь исписанные листы, — так он уже не работал много лет.
Все пространство затягивало золотым и зеленым, и только в ярком небе плыли густые облака и из них сыпался теплый, крупный, прозрачный дождь. Открыв глаза, мальчик замер, — совсем рядом весело журчал ручей; то и дело смахивая с лица прохладные брызги, Сережа весело смеялся. Ему было хорошо, высокая серебристая трава покрывала широкую равнину, переходившую постепенно в горы, зеленые, лохматые, с нависавшими над ними ослепительно белыми тучами — с острых заоблачных вершин словно ссыпался чистый хрустальный звон. Хватая воздух горячим ртом, Сережа, с невероятно обострившемся сознанием, чувствуя свое окончательное исчезновение, вновь услышал завораживающие, волшебные, непрерывные звоны, сливавшиеся в один стройный, усыпляющий поток. Очевидно, это и есть таинственная необратимая формула, которая должна оборвать его жизнь, и от этой недетской мысли ему не стало страшно, — совсем наоборот, — он даже почувствовал облегчение. Вот-вот должен был появиться кто-то большой и добрый, взять его на руки и унести за край земли, в бесконечный покой.
Острые вершины гор сдвигались и начинали куриться хрустальным сиянием. Вновь раздались протяжные звоны, и вокруг стали расти высокие блестящие сугробы. Сережа не успевал отгребать их от себя — они засыпали его со всех сторон, и тогда он из последних сил рванулся, упруго оттолкнулся от земли и в следующий момент взлетел, плавно и мерно взмахивая руками, ставшими сильными и гибкими, — они со свистом рассекали густой воздух. Необъятная и незнакомая земля простиралась внизу, вся лохматая, яркая, сине-зеленая, горы исчезли, и в небе высыпали крупные звезды. Свежий прохладный воздух лился в разгоряченную свободную грудь, тело, упругое и послушное, стремительно, как того хотелось Сереже, скользило вверх и вниз, и он захлебывался от восторга. Неожиданно перед ним встала отвесная стена, изрезанная прохладными, заросшими густой зеленью ущельями. Он видел внизу кипящие белизной водопады, извилистые горные потоки, стремящиеся к морю. Двумя сильными рывками разрезая воздух, он почти отвесно взмыл вверх, пронесся над самой вершиной, чуть ли не задел грудью за камни, и ему навстречу сразу же ринулось сияющее, в потоках солнца, неоглядное море. Оно билось о каменистый берег и было из края в край залито тяжелым золотисто-голубоватым огнем. С отчаянно веселым криком ужаса и восторга он устремился вниз, ударился о невысокую тугую волну и, набрав побольше воздуха у грудь, нырнул в глубину. Вода плотно обхватила его тело, стала выталкивать из себя, и он подчинился, стремительно вынырнул и вновь взмыл в небо. За ним из воды выпрыгнуло несколько больших серебристых рыб, весело раскрывших зубастые пасти, но они тотчас шлепнулись назад и исчезли, а он, как сильная и ловкая птица, полетел над самой поверхностью моря, испытывая наслаждение и радость стремительностью полета и в то же время помня, что ему нельзя остановиться иначе вновь появится загадочная формула и всё погаснет и исчезнет…
Он не заметил, как у него появилось ощущение того, что теперь рядом с ним кто-то был, но сколько мальчик ни вертел головой, он никого видел, и вдруг — почта рядом с ним вынырнула смеющаяся, симпатичная веселая песья морда. Это и был Рыжик, конечно же, он! — с радостные визгом рванувшийся к Сереже и сразу же тесно, обхвативший его сильными лохматыми лапами в одну минуту он облизал длинным горячим языком мальчику лицо, и тот, с восторгом обхвати его за шею и уткнувшись носом в лохматое ухо замер от наслаждения. Дальше они понеслись над морем вместе, крепко обнявшись, и Рыжик торопливо рассказывал другу на удивительно знакомом и абсолютно понятном языке о своих долгих странствиях, об отчаянии и одиночестве, говорил о том, что теперь они наконец встретились и ни когда больше не расстанутся.
— Я знал! Я знал, что ты придешь, — кричал Сережа, и они неслись все дальше и дальше, кувыркаясь и дурачась. Больше им уже ничего не надо было говорить, — они как бы стали од; существом, одинаково чувствовали, думали и видели. Море внизу непрерывно вскидывало к ним пенистые веселые волны, они становились все выше и ближе, и теперь друзьям приходилось напрягаться — руки у Сережи стали неметь и груди вспыхнула острая горячая боль. Невольно с тоскливым криком выпустив лапы лохмато; друга, мальчик стал проваливаться.
— Рыжик! Рыжик! — отчаянно звал он, ударившись о туго взметнувшуюся ввысь пенистую волну, ушел под воду и задохнулся бессильным криком. От прихлынувшего удушья он стал отчаянно рваться наверх, вынырнул, наконец, из черной, тяжелой воды и увидел остановившиеся, провалившиеся глаза матери.
— Мама, беззвучно сказал он, но Елена Викторовна услышала. — Нечем дышать… Открой балкон… мама… Задыхаюсь…
Елена Викторовна подхватила легкое, исхудавшее тело сына на руки, прижала к себе и выбежала в другую комнату, где теперь постоянно находился дежурный врач, — тот уже сам, услышав- шум и голоса, вышел навстречу, слегка помятый и заспанный. Привычно и ловко перехватил мальчика, уложил его назад в постель, строго и непреклонно попросил Елену Викторовну удалиться, — сделал все необходимое, и, когда серые губы больного слегка потеплели и дыхание выровнялось, врач еще подождал, присев рядом с кроватью.
— Спи, Сережа, спи, — сказал он негромко и бодро, подумав, что ложь бывает необходима и добрее правды. — Погода сейчас угрюмая, ни зима… ни лето… Скоро пойдет снег, белый-белый, станешь на лыжи — и под гору! Здорово! Солнце, знаешь, такое веселое… жжется морозцем… И на ветках пушистый мороз… снегири важные, совсем президенты… пухлые, красногрудые… красота кругом… светло…
Когда мальчик заснул, молодой врач задумчиво потеребил свою интеллигентную рыжеватую бородку, заведенную для солидности, и вышел в гостиную, где его уже ждали. Ему было трудно встретиться с больными и ждущими глазами женщины, и поэтому он больше обращался к отцу мальчика, человеку, уверенному в себе, неторопливому, подтянутому, весьма преуспевающему в новой российской жизни, о чудовищном богатстве которого с оглядкой и недоумением шептались по всей Москве. А еще врач обращался к главе семейства с неосознанным вызовом, стремясь хоть немного уравновесить причуды жизни и тем самым дать понять этому оказавшемуся на вершине могущества человеку, что самые крутые взлеты чреваты самыми головокружительными провалами, и здесь ничего не поделаешь, закон бытия незыблем.
— Уснул, слава Богу. Да, Георгий Павлович, — выждав соответствующую паузу и решившись, заговорит он. — Я понимаю, о чем вы хотели бы спросить и медлите… Но я врач и должен. Это мой Долг. Мальчика необходимо отправить в больницу, и чем скорее, тем лучше. Зачем подвергать и себя и больного такому страданию.
— Нет! — Лицо Елены Викторовны исказилось. — Нет! Я не хочу! За наши грехи я отвечаю, я должна до конца пройти… Нет, нет… Боже мой, нет!
Она разрыдалась, вздрагивая худыми плечами. Муж шагнул к ней, обнял и стал молча поглаживать ее плечи, постепенно ее рыдания стихли.
— Сколько ему осталось, доктор? — ровным голосом спросила она, и ее тонкие пальцы, крепко стягивающие ворот блузки, побелели на суставах.
— Я полагаю, не более недели… А может быть, сутки или несколько часов. Этого никто не знает… Не может знать… Простите, я еще раз настойчиво советую вам…
— Нет! — теперь уже враждебно, с ненавистью сказала Елена Викторовна. — Нет! Сережа останется дома. Пусть… у меня на руках…
— Лена! — негромко подал голос Георгин Павлович. Она злобно отшатнулась, прошла к дивану с высокой гнутой спинкой и села. Врач незаметно вышел, и Георгий Павлович, сразу утративший свой молодцеватый независимый вид и постаревший, подошел и опустился с женой рядом.
— Лена…
— Молчи, ничего не говори, — остановила она. — Сережа будет здесь до последней секунды… да, вот она, роковая формула… Впрочем, это ни к чему тебя не обязывает. Я — справлюсь, я должна справиться… А ты можешь продолжать делать свои проклятые деньги!
— Лена, что ты такое говоришь, опомнись! — возмутился он и, тяжело поднявшись, сгорбившись, прошел в свой кабинет, плотно прикрыл за собой дверь и повалился на просторный кожаный диван. Да, он умел делать деньги, большие деньге и не видел в этом ничего предосудительного или греховного, но сейчас на него накатила волна нечеловеческого ужаса. Он мог исполнить любое свое фантастическое желание и не мог самого простого и необходимого — защитить и спасти дорогое — собственного сына. И он, усилием воли задавил рыдание, хотел помолиться, но не смог вспомнить ни одной молитвы и только между прорывающимися всхлипами шептал что- то невразумительное.
— Господи, — просил он — только не это… все отдам… все отдам, только помоги… оставь мне его… Господи…
В косое пространство между неплотно задернутыми тяжелыми бархатными шторами рвался неровный багровый отсвет — безмолвный крик о помощи и сочувствии.
Рано утром, когда еще только-только начало светать, Тулубьева разбудил настойчивый звонок, и он, проклиная непрошеного гостя, с трудом влез в теплый стеганый халат и отправился открывать Пришли дочь с зятем, который с самого первого знакомства вызывал у Тулубьева чувство острой опасности — глубоко посаженные маленькие, все прощупывающие и просчитывающие глаза, квадратный чугунный подбородок и манера говорить короткими рублеными фразами из двух-трех слов, хотя бы речь шла о самых сложных материях, — все в этом человеке, ставшем по воле судьбы его зятем, было Тулубьеву; зять был по-своему мужик ловкий и разворотистый, цепко схватывающий суть происходящего. Так, не успели руководящие коммунисты перекраситься в демократов и смертельно возненавидеть родную советскую власть, как он тотчас уловил куда дует; ветер, и мгновенно, открыл розыскное бюро по — частным вопросам интимного свойства и через два года уже стоял во главе огромного дела — сотни сотрудников и безгласных подчиненных, Тайные и явные филиалы по всей Москве и далеко за её пределами множились и множились, словно грибы в урожайный год. Зять знал теперь всю подноготную самых высоких политиков и прочих знаменитостей, его тайная картотека разрасталась с ужасающей быстротой, о чем он проговорился Тулубьеву как-то в момент ненужной откровенности.
— Папа, мы на минутку! — защебетала дочь, теребя Тулубьева, в то время как шофер зятя, саженного роста молодец, с физиономией, источавшей, казалось бы, одно сплошное удовольствие и даже восторг жизни, внес в прихожую два объемистых карточных ящика, перевязанных шпагатом, и, весело поздоровавшись, неслышно удалился. Тулубьев знал, что это не только шофер, но и самый доверенный телохранитель зятя, и что он теперь будет курить за дверью и бдительно охранять драгоценную личность своего шефа.
Плотнее запахивая старый халат, Тулубьев вопрошающе воззрился на гостей.
— Мы, папа, кое-что тебе подбросили, — все с той же непринужденной живостью стала объяснять дочь. — Зачем тебе лишний раз по магазинам таскаться? Грипп…
— Вы же знаете, я ничего не возьму, — сердито сдвинул брови Тулубьев. — Сейчас же забирайте обратно!
— Папа! Это же глупо! — бросились дочь в атаку, и глаза ее слегка разъехались. — В конце концов, сколько можно упрямиться. Ну что ты своим воздержанием докажешь?
— Ба! Что это с тобой, Вика! — изумился Тулубьев, пристально вглядываясь в лицо дочери с выступившим на щеках неровным румянцем. — Разумеется, спасибо, благодарю за внимание, хотя, право же, мне совершенно ничего не нужно, я ни в чем не нуждаюсь.
— Ты известный всей России человек, папа, Москва тебя знает! — не сдавалась дочь. — Ты не замечаешь, а тебя многие сотни людей видят, ты ведь на телевидении раньше был частым гостем! Да только позавчера меня одна знакомая спрашивает: а что, говорит, Виктория Родионовна, выхожу я недавно из Кропоткинского метро, гляжу, книгами торгует с рук человек, ну так на вашего батюшку, знаменитого писателя, похож. Один к одному! Бывает же Такое сходство! Вот змея! Конечно, говорю, не может, Анастасия Федоровна, мало ли, говорю, на Москве сходных лиц? Да сколько угодно! Кого мне дорогой папа выслушивать, она даже не скрывала особенно, что ни одному моему слову не верит!
Неожиданно придя в отличное настроение, чем еще больше распалил и раздражил дочь, Тулубьев приветственно махнул рукой и отправился принимать душ, а Вика решительно приказала мужу распаковывать ящики, грузить продукты в холодильник, оказавшийся совершенно пустым и звонким, а сама стала хозяйничать на кухне, и скоро там был накрыт стол, дымился кофе, на большом блюде красовались бутерброды с лососиной и красной икрой, стояла бутылка хорошего кавказского вина, а на плите на двух сковородках шипели и скворчали телячьи отбивные. К тому времени забитый до отказа холодильник был уж включен на полную мощность и натруженно гудел, но за семейным столом, где Тулубьев и его дочь с мужем собрались, наконец, позавтракал разговор по-прежнему не клеился, и Вика, после тщетных попыток разговорить отца, опять, не смотря на иронические взгляды мужа, бросилась в рукопашную, доказывая необходимость беречь себя и свое имя, а Тулубьев, потягивая вино и с удовольствием вспоминая забытый вкус, с иронией поглядывал в сторону дочери — раньше за ней такой горячности он что-то не замечал.
— Ну, хорошо, хорошо, Вика, — остановил он её. — Не понимаю, куда ты клонишь? На содержание к вам я не пойду…
— И не надо, не надо, папа! — перебила его дочь. — Дорогой родитель, ты — тоже не подарочек! Сам это знаешь, не обижайся… Мы с Игорем…
— Ну, ну, — поощрил Тулубьев и отхлебнул вина.
— Так вот, папа, у тебя пятикомнатная квартира в самом центре Москвы. Она, слава Богу, приватизирована. — с воодушевлением заговорила дочь. — Ты представляешь? Ты же богач! Меняем твою квартиру на две или три, в одной; живешь, а две других мы сдаем, и у тебя будет пожизненный доход. Совершенно ни от кого не зависишь. Да, кстати, тебе завтра телефон включат, мы заплатили.
— Предлагаете мне на всю катушку включиться в новую жизнь, — раздумчиво сказал Тулубьев и глаза у него насмешливо сощурились.
— Литература больше никому не нужна, будет ли когда нужна, еще неизвестно! — отрезала Вика. — В стране, где президент предпочитает голубую газету для сексуальных меньшинств всем остальным, духовность нации определяется именно этим примечательным фактом. Каков президент, таков и народ, на кой ему нужен Гоголь Достоевский? Сейчас в твоей любимой России всё народонаселение сплошь состоит из Чичиковых — все покупают и продают мертвые души! Что делать — приспосабливается, не помирать же на потеху новым неандертальцам! И самому надо…
— Становиться Чичиковым… Вот что значит молодые мозги! — Глаза Тулубьева еще больше помолодели, останавливая порывающуюся сказать что-то дочь, он предостерегающе поднял руку — У меня контрпредложение вот… я соглашусь, родные мои на любые ваши условия, если вы обзаведетесь потомством. Хотя бы одним для начала… Вот мое последнее слово, другого, не будет, ты меня хорошо знаешь…
— О-о! — протянула Вика, высоко вздергивая брови и становясь похожей на отца. — Я тебя, папа, слишком хорошо знаю, не первая твоя кавалерийская атака по данному поводу!
— Как угодно, вам решать, дочка, — миролюбиво прогудел Тулубьев. — А ты мое слово знаешь. Стыдно, господа, русский народ вымирает, а два здоровых, полных сил человека, заметить хочу особо, обеспеченные сверх всякой меры, боятся завести ребенка! Позор!
— Да я что, — подал голос Игорь, поворачиваясь всем телом к Тулубьеву, и кожаный пиджак на его тугих плечах заскрипел. — Я давно говорю Виктории…
— Ты не говори, а действуй! — сердито оборвал его Тулубьев. — Мужик ты или…
— Прекратите! — предостерегающе повысила голос Вика. — Еще одно слово, и я уйду!
— Ладно, спохватитесь, да поздно будет. Природа самая высшая мудрость — у нас для всего свой, строго определенный срок. Эх вы, хозяева жизни! С собой ничего не унесете, ни полушки. Копите, копите, а оставить некому будет.
Неделю, забыв обо всем, Тулубьев работал с каким-то почти болезненным наслаждением, с небольшими перерывами на сон да на короткую вечернюю прогулку — он словно вернулся в привычную, необходимую и понятную ему жизнь и спешил вжиться как можно глубже в эту жизнь, не пропустить ни одного ее глухого угла, уловить все её запахи, разгадать и прочесть все её запутанные следы. В нем обострились заглохшие, казалось, окончательно инстинкты, он сам почти превратился в собаку, весь его путь направлялся теперь не прекращающейся ни на секунду жаждой цели, жаждой возвращения в потерянный и постоянно зовущий бесконечный мир запахов и звуков. Ему снились теперь странные бесформенные сны, ветры, доносящие знакомые запахи, — они воли его все дальше и дальше, он петлял, путался, бесконечное число раз терял след и возвращался назад и всякий раз, преодолевая отчаяние и тоску, вновь отыскивал утерянное и устремлялся дальше, всё яснее ощущая желанную цель, и от этого всё больше метался и рвался на своей невидимой привязи, с тем отличием, что она не ограничивала перед ним простор поисков и не осаживала назад, а неудержимо влекла все дальше и дальше. Он не отвечал на телефонные звонки или даже стук в дверь — он их просто не слышал. Он был уже у цели, готовился, преодолевая дрожь нетерпения, перешагнуть последний рубеж — и именно в этот момент услышал длинный настойчивый звонок в дверь. Чувствовалось, по тоскливой безнадежной настойчивости, что звонили давно. Возвращаясь из своего затянувшегося отсутствия, Тулубьев взглянул на часы. Шел второй час полуночи, особенно провальный и гнетущий, и тогда Тулубьев, окончательно возвращаясь, ощутил и в себе, и вокруг особую тишину и неожиданно подумал, что случалось что-то непоправимое. Он прошел через пустынные настывшие комнаты и быстро, не спрашивая и не всматриваясь в дверной зрачок, открыл. Увидев бледное и еще больше похудевшее лицо верхней соседки, он посторонился, пропуская.
— А-а, вы, Елена Викторовна… Почему-то так и подумал…
— Я много раз звонила, — шевельнула она сухими губами. — Никто не отвечал. Я думала, вы уехали… Сережа хочет вас видеть… уверяет, что вы рядом, дома. Я умоляю вас, Родион Афанасьевич, сам он уже не встает…
— Да, да, я сейчас, сию минуту! — заторопился Тулубьев, с мучительно засаднившим и словно куда-то покатившимся сердцем. — Запамятовал… Минутку, только что-нибудь накину па себя!
Пятью минутами позже он уже был у кровати больного мальчика и, присаживаясь рядом с его изголовьем, сказал:
— А знаешь, Сережа, нашелся Рыжик. Правда, совсем недавно, вчера…
Глаза у мальчика были уже нездешние, подернутые неземным успокоением, и Тулубьев помолился про себя, попросил Всевышнего дать мальчику силы выдержать.
— Я ждал, ждал… никого нет, — сказал Сережа. — Думал, вы не придете…
— Ну, как так! — осторожно возразил Тулубьев, стараясь не допустить ни одного лишнего движения, заставляя себя предельно собраться.
Сережа не опустил глаз — смотрел все так же прямо перед собой, ровно и прямо.
— Знаете… скоро совсем умру… я знаю, — сказал он с детской прямотой и бесстрашием, и Тулубьев ниже склонился к мальчику, гораздо ниже, чем требовалось, чтобы услышать. — Я эту формулу видел во сне, она была вся черная, черная звезда… яркая, но черная…
— Черная? — повторил Тулубьев не без удивления и осторожно погладил тонкую восковую руку мальчика, лежавшую поверх одеяла. — Ну, брат, чепуха! Поверь, никакой татой формулы нет, она действительно тебе только приснилась. Подумаешь, невидаль, черная звезда! Мы еще с тобой Рыжика не дождались, он ведь нашелся. Теперь у нас с тобой будет много дел, или ты уже забыл?
— Нет, не забыл, — медленно ответил мальчик и слегка шевельнул головой, поворачиваясь к Тулубьеву, — по истончившемуся лицу Сережи поползли тени, на голубом персидском ковре, висевшем на стене за кроватью мальчика, четче проступил рисунок. Тулубьев подумал, что вот пришел срок, и он обязан, ему предопределено вернуть этого, уже ступившего за земную черту ребенка назад, в земной понятный мир, и что это может и обязан сделать только он. Сердце часто и сильно билось, глаза отяжелели в них сейчас словно сосредоточилась вся его оставшаяся жизнь. Он не отпускал глаз мальчика, он должен был встряхнуть все его существо, вырвать из ледяной пустоты; взяв легкую, невесомую холодную руку Сережи в свои ладони, он стал согревать ее своим дыханием, не отпуская ни на минуту глаз мальчика. И вдруг в глазах его, где-то в самой их глубине, пробился легкий проблеск, и затем он уловил в своих ладонях едва ощутимое ответное тепло; усилием воли он приказал себе не расслабляться, улыбнулся в расплывающийся полумрак, и вдруг в шепоте Сережи послышалась иная нотка:
— Скажите, он вас сразу узнал? Рыжик?
— Еще как узнал! — быстро ответил Тулубьев. — Рыжик никогда ничего не забывает, как же! Давай я тебе почитаю все, как было с самого начала… вот. — Он достал из внутреннего кармана пиджака свернутую вдвое рукопись, расправил ее на коленях, и, нацепив на нос очки, взглянул поверх них, и невольно задержал дыхание. Облик Сережи неуловимо переменился, и этого нельзя было объяснить или выразить словами, это можно было только почувствовать; даже легчайший посторонний мимолетный вздох, дуновение могли нарушить это зыбкое равновесие, и все было бы кончено навсегда. В мальчике едва теплился последний, самый последний резерв продолжения жизни. Связанный нерасторжимо с умирающим ребенком этой грозящей вот-вот оборваться нитью, Тулубьев нарочито бодро прокашлялся и придвинул к себе ночник.
— Итак, пришла ночь, звезды льдисто мерцали по всему небу. Почти неделю Рыжик ничего не ел, он забился под занесенный снегом куст, прокопав себе ход в плотном снегу до самой земли, до прошлогодней, слежавшейся листвы, и, повозившись, свернувшись клубком, уткнув нос в брюхо, попытался согреться. Мороз крепчал, и особенно здесь, в лесу, примороженные стволы деревьев звонко потрескивали. Сначала Рыжик мелко дрожал всем телом, затей от голода и усталости задремал и ему приснился большой кусок теплого мяса с торчащей из него костью. Рыжик тихонько взвизгнул от радости и щелкнул зубами. Проснуться он не смог и стал грызть сочную кость во сне, отрывать от нее большие куски мяса и жадно глотать…
Уловив какое-то слабое движение рядом, Тулубьев посмотрел поверх очков на мальчика. Помогая себе бессильными руками, Сережа старался приподняться и устроиться поудобнее.
— Погоди-ка, Сережа, — заторопился Тулубьев. — Дай-ка я тебе помогу… вот так… отлично.
— Сам, сам. — Увидев выступившую из-за спины Тулубьева, из полумрака мать, он попросил пить, и Елена Викторовна, с неживым, привычно улыбающимся лицом, тотчас подала ему брусничный сок, и Сережа, не отрываясь, выпи его до дна. Опустившись на подушку, он что-то прошептал — ни Тулубьев, ни Елена Викторов не расслышали, глаза мальчика были закрыты, чашка из-под сока беззвучно скатилась на ковер. Никто этого не заметил, и Тулубьев, и Елена Викторовна не отрывались от лица Сережи. Спустя несколько минут Тулубьев беззвучно встал и вышел неслышно в другую комнату, почти насильно уводя за собой Елену Викторовну.
— Спит. Не трогайте его и никого не пускайте. Никого, ни врача, ни мужа! Пусть спит столько, сколько сможет. Главное, никого к нему не пускайте. Елена Викторовна, завели бы вы щенка, не с королевской родословной, а веселою такого крепкого, от любой дворняжки. Завтра утром поговорите с Сережей, посоветуйтесь.
Даже в полумраке Тулубьев заметил, как мучительно вздрогнуло и стало еще строже лицо женщины; он кивнул, вышел. Елена Викторовна: каким-то образом тотчас опередила его, и оказались в ярко освещенном коридоре. Она лишь смотрела на него.
— Право, Елена Викторовна, веселого, рыжего щенка…
— Вы полагаете?
Тулубьев, мгновенно настраиваясь на готовность измученной настрадавшейся души поверить в чудо, стараясь перебороть внезапно сжавшуюся в сердце тоску, не отводя и не пряча потеплевших глаз, утвердительно кивнул:
— Вот именно! Голосистого, веселого… и рыжего. Как завтра проснется Сережа, зовите меня читать… Отпустите вы свою душу, Елена Викторовна, и сами отдохните, поспите немого, все будет хорошо, я ведь колдун, Сережа не зря меня позвал, дети это чувствуют. Помните, волхвы у славян были?
Елена Викторовна готовно закивала, силясь улыбнуться, схватила обеими руками его руку прижалась к ней лицом.
— Ну это вы, сударыня, напрасно. Ну, будет, будет вам, голубушка, все же хорошо!
— Спасибо, спасибо, век буду за вас Бога молить. Пожизненно раба ваша… Мы с мужем… вес, что угодно!
— Да будет вам! А то рассержусь. Ищете щенка. Купите, украдите, но чтобы завтра был. И непременно рыжий!
Ему показалось, что в одной из дверей, выходящих в парадный, широкий, уставленный мраморными бюстами и сплошь завешанный картинами иконами коридор, мелькнуло чье-то Крупное лицо, выразившее растерянность, изумление, остолбенение, мелькнуло на мгновение и скрылось, — Тулубьев не успел разглядеть его подробно, хотя отметил какую-то тяжелую малоподвижность этого широкого ухоженного лица.
Было уже далеко за полночь, когда Тулубьев вышел на свой широкий балкон и стал вслушиваться в тихий, немолчный гул города. Внизу бессонно бежали огни и над Кремлем держалось мглистое неровное сияние. Где-то недалеко в ночном небе угадывалась темная громада храма Христа Спасителя. Мысленно поклонившись ему, Тулубьев закрыл балкон и пошел спать.
Прошел день, второй и третий, каждый раз утром раздавался звонок, и Тулубьев, уже одетый, поднимался этажом выше, проходил в комнату больного мальчика и, поздоровавшись, устраивался удобно в кресле рядом с кроватью и начинал читать следующую главу о верном Рыжике, о его трудном, непреодолимом стремлении домой, к беспредельно любимому существу, слабому, полуслепому старику и к его осиротевшему маленькому внуку Сеньке, проказливому и неугомонному, как и все мальчишки в его возрасте.
Тулубьев не спешил, особое внутреннее чутье вело его, он по-прежнему нерасторжимо был связан с мальчиком, и с каждым днем затянувшееся глухое равновесие в состоянии больного мальчика капелька по капельке крепчало в сторону выздоровления. Он знал, что придет момент и наступит перелом, почти кожей он ощущал близость этого момента, и вот в конце срока, когда по всем прогнозам врачей, профессоров и даже академиков Сережа уже должен был умереть, Тулубьев добрался, наконец, до возвращения Рыжика домой, до его встречи с больным стариком и полуголодным внуком, ходившим каждое утро на вокзал просить милостыню. Исхудавший до костей Рыжик приполз к родному порогу одновременно с вернувшимся домой со своего промысла Сенькой, купившим на сиротское подаяние хлеба, пакет кефира для деда и даже кусок дешевой колбасы. Маленький нищий сразу узнал своего верного друга и, остолбенев от радости, шлепнулся на колени, раскинул руки и крепко обнял Рыжика. Покупки посыпались прямо на грязный коврик перед порогом, а Рыжик, потрясенно взвизгивая, вскинул лапы мальчику на плечи и стал лихорадочно облизывать ему лицо горячим шершавым языком и плакать от радости…
— Рыжик, Рыжик, — обрел пропавший 6ыло голос Сенька. — У меня колбаса есть… Хочешь? Ешь, ешь! Я еще куплю…
И тогда что-то случилось. Не решаясь взглянуть в сторону Сережи, Тулубьев не мог, однако, больше читать, челюсти у него свело. Он почувствовал робкое прикосновение тонких сухих пальцев мальчика к своей руке. Сережа лежал с широко открытыми глазами, и в них светилось столько выстраданной, тихой нежности, что Тулубьев сердито вытер повлажневшие глаза и услышал, как ручонки Сережи слабо обняли его шею.
— Ну, дорогой мой человечище, — смущенно бухнул в разлившуюся гулкую пустоту Тулубьев. — Ну, ты, брат, силен… Молодец, молодец, дай-ка я тебя сам расцелую, богатырь ты мой…
Он подхватил исхудавшее легкое тело больного с кровати, прижал к себе, походил с ним по комнате, что-то приговаривая, затем осторожно опустил Сережу на место. И мальчик, не сразу оторвав от шеи Тулубьева руки и уронив их вдоль тела, блаженно закрыл глаза, дыхание его попе многу успокоилось.
Стараясь не шелестеть, Тулубьев сложил рукопись, сунул ее в карман, взглянул в спокойное, истончившееся, сразу порозовевшее лицо уснувшего мальчика, неслышно перекрестил его вышел.
Прошел год и второй, Сережа теперь превратился в крепкого подростка, и не было дня, чтобы он не заглянул к Тулубьеву хотя бы на несколько минут. Между ними установились совершенно особые отношения душевной близости; в лице Сережи теперь играл здоровый молодой румянец, он ходил в бассейн, отлично развивался и быстро рос. И вот однажды к Тулубьеву спустился отец Сережи — Георгий Павлович Никитин. С первою же мгновения, едва взглянув ему в широкое, холодно приветливое лицо, Тулубьев почувствовал себя неуютно. Никитин был у Тулубьева впервые, и в лице у него мелькнуло легкое удивление, хотя раньше жена ему о многом рассказывала. Просторная квартира была гулкой и пустой, почти вся мебель была давно продана и прожита, и гость присел на сохранившееся от старинного гарнитура высокое дубовое кресло.
— Слушаю вас, Георгий Павлович, — сухо и официально кивнул Тулубьев, все больше ощущая скрытую враждебность и неприязнь к гостю. — Чем обязан?
— Давайте, Родион Афанасьевич, напрямик, по-мужски. — Никитин небрежно окинул взглядом пустой кабинет с единственным приличным пейзажем на голой стене, с разлохматившимися и кое-где начавшими отставать обоями. — Я к вам посоветоваться. Вы отнимаете у меня единственного сына… Вы да же ключ к собственной квартире ему дали… Да, да, по-вашему взгляду я вижу, вы всё понимаете. Вот я и хочу спросить у вас, что же мне делать?
— А что, господин Никитин, разве, необходимо что-то делать? — спросил и Тулубьев, усаживаясь на второе кресло у письменного старинного мореного дуба стола из все того же фамильного проданного гарнитура и с неожиданно проснувшимся глубоким интересом всматриваясь в Никитина.
— Я полагаю — да. — Никитин стряхнул невидимую пыль с брюк на колене. — Я не хочу, чтобы мой сын вырос слюнтяем и чтобы его тут же раздавили. Я внимательно изучил всё вами написанное, все ваши книги… сознайтесь, Родион Афанасьевич, ваш прекраснодушный романтический мир давно рассыпался, исчез. Россия давно другая — теперь главное в России деньги. Это и сила, и власть, и жизнь. Зря вы иронически усмехаетесь, всё вернулось на круги своя.
— Как вы ошибаетесь, господин Никитин! — покачал тяжелой головой Тулубьев. — Россия это прежде всего, Бог… Так было, так будет всегда. А все иное это уже не Россия…
Втягиваясь помимо своей воли в ненужное и тягостное противостояние, Никитин все же не думал уступать, да и не мог, он не был согласен с упрямым и чудаковатым стариком, пережившим свое время и самого себя.
— Останемся, дорогой сосед, каждый при своем, ведь возможно сосуществовать и так, — сказал он примирительно. — У нас более конкретный вопрос. Как вы понимаете, я бы мог переменить квартиру, уехать в другой район Москвы или даже куда-нибудь за океан. Дело у меня налажено, и им можно управлять при нынешних средствах связи даже из Австралии. Вы понимаете, что это нашу проблему не решит… Так ведь, Родион Афанасьевич?
— У вас, я думаю, как у всякого очень делового человека, есть свои продуманные предложения, — еле заметно улыбнулся Тулубьев — Слушаю вас.
— Что ж, — повторил, как эхо, Никитин. — Что ж… Вы правы, действительно, есть. Мое предложение — вы должны подготовить Сережу и затем уехать на другое место, в другой город… Допустим, в Париж или Мадрид… или в кругосветное путешествие, как это часто делают состоятельные пожилые люди… Если не захочется, хотя бы в другой район Москвы или в Подмосковье, у меня есть возможность предоставить вам в личную собственность жилье на выбор. Любое, хоть квартиру, хоть особняк. Разумеется, своего настоящего адреса вы Сереже не дадите…
— Вам, господин Никитин, не жалко сына? спросил Тулубьев, глядя на своего гостя исподлобья.
— Жизнь жестока, Сережа скоро повзрослеет и будет мне благодарен, — ответил Никитин.
— Другого выхода я не вижу. Я понимаю, вас деньги давно не интересуют, но вы ведь по-своему привязаны к Сереже, возможно, в глубине души крепко полюбили его. Мы женой всегда будем помнить, что именно вы вернули его к жизни… так ведь?
— Вполне возможно, — подтвердил Тулубьев. — А теперь я, знаете ли, быстро устаю. Я подумаю, господин Никитин, над вашим предложением.
Они встали, Никитин был пониже, и некоторое время они смотрели друг на друга молча и сосредоточено, словно отдыхали от трудного разговора.
— Я вас, Родион Афанасьевич, очень прошу не тянуть, у человека так мало времени, — сказал Никитин и, поклонившись, быстро вышел, а Тулубьев, очнувшись, покачал головой:
— Вот негодяй… а? Черт знает, что происходит…
На следующей неделе он посоветовал своему всемогущему соседу, когда тот напомнил о себе телефонным звонком, никогда больше не обращаться к нему по этому поводу, и как-то сразу забыл о нем. Сережа продолжал заглядывать к Тулубьеву чуть ли не каждый вечер, рассказывал о своих делах, о закрытом колледже, в котором учился, и однажды, помявшись, сообщил, что отец уговаривает его уехать в Лондон и получить, лучшее в мире образование, и что он категорически отказался.
— Ведь я правильно сделал? — спросил он требовательно, и Тулубьев замялся, вот жизнь опять вынуждала его к нелегкому противостоянию почти к подвигу, скорее всего, бессмысленному.
— Да, — коротко и тяжело вздохнул он, хотя в душе ширилось и ширилось совершенно иное чувство сквозящего, почти солнечного простора. Знаешь, Сережа, я задумал кое-что написать, собираюсь на несколько дней уехать к знакомым. Зовут к себе, на дачу, мне у них хорошо работается. Так что ты не тревожься. В Москве стало трудно работать — шумно, суета, гарь, все пронизано темными токами. Приеду — сразу дам знать, на той неделе сразу же и отправлюсь.
— Так это ведь еще на той неделе! — заметил Сережа. — А сейчас только среда… Я туг кое-что набросал я вам оставлю тетрадку, вы посмотрите. Хорошо.
Захлопотавшись, совершенно запутался в вещах, которых оказалось неожиданно много, понимая, что нужно отобрать, отправляясь пожить на несколько дней в чужой дом Тулубьев к концу недели, вечером, по своему обыкновению вышел на балкон. Темнело, пропархивал крупный редкий снег, залетая иногда в затишье и попадая на лицо и руки. Тулубьев представил себя в снежном лесу и улыбнулся — все-таки жизнь начинала понемногу налаживаться. Вчера звонила дочка и, задыхаясь от волнения, обещала завтра непременно заехать и сообщить ему нечто весьма и весьма важное, очень радостное, касающееся их всех.
Тулубьев усмехнулся; наконец-то, сбывалась его мечта о внуке, поздненько, конечно, едва ли он успеет дождаться, когда тот поднимется и хотя бы пойдет в школу, или колледж, или гимназию, что там они придумают. Но, слава Богу, еще одним москвичом станет больше. Москва — матушка она всех укроет и согреет и даст дорогу в жизнь. До него долетел привычный скрип двери в передней, ага, пришел Сережа, и теперь они молча, два самых близких человека, постоят рядом, полюбуются вечерней Москвой, они давно понимали друг друга почти без слов. Тулубьев облокотился о решетку балкона — и в тот же миг тяжелая пуля, вылетевшая из мрака, тупо ударила его в середину лба и, выходя, выломила рваный кусок кости из затылка. Время вспыхнуло, рассыпалось и погасло. Он обвис на решетке, в одно мгновение разделившей два несовместимых, взаимно исключающих и непрерывно переливающихся друг в друга мира.
Свидание с собой (Рассказ)
Теперь Гоша часто молился. Он сам не знал, когда и почему это началось, очевидно, уже давно, после последнего госпиталя. Просто наступил срок и ему стало необходимо что-то непонятное и сокровенное шептать, проснуться, уставиться перед собой в темень, в московскую неумолчную тишину и шевелить сухими губами, обращаясь к неведомому, просить хотя бы о пустяке, ну, допустим, чтобы подступавшее воскресенье оказалось солнечным и можно было бы съездить за город, походить по лесу, послушать птиц и набрать немного грибов. Для себя он никогда ничего не просил, он считал, что у него все есть, и даже в избытке, он опасался очередной неприятности вообще. Допустим, на московских детей или котов мог напасть очередной мор, а то где-нибудь рядом, на станции метро Пушкинская или Арбатская, взорвут бомбу и поднимется несусветная суета, могут прийти с допросом и к нему, и к его соседям, начнут говорить и спрашивать всяческие глупости. Одним словом, Гоша являлся потомственным москвичом, и, конечно, все его страдание заключалось в незнании истинной цели жизни, или вернее, в ее утрате, хотя Гоша, как и десятки тысяч других москвичей, тайно полагал свое предназначение просто в своем присутствии на земле и в славном древнем граде Москве, в чем и был абсолютно прав. И пусть со стороны в глазах московских мещан казалось странным, что он, в преддверии надвигающихся сорока лет, по-прежнему был один в своей наследственной квартире в самом центре столицы, менять он ничего не собирался, менять ему что-либо было и не суждено.
Открыв глаза и утешившись подобными тягучими и успокаивающими мыслями, Гоша сосредоточился, стараясь успокоить какую-то, не свойственную его душе по утрам, сумятицу. «Господи, Боже мой, — сказал он себе, — я тебя не знаю и боюсь узнать… Сознаюсь, я грешник, не верю в милосердие жизни, вот и живу в скорлупе — люди страшны и несут только зло. Знаешь, я устал от зла и ненависти, одного прошу — будь милостив, избавь меня от людей, близкое общение с ними обязательно отзовется горем и ущербом. Дай мне жить в вере одиночества. Дай всем того, что они сами себе желают, а я свое искушение принял с избытком. И до конца. А еще благослови день грядущий и пусть он протечет тихо и мирно…»
Подобно всякому здравомыслящему человеку, заботящемуся о своем здоровье, Гоша тщательно побрился, несколько раз присел, с удовольствием отмечая возвращающуюся легкость и гибкость суставов, помотал руками, сходил в душ, крепко растерся мохнатым полотенцем, позавтракал овсянкой на воде, запил ее стаканом фруктового отвара, измерил себе давление, остался доволен и стал собираться на утреннюю прогулку. Взглянув на термометр за окном, он удивился — было не по-летнему прохладно, всего шестнадцать, и он, выбрав кожаную английскую куртку с большими накладными карманами, всю в молниях и эмблемах закрытых лондонских клубов. Он полюбовался ею, встряхнул — дорогая кожа, переливаясь, заструилась мягкими складками. Он было набросил ее на плечи, но в дверь позвонили. Помедлив и взглянув в глазок, он увидел уродливо и изумленно улыбающееся, широкое, в лохматых облаках седых пепельных волос лицо соседки и услышал ее приглушенный голос, знакомый с раннего детства, когда мама была еще молодой и красивой, а соседка тетя Ася стройной и привлекательной с длинными ногами в лакированных лодочках, и когда неразлучные подруги часто о чем-то оживленно шептались на кухне.
— Гоша, ты еще дома? Открой, пожалуйста, — шумно попросила тетя Ася и, едва переступив порог, казалось, тотчас наполнила собой не только прихожую, но и все остальное пространство квартиры. — О, да ты молодец, уже при параде! — одобрила она и хитро, с затаенной лаской взглянула. — Уж не сватовство ли наконец предстоит?
— Здравствуй, тетя Ася, — в тон ей, с легкой усмешкой отозвался Гоша, по привычке уходя далеко в сторону от давней и постоянной заботы и мечты тети Аси — поскорее его женить. — Как здоровье, самочувствие?
— Ах, Гоша, и не говори! Что за напасть! — посетовала тетя Ася, хотя и голос ее, и взгляд говорили совершенно о другом. — Сейчас даже но-шпу купить — половина моей пенсии. Однако ты мне зубы не заговаривай, мальчик. В самом ведь деле, я давно хотела с тобой объясниться. Твой образ жизни вызывающ и неприличен, молодой человек, в самом мужском расцвете и совершенно один! Среди огромного количества страдающих от дикого одиночества молодых женщин! Это, во-первых, не патриотично по отношению к вымирающей России, а, во-вторых, не гигиенично, экологически уродливо. Гоша, жизнь ужасно скоротечна! Ответь мне, дорогой мой, зачем ты живешь?
— Боже, тетя Ася! Сколько трагических, неразрешимых вопросов! Сдаюсь! Пас! Ответа на них нет! Не хочешь ли чашечку бразильского кофе? — спросил он, уже заранее зная, что соседка не откажется, и потому, водворяя свою щегольскую куртку обратно в шкаф и приглашая гостью на кухню, и она тотчас устроилась на своем обычном месте у окна, с горшком цветущей герани, а Гоша поставил на огонь кофейник, а на столик две фарфоровых чашечки. Затем он достал из кухонного старинного пузатого буфета сахар, печенье, а из холодильника сыр. Тетя Ася наблюдала за ним с философским видом, с некоторым даже здоровым скептицизмом, подчеркивая легкой усмешкой, что женщина сделала бы всю эту пустяковую работу гораздо быстрее и лучше.
— Неужели я тебя так и не смогу женить, Гоша? — спросила тетя Ася горестно, как бы жалуясь, и вздохнула. — Ты знаешь, это стало для меня прямо-таки нравственными мучением, я ведь обещала твоей матери приглядывать за тобой… Ах, прости, Гоша, черт знает, болтаю, болтаю, я ведь совсем по другому делу. Оказывается, опять повысили квартирную плату с марта месяца, сегодня приносят бумажку, я и ахнула. Опять триста тридцать тысяч должна! Да пени, говорят, растут… Никак не нажрется наш всенародный, чтоб он подавился нашим горем! А я еще, дура старая, за него голосовала, горло драла! Всех одурманил своей пьяной мордой, гляди-ка, мол, свой в доску! Простить себе не могу…
— Да брось ты, тетя Ася, — улыбнулся Гоша. — На Руси еще не такое было и прошло. И это пройдет. Сколько нужно: триста, четыреста?
— Да хоть бы триста пятьдесят, Гошенька, пока я что-нибудь из своего барахла продам, — вздохнула соседка. — У меня от мужа несколько орденов осталось, говорят, за Ленина можно миллион, а то и больше получить, вот я его и оттащу на Арбат. Там по всяким подворотням караулят скупщики, светопредставление от этого умника и пошло, зачем мне в доме зло держать?
От своего одиночества и неустройства последних лет тетя Ася явно жаждала продолжения разговора, и Гоша, с давним и прочным уважением, идущим еще с детской поры, не торопился, и на ее откровенный вопрос, как же теперь быть народу, рассмеялся.
— Да ты, тетя Ася, совсем раскрепостилась! — сказал он. — И Ленин тебе нехорош, и наша прославленная демократия поперек горла! Сама голосовала, сама теперь все костеришь!
— Из одного бочонка огурчики, из одного рассольца, из одного, — непримиримо сказала тетя Ася. — Ты меня, Гоша, не шпыняй, каждый может ошибиться. Я хоть старая женщина, а вот вы, молодые мужики? Чего терпите? Вот хоть ты. Афган, Чечню прошел, офицер, десантник, черт тебя туда понес! Весь изрезанный, до сих пор отойти не можешь! А ради чего? Ты должен знать, как с бандитами разговор держать! Вон они тебя как искалечили, даже пенсию пожизненно в миллион положили! А вон боевые офицеры то и дело от позора сами себя стрелять стали! Где это видано, чтобы иметь в руках оружие и самого себя стрелять? Вместо того, чтобы кому надо в лоб влепить? Да какие же вы русские офицеры? Срам!
— Ты права, тетя Ася, с бандитами разговор может быть только один — пулю в лоб или нож под лопатку, — сказал Гоша все с той же благожелательной усмешкой к горячности тети Аси, но на лицо его надвинулась какая-то тень. — Ведь у нас несколько по-другому обстоит, вопрос не простой — да, были когда-то в России офицеры, были да сплыли, — улыбнулся Гоша и по его лицу тень пошла гуще.
— Эх, вот бы мне мужиком родиться! — окончательно опечалилась и возмутилась тетя Ася и в сердцах со звоном двинула от себя чашечку с кофе. — Годков бы тридцать, сорок скостить! Уж я бы вам показала, курятам синюшным!
Тут тетя Ася вдобавок ко всему неожиданно стукнула кулаком по хлипкому кухонному столику и посуда на нем подскочила, а Гоша, любуясь соседкой, и с возрастом не утратившей своего бойцовского норову, одобрительно кивнул.
— А что, интересно, ты бы сделала, тетя Ася, на нашем, как ты говоришь, месте? — спросил он, ощущая в душе некую саднящую горошину и начиная сердиться. — У нас теперь все умны другим указывать, русский человек — удивительный народ!
— А я тебе уже сказала! Я бы вместо того, чтобы себе башку дырявить, своих бы незваных благодетелей попотчевала бы! — не осталась в долгу тетя Ася. — Потихоньку щелк да щелк, глядишь, они бы и потише стали!
Расходившись, воинственная соседка раскраснелась, разрумянилась, разволновалась окончательно, выпила еще две чашки бразильского кофе, и Гоша поспешил принести ей деньги и вновь натянул на себя куртку, теперь уже откровенно показывая, что торопится и что ему необходимо уходить — тетя Ася, как и многие другие московские пенсионеры, в последнее время все чаще стали вспоминать о своем русском корне, ругать всех подряд с самыми неожиданными и захватывающими поворотами. И в другое время Гоша с удовольствием и охотно ее слушал, скупо поддакивая, а иногда и довольно резонно возражая, хотя высказывать свое мнение не любил и считал бесполезным. К способности русского человека бесконечно рассуждать на завалинке на любую тему он относился весьма скептически в душе его влекли к себе люди действия вроде той же тети Аси, неутомимо распространявшей все последние годы на всех митингах и собраниях, по своим соседям и знакомым газеты и листовки, призывающие молодежь слоняться не по игорным и другим публичным домам, а учиться в тирах стрелять или хотя бы изучать русский рукопашный бой в спортивных национальных клубах.
Сейчас он, действительно, спешил и, проводив тетю Асю, тотчас ушел и сам, в твердом намерении разобраться с самим собой. И потому, добравшись до Страстного бульвара, присел на скамеечку неподалеку от детской площадки и стал смотреть и слушать. Он не мог представить, что когда-либо был вот таким непоседливым трехлетним карапузом в джинсовом костюмчике, бестолково перекидывающим с места на место песок лопаточкой, и, подумав об этом, еще больше ушел в себя. Соседка права, необходимо было выбирать и окончательно определять свою жизнь. Можно было податься и в монахи в Лавру, уж только не жениться и не плодить рабов — в таких условиях борцов, солдат даже из своих детей воспитать невозможно, да и в нем самом что-то уже давно хрустнуло и сместилось. Но и до подлинного смирения, до монастырской тишины было далеко, никакого страха давно больше не оставалось, а была лишь маскировка, стремление выключить, обмануть и выключить самого себя из подлинной жизни и оставить себе только церковь, молитву и покаяние — именно в этот тупик и толкали изо всех сил русского человека взявшие верх силы беззакония, но ведь это еще не конец, есть и другие пути. Тетя Ася ошибается, он мог и убить, и не дрогнул бы, если бы представилась такая возможность даже ценой собственной жизни, — молитва без меча — тот же гашиш, дурманящие, убаюкивающие сны, и природу человека никакими молитвами не одолеть и не переделать. Подлая природа, циничная и развратная, и лишь в таком вот нежном детстве, как этот джинсовый карапуз, естественно вписывающаяся в природу космоса и дополняющая, и даже обогащающая ее, а так — все остальное бессмыслица и ошибка…
Совсем запутавшись, Гоша еще полюбовался на детей, затем, чувствуя нарастающую в душе странную, вроде бы беспричинную тревогу быстро встал и пошел по бульварам к Никитским и Арбату в короткие минуты, проведенные им на скамье возле детской площадки, что-то случилось: вся чушь с уходом в монастырь и с молитвами в один момент словно ссыпалась с него и теперь он боялся опоздать и не успеть. И он, сам того не замечая, все ускорял и ускорял шаг, по-московски ловко избегая многочисленных встречных прохожих и совершенно не замечая лиц и, пожалуй, впервые видя за последние годы высокое холодное небо с редкими волнистыми облаками. Его не заставило задержаться и такое удивительное обстоятельство — ну, небо и небо, оно всегда было, и такие облака были, только мы не всегда их замечаем, сказал он себе, они были еще и до нас, и когда еще и Москвы здесь не было, подумаешь, открытие, постарался он поиздеваться над самим собою, и тотчас забыл. Открытие все-таки было, оно произошло в его темной, наглухо закрытой от мира душе, в ней словно распахнулось окно и ворвался порыв солнечного, резкого ветра — он даже задохнулся, и сердце подскочило и оборвалось. Он опять испугался опоздать и теперь уже почти бежал, и встречные прохожие, полагая, что он спешит по какому-то неотложному делу, охотно сторонились и некоторые оглядывались. Особенно женщины, он по-прежнему был молод, строен, и лицо его сейчас приобрело тяжелую, нерассуждающую целеустремленность.
Он сбежал по широким ступеням в знакомый подземный переход через Арбат, где, как бы между делом, походя, торговали самой разнузданной порнухой, травкой, порошочками, приторговывали и живым товаром на любой вкус милиция, давно имевшая здесь свою немалую долю, не заглядывала сюда даже во время глухих и беспощадных разборок между негласными владельцами этого подземного мира с его почти круглосуточной подпольной толчеей и тайными движениями, в которых любая отдельная человеческая судьба совершенно ничего не значила все здесь определялось только зелененькими, и эту странную, парализующую атмосферу безошибочно чувствовали свежие люди и старались, не отвечая на негромкие и опять-таки как бы мимолетные предложения, поскорее проскочить мимо и выбраться вон. Для Гоши все это сейчас не имело никакого значения. Не замечая приглашающих жестов и не слыша самых соблазнительных предложений вполголоса от молодых людей, как бы невзначай попадавшихся навстречу, он пробрался в другой конец перехода, облегченно замедлил шаг и скоро нырнул за одну из квадратных опор, облицованных красноватым гранитом и подпиравших глухо гудевшие от идущих сверху машин перекрытия и как бы разделявших переход на две части скудно освещенными двумя же рядами никогда не гасших светильников.
Нужно было успокоиться и продумать дальнейшее — однорукий мальчик-нищий находился на своем обычном месте, сидел в конце перехода на толстой грязной подстилке, и Гоша от своей решимости почувствовал сильные и частые толчки крови в висках. Между маленьким, изуродованным жизнью нищим и бывшим офицером, вчистую уволенным из армии после взрыва чеченской мины по пожизненной инвалидности, о чем даже тетя Ася не знала и не догадывалась, давно уже установилась какая-то больная и необходимая связь, и она прорастала с каждой их новой встречей все глубже и подчас начинала становиться неодолимой, пронзительно сквозящей, мучила Гошу, и он не знал, что это такое. Он пытался бороться со своим влечением, но победить себя не мог, и в конце концов решил и здесь пройти до конца и только тогда понять.
Притаившись у массивной опоры, поддерживающей крышу призрачного, крошечного и необъятного в своих страстях и пороках мира, Гоша затаился и на время стал как бы невидимым, растворился в общей массе наполняющих подземный переход и непрерывно меняющихся самых различных людей. И хотя он был по природе своей философом, он, пожалуй, впервые ощутил свою полнейшую беспомощность перед рыхлой громадой жизни, непрерывно сменяющей лицо и строившей ему самые комические и мерзкие рожи. Он стал чувствовать себя вроде бы обнаженным, даже с содранной кожей, — любое внешнее прикосновение жгло и заставляло страдать. Он знал, что в этом, на первый взгляд хаотическом движении человеческой массы, был свой порядок и смысл, а также и свой центр — эти основополагающие категории присутствовали везде и всегда, даже в мертвой жизни.
Он уже ощутил на себе цепкое внимание, хотя и не мог определить пока, откуда оно шло. Неподалеку с длинными сигаретами стояло несколько девочек лет по двенадцать-четырнадцать, одетых вызывающе и крикливо они изо всех сил стремились казаться взрослыми и в их полудетских лицах уже проступала порочная тупость, и по каким-то неуловимым признакам Гоша тотчас определил неотрывно пасущего их парня лет тридцати в длинном щегольском плаще до пят с широкой пелериной, с сальными длинными волосами до плеч тот, в свою очередь, нацелился на Гошу как на потенциального клиента и уже, было, независимо двинулся к нему, и Гоше пришлось одними глазами отказаться от услуг, и миллионный плащ с остановившимися глазами, ставшими пустыми, тотчас равнодушно вильнул в сторону и в одно мгновение исчез, растворился в подземной суете, словно его никогда и не было в яви. Гоша попытался ради любопытства отыскать его глазами, не смог — в новом повороте жизни народ начинал приобретать ранее совершенно никогда не встречавшиеся черты и особенности, и даже мог, когда хотел, становиться невидимым и его невозможно было разглядеть ни в какой увеличительный электронный прибор. Над ухом у Гоши прозвучал ясный шепот, предлагавший сигареты, на ловких, смуглых руках, державших несколько разноцветных заграничных пачек, скорее всего, поддельных, в одну секунду мелькнул целый набор другого наркотического зелья в одноразовых целлофановых упаковках и ампулах, мелькнул и растаял, и перед Гошей просияли услужливые и лукавые восточные глаза, насмешливо и вызывающе сверкнувшие, пообещавшие Бог знает что — Москва ныне купалась в призрачном дыму древних пороков и в новых, обволакивающих грезах, сулящих неведомое и требующих в обмен и тело, и душу, но этого никто в стольном граде не хотел замечать.
В маленьком, подземном мирке Гошу давно уже засекли самые различные, согласно действующие здесь разнородные силы, и он, будучи от природы человеком впечатлительным и чутким, физически ощущал это цепкое и неотступное внимание — его здесь проверяли и прощупывали, старались определить: безопасен ли он, или несет опасность и беду всему здесь устоявшемуся, и определяли, как быть с ним дальше.
И маленький нищий у другого конца перехода каким-то образом тоже почувствовал его присутствие — едва Гоша шагнул из-за своего укрытия и двинулся дальше, мальчик тотчас, еще не видя его в густом, вечно спешащем многоликом потоке, повернул голову, и лицо его неуловимо переменилось, стало осмысленным и напряженным. И Гоша еще больше подобрался, подступила редкая, тяжкая нежность. И он, прошедший через две войны, в Афганистане и на Кавказе, и сам непоправимо искалеченный, весь посветлел. В ответ на улыбку Гоши на лице калеки, сквозь грязь и шрамы, тоже пробилось слабое тепло, мрачные глаза стали больше и приветливее, в то же время он неуловимым почти образом, легким изломом бровей дал понять Гоше о близкой опасности. Гоша сразу увидел неподалеку, в теневой части перехода, высокую серую фигуру, опять-таки в длинном кожаном плаще с широкой пелериной, и сразу по каким-то неуловимым признакам определил хозяина маленького нищего, хотя до этого ни разу его не видел, — хозяина новой жизни никак было нельзя не узнать, под дорогой заграничной кожей туго бугрились плечи, на пальцах тускло сверкали кольца, а на волосатой груди угадывался внушительный золотой крест, — цепочка от него небрежно выглядывала из-под расстегнутого ворота. Одним словом, это был настоящий хозяин, на него работали нищие дети в различных концах Москвы, и он время от времени как истинный хозяин проверял их усердие, а по вечерам свозил на ночлег, подсчитывал выручку и кормил скудным ужином, разнообразя его рюмкой-другой скверной, дешевой водки для особенно старательных.
И еще множество других мыслей пронеслось в голове у Гоши, и о себе тоже, о своей искалеченной, неизвестно ради кого и чего жизни, ведь уже далеко за тридцать, а за душой ничего: ни семьи, ни любимого дела, ничего, кроме довольно приличной военной пенсии да бессрочной инвалидности. За что? Ради вот таких новых российских хозяев? Или за высших партийных негодяев, в один момент вывернувшихся наизнанку, захапавших народное достояние и ставших еще более омерзительными хозяевами и распорядителями жизни, чем этот патлатый тип, закованный в дорогую кожу?
И Гоша с душой, искалеченной войной больше тела, давший себе зарок никогда и никому не делать зла, почувствовал ненависть, она шевельнулась где-то в самой глубине его существа и стала неудержимо разгораться. И на него, как когда-то в прошлом, обрушилось чужое слепящее небо, перед глазами заплясали острые вершины гор, и голову стал разрывать гул и грохот, и затем все перекрыл цепенящий скрежет опрокидывающихся и рассыпающихся гор. И стараясь удержаться у самого края, не поддаться и не погибнуть, он замер — он увидел ползущие мимо окровавленные клочья человеческих тел, их затягивало в гулкую от боя пропасть…
Челюсти свело от судорог, он понял окончательно, что должен спасти нищего мальчика, ставшего до сердечной боли дорогим и необходимым, и тем самым спасти для дальнейшей жизни самого себя, и даже обрушься сейчас мир вокруг, это стало бы всего лишь ненужной и досадной мелочью. И чувствуя прилив давно забытой силы, Гоша трудно вздохнул и вновь взглянул в сторону хозяина в кожаном — встретив его ответный взгляд и стараясь не выдать себя, маскируясь по старой военной привычке, он подошел к хозяину в кожаном и, как ни в чем не бывало, попросил огоньку прикурить.
На него оценивающе и насмешливо, с медлительной неохотой взглянули и тотчас поднесли щелкнувшую зажигалку. Гоша затянулся раз и другой. «Вот, черт! Золотая ведь, даже с каким-то камешком… а?»- подумал он с некоторым уважением, поблагодарил и независимо зашагал к выходу из перехода, затем, словно случайно, увидел маленького нищего, круто свернул, остановился перед ним, заслоняя его от цепких глаз закованного в кожу хозяина, и стал рыться в карманах, отыскивая деньги. Чувствуя спиной пронизывающий взгляд, Гоша, не отрываясь от тонкого, какого-то одухотворенного сейчас лица мальчика, наклонился, не глядя, опустил на целлофановую подстилку смятые комом деньги, и в тот же момент у него в руке оказалась записка, и сердце его разгорелось и оборвалось, — сбывалось его самое дорогое и больное желание. Ему захотелось коснуться густых спутанных волос мальчика, но этого нельзя было — хозяин в кожаном продолжал буравить его спину взглядом, и как бы он не заподозрил в нем соперника и конкурента.
— Ничего, Ваня, значит, сегодня?
— Смотри, как бы он тебя не поломал, — шепнул мальчик тревожно. — Он без пистолета не ходит… у него вся милиция в кармане…
— Славяне и не такое видели, — понизил голос и Гоша, и мальчик изумленно и благодарно взглянул сверху вниз. Гоша бодро и дурашливо подмигнул ему задерживаться больше было опасно и он пошел дальше, а мальчик стал одной своей рукой перебирать и разглаживать деньги и неловко совать себе в грязный мешочек на груди, и делал он это сосредоточенно и привычно. В сторону своего хозяина он намеренно ни разу не взглянул, и тот тоже скоро растворился в толпе, и через полчаса его роскошная заграничная машина остановилась у казино на Тверской, и услужливый служитель с почтением распахнул ему медно-зеркальные двери, и вышел он из этих дверей обратно уже только вечером. Москва стала затихать после долгого и сумбурного дня. Огромный и не подвластный никакой отдельной силе город жил по своим внутренним непреложным законам. И сам Гоша в этот трудный для него день хорошо почувствовал эти, неизвестно кем и когда утвержденные и беспрекословно проводящиеся в жизнь законы и установления, хотя он и не смог бы внятно выразить и объяснить свое состояние — город всей своей мощью давил, здесь, в колоссальном космическом сгустке дел многих десятков безвестных поколений в их ратном и трудовом подвиге, в смешении бескорыстия и предательства, крови и боли, отчаяния и надежды, где, отмирая, один слой наслаивался на другой, и уже, став прахом, все же продолжал жить и созидать нечто подобное себе и в будущем, и где грязь и тоска новых поколений все больше цементировали само основание, где светлые реки постепенно уходили в подземелья рукотворных труб, становясь сточными канавами, и где отдельная человеческая судьба никогда не была главной ценностью, а служила всего лишь очередной крохой в нескончаемую кладку, неизвестно кем и для чего затеянную слепым провидением…
Тут Гоша понял, что окончательно запутался, что такие высокие материи совершенно ни к чему нормальному человеку, и какая бы ахинея ни затесалась в голову, у самого него одна цель — убогий и порабощенный Ваня и через него свое собственное спасение. Другого ничего не было и не могло быть, ведь своих детей у него никогда не будет — так распорядились люди, называющие себя политиками и слугами народа и пославшие его сначала на одну, а затем и на другую бессмысленную войну, искалечившие его, отнявшие у него право любого живого существа на продолжение самого себя в потомстве. Вот ему и остается одно — прилепиться душою к заброшенному и озлобленному существу, еще к одному калеке, и ему помочь, и себе…
Мимо прошли две молодых, довольно симпатичных женщины, хорошо и модно одетых. Они враз взглянули на Гошу и почему-то приглушенно засмеялись — смех был приятным и располагающим к знакомству, любой мужчина в этом никогда не мог ошибиться. И Гоша, несмотря на свои завиралистые и ненужные в данный момент мысли, заметил молодых женщин, их быстрые, ищущие и как бы приглашающие взгляды, но оставил их без внимания, просто чувство ожидания в нем обострилось и шаг стал тверже и упруже. Вот таким петушком он когда-то выходил к своему взводу десантников, грудь колесом, из-под берета — русая прядь. И мимолетное, далекое воспоминание заставило его собраться, вернуться к своему предстоящему делу. Ну да, калека, сказал он себе с усмешкой, знаем мы таких калек, руку к телу прибинтуют, ногу подвернут, а в пустой рукав сунут какой-нибудь пластмассовый муляж, да побезобразнее, понатуральнее, новые русские и здесь приспособились и наловчились делать деньги. Чем уродливее, тем больше будут подавать, а мальчишка-то приятный, имя хорошее, только замученный донельзя.
У какой-то забегаловки, конечно, со звучным заокеанским названием «Ниагара», он жадно проглотил пару булочек с сосисками, запил чашкой кофе вечерние тени уже начинали копиться у стен домов, толпы на улицах менялись — это тоже была примета нового времени. На улицы и площади города все ощутимее выплескивались страх, порок и циничная голая сила, упитанные милиционеры, рьяно гонявшие днем старушек, торговавших у метро всякой всячиной, исчезли, и Гоша все больше чувствовал себя чужим и ненужным в том ночном с физически ощутимой испариной похоти и насилия городе. И ему было больно, что город его детства и юности умер и превратился в чудовище и теперь пожирал сам себя, и оживить или спасти его нельзя, и если ему сегодня удастся убедить и спасти мальчика Ваню, тот вырастет и когда-нибудь спасет заблудший, оторвавшийся от тела своей земли город, но это будет, пожалуй, очень и очень не скоро, и он сам до этого не доживет.
И Гоша заторопился время все равно шло, даже если город уже умер и вокруг разворачивался всего лишь фантастический сон. Гоша шел на свидание к самому себе, еще совсем маленькому и — все равно счастливому распахивавшимися перед ним далями. Он все больше и больше спешил и скоро оказался во дворе того самого старого дома по Новослободской, указанного в записке Вани, и оказался он там минут за пять до назначенного срока. Глубокий и темный двор со всех сторон замыкался прямоугольником стен, с редко и тускло светившимися окнами, серое небо было далеко, и до него, словно со дна колодца, невозможно было дотянуться, а две арки, из которых несло промозглой сыростью, пронизывающей дома насквозь, тянули куда-то еще глубже — в самое потаенное нутро засыпающего чудовища.
Вдвинувшись в арку, в самую тень, Гоша, не упуская из виду молчаливого, полуразбитого подъезда, стал ждать. Город затихал все больше, лишь в каменных, сырых стенах арки скрытый, мерный гул задавленной камнем земли усиливался. Гоша ощущал это спиной, и в нем сейчас, отсчитывая время, словно затикали часы. Он сказал себе, что еще можно повернуться и уйти, не наваливать на себя непосильный груз чужой жизни ведь и сам Христос ошибся в своих пророчествах и больше никогда не посетит изгаженную людьми землю, и на ней ничего больше не изменится, и потому Россия первой выходит на финиш небытия. Страну с рухнувшей армией, с продажным, погрязшим в торгашестве офицерством спасти невозможно, она обречена на рабство, унижение и гибель. Иного не дано, оружие должно быть направлено на врага, а не на собственный народ, и никаким жертвенным терпением здесь ничего не добьешься. Но кто-то неведомый и словно извне прервал ненужные и бессмысленные рассуждения Гоши, ехидно спросив его, а что такое человечество, Россия и хотя бы тот же русский народ, и кто ему поручал рассуждать о том, чего понять и определить нельзя, а вот увидеть свет в глазах погруженной во мрак души — можно, и такой подвиг под силу даже самому слабому человеку, и этого вполне достаточно для взаимного исцеления, и не выше ли этот подвиг и России, и самого человечества, и всепоглощающей и всепереваривающей в своем чреве стихии народа?
И тут туманные философские рассуждения Гоши сами собой прервались. Дверь полуразбитого подъезда приоткрылась, и маленькая детская фигурка, почти неразличимая в сумраке, двинулась вдоль стены дома в сторону арки с притаившимся в ней Гошей, тотчас вышагнувшего в более освещенное пространство двора. Он уловил короткий хрипловатый смешок, послышавшийся словно из самой стены, и перед ним прорезалось лицо хозяина, тоже как бы выломившегося из стены арки, и хотя было очень темно, Гоша сразу узнал это холеное, напрягшееся лицо, и тотчас, как в прошлой своей боевой и кровавой бытности, сигнал смертельной опасности ожег сердце, отдался в мозгу.
— А-а, так и знал, выследил все-таки, легавая сука! — услышал Гоша почти ласковый голос. — Ну что, может, опять хочешь прикурить?
— Хочу, — признался Гоша, и голос его прозвучал спокойно и весело, как бы приглашая к дружеской и даже задушевной беседе. — С удовольствием, спасибо.
— Ну так прикуривай и давай потолкуем, — принял игру хозяин и сам шагнул вперед в его полусогнутой руке Гоша тотчас различил длинный, с глушителем пистолет, вернее, не различил, а угадал внутренним чутьем, и тогда его тело само вспомнило прежний опыт, качнулось в сторону и несколько пуль цокнули в камень стены рядом с ним. И тотчас, помимо его сознания, тело Гоши бросило само себя высоко вверх и вперед, и хозяин был выброшен молниеносным ударом в голову далеко от арки во двор, а его пистолет отлетел в сторону. Боль ярко вспыхнула в давно не тренированном и ослабшем от долгого безделья теле Гоши и, почти теряя сознание, он заставил себя еще раз рвануться вперед, рухнул всей тяжестью на длинное и бесформенное тело хозяина и несколько раз ударил его головой об асфальт, хотя в руках у него уже не осталось прежней силы, всю ее унес первый взрыв нерассуждающей ярости, и теперь Гоша напрасно пытался оторвать от асфальта толстые плечи хозяина, приподнять их вместе с головой повыше и ударить в последний раз. Хозяин был моложе, сильнее, а главное, неизрасходованнее жизнью. В один неуловимый момент он оказался сверху, и его руки, как ни пытался остановить их обессилевший Гоша, стиснули ему горло и стали сжимать — Гоша видел его глаза, сверкающие в оскале ровные белые зубы, — несколько лет назад Гоша хорошо известным, отработанным приемом мгновенно сбросил бы его с себя, и он даже попробовал сделать это. И от бессилия похолодел, ноги омертвели и не слушались, они не отозвались на приказ и не шевельнулись, наверное, все у него внутри, так бережно собранное и сшитое военными хирургами, вновь полопалось и рассыпалось, и теперь уже все равно…
И хотя Гоша еще пытался разжать наливающиеся силой руки хозяина, подступала темнота, Гоша сам слышал свой сиплый хрип, затем что-то опять случилось. Тяжесть сползла с него, и он, еще жадно хватающий свободно хлынувший в грудь прохладный воздух, различил высоко над собой квадрат серо проступившего и приблизившегося неба и даже звезды. И, услышав шорох рядом, поведя глазами, увидел лицо Вани, стоявшего рядом с ним на коленях, и сначала не узнал его, и ничего не мог понять.
— Я, кажется, тебя подвел, — хрипло шепнул он, оживая, и в глазах мальчика, до этого застывших и пустых, что-то дрогнуло. — Ты был прав. Сволочь, он у меня внутри что-то сорвал. Подожди чуть, сейчас соберусь, отойду…
Тут Ваня встал, настороженно и привычно оглядываясь, и Гоша увидел тяжелый молоток — мальчик сильнее сжал его рукоятку и еще раз оглянулся. И тогда Гоша понял — мальчик был совсем здоровый, с двумя руками и никакой не калека, и Гоша ничего больше не хотел знать волна темной радости обрушилась на него и смяла душу.
— Ну, вставай, пошли, пока его дружки не хватились, — сказал мальчик просто и буднично. — Я его в арку затащил, рядом тут, тяжелый… Правда, сразу не увидишь-то возле стенки…
Отлежав в госпитале почти два месяца, Гоша выписался раньше, чем предполагалось, и, без звонка открыв дверь, невольно услышав бодрый говорок тети Аси, задержался в передней.
— Нет, нет, Ванек, — говорила тетя Ася с какими-то совершенно не свойственными ей мягкими грудными интонациями. — Ты меня слушайся, ты этого еще не понимаешь… да! Мы с тобой должны до возвращения Гоши эту книжку осилить. Ну, плохо пока читаешь, станешь лучше. Ты парнишка способный. Человека с книгой никому не одолеть! И стесняться нечего, у тебя впереди вся жизнь. Ты же еще совсем ребенок…
— Я не маленький! — возразил ей знакомый Гоше и в то же время совершенно иной мальчишеский голос. — Вы меня еще не знаете, тетенька Ася… да!
— Ох, подумаешь, загадка! — засмеялась тетя Ася в ответ, и Гоша, внезапно обессилев, привалился спиной к стене.
Тяга земли (Рассказ)
1
Дождь начинается на рассвете и сразу же лихо и густо захлёстывает землю, и, когда рассветает, дождь продолжает лить всё так же щедро и весело, и солнца не видно.
Дед Илько стоит и под шум дождя думает. О своих подпасках Тольке Егорце и Серёге Волкове, о новом председателе колхоза Шатилове, двадцатисемилетнем человеке, пришедшем в колхоз совсем недавно, того дела без году неделю, и сменившего пьяницу Кондрата Дышло. Ещё не известно, что он собой, этот юнец, по которому все девки с ума посходили, представляет. У деда Илько темнеют глаза. Не любит старик пришлых, не верит в их любовь к земле, в их пользу земле — кормилице человеческого рода. У старика здесь своя, непримиримая ни с кем линия. И о Серёге думает старик, и глаза его теплеют, и в старой тёмной глубине их светится грусть.
Дед Илько берёт посох под мышку, складывает большие тёмные ладони рупором и кричит в дождь:
— Э-эге-эй! Толька-а!
И дождь гасит звуки, и где-то, словно в тумане, маячат серые, притушенные дождём спины коров. Нескоро доносится до старика ответ, и он опять прикладывает руки ко рту и кричит:
— Поди сюды-ы! На минутку!
— Иду! — слышится из пахучего дождя, и потом появляется невысокий плотный парень, мокрые кольца русых волос у него на голове сочатся водой. Он смеётся и ещё издали кричит:
— Хорошо-то, Илько! Здорово как, а, старый?
Они все тут на «ты», старика зовут просто по имени, и он привык к этому, словно к своему неизменному плащу или посоху, называемому пастухами «кийком». Толька Егорец улыбается, но дед Илько, занятый своими думами, не хочет замечать сейчас его весёлого настроения и сердито опрашивает:
— Ну, что ты скалишься?
Толька вместо ответа весело подмигивает, весь тугой, налитый силой весны, спрашивает:
— Чего звал, Илько?
Старик смотрит на него и молчит. Ему не хочется вот так сразу раскрывать себя, выдавать свою тревогу, и он говорит:
— Смотри, скажи Серёге, чтоб на клеверище какая не проскочила. Потом не оберёшься беды.
Толька открыто, с вечным превосходством молодости над старостью улыбается и кивает.
— Ладно, — говорит Толька и поворачивается, чтобы идти.
— Подожди, — останавливает его дед Илько. — У тебя табак сухой?
— Есть, Илько, папиросы. Дать?
Дед Илько ворчит, защищая от дождя руки, нагибается, закуривает и думает, что теперь даже в куреве не те пошли люди и тратят деньги ни про что. От сырости дым застревает в его мокрых, обвисших усах, и Тольке смешно, он тоже закуривает за компанию.
— Хорошая погода, — говорит дед Илько. — Травы теперь в рост ударят… Хорошо.
— Ага, благодать, Илько. Ух ты!
Тучи над ними обильные, высокие и весёлые, в мае всегда идут тёплые искристые дожди. Толька, пряча папиросу в рукав, затягиваясь, наклоняет голову.
— А вот грома ещё не было, — вспоминает он между прочим. — А уже пора бы грому быть.
— Был гром, — говорит дед Илько. — В прошлую пятницу перед вечером был, — уточняет он. — Где-то там, — старик неопределённо указывает на запад.
— Был, говоришь?
— Сам слышал.
Они докуривают, медленно шагая за стадом. И мелкие обсыпанные молодыми листьями кусты обдают их ноги потоками воды. Они не обращают внимания.
— Слушай, Толька, а ты не знаешь, что с нашим Серёгой? Сдаётся мне, последнее время неладно с ним, а?
— Серёга? — удивляется Толька Егорец. — Ты разве не знаешь, Илько? Гы-ы! — хохочет он и тут же примолкает под строгим взглядом старика. — Да ведь Тонька-то Рыжухина, Антонина Васильевна теперь, приехала. Не понимаешь?
Дед Илько сердится, ему не нравится весёлость подпаска и его говорливость.
— Ну и приехала, — говорит Илько. — Ну, и что из этого, что она приехала?
— Да ничего, Илько. Она ведь теперь учёная, с высшим образованием. Коровий инженер, куда теперь!
Дед Илько недоумевает ещё больше, и Толька Егорец наслаждается его недоумением.
— У Серёги любовь с ней была, и письма они писали друг другу. Я как-то подсмотрел: «Милая ты моя ласточка! Я не мыслю без тебя…» и всё такое прочее. «Не мыслю…» Гы-ы! Я ему говорю: брось, Серёга, руби дерево по себе, куда нам? Он разве послушает? Чуть не подрался со мной, а теперь…
— Что теперь?
— Да то… Вот у нас председатель неженатый и тоже с высшим, и будто он ей, значит, председатель, предложение делает по всем правилам. А Серёга…
— Ну…
— Страдает Серёга. А я ему ещё раньше говорил. Так он разве послушает? Тоже шибко грамотный, книжки читает. В институт, говорит, поступлю. Тоже дурак, из-за бабы. Их вон сколько, баб-то, хоть на шею вешай вместо галстуков. Сегодня рыжую, завтра черную. Гы-ы!
Дождь не прекращается — пронзительный весенний дождь хлещет по земле, по людям, по кустам, и коровы с удовольствием подставляют ему линяющие бока со светлыми пролежнями за долгую вьюжную зиму.
2
Куст черёмухи опрокинуто колеблется в озере одиноким пушистым облаком. Солнце ещё не всходило, и голубое небо светло смотрится. Серёга сидит рядом с черёмухой, и его отражение купается в тёмной глубине озера.
Серёга отчаянно рус, от пяток до бровей он выгоревшего, линялого цвета. Коровы разбрелись далеко по берегу, дойка кончилась, и машины увезли бидоны с молоком, и голоса доярок смолкли. Доярки тоже уехали в село, водрузившись на бидоны, весело хохоча и подпрыгивая на ухабах. Теперь они приедут на стойло в полдень для второй дойки, и пастухи будут спать в шалаше, а дед Илько спрячет в тень одну голову и всё остальное тело оставит под солнцем. Доярки будут петь частушки, мешать пастухам спать, и Толька Егорец всё равно будет самозабвенно храпеть, а дед Илько тяжело ворочать своё старое тело и сердито ворчать в полусне на голосистых доярок с их вечной бабьей крикливостью и суетой.
Серёге двадцать четвёртый год. Он полон неясных желаний, непонятных путаных мыслей, почерпнутых из прочитанных книг и учебников, рядом с неосознанными инстинктами в нём бьётся пытливая и страстная мысль. Серёга — мыслитель. Несмотря на молодость, он много знает, он уже два гада готовится к поступлению в Тимирязевку и читает серьёзные книги. Иногда он может спокойно отойти от нужного курса далеко в сторону, стоит ему только увлечься интересной проблемой. А с виду он незаметный, веснушчатый и белёсый парень.
Серёга оглядывает рассыпавшееся по берегу стадо и видит далеко фигуру деда Илько. Если говорить честно, то из-за него у Серёги сегодня скверное настроение. И если разобраться, опять-таки виноват новый председатель, Шатилов. И зачем ему, спрашивается, нужно трогать старика? Ну, с половины июля вступает в строй новая ферма и на пастбищах вводится механическая дойка, монтаж передвижной «ёлочки» уже заканчивают, — ну, а при чём здесь дед Илько? Всю жизнь ходил старик за стадом, вечный пастух, и никто не может себе представить села без деда Илько. Рождались дети, вырастали, женились, разъезжались по огромной стране, а дед Илько бессменно, каждую зорю оглашал сонную утреннюю тишину хлопаньем кнута и своим голосом:
— Эге-ей! Ба-бы-ы! Поторапливай! Поторапливай!
Уважали пастуха на селе и побаивались его немилости. Мало ли чего не может случиться? Сердитый на хозяйку пастух и корову может плетью рубануть ни про что, ни за что, и помощи не окажет, случись что с коровой. А дед Илько прожил без малого девяносто лет и ещё не уставал от ходьбы за стадом, и память его хранила все свадьбы и крестины на селе, по крайней мере, за последние двадцать лет. На заре по звучанию птичьих голосов, по влажности воздуха, по еле уловимым запахам он безошибочно узнаёт, будет дождь или нет, ранней весной может предсказать урожай иди недород. В отношении скота и говорить нечего. Никто вернее не выберет корову-молочницу, лучше всякого ветеринара лечит старик от копытицы и знает множество полезных трав и привычки скота настолько, что старухи подчас шепчутся между собой о нечистой силе.
Целое столетие прошумело на глазах старика, и давно уж он пасёт колхозное стадо, и порой его одолевают воспоминания, и тогда он становится разговорчивее. Говорит неодобрительно об исчезающих лесах, о мелеющих реках и вырождающейся рыбе. А травы, травы какие были! «Эге!» — говорит старик и показывает себе до пояса, а то и выше, и дожди, мол, лили гуще и чаще, и грибы родили, хоть косой коси. А теперь за малым распаханы все луга и пастбища и засеваются из года в год чахлой рожью. Ни травы тебе, ни хлеба.
Не согласен с дедом Илько Серёга, они часто спорят. Увлёкшись, бередя себя ещё больше, старик вспоминает о сыновьях, погибших в первую войну с германцем, о неженатых внуках, сложивших головы во вторую. Двадцать лет для старика не срок, и кажется ему, что вчера лишь рубцевали поля и дороги немецкие танки и безжалостные лопаты солдат, своих и чужих, зарывавшихся от смерти поглубже. А разве от неё зароешься? Смерть — она такая, она своего разыщет и за семью запорами.
Старику не страшно, только одного он не может пережить. Выбило и сыновей его, и внуков начисто, не осталось у него на земле корня, и род его прекращается вместе с ним. Но об этом никому не говорит дед с Илько, даже Сёреге. Только однажды прорывается у старика, и Серёга отворачивается от Илько и оглушительно щёлкает кнутом. Серёга пристально следит за происходящим и видит всё острее, чем старик. Широкое наступление машин кажется Серёге не гибелью, а железной необходимостью. Машинная дойка на летних выпасах — отсюда, собственно говоря, и разгорается спор между Шатиловым и дедом Илько, — в этом корень их неприязни друг к другу.
Серёга встаёт, медленно идёт берегом озера, и за ним тянется набрякшая росой, тяжёлая плеть. Серёга подходит к деду Илько. Они молча сворачивают цигарки, а потом дед Илько прячет кисет в карман.
— Хорошее утро, — говорит он. — Ты чего такой хмурый, Серёга?
— Да ничего. Не выспался — ночью душно было.
— Отчего это душно было тебе? — невинно щурится дед Илько. — Девки, небось, спать не давали? Их вон сколько — хоть хороводы води.
— Нет, Илько, читал я, — неохотно отзывается Серёга.
— Нашёл дело, тоже мне, голову ломать.
Серёга молчит.
— Зря, говорю, наукой себя сушишь, — убеждённо добавляет дед Илько, глубоко затягиваясь цигаркой. — Парень ты молодой, в силе. Я в твои годы… Эге! — снова хитро щурится дед Илько, но, взглянув на хмурого Серёгу, круто обрывает. — Ладно, — говорит он. — Не мне жить, тебе. Я своё отгрохал. Теперь вон и село как пустое, одни ребятишки да бабы, и поля пустые — одни машины.
Дед Илько стоит, опершись на посох, глядит куда-то вдаль.
— Не знаю, Илько, — внезапно говорит Серёга. — Я так не думаю. У тебя умная голова, да старая больно, Илько. Сколько ещё на селе лишних людей, а машин-то не хватает. Всё через пень-колоду, не так. Надо каждого на трактор посадить. Слыхал, в Канаде коров на карусели доят. Один человек — двести коров, слыхал?
Дед Илько глядит на Серёгу с удивлением, словно на чужого. Он начинает сердиться:
— Шпарь, Серёга, давай, давай.
— Я не шпарю. Я думаю. Ты знаешь, я иногда закрою глаза, и всё мне ясным кажется, всё понимаю и вижу. Машин бы больше да меньше людей, чтобы каждый мог на любую технику сесть. Тогда такой разворот будет, ахнешь!
— Мне уже поздно ахать, отахался, слава богу.
— Представляешь, Илько, — словно не слыша, продолжает Серёга, светлея глазами и подёргивая свой выгоревший линялый чуб, — представляешь. В наше время без техники никуда. — И, видя, что старик далеко ушёл в свои мысли, нетерпеливо тянет его за рукав!
— Совсем другая, Илько, жизнь на село придёт. Женщина не тяпкой управлять будет, машиной. Раз тебе, раз!
— И то одна уж управляет, выучилась, — не удерживается, язвитдед Илько и тут же осекается, глядя на помрачневшего Серёгу.
— Ладно, — после долгой паузы примирительно говорит старик. — Иди! заворачивай стадо. Сегодня надо бы песками прогнать, давно не были.
3
Вечером во время: ужина из темноты к самому костру опять подъезжает председатель. Конь, приседая на задние; ноги, подаётся в сторону.
— Но! Но! — сердито говорит Шатилов. — Не балуй, Ворон! Чёрт, затанцевал!
Шатилов привязывает коня к молодой берёзе, уронившей нижние ветви чуть ли не до самого шалаша, подходит к пастухам и здоровается, садясь на корточки.
— Ужинаем? — спрашивает он, заглядывая в котелок с супом, наполовину уже пустой, и дед Илько шевелит бровями и сдержанно улыбается:
— Вечеряем. Попробуешь, председатель?
— Да нет, спасибо, недавно кушал. Вы не обращайте на меня внимания. Объезжал пастбища и запоздал. Завернул на огонёк.
Он достаёт из кармлана блокнот, перелистывает. Только Егорец подмигивает Серёге и опять принимается за еду. Дед Илько прикуривает, ложится на бок, на локоть, посасывая толстую цигарку, смотрит на пламя костра.
Уже поздно, темным-темно с вечера. Коровы в загоне вздыхают, ворочаются, шумно дышат, и отблески костра неровно ложатся на землю. Ветра нет. Озеро с повисшим над ним жидким серым туманом живёт своей ночной жизнью.
Серёга невольно разглядывает лицо председателя, неровню освещённое светом костра, — тонкое и подвижное лицо интеллигента, с высоким лбом и упрямым юношеским подбородком. Красивое лицо, ничего не скажешь. Серёга отворачивается и чувствует, что на него смотрит дед Илько. Серёга подгребает угли в костёр.
Откровенно говоря, при чём здесь Шатилов? Нет, Шатилов тут ни при чём, всё дело в самой Тоне, Антонине Петровне Рыжухиной, как любит говорить Толька Егорец. Всё вроде бы складывается нормально. Вернулась в колхоз, в первый же вечер пришла на старое место у колхозного сада под старый тополь, но Серёга видел: не то, что было когда-то. Она пришла чужая, и разговор был холодный и натянутый. И когда Серёга по старой привычке потянулся обнять, она отстранилась. При этом ничего никто не сказал, она ушла стройная, в сильно открытом платье — раньше она не носила такие, — ушла в сумрак летнего вечера. Серёга хотел крикнуть, остановить и не смог, ему пришлось бы поступиться чем-то очень важным, и он не остановил её.
Серёга смотрит на председателя спокойно, тот по-прежнему шелестит листками блокнота, ищет какую-то запись и не находит. И вдруг Серёга понимает, что ненавидит этого человека Он глядит на его крепкую шею и думает о том, что, если выстрелить чуть повыше, смерть наступит мгновенно. Он думает об этом холодно и расчётливо и, опомнившись, меняется в лице. Никто ничего не замечает, и тогда он понимает, что любит Тоньку Рыжухину сильнее прежнего и любил всегда.
Он откидывается на спину и глядит в небо. Рядом Толька Егорец шумно скребёт ложкой по дну котелка, потом собирает грязную посуду и. отправляется к озеру мыть. Сегодня его очередь.
— А вы чего же вагончиком не пользуетесь? — неожиданно спрашивает Шатилов. Подождав, не ответит ли Серёга, дед Илько неохотно отзывается:
— Жарко там, в вагончике. Не с руки… В шалаше-то привычней, сеном тебе пахнет и воздух непорченый.
Шатилов прячет блокнот, усаживается удобнее, вытягивая ноги, потом тоже ложится на спину и, ни к кому в отдельности не обращаясь, задумчиво говорит:
— Сейчас ко многому привыкать нужно. Наука. Когда-нибудь она освободит человечество от тяжёлой обязанности пахать землю. Нажал кнопочку — и получай, что надо. Хочешь — хлеба, булку, хочешь — фрукты или жаркое там. Только кнопки умей различать.
Дед Илько беспокойно и шумно ворочается, не то кашляет, не то хмыкает, не может он одобрить слов председателя.
— А штаны? — говорит старик, посасывая свою цигарку.
Никто не понимает — ни Шатилов, ни Серёга, ни вернувшийся с вымытой посудой Толька Егорец, и дед Илько запоздало поясняет свою мысль:
— Штаны, я говорю, тоже будут посредством кнопки надевать или сымать, коль нужда случится, или как?
Серёга улыбается в широкое небо, а Шатилов снисходительно роняет:
— Стар, стар ты, старик. Тебе уже не понять. Вот погоди, перейдём на машинную дойку да на подкормку зелёной массой, «ёлочку» на поле вывезем, отправим тебя на пенсию. Отдыхай, семечки лузгай на завалинке.
Опять молчание, и опять раздаётся голос деда Илько:
— Эх ты, садовая голова твоя, председатель, чем мне семечки лузгать? Поживи с моё, пожалуй, не вспомнишь. Не нужна мне твоя пенсия. Зачем человеку пенсия, если у него ноги ходят и руки справны, зачем?
— Положено, старик.
— Положено, — ворчит дед Илько. — Вот только и оно, что всё у вас положено да разложено. Оглянешься, а там, где оно положено, — пусто и нет ничего. Кабы у вас терпения хватало до дела задумки свои доводить. Вот ты, например, надолго к нам сюда пожаловал? Небось, пыль в глаза пустишь. А там только тебя и видели. Знаем, много вас таких перебывало тут.
Шатилов, привстав от удивления, слушает и весело говорит:
— Да ты, дед, анархист!
Вверху над ними проносится с тоненьким посвистом табунок уток. Толька Егорец вскакивает и орёт:
— Щу-гу-гу-гу1.
Дед Илько сердито обрывает его, снова поворачивается к председателю:
— Земля, она свою тягу имеет, ты её разными выкрутасами да ёлочками-палочками не обманешь, председатель.
— Это какую же тягу? — насмешливо улыбается Шатилов.
— А такую. Имеет и всё, и ты, председатель; не скалься зря. Тебя эта тяга ещё закрутит, подожди. Или ты человеком станешь на земле, или она тебя от себя отшвырнёт подальше.
— Ты говоришь, старик, наверно, про любовь?
— Может, и так. Земля, она, как баба, она хорошего мужика любит — хозяина. А стрекачи — без тяжести в нутрях. Прыг-скок! А без тяжести толк какой?
Тольке Егорцу скучно слушать стариковскую воркотню, и он предлагает Серёге:
— Пойдём, искупаемся? Вода, что пар, аж дымит. Пойдём.
Серёга соглашается и неожиданно думает о том, что хорошо бы пойти куда-то далеко-далеко, где можно не думать о Тоньке и не видеть красивого, статного, уверенного в своих словах и поступках председателя. Озеро курится тёплым ночным туманом.
Председатель тоже купается вместе с ними. Его сильное, мускулистое тело белеет на берегу.
Серёга решается и обращается к нему. Серёге трудно, но он всё-таки подходит:
— Можно вас на минуту, Павел Андреевич?
— Конечно, Сергей. Что тебе? Хорошо-то как!
— Так, пустяк. Мне думается, зря вы старика задеваете. Конечно, у вас институт, а он всю жизнь за стадом ходит, и вам, конечно, больше понимать. Всё-таки зря.
Серёга выжидает, председатель молчит. Шатилов ожидал другого разговора. Ему досадно, он ещё не переболел молодостью, самоуверенный и резкий в суждениях, он ставит себе за правило — никогда не менять однажды решённого. И сейчас слова пастуха воспринимаются им насмешливо, с внутренним превосходством и даже с раздражением. Вообще, на этой новой, трудной и хлопотливой должности он последнее время уже несколько раз вспыхивает, словно порох. Он знает, что — это нехорошо, что он проигрывает в глазах людей, и старается сдерживаться. Он пока лишь входит в дело, но. С Серёгой пути у него пересекаются в самом начале, и разговор здесь особый. Он молчит и ждёт. Серёга после неловкой паузы упрямо спрашивает:
— Что вам, Павел Андреевич, сотни трудодней жаль? Старику немного остаётся, а без дела он не привык. Сразу зачахнет, пусть бы уж отходил своё.
И Шатилов вдруг чувствует, что пастух в чём-то по-человечески прав, но вместе с тем именно поэтому в душе шевелится неприязнь к нему, и Шатилов поневоле ищет себе оправдания и от этого начинает закипать.
— Вот что, Волков, — говорит он. — Сердце сердцем, а дело делом. Я тебя понимаю, по простой, что ли, по простой человеческой правде, может, и прав ты. А по-другому, как деловой человек, хозяин, ты не прав. Здесь сто трудодней, там двести, а хозяйство огромное. Что в сумме получается?
Серёга медлит, потом говорит:
— Я тоже ваши трудности понимаю. Только правда человеческая одна. Разве её разделишь на много правд?
— Неужели? А в чём же она — эта единственная, по-твоему?
— Не знаю. Только уж не в том, чтобы старика лишать последнего в жизни. Вот это я знаю.
Шатилов пожимает плечами, он смущён и, может быть, в чём-то поколеблен, но не хочет в этом признаться своему неожиданному противнику. И тем более, что сам он прав, разумеется, прав, если глядеть трезво, умно, расчётливо, если глядеть в корень дела, видеть не только у себя под носом, но чуть дальше. Хотя бы лет на десять вперёд. И эти мысли успокаивают Шатилова. Интерес к пастуху усиливается, и Шатилов, обронив полуобещающее, полунасмешливое: «Ну ладно, ладно, посмотрим», ловко переводит разговор на самого Серёгу, но тот сразу замыкается и отвечает нехотя и односложно. И от этого он кажется неуклюжим и неумным, и Шатилову становится скучно. «Тоже мне, — думает он, — философ! Двух слов связать не может, а туда же — указывать. Кто его такого разберёт? Из армии грамоту привёз, механик отличный, и трактор назубок знает, и в доильных установках разбирается, а ходит в пастухах. До двадцати четырёх дожил и всё в пастухах. Не знает, что делать и куда себя деть, куда приткнуться, и всё мечется, и так никуда и не выплывает этакая размазня. Нет, надо иметь свой стержень, жизнь любит цельных, решительных, упорных», — с чувством снисходительного превосходства думает он, поглаживая свои длинные мускулистые ноги. Он сидит на песке, упёршись подбородком в колени.
Теперь они оба молчат и смотрят в тёмную поверхность озёра. Шатилов встаёт.
— Ладно, Сергей, спокойной ночи, пора мне.
— Бывайте, — говорит Серёга, не поднимая головы, и Шатилов уходит. Серёга слышит, как он звякает уздой и скрипит седлом. Ночь тиха и прозрачна, и на другом берегу озера стонет выпь, и бледный рассеянный свет всплывающей в небо луны на глазах всё меняет.
«Уеду!» — неожиданно решает Серёга и знает, что решение его бесповоротно. Он не знает точно — куда. В голове у него мелькают названия разных мест и городов. На Дальний Восток, на Чукотку или на Урал. Лишь бы уехать — от себя, от своих мыслей, от Тони уехать и начать всё сызнова, по-другому. И ему делается легко и свободно. Он спешит к старику. Он с детства привык делиться с ним самыми сокровенными мыслями. Но дед Илько уже в шалаше, он засыпает быстро, и Серёга не решается будить его.
4
Начало лета в этом году неспокойное, часто идут дожди, то и дело громыхают грозы. Уже во второй половине июня как-то выпадает снег. Даже норовы недоумённо оглядывают друг друга — заваленные мокрым снегом спины, странные бело-зелёные деревья вызывают у животных чувство недоумения, и они ведут себя тревожно и неспокойно. Снег тут же тает и почти не причиняет вреда. Через час снова всё зелено. Солнце светит жарко, от мокрых пастбищ поднимается пар, травы зеленеют болезненно ярко.
Для Серёги всё окончательно решено: он уезжает. Приёмные экзамены в Тимирязевке начинаются 1 августа, а документы он послал давно, после той самой мучительной ночи, когда к нему пришло решение. У Серёги остаётся мало времени: он упорно листает страницы учебников, он убеждён, что поступит. Он и в прошлом году поступил бы, да всё ждал Тоню. Дед Илько и Толька Егорец знают о его скором объезде, только они двое. Так хочет Серёга — все узнают, когда он уже поступит. Толька Егорец завидует, а дед Илько молчит: не одобряет, конечно. Серёгу очень мучает мысль о деде Илько. Он не может смотреть ему в глаза и избегает оставаться с ним наедине. А дни идут, отъезд близится, и дед Илько становится всё молчаливее и суше. Теперь с ним тяжело рядом, с ним что-то происходит. Серёга смутно догадывается, но гонит от себя мысли, заставляет себя не думать и твердит свои формулы. Он должен поступить ради себя, ради Илько. Толька Егорец пытается рассеять тяжёлое молчание угловатыми шутками. Ему тоже невмоготу. На все его заигрывания дед Илько даже не поворачивает головы и только однажды перед выгоном стада скупо роняет, ни к кому в отдельности не обращаясь:
— Сегодня своего старшего видел. «Пора тебе, говорит, батя, приходи».
Дед Илько произносит это спокойно, а Серёга слышит в его словах прямой укор себе. Толька Егорец, как всегда, некстати вставляет:
— Покойники к перемене погоды снятся.
— Может, и к перемене, — всё так же ровно отзывается дед Илько. — А может, и ни к чему они не снятся. Так.
Толька Егорец и Серёга переглядываются. Давно старик столько не говорил. Они переглядываются, и дед Илько, не обращая внимания, продолжает рассуждать:
— Да и что говорить? Мне на земле больше делать нечего, через неделю, говорят, на пенсию. А может, я не хочу её, эту пенсию? А потом и не жалко, если что, чистого воздуха совсем не осталось. Видано ли, чтобы корову машиной доили. Ну ещё там на селе, а то и на выгонах понавезли машин. Нет, Илько, — говорит старик сам себе. — Нечего тебе больше делать, нечего, старый. Пора.
Он обувается и разговаривает, обращаясь теперь только к самому себе. Но Серёга знает, что продолжается их старый спор. И Серёга не хочет отвечать. В своей жалости к старику он не удержится, обязательно останется ещё на год, и тогда он пропал, окончательно пропал. И ничего он не сможет тогда доказать ни Тоне, ни самоуверенному Шатилову с его университетским значком. А так он будет помогать старику и приезжать на каникулы. Упрям только, так упрям этот старик, вырастивший его с малых лет (матери Серёга не помнил) и приучивший к земле. Серёга знает, что Илько считает его беглецом, отступником: каждого ушедшего в город мужика старик причисляет к пропащим. Дед Илько как будто читает Серёгины мысли и понимает, что ждать больше нечего.
— Пора, — говорит он понуро и, сгорбившись, выбирается из шалаша. За ним выходит Серёга с Толькой Егорцем.
Свежее росное утро их не радует, не веселит. Толька Егорец со злостью рубит суковатой палкой налитые утренним солнцем пушистые шарики одуванчиков.
Дед Илько глядит на него. У старика колючие, глубоко сидящие глаза. Сейчас не определишь, какого они цвета, скорее всего никакого от старости, но они суровы сейчас, очень суровы. Толька Егорец смущается, бросает палку и, может быть, впервые понимает тоску уставшего жить человека. Ему хочется заплакать и отвернуться. Он смущён.
— Не сердись, Илько, — говорит он. — Тяжёлый ты стал, Илько. Давай лучше закурим.
Утро безветренно, тихо-тихо, и дымок плывёт прямо вверх — синеватый дымок трёх цигарок.
С обеда дед Илько уходит в село по своим делам, и Серёга с Толькой остаются вдвоём. День жарок, и коровы, словно взбесившись, лезут в клевера и овсы, и Серёга только под вечер вспоминает просьбу Шатилова — зайти в контору.
Наскоро умывшись, он шагает в село. Краски тускнеют, солнце садится, косые тени ракит длинно ложатся на дорогу. Серёга входит в село и недалеко от конторы видит деда Илько. Старик проходит мимо, высокий, худой и тёмный. Он не замечает или делает вид, что не замечает, и Серёга долго смотрит ему вслед, прикусив губу.
В конторе пусто, и только Шатилов сидит у стола, подпёршись рукой и задумавшись. Лицо у него простое и грустное. Серёга кашляет:
— Звали?
— А, Волков, — как-то безразлично роняет Шатилов к подаёт руку. — Здравствуй, звал. Садись, кури, — придвигает он папиросы, думая о своём. И, точно решившись, близко заглядывая к глаза Серёге, говорит:
— Не пойму я вашего деда. Обиделся сегодня на меня смертельно.
— Оставили бы вы деда в покое.
— Вот ведь дикость какая… Я ему о путёвке в санаторий, проводы, мол…
— Какие проводы?
— На пенсию. Знаешь, как сейчас знатно на пенсию провожают. Мать мою, например, весной всей фабрикой чествовали — часы золотые поднесли. Тридцать лет на фабрике проработала. Почему бы хороший обычай не перенять у рабочих? Оттого, что у Шатилова есть мать, да ещё из фабричных, Серёга теплеет душой. Подавляя неожиданное доброе чувство, отводит глаза в сторону:
— О деле давайте, поздно уже.
— Давай о деле, — смягчённое воспоминанием лицо председателя вновь становится отчуждённым и властным. — Решили мы послать тебя на курсы инструкторов по механизации. — Предупреждая протест Серёги, ещё твёрже продолжает: — Парень ты толковый, мыслящий, с трактором, с доильными установками знаком. Вот такие люди из своих, не из пришлых, колхозу позарез нужны. Слышал о сплошной механизации? Всех в район или область не пошлёшь, будем обучать на месте. Решай, Волков.
Серёга пожимает плечами, он бы не против. И дед Илько успеет всё это застать и увидеть. И не надо бы надолго оставлять его одного.
Серёга мнёт фуражку, стараясь не выдать себя, хмурится, молчит.
«Что ж… Ради такого стоит отложить Тимирязевку на год — на два. Ему не сорок и даже далеко не тридцать…»
Стукнув дверью, заставив Серёгу от неожиданности привстать, в контору вбегает Тоня Рыжухина. Она тяжело дышит: видно, долго бежала от самой фермы. Она держится за грудь обеими руками и смотрит на Шатилова преданными, сияющими глазами. И по тому, как радостно вскинулся председатель, Серёга понимает, что они уговорились встретиться в конторе. И сразу чувствует себя лишним, но против воли задерживается. Перед ним другой Шатилов, совсем мальчишка, лицо, как при упоминании о матери, мягкое, чуть растерянное.
Серёга круто поворачивается и выходит.
Собираться ему легко — лёгкий фанерный чемоданишко, две пары белья, стопка учебников. За пять лет учёбы всё забудется.
Добравшись до шалаша, он засыпает лишь под утро и просыпается рано. Дед Илько уже разжигает костёр и глухо покашливает. Движения его, как у слепого, медленны и неуверенны.
5
Пастухи пригоняют стадо к лагерю для второй дойки. Коровы уже привыкли к «ёлочкам», и самые нетерпеливые, завидев лагерь, ускоряют шаги и потом даже бегут, чтобы освободиться от тяжести в вымени.
Антонима Петровна, Тоня, присутствует на дойке и ведёт наблюдения, записывает что-то в тетрадь. Быстрая, проворная, она мелькает по всему лагерю — её побаиваются доярки и механики, особенно она придирчива в отношении чистоты на доильных площадках. Серёга узнаёт её издали по соломенной шляпе — она одна из женщин носит здесь шляпу.
Как только стадо заходит в загон, Серёга поворачивается и направляется к шалашу, сделанному пастухами ещё в начале лета в стороне от лагеря, подальше, чтобы не так слышался шум мотора.
Сегодня Серёга не думает отдыхать. Он идёт к шалашу только затем, чтобы захватить книги и потом забраться поглубже в кусты и ещё раз пробежать таблицу Менделеева. Ему не хочется есть. С Илько он попрощается вечером. Он подходит к шалашу, всё убыстряя шаги. Его останавливает голос деда Илько.
— Серёга! — слышит он, вернее не слышит, а угадывает, и потом он нe может вспомнить — действительно ли он услышал, или ему только показалось. Он подходит к шалашу и видит деда Илько, и видит его глаза, и всё, о чём он думал сейчас, чем жил, исчезает. Он отступает на шаг, потом бросается к старику и берёт его за плечи, приподнимает с земли его сухое и лёгкое тело, прижимает к себе, но голова у старика не держится, и Серёга осторожно опускает его обратно на траву.
— Что с тобой, Илько? Ну что ты? Что?
— Ничего, Серёга… В груди оборвалось. Вот тут… Ты не шуми, сядь, пройдёт. Вот полежу, и пройдёт. Мне недели две как худо стало, всё крепился. Ну, думаю, отправят на пенсию. Брешешь, говорю. А вот сейчас ёкнуло что-то. Полежу немного, не говори никому. Хоть лето протянуть, а там и впрямь, может, пора мне? Как что, ты на похороны шибко не траться. Давно я гляжу, костюм тебе надо добрый. Ты молодой, тебе…
— Нет, что ты, Илько! — Серёга испуганно косит глазом и видит усмешку на лице старика. Серёга склоняется к нему ниже.
Дед Илько говорит, и Серёга слушает и понимает, что нужно позвать людей, сейчас все подробности вспоминаются, мимо них нельзя было проходить.
«Какой же я негодяй!» — говорит Серёга, с трудом сдерживаясь, чтобы не вскочить и не побежать за людьми. Но он чувствует — нельзя. Стоит ему отойти — и всё кончится, он боится крикнуть, резкий крик может тоже всё оборвать.
— Ты, Серёга, не молчи, — просит дед Илько. — Ты что-нибудь говори, Серёга. Вот смотрю я… бабе-то вроде легче с доилками-то. А, Серёга?
— Легче, Илько, — сдерживаясь, стараясь говорить спокойно, отвечает Серёга. — Много легче.
— Шатилов, кажись, тоже мужик работящий, молодой. Может, приживётся?
— Да, Илько, да.
Дед Илько слушает с закрытыми глазами, а потом чуть приоткрывает их и с усилием говорит:
— Слушай, Серёга. Вот моя, кажись, подошла пенсия. Наплюй на свою кралю, мало ли баб на свете? Не уходи с земли, Серёга… Земля, она свою тягу имеет. Земля… Земля…
Серёга ждёт, напрягшись, дед Илько ничего больше не говорит, губы, шевельнувшись, всё больше вытягиваются и начинают стыть. Глаза его остаются полуоткрытыми.
— Илько! — шепчет Серёга, невольно отодвигаясь. — Илько! Эй, кто-нибудь! Эй, сюда!
Он не сводит глаз с лица старика, оно ещё живёт, и не понятно, когда обрывается одно и начинается другое. Серёга всё ещё ждёт, что Илько заговорит. Солнце в самом зените, и теней почти нет, и Серёга, хмурясь, поднимает лицо и не может смотреть. Пот заливает глаза. Серёга встаёт с колен и видит рядом Тольку Егорца.
— Позови кого-нибудь, я…
Он уходит в заросли, идёт, не разбирая кустов. И внезапно останавливается. Перед ним, за редким орешником, Шатилов и Тоня; они сидят обнявшись на небольшой полянке, заросшей густой, в пояс травой, и что-то говорят друг другу. Тоня смеётся. Они, конечно, ничего не знают. Шатилов целует девушку, и трава, высокая и сочная, совсем закрывает их.
И хотя они ничего не знают, их поведение кажется Серёге диким, он настолько обессилен сейчас, что не может даже возмутиться и закричать.
Не выходя из кустов, Серёга поворачивается, идёт в сторону от поляны. Он слышит стрёкот кузнечиков в высокой траве, над ним кружат, попискивая, беспокойные, вспугнутые из гнёзд ярко-жёлтые овсянки. Зелёные листья лезут Серёге в глаза. Он отводит их от себя, ложится на землю, смотрит в небо.
Как всегда, в погоду оно голубое и высокое. Очень голубое и высокое. И много, очень много солнца. Оно жжёт даже через густую листву дерева!
Серёга поднимает тяжёлую, как чугун, руку, закрывает глаза. Сейчас он видит всё отчётливо и ясно.
«Илько! Илько! А как иначе? Всё-таки мне надо учиться, Илько, понимаешь, надо», — шепчет Серёга и глядит в небо, и глаза его остаются сухими. Очень уж много солнца кругом, и слишком Серёга молод.
В старых ракитах (Повесть)
Памяти моей матери
Прасковьи Яковлевны
Возвратившись с работы, Василий сразу заметил, что матери стало хуже; она лежала спокойная, сложив худые, жилистые руки на иссохшей груди, и молча, не поворачивая головы, следила за сыном. Василий фальшиво бодро улыбнулся ей, успокаивающе кивнул, вышел в коридор и быстро стянул с себя спецовку. В прихожей было холодно, и он поспешил переодеться в домашнее, затем прошел в ванную, опять на ходу ободряюще улыбнувшись матери, выигрывая время, чтобы собраться с мыслями и успокоиться, вымыл руки, тщательно умылся и уже только затем сел у кровати больной на стул. Он не мог больше тянуть, хотя ему очень хотелось курить.
— Иди поешь, успеешь со мной-то, — сказала Евдокия слабо. — Что ж теперь… руку не подложишь…
Василий хотел было запротестовать, не решился, потому что взгляд у матери был сегодня какой-то незнакомый, жутковато-светлый, и виски еще больше впали и зажелкли.
— Надо будет, я сама скажу, — добавила Евдокия, и Василий, удерживая на лице все то же деланно ободряющее выражение, кивнул.
— Я тебе чаю принесу, — сказал он матери. — Сейчас греть поставлю. Тебе, мам, послаще налить?
Прикрыв глаза, как бы согласно кивнув, Евдокия с благодарностью к судьбе затихла, ушла в себя. Ей было хорошо, что у нее ласковый и добрый сын, что вот ей тепло и чаю дадут, когда она только захочет, а в деревне, в Вырубках, поди, теперь все снегом забило под самые застрехи, изба выстыла, да и что там теперь? Четыре старухи остались, сидят по своим углам, когда это выберутся одна другую проведать. Вот и она, останься в Вырубках, лежала бы пень-колодой, кипятку некому согреть да подать. Племянницу Верку тоже поди дождись за четыре версты. Вот она, судьба: и хорошая девка, а бог и в молодые-то годы порадоваться не дал — мужик попался не приведи господи, оседлал, злыдень, и продыху не дает. Вот она тебе, нонешняя-то любовь ихняя… Говорила, говорила тогда, как он из армии заявился, гляди, мол, Верка, гляди, уж куда как стрекалист твой-то суженый, все игрища кругом за десять верст на своем вонючем черте (Евдокия чертом называла мотоцикл) обскакал, да и к водке его тянет. А теперь так оно и высветило. Люблю его, черта, говорит, вот тебе и полюбила на свою голову, вышла одна сухотка. «Вот девка дура! — слабо возмутилась Евдокия, и в глаза ей потекла как бы обесцвеченная дымка далеких времен. — Да было ли что?» — все так же равнодушно подумала Евдокия, какое-то внутреннее беспокойство и томление мешало ей, и теперь она то и дело словно пыталась оправить неровно облегавшую ее исхудавшее тело сорочку с длинными рукавами и глухим, завязанным тесемками воротом, что-то мелко и часто сощипывала с себя, Василий, войдя к матери с чашкой чая, стоял у двери и с тихой душевной тоской наблюдал. «Обирается», — думал он, не решаясь ни подойти ближе, ни отпустить назад дверь.
Раньше он никогда не думал о смерти, хотя не раз и не два бывал на похоронах, сорокапятилетний мужчина, он был здоров, любил хорошо поработать, обильно и вкусно поесть, любил он и хорошую компанию — он еще был в самом зените, но вот теперь при виде того, как мать деловито словно что снимает с себя, какой-то шевельнувший всю его кровь ток проник и в него, и для него открылись иная мысль и иное чувство, и он не знал, что это такое, что-то, что он знал понаслышке, что-то, что пребывало в его крови от сотен и тысяч ему предшествующих, — все это как бы выплеснулось в один всплеск, в один свет, разом проникший в самые темные, никогда не видевшие света уголки его души, и стало ему страшно от этого высветления, и оттого, что он родился и живет, и оттого, что у него есть мать и что ему придется умирать так же, как сейчас умирает она, в один миг он увидел жизнь в совершенно новом повороте.
Он тяжело переступил с ноги на ногу, словно проверяя, присутствует ли еще он в этом мире, в этом доме, где ярко горела электрическая лампочка под желтым шелковым абажуром. Недоброкачественный паркет громко заскрипел, и Василий напряженно взглянул на мать, но тотчас с облегчением перевел дыхание, она по-прежнему ничего не замечала. Ему стало тесно и душно в этой комнате, ему показалось, что он тоже никогда уже больше ничего не увидит, кроме этих стен и низкого потрескавшегося кое-где потолка со свисавшим с него уютным абажуром. Раньше, до ухода в армию, в этой комнате жил сын Иван, вон еще этажерка с книгами в углу, взгляд Василия остановился на этажерке, и ему стало легче. Твердыми, грузными шагами он подошел к матери и остановился у кровати прямо напротив ее лица, она его по-прежнему не замечала и продолжала обираться.
— Мам, — позвал Василий, — я тебе чаю принес… давай помогу сесть…
По лицу Евдокии было видно, что она услышала, в глазах у нее проступило усилие понять, но исхудавшие, тонкие пальцы зашевелились еще беспокойнее.
— Мам, — опять позвал, с трудом сдерживаясь, Василий, — чего ты? Может, врача вызвать?
Теперь глаза матери были устремлены прямо на него, Василий и до этого знал, что она умирает, знал еще с тех пор, как она попросила забрать ее несколько дней назад из больницы и он поговорил о матери наедине, с врачом, и опять это оказались слишком разные вещи. Одно дело было знать, и другое-при виде маленького, высохшего лица матери с отсутствующими, бесцветными глазами — почувствовать, что это перед ним действительно смерть, опять какая-то удушливая волна поднялась в нем, и даже веки жалостливо задергались.
— Ты, Ванек? — спросила в это время мать. — Слава богу, унучек, поспел… А я тебя все вижу, все вижу, вот стоишь перед душой-то, не отходишь… Ну, думаю, помру и не увижу-то унучка… Ты ж гляди, Ванек, я ж тебе говорила, девка-то это твоя озленная вроде, гляди. Со злой бабой рядом — удавишься, гляди. Не дай бог со злой бабой-то бок о бок рядом, жизни не увидишь. А у тебя-то душа уродилась ласковая, ты против злобы-то не выдюжишь, Ванек…
Василий слушал, боясь шевельнуться, чтобы как-то не нарушить пугающего и в то же время покоряющего своей открытостью материнского заблуждения, она уже говорила с любимым внуком из-за последней черты, и самому ему, Василию, уже не было ходу за эту черту. Евдокия, еще несколько порассуждав о будущей жизни внука со злой женой, сама словно в один момент и вышагнула из-за неведомого и пугающего рубежа обратно.
— Господи помилуй, — слабо сказала она, и у нее в глазах выразилось недоумение. — А я все с Ваньком вроде разговаривала, вроде он с армии на побывку явился… а? Как же так… Глаза-то раскрыла, а это ты…
— От Ивана письмо на днях было, — сказал Василий тихо, опуская чашку с чаем на стул у изголовья матери, и, расчищая место, осторожно сдвинул в сторону какие-то лекарства в пузырьках и коробочках. — Я тебе читал его письмо, мам… А ты, видать, задремала, и примерещилось…
Евдокия ничего не ответила, перекатила голову по подушке лицом к стене, теперь Василий видел ее серовато проступивший сквозь редкие седые волосы затылок.
— Теперь уже скоро, — неожиданно отчетливо и ясно, как нечто определенное, окончательное и не подлежащее обсуждению, сказала Евдокия. Ты ж гляди, Василий, ты меня тут в городе, не зарывай, ты меня домой, в Вырубки, отвези. Я буду рядом с матерью, твоей бабкой, да с братьями рядом лежать… я тут не хочу, в городе-то…
— Брось ты, мать, ну что ты? — нарочно загорячился, запротестовал Василий. — Да ты еще полежишь да подымешься, мы еще Ивана из армии дождемся да женим… Сама же говорила, еще правнука дождемся… Ну, кто не болеет?
Ничего, ты давай чаю вот хлебни…
Она подчинилась и при помощи Василия смочила губы, тотчас и попросила опустить ее на подушку.
— Иди, иди, делай свое дело, скоро баба, поди, вернется, а обедать нечего, — сказала Евдокия.
Василий ничего не ответил и тихо вышел на кухню и только там, опустившись на табуретку у плиты, горько и подавленно усмехнулся. Что ни говори, а у матери характер, невзлюбила невестку с самого начала, ничего и до самого конца не переменилось, вот и сейчас дала ему понять, что ей не по душе городская жизнь, когда при здоровой жене муж и обед может приготовить, и другие бабьи дела сделать, а то, гляди, как говорила ему мать месяца три назад, и срамное бабье исподнее выполоскать да развесить. И хотя Василий не видел в этом ничего позорного, сейчас слова матери напомнили ему прежние ее стычки с Валентиной, он покурил, стараясь отвлечься от своих мыслей, затем начистил картошки, время от времени поглядывая в темное окно, за которым бесновался уже густой мартовский ветер, и в то же время вслушиваясь в тишину в комнате, где лежала мать, дверь к ней он оставил полуоткрытой. Оттуда не доносилось ни звука, и Василий поставил варить картошку, открыл банку скумбрии в натуральном соку, нарезал хлеба, достал несколько соленых огурцов, очистил луковицу, подумав, он еще решил почистить селедку, хранившуюся тоже в банке с рассолом, и сбегать, пока не вернулась жена, в угловой магазин за пивом. Убавив огонь под кастрюлькой с картошкой, он заглянул к матери и минут через десять, довольно потирая руки, уже доставал из сумки холодные, быстро запотевшие бутылки с пивом. Картошка кипела, из-под крышки прорывался веселый парок, и крышка звонко дребезжала. Василий сдвинул крышку, опять заглянул к матери, лежавшей в прежней позе, навзничь, с неподвижно устремленными в потолок глазами.
— Сейчас Валентина придет, ужинать будем, — сказал он, потому что нужно было нарушить молчание, он помедлил, приглядываясь к лицу матери, и, заметив, что она слегка шевельнула головой, ушел на кухню. Он достал стакан, открыл бутылку с пивом, налил и жадно выпил, пиво было свежее, и на краях стакана остались клочья таявшей пены.
В магазине он хотел еще прихватить и бутылку водки, но, что-то в собственном настроении, может быть неуверенность, помешало, и он был доволен своей выдержкой, теперь он уже твердо знал, что брать водку на этот раз никак нельзя было. Он услышал, как Валентина открыла дверь, затем осторожно разделась и сняла сапоги, он увидел ее в дверях и нахмурился, первым делом она поглядела на бутылку на столе, затем перевела взгляд на мужа и молча кивнула в сторону двери в комнату, где лежала мать, взглядом спрашивая, как дела. Василий в ответ неопределенно пожал плечами, сердитое, недовольное лицо жены вызвало и у него мгновенную реакцию раздражения, и он, шагнув к столу, вылил остатки пива в стакан и залпом выпил.
— Зря ты, Вася, — сказала Валентина, присаживаясь сбоку и устало кладя руки на цветастую клеенку, она работала на конвейере на обувной фабрике и часто жаловалась, что к вечеру совершенно выматывается. Василий ничего не ответил, лишь открыл вторую бутылку с пивом, опять налил и придвинул жене:
— Выпей.
Валентина взяла стакан, окунула губы в пышную пену и глотнула, глаза у нее были сейчас грустные и усталые, но она была благодарна мужу за эту маленькую заботу, минут через десять она, посидев у кровати свекрови и напрасно попытавшись расшевелить ее, уже привычно хлопотала на кухне, а Василий по-прежнему молча потягивал пиво, становясь все угрюмее. Он отказался от ужина и, еще раз взглянув на мать, лег спать, оставив дверь к ней в комнату приоткрытой. Он еще услышал, как возилась, раздеваясь, и вздыхала рядом жена, затем сон окончательно сморил его.
Ему показалось, что он проснулся сразу же от голоса матери, позвавшего его, и он услышал этот ее голос еще во сне, а уж только затем проснулся. Он это хорошо помнил, так же как и то, что еще во сне этот, совершенно особый голос матери сковал его, и он некоторое время лежал, обливаясь от невыносимого страха холодным потом. Затем он тихо выпростал ноги из-под одеяла и скинул их с кровати, нащупывая разношенные войлочные тапки и чувствуя гулко и неровно колотившееся сердце. Из приоткрытой в комнату матери двери пробивалась широкая, тусклая полоса света: это горел ночник. И тут Василий опять услышал ее голос, вернее, не услышал, а как бы почувствовал его изнутри, голос, по-прежнему какой-то особый, нечеловечески гулкий, прозвучал где-то глубоко в его душе, в сердце, ударил в мозг, и Василий как бы сорвался с постели и бросился к ней в комнату. Она встретила его нетерпеливым, лучащимся взглядом, он заметил, что глаза у нее как бы стали больше, теперь на этом высохшем, маленьком, почти детском лице-оставались одни глаза, потому что и говорить она уже почти не могла.
Василий опустился у изголовья кровати на колени, Евдокия едва-едва шевельнула губами.
— Что, мать? — тихо спросил он, беря ее руку в свои ладони и невольно вздрагивая, рука была уже мертвая, холодная-холодная. — Ты меня звала?
«Кликала, кликала, сынок», — скорее угадал, чем услышал, он ее бессильный шепот.
— Ну что, мать, попить? Или все-таки «скорую» вызвать?
«Не надо, ни к чему, — опять угадал он. — Помираю, сынок… Гляди же не обмани… как обещал, в Вырубки… на свои погост отвези… Слышишь… Вырубки, Вырубки, сынок…»
И хотя Василию стало страшно так, как никогда не было, он, пересиливая себя, с недовольным видом покачал головой:
— Ну что ты в самом деле, мать? Мы еще Ивана дождемся да женим его, мы еще на свадьбе-то…
Он умолк и, наклонившись еще ниже над ее лицом, уже совершенно иным голосом спросил:
— Что?
«Ты икону-то… икону Ивана-воина, — опять больше угадал, чем услышал он, — себе возьми… Ты ее не бросай гляди… Ванюшке, унуку, от меня отдай… Иван-воин в мужичьем деле в помогу… ты гляди…»
— Мам, — тихо позвал Василий с больно и страшно заколотившимся сердцем, но она, вытолкнув из себя замирающий, как бы остывающий последний шепот, теперь все старалась не отпустить его глаза и все пыталась оторвать голову от подушки, Василий все время как бы в себе чувствовал это бесплодное усилие матери, и ему было тяжело и мучительно неловко. Он почувствовал у себя за спиной присутствие жены, оглянуться он не успел. У матери слабо всхлипнуло где-то в груди, в горле, и тотчас голова ее скатилась вбок, лицом к стене. Василий подождал, почему-то не вставая с колен, но отодвигаясь все дальше и дальше от кровати.
Он натолкнулся затылком на что-то теплое, это были руки жены…
— Что ты, Вась, ждали ведь, — приглушенно и как-то буднично сказала она и помогла ему встать.
Василий качнулся, слабость была во всем теле, и в ушах назойливо звенело.
— Три часа ночи-то, самая глухота, — опять почти шепотом сказала Валентина, слегка всхлипнула, подошла к постели и как-то очень просто выладнала голову покойной, избегая вглядываться в полуприкрытые стекленевшие глаза, закрыла их легким движением пальцев, затем подвязала платком челюсть. Она еще свела на грудь высохшие, почти неслышные руки свекрови и связала носовым платком большие пальцы обеих рук, чтобы они не разъезжались. Василий смотрел на жену во все глаза, затем, вздрогнув, опять почувствовал, что в голове плывет, и хотел открыть форточку.
— Не надо, подожди, нельзя пока, — остановила его жена, и он не стал спрашивать, почему нельзя и откуда она знает, что нельзя. — Еще душа с телом не разошлась, она еще нас слышит…
«Экую чепуху городит баба», — подумал Василий, но что-то в ее словах как бы осветило все по-иному, комната, давно не проветриваемая (мать всегда боялась простуды), была знакома до мельчайшей подробности, но теперь, после слов Валентины, что-то неуловимо изменилось вокруг, словно чей-то тихий вздох опять потряс всю душу Василия, и только теперь он понял, что матери уже нет и никогда больше не будет, и он уже не услышит ее плавной, слегка медлительной речи, и его больше не остановит ее взгляд, если случится впасть в полный раскрут, что-то опять сверкнуло и простонало в душе, и он, сдерживая непрошеные слезы, торопливо вышел в другую комнату, затем на кухню, сел к столу, тяжело опустив голову на руки. Скоро подошла и Валентина, села напротив, он видел ее уставшее лицо, не отдохнувшие после работы глаза.
— Ну вот, теперь хоронить надо, — сказала Валентина. — Поди, рублей пятьсот уйдет, а надо.
— Надо, — согласился Василий, совершенно отчетливо понимая, о чем сейчас думает жена и что хочет сказать дальше.
— Какая разница, где лежать после смерти, — услышал Василий далекие и какие-то бесцветные слова, но он был так опустошен, что не смог даже возмутиться. — Ты, может, Вась, выпьешь? Да, может, поспишь, а то с утра делов привалит…
— Если есть, выпью…
— Есть.
Василий не заметил, откуда и как перед ним появилась непочатая пол-литровая бутылка, стакан и тарелка с солеными огурцами.
— Еще стакан-то поставь, — сказал Василий, ловко скручивая с головки податливую фольгу и вспоминая то время, когда такие бутылки закупоривались самыми настоящими пробками и мужики в Вырубках ловко выбивали их ладонью в донышко.
— Да я не буду, Вась, — стала отказываться Валентина, — а то на ходу так и свалюсь…
— Поставь, — потребовал Василий, хмурясь, и Валентина, быстро взглянув на него, добыла из настенного шкафчика еще один стакан и осторожно, без стука, поставила на стол. Василий налил себе почти вровень с краями, а ей с четверть стакана, молча глядя друг другу в глаза, они выпили, а Валентина, отщипывая от хлеба кусочек мякиша, задумчиво покачала головой.
— Уросливый же ты, Вась, — сказала она даже с какой-то ласковостью в голосе. — Я-то все вижу, все у тебя в глазах-то стоит. Ну что ты на меня-то ожесточился? Я, что ли, твой главный враг на земле? Эх, Вась, Вась… О семье же думаю да о сыне… Ну, повезешь в Вырубки, за триста верст, считай, ну и выйдет рублей на триста сверх… А где их взять?
А у тебя сын через полгода домой явится в одной шинелишке, ему и костюм надо, и куртку какую-нибудь, и туфли — в институт ведь хочет парень поступать… Вот тебе и думай как хочешь…
— В кассе взаимопомощи завтра возьму… может, рублей двести и дадут.
— Дадут, отчего же, — согласилась Валентина. — Так их все одно потом отдавать.
— Обещался же, — Василий, после водки всегда мягчавший, как-то даже несколько виновато взглянул на жену, словно ожидая от нее совсем иных слов, которые должны были убедить его окончательно.
Валентина лишь покачала головой, сейчас ей от усталости не хотелось спорить и что-то доказывать.
— Дорога какая сейчас? — неожиданно спросила она. — Пока ты до своих Вырубок доберешься, всю душу в лохмотья расшибешь. А там и могилы некому будет вырыть, вон четыре бабки на весь поселок остались.
— А никто тебя с бабками не просит, — все еще вяло отмахнулся Василий. — Сам довезу, сам вырою. Тоже, нашла чем пугать.
Теперь он достаточно твердо смотрел на жену, и в серых глазах у него постепенно проступала какая-то льдистость, Валентина хотела было убрать бутылку со стола, но он не дал, налил себе еще, выпил, уже не приглашая жену, теперь с ним бесполезно было говорить, и она подумала, что сегодня ей, видать, даже немного не удастся вздремнуть, и пожалела, что сына сейчас нет с ними. Василий сына всегда слушался, уважал за добрый и ровный норов, за то, что сын хорошо закончил школу, тут же Валентина с горечью подумала о том, что сын мог бы сейчас, повези ему, быть и в институте, и расстроилась.
— Василий, — все еще надеясь повернуть ход событий в иную стезю, Валентина даже подлила мужу в стакан, — может, Ванюшке сообщить, может, его отпустят хоть на пяток дней? Бабушка родная все-таки.
— Если отец или мать-отпускают, — сказал Василий. — А так-не-е, не вырвешь.
— Лег бы ты, Вась.
— Успею, належусь, — мотнул тяжелой головой в сторону покойной матери Василий. — Придет время, все належимся…
— Да уж, — неопределенно согласилась Валентина. — Может, кто потом и вспомянет и могилку-то наведает… а там будешь лежать, так никто и в самый великий праздник нe вспомянет…
— Как так? — насторожился Василий, ожидая от жены нового подвоха и уже заранее готовый отвести любые ее слова и доводы.
— А так, отвезешь ты мать в Вырубки, ну а дальше?
Думаешь, так и наездишься за триста-то верст? Ну ты, может, раз в год и выберешься, а Иван? Ему когда? А уж твои да мои внуки — и вовсе не говори, вот и получается…
От растерянности Василий выплеснул в себя остаток водки, жарко выдохнул воздух, похрустел огурцом и промолчал. Наутро, после короткого сна, весь помятый, неприятный-сам себе, уже полностью согласный с женой и даже похваливая ее за умный совет, он отправился хлопотать о всякой-разной всячине, которой вдруг оказывается чересчур много в любом просвещенном государстве, в том числе и в нашем, если человек, не предупредив никого хотя бы за несколько дней, взял и отправился в невозвратные для себя дали, как это и положено ему от природы. Неожиданно оказалось, что необходимо немало поволноваться, побегать, чтобы получить различные справки, и когда (Василий даже не помнил, в каком из нудных и дотошных учреждений) лысенький, с невзрачным маленьким личиком человечек потребовал от него паспорт матери, Василий безнадежно развел руками, в то же время чувствуя, что у него начинают подергиваться брови.
— Нет у нее паспорта, никогда не было, — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее, и глаза невзрачного служащего недоверчиво начали леденеть.
— Что это значит? — спросил он, — Почему нет?
— Потому, что она колхозница, — опять стараясь говорить спокойно, стал объяснять Василий.
— Так что же? Сейчас, по-моему, все с паспортами, колхозники тоже, возразил невзрачный служащий, подозрительно поглядывая на Василия.
— А у нее нет паспорта, — теперь Василий почти не дышал, стараясь осадить поднимавшуюся изнутри мутную, душную волну. — Сначала не давали, затем старая стала, не нужно было — и не взяла. Вот приехала из деревни, заболела, и всё — шестьдесят шесть лет, на тот свет и без паспорта принимают. Теперь понятно?
— На тот свет-пожалуй, а вот на кладбище — трудновато… Из какой местности?
— Из соседней, Котельский район. Поселок такой есть, Вырубки.
— Вот теперь начинает проясняться, — сказал невзрачный служащий. Теперь идите и принесите бумажку из домоуправления, что ваша мамаша с вами проживала последнее время, а затем нужна справка от врача…
Тут что-то случилось с Василием, он еще видел, как невзрачный служащий со вкусом и со значением говорил, уставив кончик острого розового носика в его сторону, но он уже ничего не слышал и не понимал, жалкий крик, почти визг ударил его сначала по глазам и только потом отчаянно прорвался в уши, и тут Василий сообразил, что держит невзрачного служащего, выдернув его из-за стола, как тряпичную, лишенную веса куклу, где-то перед собой и тот болтает в воздухе короткими ногами и все старается достать носком поношенного ботинка до полу. Еще Василий увидел, что испуганная женщина за соседним столом, бросив красить губы, в панике косится в его сторону и отчаянно вертит диск телефона.
Тогда Василий отпустил невзрачного служащего. Тот обессиленно привалился спиной к столу, слепо нащупывая его край вздрагивающими руками, теперь глаза у него были трусливо-заискивающими.
— А ну, кончай! — приказал Василий женщине, и та тотчас с треском швырнула трубку телефона и неестественно прямо застыла на своем стуле, с надеждой бросая взгляды в сторону двери, в широкие окна рвалось утреннее мартовское солнце, стекла почти с розовым шелестом весело пламенели, и Василию стало совсем плохо.
— Эх, вы, — сказал Василий с какой-то светлой тоской, стыдясь всего — и себя, и этих перепугано глядящих на него людей. — Она с десяти годов работала, ей шестьдесят шесть лет, и никто с нее паспорт не спрашивал. А похоронить ее по-людски, значит, нельзя… Что ж, похороним по своему… Эх, вы…
Что-то в голосе и в глазах Василия ошеломило женщину, она заморгала усиленно, отвела глаза, сам невзрачный служащий тоже стал неловко косить в сторону, затем громко засопел.
— Да вы, гражданин, не волнуйтесь, — неожиданно сказал он. — Ну что вы так из себя выходите? С непривычки туго, да ведь каждый день умирают, и всех хороним. Похороним и вашу мамашу… Знаете, — внезапно обрадовался он, — давайте ваш адрес, я это сейчас по телефону… давайте, вам только нужно будет по двум-трем адресам подскочить.
— Ой, молодец вы какой, Павел Никодимович, — обрадовалась и женщина за соседним столиком. — Вот видите, — обратилась она теперь непосредственно к Василию, — с нами тоже по-человечески-то надо. А то каждый на горло да за горло, а мы тоже люди. Что же вы, называйте адрес-то.
— Не надо, — гордо и отреченно сказал Василий. — Ладно, обойдемся. Вы уж тут не обижайтесь. Бывает… горячка…
— Гражданин! Гражданин! — попытался остановить его невзрачный служащий, ставший теперь симпатичным человеком лет сорока с голубоватыми блестящими глазами, но Василий от того, что в одну эту минуту произошло в нем и что наполнило ему душу, не мог больше выговорить ни слова, лишь махнул от двери рукой и торопливо бросился в коридор, едва не сбив какую-то старушку в черной накидке, старушка неодобрительно пожевала вслед ему сморщенными губами, а он уже был на улице и жадно глотал свежий, с утренним морозцем воздух. Теперь он действовал определенно и почти безошибочно, и все, что он хотел, просил или требовал, тут же исполнялось, он зашел на работу, свободно, словно так надо, прошел к директору, и тот тут же выделил ему на два дня крытую автомашину и сто рублей из какого-то своего фонда. Василий стал было благодарить, но директор замахал на него гигантской авторучкой, которой подписывал бумаги. Таких авторучек, чуть ли не в метр и поменьше, было на столе директора десятка два, это было его слабостью.
— Хватит, хватит, Крайнев! Все помирать будем. Ты, кажется, со Степаном Дорофеевым дружен? Ну, вот пусть он и отвезет, — распорядился директор в ответ на утвердительный кивок Василия. — А Петрицкому я сейчас брякну, они там тебе с остальным помогут, гроб там, венки… Эх, эх, эх, Василий Герасимович. Ну что ж, ну что ж, дело такое.
Иди, иди, иди, — заторопился он, пресекая очередную и неловкую попытку Василия хоть как-нибудь поблагодарить отзывчивого человека. Еще сто пятьдесят рублей Василий получил в кассе взаимопомощи, триста двадцать-все, что у него было, — снял со сберегательной книжки, и уже часа в два крытая автомашина с закрепленным, чтобы не ерзал в кузове, гробом и с двумя ящиками водки для поминок, тоже плотно упакованными и закрепленными, выползла, разбрызгивая воду из многочисленных после полудня мартовских луж, а кое-где, в затененных местах, с хрустом продавливая звонкий весенний ледок, попетляла, поколесила на запутанных развилках в предместье, возле металлургического комбината, и, вырвавшись на открытую дорогу Орел — Киев, пошла наматывать на колеса скорые для нынешнего века версты.
Василий сидел в кабине, по-прежнему, после недавнего разговора с женой, с ожесточенным и звонким сердцем, и напряженно смотрел перед собою в голубеющие, с каждой минутой все шире разворачивающиеся дали, снег во многих местах уже сошел, но были еще и ослепительно горевшие от солнца белые и неровные пространства полей, и воздух над ними, казалось, был еще чище и прозрачнее. Темная громада дубравы, проползшая вскоре в полуверсте от дороги, уже была отяжелена весенним беспокойством и как бы грузно разбухла, по бетонным канавкам обочь магистрали мутно и непрерывно бежала вода, разливаясь в низинах полей и лугов в сплошное и тоже нестерпимо ярко горевшее от солнца пространство, когда это случалось близко и, отражаясь от зеркала воды, солнечный блеск ударял по стеклам кабины, Василий жмурился. Он слегка опустил боковое стекло в кабине и закурил, его ожесточенное сердце начинало отходить. Шофер, старый и верный друг Степан Дорофеев, до этого упорно молчавший, покосился слегка на резкий, как бы потемневший от выступившей за эти сутки щетины профиль Василия.
— Зря ты так с бабой-то, — сказал он. — Она-то в чем виновата? Баба, она и есть баба, ей на каждом деле выгадать хочется, все они такие. Потом просилась, в глазах слезы…
— Просилась. Надо было сразу думать. Просилась, а зачем? Кто она ей? повел Василий головой, указывая назад, на кузов. — Чужой человек, а мне она мать родная. Не хочу, чтобы в этот срок кто чужой между нами втерся, опять судорожно повел он головой назад. — Один на один хочу с нею побыть…
У Степана в глазах мелькнула растерянность, он невольно подобрался, стал пристально и безотрывно смотреть на льющуюся навстречу влажную, широкую ленту бетона, какое-то тревожное откровение коснулось его и смутило.
— А бабы что. — опять заговорил Василий, — баб — их много… Им известно что от нас надо. А-а, ладно, я и сам знаю, не со зла она, от дурости, да что от этого? Раз так, не хочу, чтобы она рядом со мной была в этот срок, не хочу, к все. Ты лучше скажи мне, вот сижу я и думаю, на какой ляд человек на свете живет, а?
— Живет, — подумав, неопределенно отозвался шофер. — Ты лучше выпей, хвати грамм двести — и дело. Мне нельзя, а тебе чего?
— Не хочу, — коротко отказался Василий, и опять летела навстречу дорога, и к вечеру все рельефнее проступали пространства вокруг, краски менялись и густели, и у Василия, раньше никогда не замечавшего ни леса, ни поля, ни неба вокруг, сейчас от каждого поворота дороги, открывавшей глазам еще что-то новое, все тяжелело сердце, он с жадностью чего-то ждал, словно впервые видел этот мир. Степан, чувствуя это его состояние, старался не смотреть на него, ему вначале тоже было неловко и не по себе, но спокойный бег сильной, послушной машины и хорошая дорога придавали ему уверенность, и он, тоже бывший крестьянин, лишь однажды позволил себе скользнуть душой по размокшему сверху, почти парившему пятну чернозема.
— Там, от дороги-то, в сторону до наших Вырубок еще версты две, неожиданно сказал Василий. — Добраться бы.
— Ничего, доберемся, — опять подумав, отозвался Степан. — Засветло бы только.
— Тут, по такой дороге, часа на полтора и осталось, успеем, еще раньше будем, — заверил Василий и опять надолго замолчал, лишь оба одновременно проводили глазами сизоватую чайку с белой грудью, с резким криком прометнувшуюся через дорогу почти перед самой машиной, и Василий опять почувствовал сладкую, тягучую тоску, хотелось выскочить из машины, пойти куда глаза глядят весенним полем, утопая в грязи, шлепая по весенней воде, пойти прямо в слепящее солнце, чтобы ощутить буйство жизни и понять, что ты еще жив и что в тебе еще много вот этой хмельной жажды на что-то надеяться и чего-то лучшего ждать и верить…
Солнце уже сильно низилось, и его косые, начинавшие слабеть лучи россыпью прошивали синее хрустальное небо, задумавшийся, давно молчавший Василий, случайно взглянув вперед и в сторону, сильнее вжался спиной в подушку сиденья.
— Что? — спросил шофер, невольно притормаживая.
— Приехали, вон он, поворот, а вон там, — он указал на редко разбросанные крыши изб, трубы над ними, массивно выделявшиеся в редкой, сквозной и колеблющейся паутине деревьев, — ветер, что ли, поднимается. Эх, смотри, чего-то зажало, — с неловкой усмешкой пожаловался он, притискивая ладонью левую сторону груди.
Степан ничего не ответил, и машина, помедлив, осторожно переместилась на отвод, бережно покачивая кузовом, проползла по набитой еще, с оледенелыми колеями дороге в сторону от бетонки, и уже минут через десять Василий указывал, куда, к какой избе подворачивать. И его, и шофера поразило прежде всего абсолютнейшее безлюдье: десятка два или чуть больше изб, вытянувшихся в два неровных ряда, и старые, кряжистые ракиты, купавшие свои тонкие, с уже начинавшей просвечивать живой прозеленью вершинные ветви в синеве предвечернего неба, были чем-то одним целым, но ни одной живой души не было видно, ни одного живого звука не слышалось, что-то непонятное, пугающее и высшее было в этом безлюдье, и оба это почувствовали.
— Вот это да-а! — протянул Степан, оглядывая словно давно вымерший и заброшенный мир. — Поди, как на другой планете…
Но Василий давно уже глядел на приземистый и длинный силуэт знакомой избы, слегка припавшей с фасада на правый угол, на прогнувшиеся ворота, на намет еще не растаявшего пласта снега на высоком крыльце, и то, сколько он вложил в это подворье труда и заботы, вернувшись молодым щеголеватым сержантом из армии, и то, что именно в этот дом он привел Валентину и через год она именно здесь родил а ему сына, нерасторжимо связывалось с тем, что стояло в кузове еще не остывшей, разгоряченной после долгой дороги машины, теперь у него на глаза уже наворачивались скупые слезы, и он, чтобы Степан случайно не заметил их, торопливо отвернулся, он теперь ничего не видел перед собой и дрожащими руками долго не мог ухватить и выудить из пачки папиросу. Наконец закурил и втянул в себя горьковатый и злой дымок, муть в глазах стала рассеиваться, и он от неожиданности заморгал. Перед ним стояло пригнувшееся, низенькое существо с невероятно толсто замотанной головой, сморщенное личико с пытливыми маленькими глазами жило и таилось в глубокой нише, образованной, вероятно, из множества всевозможных платков и шалей. Василий понял, что перед ним одна из вырубковских старух, и поздоровался.
— Здравствуй, Василь Герасимович, — донеслось до него неожиданно звонко. — А я слышу: машина грохочет, слышу, вроде близко куда подворачивает. Дай, думаю, оденусь, выгляну, кто ж это такой в вечернюю-то пору? К нам, почитай, за всю зиму никто не заглядывал, привезут с центральной усадьбы хлеба дня на три, мы себе и живем. Что ж ты, Василь Герасимович, — указала старуха на машину, — вроде не к поре.
— Никак ты, Пелагея Авдеевна? — спросил Василий, и старуха живо и обрадованно закивала:
— Я и есть бабка Пелагея, вишь, напоматала на себя от старости, никакая родня не признает.
— А я вот, — Василий тяжело повернулся к машине, — мать привез… хоронить, значит, привез… вот так.
Бабка Пелагея охнула, поспешно высвободила руку из толстой варежки и несколько раз перекрестилась на машину, яркое, начинавшее глохнуть солнце все низилось и низилось, уже несколько раз принимались кричать грачи, усеявшие вершины старых тополей и ракит. Бабка Пелагея предложила поставить покойницу у нее, у нее-де и топлено, говорила она, и святая книга есть, старухи соберутся на ночь, почитают, но Василий заупрямился, заявив, что в последнюю дорогу мать должна отправиться из своего угла, и бабка Пелагея опять перекрестилась, и, чуть помедлив, все принялись за дело. Счистили снег с крыльца, открыли дверь в сени, затем в избу, натаскали дров и затопили печь на кухне, слегка протопили и в горнице и уже только затем внесли и поставили покойницу, после этого и Василия, и Степана из горницы вытеснили и закрыли за ними двери. В горнице для какого-то своего таинства осталась бабка Пелагея и еще человек пять старух, сошедшихся со всех Вырубок, одна другой древнее, одна другой немощнее, но теперь объединенных одним важным делом, и Василий, уже начинавший чувствовать усталость после всех передряг и волнений, лишь подбрасывал по их просьбе дрова в печь, чтобы согреть воду. Пока еще было светло, Василий побродил по запустелому подворью, слазил в погреб, достал картошки, соленых огурцов, капусты, моченых яблок, прихватил с собою банку грибов — все это было заботливо припасено матерью еще с осени, пока старухи обряжали покойницу, Василий при помощи Степана успел начистить и сварить картошки и соорудить здесь же, на кухне, на небольшом столике, накрытом старенькой, с прорезанной в одном месте клеенкой, нехитрый ужин. Василий поставил на стол, среди огурцов, капусты и моченых яблок, две бутылки водки и несколько граненых стаканчиков, хранившихся у матери в настенном шкафчике. Старухи еще возились в комнате над покойной, и Василий со Степаном молчаливо выпили и поели горячей картошки с солеными грибами и огурцами, от тепла начинал проходить нежилой, застоявшийся дух, а в небольшое окно над столом безглазо пялилась сгустившаяся до мрака синь, перешедшая скоро в звонкую темень. Ветер усиливался, начинал жить и на чердаке, где все чаще и беспорядочнее погромыхивало железо, и в самих стенах дома, после каждого особенно сильного удара густого и теплого весеннего ветра в них слышалось какое-то слабое потрескивание, шуршание, и Василий, сидя за столом, устало привалившись спиной к стене, чувствовал этот безжалостный и размашистый ветер.
Василию не хотелось разговаривать, и он налил по второй, но в это время двери в горницу распахнулись и бабка Пелагея широким жестом пригласила их войти. Василий и Степан торопливо опустили обратно на стол уже зажатые в ладонях стаканчики, Василий, как и положено, вошел в горницу первый, за ним Степан, и оба остановились шагах в двух от покойницы, теперь как-то неуловимо переменившейся, как бы ставшей еще более успокоенной и посветлевшей лицом. В руках у нее, сложенных на груди, теплилась тоненькая свечка, на лоб был наложен венок с молитвой, крохотный язычок пламени жил над старенькой лампадкой в углу перед одинокой иконой Ивана-воина — из рассказов матери Василий знал, что этой иконой его мать и отца благословили в день свадьбы, и поэтому мать всю жизнь ею очень дорожила, и еще пуще уже после войны, когда пришла похоронная на отца. Все фотографии на стенах и зеркало в дверце шкафа были завешены чем-то темным, а изголовье гроба окаймляли несколько еловых ветвей. Пристроившись в ногах у покойной, одна из старух, в очках с невероятно толстыми стеклами, ни на что больше не обращая внимания, нараспев читала затертый псалтырь, Василий этой старухи не знал, но ему объяснили, что это святая монашенка Андриана, остановившаяся на постоянное житье в Вырубках еще в позапрошлом году, проживавшая вместе с бабкой Анисихой и из-за отсутствия попа ездившая читать на похороны по всем окрестным селам. Василий и Степан робко постояли, послушали и вернулись на кухню. К ним присоединились освободившиеся от хлопот старухи во главе с бабкой Пелагеей, явно всем коноводившей, все пятеро расселись вокруг стола на двух скамьях и с удовольствием выпили понемногу водки, помяли беззубыми деснами картошки с огурцами, Василий привез для поминок несколько банок селедки и раскрыл одну из них. Старухи оживились и обрадовались, и бабка Пелагея тотчас нарезала пряно пахнувшую селедку большими кусками и поставила на стол.
— У нас такого добра и днем с огнем не откопаешь, — сказала она. — Ни в нашей лавке, ни в районе, грят, перевелась эта рыбка в море. Ох, господи, в какие разы душеньку посолнить… Ну, бабы…
Старухи еще глотнули из своих стаканчиков и долго с удовольствием ели селедку с хлебом и картошкой, выражая свое удовольствие, покачивали головами, причмокивали, и даже их обесцвеченные временем глаза поблескивали в ярком свете одиночной пыльной лампочки под потолком. Василий знал их всех, знал и многие истории, связанные с их прошлой и теперь, казалось, никогда не существовавшей жизнью, — частью тяжелые, частью смешные или грустные.
У всех у них, согласно деревенскому обычаю, были и свои прозвища, и часто именно по прозвищу их знали больше, вот бабку Пелагею всегда называли Козой, а вот высокую и тощую старуху рядом с ней — Екатерину Анисьевну (сейчас она робко подцепила вилкой очередной кусочек селедки), до сих пор прямую словно жердь, сколько помнил себя Василий, всегда называли Анисихой. А вот эту толстенькую, разрумянившуюся от водки и еды Марию Андреевну, еще до войны лихо водившую трактор, так и прозвали Чумазой. Василий украдкой оглядывал их и тотчас, как только они замечали его внимание, отводил глаза, он чувствовал с ними нечто общее, и это было не в прошлом и не в том, что все они были родом из этого затерянного в русской глухомани поселка Вырубки. Их связывало сейчас нечто более крепкое и более вечное, но что это было, Василий не мог определить и, стараясь уйти от мешавших сосредоточиться на основном мыслей, стал думать о завтрашнем дне, о многих делах, что было необходимо успеть завтра сделать. Затем старухи долго, с интересом расспрашивали Василия о болезни и кончине Евдокии, охали и крестились, и Василии, хотя это было ему тяжело и неприятно, коротко и скупо отвечал, затем махнул рукой, и все замолчали.
Степан, топорща белесые брови, хотел было выйти к машине, посмотреть, все ли в порядке, но его тотчас остановили.
— Ох, ох, — оживленно удивилась бабка Пелагея, — да сиди ты, сиди! В поселке-то ни души более не осталось, все тут, — очертила она рукой округ стола.
— И-и, — поддержала ее, еще выше поднимая голову, бабка Анисиха, — это что теперь, теперь и по весне трактор доползет… А то как, бывалоча, воды по весне грянут, так и сидим на морю, во все концы одна вода, а мы посередке.
Вставший было Степан с тяжелой готовностью опустился на свое место.
— Что правда, то правда, — показал он в какой-то по детски доверчивой усмешке щербатый передний зуб и сразу стал еще проще и ближе. — Уж кажется, где только не побывал, и по Северу, и в Сибири, а такого, братцы, не встречал.
Как же вы тут живете, в этой тьме? Да я бы тут на другой день в петлю полез…
— Ну, ты молодой, — тотчас возразила бабка Пелагея, туже затягивая у себя под подбородком концы темного, в белую горошинку платка. — Ты нас с собой не равняй, вот они-то, молодые, все и разбрелись по белу свету. А нам куда?
— У нас огороды есть, куры, — неожиданно низким грудным голосом вмешалась толстая бабка Чумазая, прославленная раньше затейница и непоседа. — У нас во-оля, так куры и ходят кругом — во-оля…
— Куры? — почему-то очень изумился именно этому обстоятельству Степан. — Проезжали, что-то я ни одной не заметил…
— Ну как же, что ты! — загорячилась, опять высоко вскидывая голову и выставляя вперед острый, морщинистый подбородок, бабка Анисиха. Неразумные, поди, говорят курица вроде дура, а курица — птица с умом, к вечеру она — на нашест, на нашест-пырх тебе! — и сидит, чистит перышки! А ты когда подкатил? А ты к вечеру подкатил! Во-о-о! Пырх — и сидит!
— Ой, мужики, беда, ох, беда липучая! — вздохнула, начиная волноваться, бабка Пелагея. — Лисица, проклятая, завелась где-тоть. Да, стервья, искрой-то, искрой, да такая хитроватая, да такая верткая, искрой тебе, искрой! На той неделе у кумы Агафьи петуха на глазах уволокла, мы стоим судачим, и петух тут, рядом, важный, золотистый, гребень-то к весне весь малиновый набряк, аж набок свесился. А она тут, стервья, из-за плетня, как молонья, — скок! Только перья полетели, а петуха и нету уже, у меня прямо ноги обомлели. Кума, говорю, кума, это ж она — стервья! «Ох, — говорит она, — чтоб ей…» — да с тем и заплакала, уж какой петух был, какой петух!
— Мы и в совхоз, на центральную усадьбу, ходили, — все с тем же дерганьем головы вверх пожаловалась бабка Анисиха. — Хоть бы мужик с ружьем, а? А там эти все от водки — во-о! — все распухшие, все ольгоколики! Каждый в присест по ведру в себя! Во! Все в гогот-го-го-го! Ты, бабка, грят, не туды! Лисица, грят, одна на всю губернию! Сейчас, грит, лисица-во-о! Под охранной печатью, грит! А что петух? Их, петухов, тьма-тьмущая, грит, под ликтричество комарьем из болота выскакивают! Во грит! Ольгоколики проклятущие, из глаз-то и то самогонкой разит! У нас тут летом гости наезжают, — вспомнила бабка Анисиха, в мягкой задумчивости глядя куда-то поверх головы Степана. — Внучку привозят из самой Тулы, э прошлый раз самовар привезли, пряников привезли целую коробку. А вон к ней, — указала она острым подбородком на толстую, с одобрением и интересом слушавшую бабку Чумазую с еще больше раскрасневшимися круглыми щеками, так прямо из Москвы дочка с двумя огольцами приезжает. А в прошлом году прямо на своей машине всей семьей, с мужиком, с зятем Володькой анженером, прикатили. Почитай, все лето грибы собирали да в речке плескались… А раков-то, раков половили, как пойдут, так ведро тебе, как пойдут-так ведро!
— А к осени у нас студентов да школьников полным-полно — на уборку-то их нагоняют, — вставила свое и бабка Пелагея. — Все пустые хаты позанимают, день и ночь галдеж!
Хоть и боязно, гляди, долго ли до пожара, а нам все радость. У них тут и гульбища, а в прошлую осень так свадьбу справляли! То-то было диво!
Все старухи враз заулыбались, закивали согласно, затем, как по команде, притихли, словно задумались о чем-то своем, самом сокровенном.
— Какая-то не такая нынче жизнь пошла, какая-то запойная, — вздохнула бабка Пелагея.
— Во, во! — с готовностью поддержала ее бабка Анисиха. — Сеют бегом! Убирают бегом! Налетят воронами, все поклюют, все перекопают! Глядишь, нету никого, нет ничего! Господи прости, анчихристы!
— Расхныкались, расхныкались! — не удержалась бабка Чумазая. — В один бок всего сразу не кинешь! «Раньше, раньше!» А что раньше? А теперь пенсию каждый месяц тебе домой! Такая-сякая гражданка бабка Анисиха, просим получить денежки, а? То-то и оно! А кто нас тут, в пустом поселке, держит? У всех у нас в городе кто-то есть, меня вон сын аж в Ленинград звал… а? То-то и оно!
— Пойду, повыть надо, — с суровым, отвердевшим и как-то сразу ставшим далеким и неприступным лицом сказала бабка Пелагея, и все старухи разом встали и прошли к покойнице, почти тотчас и Василий и Степан невольно вздрогнули.
— Да подружка моя Евдокеюшка! — тонким и пронзительным, полным немыслимого страдания голосом затянула бабка Пелагея. — Да куда ж ты ушла, моя горемычная подружечка, а меня бедовать на этом свете оставила? Да возьми меня в свою сторонушку невозвратную, уж ноженьки не ходють и глазоньки от слез совсем обессилели! Уж я…
Василий не выдержал, сморщился, не глядя на Степана, выскочил на улицу. На него обрушился теплый густой ветер, и он, подставляя ему горевшее каким-то особенным жаром лицо, пошел по мертвой улице, и, когда остановился уже за поселком, непроглядная темень, разрываемая яростными и веселыми порывами ветра, пласталась вокруг, и тут он понял, что за то время, пока он был под крышей, небо затянуло плотными, стремительно несущимися тучами, мелкой водяной пылью ему плеснуло в лицо, и дождь больше не прекращался. «Не выберется завтра Степан на дорогу», — тревожно подумал он и тотчас забыл, все мысли и тревоги заслонило какое-то пьянящее, безрассудное чувство слияния с беспросветной и стремительной ночью, с этой землей, бесконечно родной сейчас, захлестнутой весенней тьмой, плотно насыщенной несущейся водяной пылью. Ему было жарко, и сердце сгорало в какой-то первобытной муке. В неистовстве ветра он слышал сейчас то, чего не дано, да и нельзя слышать человеку, и, потрясенный, готов был остаться здесь навсегда и раствориться в этой безжалостной ночи, во все сметающей прочь перед собой и оставляющей за собой лишь нетронутое, готовое принять неведомые семена и дать неведомые всходы поле. И то, что не умещалось сейчас в нем, разрывало ему душу, и он, жалко всхлипнув от страха, что все это безумие и счастье промчится мимо него и исчезнет бесследно, пошел, задыхаясь, в густой мартовский ветер, пытаясь продлить это безумно прихлынувшее торжество души, и он услышал нежные, серебряные звоны, как когда-то в самом раннем счастливом детском сне.
Через час или больше, сгребая бегущие по лицу потоки дождя, Василий сбросил в сенях намокший дождевик и, повесив его на крюк, вошел, старухи, уже опять сидевшие рядком за столом, увидев его в дверях, враз повернули к нему головы, и он, пряча то, что пришло к нему, отвел в сторону словно промытые, налитые густым светом глаза, и все поняли, что спрашивать ни о чем нельзя. Он подошел к горящей печи и стал греть руки, от мокрого пиджака повалил пар.
— Ты бы, Василий, лез на печь, поспал чуток, — предложила бабка Пелагея. — Простуду, гляди, подхватишь.
Там вон на лежанке одежка, попонки лежат… одеяло.
Твой машинист давно храпит-заливается. Да глотни еще водочки, прогрейся…
— Во, во! Не-уросься, не уросься! Во! — поддержала ее и бабка Анисиха. — Нам все одно спать нельзя, душу провожаем, во…
Бабка Пелагея сама налила ему чуть больше полстакана, сунула в руки, и он выпил, затем, как в полусне, стащил с себя сапоги, сбросил набрякший тяжелый пиджак, забрался на широкую лежанку, где уже уютно похрапывал Степан, выставив вверх колени, стянул штаны и в одном белье с наслаждением лег на начавшие теплеть кирпичи. Он спал и не спал, он чувствовал, как чьи-то заботливые руки подсунули ему под голову подушку, а сверлу прикрыли почти невесомым от старости байковым одеялом, он затих, наслаждаясь теплом и покоем, и приглушенные голоса старух, коротавших за столом долгую ночь в разговорах, все отдаляются и отдаляются, но совсем не меркнут, и это даже не голоса, а что-то вроде огромного неба и шелест теплого, грибного, слепого, как говорили у них в поселке, дождя. А солнце по-прежнему светит, и весь мир объяла сине-малиновая радуга, одним концом на далекий лес, другим в речку-воду в небо тянет. Он почувствовал запах свежести, приподнял голову, по она тут же упала на подушку, и теперь радуга уткнулась одним концом прямо в его глаза, ему и страшно, и хорошо, потому что эта цветистая, радостная дорога размыкает перед ним самые дальние горизонты, уносит его в немыслимую высь, и вот уже нет у него глаз, их выпила радуга, нет его самого, но зато теперь он везде, теперь он и здесь, и высоко в небе, и на самом дальнем краю земли. Но что же это, что?
Васек, как звали его и отец с матерью, и бабка с дедом, и все соседи, и погодки, с которыми он с утра до темной ночи пропадал на улице, белоголовый пятилетний мальчуган, взбрыкивая, слепой от восторга, несся навстречу солнечному ветру верхом на ореховой палке, а сзади, визжа, подстегивал ее гибкой хворостиной. Опушка березового леса была не то что наполнена, а словно налита до краев солнечным светом, воздух от этого был какой-то золотистый. Отражаясь от ослепительно белых стволов берез, солнечный свет на легком сухом ветру дробился, разлетался радужными осколками, было больно смотреть, не прищурив глаз. И Ваську больно глазам, и он несется по лесу, почти зажмурившись, вслепую, но солнце прорывается и сквозь веки, белые стволы берез мелькают вперемежку с радужными пятнами света, и по высокой и сочной майской траве (Ваську чаще всего с головой) повсюду развешаны большие ярко-синие лесные колокольчики, в упоении жизнью Васек не щадит их, рубит хворостиной на бегу, и они, переламываясь в стебле, опадают лиловыми пятнами в густую, сочную зелень.
— Васек! — слабо доносится голос матери. — Ва-а-асек!
Васек круто заворачивает и удивленными, сразу широко раскрывшимися глазами Осматривается. Он успел забежать довольно далеко, он был в низине, толсто устланной опавшей прошлогодней листвой с пробивающейся сквозь нее острой и редкой травой. Солнце тут до земля не доходило, солнечный ветер вовсю бушевал где-то там, над плотно сомкнувшимися кронами кленов, ясеней, дубов, а у земли была тишина, и даже ветер сюда не прорывался. Васек слегка повернул голову, и холодная дрожь сладко облила его с головы до ног. Вывороченное из земли дерево, судорожно выставившее вверх причудливо перевитые корни, поначалу показалось ему огромным живым существом, готовым вот-вот броситься на него. Отец рассказывал, что в лесу водятся и волки, и дикие кабаны, и даже медведи, вывороченные, вставшие дыбом корни и показались ему вначале медведем. И тотчас опять пробился в нем голос отца, что от медведя нельзя убегать, нужно падать и притворяться мертвым, и уже в следующее мгновение он лежал ничком на земле, и сердце у него бешено колотилось. Он старался не дышать, но глаз закрыть никак не мог, он совсем близко видел больших лесных рыжих муравьев, одни из них что-то тащили, другие, сталкиваясь и узнавая друг друга, шевелили усиками… они были такими смешными и так похожи на людей, что страх у него прошел, но ненадолго. Пока он был занят муравьями, он забыл про медведя, но вот словно что толкнуло его, я он весь обратился в один чуткий и жалкий ком. Он слышал тяжелые звуки шагов, они все ближе, ближе. «Уф!
Ур-р! Уф!» — раздавалось над ним, вот ему в затылок кто-то шумно и жарко дохнул и затем лизнул шершавым и горячим языком. Он почти потерял сознание, но выдержал и не шевельнулся, правда, пальцы его сами собой вцепились в мягкую и толстую прель лесной земли, и он всем телом еще сильнее вжался в нее. Придя в себя, он боязливо приоткрыл один глаз и сразу же увидел все тех же муравьев-они суетливо и бестолково продолжали сновать по прошлогодней преющей листве, заглядывая во все уголки, во все закоулки, что-то отыскивая, о чем-то своем разузнавая. И тогда он осторожно приподнял голову и теперь ясно увидел, что никакого медведя нет, а перед ним вывороченное корневище дерева. Он сел и хотел заплакать от пережитого ужаса, но тотчас вскочил на ноги и с дикой пляской, визжа, стал хлестать палкой по вывороченным корням, и с них облетала и брызгалась засохшая старая земля, и ему самому было жутко и весело.
Наконец- он устал и утихомирился, теперь он ничего не боялся и долго гонялся за какой-то совсем крохотной птичкой, она отлетала от него метра на три-четыре и ждала, пока он бросится к ней, затем отлетала опять, а под конец, задорно пискнув, вспорхнула вверх и затерялась в густой листве. Васек, задрав голову, стал ее разыскивать глазами. Но в это время до него опять донесся слабый, тревожный голос матери:
— Ва-асе-ек! Ва-асе-ек!
И он опрометью бросился на этот привычный зов и скоро, запыхавшись, уже мелькал круглой белесой головой на опушке, а мать, сердито выговорив ему и ставя в пример соседского Андрейку, так спокойно и просидевшего под ореховым кустом все это время, строго наказала не забредать далеко, затем она дала ему краюшку вкусного, пахучего хлеба и бутылку топленого молока. Он жадно принялся есть, а мать продолжала свое дело, срезала нужные ей березовые ветки и вязала из них веники, что не мешало ей оживленно переговариваться с другими бабами, занимавшимися тем же, много березовых веников нужно было заготовить на зиму, любили вырубковские мужики париться крепко, подолгу, потом, распаренные, красные, как вареные раки, выскакивали в клубах пара наружу, с лешачьим уханьем и гоготом валились в снег и вновь торопливо ныряли в жаркое чрево бани. А майская зелень самая полезная, листва на ветках держится намертво, не скоро ее отхлестаешь, вот и торопятся бабы наготовить веников именно в мае, выберут момент, соберутся по трое, по четверо-и в березовый лес, на опушку, туда, где густыми гривами поднимается подрост, а назад возвращаются с тяжелыми вязанками готовых веников, развешивают их для просушки на шестах, укрытых и от дождя и от солнца, на легком сквознячке, и веник сушится постепенно, исподволь, сохраняя в листьях и в коре всю свою целебную силу и всю крепость весенней земли и жаркого солнца.
Васек съел хлеб, запивая его сладким, густым молоком, и то, что мать похвалила Андрейку, синеглазого и тихого, ему не нравилось, Андрейка подсел к нему, стал что-то говорить, но Васек внезапно оттолкнул его и быстро перебежал под другой куст. Его сильно разморило, и он тут же, опустившись на мягкий мох под развесистой старой березой, заснул, а когда открыл глаза, над ним стояла смеющаяся, разрумянившаяся мать и другие бабы, тетка Анисья, тетка Поля, и все они весело смеялись.
— Во! Во! — говорила тетка Анисья, ловко затягивая косынку на голове, и под мышками у нее смешно шевелилось. — Притомился мужик, во!
— А вы не смейтесь! — прикрикнула на нее тетка Поля, черноглазая, проворная, все время, казалось, пританцовывающая на месте. — Он за этот сон на целый вершок подрос! Ох, добрый мужик будет, вы поглядите, какой у него в коленках-то запас! Вон какая кость выпирает — огра-амадная! А?
Все заинтересованно стали смотреть на грязные, исцарапанные и худые колени Васька, и он сам с интересом воззрился на собственные колени, затем послюнявил палец и стал стирать с ноги проступившую из пореза засохшую кровь. Все почему-то опять засмеялись, а мать сказала:
— Подымайся, подымайся. Пора домой-то. Я и тебе веников навязала, не плестись же тебе порожнему, и без того весь день пролындал.
Васек было захныкал спросонья, мать укоризненно на него поглядела и покачала головой.
— Ну вот, — сказала она, — а еще мужик. Вон Андрейка, погляди, больше матери набрал. Небось с батькой-то в баню запросишься, а помочь не хочешь… Ну ладно, я и сама донесу, не бросать же добро.
Она уже хотела было присоединить маленькую, в несколько веников, вязку сына к своей, огромной, но Васек неожиданно резво вскочил.
— Я сам! Я сам! Сам! — закричал он, выдергивая из рук матери свою ношу, и скоро все они гуськом, друг за другом, шагали через луг и поле к поселку, дома Васек заносчиво сказал старшему брату Косте:
— А я веников принес! Больше Андрейки пер! Целых десять штук веников! Вот! А я себе палец содрал, глянь!
Он выставил большой палец на ноге с разорванной кожей и с запекшейся черной кровью, Костя, тоже белоголовый, с большими, растопыренными ушами, был всего лишь на два года старше брата, он готовился идти на следующий год в школу, знал все буквы, умел по слогам читать и оттого посматривал на младшего довольно снисходительно.
— Подумаешь, — сказал он с очень независимым видом и плюнул далеко в сторону, у него была щербатинка, и плевался он очень ловко и далеко, чему отчаянно завидовали его сверстники. — Палец! А ты знаешь, сколько четыре на четыре?
— Знаю! — отчаянно соврал Васек и тоже выставил вперед ногу и стал топать ею в сыпучую пыль.
— Ну, сколько?
— А вот и не скажу! — нашелся Васек и еще отчаяннее затопал, показывая свою совершеннейшую независимость…
— Знаешь, ха! Ни черта ты не знаешь! Четыре на четыре — шестнадцать! Съел?
— Двадцать! — неожиданно выкрикнул Васек, и лицо его вспыхнуло, затем так же внезапно побледнело. — Двадцать! Двадцать!
— Что? — опешил Костя, и уши его побелели и стали еще больше. Двадцать?
— Двадцать! Двадцать! — крепко зажмурившись, теперь почти завизжал Васек и яростно затопал обеими ногами, пыль из-под них брызнула во все стороны. Костя подскочил к нему, не говоря больше ни слова, с ходу влепил брату затрещину, тот от неожиданности кувыркнулся в пыль, взвизгнул, вскочил, и скоро оба брата, сцепившись, катались в пыли и отчаянно, как попало, молотили друг друга кулаками. И Васек, будучи моложе и слабее, почти все время ухитрялся быть поверх брата, да еще вдобавок укусил его за плечо. Выскочила мать, растащила братьев, влепив одному и другому несколько увесистых шлепков.
— Волчата! Волчата! — закричала она, хватая из-под изгороди ту самую ореховую палку, на которой Васек любил, гикая, носиться по поселку, братья брызнули в разные стороны. Мать трясла палкой, делая сердитое лицо, но долго не выдержала, рассмеялась.
— Идите сюда, — позвала она братьев. — Берите белье да в баню, батька вон уже истопил, а вы тут все дуроломите! А ну, давай живо, батька ждет. Исподнее чистое на лавке…
Васек восторженно подпрыгнул и, обо всем сразу забывая, опрометью бросился в избу, баниться вместе с отцом он любил больше всего на свете, Костя бросился за ним, и вскоре братья уже бежали огородом, разделявшим высоко поднявшиеся темно-зеленые от обильного навоза кустики картошки и многочисленные грядки всевозможной огородной всячины — и веселой редиски, и уже начинавших важно распространяться на грядках ранних огурцов, и разлапистых, приземистых пока кустиков помидоров, и задорно ощетинившегося лука, и домовитой, спокойной капусты, и тонкого подсолнечника, и кукурузы, и чеснока, и моркови, и какого-то особого сорта кабачков. И хотя Костя оказался позади Васьки, и хотя это было несправедливо, он не решался его обгонять, опасаясь попортить грядки, вот за это ни от отца, ни от матери пощады ждать было нечего.
Закопченные баньки стояли позади огородов, как раз вдоль берега протекавшей там небольшой речки Выры.
Стояли они довольно высоко, поднятые на дубовых сваях, не часто, но Выра, особенно после снежных зим, довольно бурно разливалась и, бывало, уносила какое-нибудь немудрящее, поставленное без должного предостережения строеньице, раздергивая его по бревну на разных речных завалах и по берегам.
Васек с Костей залетели в предбанник, небольшую клетушку с маленьким, в одно стекло, окошком и широкой лавкой во всю стену, они сразу увидели отца, сидевшего па лавке в одной исподней рубахе и почесывающего широкую, волосатую грудь, при виде запыхавшихся сыновей хмурый Герасим, только что вернувшийся из кузницы, где весь день сегодня ковал лошадей, а затем сваривал поломанные оси телег, сразу просветлел, он любил сыновей, родились они один за другим вскоре после женитьбы, и Герасим, хотя внешне и обращался с ними по-крестьянски, с грубоватой прямотой, души в них не чаял, Васек, на правах младшего, тотчас вскарабкался отцу на колени и со смехом стал тереть ладошками его колючие щеки, от отца вкусно и загадочно пахло дымом и окалиной, и Васек от наслаждения крепко зажмурился. Герасим стянул с него рубашку, штанишки и легонько шлепнул ниже спины, подталкивая к темной, разбухшей двери, сквозь щели которой прорывался крепкий пар.
— А ты, Костик? — спросил Герасим старшего. — Давай, давай, веником меня постегаешь, а то у Васька силенок пока маловато.
Костя с готовностью тотчас сбросил одежду и, сверкая белыми ягодицами, скрылся в душном чреве бани, Герасим стащил с себя пропахшую потом, заскорузлую под мышками рубаху и, заранее крякая от предстоящего удовольствия, присоединился к сыновьям. Сильно пахло распаренной, смолистой сосной, братья уже плескались друг в друга из деревянной шайки и радостно взвизгивали. Герасим сказал «а ну, поберегись!», зачерпнул ковш квасу из деревянного ведерка и шибанул его на раскаленные камни печи под дымящийся огромный котел с горячей водой. Костя с братом, повизгивая, ничком съехали на пол под лавку, а Герасим, посмеиваясь, хватая широко открытым ртом пахучий, раскаленный пар, полез на широкую полку у самого потолка, там он, охая и ворочаясь, долго лежал, истекая десятью потами и чувствуя, как все легче и легче становится тело, как приятно горит кожа и светлеет тяжелая от кузнечной гари голова, он то и дело требовал от сыновей пару погуще, и то Костя, то Васек срывались с места, плескали квасом на раскаленные камни, подбрасывали заодно смолистые или березовые поленья в огонь, заглянула в баню Евдокия, ошарашенно охнула от ударившего в лицо, в глаза яростного, жгучего пара.
— Ну оглашенные, ну оглашенные, — заругалась она, отскочив от двери подальше. — Да вы тут живые хоть, а?
— Дверь! Дверь! Дверь! — завопили в несколько голосов из бани, и Евдокия, торопливо приказав сыновьям вымыть головы с мылом, прихлопнула тяжелую, разбухшую дверь.
Герасим напарился до изнеможения, и от этого удивительно облегчающего хлебного пара он, казалось, даже изнутри весь высветлился от копоти и сажи, въевшихся в кожу за неделю, лицо очистилось и неузнаваемо побелело, когда уже терпеть было невмоготу, он расслабленно спустился вниз, зачерпнул ведром из бочки холодной воды и с отчаянным гоготом вылил на себя, с восхищением любуясь отцом, братья забились в самый дальний угол, опасаясь, что холодная вода достанет и до них. Васек, впрочем, и тут отличился: выбрав момент, он подскочил к бочке, зачерпнул ковшом воды и вылил себе на голову. Тысячи холодных пронзительных игл вонзились в его тело, он хотел закричать, но судорогой перехватило горло, и он лишь удушенно захрипел, Герасим подхватил сына на руки, увесисто шлепнул его по спине, и после этого к нему вернулся голос. Все рассмеялись, а больше всех сам Васек, и когда понемногу утихомирились, началось самое главное. В ход пошли распаренные, горячие березовые веники, вначале Герасим, сдерживая тяжелую руку, легонько похлестал сыновей, и кожа у них на спинах и по бокам нежно заалела, затем Герасим улегся на лавку ничком, и братья в два веника хлестали его изо всех сил, а он, охая и постанывая, все просил их трудиться поусерднее и не жалеть ни собственных рук, ни веника, ни его спины и кожи. После Герасим еще парился на полке, а затем, обмывшись сам, обмыл сыновей, и все стали одеваться.
Васька Герасим поставил на лавку, вытер его полотенцем, натянул рубашонку, у Васька кружилась голова, ноги стали слабыми, словно набитые пеньковыми хлопьями. Беззастенчиво рассматривая большое, в самой поре, по-мужскому размашистое тело отца, Васек чувствовал некоторую робость и удивление и в то же время испытывал безотчетную гордость, что у него такой большой и сильный отец.
— Бать, а бать, а я как вырасту, тоже такой буду? — спросил он, прикладывая горячую ладошку к широченной отцовской груди.
— Еще лучше будешь, — подтвердил Герасим и, взглянув на старшего, Костю, сопевшего рядом и все старавшегося залезть в ставшие узкими холщовые штанишки, засмеялся от хорошего настроения после бани, от радости жить и иметь вот таких сыновей. — Вы оба еще больше меня вымахаете, пообещал он. — Ну, давай, давай, давай выметывайся, а то еще матери побаниться надо. Темнеть скоро начнет.
В этот вечер Васек заснул прямо за столом, не допив молоко из кружки, Костя, сидевший рядом, уже готов был растолкать его, но мать перехватила его руку, и Герасим бережно отнес заснувшего сына на постель, у Васька во сне было встревоженное и какое-то стремительное лицо, он в это время, словно ласточка, несся, то взлетая высоко над землей, то опускаясь к ней так, что распластанными руками задевал шелковистую, мягкую траву, то вновь с жутким и сладким замиранием сердца взмывал вверх, к самым облакам. И это состояние восторженного, захватывающего дух полета продолжалось чуть ли не всю ночь.
Наутро, когда он проснулся, выбежал на улицу и увидел огромное, красное, едва-едва наполовину показавшееся из-за леса солнце, он сорвался и стремглав понесся вдоль улицы, разбрызгивая босыми ногами прохладную росу с травы, ощущение бездумной радости продолжалось у него вплоть до непонятного дня, когда в мире случилось чтото непоправимое и тяжкое, и он видел застывшее, незнакомое лицо матери, шагавшей рядом с отцом за скрипучей подводой, доверху загруженной мешками с продуктами, приспособленными для переноски под крепкие мужицкие плечи и спины, он вместе с другой мелюзгой бежал обочиной дороги долго, но ни мать, ни отец не оглянулись на него, и он обиделся, отстал, сел под какой-то куст и стал размазывать по лицу невольные, злые слезы, он не привык к такому невниманию, и сердце его от незаслуженной обиды жестко и больно колотилось. Отца, огромного, доброго, всемогущего, которого он любил больше всего на свете, он так никогда потом и не увидел, в последующие годы отец изредка приходил к нему лишь во сне, да и то в самые трудные, невыносимые моменты. И появлялся он всегда одинаково: стаскивал шапку и проходил прямо в нагольном полушубке в передний угол, садился на свое обычное место во главе стола и молча, пристально начинал смотреть именно на него, на Васька, в последний раз это случилось уже после немцев, перед самым концом войны, в апреле, когда Евдокии под вечер принесли казенную бумагу и она, едва взглянув на нее, цепляясь пальцами за стену, осела на пол, и Васек, теперь уже десятилетний парнишка, сам побледнел, глядя на похолодевшее лкцо матери, и, кинувшись к пей, что-то закричал. Он теребил ее, силился, обхватив за плечи, поднять, и мертвая тяжесть матери вселяла в него еще больший ужас.
— Мамка! Мамка! Мамка! — звал он не своим голосом и теперь, оставив попытки поднять ее, все старался ее напоить, вода из кружки выплескивалась матери на шею, на грудь, и это еще больше пугало Васька. Мать открыла глаза, они были пусты и бессмысленны, Васек притих, ждал.
Глаза Евдокии потемнели, брови сдвинулись, и под ее взглядом у Васька пересохло в горле.
— Нету теперь у нас батьки, сынок, — через силу пошевелила губами Евдокия, бессильно ерзая затылком по стене, опустошенное постоянной работой тело не подчинялось ей больше.
— Как нет? — с недоверием спросил Васек, отодвигаясь от нее.
— Нету, сынок. Еще в сорок третьем, когда мы под немцем-то были, на Курской дуге, пишут, вишь… в сражении за Орел, вот, сынок.
Васек взял у нее из рук извещение и по складам, прыгающими губами стал вполголоса читать, Евдокия, ецва дошел он до геройской гибели связиста сержанта Герасима Ивановича Крайнева, разрыдалась, и Васек долго не мог ее успокоить. В окно весело светило солнце, и его яркие пятна на полу на противоположной от окна стене все время двигались, жили. Евдокия глядела на эти пятна пустыми глазами, вот теперь она была окончательно убита, и в жизни ничего больше не оставалось, помогая себе непослушными руками, она тяжело встала и под неотступным, как бы оберегающим взглядом Васька вышла. Петух и три курнцы, первая живность после немцев во дворе, деловито вытягивая головы, заглядывали в сарай, готовясь взлететь на нашест. Евдокия тяжело опустилась на старую толстую колоду для рубки дров, привезенную еще задолго до войны Герасимом. Она медленно и пристально оглядела сарай, навес для дров, бревенчатый рубленый двор, ворота, покрытые поверху затейливыми узорами из толстой жести. Вот и от войны, дал бог, все уцелело, с другого конца поселок начисто выгорел, теперь в землянках пробавляются, а тут все уцелело, даже жестяной конек на крыше, ребятишки как радовались, когда Герасим прибивал эту свою детскую выдумку. Все уцелело, а хозяина, мужика — больше нет, вот словно кто взял и вынул душу, теперь хоть живи, хоть умирай.
В колоду был воткнут топор. Евдокия выдернула его, попробовала большим пальцем острие и стала рубить хворост, наваленный рядом, она же сама за зиму и натаскала его из лесу на салазках. Она рубила методично и ровно, сильно взмахивая топором, и не заметила сгустившейся окончательно темноты. Что-то отвлекло ее внимание, она оглянулась. Оба ее сына, и Васек, и особенно вытянувшийся за последний год Костя, стояли рядом и молча смотрели на нее. Страх, слепое бабье отчаяние и нежность захлестнули ее душу, у младшего, у Васька, были совершенно отцовы глаза, добрые, светлые, в минуты гнева словно вспыхивающие изнутри угрюмым, колючим огнем.
Она встала с колен, воткнула топор в колоду.
— Пошли ужинать, — сказала она. — Поздно…
Это был особенный и тягостный вечер, когда, узнав о похоронном извещении, в дом к Евдокии набились соседки, родные, все приходили, рассаживались, ни слова не говоря, по лавкам, пришла и кума Пелагея, и тетка Анисиха, и чумазая Катька-трактористка, обычно веселая, неунывающая баба, полная и круглая телом, ее никакая нужда, никакая война не брали, пришел и древний дед Агей, и уже вернувшийся по чистой однорукий Федор Климентьев, тотчас и выбранный в Вырубках председателем.
Все вначале сидели, молчали, вполголоса читали похоронную, переходившую из рук в руки, рассуждали, что до этой Прохоровки совсем ведь рукой подать, верст сто, не больше, а потом потихоньку разговорились. Стали вспоминать, какой Герасим Крайнев был добрый кузнец и хозяин, кума Пелагея вспомнила, какую ей кум Герасим тяпку сделал-до сих пор износу нет, а остра, как бритва, дед Агей поддакнул, что мастер Герасим был первостатейный и что никто так не умел наварить пятку на порванную косу. Слушая, Евдокия крепилась, крепилась, да и не выдержала, потекли непрошеные слезы. Плакала она на этот раз тихо, что-то словно облегчало и размягчало ей душу, и отпустило захолонувшее сердце, она поглядывала на сыновей, старавшихся не пропустить об отце ни одного слова. И Евдокия покорилась жизни, и душа ее отмякла, соседи и родные разошлись, ночь прошла, и дни покатились в непрестанной работе, казалось, одинаковые. Работала в колхозе, ежедневно вскапывала свою норму в пять соток, Костя, как и все его сверстники, тоже пахал на добродушном трофейном немецком битюге по кличке Чалый, силенок у него для такой тяжелой, мужской работы было маловато, и Евдокия жалела его, подсовывала за обедом, ужином кусок побольше да получше, по вечерам Евдокия возилась у себя в огороде. Сегодня сеяла морковку и свеклу, завтра огурцы, сажала лук, помидоры, капусту, еще до зари вскакивала, чтобы до колхозной работы полить грядки, приготовить какой-нибудь завтрак, похлебку из молодой крапивы, щавеля, горсти ржаной муки да мелко растертого круто сваренного куриного яйца, все мечтала о новине, когда пойдет молодая картошка, огурчики, лучок…
День был в самой середине, с легкими редкими облаками по всему небу, майское разнотравье захватывало леса, луга, запустевшие за войну поля. Цвели сады, словно облитые бледно-розовым пламенем, яблони на заре одуряюще пахли. Вишенье уже начало облетать, густо устилая парившую землю, завязь все сильнее обсыпала деревья.
С натугой выворачивая лопатой проросшие корнями глыбы земли, Евдокия, время от времени придерживаясь за поясницу, с трудом выпрямлялась, отдыхала, рядом с ней билась над своей нормой кума Пелагея, чуть подальше Анисиха, от леса начинал тянуть ветерок, и было приятно подставить ему взмокшее лицо и грудь. Над лесом все усиливалась и расползалась тяжелая синева, а там и неясное, далекое еще погромыхивание услышала Евдокия и тут же, оглянувшись, наметила рядом на лугу, к которому спускалось поле, густой куст разросшегося ивняка на случай грозы и дождя, в небе над лесом вспыхнула молодая трехцветная радуга, и теперь стала отчетливо видна вызревающая, непрерывно клубящаяся, пронизываемая беззвучными пока извивами молний грозовая туча. Все на глазах менялось: воздух стал плотнее, по цветущему лугу пошли переливаться волны густой травы, от темневшей тучи над лесом в остальном небе синь стала еще гуще и как бы ярче, уже во всем ясно обозначилось противоборство не подвластных никакому предвидению слепых сил, томление от этого распространялось на все живое. Исчезли бабочки, примолкли птицы, и только неутомимые ласточки, собравшись в одном месте, беспорядочно и густо чертили небо. Ударил первый порыв ветра, и тополя вокруг бывшего помещичьего сада, высаженные в два ряда, враз склонились острыми вершинами в одну сторону и беспокойно застонали.
Евдокия услышала чей-то крик и грохот колес телеги по неровной земле, она повернула голову, и что-то невыносимо острое вошло в сердце.
— Евдокия! Евдокия! — кричал дед Агей, колхозный конюх, и бороду у него беспорядочно трепало ветром. — Скорей! Скорей садись!
— Что? — выдохнула из себя Евдокия все с тем же острым гвоздем в сердце, мешавшим дышать, она шагнула к повозке, споткнулась и остановилась, беспомощно придерживая разрывавшуюся грудь.
— Садись! Садись! Скорей! — опять закричал дед Агей, и вдруг какая-то сила словно перебросила Евдокию с одного места на другое, она уже сидела в повозке, ухватившись помертвелыми руками за решетку, и повозка уже мчалась по полю, затем по ухабистой дороге, а дед Агей безжалостно, не переводя дух, стегал лошадь кнутом, и теперь Евдокия уже спрашивать ни о чем не могла. За повозкой вслед со всего поля побежали бабы, но до поселка было с версту, и они скоро отстали, а дед Агей все гнал хрипящую лошадь и ни разу не повернулся к Евдокии, ни разу не взглянул на нее. Они успели. Уже собравшиеся у крыльца люди при виде Евдокии поспешно, не сводя с нее глаз, расступились, говор смолк, и она прошла через этот живой пропустивший ее и вновь сомкнувшийся проход в дом, старший, Костя, накрытый до подбородка белой скатертью, лежал в горнице на большом дубовом столе, сделанном еще до войны Герасимом для праздников, чтобы можно было побольше усадить гостей.
Тут же был однорукий председатель, еще два-три мужика, вернувшихся с войны по чистой, еще кто-то был в горнице. Тяжело и просто пахло кровью.
— Евдокия, Евдокия, — встревоженно сказал председатель, шагнув к ней навстречу, — на пахоте, мина проклятая… коня в куски…
Она ничего не слышала, она видела лишь глаза сына, притягивавшие ее все ближе и ближе. Она подошла вплотную, осторожно подняла скатерть, весь низ живота у Кости был толсто обмотан каким-то тряпьем, всем, что попало под руку мужикам. Задавив рвущийся крик, даже не изменившись в лице при виде расползавшегося на глазах по неуклюжей повязке густого кровавого пятна, она опустила край скатерти.
— За доктором послали, — услышала она голос председателя. — Скоро должны быть.
Евдокия ничего не ответила, взяла бледную руку сына с успевшей уже по-мужски загрубеть ладонью и уже больше не отпускала ее. Кто-то придвинул ей табурет, и она села. Васек, напуганный и жалкий, хотел было протиснуться к ней поближе, но она не заметила его и даже отстранила от себя, как нечто чужое и ненужное, она не отрывалась от невероятно белого, какого-то мраморного, почти светящегося лица старшего. И ни сын, ни мать ни на что больше не обращали внимания, они сейчас не могли нарушить той последней и нерасторжимой связи, что установилась между ними незримо для других, для них существовала и была важна только эта последняя связь, и это уже не было смертью, не было даже отчаянием или прощанием, это было нечто такое, что могли понимать и чувствовать только они двое.
— Потерпи, сыночек, — сказала Евдокия, не выпуская руки сына, бессознательно стараясь этим как бы из себя перелить в сына неостановимо иссякающую в его теле жизненную силу. — Скоро доктора привезут, уже поехали…
— А мне не больно, мам, — ответил Костя, и было видно, что ему и в самом деле не больно. — Вот дышать плохо… нечем.
— Пройдет, пройдет, — постаралась успокоить его Евдокия. — Выпей водички.
Она поднесла алюминиевую кружку к губам сына (они тоже уже начинали терять свой цвет), и он с трудом глотнул воды, происходило нечто такое, чего нельзя было объяснить, никто не разговаривал, стояла тяжкая тишина, и Васек тоже боялся шевельнуться.
— Мам, ты мои тетрадки Ваське отдай, пусть возьмет, — попросил вдруг Костя, и Евдокии показалось, что он глядит куда-то сквозь нее. — Пусть они у него будут…
— Да что ты, сынок! Сейчас доктор приедет, — сказала, с трудом шевеля губами, Евдокия, и сердце у нее сжала какая-то непереносимая жуть.
— Отдашь, ладно? — переспросил Костя, не отрывая от ее лица голубых, теперь словно лучащихся и огромных глаз.
— Отдам, отдам, — твердо пообещала она, и между ними словно опала последняя преграда.
— Тяжко, ох, мам! Тяжко… тяжко… — прошептал Костя. — Хоть бы поскорей, — добавил он уже совсем невнятно, и почти сразу что-то случилось, Васек, пятясь, увидел, как брат (тал мучительно что-то хватать губами. Он искал воздуха и не находил его и сразу вытянулся, затих и больше не шевелился. И только тогда Евдокия, непривычно чужая, почти тяжелая в своем просветленном спокойствии в общении с вечностью, шевельнулась и, не отнимая своей руки из мертвых уже рук сына, второй рукой потянулась и закрыла ему глаза. И тогда кто-то из баб невыносимо и долго закричал. Все вздрогнули, и только Евдокия медленно-медленно повернула голову, и под ее взглядом опять все стихло.
— Не кричите, не надо, — попросила она. — Не надо… мое это… уходите… все уходите, — потребовала она, и изба опустела. И Васек под ее взглядом тоже попятился и вышел, он не мог произнести ни слова, и когда к нему, чтото тихо говоря, потянулась соседка, тетка Пелагея, он в страхе отскочил в сторону и, не разбирая дороги, бросился в сад, затем в огород, в поле, прямо в сверкающий майский дождь и гул, в первый и последний раз он боялся людей.
В эту ночь ветер так и не стих, не стих и дождь: он весело и косо летел в окна. К рассвету тьма еще усилилась, и словно предродовое томление охватило мир, Василий всю эту тягостную ночь спал и не спал, он все время слышал голоса старух, вспоминавших о пролетевшей жизни, вспоминавших о покойнице, о том, какой она была работящей, сколько лиха хлебнула…
Василий открыл глаза и долго не мог понять, где он и что с ним, еще дрожало в душе что-то солнечное, из детства, хотелось крепко зажмуриться и опять перешагнуть в те далекие времена, когда была мать и дни начинались с неясного, радостного ощущения новых дел и открытий, с жадного опасения чего-нибудь не пропустить, чего-то не успеть. Но вслед за этим в него все настойчивее и безраздельней, вытесняя остальное, устремился иной поток.
Вначале это были как будто еще более усилившиеся порывы дождя и ветра, весело бесновавшиеся за стенами дома, затем далекое, словно с другого конца земли, пение петуха. Теперь он совсем проснулся, широко открыл глаза, кирпичи под ним были почти горячими, и он с наслаждением впитывал в себя это мягкое, глубокое тепло. Он лежал и припоминал, что с ним происходило ночью и почему у него сейчас такое слабое, размягченное сердце, ах да, это старухи всю ночь судачили о своем горьком житье-бытье, вспоминали прошлое, воину, мать-покойницу, припоминали и то, каким он был сызмальства уросливым да непослушным, неожиданно для себя Василий широко и растерянно улыбнулся, сейчас у него было никогда не испытываемое ранее чувство беззащитности перед жизнью, перед пришедшим днем, перед этим ветром, казались еще более усилившимся к утру, и бесконечным дождем — он был неслышен, но угадывался по глуше, чем обычно, доносившимся звукам и по особому ощущению тяжести, разлитому в самом воздухе. Кроме того, в промежутках между стонущими ударами ветра начинал ясно различаться неровный, но непрерывный, дружный гул железа крыши, на которую также непрерывно рушился дождь. Василий еще полежал, невольно стараясь продлить это неясное ощущение детства, надежды, безопасности, той бездумной уверенности, что у тебя есть мать, отец, что они большие, сильные, а значит, ничего плохого быть не может…
Хриплый, прокуренный мужской голос, раздавшийся вслед за глухим хлопаньем двери, сразу отрезвил его, он узнал этот голос и вздохнул. Пришел тот самый Андрей Бочков, его однолеток, вначале вместе с ним бегавший босиком по поселку, затем насмерть схлестнувшийся с ним за Валентину, тогда еще остроглазую, с длинными рыжеватыми косами шестнадцатилетнюю девчонку, с проснувшимся уже женским лукавством, одинаково манившим и одного и другого, Андрей как-то даже признался, что сидел уже после службы в армии за кустами с дробовиком, ожидал, думая, что домой Василий будет возвращаться один, а он, Василий, еще в армейской форме, опьяненный свободой, близостью Валентины, несмотря на уклончивые шутки выбравшей все-таки именно его, шел дурачась, обняв за плечи и прижимая к себе двух наперебой голосивших частушки девчат. Андрей, дождавшись, когда веселая компания скрылась вдали, выскочил на дорогу с облегчающим душу матом и, перехватив дробовик за прохладные стволы, хрястнул им о телеграфный столб, долго прислушиваясь затем к гудевшим проводам. Давно уже все прошло, многое забылось, Андрей Бочков в тот же год, что и сам Василий, женился, долго работал комбайнером, но после несчастного случая охромел и теперь вот уже лет восемь был секретарем сельсовета, регистрировал рождения, свадьбы и смерти, лихо, шумно подышав на круглый диск сельсоветовской печати, вдохновенно выкатывая глаза, пришлепывал ее на всевозможные справки и квитанции. Он любил, чтобы его непременно звали и на свадьбы, и на крестины, и все сокрушался, что и те и другие случаются все реже.
Василий очень удивился, услышав первым делом именно его бодрый, с хрипотцой голос в это утро, прямо на печи натянув на себя просохшие штаны и рубаху, он спустился вниз. На полу по босым ногам потянуло холодом, и он за ситцевой занавеской, отделявшей небольшое пространство перед печью, обулся, на ощупь причесался и только затем откинул занавеску. Андрей, приземистый, начавший сутулиться от непривычно легкой конторской работы, стягивал с себя мокрый брезентовый плащ, на щеках у него поблескивала в электрическом свете короткая рыжеватая щетина.
— А-а, здравствуй, Василий, — с некоторой присущей моменту медлительностью сказал Андрей, бросил плащ на лавку и, шагнув к Василию, протянул ему руку, ладонь у него была жесткая, квадратная.
— Будь здоров.
— Дождь зарядил, — пожаловался Андрей, сторонясь и пропуская бабку Пелагею с охапкой посмуглевших от долгого лежания березовых поленьев, на которых густо поблескивали капли дождя, старухи уже начинали хлопотать о поминальном обеде. — Теперь весь снег добьет, — сказал Андрей, с затаенным интересом всматриваясь в лицо Василия. — А я услыхал, значит, про Евдокию Антоновну… надо поехать помочь, думаю, то, другое… как же, могилку там надо, развезло вон как… Она, Евдокия-то Антоновна, в колхозе с начала самого… Эх, поработала-то, поработала!
Он вздохнул, кивнул на полуприкрытую дверь в горницу, моргая и стараясь пересилить какое-то свое внутреннее волнение, и чувство настороженности и отчужденности к нему, возникшее вначале у Василия, сразу прошло.
— Спасибо, — уронил Василий, про себя еще раз удивляясь, каким неведомым образом расходятся в деревне вести, и пригласил Андрея к столу погреться после такой дороги. Андреи отказался.
— Успеем еще, — остановил он Василия. — Ни свет ни заря, да и не заработали пока. Ты лучше расскажи, как же так второпях-то, — опять кивнул он на дверь в горницу- Уезжала-то по осени, такая живая была.
— А она, — Василий тоже взглянул в сторону двери, — всегда так, второпях да второпях. И померла второпях, вроде и не болела, полежала недели две, и конец.
Шумно ввалился с улицы Степан, развел руками, он не привык сидеть сложа руки и теперь не знал, куда себя приткнуть.
— Попали мы, видать, в переплет, — с растерянным и в то же время озабоченно бодрым выражением лица сообщил он. — Все развезло… ох, как льет! А? Вот это весна! Отсюда теперь и пехом не выберешься.
— После обеда сын на тракторе приедет, — сказал Андрей, теперь с таким же цепким любопытством присматриваясь и к Степану и в то же время опять начиная усиленно моргать-раньше такого Василий за ним не помнил. — Я ему сказал подскочить, ничего, вытянем на бетон. Тут вот задача могилу выкопать, а это все пустяк, у нас теперь техники полно.
— До кладбища далеко? — спросил Степан.
— Погост у нас с версту, — шевельнул короткими, ставшими с возрастом почти бесцветными бровями Андрей и перевел взгляд со Степана на Василия, как бы опять стараясь отметить в нем что-то неизвестное. — Развиднеется, и пойдем ладить последнюю домовину Евдокии Антоновне… Я свою мать пять лет тому похоронил, — вспомнил Андрей и, решившись наконец, обдернул на себе пиджак, — Пойду взглянуть…
Он прошел в горницу, постоял возле гроба, невольно прислушиваясь к неразборчивому бормотанию старухи, читавшей псалтырь, и минуты через две вернулся в кухню.
— Да — сказал он неопределенно, присаживаясь на лавку рядом с Василием. — Что уж тут, все там будем…
Разговор не вязался, и все слегка оживились, когда окна с непрерывно бегущими по стеклам потоками воды наконец стали мутнеть, затем серо проступили, на глазах светлея, и на столе появился приготовленный старухами завтрак для мужиков, собиравшихся идти копать могилу.
Выпили по стаканчику, поели и, натянув длинные брезентовые плащи, вышли на крыльцо. Степан, не желая оставаться со старухами, ставшими необычно молчаливыми, как бы еще более старыми и уродливыми, порывался идти тоже, но Василий уговаривал его оставаться.
— А что я буду делать? — удивился Степан. — До обеда-то?
— Да вымокнешь, а тебе вон сколько назад пилить…
— Оставайся, — предложил и Андрей. — Один осилю, что там. Василий рядом постоит, для компании, ему-то все одно рыть могилу нельзя, все-таки мать родная. У нас так от дедовских времен повелось. Что там, не с таким справлялись. Вон старухам помочь надо, воды там, дров…
— Нет, пойду, — решительно сказал Степан, и, пожалуй, с этой минуты Василия опять охватила пронзительная, тревожная тишина, что-то опять сдвинулось в душе, как это он сразу не вспомнил, что, по старому деревенскому поверью, неукоснительно соблюдавшемуся и в Вырубках, близкие родственники покойника не должны были рыть ему могилу, не могли нести его до погоста.
— Ну что ж, пойдем, Степан, — сказал он, горбясь. — Что правда, то правда, одному трудновато будет, земля-то еще не отошла вглубь.
В последний момент бабка Пелагея остановила Василия, придерживая за рукав пальто, долго объясняла ему, в каком месте нужно рыть могилу, и все заглядывала ему в глаза: понял ли?
— Да знаю, знаю, мать еще месяц назад об этом говорила, — сказал Василий. — Все сделаем как надо, Пелагея Павловна…
— Ты ж смотри, — наказывала опять и опять бабка Пелагея, как это часто бывает, с недоверием старого человека к неразумной молодости. — Евдокия завсегда говорила своей матке, твоей, значится, бабке, покойной, царствие ей небесное, я ее, как живую, вижу, — бабка Пелагея, пристально уставившись перед собою немигающими, неприятными в этот момент, неподвижными глазами, словно она увидела нечто совершенно исключительное, обмахнула себя мелким крестом, — чтоб ее под бок матке-то положить. А там, на погосте, в том углу ракитка от земли прямо в два бока раскорячена.
— Знаю, знаю, — успокоил ее еще раз Василий. — Там еще мой отец крест кованый ставил…
— Во, во! — обрадовалась бабка Пелагея. — Прямо под ракиткой и могилка бабки твоей, Марьи, а вы копайте с этого боку, от дороги.
Василий кивнул, взяли лопаты, прихватили лом и, нырнув под дождь, натягивая глубже капюшоны плащей, тяжело зашлепали в сторону от поселка, не выбирая дороги, потому что никакой дороги все равно не было, везде разлилась вода, она покрывала всю землю и заполняла воздух, а неба не было видно, серая, порывистая, летучая пелена дождя охватывала их со всех сторон. В этом было и что-то успокаивающее, усыпляющее, тихо и покойно стало на душе у Василия, он больше не замечал ни дождя, ни ветра, ни изредка перебрасывающихся словами Степана с Андреем, идущих несколько впереди по размякавшему, жадно вбиравшему в себя весенние воды полю. Это по-прежнему была все та же обычная жизнь, и она никогда не прекращалась, и запахи дождя, отходившей от зимнего оцепенения земли, первой свежей весенней прели сейчас лишь усиливали это извечное движение к какому-то всегда недосягаемому рубежу. Матери, понятного, самого близкого человека, подчас надоедавшей ему своими причитаниями и деревенскими, основанными на самых простых и верных вещах наставлениями, больше не было, от мысли, что теперь впереди открытое, никем не защищенное пространство, он даже приостановился. Он опять почувствовал, как тяжело шевельнулось сердце. С уходом матери впереди действительно никого больше не было, теперь сам он вышел на первый рубеж, и это было главным.
Прошагать дальше и дольше, не спрашивая зачем и для чего, стиснуть зубы, вот что теперь ему осталось и чего никогда не понимали и никогда не поймут сыновья в отношении отцов, да ведь он и сам не понимал этого вот до последней минуты.
Василий всей ладонью смахнул воду с лица. Впереди, тяжело чавкая в размокшей земле, затихали шаги Степана с Андреем, частый дождь как бы затягивал мутной пеленой их фигуры, вот они уже еле-еле различаются, а вот и совсем исчезли. Что-то заставило его поднять глаза к небу. Он увидел сквозь клубящийся мрак низких туч пока еще чуть-чуть проступившую голубизну, но ее тотчас затянуло. Василий не торопясь двинулся дальше, все светлело, низкие сплошные тучи словно отодвигались от земли выше, теперь в них то тут, то там просвечивало.
Вскоре подошли и к погосту, занимавшему склон пологого песчаного холма. Погост существовал столько же, сколько и сам поселок, и столетние ракиты, высаженные вокруг него, вероятно, еще прапрадедами нынешних вырубковцев, стояли вокруг погоста частыми, невероятной толщины колоннами, они давно заматерели и остановились в росте, гниль проела в них многочисленные дупла, заселяемые весной самой разной крылатой живностью, но они вызывали не чувство уродливости, а скорее невольное чувство удивления и уважения. Каждую весну они создавали вокруг погоста густой зеленый заслон, и земля под ними была мшистая, заваленная омертвевшими и опавшими сучьями, этот клочок земли, окруженный старыми ракитами, был обособлен от остальной жизни, и не только потому, что находился в стороне от любых дорог и был окружен двух-, трехобхватными ракитами, от старости с громадными наростами самых необыкновенных форм, кажущихся на первый взгляд уродливыми провалами дупел, — зимой это были убежища сычей, сов, воробьев, в теплые же майские вечера из них бесшумно вылетали на чутких перепончатых крыльях летучие мыши. Вокруг погоста существовала еще и невидимая, разделявшая мир живых и уже умерших черта.
Сейчас, подходя к ракитам с запрокинутыми в одну сторону по ветру голыми и гибкими верхними ветвями, Василий испытывал двоякое состояние: он уже устал и отяжелел от жизни, знал, что стоит на самой передовой линии, разделявшей все на жизнь и на смерть, и все время, с тех самых пор, как к нему пришла эта мысль, думал об этом, но в то же время, начиная различать певучий, непрерывный посвист ветра в ракитах, он невольно подобрался, что-то проглянуло и все сильнее стало звучать из самого детства, когда он вместе со своими сверстниками, с тем же Андреем, если случалось, далеко обходил погост стороной, а когда по вечерам с погоста доносились сычиное уханье и плач, сердце у него невольно сжималось, и не от страха. Это было выше и глубже страха, это был еще не осознанный, живущий и копившийся в десятках и сотнях поколений, бесконечно передающийся от отца к сыну трепет живой жизни перед тайной исчезновения, перед тайной конца…
Василий вздохнул, он стоял уже под самыми ракитами, вдавив тяжелые сапоги в раскисшую землю, дождь уменьшился и даже почти совсем прекратился, и небо теперь почти наполовину было в голубых, веселых, стремительно куда-то несущихся провалах, и солнце, теплое, густое, то показывалось, то пропадало за рваными облаками. Не это его поразило. Размокшая старая кора ракит, отваливаясь темными, влажными кусками, щемяще-знакомо пахла предвещающей скорый разгар обновления, бодрой, здоровой прелью. Но главное было в самих ракитах.
Кора на них, там, где она не была покрыта многолетними толстыми полопавшимися струпьями, а оставалась серо-зеленой и гладкой, уже неуловимо изменила свой цвет: нежный, зеленый, живой румянец появился в ней и просвечивал словно изнутри, и уже мелким торжествующим бисером проснувшихся почек были усыпаны самые тонкие и подвижные ветви ракит, и весенняя зелень была там еще ярче, два-три теплых дня-и ракиты были готовы бесшумно взорваться зеленым пламенем, выбросить невзрачные бледно-желтые сережки, чтобы еще (какой же раз под этим небом?) подтвердить незыблемость и радость жизни…
Разрозненные тучи под слегка изменившимся ветром как бы таяли в небе, становились все выше, шире и просторнее распахивались окрестности, громада того самого леса, на опушке которого мать-покойница с остальными бабами всегда заготавливала встарь березовые веники, выделялась резко, рельефно, и этот далекий лес готов был вспыхнуть первой легкой зеленой дымкой. А в полях и лугах буйствовали воды, снега было много в эту зиму, но сошел он дружно, и теперь вода заливала низины, широко покрывала луга, переполняла овраги и балки. С песчаного холма хорошо был виден и поселок, но лишь над одной из крыш весело дымила труба, ветер тотчас резво подхватывал дым и рваными клочьями относил его в сторону. Это была крыша родного дома, и Василий долго не мог оторваться от нее, затем решительно, сердясь на себя за неожиданно подступившую слабость, повернулся и, пригнувшись, пробрался под низко нависшими ветвями ракиты на кладбище. Он подошел к Степану с Андреем, Степан. гулко ахая, высоко вскидывая тяжелый лом, долбил мерзлоту, в одном месте он уже пробил ее и откалывал смерзшуюся землю большими кусками. Андрей руками отбрасывал эти куски в сторону.
— Порядок! — сказал оживленно Андрей, выкидывая из продолговатой, уже четко обозначенной ямы очередную увесистую глыбу мерзлоты. — Теперь пойдет, теперь нам что… Покурим, Степан.
— Прямо какая-то морская погода, — сказал Степан, вышагивая из ямы и втыкая лопату в землю. — На глазах все переменилось, не успели моргнуть, уже солнце.
— Повезло, — жадно затянулся дымом Андрей. — Воды тут, в могиле, ясно, не было бы все одно, песок.
— Мать наказывала неглубоко, тяжести лишней боялась, — вспомнил Василий, и все помолчали.
— А мы глубоко и не станем, — сказал Андрей. — Метра полтора хватит. Тут на час и трудов-то. А ты бы, Василий, шел домой, крест бы пока вырубил…
— Крест?
— Поставить-то на могилке что-то надо.
— Надо, — согласился Василий, и тяжелое лицо его несколько оживилось, безделье начинало томить его, и он в душе обрадовался совету Андрея. Он кивнул и через полчаса был уже у себя во дворе и принялся за дело. Он не стал заходить в дом, лишь отметил про себя, что народу прибавилось, появилось еще несколько старух с центральной усадьбы, мелькнуло два или три лица баб помоложе, и все что-то делали, суетились, выходили зачем-то во двор (Василий знал: взглянуть на него и поздороваться), но он, ни на что не обращая внимания, продолжал обтесывать крепкие, сухие дубовые бревна, он думал, что крест должен быть тяжелым и простоит долго.
Вернулись Андрей со Степаном, и тотчас послышался тяжелый рокот подходившего трактора. Крест был почти готов, оставалось развести костер обжечь ему ногу, чтобы дольше не поддавался земле и гнили, а затем приладить и скрепить его поперечины. Но Василия оттеснили и от этой работы, появилось несколько молодых, в засаленных ватниках мужиков, они живо развели костер в огороде, двое из них подхватили тяжелый дубовый брус и потащили его к огню.
Выпрямившись и отдыхая, Василий глядел им вслед, в это время появился Андрей.
— Покурим, а? — предложил он. — Теперь-то что, вон подвалило народу. Эй, Петр! — окликнул он, и к ним, явно не торопясь и показывая свой независимый норов, подошел парень лет двадцати двух, удивительно напоминавший Андрея-своего отца-в молодости. Только глаза с шальной, горячей искрой были вроде побольше отцовых и рот был покрупнее, с капризно изогнутой верхней толстой губой, и от этого выражение лица у парня приобретало как бы некую заносчивость.
— Вон видишь, какого выстругал, — любуясь сыном, грубовато сказал Андреи. — Как же, вчера был, значит, Петькой, а сейчас уже и Петр Андреевич…
— Здравствуй, дядька Василий, — протянул руку парень, не скрывая легкого удивления и любопытства, Василий пожал ее.. — Что ты, дядька Василий, один? Иван почему не приехал?
— Иван-то на службе, в армии, — сказал Василий. — А жена на работе, никак нельзя было. Ты как раздобрел-то, а, Петр Андреевич? — неловко перевел он разговор, потому что пришлось говорить о жене неправду.
— Ванька еще в армии? — удивился Петр. — Мы же с ним одногодки, а мне вон уже дома до чертиков надоело.
Хоть опять куда на сверхсрочную просись…
— У него на год отсрочка была, — пояснил Василий.
— А-а, ну тогда вопросов нет, — деловито уточнил Петр. — А мне отец сказал приехать, думал, увижу Ивана… Ну, где шофер, кого здесь на бетонку вытягивать надо? — сразу же перешел он к делу. — А то мне назад надо, за силосом ехать.
— Да, ему надо поесть и ехать. Что зря время терять, сейчас я скажу. Василий двинулся было к дому, но, услыхав позвякиванье, вышел за ворота на улицу и увидел Степана возле машины.
— Ну что, Степан, — сказал Василий, подходя к нему, — иди поешь, ехать надо… Тебя сейчас на бетонку вон выволокут, к вечеру дома будешь.
— А ты как же? — спросил Степан, складывая на место гаечные ключи и вытирая руки промасленной ветошью. — Ехать надо, а вот Валентине что сказать?
— Так и скажешь, как оно есть. — Василий попытался показать, что по-прежнему сердит на жену, но у него ничего не получилось, и он устало вздохнул. — Не могу же я все бросить на полпути. Дня два еще пробуду, а тебе надо ехать.
— Я думал, похороним, а уж там и в дорогу.
— Теперь людей хватит, поезжай, — сказал Василий и хотел было идти в дом, но не успел, на крыльце появилась бабка Пелагея и позвала:
— Василий Герасимович, поди сюда! Сейчас выносить будем…
Точно не услышав или не разобрав, Василий посмотрел на нее, на дом, на сырую крышу, на продолжавшую дымить трубу, он думал, что давно успокоился и больше его ничем ие расшевелить, но это было не так, он понял. Нужно было по-прежнему сдерживать себя. Бабка Пелагея, введенная в недоумение его молчанием и думая, что он не расслышал, вторично позвала его. Василий тяжело взошел на крыльцо, пригнувшись, шагнул вслед за бабкой Пелагеей в сени. Теперь он как-то душою совершенно отстранился от всего, что происходило вокруг, то, что нужно было сделать, должно было быть сделано. Он был благодарен всем этим людям, пришедшим помочь ему, но он не мог об этом сказать, не мог этого выразить, что-то словно перехватило у него душу, рассекло ее на две половины, и она стала пустой и холодной. Он почти равнодушно смотрел, как выносили гроб с матерью на улицу, как ставили его на две табуретки и потом на двух длинных кусках грубого полотна подняли и понесли. Мать высохла за время болезни, и тяжесть была невелика. Его торопливо догнал Степан и тихо сказал, что он в самом деле решил ехать, и Василий сдержанно кивнул и сразу забыл о нем. Подобную картину он не раз видел в своей жизни, но сейчас видел все это как-то иначе. Он шел вслед за гробом, сжав шапку в кулаке, небо в середине теперь широко открылось и было совершенно чистым, ослепительно веселое солнце в самой середине этой голубизны ярко отражалось в каждом налитом водой углублении на земле. Вышли за поселок и свернули в поле, несмотря на помощь Андрея и трех или четырех мужиков с центральной усадьбы, нести гроб по размокшему полю было тяжело, старухи, все как одна в новых резиновых сапогах, еле плелись вслед, помогая себе палками, и только та самая монашенка с псалтырем в руках, поблескивая толстыми линзами очков, продолжая добросовестно выполнять свое дело, даже как бы гордясь этой своей добровольной добросовестностью, невозмутимо шла впереди всей процессии. Когда носильщики, останавливаясь передохнуть, ставили гроб на две табуретки, предусмотрительно захваченные с собою старухами, монашенка деловито поправляла очки, поворачивалась к гробу, раскрывала псалтырь и торжественно, нараспев начинала читать, Василий, останавливаясь, всякий раз смотрел в важное и значительное лицо читающей монашенки, но до него неясно доходили лишь отдельные слова о каких-то мучениях, о какой-то неведомой пустыне, об искушении от диавола, и составить что-либо вразумительное и целостное Василий не мог. Он и не старался, ему было все равно, что читает старуха и что это значит, его томил свой, так и оставшийся невыплаченным долг перед матерью, а следовательно, и перед своей совестью.
Он сейчас непрерывно думал о том, как пятнадцать лет назад уезжал в город, так и не сумев уговорить мать ехать вместе с ними, и как Валентина настаивала разделить дом, оставить матери одну кухню да погреб, а все остальное продать — пятнадцать лет тому дома в поселке еще были в цене, это теперь они никому не нужны, стоят и гниют, заброшенные. Валентина даже грозила тогда разводом, и он, едва не поддавшись, в самый последний момент опомнился. Мать была умна, она все понимала, и ее скупые слова: «Спасибо, сынок, хоть не придется теперь на старости лет по чужим углам таскаться» до сих пор помнились ему и обжигали стыдом, нельзя было допускать до таких слов. А как она его уговаривала не бросать институт, выдюжить, на все свое хозяйство махнула рукой, в город прикатила, под конец от досады даже расплакалась. Тогда Василий пообещал, что это отступление на время, и сам этому искренне верил, а мать оказалась, как всегда, права, трудно нагонять упущенное…
Но сейчас, с трудом вытаскивая из разомлевшей земли тяжелые от налипшей на них грязи сапоги, он мучился от другого: он думал, что, если бы смог тогда уговорить мать переехать в город, она бы, пожалуй, и еще протянула, а то ведь что у нее за жизнь была последние годы? Все одна да одна, словом не с кем перемолвиться, печка, да за водой к колодцу, да кур держала, поросенка, огород-вот и загнала себя окончательно. Приезжая по осени, он, не раздумывая, нагружал машину мешками с картошкой, ящиками яблок, различным вареньем да соленьями, салом, он ни разу и не задумался, как все это доставалось матери…
Гроб вновь подняли и понесли, Василий медленно зашагал следом, постепенно сердце начало томиться и появилось чувство слабости, ему, пока на них медленно надвигались с песчаного холма ракиты, окружавшие погост, опять начинало казаться, что он теперь один на всей земле, что он теперь далеко впереди, а все остальные отстали, что это его притягивают высокие, от солнца и теплого ветра за какие-то несколько часов заметно позеленевшие ракиты вокруг погоста, что это именно его они ждут, «Хоть бы скорей все кончилось», — невольно подумал он, стараясь идти все так же спокойно и ровно, чтобы никто не мог догадаться о его мыслях и о том, что в нем творилось, когда у самого погоста старухи потребовали остановиться, он был готов закричать на них. Но он сдержался и промолчал. Гроб опять опустили на табуретки, и тогда Василий понял, что старухи хотят внести покойницу на погост самолично, они деловито суетились, примеривались, прилаживались, вездесущая бабка Пелагея заправски, словно она только и занималась этим всю свою жизнь, командовала. Старухи — и бабка Пелагея, и высокая тощая бабка Анисиха, и круглая бабка Катенька, и та, что читала, в очках, и еще две или три незнакомых Василию старухи-окружили гроб. Что-то одинаковое было в их лицах, в руках, в манерах говорить, Василию стало почему-то страшно, и он поднял глаза к вершинам ракит. Эти старые, неприхотливые деревья были приятнее старых людей, в них жило что-то чистое и недосягаемое. И откровение обожгло душу Василия, пусть иногда жизнь убога и отталкивающа, но вот сейчас, здесь, на тихом клочке земли, в напряженно гудящих старых ракитах, на этом последнем прибежище человеческой жизни, все было покоем и чистотой, и это чувство выжгло все темное и ненужное в его душе и очистило ее. Перед ним сейчас словно обнажилась сама душа жизни, ее сокровенная языческая тайна, и все очистилось, и все преобразилось, в обезображенных временем лицах старух проступили мудрость и предельная завершенность, в том, как они шажок за шажком продвигались с гробом на руках, таилось скорее свершение высшего порядка, чем простое бесстрашие, это была сама жизнь, и сейчас выполнялась ее самая простая и беспощадная формула. Здесь не было ни фальшивых речей, ни венков с не менее фальшивыми надписями, ни томительного стояния в карауле, здесь все было просто и необходимо. Поголосили над открытым гробом старухи, непременно напоминая покойнице о скорой встрече и прося ее приготовить и для них там местечко получше да посуше, затем все молча постояли. Василий неловко тянул шею над окружившими гроб и могилу людьми, стараясь в последний раз увидеть лицо матери и понять то, что происходит. Лицо матери было чужим, Василий быстро отвернулся и шагнул в сторону, он не хотел, чтобы мать запомнилась ему в последний раз такой, это ведь была не она.
Гроб опустили, он подошел и бросил в могилу горсть сырой земли. Затем он опять отступил в сторону, и только тогда глазам его стало горячо и сердцу покойно. Он вначале не видел ракит, хотя смотрел на них, но постепенно их проснувшиеся ветви заплескались в его глазах все отчетливее. За несколько часов дождя, солнца и теплого ветра мелкая россыпь почек на них увеличилась, стала заметнее, сами ветви отяжелели от пробудившейся и томившей их силы. Под нестихавшим, как это часто бывает весной, ветром ветви были в беспрерывном движении, они изгибались в бесконечной голубизне неба, свивались в жгуты, вновь дружно устремлялись по ветру в одну сторону. Василий смотрел долго, он теперь понял, что и землю, и небо, и ракиты, и ветер, и его самого соединял в одно целое какой-то один ток, один непрерывный согласный звук.
— Эй, Василь Герасимович! — позвал его кто-то. — Все готово. Пора.
— Идите, идите, я догоню, — не поворачиваясь, глухо отозвался Василий и еще долго стоял недалеко от свежего, собственноручно выструганного креста, среди высоких и беспокойных ракит, после полудня и особенно к вечеру их беспокойство начинало усиливаться, теперь ветер частыми порывами чувствовался даже в самом небе, взявшемся в высокой голубизне зеленоватыми ветровыми полосами.
Обед закончился быстро, выпили раз, другой, заели хлебом с селедкой, мочеными яблоками, огурцами, все больше в молчании. Утомившиеся за эти два дня старухи тоже не засиживались, и скоро за пустым длинным столом осталось человек пять с центральной усадьбы, все любители выпить и поговорить, но перед самым заходом солнца и они угомонились, и когда Петр-тракторист приехал на тракторе с прицепной тележкой за отцом, все они, торопливо опрокинув по последней, заторопились уезжать.
Только сам Андрей, несколько захмелевший, никак не поддавался уговорам сына, и тот, румяный, молодой, начинал сердиться.
— Ну, хватит, батя, — решительно заявил он. — Будешь дурачиться, уеду, а там добирайся как знаешь… У меня тоже дела!
— Знаем мы твои дела, девка ждет, — хотел накоротке отмахнуться Андрей, но тут же засуетился, усиленно заморгал и для придачи весу своим словам щедро наполнил стакан из стоявшей на столе бутылки.
— А хотя бы и девка, так что? — Глаза у Петра холодно сузились. — Ты что, в мои годы без девки обходился, батя?
— Да ты поезжай, поезжай, — с тихой и даже несколько робкой усмешкой заторопился Андрей. — Я и тут переночую, а коли надо будет, доберусь. — Он вытянул, словно напоказ, ноги в новых резиновых сапогах и кивнул в сторону Василия: — Когда еще с ним повидаемся, а мы вместе, считай, с бесштанной поры росли… Поезжай, Петр Андреевич, ты меня сегодня не дожидайся! А матери скажи, как есть.
Петр еще потоптался у порога, хмуро поглядывая то на отца, то на Василия, и затем как-то незаметно вышел, и Василий с Андреем остались вдвоем в ярко освещенном и совершенно пустом доме.
— Слышишь, Вась, — предложил Андрей, поднимая голову. — Хочешь, я выскочу, крикну… Поедем ко мне ночевать, а?
— Не надо.
— Ну, не надо так не надо, — тотчас согласился Андрей. — А то подумаешь чего…
— Ничего я не подумаю, а ты сам зря остался, — сказал Василий, прислушиваясь не то к странной и гулкой тишине пустого дома, не то к себе, к тому, что где-то рядом с сердцем то исчезала, то вновь разгоралась тихая и как бы притупленная боль, стараясь заглушить это неприятное ощущение, он подвинул к себе стакан, плеснув в него из бутылки, кивнул Андрею, и они молча, понимающе выпили. Молча посидели и опять слегка приложились, сейчас они оба чувствовали все более укреплявшуюся внутреннюю связь, и, хотя они были совершенно разные, связь эта все более усиливалась. Что-то почти забытое, темное, дремучее просыпалось в душе у Василия, и он, не обращая внимания на Андрея, казалось чутко сторожившего каждое движение хозяина, огляделся. Уже опустилась глубокая ночь, и небольшие окна сияли блестящими, бездонно черными провалами. «Это ночь, ночь, — с лихорадочной внутренней дрожью подумал Василии. — Это все она! Она! Что-то нехорошо…»
Он встал, намеренно не спеша начал было задергивать старенькие ситцевые занавески на окнах, но чей-то, показалось — посторонний, голое остановил его.
— Что? — повернулся он на этот неприятный голос и увидел в расширившихся глазах Андрея странное выражение, так смотрят, неожиданно застав кого-нибудь за чем-то таким, чего другие никогда не должны видеть.
— Нельзя, говорю, — повторил Андрей, не отводя и не опуская глаз. Говорят, душа только на третий день с домом расстается… Вон, видишь? Он кивнул на передний угол, где бабка Пелагея под тускло горевшей перед сумрачным ликом иконы Ивана-воина лампадой, еле-еле заметно покачивающейся, уходя, заботливо поставила воды в стакане и рядом положила кусочек хлеба. — Оно ясно, старухи чего не наговорят, у них ночи долгие, пока все кости не перемоют, чего за ночь в голову не придет…
Василий ничего не сказал, но тотчас раздвинул занавески, опять открывая черные, бездонные провалы весенней ночи, он помедлил, стараясь хоть что-нибудь различить в этой непроницаемой и все-таки рождающей ощущение враждебности никому не подвластной жизни, но ничего различить было нельзя. И всплеск этой тьмы проник в душу Василия и обжег ее, он, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, вернулся и сел к столу.
— Все в жизни чудно, — тихо сказал он. — Человек, он такой, ему надо поверить и тому, чего и нет. Мы-то с тобой, — Андрюш, по десять классов закончили.
— Это ты десятилетку одолел, — тотчас поправил его Андрей. — А я восемь, больше не вытянул.
— Верно, — вспомнил Василий. — Это все мать-покойница хотела, чтобы я в ученые пробился. А оно вон как получается, не того поля ягода.
— Да что тебе, живешь, что ль, плохо? — неожиданно горячо обиделся за него Андрей, потому что своими последними словами Василий как бы присоединил и его, Андрея, к своей судьбе и безжалостно подчеркнул, что оба они, в общем-то, ростом не вышли для чего-нибудь более лучшего в жизни, с самого рождения поставившей на каждом из них свою особую отметку. — Тут еще с какого боку глянуть…
— Ас какого ни глянь, — опять спокойно и равнодушно остановил его Василий. — Ты думаешь, если я в город уехал, так и все тебе? Э-э, на вот, выкуси! — Василий сложил пальцы в увесистую дулю и сунул ею в сторону двери. — Это так тем кажется, у кого мозгов мало. Я вон и в институт пробовал поступать, даже одно время заочно и прошел, год попыхтел и бросил. Не тот коленкор! Мог запросто хороший техникум одолеть, да не захотел, хотел на самой высоте покуражиться. Может, и зря. А, ладно!
Что теперь рассуждать… И Иван мой после десяти-то классов пыхал-пыхал-и в армию! Не смог проскочить, у него еще дух деревенский, а там у них, у интеллигентов, машина давно отлажена-он тебе еще пеленки марает, а к нему уже всякие профессора ходят. Английский тебе, математика… Что хочешь.
— Да ну? — удивился Андрей.
— Вот тебе и да ну! Он тебе еще… а место в жизни уже за ним. Он тебе вот такой, — Василий отмерил ладонью с аршин от пола, — золотушный, а поди его возьми, за ним вон какая толща из пап да мам да бабок с дедами.
Русскому мужику эта наука еще долго будет поперек горла, не скоро он ее одолеет… А все равно одолеет! — Василий внезапно тяжело и угрожающе качнулся в сторону Андрея, и тот, внимательно и заинтересованно слушавший его, обалдело отшатнулся.
— Ты чего шумишь? — усиленно заморгал он. — Ты, Вась, знаешь, зря на каждого не кидайся. Если у самого кишка тонка, кто тебе виноват? Чего тебя тогда в город повлекло? Сидел бы себе на месте, сосал лапу. Тоже придумал, город ему виноват. Вон у нас какой населенный пункт-Вырубки-то наши. И прыщом-то его не возвеличаешь, еще меньше. А погляди — Гришка Залетаев ныне Григорий Павлович Залетаев — генерал! А-а? Генерал!
А ты помнишь, у него под носом краснуха от соплей не сходила? А Федька Кудрявкин? Федор Елисеевич Кудрявкин, директор вон какого завода, депутат! Во-о! Значит, дадена им свыше мозга большая, вот тебе и весь оборот. А-а, что ты молчишь? — стал с нехорошей жадностью допытываться Андрей, и Василий, почувствовав эту его незабытую, темную, мохнатую ревность в отношении своей жизни, молчал. Другого ничего нельзя было доказать, это Василий знал давно. А впрочем, что ему Андрей? Так, смех один, все старается какую-нибудь болячку нащупать да позанозистей ковырнуть, ишь, бедняга, старается, даже про водку забыл, и в глазах-то просветление. Вот ведь порода, чем другому больней, тем самым себе выше, уж вроде ты и орел, воронам на страх. Ишь как у него все ходуном заходило, для этого и остался, не забыл Валентину-то, да и многого другого не забыл, сейчас все утвердить себя повыше ладится… А может, он и прав, этот сельсоветский дьяк, может, его правда помельче, да в жизни в чести-круто и неожиданно для себя повернул Василий. Что на него дуться? Как ему роднее, так и чешет себе, а поди разберись, у кого оно, это бремя, тяжелее…
Кого, в самом деле, винить, если сам не осилил?
Василий хотел успокоиться, но получилось наоборот, неожиданно для себя он тяжело, даже с ненавистью глянул в глаза Андрею, и тот, уловив эту непонятную ненависть, выпрямился, заморгал.
— Ну дерет тебя, ну дерет, а? — изумился он. — Ну, чего?
— А я все равно кулаком еще по столу бухну, — заявил Василий, по-прежнему ненавидяще не отпускал глаз Андрея, и тот до мутной дрожи где-то под сердцем обрадовался, он даже заерзал от этой расслабляющей радости.
— Не-е, — заявил он с готовностью, — не-е, Вась, не бухнешь, не-е… И я не бухну, и ты не бухнешь.
— Бухну!
— Не-е, не-е, — от упоения и чувства противоречия Андрей зажмурился. Не-е, наша с тобой витаминная мука кончилась…
— Что? — ошалело вскинулся было Василий, но тут же опал, посидел, раздумывая под лихорадочно блестевшим взглядом Андрея, затем молча и сосредоточенно налил водки в оба стакана, придвинул один Андрею. Тот так же молча взял, выпил.
— Знаешь, если ночевать здесь, надо протопить, — сказал Андрей, посмотрел на печь в горнице, сложенную, по обычаю, продолговатым столбом во всю высоту помещения. — За зиму отсырело, у меня так ломота по спине и шастает. А то завтра не разогнешься. Пойду-ка я дровишек принесу.
Василий не стал удерживать его, и скоро Андрей разжег в печи огонь, принес дров про запас и, сидя у огня, протягивал к нему руки, долго, наслаждаясь, молчал.
— Опять дождик пробрызгивает, — сказал он наконец. — А такая тьма, вроде раньше такого сроду не было.
— Иди, давай выпьем, — предложил Василий. — Что-то в душе, эх, крутит, крутит…
— Да чего там, — попытался как-то притушить остроту момента Андрей. Что теперь рассуждать: то да се, гадай теперь, как оно могло быть. А дело оно простоеживешь и живи себе…
— Выпьем…
— Давай. — Андрей прихватил стакан короткими, сильными пальцами, поднял его. — Хорошая водка… вон как синью отдает. Чистая. У нас все больше по самогону ударяют. Хоть и деньжата пошли немалые, а все привычка, не очень-то на это дело бросать привыкли… Ну…
Они взглянули друг на друга, отхлебнули. Василий откусил бок от моченого яблока, Андрей подумал, поглядел на селедку и закурил.
— Знаешь, тебе надо завтра в сельсовет заглянуть, — сказал он.
— Зачем?
— Как же… Надо вот дом на тебя переписать.
— Кому он нужен, этот дом, теперь… Вон их сколько в поселке, стоят доживают…
— Ну, это другое дело, — Андрей пошел, поправил дрова в печи, опять, задумчиво щурясь, долго смотрел в огонь, затейливо и дико игравший у него на лице. — Это уж другое дело, а закон есть закон… Нужно тебе, нет, а порядок должен быть…
Василий промолчал, время близилось, пожалуй, к полуночи, но спать по-прежнему не хотелось, из окон глядела тьма, и, хотя от этого не исчезало ощущение, что тебя кто-то безжалостный и насмешливый неотступно разглядывает, Василий старался не обращать на это внимания. Он не представлял, что будет дальше и как скоротать время до утра.
— А тебе чего? — сказал, опять возвращаясь к столу, Андрей. — Будет у тебя этот дом вместо дачи, внуки пойдут, будешь привозить на природу… Грибы тут, ягоды, воздух… Ну, а не хочешь дачу, на дрова любой возьмет. — Андрей, словно вновь стараясь нащупать место неуязвимее, помедлил. Много, конечно, не дадут, а сотни полторы-две любой даст. Дрова сухие, близко, трактором зацепил и волоки.
— Может, ты и сам возьмешь? — слегка потирая пальцами словно в одночасье взявшиеся густой и сильной щетиной щеки, спросил Василий, его глаза приобрели какую-то звериную, обволакивающую глубину, но Андрей ничего не заметил.
— А я что? — пожал он плечами. — Мне тоже топить надо. Газ по плану еще через два года подвести обещают.
Да ведь обещать легко, у нас, сам знаешь, каждый, кому не лень, куда как на посулы здоров! Наловчились, хлебом не корми! А двести рублей тоже деньги, ты за них месяц горбишь.
Он хотел еще что-то сказать, но Василий сунул ему стакан с водкой, и они опять выпили, и, странное дело, и тот и другой словно пили не сорокаградусную московскую водку, а воду, лишь у Андрея слегка начинал лосниться разлапистый кончик утиного носа, отчего его лицо всегда имело несколько ехидное и заносчивое выражение, а теперь и того больше. Нос его как бы сам по себе, отдельно от выражения глаз и всего остального лица, задорно и откровенно улыбался. Андрей внутренне был уверен, что именно сам он жил и живет правильно, но только его бывший друг и соперник Васька Крайнев, уехавший в город в свое время по гордости своего характера, не хочет из-за собственной занозистости этого признать, пожалуй, он точно определил, что за бесценок, попросту говоря, за шиш с маком, отдавать большой благоустроенный дом обидно, да ведь здесь именно так и обстоит дело. Никому эти добротные, строившиеся в надежде на детей и внуков дома в мертвом поселке и задаром не нужны, так уж распорядилась жизнь, такую дулю в этом повороте выставила.
— А дом хороший, сколько труда сюда вбухано, — тихо, почти неслышно вздохнул Василий.
— Много, — согласился Андрей и, вздрогнув, поднял голову к потолку, казалось, какая-то тоскливая нота родилась, окрепла и с мучительным грохотом оборвалась.
— Ветер, — сказал Василий, чувствуя, как неуютно и тяжело становится ему в этом обреченном доме.
— Видать, где-то крыша прохудилась, — сказал и Андрей, хотя подумал совершенно о другом, о том, что старухи упорно твердят о домовом, о хозяине и что он все предчувствует и знает наперед. И вслед за тем он нервно оглянулся, он бы мог сто раз побожиться, что в доме вместе с ними был кто-то третий, и этот третий сейчас упорно глядел на него из темного угла. Тихий, но пронзительный холодок сладко тронул ему затылок.
— Вась, Вась…
— Чего тебе?
— Слушай, может, нам того… спать пора? — спросил Андрей.
— Спать? Ну иди ложись, вон на диван, как раз спиной к печке, тепло.
— А ты?
— Посижу, какой там сон…
— Ну, так и я еще посижу, — обрадовался Андрей. — Вот, говорят, ученые до всего дошли, могут этот мир хоть надвое, хоть на восемь частей расколоть… так?
— Не знаю.
— Говорят! — Андреи упрямо повел носом. — А вот что такое в человеке подчас сидит, ни один самый головастый академик не знает. Вот отчего стало мне страшно? Глянул я вон в тот темный угол, а оттуда на меня какие-то глазищи, да так, прямо в душу, а? Кто это знает?
«Все-таки водки много выпили», — подумал Василий, тоже отчасти проникаясь словами и сомнениями Андрея и чувствуя, что в доме действительно кроме них двоих есть кто-то третий, кто с самого начала неотступно следит за ними. Василий был не робкого характера, но сейчас и он посмотрел в дальний угол. Разумеется, ничего и никого там не было, лишь от тепла проступило на стене размытое продолговатое пятно сырости, удивительно похожее на человеческую фигуру.
— Вот и говори, что старухи басни рассказывают, — нервно сказал Андрей. — А я думаю, что не только у живой твари есть душа, она и у дерева есть, и у дома…
— Конечно, есть, — с каким-то странным, скрытым волнением, с непонятной готовностью подтвердил Василий.
— А-а, значит, и ты веришь? — в недоумении уставился на него Андрей, но Василий не отрываясь все смотрел и смотрел в угол. И в это время у него было какое-то злое лицо, Андрей даже отодвинулся подальше, и Василий, уловив это его движение, повернулся к нему, их глаза встретились.
— Ты чего? — первым не выдержал Андрей.
— Ничего, думаю, в самом деле пора прилечь, — сказал Василий. — Черт знает, разное лезет в голову…
Они никак не могли оторваться друг от друга, словно были чем-то нерушимым связаны, и тогда что-то произошло, что-то глухо стукнуло. Перегоревшее в самой середине тяжелое полено ударило одним концом изнутри печи о дверцу, и дверца приоткрылась, из нее выскочило несколько малиново-огненных угольев, они весело стрельнули прямо в лежавшую кучей у печи растопку, в измятую бумагу, в сухую бересту, стоявшую в корзине и заготовленную еще покойницей Евдокией.
Делая невероятное усилие, Андрей попытался встать на занемевшие ноги, но незнакомый, какой-то далекий и гулкий голос Василия придавил его к месту:
— Сиди, сиди…
И тогда Андрей в один миг все понял, он попытался независимо усмехнуться, но у него ничего не получилось.
И он лишь негодующим, прерывающимся шепотом спросил:
— Ты что? Того, с катушек съехал?
— Сиди, не твое дело, — все так же, казалось, спокойно сказал Василий. И что-то в его голосе было такое, что привставший было Андрей с готовностью опустился на свое место, ему сильно захотелось пить, и он пожевал вмиг пересохшими губами. Из корзины с берестой вначале упругой и темной струйкой тянул дымок, затем неожиданно показался язычок пламени, и почти сразу же вся корзина словно превратилась в живой и ядовито-мохнатый цветок, струйки огня, тоненькие вначале и упрямые, поползли по крашеному полу и легко, словно невзначай, перекинулись на ситцевую занавеску и уже стали лепиться к потолку, тоже покрытому желтоватой слоновой краской, здесь в свое время сам Василий трудился надо всем добротно и не спеша. В том, как огонь неслышно и в то же время с невероятной быстротой распространялся вокруг, было что-то завораживающее, ни Василий, ни Андрей не могли отвести от него глаз, и, казалось, ни один, ни другой даже не понимали, что происходит.
— Псих! — внезапно, словно очнувшись, тоненько закричал Андрей. — Псих! Ты ответишь! Ты…
Тяжелая и властная рука Василия придавила его к лавке, и Андрей, перепугано кося, увидел жадный плеск огня в темных, замерших глазах Василия.
— Сиди, тоже законник, — беззлобно сказал Василий. — Да кто тебе поверит? А может, ты сам и поджег?
— Я? Я?! — опять почти взвизгнул Андрей. — А-ах ты бандюга! А-ах ты…
Оборвав на полуслове, Андрей попятился, Василий, выкатывая блестевшие белки глаз, с непонятным утробным наслаждением хохотал, и его крупные и плотные зубы тоже влажно поблескивали.
Дым начинал душить, и огонь, охвативший потолок, вроде бы ослабел, тускло пробивался по всему потолку сквозь густую, сизую волну дыма.
— Беги, полоумный, сгоришь! Ты душу свою палишь, корень свой в огонь кинул! Бездомен, сволота, отцову память в огонь! — в исступлении крикнул Андрей и выскочил вначале на кухню, затем в сени и на улицу, оставляя двери открытыми, дым удушливыми белесыми клубами валил следом, и тотчас, тяжело бухая ногами, вынырнул из дыма и Василий. Они еще были на крыльце, кашляя и вытирая глаза от слез, когда багрово и зловеще разгоревшиеся окна в горнице стали лопаться, Василий ахнул, застыл на мгновение, затем ринулся назад, в дом. В последний момент Андрей успел схватить его за плечи, рванул назад, и оба от неожиданности скатились с крыльца, при этом Андрей каким-то образом оказался сверху. Раскорячившись, хватаясь за подмерзшие к утру комья земли, он не давал Василию встать.
— Пусти, убью! — хрипел Василий, лежа лицом вниз и силясь сбросить с себя оказавшегося необычайно цепким Андрея. В это время со звоном высыпалось еще несколько стекол в горнице, и, вырвавшись изнутри сразу в нескольких местах, огонь привольно и почти добродушно загудел. Андрей ползком попятился дальше. За ним откатился и Василий, стал на колени, от весело и дружно горевшей избы несло нестерпимым жаром, и на крыше, свертываясь в беспорядочные жгуты, срываясь со своего места, трещало и стонало железо. Шатаясь, Василии встал па него и, прикрывая лицо ладонями, отступил, теперь он отчетливо слышал, как кричит от боли душа дома, сработанного его собственными руками и сердцем.
— Икону… икону, сволочь, забыл, — пробормотал он в каком-то безотчетном смятении перед яростью и беспощадностью огня, перед той бездонной пропастью, что в один момент расколола весь стройный и согласный порядок его души.
— Что ты говоришь? — приблизил к нему свое лицо Андрей.
— Мать наказывала Ивана-воина взять, — сказал Василий все с тем же безотчетным отчаянием постижения. — А я забыл, совсем забыл… Эх, сгорел Иван-воин! Надо же, как нехорошо получилось. Ничего не осталось, никакой памяти. Как же я.
— Э-э, — разочарованно и обиженно удивился на эти слова Андрей. — Что память? Это тебя от удивления шибануло. Там водки вон сколько пропало! Эх ты, — не выдержал он. — Вот тебе и город… Псих! Псих! Не осталось! Одной водки на неделю… Псих!
Василий, не в силах больше смотреть на все сметающий, ревущий огонь, уже не замечая больше ни Андрея, ни встревоженную фигуру какой-то спешившей к пожару старухи, кажется вездесущей бабки Пелагеи, повернул и, словно ослепленный после яркого огня внезапно выросшей перед ним стеной непроницаемой тьмы, шатаясь, сделал шаг, другой, третий… И чем дальше он шел, тем непроницаемее становилась тьма перед ним, и пронизывающий его существо трепет беспробудности перед тем, что случилось, все полнее охватывал его. Кто-то кричал сзади, кто-то звал его, сначала в один, затем в несколько голосов, ему даже показалось, что он расслышал голоса жены и даже сына, а затем и голос Андрея, кричавшего, чтобы он вернулся и что приехали за ним Валентина и сын Иван, но от этого ему стало еще хуже, и он теперь думал только об одном, как бы подальше уйти и остаться совершенно одному, чтобы вокруг была только непроницаемая мартовская ночь и первозданная тьма, но и это не помогло ему. Теперь он услышал голос матери. Словно кто тяжелым ударом, стонуще отозвавшимся во всем его существе, остановил его и рывком заставил повернуться назад.
И он увидел мать, она была и не была, он видел ее глаза, устремленные ему прямо в душу. Это были ее глаза, но никогда раньше она так не смотрела, она не осуждала и не прощала, она словно что-то стремилась понять, проникнуть куда-то за все известные ему пределы. Но вот и ее глаза исчезли, и осталось одно размытое в полнеба пятно угасавшего зарева. И тогда он, вздрагивая от какого-то неведомого чувства открытия и прозрения, с трудом опустился на землю и услышал, как земля тяжело и жадно дышит, поглощая весеннюю влагу.
Полуденные сны (Повесть)
1
В уединенном загородном доме, окруженном запущенным старым садом, что-то случилось. Первым почувствовал начало перемен Тимошка — и усиленно втянул воздух черным влажным носом, в его пристально-внимательные грустных глазах появилась настороженность. Тимошка свободно расхаживал везде, утром и вечером он проверял, все ли в порядке, заглядывая в каждую комнату, в любой потаённый уголок дома, двери, если они не были на запоре, Тимошка привычно открывал ударом лапы или носом. Сегодня же новость, возбудившая Тимошкино беспокойство, была действительно из рук вон выходящая, и поэтому, открыв дверь комнаты, чаще всего предназначавшейся для приезжавших из города гостей, Тимошка даже слегка попятился. Он был совершенно сконфужен своей оплошностью: в доме случилось столь важное событие, а он ничего не знал, все прокараулил, украдкой забравшись на удобный мягкий диван у Даши и проспав там всю ночь. Но делать было нечего, и Тимошка виновато протиснулся в комнату, где на широкой деревянной кровати спала смутившая Тимошку гостья, тетка хозяина дома Семеновна, приехавшая вчера уже поздно ночью. Подойдя ближе, Тимошка приветливо повилял хвостом, сел, не упуская из виду маленького, с расправившимися ото сна морщинами лица Семеновны, и стал терпеливо ждать ее пробуждения.
Тимошка хорошо знал Семеновну и по-своему был привязан к ней, хотя в этой своей любви никогда бы не поставил ее рядом с Васей или Татьяной Романовной, маленькой Дашей или ее старшим братишкой Олегом, самолюбивым темноглазым, отличавшимся особенно выраженным чувством справедливости мальчуганом, который, даже играя с Тимошкой в футбол, старался честно соблюдать правила игры. Тимошка уже хорошо знал, что приезд Семеновны всегда вносит беспокойство, с каждым ее появлением что-то случалось: то надолго пропадали куда-то Вася с Татьяной Романовной и оставались лишь Семеновна, Даша да Олег, а то и Даша с Олегом исчезали, и приходилось целое лето проводить с Семеновной, и поэтому теперь Тимошка, как ему ни хотелось проверить, на месте ли Вася с Татьяной Романовной, решил не выпускать Семеновну из виду и ждать. Откинув заднюю лапу, вытянув морду, он лег, распластав на полу длинные шелковистые уши, гордость всякого родовитого пуделя. Несколько раз он приподнимал голову, всматриваясь в лицо Семеновны, и опять терпеливо затихал, дождавшись своего, он порывисто вскочил, весь напружинился и несколько раз вильнул хвостом. Как он уловил этот момент, Тимошка и сам не знал, но Семеновна действительно приоткрыла еще пустые после пробуждения глаза, Тимошка потянулся к ней и, слегка высунув кончик розового языка, приветливо улыбнулся. Глаза у Семеновны радостно округлились.
— Тимоша! — обрадовалась она. — Хороший ты мой! Не забыл?
Тимошка немедленно положил передние лапы на край кровати и ткнулся прохладным носом в руки Семеновны и что-то невнятно проворчал, узнавая старые запахи добра, уюта и сытости. Тотчас достав из-под подушки конфету, Семеновна развернула ее и, предостерегающе оглянувшись га дверь (сладкое Тимошке есть не разрешалось), как бы в нечаянной рассеянности уронила конфету на пол, Тимошка, помедлив, с некоторым удивлением глянул на Семеновну, затем с достоинством, осторожно взял конфету и забрался с нею под кровать, тотчас оттуда послышался аппетитный хруст и чавканье.
— Ешь, ешь, Тимоша, — одобрила Семеновна, нарочито шумно зевая и показывая, что она всю ночь была в дороге и совершенно не выспалась. Почему хорошей собаке нельзя попробовать сладкого, раз хочется? Нынешние-то умники напридумают, — Семеновна с вызовом покосилась на дверь, адресуя свои слова прямо по назначению. — Сами-то все подряд лопают, чего только душа попросит, а вот другим и нельзя… ишь! И то! Вася сам (услышав имя дорогого человека, Тимошка тотчас высунулся из-под кровати, вопросительно шевельнул длинными ушами, и на морде у него появилось внимательное выражение), как только глаза протрет, сразу же за кофе, а другому, значит, сладенького и нельзя. Да он уже и встал, Вася, мимо прошлепал…
— Ешь, Тимоша, ешь! Как вставать-то не хочется! — чему-то внезапно опечалилась Семеновна, словно именно у Тимошки собиралась отыскать защиту, которой ей так сейчас недоставало. — И то, куда уж нынче совестливому человеку?
Времена… Нынче хорошо горластым да клыкастым, они тебе — жи-ик! — горло и пронзили. Жизнь такая стала, Тимоша… А нашему-то соколу с легкостью ничего не дается, жалостливый да совестливый…
Внимательно выслушав столь долгое рассуждение Семеновны и полиостью соглашаясь с ее словами, Тимошка широко облизнулся, ожидая добавки, повернув голову к двери, он настороженно замер.
— Съел, и ладно, чего уж тут сожалеть? — спросила Семеновна. — Не терзайся, Тимоша. Ты не скажешь, я не скажу, никто и не узнает. А не узнает, — значит, ничего и не было. В жизни разные замочки, Тимоша.
Не сомневаясь больше ни в чем, Тимошка быстро, с удовольствием еще несколько раз облизнулся, его беспокойство, связанное с появлением Семеновны, растаяло. Теперь можно было заняться своим обычным утренним обходом. Он было подошел к двери в комнату Даши, но неожиданное появление Семеновны сделало свое-тотчас у Тимошки опять зашевелилось непонятное беспокойство. Он повернулся, потянул воздух и сразу же понял, что его и тут опередили. Вася уже встал и вышел в сад. Тимошка протиснулся на большую застекленную веранду, сейчас заполненную легкими, шевелящимися тенями узорчатой листвы старых рябин, росших вокруг нее. Белая сильная бабочка с глухим шорохом билась о стекла. Тимошка застыл, приподняв правую переднюю лапу, чутко сторожа каждое ее движение. Бабочка металась высоко, и, хотя это был явный непорядок в доме, Тимошка вышел в сад и повел влажным носом, определяя, в какой стороне Вася, струйка запаха, единственная во всем свете, сочившаяся к озеру, тотчас указала Тимошке направление. Вася сидел на скамейке у озера, в дальнем конце сада, и беспокоиться было не о чем, но сначала нужно выяснить, что нового в мире, не появилось ли каких-либо неприятных неожиданностей, требующих немедленного вмешательства. Тимошка сразу же многое узнал: на крыльце у его миски с едой недавно побывал соседский кот, наглое и трусливое существо, у Тимошки с ним шла давняя и непрерывная война. Слегка поводя носом, Тимошка недовольно приподнял верхнюю губу, словно бы хотел зарычать, и лишь в последнюю минуту сдержался. Ночью к самому крыльцу наведывался еще один давний Тимошкин знакомый, старый еж Мишка, живший в глухом, диком малиннике за озером, там росли колючие и густые кусты, и Тимошка, однажды порядков исцарапавшись, уже больше не рвался туда и научился не замечать этого дикого уголка, кстати облюбованного и Чапой, тоже входившей в круг Тимошкиных недругов, всегда державших его настороже. Семеновна иначе не называла Чану, как только крысой, и это было очень обидно, так как Чапа считала себя самой настоящей аристократкой, благородной ондатрой, имевшей разветвленную родню в далеких, заокеанских странах. Но так уж устроено в жизни, дать обидное название легко, а переменить его уже невозможно, и даже Олег в конце концов смирился, хотя вначале, как истинный поборник справедливости, протестовал.
Впрочем, Чапа не подозревала о бурных дискуссиях, происходивших в доме по поводу нее, и жила себе поживала в чистом и тихом и, главное, безопасном озере.
Солнце едва-едва взошло, все вокруг купалось в густой, прохладной росе, над озером сгустилось облако сырого тумана, но все было обильно напоено множеством самых различных запахов, неприятно и резко пахли лиловые цветы, плотно подступавшие к дому с трех сторон.
Прилетели и бесцеремонно уселись на рябину воробьи, жившие под карнизом крыши, Тимошка равнодушно отмахнулся от них, к этим беспокойным жильцам, всегда ожесточенно и без толку переругивающимся друг с другом, он относился как к неизбежному злу. В общем-то в Тимошкином хозяйстве все шло своим ходом, ничто не требовало незамедлительного вмешательства, поводив еще носом, усиленно принюхиваясь и ни на секунду не забывая о главной необходимости поздороваться с Васей, Тимошка весело сбежал с крыльца и, заглушая чужой раздражающий запах ночных пришельцев, соседского кота и ежа Мишки, на уголке хозяйски-привычно поднял ногу. Здесь запах цветов был совсем уж невыносим, Тимошка даже страдальчески оскалился. Чтобы спрямить путь к хозяину, он хотел перескочить через клумбу розовых, отяжелевших от обильной росы гвоздик, но, тотчас вспомнив, сколько неприятностей пришлось перенести из-за этих цветов от Татьяны Романовны, он обогнул веранду и по свежему следу Васи, по гравийной дорожке ринулся к озеру, мотая ушами, плавно и мягко срезая углы, как вкопанный остановился он перед скамейкой. Вася сидел в пижаме, закинув ногу за ногу, и не отрываясь смотрел на молодые розоватые стволы берез, поднимавшееся из тумана на противоположном берегу.
Тимошка вспрыгнул на скамейку и сел рядом, плотно прижимаясь к теплому боку Васи, сухая горячая рука Васн тотчас легла Тимошке на голову. Летом по утрам они встречались так почти всегда, и, пожалуй, это были лучшие минуты в Тимошкиной жизни, он словно погружался в древний сладкий мрак, исходивший из чуткой и всеобъемлющей руки Васи, и перед ним смутно проносились сны жизни. И еще Тимошке передавалось Васино настроение, он мог играть с Дашей или Олегом, купаться с ними в озере или приносить закатившийся теннисный мяч, но Васино настроение продолжало жить в нем, получая свое, часто неожиданное, развитие и завершение.
Прижавшись головой к плечу Васи, Тимошка закрыл глаза. Почесывая его за ушами, Вася молчал. И тут Тимошка, еще в состоянии блаженства и забытья, уловил чтото новое, и это новое было передавшееся от Васи неосознанное чувство страха, что-то переменилось. Открыв глаза, Тимошка потянулся и озабоченно лизнул Васю в жесткий подбородок. Если раньше эта его нежность перерастала в шумную и веселую возню, то сейчас Вася остался молчаливым и неподвижным, и только глаза его сузились и повлажнели. Тимошке не понравилась такая сдержанность, он обиженно соскочил со скамейки и уселся на узких мостках, опустив голову, он стал глядеть в темную воду, полную смутных теней, движения и жизни. Вода и ее таинство всегда притягивали Тимошку — его слабость подолгу сидеть на, мостках и глядеть в воду в доме знали и уважали.
И все уже заметили, что Тимошка приходит на мостки и глядит в воду чаще всего чем-то обиженный, огорченный, и хотя вода никогда не была одинаковой, она действовала на него успокаивающе. Вот и сейчас Тимошка первым делом увидал большую лягушку, поднявшуюся со дна и просунувшую между широкими листьями кувшинок свою пучеглазую, вечно удивленную морду. Пахнущая тиной и стоячей водой, лягушка была из другого, враждебного и холодного мира, она всегда неприятно озадачивала, и, даже встречая ее на берегу, Тимошка не проявлял к ней никакого интереса, лишь брезгливо морщился и, стараясь как-нибудь на нее не наступить, обходил стороной.
Не упуская из-под контроля лягушки, Тимошка в то же время видел все озеро, потому что его ни на секунду не покидало чувство опасности, и он был прав — в любую минуту из своего жилья могло вынырнуть самое отвратительное существо на свете — Чапа. Если еж Мишка всегда предупреждал о своем появлении издали резким запахом, то Чапа появлялась бесшумно и неожиданно. За это свойство Тимошка особенно ее не любил. И хотя он знал, что Чапа больше всего любит ночи, она иногда появлялась и днем, вызывая у Тимошки совсем уж безрассудную ненависть, от бешенства он терял голову и однажды даже пытался нырнуть за неуловимым водяным существом.
Привлеченные тенью от Тимошкнной головы, приплыли рыбы, с мостков им бросали корм, и они решили, что дети уже проснулись я принесли им крошек. Тимошка внимательно следил за неслышно скользящими длинными очертаниями рыб, едва-едва шевеливших плавниками, и опять новые и новые подробности не давали ему пригреться на солнышке и задремать. Деловито наискось со дна до поверхности прочертил глубь озера под мостками черный жук-плавунец, быстро помахивая своими ножками-веслами, не задерживаясь, тем же путем он отправился обратно.
Рыб стало больше, но вот сверху, медленно кружась, на воду опустился отпавший почему-то от дерева дубовый лист. Поверхность воды от падения на нее листа пошла мелкой-мелкой рябью, и рыбы мгновенно исчезли. Когда вода успокоилась и опять стало видно ярко поросшее различной водяной зеленью дно, Тимошка увидел двух пиявок, вертикально ввинчивающихся в самую поверхность воды, и ему показалось, что это продолжается один из его снов и он сам уже давно живет в озере вместе с лягушками, пиявками и жуками и стремительно гоняется за бесшумными рыбами. Лапы у него задергались, он ошалело привстал, осмотрелся и теперь уж сконфуженно, не оглядываясь на Васю, плашмя лег на мостки.
Утро разгоралось, давно уже незаметно поднялся и рассеялся туман над водой. Теперь березы и молодые дубки, окружавшие озеро со всех сторон, четко опрокинулись в воду и потянулись вершинами к единственному облачку в небе, отраженно заполнившему прохладную глубину озера, и Тимошка, как зачарованный, не отрываясь, глядел на фантастические картины слияния неба и воды. Опять, не нарушая стройный порядок соединившихся в оптическом обмане пространств, приплыли к мосткам рыбы, но дну побежали бесформенные, переменчивые тени. Тимошка продолжал завороженно следить за призрачной игрой в глубинах озера, но вот что-то толкнуло его изнутри. Он мгновенно оглянулся и увидел, что Вася сидит все так же неподвижно, раскинув руки по спинке скамейки, а по неподвижному лицу его ползут слезы.
Тимошка в два прыжка преодолел расстояние до скамейки, встал на задние лапы, передние положил на грудь Васи и жарко дохнул ему в лицо, тут глаза их встретились, и Вася очнулся.
— Тимошка, Тимошка, — сказал он, и лицо его начало оттаивать от недавней окаменелости. — Что ты, пес, а? Глядишь, глядишь, ах ты, лохматый философ! — Внезапно он ухватил Тимошку за тяжелые лапы и подтянул ближе к себе, к лицу. — Я ведь давно замечал, ты все знаешь, только сказать не умеешь. Так оно и есть, Тимошка, переехали они меня, совсем, напрочь переехали… И даже ты, чувствилище мира, не скажешь, что делать. Никто не знает.
А ведь мне всего тридцать семь лет, мы с тобой, Тимошка, в самом расцвете. Страшно, а? Такова жизнь, не смог, не удержался, пропадай.
Внезапно нагнувшись, Вася оттолкнул от себя Тимошку, припав к земле, сильно ударив по ней передними лапами, Тимошка залаял и, отчаянно мотая ушами, с азартом вступил в игру, ударяя лапами по земле, он всякий раз броском перескакивал на другое место, на лице у Васи появилась слабая улыбка, Тимошка схватил его за штанину и стал легонько теребить.
— Понимаю, пора купаться, — сказал Вася. — Хочешь вместе поплавать. Да? А что, Тимошка, прекрасная ведь мысль!
Разговаривая с Тимошкой, Вася с недоверием прислушивался к себе, боль в висках, в темени и в затылке, мучившая его ночью, не исчезавшая даже в короткие мгновения забытья, вплоть до последней минуты, когда Тимошка схватил его за штанину, исчезла. Тело, хотя в нем и ощущалась слабость, не чувствовалось больше отдельно, не тяготило. Вася недоверчиво потряс головой, действительно, боль исчезла, он обрадованно подмигнул, испустил угрожающий «рык» и неожиданно бросился к Тимошке, целясь схватить его за передние лапы. Но Тимошка только и ждал этого, в то самое мгновение, когда Вася уже, казалось, был у цели, Тимошка отпрянул в сторону, словно его отбросила из-под рук Васи какая-то посторонняя сила, и тот, распластав уши по земле, он притаился уже метрах в пяти, под старой яблоней, сплошь усыпанной зелеными, мелкими, величиной в грецкий орех, твердыми яблоками.
Вася сделал вид, что его совершенно не интересует Тимошка, и принялся углубленно отслаивать и обирать отставшую кору давно уже болевшей груши, выждав момент, он неожиданно повторил свой маневр, но Тимошка был начеку, и у Васи опять ничего не получилось. С легким головокружением Вася опустился под куст рябины, Тимошка тотчас подскочил к нему, преданно заглядывая снизу черными плутовскими глазами, горячо лизнул влажную руку, Вася потрепал его по спине. От Тимошки шло здоровое, ровное тепло, и Вася, захваченный одной мыслью, одним желанием, чтобы ночная боль окончательно ушла и больше не повторялась, чтобы можно было опять, как прежде, бегать с Тимошкой по саду наперегонки, валяться в траве, резко опрокинул Тимошку на спину, мешая ему вскочить на ноги, с наслаждением ощущая ладонями его крепкое мускулистое туловище, мерно сотрясавшееся от басовитого, угрожающего рычания.
— А-а, попался, — говорил Вася. — Ты как думал? Теперь подрыгай, подрыгай лапами! Ага! Ага!
Еще раз опрокинув Тимошку, Вася с победным криком подхватился с земли, бросился к озеру, на ходу срывая с себя пижаму. Тимошка только на минуту задержался на берегу, заливаясь оглушительным нарастающим лаем, как только голова Васи показалась на поверхности, Тимошка тяжело плюхнулся в воду, подняв тучу брызг, и поплыл к хозяину, бешено работая передними лапами и неестественно высоко задирая треугольную морду, плотно сжав пасть и от этого став очень деловитым. Вася брызнул в него водой и засмеялся, суровая озабоченность Тимошке никак не шла, ведь по натуре своей он был добрым, легкомысленным и веселым существом.
День с утра обещал долгое и жаркое солнце, с берез в озеро низвергались зеленые водопады листвы, сейчас застывшие и все-таки таящие в себе неустанность движения, пышными, изумрудными купами они отражались в бездонном призрачном мире, не имеющем границ и законов реального. И еще Васе казалось, что эта лохматая голова с обожающими глазами движется откуда-то из другого, потустороннего мира, ведь в реальном давно не осталось такой доброты и преданности. Перевернувшись на спину, Вася положил руки под голову и стал глядеть в небо, на сомкнувшуюся зелень, сквозь которую рвалось разгоравшееся с каждой минутой солнце. От внезапной сверлящей боли в затылке у него перехватило дыхание, усилием воли он с трудом заставил себя удержать мутившееся сознание, и тут кто-то насмешливый словно коснулся его сердца, и Васе стало хорошо. Что же, пусть так, сказал он себе. Он сам всего лишь зыбкое отражение непонятных сил, всего лишь мгновенная проекция какого-то всеобъемлющего чудовищного опыта, а поэтому бесполезно сосредотачиваться на себе, даже если уже предопределено последнее и самое загадочное. Удивительно, удивительно, успел подумать Вася, не отрываясь от затягивающей, начинающей нежно звенеть глубины неба, человек и не предполагает, что начинает жить полновесной жизнью только где-то у самой крайней черты, может быть, это и есть завершающее дыхание космоса, вот когда человек по-настоящему ощущает и себя, и жизнь, и страдание, и любовь. И все, что было до этого, оказывается лишь бледным оттиском пережитого. Он раньше думал, что жил, а это была всего лишь игра в жизнь, где все было в одну сотую истинной силы. Он любил, страдал, боролся, в нем рождались опустошающие все его существо идеи. Высшим наслаждением для него было устанавливать видимые только ему закономерности, ощупью пробираться в их кричащей абсурдности, в кажущейся совершенно алогичной очевидности, вырванной, казалось, у самого хаоса и отодвинутой за черту дозволенного. То, что происходило потом, его мало интересовало, чаще всего уже кто-то другой выуживал одно-другое драгоценное зерно, а то вдруг натыкался и на целую золотоносную россыпь, но все это уже мало интересовало Васю, каким-то образом его мысли становились достоянием других, более ловких, умеющих прочнее устроиться в жизни. Ему многое полагалось по статусу таланта-премии, деньги, престижный жизненный уровень в виде первоклассных медицинских учреждений, представительство в выборных органах, но он не успевал воспользоваться плодами своего труда в короткие передышки отдыха, самому ему лично почти ничего не было нужно, и потом, слишком велико было повседневное напряжение, он слишком уставал, а желающих было всегда больше, чем благ. Пока он вынашивал очередную проблему и с головой нырял в нее, эти силы окончательно утверждались в необходимости своего руководства процессом жизни вообще, не говоря уже о науке п каких-то жалких идеях, от всех жизненных благ ему выпал лишь этот запущенный сад, все больше захватываемый лесом и оврагом, кусок озера и старый, все больше ветшающий дом. Да и случилось это давно и как-то совершенно случайно, когда никто из этих вездесущих сил не мог и предположить о его беспомощности, об отсутствии у него этих. самых элементарных необходимых навыков, как любила в моменты наибольшей отчужденности говорить его жена Татьяна Романовна, дочь видного кибернетика Романа Адриановича Святухина. Возможно, Татьяна Романовна и права, и ей не повезло с мужем, она могла выбрать кого-то более достойного, но что делать, жизнь набело не проживешь. Когда-нибудь и Татьяна Романовна поймет главный смысл и назначение человека, как понимает сейчас он, и все образуется. Ведь и он не предполагал раньше, что главное-вот в этом утреннем купании, в теплом, не остывшем с ночи озере, восхитительно пахнущем тиной в этой облегченности тела, когда за далекие горизонты отодвинулась вся ненужная суета, сжигающее честолюбие и бешеная жажда снова и снова удивить мир неожиданным поворотом кажущейся уже исчерпанной до конца идеи.
Главное, оказывается, в другом, в возможности не торопиться, не гнать, не толкать себя в спину, в возможности видеть небо, слушать по утрам пение птиц, иметь для этого хоть немного свободного времени.
Шумно шлепавший по воде передними лапами Тимошка попытался взобраться Васе на грудь, ухитрившись влюбленно лизнуть его в мокрое лицо. Оттолкнув Тимошку, Вася нырнул, тогда Тимошка торопливо выбрался из воды шумно отряхиваясь и окутываясь облаком водяной пыли, озабоченно бегая по берегу, он громким лаем стал звать Васю на берег, словно тому грозила смертельная опасность. Пора было выходить из воды, но Вася медлил, не хотелось начинать длинный день, не хотелось приниматься за дела… Во рту опять стало сухо, неосторожное движение сместило установившееся было хрупкое равновесие, чуть слышный солоноватый вкус, напоминающий ощущение просочившейся крови, предупреждал о приближении боли.
Невольно задерживая дыхание, Вася осторожно перевернулся на спину и, еле шевеля ногами, постарался направить свое и не свое теперь, сразу ставшее чужим, тело к берегу. Ткнувшись головой и плечами в мягкую, размокшую глину, он затих, от несильного толчка боль вспыхнула в самом мозгу, он успел выхватить стремительно гаснущей небо и струящуюся зелень берез над озером, начавшую чернеть, опадать и сливаться с небом. Еще он успел услышать чей-то испуганный крик, солнце сжалось до невыносимо жгучей точки и исчезло.
Очнулся он, все еще лежа в воде, пытаясь осмыслять случившееся, он разлепил набрякшие веки, глубоко вдохнул и с трудом, оставляя за собой безобразный след, выполз на берег. Взбудораженный купанием и непонятным поведением Васи, Тимошка тотчас подлетел к нему, лизнул его в щеку и сел рядом. Открыв пасть, далеко выпростав розовый узкий язык, он радостно и шумно дышал.
— Тимошка, Тимошка, — еле слышно выговорил Вася, — иди позови кого-нибудь… Таню позови, слышишь… Таню…
Тимошка привстал, напряжение проступило во всем его крепком теле, облитом сейчас мокрой лоснящейся шерстью, влажные его ноздри беспокойно двигались от усилия, от желания понять.
— Тимошка… Таню… Таню зови… — опять тихо попросил Вася, и уже в следующую секунду Тимошка стремительно мчался к дому, пластаясь над травой, прорывая завесу цветника. Вася сделал попытку еще немного отползти от воды, не смог и, опять обессилев, затих, а Тимошка тем временем ворвался в дом, взлетел по крутой деревянной лесенке на второй этаж и, шлепнув по двери тяжелой мокрой лапой, бросился к широкой тахте и, подталкивая носом свесившуюся руку Татьяны Романовны, с напряжением уставился на нее. Татьяна Романовна тотчас села в постели, отбрасывая спутанные волосы со лба, спустила ноги на пол.
— Тимошка, что тебе? Что случилось? Где Вася?
Коротко тявкнув, Тимошка метнулся к полуотворенной двери, затем, опять протиснувшись в комнату лоснящимся мокрым туловищем, коротко заскулил. Охнув, Татьяна Романовна в одной сорочке и босиком скатилась по лестнице вслед за ним.
2
Едва только Тимошка исчез, ожесточенно мотая длинными ушами, Вася уставился на простершуюся над ним большую зеленую ветвь, она отходила от березового ствола метрах в трех от земли. Вася изо всех сил цеплялся за ее струящуюся листву, но небо опять стало чернеть, сходиться в одну точку и опадать, резкий знобящий порыв ветра сорвал убитую морозом, жухлую листву, закружил и понес, рассеивая дождем по земле. И Вася, уже не тридцатисемилетний мужчина, а подросток лет двенадцати, идет по густому, сумрачному лесу. Июнь был в самом начале, и от липового цвета кружилась голова, налитый густым солнечным полумраком лес звенел птичьими голосами, был переполнен торжествующей скрытой силой, природа безостановочно и слепо творила жизнь. Вася не думал и не догадывался об этом, в душе Васи все больше полнилось это непрерывное торжество творчества, и он тоже готов был и хотел сделать что-нибудь необычное, но не знал что.
Сердце его было изумлено и даже напугано незнакомыми ощущениями и порывами, он шел дальше и дальше, все было живое вокруг, все дышало, волновалось. Он сейчас представить себе не мог, что всего полчаса назад хотел умереть от горя и что причиной этому была обыкновенная девочка, правда, очень хорошенькая, он совершенно случайно увидел из-за густого орехового куста, как она, крепко зажмурившись, подставляет лицо для поцелуя Севке Валуеву, и тот, неумело обхватив ее за шею, целует раз и другой… Но самое непереносимое было даже не это, а то, что лучший его друг Яшка Полуянов, тоже увидевший целующуюся парочку, вместо того чтобы возмутиться, воровато оглянулся, шмыгнул носом и опять нырнул в зелень, самого Васи он или действительно не разглядел., или сделал вид, что не видит.
Потрясенный этим двойным невиданным предательством, со стороны девочки, дружившей с ним уже больше двух месяцев, и со стороны лучшего друга, и больше всего опасаясь, что его увидят или предательница, или счастливый соперник, или его лучший друг, Вася, переползая от куста к кусту, выбрался наконец в безопасное место и, не разбирая дороги, бросился в лес, и вот теперь боль постепенно притуплялась, в душу непрерывно переливались солнечное могущество леса, и то, что раньше казалось непереносимой обидой, заслонялось теперь открытием, пусть еще смутным, зыбких связей всего его существа с зеленым и вечным миром.
Уже начиная уставать, Вася услышал какой-то тихий, почти хрустальный звук и замер. Звук пропал, затем опять повторился. Задрав голову, Вася опрокинулся в ярко проступившую между вершинами деревьев синеву неба, хрустальные звоны рождались именно там. Старый березняк, вперемешку с редкими старыми, косматыми елями с уже начинавшими сохнуть отвислыми бахромчатыми нижними ветвями, стал мрачнеть и сгущаться. В пространстве между деревьями Вася увидел огромную ель и вначале даже оторопел-так много она занимала места. Вася восхищенно присел на корточки, затем повалился в высокую траву навзничь. Ель головокружительно пронзала небо, и вокруг ее недосягаемо острой вершины кружилось бездонное голубое небо, зажмурившись, Вася переждал, пока в ушах пройдет тихий надоедливый писк, словно в ухо попал комар, по и с закрытыми глазами он видел острую вершину старой ели, плавно кружащуюся в небе. Такое большое дерево должно расти много-много лет, он даже не мог себе представить сколько, высокая трава надежно укрывала его со всех сторон. Старая ель стояла поодаль от остальных деревьев, вокруг нее как бы образовалась веселая поляна, вся в разнотравье-и тут и там пестрели крупные гроздья лесных колокольчиков, толстые золотистые шмели то и дело садились на их лиловые раструбы. По пути попался обросший густым плотным мхом ствол упавшего дерева, Вася отступил назад на несколько шагов, разогнался и перемахнул через поверженного временем великана, он не удержался от хвастливой мысли о своей ловкости и силе, вспомнив тщедушного Севку Валуева. Он им еще припомнит, и Севке и Яшке Полуянову, особенно Яшке! Предательское равнодушие Яшки было особенно обидным, и Вася постарался припомнить о Яшке все плохое, что знал о нем, и прежде, невероятное устройство Яшкиных глаз, которому не переставал удивляться их класс: Яшка мог одновременно смотреть в противоположные стороны и уверял ребят, что, стоя беком к доске и выводя решение задачи, видит происходящее на последних партах, по этой причине ему особенно любили подсказывать. В классе его звали просто косым Яшкой, врачи называли его случай расходящимся косоглазием, но сути это не меняло.
Незаметно березы и ели сменились редкими старыми дубами и затерянными в них островами кленов и лип, местность повышалась, и скоро Вася наткнулся на обломок известковой скалы, за ней на другой, третий, за ними еще и еще. Нагромождение камня густо поросло лещиной, дубняком, Васе представилось, что еще несколько шагов-и перед ним откроется сказочный замок с его тайнами, с его удивительными обитателями, и он с заблестевшими глазами ринулся по скалам вверх. Во всем вокруг ощущалась какая-то особая чистота и нетронутость, присутствия человека не было видно, хорошо бы построить здесь шалаш и прожить робинзоном все лето, подумал Вася, все будут сначала охать и жалеть, а потом совсем забудут его, а к осени он выроет теплую землянку, сложит из камней печь, натаскает много-много дров, заготовит орехов и грибов и останется зимовать. Лет через пять он отрастит бороду, как у Робинзона Крузо, загорит до черноты и как-нибудь проберется в город и придет в класс, то-то будет удивления!
Фантазии становились ярче, Вася встречался и с матерью, и с младшей сестренкой Лидой, и с отцом, вечно погруженным в какие-то свои чертежи, и, разумеется, с Севкой Валуевым, своим теперь уже непримиримым врагом. Севке он совал кулаком в нос… да нет, и этого он не делал, он лишь презрительно щурился, смотрел на этого тщедушного Севку и не замечал его. Потом классная руководительница представляла его классу, то и дело поправляя роговые очки, она говорила о героизме, о выпавших на его жизненном пути испытаниях и о совершенном, несмотря на них, величайшем научном открытии…
Взбираясь между известковых скал, Вася раздвинул заросли ореховых кустов и, стараясь не дышать, попятился назад, придерживая руками тонкие ветви лещины, он оставил лишь крошечный просвет. Между двух известковых выступов открывалась укромная ложбина, со всех сторон защищенная густыми зарослями. Увидеть ее можно было лишь сверху, с того места, где оказался сейчас Вася, теперь он во все глаза глядел на лисий выводок из четырех щенков. Он застал их во время еды, лисята с урчанием терзали уже задушенного, довольно крупного зайчонка, а старая лисица лежала чуть поодаль и внимательно глядела на свое прожорливое семейство умными отсутствующими глазами. Застигнутый открывшейся ему тайной и темной стороной жизни-одно уничтожало другое, — Вася вторично за день столкнулся с жестокой изнанкой жизни. Ему было стыдно своей жестокости, но он так и не смог оторваться от лисьего обеда, пока щенки не разгрызли и не уничтожили все, вплоть до головы. Лисята долго отнимали ее друг у друга, и наконец она досталась одному, самому крупному и сильному, и он тут же шмыгнул в сторону, забился под куст и стал усердно трудиться над добычей, а если кто из братьев или сестер делал попытку приблизиться, лисенок злобно морщил нос и угрожающе ворчал, свирепо ударяя перед собой лапами. Старая лисица продолжала спокойно лежать с мудро-отсутствующими глазами, она сделала свое, и дальше уже было не ее дело, дальше творила природа. Лисенок все-таки одолел неокрепшую голову зайчонка и стал лакомиться ее содержимым, подбирая с земли длинным розовым язычком любую крошку, но этого искушения не выдержали остальные и скопом ринулись на лакомство. От отвращения у Васи судорога перехватила горло, он хрустнул сучком. Старая лисица, казалось глубоко задремавшая, мягко вскочила развернувшейся пружиной и неслышно тявкнула. Мелькнув хвостиками, лисята исчезли с ошеломляющей быстротой, Вася успел заметить вход в нору под одним из известковых выступов, бывшую когда-то жильем барсука. Исчезла и сама старая лисица, осталось лишь несколько клочков грязной заячьей шерсти…
Отступив от кустов, Вася постоял в глубокой задумчивости, еще и еще раз припоминая увиденное с начала и до конца, он даже потряс головой, чтобы отогнать наваждение. Все вокруг оставалось по-прежнему чистым и торжественно-праздничным, и лисята, ощущение какой-то своей внутренней сопричастности с ними, с их жестокостью, вскоре забылись. Вася стал карабкаться выше на холм, по-прежнему дикий, таивший массу самых увлекательных неожиданностей, вершина холма была оседлана старым дубом с мощными ответвлениями бугристых корней, ведущих в глубине, во мраке земли и камня, свою мощную, неостановимую разрушительную работу. Нахмурив лоб, Вася постарался вспомнить то немногое, что ему было известно о севере и юге. Став лицом к солнцу, затем решительно повернувшись, Вася пошел точно в противоположную сторону и почти сразу же набрел на крохотный, очень светлый, холодный родничок. Он выбивался из поросшей нежной зеленью расщелины и с тихим журчанием почти сразу же опять исчезал под землею, Вася с удовольствием напился.
Теперь ему часто попадались бьющие из-под земли холодные ключи, и скоро он вышел к заболоченному берегу небольшого лесного ручья с еле-еле заметным течением. Откуда-то прилетела сорока, села на вершину осины н, явно недовольная вторжением Васи в заповедные лесные пределы, отчаянно застрекотала. Вася шел берегом ручья, а сорока перелетала за ним с дерева на дерево и безумолчно стрекотала, где-то неподалеку у нее было гнездо. Васе надоело назойливое преследование, и он бросил в настырную птицу подхваченной на ходу с земли палкой. Сорока ошалело сорвалась с дерева и растаяла в зеленом мраке леса.
Присев передохнуть, Вася перекусил первый попавшийся стебелек, пожевал его. Терпкая горечь обожгла язык, и Вася торопливо выплюнул зелень, перекатился на другое место. Будь у него сейчас кусок хлеба с колбасой и пол-арбуза, было бы совсем хорошо. Сон пришел неожиданно. Вася уже не мог открыть глаз, хотя на лицо его переместился густой солнечный блик, кто-то нежно пощекотал ему висок, скатился по щеке на шею и пропал, исчез и сам Вася.
Провалившись во тьму, он сильно ударился головой о дерево, так сильно, что ноги словно по щиколотки ушли в землю. Он попробовал выдернуть их и не смог. Он не испугался, он понял, что никакой он не Вася и никогда им не был, что он всего лишь обыкновенное дерево и что он всегда находился в этом лесу, вот здесь, рядом с большой, поросшей багровым мхом кочкой, и, прорываясь из земли, из плотного сырого удушья, к простору, свету, он даже разломил какой-то трухлявый пенек. И проклюнулся он из большого коричневого желудя много лет назад, и долго-долго пробивался к солнцу из-под двух старых берез, беспощадно давивших его, своими корнями они все время пытались сковать, смять, оттеснить его еще слабые корешки, они упорно простирали над ним свои зеленые космы, стараясь не пропустить к нему ни одного солнечного блика, ни одной капли дождя. Но и он не сдавался в тесном сплетении корней, отвоевывая для себя каждый сантиметр свободного пространства, он уходил от них все дальше и дальше в глубину земли, одновременно захватывая и любой освободившийся клочок пространства наверху и тут же просовывая в захваченный промежуток молодой жесткий лист, и вот его старинных врагов — берез давно нет и в помине, а он все стоит и тянется выше и выше, и в удачный, урожайный год крупные полновесные желуди тяжелым дождем шлепаются на землю. А те две березы давно рухнули, и их останки затянул жадный густой мох. И ему все время нужно расти, и тогда, и сейчас, в бесконечном единоборстве с окружающим враждебным миром нельзя пренебрегать ни одной лишней каплей, особенно в дождь, когда неудержимые потоки сбегают по всем его узловатым ветвям, по зеленому стволу, бьют в глянцевитые жесткие листья. Он радуется прохладному току жизни, поднимающемуся из корней, захвативших огромное пространство благодатной тьмы и вытеснивших все чуждое, постороннее и оставивших ему только необходимое и полезное. Его ветви тянутся все выше и выше, он давно уже господствует над всем остальным лесом, ему нет равных, а он продолжает расти, и вот уже в его верхних ветвях начинают путаться молнии. Он знает — надо остановиться, дальнейший стремительный рост — гибель, но он не может. Он растет и сам чувствует боль разрываемой силой роста коры, столетняя, нерушимая кора под напором лет с тяжким звоном рвется. И то, что должно было случиться, случилось: его с вершины и до корней облили потоки пламени, сотрясла немыслимая боль, надломившись почти у самой земли, он стал шумно падать. Коснуться земли он так и не успел, вдали тонко прорезался голубоватый, зовущий свет.
Вася ничуть не удивился, увидев перед собой белый гриб, со шляпкой размером с крышу дома. Гриб был с крошечными окнами и дверкой у самой земли, пригнувшись, Вася шагнул через порог, в сухое нагретое тепло, и, не веря глазам своим, стал внимательно оглядываться. Он увидел внушительное сводчатое помещение, залитое неярким матовым светом, радуясь неожиданному теплу и сухости, он сел у стены на хорошо прогретый чистый пол, весь затянутый губчатой пленкой, привалился к стене, стараясь не повредить ее губчатой поверхности, и с наслаждением вытянул ноги, все в том же испуге повредить потаенный, принявший его под свою защиту лесной мир, Вася сделал судорожную попытку проснуться и не смог.
3
Большая ветка старой березы, метрах в трех от земли, хранила прохладу и свежесть. Вася изо всех сил цеплялся за ее зеленый, струящийся свет, вот березовая веселая листва пошла мелкой рябью от легкого ветерка, но все это уже было из прошлого, мелькнуло и окончательно исчезло.
Первым Вася увидел перед собой страдающее, без кровинки лицо жены, сам он лежал на собственной, привычной кровати, а в широко распахнутое окно, с приспущенгыии льняными шторами, рвалось солнце, ярко освещая гладко оструганные сосновые стены.
— На-ка, выпей, — сказала Семеновна, помогая ему привстать и отхлебнуть из чашки. Он даже не успел удивиться присутствию здесь своей тетки, потому что все сразу вспомнил. Просто они с женой сдут отдыхать и лечиться: Семеновну же он сам вызвал побыть лето с детьми.
Вася выпил какую-то вкусную ароматную теплую жидкость, облизал сухие губы.
— Молоко с коньяком? — предположил он.
— Как же, — важно отозвалась Семеновна, выравнивая подушки.
— Вкусно, — сказал он виновато, — можно еще?
— Можно, — отозвалась Семеновна и опять дала ему отхлебнуть. — Вот, Вася, тебе звонок, какого тебе еще нужно? Дальше так нельзя, у тебя дети. И не смотри так. Будь я на месте твоей жены, я бы давно навела в доме порядок.
Женился? Женился. Завел детей? Завел. Значит, изволь довести их до дела.
Семеновна, с самой Васиной женитьбы находившаяся с Татьяной Романовной в состоянии необъявленной войны, сейчас позволила себе перейти в наступление, но Татьяна Романовна, болезненно воспринимавшая любое замечание в свой адрес со стороны Семеновны, на этот раз была полностью согласна с ней и поэтому промолчала.
— Сейчас совершенно невозможно! — резко сказал Вася и сел в кровати. Эксперимент в завершающей стадии…
Как я брошу ребят? Осталось совсем немного. Вы же знаете моего лучшего друга, этого волкодава Кобыша… В конце концов, работа, может быть, пойдет на премию в случае успеха. А тут наш вечно голодный Полуянов! Спит и видит на своей широкой груди золотое сияние…
— Все ваша дурацкая игра в награды, кто кого перетянет! — усилила натиск Семеновна, не глядя на Татьяну Романовну, но каждое слово предназначалось сейчас ей, и это понимали все трое. — Удивляюсь тебе, Таня, тебе нужен живой муж, а детям отец, а не ваши дурацкие висюльки!
Можно ли думать сейчас о премиях, когда ног не таскаешь!
Вместо ответа Татьяна Романовна, осторожно взяв Васю за плечи, заставила ею лечь. Вася, чутко настроенный сейчас ко всему происходящему, задержал руку Татьяны Романовны в своей, еще влажной от слабости ладони.
— Танюш, дети уже встали? Не очень я тебя напугал?
— Не очень. Но лучше ты сейчас поспи, а то полежи бездумно, с закрытыми глазами.
— Я лучше полежу с открытыми, можно?
— Всегда бы ты был такой покладистый, цены бы тебе пс было, Вася.
— Да разве не всегда такой? В понедельник такой был, погоди-ка, когда еще? В пятницу…
— Особенно когда Кобышу в пасть добровольно лезешь…
— Да, Кобыш? Мужик серьезный, с характером, да, Таня, си прагматик, но он умеет почувствовать направление, а это немало. Пойми, он на месте в лаборатории.
— Я знаю одно, в ключевых позициях ни с кем нельзя делиться, тем более с Кобышем, он же не человек, он танк, я его боюсь. — Татьяна Романовна, не принимая примиряющей улыбки Васи, отчужденно переставляла пузырьки у изголовья.
— Чем Кобыш тебя так достал, ну чем он опаснее, например, Полуянова?
— Как можно быть таким травоядным! Кобыш — акула, он проглотит тебя вместе с лабораторией и не облизнется, — Татьяна Романовна нервно поправила узел шейной косынки. — Почему я одна должна все предвидеть? Кто я такая? Мне скоро самой уже не будет места в лаборатории.
Кобыш выживет. Да, да, да, кто я такая, чтобы меня спрашивать, принимать меня во внимание?
Смотревший на нее с легкой полуулыбкой Вася от ее последних слов откинулся головой на подушку, и лицо его затвердело.
— Ты опять усложняешь…
— А ты упрощаешь, упрощаешь, упрощаешь, — раздельно, утяжеляя каждое слово, ответила Татьяна Романовна, солнце было уже высоко и густо заливало комнату, Татьяна Романовна совсем задернула штору. — Нечему удивляться. Ты умный человек и понимаешь все. Меня не может не тревожить наше положение. Если бы ты понял, Вася! Нельзя всю жизнь только работать. Надо когда-то заставить себя остановиться и оценить уже сделанное.
— Что, что я должен оценить, Таня? — ровно, как о чем-то безразличном для себя, спросил Вася.
— Ты хочешь, чтобы я высказала тебе все до последней запятой?
— Мы только так до сих пор и жили, — сказал Вася. — Мы…
— Нет, не так, — резко оборвала его Татьяна Романовна. — Вокруг тебя уже сложилась зона отчуждения… Талант, одаренность, исключительность! Не тревожить, не беспокоить… Ах, ах! Только бы не помешать процессу! И я первая подпала под эту магию твоей исключительности…
— Таня, — тихо позвала Семеновна, чувствуя надвигающуюся бурю, одну из тех, которые время от времени и раньше потрясали старый дом у озера, но Татьяна Романовна не услышала или не захотела услышать.
— Ты жалеешь?
— Не делай удивленных глаз, — сказала Татьяна Романовна, напряженно шагая взад и вперед перед его кроватью на жестких каблуках и тем самым подчеркивая свою готовность к дальнейшему нападению. — Больше всего мне нравится, когда ты удивляешься вещам очевидным будто только что родился на свет божий.
— Ты жалеешь? — так же ровно, безразлично повторил Вася.
— Не жалею! Как можно жалеть о том, что родился с серыми глазами, а не с васильковыми, хотя васильковые может быть, и в тысячу раз лучше.
— Не в тысячу, а в девятьсот двадцать семь!
— Вася, Вася, тебе все шуточки, ты опять уходишь от главных вопросов, а их нужно решать. Ни юг, ни горы ничего не изменят в тебе самом, и твоя амбиция — ширма за нее ты и прячешься. Главное в тебе самом — стоит только протянуть руку…
— Неужели только протянуть?
— Тебе нужно брать лабораторию, именно тебе а не Кобышу, раз Морозов уходит, — упрямо глядя перед собой сказала Татьяна Романовна. — Что ты юродствуешь? Сколько раз мы говорили с тобой об этом! Я и сейчас утверждаю тебе нужно переключиться, дать отдохнуть голове…
— Все не так просто, Танюш, ты не хуже меня знаешь, сколько порогов надо обить, чтобы получить лабораторию, лоб до синяков намозолить в поклонах…
— Раз нужно, значит, нужно, не ты один, — стояла на своем Татьяна Романовна. — У тебя — сбой, кризис, истощение-переключись! Вот единственно разумный выход. Совсем выключаться из процесса страшно, да и неразумно!
На твоих работах уже существует направление в институте, давай-давай складывай теперь уже следующее подножье, а другие будут возвышаться. Вася, тебе надо взять то, что уже тебе принадлежит по праву.
— Таня, ты действительно считаешь, что я неспособен двигаться дальше? Татьяна Романовна резко повернулась на каблуках. — Да не стучи ты каблуками, неужели у тебя нет мягкой обуви?
— Прости, — повернулась к нему Татьяна Романовна, с облегчением сбрасывая с ног туфли, ее маленькие розовые ступни казались странно голыми на некрашеном деревянном полу. — Я уверена, Вася, что, если и дальше так себя расходовать, скоро не останется ничего. Ты выдохнешься.
Я ведь тоже, Вася, вот-вот упаду от твоей гонки, ты только этого не замечаешь. Нужна передышка. Возьми лабораторию, ведь неизвестно, кто придет на место Морозова. Морозов тебя ценил, Морозов с тобой считался, давал тебе делать, что ты хочешь. Если ты займешь его место, это будет только справедливо. И ты отдохнешь, мозг отдохнет, и твой, и мой, и делу польза, поможешь молодым, своим же ребятам.
— Таня, только не надо спекулировать выгодой ребят, ладно? Совсем уж нечестно!
— А перекладывать все практические решения на плечи других, на мои например, честно?
— Ты знала, за кого шла замуж, я тебя не неволил.
— Преступно так безалаберно относиться к плодам своего труда. Ты за все платишь серым веществом, а решение практических вопросов перекладываешь на плечи кобышей и полуяновых, то есть даришь им плоды наших совместных усилий. Чудовищно, преступно по отношению к самому себе, к уже сделанному, к своему же таланту! Талант-это не бездонный сосуд, он тоже имеет определенную емкость.
— Все так, Танюш, но если я не создан для руководства, для хождения по инстанциям, если из меня не получится мало-мальски приличный руководитель?
— Ты не можешь этого знать, — Татьяна Романовна опять непримиримо хрустнула сплетенными пальцами рук. — Ты никогда не пробовал этим заниматься. Ты привык вечно тесать гигантские блоки, тогда как Кобышу для достижения того же уровня достаточно нажать кнопку на селекторе.
— Так-таки и кнопку?
— Ну, две!
— Таня, ну скажи, чего тебе в жизни не хватает? Академического пайка? Чем ты уж так не удовлетворена?
— Зачем же так примитизировать, Вася? Мне больно, мне стыдно, что твой мозг так чудовищно, так бессовестно эксплуатируется и я тоже втянута в бесконечную, изматывающую гонку.
Ровный голос и странно остановившееся выражение лица Татьяны Романовны не предвещало ничего хорошего, человек бурно эмоциональный, она в минуты гнева непонятно стихала, и даже интонации ее обычно оживленного высокого голоса менялись на глухие и низкие. Желая разрядить напряжение, Вася постарался успокоиться и придать своему лицу самое безмятежное выражение.
— Семеновна, ребят пора поднимать и кормить завтраком, давайте-ка не нарушать с самого начала режим, — начал было Вася, но Семеновна, с живейшим интересом выслушав неизвестные ей до сих пор подробности из жизни племянника, стариковски пристально взглянула на обоих и, бесшумно составив пустую посуду на ярко расписанный поднос (подносы были слабостью Татьяны Романовны), уже выплывала из комнаты, поджав в ниточку и без того тонкие съеденные губы. Дверь за ней бесшумно и плотно затворилась.
— Ну вот, перепугала насмерть старуху, она невесть что о нас с тобой подумает. А ведь сама так ждала ее!
— Не беспокойся за нее, она за себя постоит, Семеновна не из пугливых. Потом, в глазах твоей тетки ты всегда прав, она всегда на стороне мужчин, будь то ты, Олег или Тимошка. Мужчина в глазах Семеновны неправым быть не может.
— Сядь, ноги остудишь, — предложил примиряюще Вася, но Татьяна Романовна, не принимая перемирия, негодующе вздернула плечи. — Ну хорошо, Татьяна Романовна, тогда давай выступай дальше.
В лице Татьяны Романовны точно что-то захлопнулось, н Вася пожалел, что назвал жену Татьяной Романовной, а не Таней.
— Да, да, да, — Татьяна Романовна все больше проникалась к этому странному, нс желавшему палец о палец ударить для облегчения собственной жизни, человеку чувством неприязни и жалости. — Вот ты сейчас на своей кровати отчаянно себя жалеешь! Так ведь? Никто тебя не понимает, не в состоянии понять, где уж! Каргалов? Бездарь!
Векшин? Ну, этот совсем сошел с дорожки! Полуянов? Ну конечно, шут, рыжий на ковре, — усмехнулась она одними губами, хотя внутренний голос давно просил, убеждал, умолял ее остановиться, образумиться, перевести дыхание. — Да, да, да, вокруг одна только дрянь, серость, ничтожество! неслась она дальше в своем ослеплении. — В одном божественный дар, я — божественный сосуд, только мне одному доверено нести факел.
Побледневший Вася, сильнее вжимаясь в подушку, старался не глядеть сейчас на жену, видеть ее сейчас было ему трудно, почти невыносимо.
— И мою судьбу ты мимоходом перечеркнул, — продолжала свои безжалостные обличения Татьяна Романовна. — И не делай страдальческие глаза! Я бы давно уже кандидатскую защитила, у меня тоже мысли были, самостоятельные разработки… а ты все втянул в себя. Кто я теперь? Жена, секретарь, расчетчица? Нитка к иголке? Только успеваю оформлять твои мысли. Меня от цифр уже тошнит. Веришь, на обоях вместо цветов у меня цифры впечатаны, везде цифры, цифры, цифры… Переворачиваю длиннющие бесконечные рулоны с цифрами, чтобы не упустить тот единственный результат, которого ты ждешь. Слепну от цифр, а ты одним царственным взмахом отказываешься от борьбы за лабораторию, перечеркиваешь целое десятилетие совместных усилий! И какой итог?
Тяжелый, когтистый шлепок в дверь прервал речь Татьяны Романовны, и на пороге появился Тимошка, не совсем еще просохший и оттого непривычно щуплый и узкий, но все в той же грациозной позе существа благородных кровей, с внимательно чутким носом. Он пришел осведомиться, что делается у Васи и почему так долго никто не показывается из его комнаты, и Вася, встретившись с ним взглядом, ощутил опять легкое головокружение, он сам еще не совсем вернулся из мира первородных вещей, завороженно отражавшихся сейчас в непроницаемо-темных глазах Тимошки. Тимошка, отличавшийся удивительной особенностью угадывать в нужный момент свою необходимость, деловито прошлепал прямо к Васиной кровати и, не отрываясь от отчужденно-замкнутого лица Васи, преданно положил морду на подушку и замер.
— Вот, вот, — обрадовалась Татьяна Романовна новому аргументу, мстительно указывая на Тимошку. — Вот твой лучший друг, теперь ты с ним можешь остаток дней просидеть на скамейке, слушая лягушек…
Полувопросительно шевельнув хвостом и не встретив одобрения Васи, ничего не поняв и лишь ощутив нависшую в комнате грозовую атмосферу, Тимошка благоразумно скрылся под кроватью.
— Что ж ты не выходила замуж за Севку Валуева или за того же Яшку? — со странной полуулыбкой неестественно высоко поднял брови Вася. — Севка ведь так добивался, вот и были бы совершенной парой, счастливым совпадением наклонностей.
— Потому и не вышла, что ты встал на пути… Стеной, скалой! Именно твоя одаренность, твоя одержимость меня обманула! Не уметь поддержать такой успех, усилия двух жизней! Главное, не хотеть! Я бы слова тебе не сказала… если бы ты хоть раз попытался защитить себя, свои талант. Но ты же небожитель! Тебе только нимба не хватает. Хватит! С меня довольно! Не хочу остаться у разбитого корыта!
— Ты знала, за кого выходишь замуж, Татьяна Романовна, — голос Васи заставил Тимошку переменить положение и плотнее прижаться к прохладному полу. — Я тебе не обещал ни праздников, ни персональных машин, я могу повторить тот наш разговор слово в слово. Я даже помню, где мы тогда были, на Крымском мосту…. еще не начало светать.
— Не надо, — глухо, как-то вся обмякая, попросила Татьяна Романовна. Я тоже помню…. Что же делать, мы слишком горячо взялись, по молодости были слишком самонадеянны… Не рассчитали силы… Я так устала, Вася, больше не могу. Ноша оказалась слишком тяжела, мне не по силам, Вася, разве я виновата?
Почувствовав смену интонации в голосе Татьяны Романовны, Тимошка озабоченно вылез из-под кровати и переместился ближе к ее ногам, скашивая черный умный глаз то на нее, то на Васю и как бы прикидывая, кому он в данную минуту может быть больше полезен и к кому в первую очередь надо броситься на помощь.
— И ты не виновата, и никто не виноват, весь вопрос в том, на сколько еще хватит горючего, Таня.
Как всякая чуткая и любящая женщина, Татьяна Романовна чувствовала, что складывается неподвластная ей ситуация, и, что бывало с ней крайне редко, она с некоторой даже растерянностью и боязнью глядела сейчас на мужа, словно столкнулась с неудержимо влекущим водоворотом, полным скрытой, непонятной жизни и опасных воронок.
Выгадывая время для необходимой перестройки, Татьяна Романовна пустила в ход одну из самых своих непроницаемых улыбок, с какой красивая женщина разговаривает с другой, еще более красивой. Озадачивая Васю своей полнейшей безмятежностью, Татьяна Романовна присела на подлокотник низкого кресла в углу и вытянула длинные красивые ноги в золотистом, еле заметном пушке.
— Вася, ты звонил Коле Звереву? — все с той же непроницаемой небрежной улыбкой, как о чем-то маловажном, хотя это составляло главный интерес ее разговора, спросила Татьяна Романовна. — Он два раза о тебе справлялся.
— Этому-то что еще нужно?
— Он говорил о тебе с министром, Вася, что за тон?
Ты и раньше не отличался мягкостью, а теперь вообще от тебя ни о ком не услышишь доброго слова.
— А я сам? Разве о самом себе я плохого мнения?
— Вот, вот, видишь, никого рядом, кто был бы нам равен, вокруг нас абсолютный вакуум.
— Таня, что с тобой, ты шуток не понимаешь?
— Какие тут шутки, когда такая нетерпимость! Теперь вот и Яшка Полуянов, и Коля Зверев, и Севка Валуев стали тебе нехороши. Ни с того ни с сего решил сыграть в ревность, — пожала плечами Татьяна Романовна. — Так я тебе и поверила! Ты и когда целуешься, в глазах одни формулы торчат.
— Запрещенный удар, — обрадованно потер руки Вася. — В солнечное сплетение, а то и ниже. Недаром Севка Валуев у тебя сегодня с уст не сходит.
Не удержавшись, Татьяна Романовна засмеялась, пересела к Васе, затормошила его:
— Ах ты, Вася-Василек! Никак не хочешь понять, что время сейчас такое, жестокое, ничего не поделаешь. Кроме таланта, нужно еще иметь власть, а талант, что талант? Так и будут доить все, кому не лень.
— Завела свою пластинку, — отмахнулся Вася, внутренне прислушиваясь к малейшей интонации Татьяны Романовны.
— Просто тебе больше нечем крыть, — Татьяна Романовна снова перешла в наступление. — А к Севке ты несправедлив, Севка-один из немногих наших истинных друзей… Сам выбрал себе судьбу, вместо жены взял себе редкую профессию, улетел на Камчатку и живет себе поживает в своем рыбьем царстве. Чем он тебе-то мешает?
Два-три письма в год!
— Пусть бы твой Петрарка вместо писем кетовую икру или балыки слал.
— Пошлый вульгаризатор! — невозмутимо парировала Татьяна Романовна. Что ты сегодня замкнулся на Севке?
У нас своих проблем выше головы, и ни одна, заметь, не решается…
— И не решится.
— Спасибо, обрадовал.
— А что я могу, я, Танюш, ничего не могу.
— Ты можешь тесать блоки, за которые никто больше не берется, а изменить порядок вещей ты не в состоянии.
Не нами он установлен, не нам пытаться его изменить, — подвела черту Татьяна Романовна. — Меня интересует другое. Твое здоровье. Я за тебя отвечаю. С меня спросится.
Куда смотрела? Почему не уберегла? Ты, Вася-Василёк, уже не тот, что пять лет назад, хотя бы пять лет назад…
Повторяла и повторять буду-работаешь на износ. В один прекрасный день твой мозг просто откажет. И что ты будешь делать? Лудить чайники? Тебе нужно, необходимо переключение, и нечего прятаться от самого себя.
— От тебя спрятаться, точно, некуда. Конченый я человек.
— Вася, можешь ты быть серьезным хоть раз в жизни!
Господин случай подбрасывает тебе билет. Морозовы не каждый день уходят. Позвони Звереву! — Татьяна Романовна с трудом удерживалась от внезапно подступивших слез.
Тимошка, бесцеремонно отряхнувшись, подошел вплотную к Татьяне Романовне, положил ей голову на колени, туго обтянутые тонкой материей, и, неотрывно глядя на нее, внимательно дослушал ее длинный монолог, пытаясь понять, на чьей стороне правота.
— Даже Тимошка серьезней тебя. Видишь, он тоже просит, правда, Тимошка? — немедленно призвала в союзники Тимошку Татьяна Романовна, с наслаждением запуская руки в лохматую шелковистую шерсть. — Послушайся хоть его, надеюсь, его-то ты считаешь своим искренним другом?
— А ты не решай за Тимошку, — рассердился Вася. — И вообще я спать хочу, не дают человеку поболеть, каждый тут высказывается, выступает. Мы с Тимошкой спать хотим.
— Спите, спите! — с готовностью подхватила Татьяна Романовна. — Дай я тебя укрою… Может, чего-нибудь вкусненького принести?
— Не надо, — отказался Вася, с удовольствием закрывая глаза.
Татьяна Романовна слегка провела ладонью по его волосам и на цыпочках вышла. Тимошка хотел было отправиться с ней вместе, по она приказала ему быть с Васей и караулить его, Тимошка послушно улегся возле кровати.
Татьяна же Романовна тщательно, не по-дачному оделась, подкрасилась и, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, предупредив Семеновну, что уходит по делу, вышла к шоссе. Проголосовав, спустя полчаса она уже была у нужного ей дома, в самом центре соседнего с Озерной дачного поселка, здесь, находясь уже почти у цели, она опять заколебалась. Ей пришло в голову, что она своим походом к Полуянову поставит и себя и мужа в неловкое положение и что лучше всего было бы вернуться и никаких разговоров с Полуяновым не вести. И, однако, рассуждая таким образом, она уже поднималась по тесной лестнице и скоро оказалась на втором этаже деревянного коттеджа.
А может, его, на счастье, и дома не окажется, она перебросится с Мариной, женой Полуянова, парой дежурных фраз, посидит с четверть часа, выпьет чаю с обязательным в дачной жизни клубничным вареньем и вернется домой, — обнадежила себя Татьяна Романовна, притрагиваясь к кнопке звонка, и тут же услышала твердые шаги за дверью, через несколько секунд она увидела обрадованное ее приходом и удивленное лицо Яши Полуянова и улыбнулась ему, полуофициально-полудоверительно. Он пригласил ее войти, усадил в кресло, Татьяна Романовна часто бывала с Васей у Полуяновых в московской квартире, но на даче была у них впервые. Здесь, как и в Москве, царствовали вещи. Полуянов много и охотно ездил в заграничные командировки, квартира его, а теперь вот и дача были набиты дорогими вещами и редкостями и больше смахивали на антикварную лавку, где вещи не служили человеку, а соперничали друг с другом, хищно, как на аукционе, выкрикивая свою цену. Глядя на это собрание вещей, нельзя было даже отдаленно предположить профессию и круг интересов их хозяина, так далеки они были, вместе взятые, от того, чем занимались Вася с Полуяновым на работе. Хозяйка дома, пышноволосая женственная блондинка, с кроткими, небесной голубизны глазами, отсутствовала, и Татьяна Романовна облегченно вздохнула. Они недолюбливали друг друга, несмотря на внешнюю приветливость и дружелюбие.
В напевных, мечтательных интонациях Марины Сергеевны Татьяне Романовне всегда слышалась фальшь. В институтских кругах Марина Сергеевна приобрела известность своими приемами, где умела щегольнуть изысканностью и роскошью сервировки, смелостью интерьера (ее коньком была мебель), искусно подобранными и дополняющими друг друга гостями. Каждого она могла занять и обогреть, найти нужное слово, а старички профессора просто таяли в ласкающих лучах ее небесно-голубых глаз.
При всей своей кажущейся женской беспомощности, незлобивости и кротости, Марина Сергеевна активно двигала мужа по служебной лестнице и считала необходимым быть в курсе всех институтских дел.
Задержавшись взглядом на низком длинном столике в круглой нише стеклянной веранды, где блестела никелем, полированной поверхностью, разноцветными клавишами и кнопками устрашающая коллекция магнитофонов, диктофонов, миниатюрных колонок для стереофонического звучания, Татьяна Романовна с интересом спросила:
— У тебя, Яша, я вижу, дорогое увлечение…
— Я сам дорогой, Таня, — улыбнулся своей слабости Полуянов, наблюдая за Татьяной Романовной и заинтересованный ее неожиданным приходом. Это-презент, в Штатах в прошлом году преподнесли, помнишь, я с делегацией на конгресс летал… а вот этот мини-японский. Все-таки японцы в электронной аппаратуре всех опередили…
Жаль, Вася не увлекается. Экономно, красиво, долговечно… Если бы я не знал нашего дорогого Васю, я бы и тебе мини-диктофон устроил, например, размером с пудреницу… но ведь на него как найдет!
— Я к тебе, Яша, как к старому верному другу пришла, — перебила Полуянова Татьяна Романовна, со странной пристальностью глядя ему прямо в зрачки. — Мне нужно поговорить с тобой, о Васе…
Полуянов от неожиданности моргнул, и глаза его разбежались в разные стороны, хотя все в институте давно привыкли к этой его особенности, Татьяне Романовне стало как-то неуютно, не по себе, и Полуянов, с чуткостью человека, давно знавшего и ее, и Васю, и все сложности их отношений, угадал ее настроение.
— Да ладно тебе, — сказал он просто. — Свои же люди. Чего там, выкладывай.
— Понимаешь, Яша, он по-прежнему отказывается от борьбы за лабораторию. Звонил Зверев Коля, говорит, что новое назначение Морозова уже пошло к министру. Он почву там предварительно подготовил, говорит, Васе самому теперь надо постараться. А этот уперся. Ничего с ним не могу сделать, Татьяна Романовна нервно переплела пальцы. — Для Васи это было бы спасением, он устал от перегрузок, сколько можно выжимать из себя! Ему нужна передышка, переключение. Он за Морозовым был как за каменной стеной. Не возьму в толк, что делать, как на него повлиять. Меня он совершенно не воспринимает, к моим доводам глух. Он в автономном полете.
— Я не уверен, что мои доводы он воспримет иначе.
— Надо же что-то делать, Яша! — воскликнула Татьяна Романовна. — Что еще можно сделать? Со Зверевым еще можно поговорить, а ты, Яша, пробейся к Чекалину, ты ведешь эксперимент и останешься за Васю в его отсутствие, тебе и карты в руки. Ты умный, придумай, что можно сделать…
— Я умный, а он талантливый, — усмехнулся Полуянов. — Да не во мне дело, Татьяна. Мне он тоже дорог, хотя он привык плевать на мое мнение. Подожди, подожди, — мягко остановил ее Полуянов. — Ты, Татьяна, не горячись, ты-то его знаешь… Что это-блажь или в самом деле натура? Я все возможное уже предпринял. Помощника Чекалина обработал. На своем, конечно, уровне. Я, сама знаешь, немногое могу. Сколько с ним бился… Как об стенку горох! — воскликнул Полуянов, и лицо его пошло пятнами, — Ну там школьные товарищи, старая дружба… Но последний раз он меня просто оскорбил, хуже-унизил! Ну ладно, он выше нас на три головы. Но есть же предел терпимости, Татьяна!
«Конечно, есть!» — подумала Татьяна Романовна, в то же время примиряюще улыбаясь Полуянову.
— Помнишь, Яша, как мы все хотели поскорее вырасти, стать взрослыми и получить самостоятельность? Дураки мы были…
— Татьяна, жизнь не перехитришь, — сказал Полуянов. — Вчера от Севки Валуева письмо получил, грустное письмо. Правда, какой он теперь Севка, он теперь Всеволод Никанорович, докторскую защитил, книжку о своих лососевых написал… вот он мне книжку прислал. Фундаментальная работа!
В руках у Татьяны Романовны оказалась книжка, действительно увесистая, в добротном красивом супере, почему-то боясь раскрыть ее, Татьяна Романовна притихла, глаза ее затуманились, но она ни на мгновение не забывала о Полуянове, давшем ей возможность побыть наедине с прошлым и вышедшем на минутку на кухню поставить вскипятить воды для кофе. «Все может быть», — подумала сна, пуская страницы книги веером, вроссыпь и выхватывая глазами частые цветные схемы, добротно отпечатанные иллюстрации, остановившись на одной, она долго с удивлением рассматривала тупую рыбью голову с полуоткрытым круглым ртом и вздувшимися жабрами. Она неприметно вздохнула, тихая улыбка тронула ее губы. Севка Валуев любил ее, об этом знала и она, и родители, и Вася, но Сева, весь какой-то отутюженный, в костюме с иголочки, узкоплечий, болезненно стеснительный, всегда бесследно терялся среди своих же товарищей, пожалуй, она лишь однажды почувствовала в нем за неброской, робкой внешностью темную, нерассуждающую, всепоглощающую до степени самоотречения тяжесть страсти, то, с чем ей никогда не пришлось столкнуться в отношениях с Васей. Она была потрясена и напугана, но Севка Валуев выбрал для объяснения самое неподходящее время, перехватил ее, когда она возвращалась от Васи, счастливая, ослепленная, бережно неся в себе неостывшее тепло его губ…
Вернулся Полуянов, и запахло крепким кофе, Татьяна Романовна отсутствующе улыбнулась ему навстречу и осторожно, словно освобождаясь от дорогого, но уже ненужного груза, положила книгу на низенький столик рядом с японским магнитофоном.
— Сева обещает скоро наведаться в родные пенаты, — сообщил Полуянов и подал ей тонкую просвечивающую чашечку с кофе. Тут же он принес нарезанный лимон и начатую бутылку коньяку.
— Не женился? — спросила она, осторожно поднося к губам чашечку и отхлебывая кофе.
— Если ему верить, нет, — ответил Полуянов, стараясь как-нибудь ненароком не смутить и не спугнуть ее и поэтому с нарочитой медлительностью добавляя себе в кофе коньяк. — Впрочем, что об этом рассуждать, время на Руси теперь странное, мужики пошли какие-то закомплексованные. Татьяна, вспомни, сколько у нас ходит в институте тридцатилетних, а то и сорокалетних в холостяках… Черт разберет, что такое происходит! Поговори вон с демографами, они прямо утверждают, что бабы рожать не хотят, слишком обэмансипировались. Не смейся! — повысил Полуянов голос. — Смешного здесь мало!
— Я не смеюсь, с чего ты взял! Я думаю, почему мы такие умные в масштабах космоса и такие беспомощные в своей собственной судьбе?
Прихлебывая кофе с коньяком, Полуянов молчал.
— Пойду, Яша, — Татьяна Романовна вздохнула и встала. — Прости за вторжение, Марине привет.
Уже попрощавшись, остановилась на минутку в прихожей, у двери, оглянулась и, словно чего испугалась, торопливо кивнула, толкнула дверь и вышла.
4
Вася был физиком, по сути дела осуществлявшим научное руководство по разработке новой перспективной проблемы в одном из исследовательских институтов. В последние два года Вася сильно продвинулся в осуществлении намеченной программы и получил серьезное нервное истощение, и теперь его отправляли в длительный отпуск и на лечение, а он упорно сопротивлялся. Как всегда, ему не хватало двух-трех недель, и он пытался уверить в этом прежде всего жену, но Татьяна Романовна придерживалась другой точки зрения и делала все возможное, чтобы увезти Васю из Москвы. По ее мнению, Вася просто задался целью погубить, перечеркнуть достигнутое ими обоими в их трудной совместной жизни, и в этом было немало горькой истины.
Тимошка же был истинным философом, и, сидя на мостках над озером и усиленно двигая ушами и бровями (это у него служило признаком крайне напряженного размышления), он тоже частенько задумывался над превратностями жизни, к тому же, в отличие от людей, Тимошка никогда ничего не забывал из прошлого. Когда, например, несколько лет назад еж Мишка, еще не носивший таких, как сейчас, роскошных бакенбардов, неожиданно подскочив, уколол его в ничем не защищенный нос, для Тимошки случившееся явилось целым потрясением, и он навсегда запомнил коварство ежа. Впоследствии он уже никогда не разрешал себе близкого общения с ежом Мишкой и, сталкиваясь с ним, преследовал его громким лаем, рвал когтями траву и угрожающе тряс головой на безопасном для себя расстоянии. И еж Мишка вынужден был подолгу неподвижно лежать, свернувшись клубком, и злобно фыркать.
Видя, как Мишка выходит из себя и бесцельно подпрыгивает, сторожа каждое его движение, Тимошка с удовольствием смеялся, грациозно выставляя из-за зубов кончик розового языка. Еж Мишка, в свою очередь, считая, что достаточно усыпил бдительность врага, осторожно выдвигал из-под колючек хитрую рожицу, одним неуловимым движением удлиняясь, броском устремлялся в укрытие. Тимошка только того и ждал, мягко распластавшись, он прыгал, опережая удирающего ежа, и, угрожающе рыча, делал вид, что готов беспощадно ухватить Мишку за самоуверенный, похожий на поросячий, только очень темный носик, и ему, крайне занятому, всегда торопящемуся куда-то по своим делам, ничего не оставалось, как снова немедленно свернуться в тугой пружинящий клубок и бесконечно ждать.
Хотя люди и всемогущи, они все равно не были способны понять всей сложности и увлекательности Тимошкиных взаимоотношений с ежом Мишкой или Чапой. Несмотря на это, Тимошка самозабвенно любил обитателей светлого дома, окруженного садом и лесом, да еще с чудесным озером в березках, и это чувство обожания и беспредельной преданности Васиному дому пришло к Тимошке вместе с его появлением на свет и от него совершенно не зависело.
Часа через полтора незаметно вернулась Татьяна Романовна, и день покатился своим чередом. Тимошка считал все объяснения между Васей и Татьяной Романовной законченными, а Васю готовым вернуться к своим обычным занятиям, к сидению у озера, веселым играм и прыжкам, но для самого Васи самое мучительное только начиналось, и мучительнее всего было чувство вины перед женой, свое бессилие объяснить ей, почему именно сейчас нельзя было оставить эксперимент и отправиться к теплому морю. Вася был большой оригинал, и его часто угнетало то, что радовало других.
Семеновна, успокоенная установившимся миром, с одушевлением хлопотала по хозяйству. Татьяна Романовна несколько раз заглядывала к спящему Васе, он ровно и тихо дышал, лежа в своей излюбленной позе на боку, по-детски доверчиво подложив ладонь под щеку. Ближе к обеду Татьяна Романовна еще раз поднялась наверх, Вася обрадованно улыбнулся ей навстречу.
— Танюш, я поспал, я в порядке, — сказал Вася. — Ты как? Здорово я тебя напугал?
— Вася, я же закаленная, в семи кипятках кипяченная.
Ничего со мной не будет. Вот поедем к морю, отдохнем, тебя наладим…
— Да, Танюша, чего меня налаживать? Я же не телевизор.
— Значит, договорились, я заказываю билеты, — подняла тонкие брови Татьяна Романовна.
Вася отвел глаза, промолчал.
— Договорились, в пятницу уезжаем, — подвела черту Татьяна Романовна и, как-то особенно твердо ступая острыми каблуками по деревянному полу, провожаемая внимательным взглядом Тимошки до самых дверей, вышла.
— Вот, слышишь, Тимошка, — неискренне пожаловался Вася, — у женщин своя логика. В пятницу, и кончено.
— Раз ты ничего не ответил, значит, согласен, а, Тимошка?
— Ты тоже так считаешь?
Тимошка не был подхалимом и, зная доминирующее положение в доме Татьяны Романовны, в конфликтных ситуациях предпочитал отмалчиваться и не брать ничьей стороны, но в глубине души он всегда считал правым Васю, и только его. И сейчас так же, как и всегда, незамедлительно ткнулся носом в большую теплую руку Васи и от волнения и чувства беспредельной слитности с ним судорожно вздохнул, почти всхлипнул.
— Что тут поделаешь, Тимошка, — продолжал рассуждать вслух Вася. Самое главное, ничего изменить нельзя, а значит, нужно выбросить из головы. Освободить место для другого. Тимошка, а Тимошка, — тут Вася пристально посмотрел Тимошке в глаза и понизил голос, показывая, что намерен сообщить нечто очень серьезное, и Тимошка в ответ понимающе шевельнул бровями. — Ты даже не догадываешься, какой ты интересный мужик! — Тимошка опять с усилием шевельнул бровями, стараясь понять. — Ты знаешь, где я сегодня был? У тебя в гостях, в твоем мире… вот где, брат, жизнь идет оправданно, целесообразно, без выкрутасов. Вот где дважды два четыре, а уж никак не пять. Понимаешь? — Тимошка теперь двинул не только бровями, но и ушами, утверждая, что не только понимает но и сочувствует. — Ясно, лучше быть здоровым и сражаться с ежом Мишкой (Тимошка насторожился) или с Чапой (Тимошка весь напрягся при этих словах), чем лежать в больнице с нервным истощением. А? Татьяна-то Романовна права. И Семеновна права. Дети есть дети… Вот ты от этого совершенно избавлен… Вот так, Тимошка, у женщины биологическое чутье, а?
Подняв голову, Тимошка безотрывно смотрел на Васю, не выдержав Васиного пристального и долгого взгляда он неуловимо-грациозным движением отвел голову вбок к вниз, словно, не находя ответа, смутился. Засмеявшись Вася ухватил Тимошку за густую нерасчесанную, спутанную шерсть, подтащил к себе, Тимошка с готовностью заворчи подтыкая носом простыню.
— Ну, чего надулся? Дома Семеновна останется Олег с Дашей. Весело будет, лето пройдет, не заметишь. А там и мы с Татьяной Романовной приедем… Брось, Тимошка не валяй дурака, есть, брат, обстоятельства. Все должны чемто жертвовать, собаки тоже. Ты думаешь, мне хочется уезжать? Еще как не хочется, да надо…
Легкий, неслышный порыв ветра приподнял сквозящим занавески в окне, и в комнату влетела большая бабочка махаон, Вася с Тимошкой стали внимательно следить за ее бесшумным, резко меняющим направление полетом Тимошка, ожидая более определенной реакции Васи на непрошеное появление суматошного пятна, высвободив на всякий случай голову из рук Васи, водил носом вслед за бабочкой. Утомившись и не отыскав выхода, махаон большим резким пятном прилепился к матовой раковине люстры. О нем тотчас забыли, потому что появился расстроенный и даже злой Олег с насупленными бровями и красными пятнами на щеках. Едва взглянув на него, Вася понят настроение сына, но виду не подал, и Тимошка, бросившийся было запросто поздороваться с Олегом и самозабвенно завертевший хвостом, неуверенно ткнулся ему в ноги Рассерженный Олег был очень похож на Васю-такие же длинные сильные брови, косым росчерком уходившие к вискам, такие же серые глаза в дремучих ресницах, тот же упрямо сжатый большой рот, придававший всему лицу сосредоточенно-твердое, отстраняющее выражение. Олег затворив дверь, хмуро привалился к дверному косяку, не обращая внимания на искательно засматривающего ему в лицо Тимошку.
— Здравствуй, Олег, — сказал Вася. — Ого, сердит-то!
И не здороваешься… Мы же не виделись еще сегодня.
— Я никогда не буду с тобой больше здороваться, — отчеканил Олег, и от собственной решимости у него воинственно вспыхнуло лицо.
— Почему же? — удивился Вася, однако моргнул и тут же, прикрывая свое смущение, потянулся протереть глаза.
— Вы с мамой обещали взять меня к морю? — голос Олега почти оборвался на самой высокой ноте.
— Ну, обещали…
— Мама сказала, дело решенное…
— Дальше, Олег.
— И обсуждению не подлежит, — голос Олега непростительно задрожал от обиды.
— Мама еще что-нибудь сказала?
— Сказала… Мы с Дашей надоели вам и дома, и она хоть мир увидит да вздохнет, — стараясь говорить спокойно, Олег даже побледнел от усилия.
— И дальше?
— Нечестно же…
— Может быть, Олег, — понимающе вздохнул Вася и посмотрел на Тимошку, с усилием вслушивающегося в происходящий напряженный разговор, Вася сейчас искал у него поддержки, но Тимошка, до конца не разобравшись в ситуации, хотя и почувствовал затруднительное положение Васи, прикинулся, что ничего особенного не находит, часто дыша, он высунул язык, сделал вид, что обнюхивает ноги Олега, ведь тот только что пришел из сада и мог принести с собой кое-что интересное. И Вася, убедившись, что со стороны Тимошки помощи ожидать нечего, опять обратился к Олегу, явно решившему стоять насмерть. — Садись, Олег, — вздохнул Вася. — Давай по-мужски поговорим… откровенно.
— Мы уже в прошлом году говорили, когда ты меня в лесничество не взял.
— Ты же теперь вырос, — нашелся Вася, неожиданно наталкиваясь на спасительный берег.
Озадаченный, Олег вынул руки из-за спины, переступил с ноги на ногу, по собственному горькому опыту он знал коварство взрослых, за будничными и самыми скучными правильными словами у них часто скрывался совершенно другой, неожиданный смысл.
— Ну, садись, Олег, садись…
Олег не сразу подошел, примостился на краешке кровати, обрадованный явным примирением двух самых близких ему существ, Тимошка тотчас решил восполнить свое упущение и, встав на задние лапы, потянулся и лизнул Олега в нос. Вася засмеялся, довольный этой помощью и одобряя ее, Тимошка всегда удивительно точно угадывал настроение Васи.
— Год много, пап, правда? — спросил Олег, изо всех сил стараясь сохранить серьезность и направить ход событий в нужное русло. — Я ведь теперь самый тяжелый рюкзак смогу тащить.
— Конечно, сможешь. Давай только вопрос повернем несколько иначе, предложил Вася и, не дожидаясь возражений, продолжил:-Допустим, ты, мама и я отправляемся к морю, затем в горы… так?
— Так.
— И оставляем в доме одних женщин.
— А Тимошка? — горячо прервал Олег, понявший, откуда повеяло опасностью. — Ты Тимошку не считаешь?
— Тимошка, конечно, хорошо, — согласился Вася. — И все же представь себе ситуацию — Тимошка заболел или с ним что-нибудь случилось, ведь может с ним что-нибудь случиться? — Не дождавшись ответа, Вася развел руками, показывая, что он сам огорчен не меньше Олега. — Всегда должен быть кто-то третий, чтобы заменить в случае беды, прийти на помощь, взять на свои плечи главную тяжесть, — говорил Вася, сам страдая от несчастного выражения на лице Олега, и, пытаясь отвлечь его от невеселых мыслей, указал на люстру и на прилипшего махаона. Олег и глядеть не стал, недовольно сдвинув брови. — Потом, Олег, ты видел два засохших дерева у озера? А по участку их сколько… Надо убрать, я подбирался, подбирался к ним, да так и не успел. Теперь ты уже можешь с ними справиться, будь только осторожней, когда дерево падает. Надо за лето весь сушняк убрать и постепенно сжечь, а то нехорошо-стоит умершее дерево. Зачем? Сколько в нем вредителей и болезней, заражает другие, здоровые.
— А ты скажи бабе Жене, чтобы она не мешала, — уже примиряясь с положением дел, хотя не сразу и далеко не радостно, пробурчал Олег. — Она ведь и топор запрячет.
— Я попрошу ее.
— Ты ей серьезно скажи.
— Хорошо, Олег, — улыбнулся Вася. — Что еще говорила мама?
— Да… про тебя говорила.
Олег замолчал, продолжая остро переживать свое поражение и жалея Васю, они были большими друзьями.
— Пап, а ты правда так уж болен? — не выдержал наконец Олег.
Вася хотел поначалу все обратить в шутку, но Олег оставался серьезным, и Вася, глубоко заглянув в его потемневшие страдающие глаза, обеспокоился и удивился мыслью, что сын действительно за последний год сильно изменился и повзрослел, сфальшивить было невозможно.
— Наша мама героическая женщина, — сказал Вася. — Она сама очень талантливая. У нее были красивые решения, красивые работы. Только жизнь не переупрямишь, Олег, в двух разных упряжках мы бы не потянули. Вот мама и пожертвовала собой, осталась только моей помощницей, а тут как тут и вы с Дашей появились… Вовсе не до большой науки стало, при нашем-то быте. Далеки мы еще, Олег, от истинной гармонии. Я маму понимаю, ей со мной нелегко, она яркая личность, вот потому мы с тобой и должны быть чуткими к маме. И прощать ей надо всякие там женские капризы, неровности. Вот видишь, со мной срыв — гнал, гнал без передышки. Я виноват перед мамой, только ведь я мало что могу изменить.
— Зачем же менять? — опять нахмурился Олег, изо всех сил стараясь понять прозвучавшую в словах отца какую-то скрытую неустроенность. — Мама ведь любила тебя.
— Почему-любила? — удивился и обиделся Вася. — Она и сейчас меня любит, и я ее люблю, — добавил он, смущаясь своих слов и серьезного, понимающего выражения лица сына. — От тебя, Олег, сейчас многое зависит. Видишь, я свалился, — Вася неуверенно развел руками. — Тяжести не могу поднимать и все такое… Ненадолго, конечно, пройдет. Подлечусь, и пройдет. Но сейчас в семье ты единственный здоровый мужчина, на тебя одна надежда, а то женщины растеряются, разохаются, женщины, они такие. Им помогать нужно. Помоги маме купить необходимое к отъезду. Поддержи ее. Еще я хочу тебя попросить…
Мы уедем, а ты, Олег, помни о сестре, Даша не должна чувствовать себя одинокой без нас. Конечно, она младше тебя и девочка, но дело в другом. У нее нелегкий характер, а Евгения Семеновна больше тебя любит, Евгения Семеновна уже пожилой человек, ее уже не переделаешь, и ты должен как-то незаметно подправлять их отношения… Договорились? Чтобы было все по справедливости.
Олег засопел, кивнул и отвел глаза, он придумывал, как бы показать отцу свою готовность сделать не только то, о чем тот просил, но в тысячу раз больше, он любил Васю, и ему сейчас нестерпимо хотелось потереться головой о его тяжелые руки, непривычно неподвижно лежавшие на белой простыне. Положение спасла ворвавшаяся в комнату с отчаянным визгом Даша, она, как всегда, словно свалилась с неба, была растрепана, с полными ужаса глазами.
Остро переживавший такие ситуации Тимошка заинтересованно запрыгал вокруг нее, подняв оглушительный лай.
Даша бросилась к Васе.
— Папа, папа, вор, вор! — кричала она. — У нас на кухне вор! Из холодильника еду забирают, во-от такая спима! Скорей! Скорей, пап!
Олег с хохотом свалился на кровать рядом-с Васей и от восторга стал молотить воздух ногами, Тимошка, не раздумывая, тоже заскочил на кровать, перекрывая всех радостным лаем.
— Да тетя Женя ночью приехала. Мы с мамой поздно вечером ее встречать ходили на станцию! Вот что! — смог наконец выговорить Олег. — Ну трусиха, ну трусиха!
Озадаченная Даша помедлила, затем топнула ногой и убежала сама удостовериться, а Вася с Олегом заговорщически переглянулись.
С этого часа и вплоть до самого отъезда Васи с Татьяной Романовной к морю в доме стояла кутерьма, ни днем, ни поздним вечером не утихали оживленные хлопоты, укладывались и перекладывались чемоданы, покупались рюкзаки, кеды, купальные принадлежности. Олег с Татьяной Романовной не раз ездили в Москву в магазины, затем покупки дружно обсуждались на семейном совете. Татьяна. Романовна купила себе модный, очень открытый купальник. Примерив его дома, она вызвала восторг Даши и неодобрение Семеновны, Семеновна со своей привычной ласковостью в голосе ядовито заметила, что уж приличнее совсем голым ходить, чем этими полосками себя прикрывать, и Татьяна Романовна с Васей утвердительно закивали в ответ, Олегу же купальник понравился, и он его безоговорочно одобрил.
Стояла хорошая погода, березы над озером шумели к вечеру от малейшего ветра, и, если небо было чистым, в глубине озера начинали копиться предвечерние тени с их тайнами, шорохами и неожиданностями. Из своей норы выбиралась Чапа и, бесшумно выставив одни лишь глаза да усатый нос, плыла к берегу, где росла сладкая осока, затем важно возвращалась, уже с пучком травы во рту. Теперь Чапа на всю ночь становилась полновластной хозяйкой озера, Даше категорически запрещалось подходить к воде в темную пору, Олег за долгий день уставал от солнца и движения и рано засыпал, и только один Тимошка неукоснительно обходил свои владения и, заставая Чапу за добыванием корма, спугивал ее ожесточенным лаем.
В сумерки на скамейке над озером часто сидела Татьяна Романовна, она любила воду и отдыхала в одиночестве.
Если у Васи выпадали свободные полчаса, он присоединялся к Татьяне Романовне, и они, изредка негромко переговариваясь, завороженные тишиной, засиживались допоздна, до самого восхода луны, но в последние дни перед отъездом времени ни у кого не оставалось, даже Тимошке его не хватало, и он прекратил свои ночные вылазки и нс. пугал больше Чапу. В доме стали происходить разные небывало интересные вещи, и особенно по вечерам, и Тимошка, стараясь, по своему обыкновению, ничего не пропустить, едва успевал обойти всех, и детей, и Семеновну, и Васю с Татьяной Романовной на их втором этаже. Кроме того, чаще обычного теперь звонил телефон, и Тимошке, тоже по давней привычке, ставшей теперь его обязанностью, то и дело приходилось мчаться в гостиную, садиться рядом с телефоном и лаять. И хотя Тимошка порой делал вид, что страшно устал и телефон ему осточертел, втайне очень гордился этой своей обязанностью, и особенно много слов признательности слышал он от Семеновны, в последнее время Семеновна стала заметно слабеть слухом, и Вася все обещал ей достать слуховой аппарат новейшей конструкции, почти незаметный. Вкуснее всего было, разумеется, у Семеновны на кухне, веселее у Татьяны Романовны с Васей, в последние дни на второй этаж совсем перекочевали и дети, и Тимошка не имел права ничего упустить из происходящего в доме. Татьяна Романовна затеяла шить себе и Даше ситцевые сарафаны, Семеновна приходила руководить и отпускать критические замечания, Тимошка добросовестно присматривал за всеми. Женщины оживленно обсуждали фасон и кроили материю, Семеновна, давно уже открыто осуждавшая Татьяну Романовну за то, что та морит себя диетой, и на этот раз не удержалась. Но Татьяна Романовна была в хорошем настроении, и обычной размолвки между ними не получилось.
— Ах, тетя, тетя! — весело сказала Татьяна Романовна. — Мы так мало знаем о самих себе, возможности человеческого организма так мало изучены… Тетя, вам известно, что в нашей стране каждый третий переедает? Ну зачем, скажите, наращивать лишний вес?
— Конечно, куда уж, — в тон ей отозвалась Семеновна. — Недаром теперь стали такие диетические, где уж теперь рожать и кормить. Теперь уж грудью не кормят, не-ет, куда! Теперь, не успел младенец глазки открыть, ему в рот бутылку со смесью. Искусственники все, отсюда и болезни.
Искусственный век, сплошь синтетика. Натуру перевели, скоро дети синтетические пойдут.
— Допустим, демографический спад имеет и другие причины, — Татьяна Романовна хотела продолжить свою мысль, но Даша, взявшись мастерить из лоскутьев летнее платье для своей любимой куклы и заслушавшись, о чем, хотя и непонятном, говорили взрослые, больно уколола себе палец и разревелась.
Тимошка подошел и, утешая, полизал ее мокрые щеки.
— Ты, Тимошка, ей пальчик полечи, — сказала Татьяна Романовна.
Тимошка не понял или подумал, что это совсем уж каприз. Он независимо отправился к Васе. Нацепив на нос большие роговые очки, Вася читал газету, и Тимошка остался им доволен. Газета в руках у Васи говорила Тимошке о хорошем, домашнем настроении у Васи. Тимошка хотел было прыгнуть к Васе на диван, но вовремя вспомнил, что рядом Татьяна Романовна, по странному женскому капризу, она сердилась на Тимошку за подобную вольность. Оглянувшись на нее, Тимошка слегка улыбнулся, высунув кончик языка и всем своим видом показывая, что ему куда приятнее лежать на прохладном и чистом полу, чем на душном и старом диване: скоро идущая от Васи волна покоя усыпила Тимошку, он тоже должен был иногда спать.
В день отъезда с самого утра Семеновна принялась печь пирожки на дорогу и жарить курицу и все охала, что не успеет до шести часов, когда за Татьяной Романовной и Васей должна была прийти машина и отвезти их на аэродром. Тимошка, вставший чуть свет вместе с Семеновной, ни на шаг от нее не отходил.
— Ласковое у тебя сердце, Тимошка, — одобрила Семеновна и дала ему кусочек вкусной мясной начинки для пирожков. — Ешь скорей, а то увидят и опять нас с тобой ругать будут. Пусть уж наша Татьяна Романовна морит себя свеклой да морковкой, а для здоровья без мясного нельзя.
Какой же мужчина без мяса? Ткни пальцем, и упадет.
Тимошку не надо было упрашивать, он был полностью солидарен с Семеновной и в отличие от Татьяны Романовны не боялся пополнеть. Проглотив начинку, Тимошка широко облизнулся и благодарно повилял хвостом, за это ему тут же подбросили куриное горлышко, предварительно макнув в соль. Такое лакомство Тимошке доставалось не часто, он вначале даже не поверил, затем осторожно взял горлышко в зубы, оглянулся на Семеновну, словно ожидая, не передумает ли она, и уж затем как-то незаметно, боком, боком выскользнул из кухни и унес нежную куриную шейку к озеру, чтобы там насладиться ею в одиночестве.
За завтраком Даша успела стащить румяный пирожок, чтобы тоже съесть его вместе с Тимошкой где-нибудь в укромном месте, но Татьяна Романовна заметила и заставила ее положить пирожок обратно на блюдо, сказав скучным голосом, что воспитанные дети должны есть за столом.
И тут раздался настойчивый и долгий звонок, кто-то пришел, и Тимошка с хриплым лаем понесся к калитке. За ним поспешил Вася в сопровождении Семеновны, очень любившей встречать гостей, тут, возле калитки, лицо у Васи сделалось кислым, он даже не сумел скрыть разочарования.
— А, ты, Яша, заходи, заходи, — вяло пригласил он Полуянова, державшего в руке «дипломат» и роскошный букет чайных роз.
— Ребята на колесах, всего на несколько минут, по пути, — торопливо поздоровался Полуянов, его глубоко посаженные, странно разбегающиеся в разные стороны глаза глядели сразу на Тимошку, на Васю и на Семеновну. Всем привет… Марина розы послала Татьяне и еще кое-что на дорогу. Балычок и там всякое по мелочи. Держи, — Полуянов передал Васе розы, извлек из «дипломата» аккуратно упакованный в пергамент тяжелый пакет, его неспокойный левый глаз снова и снова останавливался на Тимошке. Полуянов озадачился, что у него ничего не припасено еще и для Тимошки, и огорченно развел руками. — Ничего не попишешь, брат, вышла осечка, тебе в другой раз, — пообещал он.
Подозрительно втягивающий ноздрями воздух, Тимошка в ответ на его слова отвернулся и пересел на другое место, подальше от калитки, он уже запомнил Полуянова и не любил его, от Полуянова сочился какой-то особый раздражающий запах, и всякое появление этого неприятного запаха оставляло после себя плохое настроение, хмурые лица и озабоченность, уж это Тимошка хорошо знал по собственному опыту.
Проводив Полуянова, вышагивающего рядом с Васей, неодобрительным долгим взглядом, Тимошка молча отправился по своим делам, Полуянов был неприятный и скучный человек, на него даже лаять было неинтересно. Но уже через несколько минут Тимошка забеспокоился: он оставил Васю без присмотра, наедине с человеком, внушающим глубокое недоверие, и защитить Васю, если что, будет некому. Бросившись в дом, Тимошка застал Васю в сильном волнении и, тотчас заняв оборонительную позицию у ног хозяина, предупреждающе заворчал на Полуянова, смотревшего, по своему обыкновению, в разные стороны.
— Все, Яша, у меня чисто! — развел руками Вася. — Просто ничего готового больше нет. В моем личном столе и сейфе совершенно пусто. И здесь, — Вася шлепнул себя ладонью по лбу, — сплошной сквозняк! Сквозняк, понимаешь? Хватит вам за глаза, вы меня и без того обобрали до нитки. На два-то месяца программы сверхдостаточно!
Полуянов выразил на своем лице сочувствие и, взглянув на простые некрашеные полы кабинета, даже не застланные паласом, тяжело вздохнул.
— Вася! Василии Александрович! — сокрушенно покачал он головой. — Не горячись! Вот нагнал ты на всех страху! Конечно, работы на — лето сверх головы. Сверхдостаточно! Это я так, к слову. Общий же котел. Вот и сорвалось с языка.
— Знаю я вас! Первичную информацию сначала обработайте, тогда и говорить будем. Дай бог, чтобы успели к моему возвращению, — Вася заглянул в неспокойные глаза Полуянова и стал завязывать развязавшийся шнурок.
— Сделаем, Василий Александрович. А ты о заделе все-таки подумай.
Пришла раздосадованная Татьяна Романовна, села в глубокое кресло в углу и стала молча слушать, не принимая участия в разговоре, разговор между старыми школьными друзьями шел в полуофициальном, подчеркнутом тоне, она не раз замечала, что мужчинам доставляет определенное удовольствие эта примитивная игра.
— Оставь ты его в покое, Яша, — наконец вставила она. — Напрасно бьешься, он же удила закусил, ты ведь его твердолобость знаешь не хуже моего….
— Делу же, делу урон! — трагически воздел руки Полуянов под настойчивым взглядом Татьяны Романовны. — Ты еще поймешь, какую глупость допускаешь, карась-идеалист! Ты еще локти покусаешь. Надо, Василий, брать в руки весь комплекс, пока не поздно. Неизвестно ведь, старик, кто придет на смену Морозову, даст ли он тебе заниматься чистой теорией или заставит пахать на себя. У нас, старик, уже физически не остается времени для нового разбега.
Ладно, ладно, молчу! Но учти, Василий, через пять лет у нас с тобой другой разговор пойдет.
Тимошка опять угрожающе заворчал, и Полуянов развел руками и окончательно сдался, они еще немного поговорили с Васей о текущих делах и стали прощаться. Полуянов пожелал Васе с Татьяной Романовной хорошего отдыха, теплого моря, счастливой дороги и еще более счастливого возвращения.
Вася пошел проводить его до шоссе, вернувшись и отчего-то развеселившись, он схватил Тимошку за передние лапы, заставив его вместе с собой провальсировать до террасы.
— Ты смотри, — серьезно сказал Вася, глядя в непроницаемую тьму преданных любящих глаз Тимошки, — ты этого типа без нас на порог не пускай! Он — среднеарифметическое. Он — всевидящее и всеобъемлющее. В любую щель пролезет и сухим выйдет. Засунет в свои бездонный карман самое дорогое и будет таков, ищи-свищи ветра в поле. Он и хороший, и добрый, но — в свою пользу, для своего желудка. Знаешь, Тимошка, у воинствующей серости самые универсальные желудки и самые бездонные карманы. Понял?
Татьяна Романовна, стараясь подольше побыть с детьми и попутно завершить необходимую воспитательную программу, заторопилась с обедом, женщины стали накрывать на стол. Даша, не любившая никаких домашних обязанностей, на этот раз безропотно разложила ножи, вилки и ложки и даже по-хозяйски вытряхнула из хлебницы крошки воробьям.
Обед прошел молчаливо и несколько грустно, затем, после всяческих наставлений и распоряжении Татьяны Романовны, разговор переключился на море, на подводную охоту. Даша, еще не видевшая моря, с загоревшимися глазами стала фантазировать о дельфинах, тут неожиданно пришла машина, и, оповещая об этом событии, залаял Тимошка. И дети и взрослые переглянулись и немного расстроились, не растерявшись, стараясь поднять общее настроение, Вася фальшивым голосом запел песню о веселых туристах и хорошем настроении, Даша с Олегом послушали и вяло засмеялись, Татьяна Романовна прижала к себе верткую Дашу и коснулась губами ее пушистого затылка.
— Так быстро! Даже не верится, что уже пора. — Она сняла свои круглые в пол-лица модные очки в прозрачной оправе с голубыми стеклами и, сразу становясь моложе и беспомощнее, близоруко сощурилась на Семеновну. — Пора. Мы, тетя, на вас надеемся… Главное, соблюдайте режим и Тимошку, пожалуйста, не перекармливайте…
Останавливая Татьяну Романовну, Вася положил ей руку на плечо, Татьяна Романовна послушно замолчала.
— Ладно уж, ладно, — добродушно-понимающе проворчала Семеновна, подпадая под общее настроение и намеренно оставляя слова Татьяны Романовны без ядовитого ответа.
— Что-то на этот раз тяжело очень. Словно кто держит.
— А ты посиди еще на салате да морковке, посиди! Совсем ног таскать не будешь, — сурово пообещала Семеновна. — Нервы не выдерживают глядеть на такое изуверство. Присядем на дорогу.
У Даши сделались испуганные и совершенно круглые глаза. Отнесли чемоданы в машину, еще раз, по напоминанию Семеновны, проверили деньги, документы и билеты, перецеловались, Татьяна Романовна и Вася попрощались с Тимошкой. Подавая лапу Васе, Тимошка отвернулся, Тимошка вообще не любил прощаться, а сейчас, предчувствуя не обычную, рабочую отлучку хозяина, а долгую нескончаемую разлуку, Тимошка переживал расставание очень тяжело. Вася потормошил его, почесал за ушами, но Тимошка не мог даже заставить себя притвориться довольным и хотя бы слегка, для приличия засмеяться.
Машина отъехала, Тимошка посмотрел на машущего рукой тоненького и плоского Олега и ушел на свое самое потаенное место, на дальний берег озера, заросший густыми кустами. Его много раз звали, и Даша, и Олег, и особенно Семеновна, он же продолжал безучастно лежать, положив голову на лапу. Потом он заснул, и ему снилось, что Вася лежит с ним рядом и разговаривает с ним, мягко теребя его длинные уши, и от этого Тимошка радостно повизгивал во сне. Еще не открыв глаз, не проснувшись, Тимошка насторожился, совсем рядом появилась опасность, и Тимошка, еще ощущая большие руки Васи, сел. В траве неподалеку шуршал еж Мишка, день кончался, и солнце косо пробивалось сквозь кусты: не обращая на ежа Мишку никакого внимания, Тимошка встряхнулся и озабоченно побежал к дому.
5
Для Тимошки Вася был совершенно особым от всех существом, и даже если он на целый день уходил на работу или куда-нибудь далеко уезжал, он постоянно присутствовал в мире Тимошки, как основная ось, центр, смысл и необходимость бытия. Тимошка часто вспоминал о нем и начинал тосковать по его рукам, по его запаху, по его голосу, только с Васей у Тимошки связывалось ощущение настоящей радости и полноты жизни. Рядом с Васей, и особенно когда тот бывал в хорошем настроении, Тимошку одолевали приступы буйного веселья, показывая свою ловкость и силу, он прыгал особенно высоко, особенно быстро брал самый слабый след. И скучал Тимошка тоже по-своему: ни с того ни с сего он садился, широко расставив передние лапы, опускал голову чуть ли не до земли и застывал в таком положении надолго, и, если кто-нибудь начинал подсмеиваться над ним, он обижался и уходил с глаз подальше. И еще в острые приступы тоски появлялся на свет увесистый обкусанный кирпич. Тимошка таскал его в зубах по всему участку, устав, ложился, клал между лап и неотрывно сторожил, словно боялся, что обкусанный кирпич вскочит на ноги и удерет, когда же тоска несколько ослабевала, Тимошка уносил кирпич, осторожно взяв в зубы, словно живого щенка, и прятал в одному ему известное место.
Вечером после отъезда Татьяны Романовны и Васи в доме, несмотря на хлопоты Семеновны, про себя довольной наконец-то осуществившимся отъездом племянника с женой, стало пусто и скучновато. Даша капризничала по пустякам, поссорилась с Олегом, тот вполне резонно обиделся и ушел наверх, в Васин кабинет. Там он пристроился на открытом балконе в старом плетеном кресле. Сквозь деревья в сумерках тяжело поблескивало озеро. В зелени еще возились и перепархивали птицы, солнце уже село. Из-за горизонта, окрашенного у самой земли ярко раскаленной узкой полосой, еще вырывался сноп золотистых лучей, пронизывающих одинокое, одно-единственное во всем небе, облачко ровным алым свечением, затем лучи стали короче, потускнели и скоро исчезли совсем. Над горизонтом еще чуть теплилось алое расплывшееся пятно, но вот и оно исчезло. Олег положил голову на перила балкона, глядя в сгустившуюся чернильную синеву и представляя себе серебристый самолет, летящий среди звезд в темном небе, и Татьяну Романовну с Васей. Он их любил, и теперь в груди как-то щемило, и к глазам подступала предательская теплота, но было темно, и никто бы не увидел его минутной слабости. Дом сейчас ярко светился всеми окнами, свет с трудом раздвигал густую вязкую тьму, затопившую сад, лес, озеро и всю остальную землю. Стали резче запахи цветов и травы, за прибрежные кусты зацепились одиночные клочья тумана, и наконец, преображая все вокруг, выплыла совершенно круглая, сияющая радостным и каким-то ненатуральным сиянием луна. Туман разросся, застлал озеро сплошным мягким покрывалом, неслышно окутал березы, росшие на берегу, точно опустились на воду невесомые, пышно взбитые облака, посеребренные лунным светом.
Несколько раз над балконом бесшумно проносилась тень маленькой ночной хищницы-птицы неясыти, об этом Олег знал от Васи. Услышав голос Семеновны, звавшей его вниз смотреть телевизор, Олег сморщился, ему никуда не хотелось уходить с балкона, по, чувствуя, что еще минута-другая и он расплачется, как девчонка, он бросился к пианино, откинул крышку, и по дому, вначале сумбурно и хаотично, затем стройнее и мягче, понеслись первые аккорды, дом в ответ как бы встрепенулся, ожил и затих. Олег снова и снова ударял по клавишам и неожиданно услышал странный, жалующийся звук, постепенно нараставший и закончившийся на низких протяжных басах, Олег от неожиданности резко крутанулся на вертящемся круглом черном стульчике и увидел Тимошку, высоко, по-волчьи задравшего косматую морду к потолку и тоскливо, обреченно выводившего свои немыслимые рулады, перед ним на полу лежал обкусанный кирпич.
— Тимошка, — шепотом спросил Олег, — ты по Васе скучаешь? Как интересно, ну, давай вместе… пой!
Олег тронул клавиши, и вой, заставивший Семеновну у себя в светелке схватиться за сердце, а Дашу в страхе зажать уши ладонями, с новой силой разнесся по дому, глаза Тимошки зеленовато отсвечивали, в горле клокотала безысходность и отрешение, Тимошка жаловался неизвестно кому, высказывая свою жестокую на кого-то обиду. Вой оборвался на немыслимо высокой ноте, Олег испугался и бросил играть, в дверях он увидел Семеновну с вцепившейся в ее фартук Дашей.
— Что такое? — тихо ужаснулась Семеновна. — Одурели вы оба? Отец с матерью едва отъехали, а они похороны затеяли! Ах, негодники! Ах, обормоты! Ах, некрещеные! — Семеновна раскипятилась, приняв Олегов с Тимошкой концерт близко к сердцу как личную обиду, и Даша, полностью ее поддерживая, смотрела на брата с Тимошкой округлившимися враждебными глазами.
Выплеснув свой испуг в обидных словах и убедившись, что гнев ее достиг цели, Семеновна смягчилась, еще поворчав для виду, а больше от внутренней неустроенности, она, часто моргая маленькими серыми глазками в бесцветных ресницах, потащила детей нить чай.
— Я творожную запеканку с изюмом испекла, — сказала она. — Скоро и спать, почти одиннадцать. В голове с утра шумит, как трактор работает, к непогоде, что ли? Как бы погода завтра не испортилась. Так и есть, слышите?
Все, в том числе и Тимошка, услышали первый долгий порыв ветра, деревья зашелестели и залопотали, а старая рябина, росшая возле дома, стала привычно тереться сучьями о балкон на втором этаже.
— Дождик, дождик! — восторженно закричала Даша, подбегая к дверям.
В распахнутую дверь балкона с веселым свистом ворвалась тугая волна ветра, стеклянные сосульки на старой-престарой люстре под потолком с тоненьким перезвоном закачались. Ахнув, Семеновна бросилась закрывать балкон, послав Олега проверить окна и двери по всему дому и выключить лишний свет. Ветер уже дул напористо, тумана лад озером не было и в помине, березы гнулись, жалобно скрипели, от мостов в глубине озера бежала крупная рябь.
Охраняя Олега от злых, враждебных сил, умевших коварно появляться в самый неподходящий момент, Тимошка не отходил от него ни на шаг, и в доме, и на улице, настороженно вслушивался, ловя каждый шорох. Выйдя следом на крыльцо, Семеновна забрала их в дом, и вскоре все дружно сидели за столом, накрытым клетчатой синей клеенкой в цвет абажура, достали пирожки с мясом, творожную запеканку с изюмом и пили чай с яблочным домашним вареньем, от каждого из троих по очереди перепадало и Тимошке, уютно устроившемуся под столом. От еды и позднего времени у Даши слипались глаза, и она непривычно затихла.
— А теперь зубы чистить и спать, — напомнила Семеновна. — Скоро полночь, теперь и папа с мамой скоро до места доберутся. Завтра утром позвонят, или телеграмму получим. Пора, пора ложиться.
— Я грозу буду ждать, — решительно заявила Даша, немедленно стряхивая с себя сонливость и в подтверждение своих слов подпирая щеку твердым кулачком.
Зная ее характер, Семеновна согласно кивнула.
— Жди, жди, Дашенька, — сказала она. — Ложись в постельку и жди, мыс Олегом ложимся, зачем тебе одной сидеть в пустой комнате? А в постельке веселее будет ждать, и Тимошку с собой забери. Он тоже будет ждать. А как дождетесь, нас с Олегом разбудите, мы тоже посмотрим.
Ты даже не раздевайся, поверх одеяла ложись.
Хитрая Семеновна добилась своего, через полчаса, убрав со стола и перемыв посуду, она, заглянув к Даше, улыбнулась, девочка крепко спала поверх одеяла, подложив под щеку крепко стиснутый кулачок и сурово нахмурившись, Семеновна покачала головой, за лето надо детей как следует откормить и подправить, подумала она, а то Олег в рост ударился, да и Даша не по годам длинная, из всех платьишек выросла, вон как коленки торчат.
Семеновна не стала будить Дашу, накрыла ее пушистым шерстяным пледом и, выключив свет, на цыпочках вышла.
Утром, выйдя на крыльцо, Семеновна вдохнула всей грудью острый утренний воздух, промытые, чистые цветы переливались тончайшими оттенками красок, деревья стояли в искрящейся радужной росе, и озеро казалось особенно чистым и прозрачным. Появился Тимошка и, извиняясь за опоздание, виновато повилял коротким тщательно расчесанным хвостом, протяжно, со сладким стоном зевнул, показывая узкий розовый язык и породистое черное нёбо, и с удовольствием длинно потянулся. Он остался сидеть на крыльце, а Семеновна, сбросив туфли, отправилась бродить среди яблонь, с наслаждением ощупывая отвыкшей подошвой влажную, но уже успевшую прогреться траву.
Придирчиво осмотрев яблони, она перешла к вишням и черной смородине, прикидывая виды на урожай. Сад был запущенный, и Семеновна жалела, что не выбралась раньше, весной, как все добрые люди, не навела в саду должный порядок, молодые только и занимаются своими бумагами, им до остального дела нет, а от такого сада сколько бы пользы можно было взять.
В светлое тихое утро душа сама собой радовалась неизвестно чему, и дело спорилось в руках у Семеновны. Приготовив завтрак и упрятав гречневую кашу доспевать под подушку, она собралась идти в магазин за молоком и хлебом, наказав Тимошке строго-настрого никуда не отлучаться, караулить детей и дом (Тимошка, не раз уже выполнявший подобные поручения, но не любивший оставаться в одиночестве, с видимой неохотой улегся на крыльце), Семеновна с той же тихой радостью в душе вышла за калитку. За детей она не беспокоилась, день со сборами вчера был утомительный, заснули они поздно и проснутся теперь не скоро. Можно не торопиться и тихонько пройтись лесочком до магазина, полюбоваться свежей зеленью, чистыми утренними красками, да, может, кто встретится по дороге из прошлогодних знакомых, она и платочек повязала новый, ненадеванный, и танкетки надела тоже скрипящие новой кожей в первый раз. На обратном пути Семеновна все-таки заторопилась, пришлось постоять в очереди за творогом, его редко привозили в палатку, и ближе к одиннадцати заволновалась, боясь, что творога не хватит, тут же в несколько голосов из конца очереди закричали и потребовали давать только по килограмму в руки, и Семеновна, поддавшись общему настроению, тоже кричала и требовала. Возвращаясь, она вздыхала от душевной неловкости и угрызений совести за свою несдержанность, впрочем, что удивляться и казнить себя, каких-нибудь десять лет назад молоко и яйца круглый год приносили прямо в дом, тогда в соседней, через речку, деревне многие держали коров, а потом все сразу куда-то исчезло-и коровы, и молочницы. Мелькнувшая мысль, что дети встанут и обязательно набедокурят, заставила ее ускорить шаг и пойти напрямик, через молодой пахучий сосенник, уже жаркий, наполненный душными испарениями земли и хвои, и старой, уже опавшей, и молодой, остро вспыхнувшей в первый месяц лета пушистыми нежно-зелеными свечками на концах сосновых лап. Семеновна на ходу незаметно задумалась, десять лет проскочит незаметно, дети вырастут, поступят в институт, начнется у них совсем другая, взрослая жизнь, взрослые трудности, тут мысли Семеновны перескочили на себя, на свою молодость и учебу в техникуме, раз и навсегда оборванную войной, на нескончаемую работу, работу, работу (другого нечего и вспомнить!).
Тихий жалобный писк отвлек ее внимание, она остановилась, шагнула с дорожки в сторону и увидела под маленькой сосенкой, в глинистой промоине, удивительно красивого, пушистого котенка, угрожающе выгнувшего спинку. Увидев Семеновну, котенок еще плотнее прижался к сосенке и опять жалобно, совсем по-детски мяукнул. У Семеновны, больше всего на свете любившей детей и животных, сжалось сердце: перед ней вырисовалась трагическая картина непроглядной ночи и одинокий жалкий комочек, вцепившийся в сосенку, ей тут же представилось, как котенок подружится с Тимошкой, как будут рады дети, и даже в груди потеплело от чувства своей причастности к такому доброму делу.
— Ах, ты, Жужа, ну иди ко мне, иди, — тихо и ласково позвала она, одаривая маленькое дрожащее существо первым пришедшим ей в голову именем.
Осторожно, чтобы не испугать котенка, Семеновна протянула руку, взяла его и прижала к груди, она чувствовала ладонью маленькое сильное сердце и, успокаивая Жужу, погладила его по спинке. Жужа затих и закрыл глаза, домой Семеновна вернулась совершенно счастливая. Встретив ее возле калитки, Тимошка весело запрыгал вокруг, но тут его словно что-то отбросило, и, пока Семеновна запирала калитку, стараясь держаться к Тимошке спиной и пе показывать своей находки, Тимошка подозрительно и усиленно внюхивался, стараясь определить, откуда появился ненавистный ему запах соседского кота, воровавшего у него из миски остатки пищи, а как-то даже сумевшего утащить припрятанную Тимошкой косточку…
Семеновна боком, боком, вызывая у Тимошки еще большее подозрение, загораживая Жужу, прошла в дом, защелкнула за собой дверь на задвижку, и в комнате у Даши, продолжавшей безмятежно спать, опустила котенка на пол, торопливо налила ему в блюдечко принесенного с собой молока. Фыркая, задыхаясь и захлебываясь от жадности, Жужа стал лакать, на крыльце отчаянно залаял Тимошка, требуя, чтобы его немедленно впустили в дом.
— Подождешь, подождешь, ничего с тобой не сделается, — проворчала Семеновна, не. двигаясь с места, пока Жука не отвалился от блюдечка, тогда Семеновна взяла в руки теплый пушистый комочек и посадила котенка на кресло-качалку, на вышитую крестом подушку-думку. Тимошка залаял еще отчаяннее и требовательнее, опасаясь, что он перебудит детей, Семеновна вышла к нему.
— Ну, чего тебе? Что стряслось? Есть захотел? — чуть сконфуженно спросила она самым невинным голосом. — Сейчас я тебя покормлю, пора уже… В дом-то не рвись без дела, в доме ничего хорошего, дети спят, иди лучше к озеру, карауль свою Чапу…
Недоверчиво выслушав Семеновну (по собственному опыту он знал, что от людей можно ожидать самых невероятных неожиданностей), Тимошка попытался протиснуться в дверь. Семеновна решительно пресекла ему путь и сунула под нос миску с едой. В это время и раздался восторженный визг Даши. Растерзанная со сна, она влетела в кухню с расширенными глазами.
— Тетя Женя, тетя Женя, у нас котенок! — точно заведенная, прыгала на одной ножке Даша, притиснув кулачки к груди. — Ой какой красивый! Пушистый какой, серый! Он у меня на качалке сидит!
— Сидит, и ладно, пусть сидит, — успокаивая ее, улыбнулась Семеновна. За молоком ходила, в лесу подобрала, он потерялся. Его Жужей зовут…
— Пусть он у меня в комнате спит! — категорически потребовала Даша. Тимошка пусть с Олегом, а Жужа со мной! Я первая увидела!
— Пусть с тобой, — согласилась Семеновна, заботясь о справедливости, она упустила Тимошку, и тот, пользуясь потерей бдительности, не замедлил прошмыгнуть в дом, в одно мгновение он уже был в комнате Даши. Здесь он, в состоянии, близком к остолбенению, обмер перед кроватью, перед ним, выгнув спину дугой и распушив хвост, дерзко шипело самое презираемое существо на свете. От такой невиданной наглости Тимошка на какое-то время просто окаменел, но уже в следующее мгновение броском почти настиг котенка и только впустую щелкнул челюстями. Жужа оказался проворнее, он молнией взлетел по коврику над кроватью вверх, к самому потолку, и там повис, вцепившись в бахрому ковра, продолжая угрожающе шипеть, завороженно глядя на Тимошку. Тот, подскакивая на задних лапах и царапая стену, стараясь дотянуться до непрошеного гостя, чтобы расправиться с ним по заслугам, оглушительно, на весь дом лаял, прибежали Семеновна с Дашей, за ними сонный Олег в одних трусах. Семеновна охала, Даша кричала на Тимошку и топала ногами, Олег с молчаливым удивлением за ними наблюдал. Наконец пришедшего в неистовство Тимошку удалось выдворить в сад, Жужу стащить из-под потолка. Разъяренный Тимошка стал с отчаянным лаем носиться вокруг веранды, и никто не знал, как его успокоить.
— Вот не думала, — сокрушенно оправдывалась Семеновна. — Такой яростный, надо же…
— Тимошка гордый, — хмуро возразил Олег с отцовской непреклонностью. Он никогда не захочет жить рядом с какой-то паршивой кошкой. Подумаешь, радость!
Надо котенка кому-нибудь отдать.
— Гадкий! Гадкий! Гадкий! — зажав уши руками и никого не слыша, твердила свое Даша. — Жужа хороший… Надо их познакомить, вот! Заставить обнюхаться! Вот!
— Станет Тимошка с ним обнюхиваться! Он породистый, — ухмыльнулся Олег. — Он твоего котенка перекусит пополам!
— Ладно, всем завтракать! — вовремя спохватилась Семеновна. Умывайтесь, собирайтесь, успеем, решим, может, правда они пообвыкнутся друг с другом. А Жужу посадим пока на гардероб в гостиной, пусть пока там поспит.
Олег вышел в сад, нарочно не закрывая за собой двери и демонстрируя свою полную солидарность с Тимошкой.
Тот не замедлил ворваться в дом и тщательно обследовать комнаты и закоулки. Но Жужа уже сладко дремал после всех передряг в полной безопасности, на старинном фигурном черного дерева шкафу с высоким резным съемным верхом, в плетеной корзинке с обрезками от разного женского рукоделья. Тимошка, чувствуя непорядок, кружился вокруг шкафа, но громко выражать свое неодобрение не осмеливался, ходившая за ним по пятам Даша тщетно пыталась его отвлечь и урезонить.
— Тебе не стыдно? — спрашивала она укоризненно. — Такой большой, а маленького стережешь. Нет его, нет здесь, понял? Что он тебе сделал? Я с тобой дружить не буду! У-у, противный!
Понимая каждое слово Даши и нервно вздрагивая хвостом от незаслуженной обиды, Тимошка продолжал усиленно принюхиваться к шкафу и, только окончательно убедившись в своем конфузе и полном бессилии сколько-нибудь изменить ход событий, вяло прошлепал на нагретое солнцем крыльцо, напился теплой воды из миски и, ни на кого не глядя и не отзываясь на ласковые зовы Олега и Семеновны, растянулся на циновке у входа и стал грустно наблюдать за возней воробьев, густо заселивших все удобные места под крышей дома, по-хозяйски деловито сновавших туда-сюда в воздухе. Семеновна и дети собрались в большой комнате с фигурным шкафом на совет и плотно затворили за собой дверь. Оставшись один на крыльце, Тимошка почувствовал себя окончательно покинутым. Он вспомнил тяжелые и добрые руки Васи и его голос, был бы сейчас он дома, все было бы иначе. Возбужденно привстав, Тимошка оглядел берег озера и любимую Васину скамейку, конечно же Вася где-то рядом, прячется и ждет, когда Тимошка его найдет.
Махнув через несколько ступенек с крыльца, Тимошка обежал сад, берег озера, заглядывая за каждый куст, не пропуская ни одного укромного места, Вася мог оказаться везде, нельзя было допустить небрежности, и Тимошка удалялся от дома кругами, захватывая все больше сада и леса.
Тем временем в доме шел совет, Семеновна сидела за столом посредине, слушая то Дашу, то Олега, и никак не могла решить, чью же сторону взять, Тимошка помечется, помечется, да и привыкнет, подумала она, у ее старой знакомой собака вот уже много лет жила в тесной дружбе с кошкой, ели из одной миски…
— Котеночек больно хорошенький, — робко сказала она в свое оправдание. — Как бы в доме нарядно и весело было…
— Их надо познакомить! — решительно предложила Даша Олегу. — Ты будешь Тимошку держать, а я Жужу к нему подпихивать, вот поглядишь, привыкнет. Тимошка добрый!
— А что, давайте попробуем, — согласилась Семеновна, — не зверь же он дикий, живет среди людей, так пусть к человеческим законам привыкает.
Хмурый Олег, по-прежнему ни с кем не согласный, пошел за Тимошкой, и вскоре волнение в доме достигло наивысшего предела. Кося вбок то на одного, то на другого грустным круглым черным глазом, Тимошка с недоверием уселся посредине комнаты — там, где ему и было приказано. Семеновна крадучись, на цыпочках, приблизилась к шкафу, взобралась на кресло и бережно, словно нечто драгоценное и хрупкое, сняла корзинку, подала ее нетерпеливо притопывающей Даше. У Даши разгорелось лицо, серые глаза потемнели от решимости. Она сунула руку в корзинку, и тут окончательно потрясенный вероломством любимых ему людей Тимошка увидел Жужу, и отвратительный, невыносимый запах хлынул ему в ноздри.
— Сидеть, Тимошка! — скомандовала Даша, сама опускаясь на пол на колени, изо всех сил держа обеими руками напружинившееся, маленькое тельце. — Это Жужа, слышишь, Жужа. Это твой друг, ты должен его любить. Вам будет хорошо вместе. Слышишь, Тимошка, не трогать!
— Нельзя! — разговаривая, Даша все ближе подносила китенка к Тимошке, и тот от ненависти потерял способность двигаться. Он уже понял, что от него требовали, неприятный, острый запах нельзя было больше выносить, и Тимошка, страдальчески сморщив нос, оглушительно чихнул. Жужа от этого устрашающего звука, вырвавшегося из ноздрей черного чудовища, вцепился в Дашу, до крики расцарапал ей руки. Закричавшая от боли Даша еще больше перепугала Жужу, по длинной портьере котенок взлетел под самый потолок и оттуда, устрашающе открывая рот, шипел на Тимошку. Охнув, Семеновна заспешила за йодом в аптечку, а Тимошка, укоризненно исподлобья взглянув на Олега, упрекая его в недостойном обмане, опустив хвост, понуро побрел к двери. Он давно знал, что без Васи порядок в мире рухнул и ждать справедливости било нечего.
Прошло немало времени, прежде чем в доме все кое-как улеглось, но это была только видимость. День между тем катился своим чередом, солнце заглядывало уже в самые укромные уголки сада, вода в озере прогрелась до самого дна и напиталась солнцем, от пес исходило какое-то мглистое сияние.
Расстроенная происшедшим в доме по ее вине раздором, Семеновна особенно тщательно взбивала мусс на третье к обеду, она решила сегодня приготовить обед из любимых блюд ребят. В то же время она ничего не упускала из происходящего в доме, любую минуту зная, где находятся и чем заняты Даша с Олегом, а больше ей ничего и не нужно было. Принесли наконец телеграмму от Васи с Татьяной Романовной, обрадовавшись, Семеновна постаралась вокруг скупых, долетевших от теплого моря слов объединить всех обитатели дома.
— Видите, как хорошо, — морщинки вокруг глаз Семеновны совсем разгладились, — вернутся наши папа с мамой загорелые, веселые… Все наладится. Папа опять будет здоровым и сильным. Да, а где же Тимошка? — с недоумением огляделась она по сторонам.
Тимошки, непременного участника всех важнейших событий в доме, действительно нигде не было видно, Олег с Дашей, сразу позабыв недавнюю ссору, побежали искать Тимошку, в два голоса громко выкрикивая:
— Тимошка! Тимошка! Тимошка!
Скоро известные им любимые Тимошкины места были проверены, Олег, вспотевший и исцарапанный, махнул рукой и сел на отцовскую скамейку-напротив мостков. Присмиревшая, с испуганными глазами, Даша робко примостилась с ним рядом. Как обычно в трудную минуту, Даша во всем полагалась на брата, Олег чувствовал, что еще немного и она разревется. У нее уже и губы начали разъезжаться в разные стороны.
— Ладно, — сказал тогда Олег, сдвигая по-отцовски сильные брови. Найдется… Надоест ему бегать, и найдется.
— А если нет? — Даша с трудом справлялась с прыгающими губами. Собственные слова поразили ее ужасом, и она разревелась. Обкусывая веточку, Олег молчал. Ему хотелось и пожалеть се, ободрить, но что-то мешало.
— Хватит тебе, — не выдержал он наконец. — Будешь знать теперь, как предавать старого друга.
— Да-а, я хотела, чтобы они подружились, — у Даши обильно капало из носа. — Я нс знала, что Тимошка такой.
— Вот теперь знай.
— А если он совсем не вернется?
— Вернется, — не сразу сказал Олег. — А ты перестань реветь, а то лягушки в озере подохнут.
— Почему? — искренне озадачилась Даша, в глубине души всегда признававшая превосходство брата и в трудные минуты прибегавшая к его защите и авторитету.
— Вода станет соленой, от соленой воды подохнут.
— Тоже мне, задается, — хотела обидеться Даша и не успела: подошла Семеновна, села рядом.
Утешая Дашу, да и сама стараясь обрести равновесие, Семеновна погладила Дашу по голове. Любимая скамья Васи с высокой дощатой спинкой (он сам ее сделал в прошлом году) стояла в тени двух берез, веселое, щедрое солнце пробивалось сквозь густую зелень, и даже у воды тяжело давил летний полуденный зной.
— Вы бы искупались, — предложила Семеновна. — Обедать пора. Вода теплая какая, если бы не моя поясница, и я бы с вами поплескалась. Ну, милые мои цыплята, давайте, давайте, а то вон сонные какие, кислые. Явится Тимошка, посердится-посердится, да и придет. Спрятался где-нибудь от жары, неуверенно добавила Семеновна, стараясь хоть как-нибудь ободрить детей. Подумать только, дожили, собаки стали какие обидчивые. Тимошка сегодня даже от сахарной косточки отказался! Я ему миску под нос толкала-толкала, а он и не смотрит… Расскажи кому, не поверит…
— Тимошка, он очень породистый, — сказал Олег. — Я вам сразу сказал, ничего не выйдет с котенком.
Ни Семеновна, ни Даша не стали возражать, тут же, на скамейке, под полуденным солнцем решено было отдать Жужу кому-нибудь из соседей, Даша, в этот трагический момент готовая снова разрыдаться, героически удержалась, хотя у нее стиснутые кулачки от напряжения даже побелели. Искоса поглядывая на нее, Олег сочувственно подтолкнул ее локтем.
— Давай, кто быстрей до того берега, — предложил он, уже на ходу стаскивая майку. — А? Хочешь?
— А я его нарисую! — тряхнула стриженой головой Даша. — На память! Вот!
— Котенка? — догадался Олег, и в его серых, затененных длинными ресницами глазах появились веселые искры, сбежав на мостки, он головой вниз бултыхнулся в сияющую голубизной воду. Стройные отражения берез в озере заколыхались, раскололись и пошли все более дробящимися кругами. Семеновна порадовалась на разыгравшихся детей, гонявшихся друг за другом и поднявших тучи вспыхивающих на солнце искр, но она все время невольно оглядывалась, каждый раз в тайной надежде увидеть сидящего рядом и благодушно посмеивающегося Тимошку, да и Олег, перевернувшись на спину и глядя в бездонное высветленное зноем небо, тоже думал в это время о Тимошке.
Если Тимошка к вечеру не найдется, нужно будет уговорить тетю Женю поехать в Москву и дать объявление в газету, решил он, и тому, кто отыщет Тимошку, пообещать сто рублей. Конечно, если бы папа с мамой были дома, можно было бы пообещать и двести, но сейчас где они возьмут столько денег? У него в копилке едва сорок рублей наберется, если ее разбить. Можно, правда, попросить нашедшего Тимошку подождать, пока вернутся родители…
Слегка скосив глаза, Олег увидел засохшую березу и вспомнил разговор с отцом. Он тотчас подплыл к мосткам, выбрался из воды, Даша запротестовала, она еще не набарахталась в озере. Олег, не обращая на нее внимания, стараясь не сутулиться, прошел в небольшую мастерскую под верандой. Здесь у Васи был верстак и хранились всякие нужные для дела, очень интересные вещи. Здесь были слесарные и плотничьи инструменты, гвозди, банки с краской, кисти, садовый вар, которым Вася лечил деревья.
Хранились здесь и пакеты с удобрениями, висела на гвозде большая пила, стояли в углу лопаты, грабли и старая, выщербленная временем любимая Васина коса, Вася косил ею несколько раз за лето, выкашивая выраставшую траву под яблонями в саду и в овраге, и Олег, любуясь на его экономные точные движения, мечтал поскорей вырасти и косить и все делать точно так же, как отец. Олег любил бывать здесь, в мастерской, и помогать отцу, сейчас он с неожиданной грустью оглядел покинутое Васей хозяйство и подошел к топорам, лежавшим на своем месте на широкой полке. Их было два, один большой, плотницкий, второй — походный, легкий, он так и лежал в брезентовом чехле, и его можно было тут же пристегнуть к поясу. Олег взял плотницкий и, чувствуя его уверенную тяжесть, попробовал пальцем лезвие, как всегда делал Вася. Он перебросил плотницкий топор в другую руку, еще раз взвесил его тяжесть, Олега уже тянуло в мир взрослых, поэтому он выбрал большой топор. Щурясь в дверях от яркого солнца, ударившего прямо в лицо, он вышел в сад, у него теперь было дело, и оно каким-то таинственным образом связывалось с уверенностью, что Тимошка обязательно найдется.
У мастерской его караулила Даша, Олег нос к носу столкнулся с ней.
— Ты зачем папин топор взял? — взрослым голосом, подражая Татьяне Романовне, строго спросила она, в ответ Олег с деланным равнодушием хмыкнул и, стараясь держать плечи прямо, направился к озеру. — А я вот тете Жене расскажу! — крикнула ему вслед Даша. — Подумаешь, задается! А я вот что-то такое знаю, а тебе не скажу! — на всякий случай постаралась задержать брата Даша, но Олег, захваченный важностью предстоящей работы, отмахнулся от ее слов, а может быть, и не слышал их.
У засохшей березы, довольно высокой, с голой, без листьев, вершиной и с начинавшими обламываться сучьями, он долго, до легкого головокружения, стоял, запрокинув голову, и глядел вверх, Олегу стало жалко умершего дерева, рядом с ним высились живые, струящиеся молодой зеленью березы, а вот эта, с простершимся вбок длинным суком, тоже без листвы, с белой, но теперь уже тусклой корой, почему-то взяла и засохла. Люди тоже умирают, Олег уже знал об этом, он подумал о Васе, до сердечного озноба ощутив заложенную и в нем самом возможность исчезновения. Это был не страх, а что-то глубже и сильнее страха, словно оцепенев, потеряв возможность двигаться, не отрывая расширившихся, потемневших глаз от березы, он почти заставил себя взять топор и ударить по сухой древесине. Дерево в ответ сухо вздрогнуло, удар топора отдался во всем теле Олега, он замахнулся опять, полетела кора, и открылась рыхлая, уже тронутая разложением, изъеденная червями древесина тусклого серого цвета. Она вминалась и крошилась под топором, и Олег неумело, неловко рубил и рубил. Пот заливал глаза, топор тяжелел и тяжелел в руках и уже начинал от неловкого, недостаточно сильного удара с пустым коротким звоном отскакивать от березы. Олег по-прежнему не сдавался и, смахивая пот со лба, опять принимался рубить. Услышав чей-то испуганный крик, он сердито оглянулся и увидел Семеновну с Дашей.
Семеновна как была, так и прибежала в засыпанном мукой фартуке, она отчаянно всплеснула руками:
— Святые угодники, да ведь я своей смертью с вами не помру! Кто тебе позволил? Сейчас же перестань! Не дорос еще отцовским топором махать. А если по ноге или руке? — причитала Семеновна, отмечая про себя незнакомое взрослое, по-отцовски упрямое выражение на лице Олега, резкий излом его сильных, густых бровей.
— Почему я должен отрубить себе ногу? — со злостью огрызнулся Олег и вызывающе сдвинул брови.
— А вот отрубишь, если не будешь слушаться, — ехидно пообещала Даша, стараясь благоразумно не отходить от Семеновны и быть подальше от брата.
— Ябеда! — процедил Олег сквозь зубы. — Вот погоди, получишь от меня! Попадись только!
— Олег! — сочла нужным вмешаться Семеновна. — Это еще что? Что за угрозы? Ты же взрослый мальчик. А она маленькая, да еще девочка.
— А чего она везде суется? Пусть сидит и играет со своими куклами, буркнул Олег.
Услышав такое оскорбительное предложение, Даша в первую секунду даже задохнулась от возмущения и крутанулась на месте, так что короткая юбочка ее платьица раздулась колоколом, и, не помня себя и не видя перед собой дороги, умчалась в сторону оврага, густо поросшего орешником.
— Да что же это делается, — неизвестно кому пожаловалась Семеновна. Да где же здоровья мне на вас набраться! Каждый коники свои выкидывает! Да тут никаких нервов не хватит! Теперь Даша подхватилась! Ищи ее теперь, спрячется где-нибудь, до вечера просидит. Зачем только меня, старую, ноги сюда принесли, зачем я согласилась!
— Ну, тетя Женя, будет вам! Никуда Дашка не денется, знаю я ее, проголодается — прибежит.
— А ты тоже хорош! — напустилась Семеновна на любимого внучатого племянника. — Больно ты много знаешь, больно грамотный. Чем топором впустую махать да сестренку дразнить, лучше пошли бы Тимошку поискали по поселку, порасспрашивали, пропадет ведь скотина бессловесная. Я виновата, грех попутал, кто ж знал, что вы здесь все обидчивые такие. К каждому со своим уставом… Зря столбом не стой, ступай лучше, ищи сестру…
Семеновна хотела что-то прибавить, не успела, раздался надсадный продолжительный треск. Уже основательно подрубленная Олегом береза, очевидно под собственной тяжестью, подломилась в месте надруба и стала медленно, затем все стремительнее падать и с шумным плеском рухнула в озеро, подняв тучи брызг. Олег исполнил на месте нелепый воинственный танец, а из-за кустов одичавшей малины и орешника высунулась озадаченная рожица Даши. Поколебавшись с минуту, Даша не утерпела и присоединилась к Семеновне и Олегу, как ни в чем не бывало разглядывая образовавшийся просвет на берегу. Семеновна, качая головой, показала на всплывшее в воде дерево:
— Ну и что же, горе-лесоруб, теперь с ней будешь делать?
— А я в воде распилю и частями на берег вытащу, — ответил Олег не слишком уверенно. — Только сначала Тимошку найдем.
После обеда Олег с Дашей, необычно дружные и молчаливые, исходили поселок, опросили встречных, обошли березняк и окрестные молодые, всего года два посаженные рощицы сосняка, и все безрезультатно. Тимошки нигде не было. Уже в темноте они долго сидели с фонариком на Васиной скамейке, время от времени обшаривая кусты и поверхность озера сильным пучком света от фонарика. Семеновна едва уговорила их вернуться в дом Олег прилег на диван одетым, положив рядом с собой фонарик а Даша еще долго, долго не спала, вскакивала от каждого шороха в саду и подбегала к окнам. Семеновна тяжело вздыхала, но не мешала девочке, у нее у самой на сердце лежал камень, на крыльце она оставила еду для Тимошки, под конец усталость и волнения прожитого дня сморили и ее. Дом погрузился в темноту, и все стихло, неяркая лампочка над крыльцом бросала в сад размытый круг света и лишь подчеркивала глубину короткого, душного покоя летней ночи. Да еще немолчно, к жаре, звенели кузнечики
6
Вопреки ожиданиям и надеждам детей и Семеновны, Тимошка был далеко от дома, после всего случившегося ему необходимо было отыскать Васю. Он хорошо запомнил машину, увезшую Васю, сразу же после того, как его оскорбили в лучших чувствах, заставив терпеть присутствие котенка Жужи, он, через свой тайный лаз в заборе, незаметно выбрался на улицу и, угнув голову к земле, ища нужный ему запах, помчался к шоссе. Он знал, что именно оттуда приезжают все машины, туда же они и направляются из поселка, уединенно стоявшего в лесу. Добежав до шоссе, он некоторое время сидел и глядел на нескончаемый поток машин, несущихся и в ту и в другую сторону, глаза его сделались тусклыми и затравленными. Правда, чувство движения и глубинной конечной цели уже не могло исчезнуть, и Тимошка, не раздумывая, побежал обочь дороги, и побежал именно на юг. В ноздри ему била бензинная гарь и отвратительная вонь разогретого асфальта: из проносившихся- мимо машин его многие видели и несколько раз даже сбавляли ход, а то и останавливались, пробуя подозвать к себе. Тимошка, ни на кого не обращая внимания, продолжал бежать в раз и навсегда выбранном направлении, и бег этот, непрерывный, без передышек, ни на что не отвлекаясь, продолжался несколько часов. Небольшой поселок, попавшийся на пути, заставил его приостановиться, принюхаться, в нем уже проснулся инстинкт опасности, недоверия. Но тут же он уловил запах готовящейся пищи, он был голоден, и его неодолимо потянуло на этот запах.
Он осторожно вошел в приоткрытую калитку одного из дворов и, приподняв одну лапу от напряжения, огляделся.
Было пусто, вокруг корыта с размоченным хлебом суетилось с десяток крупных белых кур, увидев Тимошку, петух с набрякшим и свесившимся набок малиновым гребнем вскинул голову и возмущенно, скорее всего неприлично, выругался. Не обратив на него ни малейшего внимания, как если бы его совсем не было, Тимошка, по-прежнему не упуская ни одной мелочи, направился к корытцу и тихо, предупреждающе зарычал, даже припал на передние лапы, сделав вид, что сейчас бросится и схватит одну из этих глупых белых птиц. Куры с отчаянным кудахтаньем брызнули в разные стороны, стараясь сохранить чувство достоинства, отбежал и петух и стал громко совестить непрошеного гостя. Тимошка сунул нос в корыто и, хотя пахло неприятно, как попало стал хватать жидкое хлебное месиво, вдобавок истоптанное курами, не выпуская из виду происходящее во дворе. На крыльцо, тихонько приоткрыв дверь, крадучись выплыла удивительно толстая женщина, платье туго обтягивало ее объемистый живот, короткие рукава, фонариком, впились резинками в пышно буйствующую плоть, еще больше подчеркивая уродливую, неестественную полноту. Тимошке это, разумеется, было все равно, его насторожили крадущиеся движения женщины.
Балансируя руками, встряхивая жирным подбородком, выражая на лице какое-то елейное умиление, толстая женщина на цыпочках спустилась по скрипучим ступенькам и маленькими шажками тихонько продвигалась к калитке.
Оскалив желтоватые клыки, Тимошка предупреждающе зарычал и в одно мгновение оказался между толстой женщиной и калиткой.
— Батюшки! — ахнула женщина, боязливо останавливаясь. — Бо-обик, Бо-обик, Бо-обик, — медовым голосом позвала она Тимошку. — Собачка, миленький мой, ягненочек, да ты что? Иди, иди, собачка, я тебе косточку дам…
Во-от такую! Ну чистый ягненочек, аж курчавится от черноты… Каракульча, чистая каракульча! Какая шапка выйдет… А то и две… Бобик, Бобик, мяса хочешь?
Наклонив голову, Тимошка вслушивался в голос толстой женщины, и он ему явно не нравился, стоило толстой женщине двинуться с места, с намерением подобраться к калитке обходным путем, Тимошка зарычал громче, теперь уже показывая клыки более основательно.
— Паша! Паша! — опять замерев на месте, позвала кого-то толстая женщина через забор, — Подь-ка сюда! Скорей!
Из-за плотно сбитого забора выглянула еще одна женщина, кокетливо повязанная косынкой, Тимошка на всякий случай зарычал и на нее.
— Ну что ты, Ань? — неожиданно весело и заразительно откликнулась Паша в косынке. — Что у тебя стряслось?
— Паша, Паша, послушай, — понизила голос толстая женщина. — Глянь, кобелек какой ко мне во двор забежал.
Видать, потерялся, сейчас из Москвы их много таких навезли, породистых…
— Ну так что тебе, Ань?
— Ты со своей-то стороны подступись потихоньку, калитку захлопни, почти шепотом попросила толстуха. — Со двора он у меня не выскочит, Федор придет вечером, мы его тут и приберем. Шапка-то какая будет! А то и две! Чистая ларакульча! Я бы его сама шпокнула, да веришь, ружья боюсь, веришь, с гвоздя на гвоздь перевесить боюсь. А Федор вернется, тут же кобелька прищелкнет.
— Мех-то ныне все дорожает. Шапки мужские уже за триста перевалили. Слыхано ли дело, такую прорву денег за шапку. По прежним деньгам цельная шуба. Паш, Паш, помоги, я тебя отдарю! В долгу не останусь.
— Ух ты, живодерка! — пуще прежнего развеселилась Паша в косынке. — И не жалко тебе? Такого красавца!
— Чего их жалеть, их теперь битком, на каждой даче, даром только мясо переводят, скотина бесполезная. Делать людям нечего, с жиру и бесятся. Вот повкалывали бы на солнцепеке с наше, на клубнике, от зари до зари, потаскали бы ее на базар, дурь бы в голову и не полезла. А то попридумали: выставки, медали! Слыхала, осенне-весенние выставки специально для таких кобелей делают, вот для ихней-то породы, кобели отдельно, сучки отдельно.
— А хозяин найдется? На него небось и документ имеется.
— А кто видел? Ты не видела, я не видела-значит, и це было ничего.
— Так-то оно так, — засомневалась Паша в косынке. — А что дашь? — все же поинтересовалась она на всякий случай. — Слушай, а воротничок жемчужный отдашь? Страсть как мне нравится… Отдашь?
— Отдам, отдам! — обрадовалась толстая женщина. — И водки поставлю, скорей только, Паша, милая… Ну, скорей же, уходит… Куда, собачка, куда ты, милая? Подожди, подожди, ах ты напасть! Никогда мне не повезет!
Не поспевая на своих коротких, точно обрубленных ногах, вслед за Тимошкой толстая женщина вывалилась на улицу, с силой рванув калитку, но Тимошка был уже далеко, он бежал теперь обратно, ему нестерпимо хотелось домой, к Олегу и Даше, к теплым, вкусно пахнущим рукам Семеновны. Дорога назад оказалась проще, и все-таки Тимошка добрался до места уже глубокой ночью. В доме спали. На крыльце он нашел свою миску, но здесь уже раньше побывал соседский кот, и конечно же выбрал все до последнего кусочка, и даже миску с водой осквернил ненавистным запахом. Уставший Тимошка обежал дозором вокруг дома, ведь это была его прямая обязанность, все было тихо, наведался он и к озеру и всласть напился. Чапа шелестела в прибрежных зарослях, Тимошка не стал с ней воевать, а вернулся на крыльцо, поскреб дверь лапой и изо всех сил прислушался, недоверчиво понюхав щель в дверях. И дети, и Семеновна, тоже измотанные за день беготней и переживаниями, крепко спали, и дом, оберегая их покой, сумрачно молчал. Тимошка сбежал с крыльца и под окном детской пару раз негромко настойчиво тявкнул, просясь в дом. Никто не отозвался, но все было спокойно, все были на местах, и, подождав немного, Тимошка отправился в дальний конец участка, там, заросшая густым кустарником, бурьяном и мхом, уже много лет догнивала принесенная в особо сильное половодье коряга. В одном месте она изгибалась и образовывала уютное, защищенное со всех сторон укрытие. Здесь Тимошка любил отдыхать в жаркие дни, сюда же забирался, если ему становилось скучно, здесь же чаще всего прятал он свой заветный кирпич. Сегодня за день он так намаялся, что, едва протиснувшись под корягу, сразу же закрыл глаза и провалился в сон.
Теплая, с высоким небом и яркими звездами ночь плотно обступила Тимошку своими многочисленными запахами и шорохами, Тимошка же ничего не слышал и спал. Не видел Тимошка и бесшумно поднявшуюся луну, и проступившие из темноты засеребрившиеся деревья. На середине лунной дорожки выплыла Чапа и стала беззвучно играть в воде, кувыркаться, переворачиваться вверх светлеющим в лунном свете седым брюшком, — полнолуние всегда оказывало на нее магическое, возбуждающее действие. Чапа скользила по поверхности воды убыстряющимися кругами, нескончаемое количество раз выныривала столбиком, стараясь держаться лунной дорожки, перекувыркивалась и продолжала движение в обратную сторону. Она словно исполняла ритуальный танец. Это был танец благодарения, исполняемый в свой час любой жизнью на земле, и зверем, и птицей, деревом и рыбой, скромной травинкой и самым незаметным муравьем. Чапа ничего нового не открывала, зов лунной ночи властно притягивал ее, проникая в каждую клеточку ее тела, и, насквозь пронизанная серебристым сиянием, охваченная со всех сторон слепящим холодным пламенем, она растворялась в нем, став его неотъемлемой частью. Бесконечно и бесстрастно лился лунный свет, и ничто не нарушало таинства свершаемого обряда.
Измученный за день рухнувшими на него переживаниями, Тимошка крепко спал. Уже перед коротким, бесшумным летним рассветом он стал повизгивать во сне, ему приснился котенок Жужа, и Тимошка, не открывая глаз, усиленно задвигал ноздрями, глухо заворчал от возмущения. Котенок пропал, и запах его исчез, Тимошка успокоился, погружаясь в теплый, уютный мрак, но вскоре опять послышалось его неспокойное повизгивание, теперь ему приснилось, что Вася рядом, большая Васина рука у него, у Тимошки, на голове, в знак горячей признательности Тимошка потянулся лизнуть Васе подбородок и проснулся окончательно.
Солнце взошло, рядом с носом Тимошки лежал заветный кирпич, Тимошка глубоко втянул в себя несущий множество самых разных запахов и вестей резкий утренний воздух, с удовольствием с протяжным стоном зевнул, вылез из своего укрытия, шумно всем туловищем потянулся, встряхнулся и обмер. В двух шагах от него нахально и совсем по-хозяйски возился в траве еж Мишка. От вчерашних переживаний, от долгого напрасного многочасового бега в поисках Васи, от его отсутствия, от сосущей пустоты в желудке Тимошка проснулся в необычном для себя агрессивном и мрачном настроении. Он злобно бросился на ежа, стараясь ухватить его за нос, но еж Мишка, отыскивающий в раннее благодатное время вкусных червей, расползшихся в сырой траве, молниеносно свернулся клубком, зафыркал и, подпрыгнув, в свою очередь весь напрягся, чтобы уколоть Тимошку. В одно мгновение отпрянув, Тимошка припал к земле и стал ждать. Еж Мишка, озадаченный необычностью неожиданного утреннего нападения, лежал клубком, не шевелясь, терпения ему было не занимать. Лишь минут через десять он чуть-чуть расслабился и высунул из-под колючек кончик носика, неслышное дуновение воздуха над землей донесло до него запах хорошего гриба, росшего где-то неподалеку, где-то рядом с грибом затаилось и птичье гнездо. Но враг был рядом, и еж Мишка опять замер, он давно знал, что Тимошка самый обыкновенный бездельник и преследует его, вечно занятого и кормящегося тяжелым трудом, просто так, от вздорности характера. Тимошка не ел ни червей, ни жуков, ни лягушек, тем более грибов, и им, по сути дела, нечего было делить.
Совершенно неожиданно еж Мишка, развернувшись упругой пружиной, сделал несколько движений в сторону соблазнительного запаха и опять так же мгновенно свернулся в тугой клубок. Тимошка приподнял голову и ошарашенно заморгал, еж Мишка оставался, как ему показалось, неподвижен и все же сдвинулся несколько левее.
Опустив голову на лапы, Тимошка опять с напряжением принялся караулить каждое движение своего врага. Через несколько минут Мишка повторил маневр: неуловимо выбрав момент, он, просеменив с полметра, молниеносно свернулся в клубок и замер. На этот раз Тимошка не позволил себе дремать, в ответ на жульничество ежа угрожающе припал на лапы и ожесточенно залаял, но через минуту еж Мишка опять передвинулся в нужном ему направлении. С подобным коварством ежа Тимошка сталкивался впервые, уже чувствуя свое поражение, он теперь не лаял, а лишь понуро переходил за ежом Мишкой на новое место, ожидая, что же последует дальше. Добравшись до гриба, плотного трехдневного боровичка, уже темноголового, с уходящей в травянистую землю крепкой толстенькой ножкой, еж Мишка свернулся плотным клубком и, казалось, умер, свою законную добычу, находящуюся теперь совершенно рядом, он не уступил бы ни за что. Тимошка подождал, подождал и, не видя ничего для себя интересного, показывая, что ему совершенно безразличен и еж Мишка, и его пакостные проделки, равнодушно, с хрустом зевнул. Затем привычно поднял ногу у старой березы и затрусил к дому, успевая на ходу узнать множество новостей, хотя все они были второстепенными и не требовали глубокого и подробного изучения. В воздухе стоял дружный гул шмелей и пчел, над зеленым ковром травы беспорядочно мелькали разноцветные бабочки, над озером дрожали, поджидая добычу, большие зеленокрылые стрекозы.
Тимошка вихрем налетел на Семеновну, отворившую дверь на маленькую летнюю веранду, от радостного изумления она даже выронила глубокую тарелку со взбитыми сливками для лакомого блюда, называемого кокпуфтель (даже ученый Вася, сколько ни старался, не мог докопаться до происхождения диковинного, на немецкий лад, слова, по уверению Семеновны, она сама изобрела к назвала сладкое блюдо). Тарелка разлетелась вдребезги, ее содержимое растеклось по полу веранды, но Семеновна даже не обратила на это внимания.
— Тимошка, негодник! — Семеновна сморщилась от переполнявших ее чувств всем своим маленьким, похожим на печеное яблоко, лицом.
Тимошка запрыгал вокруг нее, восторженно повторяя:
«Ах! ах! ах! ах!», энергично пытаясь лизнуть ее в лицо: Семеновна от подступившей слабости опустилась на ступеньку, они дружески обнялись, и Тимошка, выражая крайнюю степень восторга, энергично облизал ей щеки и подбородок, продолжая повторять свое «ах! ах! ах!». Несколько успокоившись, Семеновна привстала и подложила под себя дощечку-ступенька была холодной и сырой от росы, Тимошка не отводил глаз от ее сморщенного лица.
— А я стою, готовлю кокпуфтель, — сказала Семеновна, — а у самой руки трясутся. Ну что я, думаю, Васе скажу, коли ты, Тимошка, пропадешь совсем?
Услышав дорогое имя, Тимошка оглянулся и, не обращая внимания на вкусные, густо растекавшиеся по полу сливки, бросился к полуоткрытой двери в дом, и, не успела Семеновна задержать его, ударом лапы открыл дверь о комнату-Олега и бросился к его кровати, весело помахивая хвостом. Олег спал, лицо у него было напряженным и беспокойным, сильно хмуря брови, он видел удивительный сон: догоняя Тимошку, он только-только выбрался из дремучего леса с синими стволами деревьев и ярко-желтой листвой.
Тимошка рванулся к нему поздороваться и в последнюю минуту передумал, Олег лежал по-прежнему с закрытыми глазами, а будить детей по утрам не разрешалось, Тимошка, высунув от волнения язык, тяжело и часто подышал и, прежде чем успела подоспеть Семеновна, отправился проведать Дашу. Замерев у. порога, он с грустной ненавистью смотрел на котенка Жужу, выгнувшего спину дугой на кроватке у девочки и беззвучно шипевшего в устрашение Тимошки, — сама Даша, так же как и ее брат, крепко спала. В порыве радости от встречи с обожаемыми существами, ставшими еще дороже после пережитого дня и темноты ночи, Тимошка совсем забыл о существовании отвратительного и презираемого котенка Жужи, и вот теперь тот опять топорщился и шипел, наглядно доказывая Тимошке коварство и неразумность жизни.
Появилась запыхавшаяся Семеновна и трагическим шепотом позвала Тимошку из комнаты, опустив голову и стараясь не глядеть на нее, Тимошка повернулся, опустил хвост и понуро вышел. Семеновна не успела захлопнуть перед ним дверь в сад. Тимошка протрусил к озеру в сопровождении уговаривающей его Семеновны, спустился на мостки и лег, положив голову на лапы. Семеновна на мостки не пошла, а устроилась на любимой Васиной скамейке, сторожа каждое движение Тимошки.
— Что же ты такой злопамятный, Тимошка? — укоризненно покачала головой Семеновна. — Тебя любят, и ты должен других любить. Разве котенок не божья тварь? Не капризничай, иди домой, я тебе косточек припасла с хрящиком, сладкие… Ну, пошли, пошли, Тимошка, пошли, чего тебе тут лежать?
Тимошка, разумеется, слышал каждое ее слово, подтверждая свое внимание к словам Семеновны, он шевелил бровями и ушами, хотя короткий хвост, верный признак неверия и меланхолии, оставался опущенным. Семеновна продолжала уговаривать и звать Тимошку, но он все глубже и глубже погружался в колдовской мир озера, где деловито сновали вверх и вниз бесшумные рыбы и черные жуки с коричневыми подбрюшьями, ленточно извивающиеся пиявки и прочие многочисленные водяные обитатели.
Больше всего притягивала Тимошку четко проступившая в зеркальной воде голова с большими висячими усами, удивительным образом похожая на такого же, как Тимошка, черного пуделя, от которого совсем не пахло собакой и вообще ничем не пахло, кроме тины и запахов озера. Тимошке хотелось нырнуть в воду и потрогать странное, зыбкое существо, он даже потянулся к своему отражению, хотел дотронуться до него, замочил лапу, вода в озере пошла мелкой рябью, отражение раздробилось и исчезло. Это повторялось каждый раз, и теперь опять надо было сидеть и долго ждать, когда похожее на него существо, не пахнущее собакой, снова появится в воде и начнет нахально дразнить Тимошку своей недосягаемостью.
— Тимошка! Тимошка! — от дома по бетонной дорожке к озеру вихрем промчался Олег, кубарем скатился к мосткам и, обхватив Тимошку за шею, стал целовать его а морду, в прохладный, влажно чернеющий нос, барахтаясь, они свалились на выбеленные солнцем, жарко нагретые доски.
— Тимошка, а ты дулся, — пожевала губами Семеновна, глядя на их счастливую возню. — Видишь, как все тебя любят. Вам, собакам, сейчас хорошо живется, не то что людям. Вон мне соседка по квартире нахамила, вредит на каждом шагу, а я с ней здороваюсь. Боюсь, еще больше повредит. Обивку на двери порезала, а валит на хулиганов. А я точно знаю-она! Нужна моя дверь каким-то хулиганам, корысти для них моя дверь! А я здороваюсь…
А тебе что? Тебе, Тимошка, хорошо, тебя любят, тебе рады, счастливый ты пес…
Не помня себя от восторга, Тимошка, перемахнув через Олега, вынесся в сад и, как при Васе, сделал несколько кругов вокруг одной из яблонь, привольно раскинувшейся неподалеку от кустов черноплодной рябины и родившей почти каждый год вкусные краснобокие яблоки. В отличие от остальных, эта яблоня имела собственное, уважительное имя, данное ей Васей, в доме ее только так и называли:
«Дарья Ивановна». «А Дарья Ивановна опять цветет!» — радовались дети весной, а взрослые осенью говорили:
«У Дарьи Ивановны опять полно яблок!» Тимошка с Васей раз и навсегда избрали «Дарью Ивановну» объектом своих каждодневных игр и разминок, и вот сейчас Олег, совсем как Вася, азартно бросился ловить Тимошку, сделав неожиданный скачок, Тимошка ускользнул в последний миг из рук Олега, набегавшись до черноты в глазах, оба повалились на траву. Давая понять, что игра кончена, Тимошка примиряюще подбежал к Олегу и лег рядом, высунув язык и тяжело дыша. А тут же вскочил, кинулся к показавшейся на крыльце Даше, увидев мчавшегося к ней Тимошку, Даша ойкнула и остановилась, вспомнив, что держит на руках котенка. И Тимошка остановился как вкопанный в трех шагах от Даши, для этого ему пришлось пустить в ход все четыре лапы, упираясь ими в землю, проехаться по зеленой траве.
— Опять ты этого мерзкого Жужу нянчишь! — осуждающе крикнул Олег. — Иди отнеси его в дом, скорей!
Даша опрометью вернулась в дом, бросила котенка на кровать и метнулась на крыльцо. Не обращая внимания на заискивающий, несчастный голос Даши, опустив голову и хвост, Тимошка протиснулся в тень под скамейку и затих и, сколько его ни улещали дети и Семеновна, больше не показался.
— Мы же договорились отдать Жужу, — сказал Олег. — Бабушка Панина берет. Почему ты опять с ним носишься?
Тимошка совсем перестанет нам верить и уйдет. Кончай реветь, бери котенка и уноси.
— Я не реву, — сказала Даша, вытирая слезы. — Мне обидно. У бабушки Паниной нос всегда красный, она вечно сморкается… Знаешь, как обидно… И у нее всегда кислым пахнет. Жужке там плохо будет.
— Даша! — строго сказала Семеновна. — Что такое ты говоришь? Как можно так неуважительно говорить о старом, больном человеке? Как тебе не стыдно?
— А это не я говорю! Это Вовка Заяц.
— А знает твой Вовка, что у бабушки Паниной погибли на войне два сына и муж? — совсем тихо спросила Семеновна.
— Все равно обидно отдавать ей Жужу, — не сдавалась Даша. — Жужке там скучно будет.
— А Тимошке, думаешь, не обидно? — стоял на своем Олег.
— Ладно, ладно, — примиряюще вмешалась Семеновна. — Надо Тимошку покормить, он же со вчерашнего дня голодный. Косточку хочешь, Тимошка?
Раньше при упоминании о косточке Тимошка всякий раз приходил в радостное волнение, широко и вкусно облизываясь, теперь же он даже не повернул головы.
— Хорош гусь, а? — обиженно спросила Семеновна неизвестно у кого. Сахарной косточкой его не уговоришь.
Характер как у отставного генерала!
Взяв Тимошку за ошейник, Олег потянул его из-под скамейки, Даша изо всех сил подталкивала сзади, Семеновна поставила перед Тимошкой еду в миске, там действительно красовалась свежайшая мозговая косточка, говяжья с розоватыми остатками мяса. Тимошка не выдержал и незаметно, как ему показалось, самым кончиком языка облизнулся.
— Ешь, ешь, Тимошка! — елейно уговаривала Даша, присев на корточки и преданно заглядывая Тимошке в самые глаза.
Каким-то неуловимым образом, как умел только он, Тимошка грустно скосил черный глаз на Олега, тот стоял в стороне, хмурился и молчал. Отвернувшись от миски с едой, Тимошка лег и положил голову на лапы. Даша вытащила косточку из миски и подложила ему под самый нос, чуть отвернув голову в сторону, Тимошка продолжал лежать, но Даша упрямо, по-взрослому сжав губы, опять подтолкнула ему косточку к носу.
— А ну, ешь немедленно! Противный пес! Вот я тебе! Ешь! — крикнула она сердито и топнула ногой.
Затравленно глянув на Олега и тяжело вздохнув, Тимошка ползком перебрался на другое место, Даша опять подвинула к нему косточку.
— Сейчас же перестань мучить животное! — не выдержал Олег, ударом ноги вышибая косточку из-под Тимошкиного носа, она отлетела и упала в траву далеко от крыльца.
Тимошка с благодарностью слабо вильнул хвостом и затих.
— А, так вы сговорились? Ты, Тимошка, всегда за Олега! Я сама не буду с вами больше разговаривать. Вот! — решила Даша и в подтверждение своих слов запрыгала на одной ноге, норовя топать громче возле самого носа Тимошки.
Не вмешиваясь в перепалку детей и не говоря никому ни слова, Семеновна незаметно вошла в дом, взяла котенка, завернула его в фартук и вышла другим ходом из дома за калитку. Вернувшись через четверть часа назад, как ни в чем не бывало она принялась хлопотать на кухонной веранде и позвала детей завтракать.
— Я тоже не буду есть! — спохватившись, сказала Даша. — Тимошка не будет, и я не буду… вот пусть, возьму и ему назло умру от голода… Я даже за стол не сяду!
Насмешливо хмыкнув, Олег набрал себе полную тарелку пышных горячих оладий, полил их распущенным сливочным маслом. Глядя на быстро исчезающие оладьи, Даша от обиды прерывающимся голосом заявила, что раз се никто не любит, то и она никого не любит, она, как Тимошка, тоже уйдет из дому. Семеновна покачала головой, подошла к ней и прижала к себе, Даша сопротивлялась лишь для виду и уткнулась в теплую грудь Семеновны.
— Маленькая ты глупышка, — ласково сказала Семеновна. — Как это тебя не любят? Тебя здесь любят. И братик, и я, и Тимошка. А котеночка бабушка Инна уже унесла. пришла и унесла, мы же так вчера решили. Ты, Дашенька, всегда можешь пойти и поиграть с Жужей. Теперь Тимошке и совсем незачем на нас дуться… Давай кушать оладьи, пока горячие.
После такой новости Олег и Даша, вскочив из-за стола, бросились искать котенка, забегали по дому, захлопали дверями, Даша не знала, плакать ей или радоваться, Олег же стал звонко звать Тимошку. Тот нехотя появился в дверях, и Олег строго сказал ему:
— Нет больше никакого котенка, ясно? Ищи где хочешь и прекрати голодовку! Ясно? Ищи, если не веришь! Ищи! Ищи!
Отлично поняв, что от него хотят, Тимошка поднял голову и посмотрел на корзинку на шкафу, Олег быстро вскочил на кресло и сбросил корзинку на пол. Тимошка вначале принюхался, затем издали внимательно обнюхал ее. Ему было неловко от всеобщего внимания, он не слышал больше ненавистного запаха и знал, что котенка в доме нет, но из вежливости ходил из комнаты в комнату и проверял, от него ни на шаг не отставали Даша с Олегом. Семеновна, уставшая от кутерьмы, вышла посидеть на крыльцо, глядя на сверкающие под солнцем просветы воды в яркой зелени, она задумалась, греясь на солнышке, о своих годах, об оставшихся в живых подругах… Тоже ведь время надо выбрать навестить, а много ли его осталось, времени? Да и дети теперь пошли какие-то странные, и собаки… Тот же Тимошка, порой так и мерещится, словно не пес это, а тоскующий дух, так и рвется из своей лохматой шкуры что-то высказать, и хотя все это, надо полагать, старческая ересь, а иногда думать дальше и страшно, и боязно, и сердце заходится.
Прерывая мысли Семеновны, из дома выкатилась шумная компания: и Олег, и Даша, и Тимошка — все в чудесном настроении. Почувствовав, что напекло голову, Семеновна пошла в дом за соломенной шляпой. В этот момент часто зазвонил телефон, Семеновна взяла трубку и обрадовалась-звонил Вася. Позвав детей, Семеновна дала им поздороваться с отцом, — у Васи с Татьяной Романовной все шло отлично, по бодрому голосу Васи это было понятно. Сказав Васе, что и с детьми, и дома все в полном порядке и чтобы Вася с Татьяной Романовной хорошенько отдыхали, Семеновна увидела Тимошку, широко и сладко облизывавшегося после сытной еды.
— И Тимошка вам кланяется, — весело сказала Семеновна, дурного настроения у нее как не бывало.
— Как он, Тимошка? — спросил Вася далеким, непривычным голосом.
— Хорошо, — слукавила Семеновна. — Хочешь с ним поговорить?
— Давай, давай, — потребовал Вася, и Семеновна приложила трубку Тимошке к уху.
— Здравствуй, Тимошка, — сказал Вася, — ты меня слышишь?
Вначале Тимошка опешил. Сидел неподвижно, что-то смутное и знакомое уже подступало к нему.
— Ох ты дуралей, дуралей! — ласково сказала Семеновна. — Это же Вася, слышишь, Вася!
Тут все засмеялись, Тимошка завертел хвостом, быстро глядя на Семеновну, понюхал трубку и слабо лизнул ее.
Теперь он узнал, хотя и сильно измененный, Васин голос.
Вася и раньше не раз вот так забирался в трубку, в эту холодную и неприятную штуку, — и говорил из нее не своим, далеким голосом, но Тимошка все равно узнавал его и любил, он и сейчас даже вздрагивал лапами от напряжения, заставил себя сосредоточиться, вслушиваясь в далекий, странный Васин голос, здоровающийся с Тимошкой, и, безмерно радуясь тому, что слышит наконец его, на всякий случай несколько раз неуверенно тявкнул.
Даша от восторга захлопала в ладоши, а Олег нахмурился, сдерживая улыбку.
7
Случилось это в самую жаркую пору лета, во второй половине июля. Вначале установилась необычайно жаркая погода, а затем пришла большая гроза, и после нее почти неделю, с редкими, душными от испарения просветами, лил небывалый дождь. Вода бежала по всему саду и лесу, улицы поселка превратились в речки, а озеро в конце недели приподняло любимые Тимошкины мостки, вышло из берегов и затопило сад и часть оврага, березы теперь стояли по колено в воде. Семеновна перепугалась, потому что вода начинала подступать к самому крыльцу, в магазин нельзя было пройти, а в доме кончились продукты. Вода вынудила и ежа Мишку покинуть свои любимые заросли и перебраться в самое высокое место сада-он нашел себе временное убежище под густым кустом черноплодной рябины, от сильного дождя на поверхность выползло много больших жирных червей, и еж Мишка был сыт и даже доволен. Для Чаны наступили блаженные дни, воды прибыло невероятно, почти весь сад превратился в озеро, никто ее не пугал, и она наедалась сладких, сочных улиток, появившихся в саду в невероятном количестве. Тимошка от дождя отсиживался в доме, он много спал, играл с детьми или вспрыгивал в Васино кресло, стоявшее у окна на втором этаже, и подолгу глядел на текущие по стеклам окна потоки воды и вслушивался в глухой, непрерывный шум дождя.
За эту ненастную неделю Вася дважды забирался в телефонную трубку, и Тимошку всякий раз подзывали здороваться, теперь, как только телефон начинал звонить, Тимошка опрометью мчался к нему, он теперь даже изменил своей давней привычке спать в коридоре, возле лестницы, ведущей на второй этаж, и перебрался в гостиную под столик с телефоном. Надо для справедливости заметить, что звонок телефона Тимошка слышал из любого уголка дома и даже из сада, но ночью он спал теперь только под столиком с телефоном — так он был ближе к Васе и мог не бояться пропустить его появления в удивительной трубке.
Неожиданный недельный дождь, начавшийся с грозы небывалой силы, сначала привел всех в восторг, на третий же день в доме стало скучно. Как это бывает, испортился от грозы телевизор. Решив заняться его настройкой, Олег лишь только больше все разладил, Семеновна категорически запретила ему прикасаться к телевизору. Даша, ревниво принимавшая к сердцу каждый успех брата, успокоилась и принялась купать своих кукол, она снимала с них одежду и, приоткрыв окно, совала их под льющиеся с крыши потоки воды, затем просушивала им длинные волосы и мастерила самые замысловатые прически. Тимошка сидел рядом и внимательно следил за ее действиями.
Самое же интересное началось на пятый день, дети проснулись рано и тотчас услышали ровный, непрерывный шум дождя. Зевнув, Олег перевернулся на другой бок, но больше не спалось.
— Ты спишь? — спросил он Дашу.
— Нет, — сказала Даша и села в кровати. — Я всю ночь плыла по реке с мамой и папой. На большо-ой лодке! — как можно шире развела она руки. Во-от на такой! Под большим зеленым зонтиком.
— От дождя приснилось, — уверенно сказал Олег. — Такой удивительный дождь! Можно сделать плот и из нашего озера поплыть прямо в Тихий океан или в Африку. Сейчас вся земля в воде. А в Тихом океане есть тропические острова, там живут обезьяны, попугаи и крокодилы…
— И черные-черные людоеды, — добавила Даша с округлившимися от захватывающей фантастической картины глазами. — Они всех жарят на большом желтом костре…
— Глупости! — совсем по-взрослому отрезал Олег. — На тихоокеанских островах людоедов больше нет, они остались лишь в Африке, да и то их совсем мало. В прошлом году там один президент съел своего министра, они почему-то поссорились…
— Врешь, врешь, — обиделась Даша. — Я уже не маленькая, а ты мне, как раньше, врешь.
— Я вообще не вру, я сам слышал, папа маме рассказывал, — горячо возразил Олег. — Помнишь, он в командировку летал, в Конго? А когда прилетел, рассказывал, а я не нарочно услышал. Ты не думай, я не подслушивал.
В это время в дверях появился Тимошка, поздоровался и внимательно посмотрел сначала на Олега, затем на Дашу, всем своим видом говоря, что нехорошо начинать такой скучный день без его участия.
— И Тимошку можно посадить на плот, — сказала Даша, еще переживавшая недавнюю историю с котенком и потому всякий раз неосознанно слегка заискивая перед Тимошкой. — Он бы нас от крокодилов охранял, он знаешь какой!
Подтверждая ее слова, Тимошка преданно улыбнулся и положил голову на кровать, Даша почесала ему за ухом.
Тимошка закрыл глаза и засопел от удовольствия, теперь примирение было полным. Даша чмокнула Тимошку прямо в прохладный нос, опрокинулась в кровати навзничь и заболтала ногами. Тимошка громко залаял. На шум пришла Семеновна, обмотанная вокруг поясницы большим шерстяным платком.
— Доброе утро, дети, — зевая сказала Семеновна. — А с тобой мы уже здоровались, — остановила она с готовностью бросившегося к ней Тимошку. Всю ночь не спала. Совсем поясницу разломило, места не нахожу, такая сырость. Шутка ли, неделю льет как из ведра. Сейчас вас покормлю, и придется все-таки идти в магазин. Ни хлеба, ни масла, ни сахара, ни молока. А может, уже и магазина никакого нет, дождем смыло…
— Я с тобой пойду, — решительно заявил Олег. — Одной столько нести. Папа не велел.
— С кем же у нас Даша останется?
— С Тимошкой.
— А я не маленькая! — вскинулась Даша. — Я одна останусь, пусть Тимошка с вами уходит.
— Конечно, ты большая, Даша, — примирительно заметила Семеновна. — Но дома тоже кому-то нужно оставаться.
Добро стеречь. Как без Тимошки. Потом, Олег — мальчик, он больше донесет, мне из-за поясницы тяжелого не поднять…
Даша, со скукой глядевшая в запотевшее окно, ничего не ответила, за завтраком все вяло ели гречневую кашу с остатками масла, пили жидкий, последний чай. Тимошка тоже получил свою порцию гречневой каши и, мгновенно до блеска вычистив миску, деловито обошел всех, озабоченно ожидав добавки.
После долгих сборов и наставлений Даше вести себя хорошо, никуда не выходить из дому, не простудиться и быть примерной девочкой, Семеновна с Олегом ушли. Даша, перебежав в другую комнату и прильнув к окну, подождала, пока Семеновна с Олегом выйдут за калитку. Под непрерывными потоками дождя и брат, и Семеновна стали быстро уменьшаться, несмотря на большой черный зонтик в руках Семеновны, и скоро совсем растворились в дожде. Даша еще подождала немного и начала собираться. Она взяла из шкафа свой прозрачный плащ с капюшоном, натянула его на себя, затем в свою красивую плетеную сумочку, подаренную ей в прошлом году Татьяной Романовной в день рождения, положила из домашней аптечки бинт, пузырек с йодом, сунула несколько шоколадных конфет, случайно оставшихся от вчерашнего ужина.
Пришел Тимошка и с явным подозрением принюхался, почувствовав его недоверие, Даша присела перед ним, взяла его голову в ладони и требовательно посмотрела ему в глаза.
— Ты, Тимошка, пойдешь со мною, — строго сказала она, — Олег и тетя Женя домой вернутся из магазина, а мы с тобой будем далеко, мы с тобой в Африку поплывем.
У Олега мы ружье возьмем, будем с тобой охотиться, жарить добычу и есть.
В сопровождении Тимошки Даша прошла в комнату брата и вооружилась там ружьем, стрелявшим пистонами, и вдобавок прихватила перочинный ножик, деловито опустив его в карман плаща.
Закончив приготовления к далекому и трудному путешествию, Даша почувствовала страх, но раскисать себе не разрешила, вспомнив, что перед отъездом папы с мамой все на минутку присели, она тоже примостилась на краешек стула в гостиной и приказала Тимошке сесть рядом. Тимошка сел, задрав черный нос и по-прежнему усиленно принюхиваясь.
— Ну, посидели, и хватит, — решительно сказала Даша. — Нам, Тимошка, уже пора, пошли.
Тимошка, хотя и не любил дождя, с готовностью встал и двинулся к двери, и вот тут сердце у Даши екнуло, глаза округлились, какое-то неосознанное, щемящее чувство утраты даже выдавило у нее слезы на глаза. Часто дыша, Даша усиленно поморгала. Ничего, утешила она себя, мы ведь ненадолго. Поймаем с Тимошкой маленького попугайчика и сразу же назад. Или лучше обезьянку. А еще мы привезем целый плот самых вкусных бананов и больших кокосовых орехов. И тогда пусть любой дождь идет хоть целый год.
Успокоив себя таким образом, Даша в сопровождении Тимошки вышла на крыльцо и плотно притворила за собой двери. И тут она увидела, что вода, выступившая из пруда, разлилась по всему саду и подступила уже к черноплодным рябинам, росшим неподалеку от дома, дождь продолжался и перед глазами висела сплошная и ровная водяная завеса, дом гудел от непрерывных потоков, и сад гудел, дождь был спокойный, теплый и большой. Стоя на крыльце, под защитой навеса, Даша еще медлила. Разлившаяся по саду вода кипела от дождя, и отважное Дашино сердце бешено стучало от собственной решимости. Кроме того, у большой яблони — «Дарьи Ивановны» — смутно маячили мостки, сорванные поднявшейся водой, — великолепный плот, целый корабль, Даша увидела их из окон террасы еще во время завтрака. Теперь только нужно было как-то добраться до них, оттолкнуть от яблони и поплыть навстречу Тихому и ждущему океану, и Даша решилась. Прихватив стоявшую на крыльце крепкую палку, принесенную Семеновной для хождения в непогоду, Даша спустилась с крыльца и в сопровождении Тимошки двинулась к мосткам. Вначале воды было мало, затем она дошла Даше до колен, поднялась до пояса, Тимошка, шлепавший следом, скоро уже плыл. Даже стало страшно, хотя мостки были уже рядом: Даша, сопя, легла на их край животом и, молотя ногами по воде, кое-как вскарабкалась на сбитые вместе, прочные доски. Тимошка одним рывком оказался рядом с ней и, борясь с непрерывно падавшими сверху потоками воды, несколько раз яростно отряхнулся, затем сел и, словно спрашивая, что же будет с ними дальше, посмотрел на совершенно промокшую, до последней нитки, Дашу. Дождь весело шумел в листьях яблони, вокруг все по-прежнему кипело от дождя, деревья стояли грузные, наполненные доверху водой.
Чувствуя под собой непривычную и ненадежную опору, Тимошка осторожно подобрался к Даше, ткнул ее носом и, тихонько повизгивая, предложил, пока не поздно, вернуться назад в сухой и теплый дом. Даша сразу поняла его, но впереди ждал океан, и не всегда же будет идти дождь, это Даша уже знала по собственному опыту, у них были и бинты, и йод, и конфеты, Даша, сердясь на Тимошку, решительно оттолкнулась концом палки от яблони. Мостки под ней легко двинулись, и Даша от неожиданности хлопнулась на колени, от радостного чувства начала океана она подняла захлестываемое дождем лицо к небу и засмеялась. Тимошка плотно прилип к доскам, боясь потерять равновесие, и Даша решила наградить своего верного спутника, конфеты в сумочке уже успели размокнуть, и Даша, зачерпнув сладкого липкого месива горстью, дала полизать Тимошке, затем полизала сама. Приподнявшись на колени, она постаралась достать палкой дно, мостки, тихо, незаметно увлекаемые появившимся слабым течением, уже медленно плыли по озеру, и Даша дна не достала.
— Ну вот, Тимошка, — сказала она очень серьезно, — мы вышли в открытый океан. Теперь гляди, а то может появиться акула… и проглотит тебя, а затем меня. Знаешь, какие они злющие.
Мостки продолжали тихонько, чуть заметно покачиваясь, куда-то двигаться, и Тимошку больше всего беспокоило именно это: он не выносил неуверенности. Неба не было видно, оно, казалось, начиналось с обвисших над озером берез, густой и сочный шелест дождя сливался с веселым шумом озера. От такой первобытной мощи бесстрашного сердца Даши коснулось чувство какого-то озноба, почти восторга, время тянулось бесконечно, и теперь Даша не могла даже вспомнить, когда она выбралась из дому и сколько длится ее путешествие. Границы сместились, и дом, и сад, и время, и Олега, и Семеновну размыл и растворил в себе дождь. Даша вдруг испугалась, представив, что никогда больше не вернется в родной сухой дом в саду, не увидит Олега, папы с мамой, Семеновны, Даша хотела заплакать и несколько раз шмыгнула носом, но из-за дождя слез все равно не было видно.
— Ой, тропический ливень, Тимошка, — мужественно сказала она, захлебываясь от дождя и напрасно стараясь сгрести с лица льющуюся воду. Дождь теплый, теперь скоро необитаемый остров. Тимошка, Тимошка, ты чего молчишь? — спросила Даша. — Ты должен лаять, Тимошка, — потребовала она, а то мы столкнемся с каким-нибудь пиратским кораблем. Голос, Тимошка, голос!
Тимошка сидел, уныло свесив нос к самым доскам, иначе он не мог-сильный дождь заливал ему и глаза и ноздри.
— Тимошка, — опять жалобно попросила Даша, — голос же, голос!
Не поднимая головы, Тимошка, словно поняв ее страх и желание услышать что-нибудь живое, кроме сильного и непрерывного шума дождя, неловко оберегая глаза от хлещущих сверху потоков, боком посмотрел на нее.
— Ав! ав! ав! — выдохнул он из себя, не скрывая своего недовольства и осуждения, и никто бы на его месте не понял, почему нужно было сухой и теплый дом предпочесть плаванию на сомнительных досках, да еще в такую погоду.
Тимошка теперь даже не пытался отряхиваться, это было бесполезно. Он давно бы мог спрыгнуть с мостков и за две-три минуты очутиться дома, к его чести, нужно заметить, он даже не подумал об этом, его удерживало врожденное чувство порядочности и долга.
Дождь, казалось, усилился, хотя сквозь низкие тучи почувствовалось невидимое солнце, стало душно и трудно дышать, и во всем вокруг слегка обозначилось движение какой-то перемены. Ощутив ее первым, Тимошка, встав на ноги и укрепившись, несколько раз ожесточенно отряхнулся, подмостки затрещали, заходили ходуном. Даша округлила глаза и застыла. Из-под нависшего над водой густого, никогда не виданного Дашей дерева с длинными мохнатыми листьями показалась устрашающе длинная морда какого-то чудовища, Даша протерла глаза и увидела самого настоящего крокодила с пучеглазыми глазами, с коротко торчавшими лапами по бокам… Не долго думая, крокодил распахнул глубокую, как яма, пасть, и Даша, заставив Тимошку опять вскочить на ноги и напрячься, отчаянно завизжала, упала ничком на мостки и прикрыла голову руками. Плот, покачиваясь, медленно полз под деревьями, Тимошка молчал, и только по-прежнему слышался — теперь в чем-то изменившийся — шум дождя. Даша решилась незаметно повернуть голову и открыть один глаз. В мглистом сиянии дождя, в похожей на туман водяной пыли над самой поверхностью озера Даша увидела тупорылый конец черного бревна.
Здесь и началось самое страшное, мостки, влекомые образовавшимся течением воды из переполненного озера, глухо обо что-то стукнулись, слегка накренились, и Даша не успев ни о чем подумать, скатилась в воду. Она закричала, захлебнулась, рука ее натолкнулась на сук, она намертво ухватилась за него и с неожиданной ловкостью стала карабкаться вверх, и вскоре уже сидела высоко на старой ветле, единственной среди окружавших озеро берез. Даша смутно видела перед собой продолжавшие тихонько ползти куда-то подмостки, Тимошки на них не было, верный Дашин друг и спутник исчез!
— Тимошка! Тимошка! — шепотом позвала Даша, никакого ответа в обвальном, все заполняющем шуме дождя она не услышала. Мелькнула жуткая мысль о крокодилах, теперь она достоверно вспомнила, что перед тем, как скатиться в воду, она увидела вцепившуюся в край плота необъятную зубастую пасть, она даже услышала хруст досок и хриплый лай Тимошки, бросившегося на отвратительное чудовище южных морей. Теперь Даша знала, кому она обязана жизнью, пока Тимошка боролся с крокодилом, она успела забраться на дерево, а теперь крокодил, проглотивший Тимошку, подгрызает под водой дерево, на которое она забралась, недаром же оно все время содрогается. Даше стало жарко, она беспомощно оглянулась, вокруг таились враждебные силы, дождь не прекращался, казалось, он лишь усиливается. Ничего утешительного она придумать не могла, от дождя, от слабости у Даши начала кружиться голова. Она крепче ухватилась за дерево, прижалась к его мокрому холодному стволу лицом. В этот критический момент она и услышала какие-то знакомые звуки, лаял Тимошка, и кто-то звал ее. Она узнала голос Семеновны, хотела закричать в ответ, но голос у нее пропал, она лишь беззвучно открывала и закрывала рот. Теперь она испугалась, что ее не найдут и она так и останется на дереве, готовом вот-вот рухнуть от зубов крокодила, и сразу увидела показавшегося из дождя Тимошку, прыжками двигавшегося, казалось, прямо по озеру. Тут же появился и Олег, за ним Семеновна с испуганным лицом, вода доходила им выше колен. Добравшись до ветлы, Тимошка встал на задние лапы и звонко, временами отфыркиваясь и ожесточенно тряся головой, залаял, глядя вверх и царапая кору дерева. Даша совсем ослабла и как бы сама собой отделилась от ветлы, мягко скользнула вниз, в белесую от дождя воду, и ничего не помнила. Правда, она успела подумать, что чудовищный крокодил ее проглатывает и горло у него скользкое и противное, и хотела закричать, но голос пропал, стало темно и тесно, она даже не успела по-настоящему испугаться, открыв же глаза, она тотчас опять крепко зажмурилась. Прямо перед ней остро поблескивали четыре маленьких, злобных крокодильих глаза.
Даша с диким криком подхватилась и повисла на шее у Семеновны. Прижимая ее к себе и касаясь губами ее лба, чтобы проверить, нет ли температуры, Семеновна с трудом пришла в себя от перенесенного ужаса.
— Нет, Даша, своей смертью ты не помрешь, — сказала она, с силой укладывая девочку назад в постель.
— А я в Африку плыла, — сообщила Даша, оправдываясь и стараясь не смотреть на брата. — Я с Тимошкой плыла, а потом нас крокодил опрокинул…
— Что? — не выдержал молчавший до сих пор Олег, а Тимошка, еще не просохший и тоже напряженно слушавший, внимательно шевельнул ушами.
— Ничего! — вызывающе отрезала Даша. — Он нам плот опрокинул, а я на дерево полезла, а он Тимошку проглотил…
— Мне показалось, что проглотил, — тут же добавила Даша, с некоторым изумлением глядя на Тимошку.
— О господи, — шепотом пожаловалась Семеновна, смахивая слезы фартуком, а хмурый Олег, пытавшийся придумать, как бы по-мужски серьезно выразить свое отношение к случившемуся, попросил Семеновну не волноваться и простить Дашу. Один Тимошка, выражая свою радость благополучному исходу путешествия, положил передние лапы на край постели и лизнул Дашу в щеку.
— Спасибо, Тимошка, — беззвучно прошептала Даша, отчаянно, изо всех сил прижимаясь к его косматой шее, и тут же поинтересовалась, что принесли из магазина вкусненького.
— Ничего там нет, муки взяли, оладьи будем печь, — сказала Семеновна. Говорят, от дождя мост снесло, оттого ничего и не подвезли. Дождь так и не перестает, слышишь? День-два такого ливня, и ты можешь хоть в Америку отправляться.
До самого вечера Олег поддразнивал Дашу крокодилом и Африкой, дождь не прекращался, и было скучно, каждый старался перетянуть Тимошку на свою сторону, и Тимошке пришлось пустить в ход всю свою приятность и дипломатию, чтобы не обидеть ни того, ни другого, а если ему приходилось туго, он начинал широко и часто зевать, показывая, что он совершенно измучился и невыносимо хочет спать. К вечеру, скорее от непрекращающегося дождя, и Семеновна, и Олег с Дашей, и, разумеется, Тимошка собрались в комнате с телефоном, и, хотя никто ничего не говорил вслух, все втайне почему-то надеялись и ждали звонка от Васи, общее настроение передавалось Тимошке, скрывая свое нетерпение частыми судорожными зевками, и он ни за что не хотел уходить из-под столика с телефоном, и, дождавшись, когда все разошлись, уже в темноте, под непрерывный и густой шум дождя, он встал, с недоверием понюхал молчавший телефон и опять улегся рядом. Надвинулась ночь, шел дождь, и Вася никак не хотел объявляться даже в телефонной трубке, Тимошкой овладело очень тревожное и неприятное чувство опасности. Он бесшумно встал и долго прислушивался.
Кроме шума дождя появились какие-то другие звуки. Спасаясь от дождя, в дом пришли мыши, Тимошка не обратил на них никакого внимания, происходило что-то более важное, и у него от напряжения несколько раз судорожно дернулся кончик хвоста. А затем какая-то невыносимая тоска овладела им, он был кому-то нужен, он услышал даже чей-то знакомый зов и, больше не раздумывая, попытался прорваться в сад, на свободу. Дверь на террасу была заперта, несколько раз ударив по ней лапой, Тимошка рванулся к окну, к другому. Теперь он словно обезумел, зов в нем разрастался, усиливался, заполнил все существо, Тимошка метался из комнаты в комнату, взлетел на второй этаж, и здесь, в кабинете Васи, тоска его достигла наивысшей силы. Он прыгнул в Васино кресло и почувствовал, что он нужен Васе, что Васе плохо и что он его зовет. И тогда Тимошка поднял морду и жутко на весь дом завыл. Ни Даша, после тяжких испытаний прожитого дня, ни Олег его не услышали, Семеновна, несмотря на свою глухоту, на какое-то мгновение открыла пустые от сна глаза и опять заснула. Совсем измучившись от горя и своего бессилия помочь Васе, Тимошка забылся, и в темноте ночи снова ясно прорезался Васин голос, зовущий на помощь, и Тимошка, точно от удара, весь от кончика коса до хвоста задрожал. Он как будто тонул и захлебывался в горячей вязкой тьме, наползающей со всех сторон, не было ни ветра, несущего конкретность беды, ни следа на земле, определяющего путь, а было лишь непереносимое ощущение самой последней, самой непереносимой беды и своей вины перед Васей от бессилия что-либо изменить и помочь.
Тимошка отчетливо слышал страдающий, больной голос Васи, Вася все звал его, и Тимошка от невыносимой муки заплакал, жгучая боль, стянувшая все существо Тимошки в одну точку, в один спекшийся ком, стала ослабевать, именно в этот миг Вася, находившийся от своего дома за многомного километров, висевший над темной зияющей расщелиной, зацепившись за кривое, изогнутое, с обнажившимися мощными корнями деревце, уже хотел разжать онемевшие пальцы и даже сделал такую попытку, только пальцы не подчинились. Холод от онемевших пальцев распространился по всему телу, но пальцы не разжались, Вася уже как-то равнодушно, как нечто постороннее отметил это и не удивился.
8
Разгулявшийся циклон достиг далеких старых южных гор к полудню в пятницу, и здесь сила его удвоилась. Татьяну Романовну и Васю непогода застала высоко в горах, они и раньше не раз, приготовив с вечера несколько бутербродов, затемно уходили в горы, осваивая новые и новые места. Накануне, в четверг вечером, позвонив в Москву, Татьяна Романовна узнала о том, что назначение Кобыша подписано. Не говоря Васе ни слова, Татьяна Романовна долго отмалчивалась и наконец, из-за совершенного пустяка, из-за того, идти или не идти вечером слушать симфонический концерт областной филармонии на летней открытой эстраде, в пух и прах рассорилась с Васей и даже решила совсем уехать домой. Водрузив чемодан на самое видное место в их номере, на низеньком столике возле телевизора, Татьяна Романовна принялась укладывать вещи. Вася лежал на диване и демонстративно читал свежий номер «Иностранной литературы», его молчание подстегивало ее еще больше.
Она по одному доставала из шкафа свои платья, с холодным высокомерием шла через всю комнату мимо Васи к чемодану, затем возвращалась обратно. Когда она прошла к чемодану в седьмой или восьмой раз, неся в руках перламутровую коробочку с подаренными ей родителями в день свадьбы старинными изумрудными серьгами, Вася не выдержал.
— Ну, хватит, Танюш, — попросил он, — ну что ты так вскинулась? Какой дурак, скажи, станет ждать, беречь для тебя начальственное кресло? И ты знала, когда согласилась ехать сюда, и я знал, что оно уплывает от нас.
— Знали мы по-разному! — приняла вызов Татьяна Романовна, принесла и демонстративно положила в чемодан зонтик.
— Я больной человек, у меня давление, у меня весь отдых насмарку пойдет, — пожаловался Вася, глубоко вздохнув об отсутствующем Тимошке, и на всякий случай изобразил на лице страдание.
Татьяна Романовна принесла и непримиримо швырнула в чемодан свой новый, еще не просохший после утреннего моря купальник.
— Боже мой, как ску-у-учно! — с тоской протянул Вася. — Ну сколько, скажи, можно обсасывать одно и то же?
Что тебе далась эта лаборатория? Ты ведь знаешь, я, по сути дела, руковожу постановкой эксперимента. Они же все вокруг меня вертятся…
— Вот, вот! — с готовностью подхватила Татьяна Романовна. — «Главный теоретик»! Только такой единицы в нашем институте не существует! Ты просто дойная корова, и все, кому не лень, тебя доят! Кобыш — не Морозов, он себя покажет. Ты у него попляшешь на горячей сковороде. А когда кончит тебя потрошить, задвинет куда-нибудь…
— Подожди, подожди, — остановил Вася ее обидные прогнозы. — А где это куда-нибудь?
— Куда весь отработанный бесполезный балласт списывают.
— Танюш, ну ладно, ну, я бесполезный, я балласт, ноты ведь у меня полезная, активная, будешь представлять нашу фирму в единственном числе, глядишь, нива науки не заглохнет…
В ответ в чемодан полетело все подряд: тапочки, пудреница, обшитая кожей походная шкатулка с пуговицами, нитками, иголками и прочей женской мелочью, последними в чемодан шлепнулись розовые ласты.
— Мои! Мои! — отчаянно запротестовал Вася.
Татьяна Романовна злобно выбросила ласты в угол и захлопнула чемодан. Крышка и не думала закрываться, тогда Татьяна Романовна с ожесточением села на чемодан, ножка столика хрустнула, затрещала, и Татьяна Романовна, ойкнув, вместе с чемоданом оказалась на полу. Вася бросился к ней помочь, Татьяна Романовна оттолкнула его и принялась прилаживать сломанную ножку.
— Ну вот, столик теперь сломался, — беспомощно пожаловалась она. Придется за починку платить… Ах, оставь, пожалуйста! — Вася, завладевший ее руками, рук, однако, не освободил, Татьяна Романовна беззвучно засмеялась, слегка раздувая тонкие ноздри, и сама поцеловала Васю, они неожиданно и бурно, как это случалось и раньше, помирились.
Близоруко щурясь, Татьяна Романовна задумчиво глядела в сгустившуюся синеву окна, а Вася методично доставал из чемодана и развешивал на плечики в шкаф ее платья, затем неторопливо починил столик и, чтобы было совсем незаметно, придвинул его вплотную к стене. К Васе постепенно возвращалось прежнее состояние спокойной уверенности и силы. Татьяна Романовна с улыбкой следила за высокой, чуть сутуловатой, сильной фигурой Васи, глядя на его загорелую шею, вдруг ревниво подумала, что он еще совсем молодо смотрится, на тридцать, не больше. «Глупости! — рассердилась на себя Татьяна Романовна. — Баба!» И все-таки, порывисто вскочив, она подошла к Васе и на всякий случай, утверждая свою власть над ним, хозяйски поцеловала его раз и другой.
Наутро, прихватив с собой хлеба, вареных яиц и колбасы, две бутылки воды, они, едва-едва стало светать, были уже в горах, Татьяна Романовна и особенно Вася любили эти ранние вылазки. Вначале они часто, через сорок пятьдесят метров, отдыхали, затем дыхание уравновесилось, и они, не останавливаясь, добрались до первой смотровой площадки, расположенной довольно высоко и увенчанной старой беседкой, сложенной из грубого, крепкого камня. Хватая раскрытым ртом прохладный горный воздух, Вася выпрямился, оглянулся и обо всем на свете забыл. Он почувствовал у себя на шее учащенное, горячее дыхание Татьяны Романовны, положил ей руку на узкие знакомые плечи и ободряюще слегка прижал к себе, глаза у нее потеплели от восхищения. Далеко внизу под ними выгибалась изумрудно-бледная, словно выцветшая, непрерывно меняющая оттенок, отсюда, с высоты, необычно плоская, необъятная чаша моря, сквозь охвативший край неба нежно пламенеющий огонь деловито и неудержимо прорывалось солнце, на самый берег моря, человеческое жилье, примостившееся узкой полосой вдоль морского берега, отделяя от Васи с Татьяной Романовной сплошной веселый туман, он полз вверх стеной, и Вася не мог определить, появился ли он только что, как это бывает в горах, или они, поднимаясь вверх, прошли сквозь него, не обратив внимания. Васю несколько встревожил туман, но небо было совершенно чистым, воздух неподвижным, все замерло, затаило дыхание в этот час, и в сердце тоже проникла разлитая вокруг тишина и тайна.
— Боже мой, а мы все куда-то мчимся, что-то наверстываем, суетимся, неожиданно высказала Татьяна Романовна мысль, владевшую ими обоими, и Вася даже слегка отодвинулся от нее.
— Помолчим, Танюш, а? — вздохнул он, в досаде на се женскую несдержанность, боясь нарушить очарование минуты, солнце слепо обозначилось в огненной купели, подпрыгнуло над морем, сразу резко уменьшилось в размерах и брызнуло в глаза нестерпимым светом. Вася, настоящий солнцепоклонник, блаженно прикрыл глаза ладонью, затем осторожно глянул вниз, на море. Оно тоже изменилось, из изумрудного стало темно-синим, его слитная мощь, начинаясь у горизонта, теперь словно приподнимала и небо, и прорывающиеся из-под тумана острые скалистые берега. И, уже совсем разрушая чувство языческого единения с морем и солнцем, с таинством раннего утра, на горизонте появился теплоход величиной со спичечный коробок и стал деловито приближаться.
— Пошли, — скомандовал Вася.
Каменистая еле заметная тропинка уводила их все выше и выше к острым вершинам одиноких гор, дразняще недоступно сияющих в ясном небе. Татьяна Романовна заразилась от Васи неудержимый азартом, карабкаясь уже совсем по незнакомым местам, они окончательно потеряли счет времени. Где-то на полпути они встретили чистое озерко, образовавшееся от минеральных ключей, напились и слегка передохнули, раза два или три прошли под совершенно отвесным карнизом, осторожно двигаясь вслед за Васей и обмирая, Татьяна Романовна старалась не глядеть вниз, на густую шубу елей, на неудержимо несущиеся вниз горные потоки, кажущиеся отсюда, с высоты, тонкими ручейками. Татьяна Романовна не призналась Васе в своей слабости, лишь пожаловалась на усталость, выбрав приглянувшееся, продуваемое легким ветерком местечко под пышно разросшимся орехом, они остановились на отдых. Полежав на спине по совету Васи и с наслаждением вытянув гудящие от напряжения ноги, Татьяна Романовна разложила прихваченную снедь: нарезанные колбасу и сыр, два зеленых в твердых пупырышках огурца и полдюжины розоватых, растрескавшихся от сахарной спелости, помидоров. Брызгаясь густым розовым соком, заливающим шею и грудь, жадно впиваясь в прохладную мякоть, Вася наспех, как будто кто-то за ним гнался, съел подряд несколько помидоров.
— Ага, теперь я знаю, в кого Олег, — засмеялась Татьяна Романовна. Такой же грязнуля.
— В следующий раз Олега с собой возьмем, — Вася блаженно откинулся на спину. — Ничего, Даша поплачет-поплачет и успокоится, мала она еще для гор…
Татьяна Романовна ничего не ответила, хотя про себя и позабавилась неожиданно проснувшемуся отцовскому чувству мужа. Мимо энергично прошла группа молодежи, шумно их поприветствовала, судя по снаряжению, это были спортсмены-скалолазы.
К полудню в горах еще поприбавилось народу, и Вася с Татьяной Романовной теперь чаще слышали веселую перекличку голосов, особенно звонкую в настоявшейся горной тишине. Туман растаял, и далекое море отсвечивало едким расплавленным серебром. Васю разморило, повернувшись на бок, он задремал, по-детски оттопырив большие губы, а Татьяна Романовна, собрав остатки еды и завернув в салфетку, тоже выбрала тенистое местечко и легла, прикрыв лицо косынкой. Подумалось о детях, стало хорошо и покойно, почему-то вспомнилась давно умершая бабушка, ее морщинистые, ласковые, в коричневых пятнышках, вечно что-то вяжущие руки…
Татьяна Романовна резко вскинулась после короткого тяжелого сна, Вася по-прежнему спал в своей излюбленной позе, на боку, подтянув колени к самому подбородку, солнце исчезло, в скалах резко посвистывал ветер, в небе неслись, опускаясь ниже и ниже, густые взлохмаченные тучи.
Стянув волосы косынкой, Татьяна Романовна торопливо разбудила Васю, и он, едва глянув в сторону потемневшего, уже белевшего пенными барашками моря, вскочил на ноги, и они начали быстро спускаться вниз и до начала дождя прошли порядочно. Группа скалолазов, виденная ими ранее, нагнала их, не задерживаясь ни на минуту, на ходу старший деловито и строго посоветовал им поторопиться и скорее спускаться к берегу или уж выбрать устойчивое место и переждать непогоду в горах. Татьяна Романовна, оступившись, к тому же стала прихрамывать, и Вася сбавил шаг.
Словно в предвестие близкой ночи, быстро стемнело, от нависших еще ниже облаков они почувствовали сырость на лицах.
— Вляпались, — пробормотал Вася, и в ту же секунду, заставив их присесть, гулко и раскатисто ударил гром, и хлынул дождь.
Теперь приходилось двигаться почти ощупью, тропа, по которой уже змеились бурные потоки, круто и неожиданно петляла. Самое опасное место над пропастью под отвесным карнизом они успели проскочить еще до дождя, но Вася, обеспокоенный за Татьяну Романовну, совершенно забыл еще об одном крутом повороте над глубокой расщелиной почти сразу же за карнизом. Он вспомнил о нем, лишь увидев, как Татьяна Романовна, шедшая ощупью теперь впереди, вскрикнула и обмерла, сильным болевым толчком Вася почти швырнул Татьяну Романовну вперед, на безопасную широкую площадку, и в тот же момент сам как бы скользнул в пустоту, успевая все-таки всем телом, раздирая грудь и руки, плашмя броситься на камни и, несмотря на это, продолжая по-прежнему неудержимо, со ставшим неимоверно тяжелым сердцем, все быстрее и быстрее сползать вниз.
«Кажется, все», — мелькнула короткая беспощадная мысль, и пальцы мертво за что-то схватились. Он услышал странноодинокий, пронзительный животный крик Татьяны Романовны, и тут Вася понял, что держится он за довольно толстый ствол какого-то крепкого дерева, каменно проросшего в расщелину над самой пропастью, что сам он всем телом прирос к крутому, почти отвесно обрывавшемуся вниз откосу. Стараясь не шевелиться, Вася едва ощутимым движением раздвинул ноги, нащупывая хоть какую-нибудь неровность и тем самым стараясь облегчить руки, это ему в какой-то мере удалось, правое колено наткнулось на выпуклость в камне, и Вася несколько укрепился на каменном склоне.
— Таня, Таня, не теряй голову, слышишь, — стараясь говорить отчетливо и не затрачивать усилий, наконец подал он голос. — Не смей сходить с места, осмотрись! Ты слышишь?
— Я здесь, здесь…
— За нами кто-то шел, я слышал голоса, — сказал Вася тем же размеренным невесомым голосом. — Ты подожди, одним нам не справиться. Не двигайся, слышишь!
Со своего места у подножья скалы Татьяна Романовна не видела Васи, но первый животный порыв броситься следом за ним прошел, она уже могла думать. И тут какой-то второй приступ парализующего, невыносимого ужаса сковал ее, она почувствовала цепенеющие руки, воздух исчез, стараясь не допустить до себя нечто темное, нерассуждающее, она стала молиться, сгребая с лица льющуюся откуда-то воду, она тянулась к самому краю тропы, к обрывающемуся вниз, в дождь и ветер, откосу.
— Вася, ты слышишь, Вася! — звала она, вначале шепотом, затем сорвалась в крик.
— Да что ты кричишь! — неожиданно услышала она, как ей показалось, совсем близко странно замедленный, вязкий Васин голос. — Успокойся… сейчас должны подойти, тропу никак нельзя миновать… Успокойся… и самое главное, не трогайся с места… самое главное!
— Хорошо, хорошо, — торопливо ответила она, уже понимая, что не может больше ждать, она поползла на четвереньках, обдирая колени, по шипящей от дождя траве, поползла в ту сторону, откуда, она инстинктивно чувствовала, должна была прийти помощь, а когда опасное место осталось позади, с трудом встала и, преодолевая рушащийся дождь, как бы разгребая его, бросилась дальше. И Вася почувствовал ее уход, несильно окликнул ее раз-другой и затих, стараясь как можно спокойнее и медленней обдумать, как упрочить свое положение. Если бы не дождь, он бы еще и сам попытался выкарабкаться, а теперь оставалось лишь ждать и терпеть. Время замедлилось и остановилось, проверяя, жив ли он еще, Вася иногда крепко зажмуривался, стараясь смаргивать с глаз воду. Он не знал, день теперь или ночь, дождь расслаблял и усыплял, и он уже несколько раз готов был разжать руки, ощущая все больше распространяющееся оцепенение по всему телу, Вася опять отметил его как нечто постороннее, не касающееся его и не удивился, словно он весь одеревенел. Он не знал, откуда пришла помощь, но она пришла, по всему его телу разлилась волна живого тепла. Совершенно отчаявшемуся и уже безразличному и к жизни, и к смерти, и к тому, что его ждут, любят и что он необходим и сыну, и жене, и своей маленькой дочери, Васе вдруг стало жаль себя и захотелось жить. «Звезды, конечно, они»… — подумал Вася, глядя на мокрые, остро лучащиеся звезды, словно только что народившиеся в просветленном, очистившемся от туч и дождя куске неба. Дождь ослабел, и разрывов в тучах стало больше, действительно, уже пришла ночь, со звездами, спокойствием и глубиной Млечного Пути. Помощь в истончившейся и уже недостающей для дальнейшей жизни ниточке пришла к Васе оттуда, от звезд, и его опять захлестнула любовь к себе, и стало обидно за себя, за свое сильное, большое, полное желаний тело. Он знал, что до края тропинки, бегущей по узенькому карнизу, прилепившемуся над самой пропастью, метра два, три — не больше, ему еще повезло, что оступился он над небольшой расщелиной в стене пропасти и ему подвернулся крепкий стволик дичка, скорее всего груши. Стволик выдержит, и он продержался бы еще какое-то время, но, как он ни прижимается к скале всей спиной, стараясь помочь слабеющим рукам, силы убывают. А подтянуться и лечь на стволик деревца животом он не может (о таком усилии ему даже подумать страшно), хорошо еще, что под ногу попалась какая-то шероховатость в почти отвесной стене, и он в своем оцепенении все время помнил об этом подарке судьбы, можно дать чуть-чуть отдохнуть сначала одной, затем другой руке, правда, не разжимая пальцев, а лишь слегка ослабляя их мертвую хватку. Как это могло случиться?
И дождь… Ведь за ними кто-то шел, буквально по их следам, он не мог ошибиться, то и дело слышались уверенные молодые голоса. О Тане он запретил себе думать, он боялся и не хотел совсем ослабеть, если ее нет…
В этот момент к Васе и прорвались какие-то посторонние звуки, сердце у него заколотилось, это были люди, они сдержанно переговаривались, и потом над самой его головой раздался осторожный хрипловатый голос.
— Эй, друг… держишься? — негромко позвал кто-то. — Сейчас… сейчас, потерпи, совсем чуток осталось.
— Вася, Вася, — чуть слышно подала голос и Татьяна Романовна, в мягкой, такой знакомой интонации, как она ни пыталась скрыть, прозвучали страх и страдание.
Дождь припустил снова, Вася прикрыл глаза, защищая их от хлынувшей сверху воды, в то же время инстинктивно всем телом вжимаясь в камень.
— Вася! Вася! — опять послышался, теперь уже громче, умоляющий, оглушающе близкий голос Татьяны Романовны, и какая-то сдерживающая плотина прорвалась, и Вася почувствовал подступившую к нему вплотную заглатывающую, сосущую мглу бездонного ущелья.
— Здесь я, здесь, — отозвался Вася беззвучно, на большее усилие не хватило сил, казалось, вот-вот-и он сорвется.
Еще раньше вверху над ним началась какая-то возня, слышалось отчетливое позвякивание железа о железо, тихо и скупо переговаривались между собой незнакомые голоса, суеверно боясь взглянуть вверх, Вася все-таки ощущал тусклое скольжение фонарей в сыром воздухе, устрашающе фантастические тени, медленно переползающие с расщелины в расщелину, и уже совсем невероятно откуда-то из темноты рядом с ним появилось ярко освещенное светом фонаря молодое мокрое, очень грязное лицо с внимательными, участливыми глазами.
— Держись, — тихо сказали ему, одним тупым попаданием захлестывая на нем топкий шнур, сквозь вязкую внезапную глухоту (ему опять что-то негромко сказали) Вася почувствовал, что его крепко и надежно стиснуло и подхватило под мышками.
— Пальцы, пальцы разожмите, — понимающе попросил молодой голос. Вася и без него знал, что все плохое позади, но не мог с собою ничего поделать, он не чувствовал своих онемевших пальцев и разжать их не мог.
Его медленно и уверенно потянуло вверх, и все тот же спокойный голос повторил:
— Пальцы… Разожмите пальцы!
— Не могу, — хрипло и виновато отозвался Вася. — Не подчиняются.
— А-а, понятно, сейчас…
Тут Вася почувствовал на себе чужие руки, вначале ему больно сдавили, проминая, плечи и локти, затем опять плечи, и тотчас что-то словно вонзилось в позвоночник. Пальцы сами собой разжались, отпуская деревце. Вася глухо вскрикнул, в глаза плеснулась пронзительная чернота, пришел он в себя уже наверху, на тропинке. Он сразу же увидел над собой смятое радостью лицо Тани, светящиеся нежностью и любовью глаза. Вася прижмурился и опять потерял сознание, и весь следующий день, уже окончательно придя в себя и лежа в своей удобной постели, он, продолжая чувствовать под собой сосущую бездонную пустоту, всякий раз тревожно вскидывался и окликал Татьяну Романовну, с усилием поворачивая голову, он видел, что Татьяна Романовна неотрывно, с каким-то новым, ранее незнакомым выражением смотрит на него.
— Что, Вася? Я здесь, — как эхо отзывалась Татьяна Романовна. — Что, опять плохо?
— Ничего, лучше, Таня, — успокаивал ее Вася. — Понемногу проходит. Только внутри еще что-то дрожит. Знаешь, мелко-мелко так, с перерывами. Да, Танюша, здорово нас вертануло! — запоздало спохватился он. — Ты знаешь, Танюш, я тебе другое скажу, только не обижайся. Я ведь готов был признать твою правоту в нашем разладе… что ж, думаю, жизнь одна, зачем из себя пророка корчить? Ведь по-другому и легче, и проще, конечно, думаю, моя Татьяна Романовна права. Какого черта! Ведь я, если цель поставить, могу не только паршивую лабораторию прибрать к рукам, а кое-что и поинтереснее. Но знаешь, там точно кто-то вечный, неназываемый, кто все про нас знает, точно в душу мне заглянул, наизнанку вывернул. И стало мне невыносимо. Ах, дурак ты, дурак, думаю. Ведь помрешь и главного в жизни не успеешь, того, что тебе определено, из всей тьмы-тьмущей выделено. Ведь этого никто за тебя не сделает.
Поделом тебе и наказание и муки! За слабость! За отступничество! Подыхай!
— Вася! — оборвала его Татьяна Романовна с измученным, осунувшимся лицом. — Не смей, не кощунствуй! Что ты все на свои плечи тащишь? Моя вина, мне и отвечать.
Она мучилась рухнувшим равновесием, проваливалась, не находила опоры, Вася понял и ободряюще улыбнулся ей.
— Ага, испугалась, что мужа-то потеряешь! Живи, пока живется, Танюш. Не терзай себя, не ешь поедом. — Жить-то, что ни говори, хорошо, — сказал Вася, с наслаждением ощущая кожей чистую, скользко-накрахмаленную простыню. — Пожалуй, пауза моя затянулась, все, безделье кончилось, я т а м это понял, в ущелье, я опять способен думать…
Да, да, не удивляйся, Танюш, — заторопился Вася, боясь, что Татьяна Романовна перебьет его и он не сможет сказать того, что хотел. — Я еще отца вспоминал… никогда не вспоминал, он умер в пятидесятом, осколок сидел с войны, осколок нельзя было трогать. Правда, отец еще жил с час или полтора…
Тут Вася замолчал, и Татьяна Романовна, напряженно слушая его с виноватыми, влажно блестевшими глазами, боялась шевельнуться.
— Ну и что, что, Вася? — спустя какое-то время все-таки осторожно напомнила Татьяна Романовна о своем присутствии.
— Что? — очнулся Вася и с недоумением огляделся. — Ах, да, да, представляешь, Танюш, отец задолго почувствовал приближение смерти… только теперь я его понял! — Лицо Васи как бы осветилось изнутри мучительной догадкой. — Я его видел вчера, когда повис как распятый… брр! — неподдельно встряхнулся Вася. — Видел так ясно, как тебя вот сейчас. Знаешь, т а м я почувствовал то, что всегда присутствует в нас и чему мы, как правило, не верим. Я подумал, все, мой круг кончился, он пришел за мной… он был живой, я бы мог дотронуться до него, если бы мог освободить руки… Я его запах узнал, от него пахло, как в сильный зной от перегревшегося камня или сгоревшего железа… До меня дошел этот запах окалины, знаешь, Танюш, словно я расстался с ним вчера. Но даже не это главное!
Васе необходимо было выговориться, и она терпеливо ждала.
— Потрясающе другое! — продолжал Вася с таинственно-вопросительным выражением в глазах, снова и снова переживая поразивший его момент. — Отец повторил то, что сказал мне перед смертью… слово в слово… «Береги, Васька, совесть, слышишь, береги совесть, — сказал он, — как бы тебе самому плохо ни было!» И тут, Танюш, я понял, что останусь жить… Иначе зачем бы он приходил? — сказал Вася, оттеняя смысл своих слов и голосом, и выражением лица. — Да, да, зачем бы ему было приходить, зачем-то это было нужно, чтобы он приходил! Меня словно огнем прожгло насквозь. Он помог мне. Вот почему я рук не отпустил.
— У тебя жар, ты весь горишь… не волнуйся, все хорошо, все позади, осторожно напомнила Татьяна Романовна. — Вот выпей еще грушевого отвара, я прямо в чайнике заварила.
— Танюш, не покидай меня…
— Что, что? — растерялась Татьяна Романовна.
— Не покидай меня. Тебе тяжело со мной. Я что-то в жизни не смог. Действительно, мог быть больший результат.
Я не дал тебе счастья, все собирался, только собирался жить. Бежал, бежал, а жизнь-то-тю-тю! — уже прошла.
— Вася, перестань на себя наговаривать! Мне ничего не надо. Мне хорошо, ты рядом, что еще нужно? — Татьяна Романовна старалась скрыть замешательство перед непривычной, обезоруживающей откровенностью мужа, неловко отворачивалась, но против воли набегали слезы, мешая говорить. Ты не знаешь, какой ты, Вася… Ты замечательный.
Это я обыкновенная, но я ведь не виновата, что именно мне столько отпущено. А если я что-нибудь и делаю не так, я потом понимаю, раскаиваюсь. Было бы тебе хорошо и детям, а я что? Наша игра уже сделана, Вася. Жизнь набело, Вася, не проживешь. А тут еще этот ужас. Вася, я спать не могу, — шепотом пожаловалась она, — закрою глаза, и все перед глазами кружится, и горы, и скалы, и деревья, никакой опоры под ногами, не за что ухватиться, тянет вниз, как в воронку. Вася, страшно, хочу крикнуть, не могу!
— Клин надо клином вышибать, Танюш. Вот погоди. Немного оправлюсь, приду в себя, и мы с тобой по тому карнизу обязательно пройдем.
— С ума сошел! Побойся бога! Я этот ужас второй раз не переживу. Нет уж, Вася, с горами тебе придется распрощаться. Нам нашей родной среднерусской равнины теперь до конца жизни хватит. — Брови Татьяны Романовны сошлись в одну линию, ее тонкое лицо сделалось почти угрожающим, Вася прихватил ее руку, слабо сжал, она затихла, уткнувшись ему в плечо, вот так всегда, шумит она, шумит, кипятится, вроде бы все вокруг нее вертится, а стоит ему пальцем шевельнуть, и все по его желанию выходит, он из нее всю жизнь веревки вьет, все этим кончается.
Вася блаженно закрыл глаза, ему живо представился дом, Даша с Олегом, скамейка у озера, Тимошка, Вася не мог знать того, что именно в эту ночь Тимошка тоскливо метался до самого рассвета, время от времени тревожно подхватывался, прислушиваясь, в доме было тихо, все спали на своих местах, за стеной по-прежнему мирно шелестел дождь, и Тимошка пристыженно укладывался обратно на свою подстилку. И только под утро дождь совсем прекратился и выглянуло солнышко. Проснулась Семеновна, отворила настежь все двери и окна, впуская резкий утренний воздух, обула Васины болотные сапоги и, чуть не по пояс утонув в них, в хозяйском беспокойстве обошла затопленный сад. Тимошка угрюмо следовал за ней и, доплетшись кое-как до Васиной скамейки, одиноко торчащей над водой, вспрыгнул на нее и застыл горестным изваянием. Семеновна призывно загремела миской, в ответ он лишь слабо шевельнул хвостом и остался сидеть. Семеновна подумала, не заболел ли он, но в делах отвлеклась и забылась. После затяжных дождей вода в озере стала постепенно убывать, солнце вконец разморило землю, листва на деревьях взялась зеленым, сочным глянцем, яблоки, вишни и огурцы тяжелели на глазах, а в березах вокруг озера в больших количествах появились грибы — тугие, крепенькие, с темно-бордовыми головками.
Открывшая это чудо первой, Даша каждые десять минут бегала их измерять Олеговой линейкой, и к вечеру, к огорчению кровно обиженной Даши, грибы расти перестали.
Солнце уже село, в воздухе держался розоватый перламутровый отсвет, деревья молчали, и только глухо, где-то в глубине, дышала земля. Опасаясь сырости, Семеновна уговорила детей идти в дом.
На следующей неделе погода установилась на редкость тихая и безветренная, дети заметно окрепли, бегали в одних трусиках по саду, купались с Тимошкой в посвежевшем после дождей озере, загорали. Семеновна же за повседневными делами нет-нет да и начинала испытывать непонятную тревогу. Вася с Татьяной Романовной давно уже не звонили, и Семеновна успокаивала себя мыслью о походах в горы с ночевками и кострами по какой-нибудь уж совсем дикой местности, где нет почтового отделения.
Во вторник, ближе к вечеру, Тимошка, задремавший было в комнате Олега, неожиданно поднял голову, насторожился и глухо заворчал: в доме появился чужой. Тимошка слышал, как Семеновна с ним оживленно разговаривала, но Тимошку это не успокоило. Незадолго перед этим Олег поссорился с Дашей из-за испорченной книжки и теперь запирал от нее свою комнату. Уходя на волейбол, он нечаянно запер спящего Тимошку у себя в комнате, и Тимошка не мог теперь выбраться наружу. Все больше побуждаемый беспокойством и обидой, Тимошка начал грустно, с надрывом лаять, и он не ошибался в своем нетерпении, в дверях веранды широко улыбался Полуянов, одним глазом глядя на Семеновну, а другим на лестницу, ведущую наверх.
— Как вы тут, Евгения Семеновна? — с чувством говорил в это время Полуянов, и Тимошка в своем затворничестве, стараясь не пропустить ни слова, даже убрал язык, чтобы он не мешал ему слушать. — Зашел вот справиться, не нужно ли чего? Не стесняйтесь. Вы же знаете, мы с Васей и Татьяной старые друзья. Я Васе обещал наведываться. А тут господь такой ливень на нас опрокинул. Что-то и не припомню такого. Крыша не потекла? Все в порядке?
— Не нуждаетесь ли в чем? Ребята здоровы?
— Спасибо, спасибо, Яков Андреевич. Ребятишки здоровы, — ответила Семеновна, с интересом присматриваясь к подвижному лицу гостя. — Дети хорошие, слушаются, помогают во всем. Спасибо за внимание. Ничего не нужно.
— Вот детишкам — сладкое, — сказал Полуянов, выкладывая из портфеля на стол две коробки шоколадных конфет.
— Совсем уж лишнее, — неуверенно отказалась Евгения Семеновна.
— Да вы, Евгения Семеновна, не стесняйтесь, дайте знать, если в чем нужда будет.
— Спасибо. Вот молоко в магазин перестали возить из-за дождей. А вам возят?
— Право, не знаю. Кажется, возят, — неуверенно предположил Полуянов и опять сумрачным, тревожным глазом покосился на лестницу на второй этаж. Евгения Семеновна, вы детей не тревожьте, — понизил он голос. — От Василия Александровича звонили на днях, там неприятность маленькая вышла… Вам ничего не сообщали, не хотели тревожить, нет, нет, не пугайтесь, теперь все в порядке. Вася руку немного повредил. Знаете, ведь горы… Теперь действительно все в полном порядке. Они вот-вот должны вам сами позвонить, о детях беспокоятся.
— Вы правду скажите, Яков Андреевич, с Васей серьезное что-то было? — с явным недоверием спросила Семеновна.
— Куда уж серьезнее! Представляете, ливень в горах?
И туда циклон пришел. А они не успели вернуться вовремя назад. Знаете, горы, тропинки. Я всего этого не признаю.
В кино красиво. Издали можно полюбоваться. Тащиться же в горы в Васином теперешнем состоянии! Я Татьяну не понимаю. Можно ли так рисковать? Полуянов понизил голос к тревожно посмотрел в разные стороны. — Едва в пропасть не сорвался. Слава богу, обошлось… Как раз два дня тому назад и случилось.
Уронив руки на стол, Семеновна села, ей припомнилось, это позапрошлой ночью выл Тимошка. Она проснулась среди ночи и не сразу поняла, что это воет Тимошка, послушав, она опять провалилась в сон. Ей сейчас почему-то захотелось, чтобы Полуянов поскорее ушел.
— Яков Андреевич, а вы ничего не утаили? Правда, обошлось?
— Что вы, Евгения Семеновна, истинная правда. Как на духу! — отозвался Полуянов, и глаза его побежали в разные стороны.
Семеновна недоверчиво поджала губы, неуверенность Полуянова лишь утвердила ее в своих подозрениях. «Басурман разноглазый, ничего-то у него не выведаешь!»
— Евгения Семеновна, у меня к вам просьба, — прервал се невеселые размышления Полуянов. — В прошлый раз я свой блокнот у Василия Александровича наверху забыл. Такой синий, с металлической застежкой… Я: очень спешу. Он мне нужен, пожалуйста, поднимитесь, поищите его, Евгения Семеновна.
— А вы, Яков Андреевич, сами поднимитесь, — обрадовалась Семеновна тому, что тягостный гость наконец уйдет и не надо будет поить его чаем. Видела я такой блокнот, пыль стирала, на маленьком столике в углу видела.
— Если позволите.
— Иди, иди, Яков Андреевич.
Легко наступая на некрашеные половицы, так, что ни одна не скрипнула, Полуянов поднялся наверх, распахнул дверь в кабинет и сразу увидел свой блокнот. Но другой глаз его с порога устремился к большому, потемневшему от времени письменному столу из мореного дуба, Дубовый стол неодолимо притягивал Полуянова к себе. Почему-то пришел в голову старый спор с Васей, собственно, вели они его всю жизнь, он никогда не оканчивался. Полуянов, выдержанный, уравновешенный человек, хорошо владеющий своими эмоциями, сердился сейчас на себя за задержку.
«Забытый блокнот? Вот он. Бери его и уходи. Чего ты медлишь? Что ты забыл в чужом кабинете?» Конечно, наедине с собой можно сознаться, ему так и не удалось дотянуться до Васи, стать с ним вровень. Что-то не срабатывает. Тоненькая ниточка, связывающая их со школьной скамьи, теперь вот-вот оборвется, Вася Судаков, Василий Александрович не захочет работать под началом Кобыша и его, Яшки Полуянова, в качестве первого зама. Они всегда держали его за дурака, почти за шута. Бороться за власть-фу, грязная работа! Пусть ее делают другие, серые, непризнанные…
С Васей во главе лаборатории конечно же было бы привычнее и перспективнее для пользы дела, чем с Кобышем. Вася, он ведь не считается, он расточительно щедрый, а Кобыш такой же, как и сам он, Полуянов, будет любой кусок изо рта выхватывать. От Кобыша не перепадет. Этого никогда не накормить. Придется коренным образом перестраиваться. Скорее всего, именно поэтому и потянуло сюда, в Озерную, сегодня. Сколько здесь переговорено, сколько лет они шли с Васей в одной упряжке! Выходит, не на того ставил…
Хочешь не хочешь, а приходится менять хозяина. Что проку в жалости. Черт, тут еще это падение, как будто и само провидение отступилось от Васи. Наверное, высший знак. Куда денешься. Жизнь есть жизнь, раньше ставил на Судакова, теперь придется ставить на Кобыша, кое в чем перестроиться, а-а-а, была бы шея… Подумать только, весь жизненный расчет от какого-то примитивного куста зависит.
Полуянов вдруг представил, как все его надежды и расчеты повисли над пропастью, на каком-нибудь примитивном кизиловом кусте, и ему стало совсем нехорошо. Каких людей теряешь, что говорить, тяжело, опять с неожиданной горечью подумал он, правда, тут же его мысль совершила новый спасительный поворот. А что, если в том же Васе ничего особенного и нет, и никогда не было, и все это лишь пустое сотрясение воздуха, и никакого таланта? Сорвался бы — нс концом. Вот ведь талант, а выбраться из прорыва не может.
Или не хочет? Всю дальнейшую программу на привязи держит. Ах, Вася, Вася, неразумный человек, дались тебе эти распроклятые горы!
За своими мыслями, полный сомнений, Полуянов незаметным для себя образом оказался у заветного стола и постучал о старое дерево костяшками пальцев, словно хотел каким-то одному ему известным способом проткнуть в самые потаенные ящики этого древнего сооружения на приземистых шароподобных, массивных ножках, с отделкой из потемневшей с прозеленью старинной бронзы. И когда, уже совершенно не в силах противиться чему-то темному в себе, потрясшему все его существо ознобом пробуждения, он взялся за бронзовую ручку, приглушенный звук где-то внизу, на нижнем этаже, привлек его внимание. Успевший изныть от отчаяния и безысходности, пока Семеновна разговаривала с Полуяновым, Тимошка решился выбраться из комнаты Олега через открытое окно. Он вспрыгнул на подоконник и в секунду оказался в пламенеющей россыпи гвоздик. Промчавшись мимо остолбеневшей Семеновны, Тимошка по воле опасного раздражающего запаха взлетел наверх и захлебнулся от безудержной, перехватившей дыхание ярости. Он увидел чудовищную картину: у стола Васи, средоточия всего главного в доме, к чему в отсутствие Васи и Татьяны Романовны под угрозой строжайшей кары не разрешалось приближаться детям и где могла, кроме Васи, сидеть одна лишь Татьяна Романовна, стоял чужой, ненавистный Тимошке человек. Мало того, он даже открыл один из ящиков стола и что-то рассматривал там. Тимошка, движимый непреодолимым чувством долга, с остервенением ринулся на Полуянова и вцепился ему в штанину, кровь у него зажглась. Полуянов, вскрикнув, подскочил, толкнул ящик стола, с треском вставший на место, и, густо заливаясь краской, затравленно обернулся, — у Тимошки клокотало в горле, глаза светились первобытной, нерассуждающей яростью, ему не было никакого дела до тонких душевных переживаний Полуянова, перед ним был враг.
— Пошел! Пошел! Пошел! — трагически зашипел Полуянов, одной рукой придерживаясь за укушенное место, а другой загораживаясь от Тимошки. Пятясь задом, он шаг за шагом отступал в направлении двери и, достигнув наконец лестницы, неловко протопал вниз и немедленно стал прощаться, Семеновна вызвалась проводить его до калитки.
Увидев Тимошку, скатившегося следом за ним, Полуянов широко улыбнулся.
— И не стыдно тебе? А еще благородный пудель. Стыдно своих не узнавать, — обратился он с увещевательной речью к исходившему лаем Тимошке, всем своим видом выказывая готовность не допускать впредь излишней фамильярности и неуклонно продвигаясь к калитке.
Перед самым носом негодующего Тимошки Полуянов плотно прикрыл калитку, от недавнего дождя она отсырела и разбухла, и Тимошка, привычно ударив по ней лапой, не смог ее открыть. Он снова зашелся ожесточенным лаем, отчаянно прося Семеновну открыть калитку.
— На улицу хочешь, Тимошка? Рано нам еще с тобой за молоком. Потерпи. Всего хорошего, Яков Андреевич. Спасибо, будем ждать вестей от наших.
Тимошка, бешено крутя хвостом, не соглашаясь с доверительным тоном Семеновны, продолжал лаять, но Полуянов уже был далеко за калиткой, в том пространстве, где Тимошкины владения кончались. На прощание они успели обменяться ненавидящими взглядами через штакетник, Полуянов при этом приветственно помахал Тимошке рукой, а Тимошка в ответ угрожающе непримиримо обнажил сильные желтоватые клыки и, чтобы не оставалось никаких сомнений в его настроенности, проводил Полуянова до самого конца забора и напоследок негодующе встал на задние лапы. Полуянов был уже далеко со своей неверной, двусмысленно разбегающейся в разные стороны улыбкой. Тимошка еще с полчаса ждал, никуда не отходя от калитки и охраняя дом, и затем, до самого вечера, нет-нет да и возвращался к ней, внимательно обнюхивая дорожку, чтобы убедиться, не прокрался ли человек с запахом опасности и беды в дом снова.
9
И август незаметно подступил и еще незаметнее прошел, стали шлепаться на землю созревшие яблоки, и еж Мишка с наступлением сумерек целыми ночами упорно кормился.
В излюбленных зарослях он давно подготовил себе зимнюю квартиру, седые бакенбарды стали у него еще роскошнее, и Тимошка, однажды захватив его на месте преступления, у большого краснобокого яблока со следами зубов, пришел в неистовство от такого неслыханного нахальства. Еж Мишка, по своему обыкновению, тотчас свернулся тугим клубком, и Тимошка, обрадовавшись, лапой откатил добычу подальше от ежа Мишки, с яростным пыхтением, всем клубком, вслепую подпрыгивающего на месте. Зная повадки ежа Мишки, Тимошка выждал, пока еж, развернувшись, двинется в сторону яблока, и, подскочив, успел схватить яблоко зубами и отпрянуть с ним в сторону. Высокомерно оглянувшись на ежа Мишку, он в несколько прыжков достиг дома, взлетел па крыльцо и положил там яблоко, а сам вернулся в сад.
Ежа Мишки уже не было, и Тимошка, проследив его дорогу вдоль частокола к его родным зарослям на противоположном берегу озера, заскучал и, как всегда в таких случаях, отправился к озеру, внимательно обнюхал любимую скамейку и, ничего нового не обнаружив, лег на мостках. Озеро жило уже осенней жизнью, вода стала гуще и темнее, часто дул северный ветер и засыпал озеро желтыми, яркими листьями. В озере было по-прежнему много всякой живности, только движения в нем заметно поубавилось, ставшие еще больше рыбы, подплывая под мостки, подолгу стояли там, едва шевеля плавниками, и ждали, пока Семеновна принесет им хлебных крошек или разваренных рисовых зерен, тогда они оживали и жадно на них набрасывались.
Тимошка не замечал ни взявшихся огнем осиновых листьев, то и дело слетавших на воду, ни постепенного замирания жизни в саду и в озере. Вася, с его единственным голосом и запахом, окончательно переселился в телефонную трубку, всегда холодную и неживую. Олег рано уходил в школу, и Тимошка обязательно провожал его до калитки (дальше идти запрещалось), и один день был похож на другой. Семеновна, упорно борясь с обилием фруктов в этом году, целыми днями варила разнообразные варенья, делала компоты и соки, а Даша, объедаясь без присмотра сладким, ходила сонная и не хотела ни играть, ни бегать. Темнеть начинало рано, на сад и на озеро надвигались тихие, тяжелые сумерки, выбирались из своих убежищ Чапа и еж Мишка, и в саду везде, в кустах, и в озере начиналась скрытая ночная жизнь. Семеновна тщательно запирала теперь двери дома и калитку. Стоило большого труда уговорить ее открыть дверь в темную вечернюю пору еще раз. Для этого Тимошке приходилось подолгу сидеть перед дверью и лаять, а когда и это не помогало, он шел к Олегу, сидевшему над уроками, и начинал тихонько повизгивать и тереться мордой о его колени, такое поведение издавна означало, что ему совершенно необходимо немедленно выйти из дома. Олег вставал и выпускал Тимошку в желанный мир тьмы и волнений. Скоро Семеновна начинала беспокоиться, выходила из дому и звала Тимошку, но он делал вид, что не слышит, Семеновна иногда так и ложилась спать, не дождавшись его, и утром, покормив детей, подолгу его совестила. Тимошка и сам понимал, что всякий порядочный пес обязан ночевать дома и что осенью, когда дети уже ходят в школу, все в доме должны поддерживать рабочий режим, но каждую ночь его тянуло куда-то бежать. Темнее и дольше становились ночи, пронзительнее ветер, и во всем его существе разгоралось желание движения. Ветер, плотный, густой, несущий множество неизвестных запахов, мгновенно очищал небо от туч, и среди осенних тяжелых низких звезд проносились стаи неведомых птиц, изредка ронявших на землю зовущий глухой крик. В такие ночи Тимошка не мог оставаться в саду, через потаенную лазейку в заборе (о ней не знали даже Вася с Олегом, потому что в такие ночи у Тимошки даже в отношениях с ними устанавливалась некоторая отчужденность) он убегал в открытое поле, окруженное со всех сторон лесами и проселками, здесь небо становилось еще огромнее, и приходила острая, опьяняющая боль полнейшего освобождения. Ничего не оставалось, кроме ветра, заставлявшего далекие крупные звезды дрожать и позванивать, да тоскливых, зовущих криков пролетающих птиц.
Подкрался тихий субботний вечер, Олегу не нужно было сидеть над уроками и спать можно было лечь попозже. В саду держалась сырость, на пышно разросшихся кустах черноплодной рябины тяжело свисали черные, влажные кисти ягод, Тимошка любил сочные, сладковато-приторные ягоды рябины, хотя сейчас есть их не мог, в нем уже с утра зазвучала тревога, весь день он к чему-то прислушивался, а к вечеру его неудержимо потянуло на волю, в просторное опустевшее поле. Его состояние заметили и Семеновна, и Даша, и конечно же Олег, выстукивающий наверху свои бесконечные скучные гаммы перед раскрытой на самом интересном месте книгой о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. Без книги было бы играть уж совсем невыносимо скучно, а так Семеновна, прислушиваясь к пассажам, спокойно занималась своими делами. Каждый старался по-своему развлечь Тимошку, дети долго сидели возле Тимошки на корточках и вполголоса совещались.
— Он заболел, — уверенно сказала Даша, щупая Тимошкин нос, нос был прохладный и влажный. — Нос очень горячий, — добавила Даша убежденно.
Олег недоверчиво потрогал Тимошкин нос.
— Да ну тебя, Дашка! Всегда у тебя все наоборот.
— Нос очень горячий, — упрямо повторила Даша, и лицо ее выразило оскорбление.
— Пойдем, Тимошка, заниматься к Васе, споем, — предложил Олег.
Тимошка тотчас, словно ждал этих слов, встал и подошел не к лестнице, а к выходной двери, царапнул ее лапой и требовательно оглянулся на Олега.
— Он хочет на улицу, — сказала Даша.
— Сам вижу, — буркнул Олег и поглядел на Семеновну, листавшую свежий номер журнала, та в воспитательных целях сделала вид, что ничего не заметила, Олег, по ее мнению, как будущий мужчина, уже мог и должен был вырабатывать настоящий характер и сам принимать решения. — Ну хорошо, иди, — обиженно хмурясь, сказал Олег и распахнул перед Тимошкой дверь.
Тимошка выметнулся на веранду, затем на крыльцо, Олег за ним. Ветер переменился, и небо, непривычно чистое, сияло густой россыпью звезд. Всего на мгновение задержался на крыльце Тимошка и в один стремительный прыжок исчез, растерявшийся Олег даже не успел его окликнуть, постоял-постоял и вернулся в дом, необычайно молчаливый.
В чуткие ноздри Тимошке ударил горячий, доводящий его до исступления запах, и пес, обо всем на свете забывая, бросился к своему старому, не известному никому лазу, обдирая бока, пролез в узкую дыру в заборе и понесся в поле.
Луна уже взошла и заливала землю чистым, ровным сиянием. Пьянея окончательно, Тимошка неслышно несся наискосок ветру и, выбежав на самое возвышенное место, на середину поля, внезапно замер, припав на задние ноги. Луна поднималась выше, и ветер усиливался. Тимошка стал яростно кататься по земле, и звезды с луной тоже перекатывались с одного края в другой, Тимошка терся о землю мордой, ушами, загривком, спиной, полз на брюхе, тесно прижимаясь к земле, — теперь наступал и его час благодарения жизни, пришел праздник наивысшей свободы, от всего окружающего, от дружественного и враждебного, от пищи и голода, от любви и ненависти, от самой жизни и от самой смерти. Это был час благодарения самому началу ж и з и и, непрерывно сеющим ее семена неведомым звездам, и если у Чапы была своя звезда, появляющаяся в определенный день и час, у ежа Мишки своя, у Васи или у березки над озером, у каждого своя, то теперь наступила очередь Тимошки. Момент появления своей звезды он ощутил как толчок: первородный, сладкий, разрывающий внутренности страх заставил его еще сильнее вжаться в землю, он пополз, затем словно посторонняя сила оторвала его от земли. Он был не один в этот полуночный час, стремительные, бесшумные тени исчертили поле из конца в конец, Тимошку все сильнее захватывал и безраздельно подчинял себе властный ритм, отдающийся дрожью во всем его существе. Бесшумные тени все теснее сближались и стягивались к четко определившемуся центру, и Тимошка тоже находился во власти общего движения, он все больше отрешался от себя и подчинялся закону общей слитности и сплоченности. Он настиг маленькую, скользящую тень, то дразнящую его своей близостью, то отдаляющуюся от него, и изо всех сил старался не отставать, движение его пьянило и завораживало.
Наивысший момент наступил неожиданно, земля вырвалась из-под ног и исчезла, и тогда и к Тимошке пришло чувство собственной силы и бесконечности, отвечая на объявший темным огнем все его существо зов, Тимошка вскинул острую морду к небу, он нашел и узнал свою звезду, она плеснулась ему в глаза, и тогда то, что было больше, сильнее его, то, что было до него и останется после, заставило его еще и еще раз бросить свое тело навстречу ветру и бесконечному пространству.
Нельзя соединить однажды навсегда разъятое, и Тимошка внезапно обессилел и, высунув язык, тяжело дыша, покорно и безошибочно устремился назад, привычная и властная тоска по знакомым рукам Васи проснулась в нем, Вася ждал его, и нужно было торопиться. По полю из конца в конец гулял сырой, осенний ветер, поле было совершенно пустынно, да Тимошке больше ничего не нужно было, и он ни на что не обращал внимания. Его бег становился размашистее и гонче, торопливо проскочив через ту же дыру в заборе, он берегом озера, сквозь заросли бурьяна и дикого шиповника, выбрался в сад. У Васиной скамейки Тимошка озадаченно остановился: по озеру молчаливо плавало несколько крупных, никогда ранее не виданных Тимошкой птиц с длинными гибкими шеями. Высунув язык, Тимошка сел и принялся усиленно думать, у него несколько раз дернулись брови и Шевельнулись уши. Неизвестное всегда таило в себе опасность-на всякий случай Тимошка убрал язык и бесшумно лег, затем подполз ближе к берегу, просунул нос сквозь жесткие былки травы, большие птицы держались на самой середине озера, а их маленькие по-змеиному головы настороженно торчали высоко над водой. Начинался рассвет, переполненное недавними осенними дождями озеро было совершенно безмолвно, птицы скользили по воде бесшумно, хотя уже заметили Тимошку. Они отдалялись к противоположному от него берегу и затем, словно по беззвучной команде, шумно ринулись в его сторону, вытянув шеи, шлепая ногами по воде, их сильные крылья со свистом рассекали воздух. Ошарашенный Тимошка плотно прижался к земле, неведомые птицы со свистом пронеслись над ним, и мгновенный ветер словно оторвал Тимошку от земли. Он стремительно прыгнул, щелкнул зубами. С неба упал далекий глухой крик, один, второй, и все затихло, уставший Тимошка побрел к дому и лег на крыльце, перед дверью. Незаметно он задремал, хотя и во сне знал все, что происходило в саду, во сне он услышал и узнал шаги Семеновны.
— А-а, явился, — сказала Семеновна. — Ну, здравствуй, бродяга, пожаловал как раз вовремя, дети завтракают.
Олег с Дашей действительно сидели за столом. Они с любопытством уставились на Тимошку, и тот от неловкости отвернулся к окну. Он увидел большой куст, сплошь усыпанный иссиня-черными, даже какими-то сизыми от избытка силы гроздьями ягод.
— Видим! Видим! — торжествующе объявила Даша. — Ему стыдно. Выходной, семья за столом собралась, а ему стыдно!
— Почему ему должно быть стыдно? — спросил Олег и резонно добавил:-У него могут быть свои дела, ничего стыдного в этом нет.
Тимошка в благодарность подошел к Олегу и сел рядом.
Олег, точно как Вася, опустил руку ему на голову. Семеновна принесла Тимошке чашку с едой и поставила у порога, хотя Тимошка при виде знакомой чашки почувствовал сильный голод, он, как всякий хорошо воспитанный пес, помедлил.
— Иди ешь, Тимошка, — убирая с его лохматой головы руку, ободрил Олег, и Тимошка, по-прежнему не торопясь, прошествовал к порогу, тщательно обнюхал чашку и стал медленно есть.
— Он вчера свой кирпич опять по саду таскал, — вспомнила Даша.
Еще она хотела сказать брату, чтобы он не задавался и что она сама скоро пойдет в школу и тоже будет носить за плечами тяжелый ранец, но в это время часто и коротко и, как всегда, неожиданно зазвонил телефон, опережая всех, даже Дашу, Тимошка в один момент оказался в противоположном конце дома и требовательно оглянулся, удивляясь неповоротливости людей. На этот раз он не ошибся, в трубку опять забрался Вася. Дети, толкаясь, подбежали к телефону, и Даша, завладевшая трубкой, важно приложила ее к уху, узнав далекий голос отца, она подпрыгнула от радости и едва не отдавила Тимошке лапу.
— Папка! Папка! Здравствуй! — закричала она. — Хорошо слышу, хорошо! Когда вы с мамой приедете? Почему так долго? Да, да, — говорила она, опять торопясь, — яблоки падают, целый сад насыпался, тетя Женя не знает, что с ними делать.
С Васей затем поговорили Олег с Семеновной, и наконец, по обыкновению, дали трубку Тимошке. Он тотчас узнал Васю, он часто задышал в трубку, убрал язык и тихонько взвизгнул. Забравшийся в трубку Вася почувствовал его волнение и засмеялся.
— Ты, Тимошка, не переживай, — посоветовал он. — Мы па той неделе приедем с Татьяной Романовной, совсем приедем, слышишь? Можно сказать, уже выехали, билеты в кармане. Скоро приедем, Тимошка! А вот как нам дальше жить, ты не знаешь? Вот, вот, и я не знаю… Так-то вот, Тимошка…
Всем сердцем одобряя слова Васи в трубке, стараясь не потерять исчезающий голос, Тимошка негромко тявкнул, он отлично понял, что Вася вот-вот вылезет из своей холодной и ничем не пахнущей трубки, которую придерживал у его уха Олег, живой и необходимый, а главное, понятный, с тяжелыми добрыми руками, опять будет сидеть на своей скамейке у озера, хотя конечно же с ним вместе непременно появится и Татьяна Романовна, она опять повесит тряпку на крючок возле дверей и заставит всех, в том числе и его, Тимошку, вытирать ноги, что являлось всегда неприятным и нудным делом — терпеливо ждать, пока тебе насухо по очереди вытрут все четыре лапы. И все же сердце Тимошки колотилось от радости и восторга. Вася из трубки ушел, и она назойливо гудела, Тимошка совершенно случайно глянул на рябиновый куст за окном, теперь сплошь усеянный непрерывно и трескуче кричавшими птицами. Это были дрозды, тучей налетевшие на сад, злейшие Тимошкины враги, пожиравшие его самую любимую ягоду, только из-за Васи, забравшегося в трубку, Тимошка вовремя не заметил грозной опасности. Еще полный радости и восторга от голоса Васи, Тимошка помедлил лишь мгновение, затем ринулся к двери, открыл ее сильным толчком лапы и в два прыжка оказался в саду. С оглушительным лаем ринулся он и середину самого большого куста, в самую гущу дроздов, и тотчас над садом поднялась словно темная туча, дерзких и крикливых птиц оказалось неисчислимое множество, но Тимошке не удалось схватить ни одну из них.
Припавшие к окнам обитатели дома увидели невероятную картину. Над Тимошкой, непрерывно прыгавшим вверх и щелкавшим зубами, образовалась серая, кверху все расширявшаяся, крутящаяся воронка из птиц, и все это, вместе с Тимошкой, казалось, приподнялось в воздух и неожиданно стремительно унеслось в сторону озера. И там исчезло, рассыпалось, как бы растаяло, и не было больше ни Тимошки, ни дроздов, над садом повисла густая тишина погожего осеннего утра.
Семеновна протерла глаза, вполне резонно полагая, что ей все померещилось, взглянув на лицо Олега, выражающее крайнее недоумение, она опять припала к окну. Безжалостно общипанные кусты рябины стояли, высоко вскинув ранее отягощенные грузом ягод ветви, и больше ничего интересного в саду не было.
— Они его унесли, — растерянно сказала Даша, и тотчас, как по команде, дети бросились в сад. Было пусто, тихо и грустно кругом, тяжело и редко шлепались на землю спелые яблоки. Никто не знал, что сказать или подумать, все растерянно стояли возле Васиной скамейки и только переглядывались. Но вслед за тем из-под мостков послышалось недовольное сопение, а потом обозначилась вся Тимошкина физиономия, он настороженно глянул в небо раз, другой, глянул вокруг, увидел Семеновну, Олега с Дашей, выбрался из-под мостков окончательно, несколько раз сильно, с заметным неудовольствием отряхнулся, каждый раз окутываясь густым водяным облаком, несколько смущенно улыбаясь в сторону скамьи. С совершенно независимым и гордым видом, показывая, что не случилось ничего стоящего внимания, он деловито побежал к кустам рябины проверить и уточнить размеры опустошения.
Жизнь в саду продолжалась, еж Мишка с роскошными осенними бакенбардами осторожно пробирался зарослями малины, Чапа тоже готовилась к зиме и кое-что подправляла в своем подземном жилище. И Тимошка стал подбирать и глотать обитую птицами ягоду, густо усыпавшую землю, потом побежал к калитке, сел и приготовился терпеливо ждать Васю.
Черные птицы (Повесть)
Посвящается Лиле
1
Тревожный знакомый свет прорезался неровным, дрожащим бликом и исчез, чтобы снова появиться через мгновение, и она даже во сне потянулась на этот свет, это было предупреждение, предчувствие счастья, одного из тех немногих мгновений, таких редких в ее предыдущей жизни, где-то в самых отдаленных глубинах ее существа уже копилась таинственная, как подземная река, музыка, и, как всегда, она начиналась с одной и той же мучительно рвущейся ноты. Было такое чувство, словно боль сердца, не высказанная за всю ее трудную и уже долгую жизнь, высвобождалась, делалась открытой для всех, и вес удивлялись и жалели ее, но и это тоже было не главное — это тоже мимолетно и бесследно исчезало. Оставалась иная боль, боль освобождения-тихая, щемящая, что-то вроде неслышного, скользящего полета над ночной землей, с редкими вкраплинами огней внизу. И вот уже музыка заполнила все вокруг: и звезду в черном бархатном небе, и редкие огни внизу, и сама она, и ее неслышный полет были музыкой. Она еще сдерживала себя, еще боялась вдохнуть всей грудью резкий ночной воздух, но подземная река в ней все ширилась и рвалась наружу, она узнала свой голос, он лился свободно и широко, легко перекрывая пространство и все посторонние звуки, ничего больше не оставалось в мире, кроме этого мучительного и победно-торжествующего голоса, в небе ответно разгоралась все та же болезненно яркая звезда, синевато лучащаяся, огромная, она появлялась всякий раз, как только начинал звучать во сне ее голос, так было всегда. Вот и теперь, разрастаясь, сиреневая звезда неостановимо неслась ей в зрачки, слепила, было невыносимо переносить ее нестерпимый, все обострявшийся свет, и мир вот-вот готов был рухнуть, она изнемогала… И было еще одно очень странное чувство-она всегда знала, что поет во сне, что слышит себя, свой голос в далекой молодости, но остановиться не могла, — границы времени смещались, только каждый раз она открывала глаза, чувствуя себя окончательно разбитой, измученной, еще большей старой развалиной, чем до сих пор.
Все обрывалось неожиданно, оставалась лишь тупая боль в сердце, и каждый раз Тамара Иннокентьевна боялась конца, каждый раз она обессиленно долго лежала, боясь шевельнуться, и широко открытыми глазами невидяще глядела в темноту, мучаясь желанием остановиться на чем-нибудь привычном, хотя бы на старом резном шкафу черного дерева, это приходило всегда ближе к рассвету и поэтому особенно обессиливало: сегодня же к опустошенности присоединилось еще и чувство незавершенности, на этот раз недоставало чего-то главного.
До сознания Тамары Иннокентьевны вдруг явственно донесся совершенно посторонний, не имеющий к ней и се сну никакого отношения, просторный вольный шум, она удивилась, что в этом убогом и тесном мире есть что-то еще постороннее. Она заставила себя приподняться и прислушаться и с облегчением опустилась на подушку. Ничего таинственного и загадочного, всего лишь сильный ветер, и как раз со стороны окна, теперь она почувствовала, что в комнате, очень свежо, как хорошо, подумала она, впереди еще полностью месяц зимы (она любила зиму), и улицы завалены снегом, февраль нынче выдался снежным, вьюжным, как в добрые старые времена, когда много снегу и морозно, и на воздух выйти приятно, и сразу улучшается настроение, до оттепелей еще далеко.
Заставив себя встать, Тамара Иннокентьевна забралась в теплый халат и, плотно запахнувшись, зябко придерживая ворот у горла, подошла к окну, раздвинула шторы. Тотчас в комнату потек неверный, все время меняющийся свет фонаря, раскачивающегося во дворе напротив, и от окна ощутимо потянуло зимой, холодом. Тамара Иннокентьевна тихо улыбнулась, она угадала, так и есть, на улице был сильный ветер, вернее, вьюга, в свете фонаря непрерывно и густо несло массы снега, а высокие старые тополя, сейчас метавшиеся от ветра, росшие во дворе с тех самых пор, как Тамара Иннокентьевна помнила себя, казались живыми существами, обреченными на гибель, они-то и производили тот непрерывный стонущий звук, заставивший ее подняться с постели и подойти к окну. Стоя у настывшего окна, Тамара Иннокентьевна почувствовала себя бодрее и крепче, ей давно не приходилось видеть такой злой и беспощадной метели, и она, забыв о холоде, идущем от окна, никак не могла заставить себя оторваться от сплошных ливневых потоков снега и беспомощно раскачивающихся верхушек тополей. Ей представилось, что это по всей земле метет вьюга и никакого города нет, а есть только бешено и неостановимо льющиеся с неба потоки снега, дремучие, стонущие леса (когда-то, много-много лет тому назад, еще до войны, Глеб взял ее в гастрольную поездку в Архангельск и дальше на север, она видела такие леса), дикие звери, застывшие реки с синим льдом и вся земля — в потоках лохматого снега, вся-от края до края. Она улыбнулась своим детским мыслям, но тотчас досада на себя взяла верх. Все было иначе, значительнее и таинственнее, и много проще, вслушиваясь в кипящую душу вьюги, она подумала, что сегодня, когда она пела, ни в начале, ни в конце Глеб не позвал ее, как всегда, не остановил. За что-то он на нее сердится сегодня, а ведь она ничего плохого за собой не знает. Во всяком случае, за последние годы. Что же она проглядела? И потом, Глеб никогда не таил зла, Глеб не мог быть жестоким к ней, он вообще не мог быть жестоким.
Теперь за окном в самом характере вьюги что-то неуловимо переменилось, впрочем, все это она уже когда-то чувствовала, видела, переживала, и вот такой же тихой, щемящей болью болела у нее душа, все это было, было! Что же изменилось в несущихся за окном потоках снега за последние несколько минут? Ветер усилился, еще усилился, и свет фонаря стал беспокойнее, резче, летит, рассекает тьму…
Тамара Иннокентьевна зябко поежилась: все эти выдуманные страхи-от одиночества, от долгой, несостоявшейся жизни. Фонарь по-прежнему раскачивался, все так же весело и бешено неслись слепые снежные потоки. Тамара Иннокентьевна прошла на кухню, на ходу прикоснувшись ладонью к двери в другую комнату, хранившую все самое дорогое в ее жизни. На какую-то долю минуты она задержалась возле этой двери, преодолевая острое желание толкнуть ее, войти, погладить крышку старого, верного рояля, самую дорогую память о Глебе, бросить взгляд на знакомые корешки книг, но в последнюю минуту передумала. После неожиданного пробуждения что-то необратимо стронулось с привычных мест, изменилось, словно в ней поселилось два непохожих, не очень умеющих поладить друг с другом человека. «Ах, да, да, опять эти страхи, — Тамара Иннокентьевна расстроенно потерла себе виски, — а причина-то пустяковая, вполне объяснимая, обыкновенная, мороз вчера очень сильный был, а я ходила в магазин, а можно было обойтись и без простокваши один день. Очевидно, простудилась, так-легкое недомогание. День-другой хорошенько прогреться, лечь в постель. Девочки придут, извиниться перед ними. Лучше позвонить им домой, зачем им зря в такую погоду ехать. Они очень симпатичные, девчушки десяти и двенадцати лет, и, кажется, не без способностей, особенно младшая, Наташа, удивительно восприимчивая, и руки хорошие, особенно правая…»
Тамара Иннокентьевна медленно, ощупью прошла темным неосвещенным коридором на кухню и тут сразу же опять услышала, как неистово рвется в окно ветер, за стеклами металась белесая, мутная, беспросветная тьма. Перевалило всего лишь за полночь, и все было еще во власти глухой вьюжной бесконечной ночи, Тамара Иннокентьевна все время ощущала на себе чей-то цепкий, осторожный, испытующий взгляд, взгляд был враждебный, неотпускающий и непрощающий. Тамара Иннокентьевна нетвердой рукой нащупала выключатель, щелкнула им, яркий свет ударил в глаза, и привычные вещи обозначились на своих местах. Все так же с легким ознобом и неприятным ощущением ломоты, особенно в суставах ног, Тамара Иннокентьевна зажгла горелку на плите, с удовольствием подержала руки у веселого напористого огня, поставила на огонь чайник. Вскоре чайник энергично запел, готовясь вскипеть, и сразу стало теплее, Тамара Иннокентьевна приготовила заварку (она любила смешивать разные, хорошие сорта чая), а когда чайник на плите забулькал, резво подбрасывая крышку, щедро заварила чай, достала из шкафчика, встроенного в выемку стены рядом с подоконником, банку с малиновым вареньем. Сомнения и страхи кончились, с удовольствием отпивая горячий чай, она даже слегка улыбалась своей минутной слабости, кожа лица потеплела и порозовела, спать совсем не хотелось, и тем не менее, угревшись и откинувшись на высокую гнутую спинку старого любимого кресла у стола, она незаметно задремала. Ей даже что-то приснилось, что-то далекое, неясное, размытое и, несомненно, приятное, но, едва погрузившись в сон, она тотчас испуганно вскинулась. Сердце глухо и часто колотилось. Тамара Иннокентьевна торопливо осмотрелась. Все оставалось словно бы и на своих местах, ничего не изменилось, только яркий свет лампочки в стареньком ситцевом абажурчике приобрел какой-то мглистый оттенок, и от этого и стены, и полки, и посудный шкафчик, и стол, и полотенце над мойкой-все как-то разом потускнело, Тамара Иннокентьевна поднесла ладонь к глазам, рассматривая.
Кожа на руке тоже была серой, словно бы густо припорошенной сухой дорожной пылью, Тамара Иннокентьевна даже попыталась стряхнуть ее. Да, да, что-то случилось не то со светом, не то с глазами. Она не успела удивиться, в коридоре послышались возбужденные знакомые голоса, и на кухню первым ворвался Глеб, за ним Саня, очень стройный, как всегда, элегантный, в глаза метнулось расстроенное, вконец потерянное лицо Сани, хотя он изо всех сил старался принять непринужденный вид, но задержаться на этом не было времени. Ее подхватил, закружил по комнате Глеб, много крепче тонкого в кости Сани, слегка сутуловатый, он был очень сильным.
— Томка! Томка! Наконец-то! Наконец! — кричал он, обдавая ее жарким, прерывистым, знакомым дыханием. — Наконец есть разрешение! А Димке Горскому отказали наотрез. Так ему и надо, а то он даже в этом не захотел уступить! Я заявление в военкомат, и он следом! А? Представляешь, с его хроническим бронхитом. Каков, а?
— Не смей! Не смей! — попросила Тамара пропадающим шепотом и сильно бледнея. — В такой момент нельзя кощунствовать над самым святым, что ты, Глеб! Дима ведь прекрасный человек, очень талантливый… нельзя! Он сам по себе-он ведь очень честный и совестливый.
— Томка, ты что? — шумно запротестовал Глеб. — Неужели ты подумала, что я всерьез? Я сам Димку во как люблю, ты же знаешь. Только ведь не с его же здоровьем на фронт. Зато Солоницыну разрешили, мы с ним просились в одну часть.
Почувствовав внезапное головокружение, она обмякла, ноги подломились, и вместе с распространяющейся в груди пустотой комната поплыла у нее перед глазами-стены, потолок, блестящие глаза Глеба. Из последних сил она отчаянно попыталась справиться с собой, но тяжело повисла на руках Глеба. Он удивленно и бережно усадил ее, сам опустился перед ней на колени и, взяв ее враз похолодевшие руки в свои, стал часто целовать их, стараясь согреть, то и дело тревожно взглядывая ей в лицо, от немой, невыразимой любви, от какого-то почти животного, непереносимого страха за него она не могла заставить произнести себя ни слова, если бы она разжала губы, у нее вырвался бы один непрерывный, нескончаемый безобразный стон.
— Томка, Томка, — пробился к ней наконец откуда-то очень издалека до обморочного состояния знакомый, родной и в то же время опять куда-то ускользающий голос, — ты же все знала, Томка. Ну что ты так? Что в этом для нас с тобой нового? А, Томка?
Замолчав, Глеб оборвал на полуслове, их глаза встретились. Впервые после женитьбы, да и за всю свою прежнюю жизнь, они поняли, почувствовали, ощутили с такой убивающей силой, как они любят и как необходимы друг другу, они смотрели, смотрели в глаза друг другу, и уже не было ни его, ни ее отдельно, уже было одно существо, одно чувство, одна боль и одна надежда, но слабая-слабая, как еле теплящийся огонек, еле ощутимый за тем беспощадным, огромным, безжалостным, все сметающим на своем пути, что надвигалось на них. И Тамара увидела мелькнувшее у него в глазах смятение, оно мелькнуло и исчезло, но одного этого мгновения было достаточно. Он не мог больше смотреть ей в глаза и опустил тяжелую лобастую голову ей в колени, словно прося помощи и защиты. «Конечно, милый, я знала, я давно ждала этой минуты, — сказала она где-то глубоко в себе, в только-только начинавшей устанавливаться тишине, — только ты никогда не узнаешь, как я этого ждала. С таким ужасом и своей смерти не ждут, как я ждала этого дня… Ну, что теперь? Должно же было так быть, кем-то так назначено… Я все вынесу, лишь бы ты вернулся».
«У нас почти не осталось времени, — словно растворяясь в теплой темноте, идущей от ее коленей, с неожиданной силой сказал Глеб, по крайней мере, хотя он не произнес ни звука, она ясно услышала неожиданно гулко, пустынно прозвучавшие в ней эти его мысли. — Несколько часов наши, еще вся ночь наша! Наша, слышишь?»
«Слышу, слышу! — беззвучно отозвалась она, боль и обреченность в ее глазах погасли, сменившись горячим, живым блеском, Глеб всегда поражался мгновенности этих переходов. — Да, Глеб, эта ночь наша. Наша… Пусть всего одна, но наша…»
«Не имеет значения! — Она почувствовала, что от него исходит незнакомая властная сила. — И потом-что значит одна? Жизнь тоже одна, она может свершиться и в один день и в тысячу дней, а может не уместиться и в сто лет, неожиданно оборвется, останется только чувство незавершенности, тоски, оборванности в самом начале».
«Да, Глеб, да», — торопливо согласилась она, не думая уже ни о чем другом, кроме того, что надвигается какая-то душная, все поглощающая тьма, разбирая пальцами его густые пшеничные волосы, она подумала, что эти живые, упругие волосы завтра будут выброшены куда-нибудь на помойку, как ненужный мусор, почему-то именно это потрясло ее больше всего, хотя она отлично знала и раньше, что всех новобранцев стригут. Почувствовав на себе что-то мешающее, постороннее, она подняла глаза и увидела стоявшего в дверях кухни Саню, неотрывно глядевшего на нее, в его глазах и в полуулыбке застрял какой-то мучительный вопрос. Подчиняясь еле заметному движению ее напрягшихся рук, Глеб встал и шагнул к Сане.
— Давай попрощаемся, Саня.
— Понимаю, понимаю, — заторопился Саня, опуская глаза и заметно бледнея, щеки и шея у него сделались мучнистыми и неприятными.
Глеб и Саня молча попрощались, стиснув друг друга в объятиях, но она уже забыла о Сане, она вспомнила, что Глеба весь день не было дома и его надо накормить, что он конечно же голоден, надо отойти, отвлечься от своего панического настроения. Надо успеть собрать его, две пары нижнего белья надо, носовых платков не забыть положить, теплые носки, — до замужества она жила в старинной артистической семье, хорошо обеспеченной, никогда раньше не сталкивалась с подобными заботами, и теперь ее мысли растерянно заметались, она не знала, что еще требуется мужчине, если он идет на воину.
— Томка, наконец-то! Мы одни! — отвлек ее от неспокойных мыслей голос Глеба, он подошел к ней, тяжело обнял, прижал к себе, и в ее сознании возникло ощущение острой, нестерпимо яркой вспышки света, она крепко зажмурилась и обессиленно припала к нему, дрожа от нетерпения, от избытка переполнявшей его силы и боли, Глеб взял ее на руки и осторожно опустил на широкую, еще дедовскую кровать из резного черного дерева, в отрочестве вселявшую в него непонятный ужас и даже отвращение своей сопричастностью с каким-то глухим, душным, губительным мраком. Он стал медленно раздевать ее, и она впервые совершенно не стыдилась, происходило нечто необходимое, что было выше их, выше всего сейчас, он видел ее длинные ноги, смугловатые бедра, живот и полоску нежного золотистого пушка, протянувшегося от паха к впадине лунка, маленькую грудь, впалые, еще детские, беспомощные ключицы и огромные, в пол-лица, прозрачные глаза, он увидел все это сразу, в одно мгновение, и тотчас все обрывки, все пятна, все разрозненные звуки слились в одно звучание. И тут на него рухнул первый, еще далекий звон колокола, она еле слышно попросила, чтобы он разделся и сам, что она тоже хочет видеть и запомнить его всего. Он с внезапной нерешительностью и теперь еще с большей медлительностью стал раздеваться и скоро стоял перед ней совершенно нагой. У него были широкая грудь, широкие плечи, но они уже начинали сутулиться от постоянного сидения за роялем или за письменным столом, впалый живот, юношеская талия, узкий мужской таз, волосатые, очень прямые ноги, еще не набравшиеся мужской уверенности и силы (ему было всего двадцать четыре года), лобастая, лохматая голова, как ей сейчас показалось, была стремительная и злая. Во всей фигуре его оставалось еще много неустоявшегося, угловатого, он не достиг еще законченной зрелости мужчины, но это был ее мужчина, он был с самого начала предназначен ей, и вот теперь он должен был уйти и не вернуться…
Предельным усилием воли она остановила навязчивый поток мыслей и протянула к нему тонкие, зовущие руки, вся она, все ее тело, каждая проснувшаяся клеточка требовали не прощения, а праздника, и потом была какая-то первобытная, свирепая по мучительно яркому, то и дело повторявшемуся наслаждению ночь. Ближе к утру от усталости и изнеможения она провалилась в стремительно навалившийся сон, она не знала, час она спала или всего лишь несколько минут, она лишь все время хотела проснуться и помнила, что ей необходимо проснуться, и не могла. Потом к ней прорвался знакомый, родной голос, заставивший даже во сне сжаться и замереть сердце.
— Томка, Томка… Слышишь? Часы бьют. Пора. Не спи. Слышишь? Нельзя больше спать.
Она рывком села в кровати и сразу попала в тесное кольцо родных сильных рук, они окружали ее со всех сторон, и не было ничего мучительнее и надежнее этого плена. Время исчезло, а когда они опомнились, из кухни в приоткрытые двери доносились позывные радио и голос Левитана читал последние сообщения с фронта.
Опять в висках настойчиво застучало: «Уедет, уедет, уедет! — Она вжалась в подушку. — И ничем нельзя остановить, задержать, заслонить!»
— У нас обязательно будет мальчик, маленький Глеб, — не терпящим возражения голосом убежденно сообщила она, пересиливая тяжесть в сердце, отбрасывая со лба его пшеничные спутанные волосы и разглаживая кончиком пальцев его брови.
— Маленький Глеб — это хорошо… Представляешь, вырастет, и станут его называть Глеб Глебович, Глеб в квадрате, хороший подарочек мы ему приготовим, ты не думаешь?
— Все равно он будет Глеб, — повторяла и повторяла она, все время ощущая его большое, разгоряченное тело, разметавшееся рядом.
— Ну и ладно, будь по-твоему. Да, Томка, не забудь, собери и спрячь куда-нибудь в ящик мои бумаги, — негромко сказал Глеб после недолгого молчания, — возможно, еще пригодится… Жаль, у меня так мало законченного.
Несколько вальсов, квартет, одна симфония, а вторая так и осталась в основном в голове, в кусках. Вот война пройдет, потом закончу- все по-другому. Рояль береги, он уникальный и очень старый, таких в стране только два. За ним так хорошо думается. А самое главное, береги себя, не простужайся, у тебя золотое горло. Ты вырастешь в громадную певицу, у тебя будет мировая слава, вот посмотришь. Я напишу для тебя самую лучшую оперу… Лучшая в мире опера и лучшая в мире певица. Представляешь? Ты что? Не надо, зачем же плакать? У нас ведь уже все есть, даже имя сыну, даже то, чего никогда не будет… Не надо, ты же сильная, Том, — попросил он, по-прежнему не шевелясь.
— Ты лежи, Глеб. — Время теперь все убыстряло и убыстряло свой бег. — Я сама все сделаю. Ты лежи. Я еще платки тебе должна выгладить. Еда есть, только разогреть.
— Мы все сделаем вместе, — остановил он ее. — Слышишь, кажется, ветер, метель, что ли, усилилась. Ты меня не провожай, тебе нельзя простуживаться.
Тамара быстро оделась, стараясь по возможности выбирать любимые его вещи (он должен запомнить ее красивой), ее теперь все время подгоняла мысль, что она не успевает, Глеб ходил за ней и бестолково совался во все углы, наконец и это закончилось. В квартире было очень холодно, топили плохо, позавтракали, выпили горячего чаю, согретого на примусе. Напряжение в сети было совсем слабым, лампочки в люстре еле светили красноватыми нитями. Глеб бездумно и счастливо засмеялся.
— Что ты, Глеб! — опешила Тамара.
— Ты меня никогда не забудешь, вот о чем я подумал, мне стало хорошо.
— Ты смешной, Глеб, ни на кого не похожий. Ты это знаешь? Откуда ты такой, я тебя боюсь. Вернее, раньше, до этой ночи, боялась. Я тебя не понимала раньше.
— А теперь?
— Ночь была… Такие ночи делают человека зорче. Теперь не боюсь, я поняла сегодня что-то такое, что не умею назвать.
— И не называй, не надо называть, не надо, Томка…
Томка, у нас остался час, нет, даже меньше, — голос у него переменился, во всем лице проступило что-то резкое, угрожающее. — Я недавно записал одну тему. Грандиозная мысль. Сейчас тебе проиграю. Пойдем. — Он схватил ее за руку и потащил к большому концертному роялю, покрытому каким-то особым старинным лаком, черным, с пепельной изморозью, лицо Глеба горело точно в лихорадке.
— Глеб, Глебушка…
— Молчи! — остановил он ее. — Слушай.
Какую-то долю секунды он еще медлил, словно еще боролся с собой, и, решившись, властным обнимающим движением взял первые аккорды… Ей послышался свист крыльев, точно два сильных шумных крыла развернулись и легко взмыли в воздух. И уже следующие долгие, уже откровенно ликующие всполохи звона заполнили ее какой-то светлой щемящей тоской: вырвавшись на свободу, опьяненный простором, радостью движения, он стремительно уносился все дальше, — где ей было догнать его, боже мой, всю жизнь только тянуться к нему, только быть рядом уже награда и счастье, сердце окончательно оборвалось и стало падать, падать в мучительно желанную пропасть.
У нее текли по щекам слезы, но она их не замечала, она уже почти не чувствовала себя — «сиянье мрака погасит рассветы», нет, никогда, никогда! Этого не может быть, чтобы когда-нибудь ее не было, что ее никогда не будет. Не в силах больше выносить эту музыку, сдерживая дыхание, чтобы не разрыдаться, она стиснула грудь руками, чтобы как-то остановить, задержать рушащийся на нее мир скорби, обновления и солнца…
Когда она очнулась, Глеб сидел, бессильно уронив руки на клавиши, почувствовав ее взгляд и подойдя ближе, он, ничего не спрашивая, долго смотрел ей в глаза.
— Всегда мечтал написать цикл славянских языческих молитв, — словно пожаловался он с потухшим тяжелым лицом. — Молитву земли, молитву воды, молитву леса… То, что ты сейчас слышала, — выделяя, сказал он, — это молитва солнца.
— А я думала, молитва любви, — сказала она, беря его тяжелую руку и целуя еще и еще раз. — Боже мой, откуда ты такой? Молитва любви…
— Солнце и любовь — одно и то же, — полуспросил он вслух, потому что еще был далеко-далеко, в своем, куда он не допускал даже ее, и она никогда не протестовала.
— Надо же, а я ничего не знаю. Существую рядом с тобой и ничего не знаю. Какой ты жадный! Хоть бы словечко! — упрекнула она его, уже чисто по-женски, он взглянул на нее, не понимая, затем совсем по-домашнему улыбнулся.
— Да, кажется, что-то получилось. Только это ведь так, первая запись. Будет гораздо лучше. Вот посмотришь! — Он спохватился, у них ни на что уже не оставалось времени, даже на сборы.
— Глеб, подожди, — решилась она наконец высказать беспокоившую ее мысль. — Ты записал?
— Я хочу, чтобы это осталось только со мной, — ответил он как что-то решенное и даже с оттенком враждебности, освобождая свои руки от ее рук, и, уловив боль и смятение в ее глазах, он опустил голову и тут же стремительным злым рывком резко вскинул ее. — Ты обещаешь, что это будет только для тебя? — Он пристально и, как ей показалось, не видя всматривался сейчас в ее лицо.
Она опять молча и сосредоточенно поцеловала ему руку, повернув ее ладонью вверх.
— Хорошо, — сказал он, вынимая из внутреннего кармана пиджака свернутые вчетверо листы нот, и осторожно положил на крышку рояля. — Обещай одно. Никто никогда не должен услышать этого, если… ты понимаешь, если…
— Не смей, — оборвала она его, — не смей! Ты не имеешь права так думать. Не смей! Не надо ничего, забери все, только вернись сам!
И тут она не выдержала, обвяла в его руках, рыдания прорвались помимо ее воли, и он, усадив ее на диван и опустившись рядом, стал гладить ее по голове, по плечам, целуя мокрое лицо, щеки, губы, глаза, лоб, почти физически чувствуя, что каждая новая минута становится короче и короче.
Она проводила его до подъезда, и, едва они открыли дверь, им в лицо ударил веселый, сухой, бешено крутящийся снег, Глеб торопливо поцеловал ее последний раз, затолкал назад в подъезд и исчез, клубы резво крутящегося, сухого снега мгновенно поглотили его, быстрота случившегося ошеломила, и она никак не могла заставить себя сдвинуться с места, на нее нашло какое-то странное оцепенение. Она вдруг поняла, что никогда, никогда уже не увидит его и что поэтому нужно бежать за ним вслед, чтобы попытаться его задержать, остановить, физически не пустить на эту войну, задушенный крик вырвался у нее, с ненавистью отбросив от себя дверь, так что лязгнули пружины, она вырвалась на улицу, в белые слепившие, валившие с ног, крутящиеся вихри, с веселым визгом и шелестом заполнявшие пространство вокруг.
— Гле-е-еб! Гле-е-еб! — отчаянно закричала она, пытаясь сообразить, куда бежать, борясь с напористыми, валившими с ног порывами ветра, спасаясь от него, она вдоль стены дома, ощупью, кое-как выбралась в сплошную мутную круговерть, несущуюся куда-то в одном направлении.
Вход в метро был неподалеку, метрах в двухстах, но в противоположном ветру направлении, и она, напрягая все силы, стала пробиваться навстречу ветру, подумав, что и Глеб мог пойти только к метро, и надеясь догнать его или еще захватить на станции. Скоро по знакомой угловой аптеке, где с неделю назад ей удалось достать немного ваты, она обнаружила, что идет в другую сторону, метнулась назад и попала в неразбериху арбатских переулков и тупиков. И тогда, смахивая с лица злые бессильные слезы, подумала, что ей уже ничего не изменить и не исправить.
2
Тамара Иннокентьевна резко вскинулась в кресле и открыла глаза, сердце сильно частило, она уже привыкла к этому за последнее время и не особенно испугалась, на плите пронзительно свистел выкипавший чайник. Вот и новое свидетельство старости, недовольно сдвинула брови Тамара Иннокентьевна: забыла погасить плиту, еще немного, и чайник мог бы распаяться или, хуже того, залил бы газ.
Помогая себе руками, она встала и погасила огонь, резво и весело шипевший. У нее опять было закружилась голова, она решила не обращать внимания, прошла к окну.
За окном ничего не переменилось, по-прежнему бились в стекло мутные, снежные, бесконечные потоки. Метель, самая настоящая зимняя метель, точно как тогда, подумала она, вспоминая, из какой сказочной дали только что вернулась. Так уж оно устроено, и даже гениальный человек не может быть пророком в отношении себя, ничего не получилось из задуманного. Ни сына она не родила, ни певицы из нее не вышло, жизнь распорядилась по-своему: вскоре после ухода Глеба на войну простудилась, несколько жестоких ангин и голоса не стало, жизнь даже самые сложные задачи решает просто, с каким-то примитивным изяществом. Кто знает, все это, возможно, к лучшему, к счастью, она не тщеславна, с гибелью Глеба ей все стало безразлично, что же ей еще надо, работа концертмейстера ей нравится, аккомпанирует в сольных концертах, имеет несколько учениц, поет себе во сне сколько вздумается.
Без Глеба она все равно бы не пробилась в большой вокал. Куда уж с ее-то робостью. Скорей бы только кончилась эта ночь, — может быть, опять выпадет какая-нибудь нечаянная радость: девочки удачно сыграют или случится сходить на талантливый спектакль-на работу иногда приносят приличные билеты. Метель вот только бы утихомирилась, тогда и давление уляжется, и сердце перестанет щемить.
Непостижимо крутящиеся снежные вихри, злая поземка — все точно так, как сорок лет назад, словно и не было никаких сорока лет, словно ничего вообще не было. А может, и в самом деле ничего не было и нет? Ни отца с матерью, ни консерватории, ни Глеба с Саней, ни войны, ни музыки… Нет, музыка всегда была, как же без музыки, музыка и сейчас есть-в снежных потоках, в вихрях, в метели.
Тамара Иннокентьевна снова ощутила неясный, настойчивый зов мятущегося, охваченного бурей пространства, словно кто-то позвал ее откуда-то из страшного далека.
Веселая, грозная пляска метели внезапно оборвалась, Тамара Иннокентьевна заставила себя оглянуться: кто-то пристально и тяжело смотрел ей в спину, она зябко поежилась, мистика какая-то, надо выпить снотворное и лечь, решила она, нельзя так распускаться. Все уже давно кончено, все когда-то должно кончиться, еще никто этого не избежал, неизбежность есть неизбежность, и нужно отнестись к ней трезво, как к неизбежности. Но другая, слабая половина ее души запротестовала, незачем было и приходить и ввязываться в эту игру, если тебе уготован такой жалкий исход — в полном одиночестве, если все, что тебе было положено оставить в жизни, так и осталось неизрасходованным и уйдет с тобою.
Снова с трудом, с усилием вернувшись с зыбкой, уводящей во тьму, в провал тропинки, Тамара Иннокентьевна попыталась уверить себя, что она ни в чем не виновата, раз случилась такая ужасная, беспощадная война и эта война отняла у нее единственное, что составляло счастье и смысл ее жизни, — Глеба. Без Глеба ничто не имело смысла и не о чем было жалеть.
Ушла молодость, ушла красота, и пусть, пусть, какая разница, вот и руки становятся старыми, безобразными, как она ни ухаживала за ними, годы берут свое, по форме кисти по-прежнему оставались красивыми, пальцы все еще были сильными, но суставы распухли, кожа уже начинала жухнуть, менять цвет, кое-где уже появились коричневые пигментные пятна, Тамара Иннокентьевна опять испуганно вскинулась: она могла бы поклясться, что минуту назад видела его лицо — метнувшуюся в коридоре неясную тень, всего лишь всплеск тени, но видела, видела! И слышала его голос, ничтожную долю мгновения, но видела и слышала, и никто не смог бы разубедить ее в обратном. Его крупная лобастая голова мелькнула в проеме кухонных дверей, она даже уловила насмешливый блеск его глаз. Теперь она точно знала, что ей нужно делать. Движением плеч сбросив халат, оставшийся лежать на полу, она перешагнула через него, распахнула дверцы шкафа и долго выбирала, во что одеться, хотя выбор был достаточно скромным. Остановилась она на вязаном шерстяном платье, она любила надевать его с редкой темно-вишневой окраски крупными янтарными бусами-свадебным подарком Глеба, надев платье, она осторожно достала бусы из деревянной старой, с почти стершейся инкрустацией шкатулки, надела их и подошла к зеркалу. Она осталась довольна, присев тут же перед зеркалом, она тщательно расчесала щеткой свои коротко стриженные седые, все еще густые, упругие волосы, волосы ложились легкой шелковистой волной, после мытья она слегка в цвет глаз их подсинивала, затем она попудрилась и подкрасила губы, с удовольствием вспоминая запах дорогой помады.
Быстро и привычно закончив свой туалет, Тамара Иннокентьевна надела теплые сапоги, поверх платья натянула собственной вязки пуловер из дорогой заграничной, кажется шотландской, шерсти, еще с минуту поколебалась, раздумывая, надеть ли меховую подстежку под шубу. Решив, что оделась достаточно тепло, проверив, не забыла ли ключи от квартиры, она вышла на лестничную площадку.
Одиноко и тускло горевшая запыленная лампочка и сумеречные, зыбкие тени в углах, исцарапанных самыми различными надписями, от признаний в любви до длинных колонок цифр, настраивали на привычный лад. Лифт еще не работал, Тамара Иннокентьевна неторопливо сошла по лестнице, почти не прилагая усилий, и только у входной двери ей пришлось задержаться, тяжелая двойная дверь поддалась с трудом, очевидно, пристыла в петлях. Налегая на неподатливую дверь всем телом, Тамара Иннокентьевна все-таки выбралась во двор. Стоя под козырьком, она привыкала к фантастической пляске метели, но что-то мешало, было лишним. Ах да, фонари, догадалась наконец она, новые удлиненные, Тамара Иннокентьевна таких раньше не видела, испуская мертвенно-белый, болезненный свет, они ввинчивались в клубящееся снежное месиво, отвоевывая у хаоса часть освещенного организованного пространства: ствол дерева, балкон, залепленную снегом вывеску, контейнер для мусора. Тогда таких модных фонарей не делали, тогда кругом была просто снежная, непроницаемая тьма. Тамара Иннокентьевна поежилась, опять в ней ожил застарелый страх заблудиться, как тогда в декабре сорок первого, и она почти заставила себя сделать первый шаг, сразу утонув в снегу. Снег плотно залепил лицо, глаза, упрямо пригнув голову, она обогнула угол дома, и сразу же стало легче дышать, здесь было затишье, присматриваясь к бешено пляшущему кружеву снега вокруг фонарей, она немного передохнула, запоминая. Все, все, что она видела, все, что было вокруг нее сейчас, ей было необходимо, проверив застежки видавшей виды енотовой шубы, купленной лет двадцать назад, в пору относительного благополучия, стянув плотнее узел теплой мохеровой шали (ее она тоже сама связала), Тамара Иннокентьевна подумала, что поступила правильно, выбрав именно шаль, а не шапку.
В самом неистовстве метели уже незримо присутствовала предвесенняя легкость и подвижность, тогда же все было иначе, зима только начиналась и холод был ужасный.
Кое-как одолев большой сугроб, нанесенный у самого выхода со двора, Тамара Иннокентьевна выбралась на улицу, совершенно пустынную, времени было что-то около часа или чуть больше. Здесь дорогу ветру и снегу заслоняли старые многоэтажные, плотно, один подле другого стоящие дома, и снег падал почти отвесно, только где-то высоко вверху весело грохотало и металось небо. Тамара Иннокентьевна неслышно пошла по мягкому тротуару, редко и одиноко светились окна домов, и Тамаре Иннокентьевне почудилось, что она совершенно одна в бесконечном городе, безвозвратно, наглухо заколдованном, и что здесь можно встретиться только с теми, кого уже давно нет. И такой метели до конца зимы, а возможно, и вообще в ее жизни больше не будет, эта метель последняя. Скоро начнет таять, снег превратится в дурную, грязную воду и уйдет в реки, в моря. Придут весна, лето, и в Москве станет душно, пыльно, опять начнутся у нее приступы стенокардии.
Тамара Иннокентьевна пошла быстрее, ей почему-то все время казалось, что она опаздывает, она все ускоряла и ускоряла шаг, ей стало жарко, на ходу, не сбавляя шага, она размотала шаль и отбросила концы ее за спину. Она и не заметила, как вышла в более людную часть города.
«Я, кажется, нездорова, — подумала было она, пытаясь остановить себя, свой безудержный бег по спящему городу. — Нужно вернуться домой, вызвать „скорую“. Или обратиться к первому постовому, попросить помощи». Она даже стала внимательнее оглядываться по сторонам и тут же возмутилась своему малодушию. Вернуться домой и навсегда расстаться с красотой этой ночи! Нет, вернуться она всегда успеет.
Она не заметила, как подземным, тускло освещенным, но в метель уютным коридором вышла в Александровский сад и остановилась завороженная длинными белыми языками снега, с тихим шелестом, змеино соскальзывающими с зубцов Кремлевской стены, разбойничьим посвистом ветра в деревьях, окутанных плотными, несмотря на метель, снежными коконами, ведь они живые, подумала она, еще немного, и все они проснутся, покроются зелеными листьями, и им станет тепло и не голо.
Недоуменно подняв голову, Прислушиваясь к неожиданному рокочущему гулу, опоясавшему небо, Тамара Иннокентьевна помедлила. Было похоже на гром, на грозу, но она решила, что где-нибудь поблизости идут строительные работы, что-нибудь взрывают, Москва никогда ведь не знает успокоения. Грозовые раскаты, да еще с характерным ворчанием, повторились снова, и теперь Тамара Иннокентьевна успела заметить вспыхнувшее в небе белесое свечение, на мгновение вырвавшее из тьмы быстро бегущие тучи.
Неловко и как-то забыто перекрестившись и уже ничему не удивляясь, Тамара Иннокентьевна медленно шла вдоль Кремлевской стены по Александровскому саду, что ж, о таких явлениях она когда-то читала, и у природы случаются несовместимости, несоответствия, катаклизмы. Вот и Кремль сегодня проступает из снежной бури, как фантастический корабль, сильные огни фонарей на его стенах только усиливают сходство с фантастическим кораблем, неизвестно из какой тьмы вырвавшимся и неизвестно куда плывущим.
Красную площадь она прошла всю до Василия Блаженного, она хотела сказать что-то теплое стоявшим у входа в Мавзолей часовым, но она знала, что этого делать нельзя, — своим бдением в ночи они выполняли необходимое, нужное дело. Но она все же подошла ближе, порадовалась их молодости, хорошо, что всегда где-то есть молодые, что они могут стоять вот так, на метели, на холоде, всю ночь, им совсем и не холодно.
Попрощавшись взглядом с юными серьезными лицами, бледными в мертвенном электрическом свете, Тамара Иннокентьевна двинулась дальше, не заметив милиционера, появившегося из метели и державшегося в тени, позади нее, милиционер проводил ее до Исторического музея и вернулся, а Тамара Иннокентьевна, пройдя длинным тихим подземным переходом, опять окунулась в метель и ветер, уже больше нигде не останавливаясь, прошла прямо к Большому театру, идти дальше ей было некуда.
Выбрав место потише, Тамара Иннокентьевна остановилась в портике между двумя уходящими вверх, в белую кипень ночи колоннами, и от ощущения дарованной ей неожиданной удачи всей грудью глубоко вздохнула. Она сейчас видела это здание внутренним взором, и не только парадную его часть, партер, блещущие золотом ложи и ярусы, заполнявшиеся празднично одетой публикой, она слышала запах кулис, непередаваемый запах декораций и сцены, когда-то предназначенной для нее. Ей так и не пришлось выйти на прославленную сцену, Тамара Иннокентьевна сквозь слезы улыбнулась, каким-то чудом увидев себя на сцене в длинном бархатном темно-вишневом платье и ощутив сдержанное доверительное ожидание зала. И она опять услышала возникающий у самых отдаленных горизонтов благовест молитвы солнца, и дирижерская палочка, на мгновение взлетев, коротко кивнула, указывая ей вступление, подчиняясь и приглашающему знаку, и собственной душевной необходимости раствориться в сияющей дали, она уже готова была ответить всем откровением сердца, на которое была способна, но тут же в ней все оборвалось, — дирижер, встряхнув головой, освобождаясь от упавших на глаза неправдоподобно густых волос, взглянул на нее горячими, немигающими глазами, взглянул призывно, властно, и это было лицо Глеба. Тотчас все смешалось, закружилось и исчезло. Опять в колоннах портика гудела метель, и мимо в потоках снега осторожно проходили редкие машины. Свершилось главное, ради чего она и оказалась здесь среди метели и беспробудной ночи, — ведь именно здесь, в этих колоннах, она впервые увидела Глеба, вернее, он увидел ее, подошел и спросил, не хочет ли она послушать «Хованщину», прибавив, что у него есть возможность провести ее. Удивленно подняв на него глаза, она хотела ответить, что может предложить ему то же самое, но как объяснить судьбу? Сердце у. нее под растерянным и восхищенным взглядом покатилось, она смогла лишь утвердительно кивнуть в ответ, совершенно забывая о подруге, которая вот-вот должна была прийти в условленное место.
Теперь Тамара Иннокентьевна была спокойна, дальнейшее уже не касалось ее и не волновало. По-прежнему не чувствуя холода, охлаждая разгоревшиеся щеки настывшими ладонями без перчаток, она мысленно в последний раз попрощалась с театром, с колоннами, с квадригой коней, бешено несущихся сейчас в расходившейся вакханалии метели, и тихо, больше по привычке, пошла назад, ведь нужно же было идти куда-то дальше, а другого пути, кроме дома, она не знала. С каждым шагом и поворотом на нее все больше наваливалась усталость, начинали мерзнуть ноги, и временами сжимало сердце и не хватало дыхания, добравшись до собственной двери и увидев знакомую, кое-где прорвавшуюся обивку и тусклый от старости медный номер «37», ставший за многие годы неотъемлемой ее частью, она обессиленно прислонилась к двери и, чувствуя начинающийся озноб, долго отыскивала ключ в сумочке.
«Ничего, ничего, — успокаивала она себя, — сейчас нагрею чаю, выпью с медом, погорячее, пройдет, главное, что я уже дома и не надо идти на холод».
Она по-прежнему была покойна, в той редкой душевной уравновешенности, когда человеку ничего, решительно ничего не надо — он все узнал и все имеет. Скинув шубу и с трудом сняв сапоги, она с наслаждением сунула ноги в теплые войлочные шлепанцы, поставила чайник на огонь и в ожидании, пока он нагреется, прошла по всем комнатам и везде зажгла свет. Теперь квартира, до самых потаенных уголков, была ярко, празднично освещена. «Сегодня мой день, мой праздник, — с некоторым вызовом в отношении того, что она сама себе его устроила, подумала Тамара Иннокентьевна. — Кто знает, сколько мне осталось. Определено было так прожить, а не иначе, и я прожила, ничего страшного. Не стала певицей, стала просто хорошим аккомпаниатором, многим детям привила настоящую любовь к музыке-тоже немало. Мне грех обижаться на жизнь, а сегодня у меня снова светлый день, праздник-я Глеба увидела, на душе как все светится, он хорошо со мной говорил».
Тамара Иннокентьевна обнаружила, что не одну уже, вероятно, минуту находится в ярко освещенном коридоре и рассуждает сама с собой. С досадой она уловила в коридоре и характерный запах газа, чайник давно успел закипеть и залить горелку. Заварив крепкий чай, она с наслаждением, обжигаясь, выпила целых две чашки и сразу почувствовала предательскую слабость, у нее опять закружилась голова и поплыло перед глазами, озноб возобновился, но это длилось всего несколько минут, пока она не решилась встать. Ей пришлось выдержать упорную борьбу с собой: безуспешно пытаясь выбраться из старенького кресла, она все оставалась на месте: ее словно кто насильно усаживал назад. «Я, очевидно, в самом деле простудилась и больна, — мелькнула у нее туманная, как бы посторонняя мысль, — надо позвонить…»
И опять ноги отказали, на лице ее отразилась растерянная, виноватая улыбка, все-таки, превозмогая слабость, она встала и, тяжело дыша, помогая себе руками, шаг за шагом, медленно, по стеночке выбралась из кухни. Силясь вспомнить что-то важное, необходимое, она бесцельно трогала знакомые вещи и с сердцем оставляла их, чувства прежней прочности жизни не возникало, очередной, более сильный приступ слабости и головокружения застал ее в комнате, возле рояля.
С трудом добравшись до широкого кожаного дивана, Тамара Иннокентьевна неловко, боком опустилась на него, и тут словно кто накрыл ее непроницаемым глухим колпаком. Она слабо позвала на помощь и провалилась в пустоту, приходя в себя, еще ничего не видя и не различая, она услышала тоненький, щемящий звук, похожий на плач ребенка или на поскуливание беспомощного, попавшего в беду щенка. Она инстинктивно не открывала глаз, свет, вызывая боль, и без того режуще проникал в мозг. Рядом кто-то был, она услышала сдерживаемое покашливание и почувствовала знакомый табачный запах. Она слабо удивилась: возвращаясь, она захлопнула за собой и проверила дверь, но кто знает, могла и ошибиться. Возможно, воры, будет совсем смешно. Но что они могут взять? Уволочь рояль? Такой большой и тяжелый?
Решившись открыть глаза и преодолевая страх боли, Тамара Иннокентьевна, насколько смогла, повернула голову и от режущего света, отвесно хлынувшего на нее, слабо вскрикнула. Над ней тотчас наклонился большой, грузный человек с холеным, внушительным лицом и, внимательно всматриваясь, сказал что-то ласковое. Тамара Иннокентьевна не испугалась, невидяще глядя перед собой широко открытыми глазами, она едва пошевелила сухими губами, силясь что-то сказать, и не смогла, она уже твердо знала, что это не бред, а явь.
— Саня, Саня, — прошептала она, готовая снова потерять сознание от затраченных, мучительных сейчас для нее усилий. — Опять бред, боже мой…
— Успокойся, Тамара, я с тобой. Все будет хорошо. Теперь уже скоро утро, а утро всегда облегчает. Ну, правда же, это я, в самом деле я. Выпей немного, вот так… умница… Еще немного, давай помогу.
— Как ты здесь оказался? — больше для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, слабо удивилась Тамара Иннокентьевна, сделав с помощью Александра Евгеньевича несколько глотков из чашки.
Грустно и недоверчиво взглянув на нее, Александр Евгеньевич ничего не ответил, в карих глазах, до этого ждущих, встревоженных, со всей силой устремленных на нее, что-то словно захлопнулось и затвердело.
— Хотел вызвать «скорую», не могу дозвониться, очевидно, с телефоном что-то случилось, — сказал Александр Евгеньевич. — А пойти позвонить из автомата боялся. Теперь могу спуститься позвонить.
— Не надо, Саня, спасибо.
— Как же не надо? Очевидно, не тот случай, шутить не приходится.
— Я не больна.
— Не больна? — Александр Евгеньевич пододвинул стул и сел совсем близко. — Ты утверждаешь, что ты не больна?
— Да, утверждаю. Это не болезнь, — вслух подумала Тамара Иннокентьевна. — Совершенно другое, медицина здесь ни при чем.
— Ну, как знаешь. — У Александра Евгеньевича обиженно дрогнули углы рта. — Я хотел сделать лучше.
— Дай мне еще чаю, — попросила Тамара Иннокентьевна. — Сушит внутри, все время хочется пить.
— Просто у тебя температура, — сказал Александр Евгеньевич, успокаивающе оглаживая совершенно теперь седую ухоженную, коротко постриженную бородку, мягко обрамляющую его рыхлое, полноватое, но все еще холеное лицо. — Возможно, грипп, сейчас по Москве ходит дорогой гость, многие болеют.
— Нет же, Саня, нет, — опять с досадой возразила она. — Я всегда безошибочно чувствую температуру. Совсем другое. Помоги мне сесть.
— Погоди, погоди, что за нетерпение…
— Помоги мне сесть, раз ты уж здесь, — повторила она. — Принеси, пожалуйста, из другой комнаты подушку.
Согласно кивнув, он, непривычный к домашним мелочам, всегда раздражавшим его, некоторое время неловко хлопотал, выполняя все, о чем Тамара Иннокентьевна его просила, сама она, устроившись на диване удобнее (Александр Евгеньевич вместе с подушкой принес и шерстяной плед, укрыл ей ноги), скоро почувствовала себя значительно крепче и увереннее, время от времени появляясь в дверях, чтобы убедиться, все ли в порядке, Александр Евгеньевич торопливо находил ее глаза, Тамара Иннокентьевна сдержанно улыбалась в ответ. Она очень давно его не видела и вначале внутренне съежилась от его явно проступавшей сквозь все благополучие и ухоженность физической и, главное, духовной дряхлости, но это был страх первой минуты и скорее от неожиданности.
Теперь, когда Тамара Иннокентьевна немного оправилась, она снова начинала читать в его лице видные только ей приметы обуревавших его, глубоко запрятанных страстей, посторонние даже не догадывались о безостановочной, разрушительной работе, идущей в нем под маской вечной респектабельности и сдержанного доброжелательного равнодушия. Так, очевидно, ей выпало, и, сколько бы ни прошло времени, боль, связанная с этим человеком, никуда не могла уйти, она никуда и не уходила, только ждала своего часа, чтобы снова и снова напомнить о себе, обжечь стыдом ненужного, бесполезного раскаяния. Тамаре Иннокентьевне казалось, что сколько она помнила себя, столько она знала и Саню. Их семьи (старые московские фамилии) были знакомы с незапамятных времен. Она помнила Саню миловидным мальчиком в белой крахмальной рубашечке с шелковым черным бантом в горошек и нотной папкой. И ухаживать за ней, несмотря на то что был двумя годами моложе, он начал задолго до появления Глеба. Она знала его высокомерным, очень красивым юношей, знала молодым человеком с определившимся характером баловня судьбы, знала способным музыкантом и сочинителем, сравнительно рано получившим известность, знала она и годы его расцвета, совпавшие с их сближением, и теперь, столкнувшись с ним под самый занавес, в самой неприглядной житейской ситуации, она видела его жестко и без прикрас, тем глубинным внутренним беспощадным зрением, которое не дает возможности спрятаться и от себя.
И все-таки теперь, когда их жизнь так далеко и безвозвратно разошлась в бесконечно разные стороны и обрела необходимую и неизбежную законченность, не оставившую больше никакой неясности и никакой надежды, Тамара Иннокентьевна не могла не удивляться фатальной настойчивости судьбы, ставившей этого человека рядом с ней в самые тяжелые, непереносимые минуты.
— Ничего, ничего, — успокаивающе приговаривал он, входя в комнату с чашкой и опережая ее торопливое встречное движение. — Я столик пододвину, отдыхай, тебе надо отойти. С сахаром? С медом? — спросил он. — Я на кухне мед нашел.
— Ничего не надо, — сказала она. — Просто хочется пить.
— Хорошо…
Он поставил чай рядом с ней на круглый ночной столик, ноздри у него слегка дрогнули, в углах рта опять появилось забытое выражение затаенной глубокой обиды.
— Разумеется, ты сидишь и мучаешься. — Он привычным охватывающим жестом погладил бородку. — Никак не можешь понять, каким образом я очутился здесь. Неужели в самом деле не помнишь?
— А что такое, Саня, я разве должна что-то помнить? — неуверенно пожала плечами она.
— Ты же сама мне позвонила и попросила прийти! — все еще присматриваясь к ней, очевидно решая, верить или нет, доверительно сообщил Александр Евгеньевич. — У тебя был такой странный голос. Я оделся кое-как, вызвал такси, взял тот старый ключ от твоей квартиры…
— Постой, постой, ты же тогда говорил, что потерял его?
— Ну, говорил, говорил, что мне оставалось? — поддразнил Александр Евгеньевич с легкой иронией. — Какое преступление! Видишь, ключ-то пригодился. Фантастика!
Подумать, сколько лет! Кажется, никакой замок не может выдержать столько времени. Замки в дверях время от времени лучше менять… да и в жизни… тоже.
— А дальше, дальше, Саня, не отвлекайся!
— Я позвонил, и ты сама мне открыла. — Чувствуя ее нетерпение и пытаясь попасть ей в тон, Александр Евгеньевич по-прежнему пытливо ощупывал ее лицо глазами. — Посмотрела на меня, повернулась, пошла назад. Слова не сказала. Я даже не знал, входить ли нет. Все-таки решился, что-то в твоем лице меня встревожило… глаза нехорошие были… Не смотри, словно ты ничему не удивляешься.
Знаешь отлично, кем ты для меня была всю жизнь. Стоило услышать твой голос, все забыл. Хотя раньше поклялся никогда больше с тобой не видеться.
— Ты ведь, я слышала, опять женился, — сказала, помолчав, Тамара Иннокентьевна, неловко отхлебывая горячий чай. — Это правда? Говорили, что к тебе вроде бы ушла Фаня, жена того самого Димы Горского…
— Что значит-того самого? — сразу встопорщился Александр Евгеньевич. Что ты имеешь в виду?
— Ничего особенного, пришла в память, спросила. Диму Горского я хорошо знала, музыка у него удивительная, щедро одаренный человек.
— Был, — задумчиво уронил Александр Евгеньевич.
— Не понимаю.
— Пятый год в доме для престарелых. Родные от него отказались, очень уж пил, — сдержанно сообщил Александр Евгеньевич и помедлил. — Да и у меня ничего не вышло с той женитьбой. От злости на тебя случилась, но что об этом теперь. Да… Год назад похоронил уж и Демьяна Андреевича. Помнишь Солоницына? Конечно же помнишь.
Единственный, пожалуй, преданный мне человек, друг…
Да, да, друг! — повысил он голос, заметив слабую усмешку, тронувшую губы Тамары Иннокентьевны. — Ты всегда к нему предвзято относилась, он же был настоящий музыкант, негромкий, но истинный. Хотя что у нас за разговор… прости… Было, было… И опять из этого ничего не вышло, — продолжил Александр Евгеньевич как-то равнодушно, первый порыв раздражения у него уже прошел. — Как и из всего остального, — добавил он, и взгляд у него застыл на одной точке. — У меня почти ничего не вышло. Замах был огромный, а пролетело мгновенно. Теперь, пожалуй, поздно размышлять. Зачем? — Он задумчиво оглаживал бородку длинными, по-прежнему холеными пальцами, их тыльной стороной потирая таким знакомым Тамаре Иннокентьевне жестом высокий, сильно открытый с боков лоб. — Стоит ли сейчас сводить счеты, поздно и глупо. Что же искать виноватых? И я ни в чем не виноват. В этом не закажешь. Я ей все отдал, дачу, машину, квартиру, жить я с ней больше не мог.
— У вас был ребенок?
— Сын. Да, сын… Я уже дважды дед, — сообщил Александр Евгеньевич, и невольно получилось, что он словно неосознанно похвастал. Тамара Иннокентьевна ничего не сказала, потому что в следующую минуту ей стало страшно, она ясно вспомнила Диму Горского, его лицо, его улыбку, его одержимость, его музыку…
— Я все-таки думаю вызвать врача, — дошел до нее голос Александра Евгеньевича, и она удивленно посмотрела на него, подумала, что он, как всякий мужчина, так ничего и не понимает.
— Нет, нет, не надо, — остановила она его поспешно и метнулась глазами в сторону. — Надо же, с бородой ты не расстался… О чем это мы? О тебе. Как всегда-о тебе. Это у тебя ничего не вышло? Тогда у кого вышло? У Димы Горского-то? У твоего любимого Демьяна Андреевича Солоницына? Что же, у этого, пожалуй, вышло, с твоей помощью, разумеется.
— Суета, суета, если ты имеешь в виду славу, деньги… Жизни не вышло. Александр Евгеньевич неуверенно оглянулся, точно кто-то третий мешал ему быть откровенным до конца, мешал сделать хотя бы один фальшивый жест, произнести одно неверное слово, он опять беспокойно покосился на рояль, скорее всего, неуверенность и беспокойство шли оттуда, настоящий инструмент всегда хранит душу хозяина. — Все так, так! — опережая новый вопрос Тамары Иннокентьевны, торопливо добавил он. — Ничего не вышло у меня без тебя… Жизни не вышло.
Слушая Александра Евгеньевича и все больше узнавая забытые интонации, Тамара Иннокентьевна подумала, как он прав, что пришел сегодня, и что он не мог не прийти, он всегда приходил, когда ей было плохо, и сегодня он не мог не появиться здесь, у нее, и, если бы даже она не позвонила ему, как он утверждает, он все равно бы пришел к ней, сам бы пришел.
— Что за самобичевание, Саня? Двадцать лет жизни сильного, умного мужчины прошло впустую? Не кокетничай, — укоряла она. — Кто же тогда состоялся, если не ты… Стоишь у руля столько лет, столько раз лауреат.
— Я сказал тебе правду. Я часто теперь задумываюсь, почему людям не верят, если они говорят правду. — Сейчас в словах Александра Евгеньевича чувствовалась тяжесть. — Вот если честно смотришь в глаза и откровенно лжешь, тогда тебе верят и все уважают. Стиль жизни теперь такой удивительный… А вообще-то в жизни ничто не имеет смысла, пустая суета. Нечаянный интерес из казенного дома…
— Саня, Саня, говоришь смиренно, а кипишь-то, кипишь! Гордыня твоя в тебе бунтует. — Тамара Иннокентьевна заломила мешавший ей угол подушки. Сколько, судеб тебе пришлось поломать, перешагнуть ради этого, как ты изволишь выразиться, нечаянного интереса! Суета суетой, но никто еще добровольно не отказался ни от славы, ни от денег. А для этого нужна власть, чтобы всех держать и никого вперед себя не пущать. Все ведь в жизни так примитивно. Не хочется говорить жестокие слова, но ты ведь умный, Саня… На твоей высоте нельзя остаться хорошим для всех, напрасный труд… Зачем же из кожи лезть, стараться делать вид?
— Ты же не все, Тамара.
Она видела, что он борется с собой и изо всех сил старается сохранить мир, и, вероятно, все бы и кончилось миром, если бы не се последняя фраза, она все еще сводила с ним счеты за старое. Тут Александр Евгеньевич должен был повременить, чтобы успокоиться и не сорваться, подумать только, сказал он себе, прошло столько лет, а с какой расчетливой жестокостью она ранит. Это чисто женское, так может только женщина, если она глубоко уязвлена. Ну, да полно, она сейчас больна и не в себе, не стоит обращать внимание на этот выпад.
— Хорошо, хорошо, Тамара, — попытался он подойти с другой стороны, но это не значило, что он не запомнил ее жестокости. — Вы ведь с Глебом всегда держали меня за нищего… Это для меня не новость. Если бы не он и не ты, скорее всего я прожил бы нормальную, здоровую, счастливую жизнь, в счастливом неведении сочинял бы свою музыку-вон ее сейчас сколько нужно! Всей компанией не можем обеспечить, и всем хватает, зачем тут кого-то держать и не пущать?
— Ты о музыке, точно о колбасе…
— Ну, давай, давай, бичуй, ты же в этом находишь удовлетворение! против воли чувствуя себя уже втянутым в этот ненужный, бесполезный спор, огрызнулся Александр Евгеньевич, и полные щеки его напряглись. — Смог же я вопреки вашим пророчествам сделать себе имя!
— Ну смог, Саня, смог, кто в этом сомневается! Ну перестань кипятиться, — запоздало спохватилась Тамара Иннокентьевна и поспешила услать его на кухню, где ненужно гремело забытое радио.
Выключив радио, Александр Евгеньевич бессильно привалился к спинке старого диванчика, втиснутого в немыслимо узкий проем ниши. Он устал, и ему захотелось заплакать, он уже чувствовал подступающие старческие, противные слезы и стал нежно поглаживать вытертую спинку диванчика. Нельзя ему было сюда приходить, даже вещи имеют над людьми страшную власть. Стоило ощутить ладонью шероховатости и потертости этого старого друга дивана, и точно волной смыло все годы, точно их не было. А сколько усилий, сколько борьбы, сколько жестокости… Тамара права, только всего она еще не знает, на его высоте вообще ни с кем нельзя быть добрым. Вот и дважды лауреат, в руках власть, и орденами не обойден, а то, ради чего стояло родиться и жить, так и не пришло. И вершина так же недоступна и манит своей слепящей холодной белизной…
— Вы меня с Глебом обессилили! — неожиданно вырос Александр Евгеньевич в проеме дверей перед Тамарой Иннокентьевной, выпрямившись, развернул плечи, точно действительно стал выше ростом, глаза его, вдумчиво-карие, осторожные, сейчас светились прежним, молодым, непримиримым блеском.
Тамара Иннокентьевна попыталась было возразить, но замолчала, понимая, что его теперь не остановишь.
— Молчи, дай договорить! Знаю, смешно, нелепо рыться в прошлом, искать виноватого, да еще в мои-то годы! Но ведь было, было! Мне было двадцать, и я тебя любил всегда, всю жизнь, с самого начала, еще до того, как ты родилась, задолго до Глеба, до того, как ты с ним познакомилась… Ты тоже это знаешь… Не бойся, я не скажу ничего оскорбительного… Я хочу напомнить, ты знаешь, были моменты, когда… Ну хорошо, не буду, не имеет значения…
Но в тот вечер, помнишь, мы пришли вместе, с Глеба сняли как раз бронь, он добился, на другой же день он должен был уйти. Помнишь? А через месяц он погиб… Ну, и что он доказал? Он не имел права так глупо, так бездарно распорядиться собой, своим даром. У него был именно дар. Он был призванным человеком. Он один из нас был призван.
Способных много. Призванных единицы. И человечество и его любимая Россия неизмеримо бы выиграли, останься он в живых, дай до конца развернуться своему чудесному дару! И все это понимали… Как я его отговаривал от этой глупости, от этого шага, впрочем, не один я! Что толку теперь сокрушаться! Помнишь, я знаю, ты помнишь все, каждую мелочь, не спорь! — повысил он голос, хотя Тамара Иннокентьевна и не думала возражать. — Помнишь, Глеб сказал тогда, что времени мало и вам нужно остаться одним… Ну, конечно, ты это помнишь, я ловил хотя бы твой взгляд, хотя бы одно движение в мою сторону. Удивительно, как от любви человек слепнет… Ты попросту забыла, что, кроме вас двоих, на свете существует еще кто-то. Я вышел, как побитая собака… Что со мной было! Вот когда я поклялся доказать тебе, чего бы это мне ни стоило, что я существую. Пускай для этого понадобилось бы взорвать земной шар!
Я никуда не ушел тогда, сотни раз подходил я к вашей двери, точно сам сатана толкал меня к дверям, чтобы ворваться, сделать что-то безобразное… Сатана кружил меня возле ненавистных мне дверей, толкал прервать ваш прощальный пир… сделать именно что-нибудь безобразное, непоправимое… Не помню, как пришло утро, я был в каком-то бреду, помню только, я опять оказался у ваших дверей, — голос Александра Евгеньевича пресекся, он с трудом протолкнул в себя воздух. — И вдруг я услышал, Глеб сел за рояль… Ах, боже мой, что это была за музыка… что-то божественно нечеловеческое! Я весь дрожал, я опять был уничтожен, сравнен с дерьмом! Вы опять победили! Я плакал от наслаждения, от зависти, от бессилия… Какая ревность может сравниться с этим чувством! Я понял, что погибаю, хотел зажать уши и убежать и не мог, не мог… пока не выпил весь яд до конца, до последней капли… Многое потом забылось, но это вошло в меня, как боль, продолжало мучить, я знал, что если я смогу это хотя бы вспомнить, я спасусь… сколько же я бился, так никогда и не смог… Это жило во мне, а стоило сесть за рояль, все исчезало… Скажи, что он тогда играл? Ты ведь знаешь…
— Нет! Нет! Нет! — ответила Тамара Иннокентьевна поспешно, пытаясь отодвинуться подальше в глубь подушек и чувствуя, что кожа на груди словно взялась легкой изморозью. Боясь, что он заметит ее страх и смятение (он был сейчас точно убийца, стороживший каждое ее движение), она отвлекающе улыбнулась и потянулась было к круглому столику за стершимися от старости, доставшимися ей еще от бабушки аметистовыми четками и… точно споткнулась о злую неверящую усмешку Александра Евгеньевича. Мелькнула мысль о собственной беспомощности да полно, что это за распущенность, прикрикнула она на себя. Несмотря на все свои внешние успехи и видимость душевного равновесия, на весь прочно устоявшийся маскарад, раз и навсегда заведенный кем-то, не самым умным, ритуал заседаний, президиумов, представительств, где Александр Евгеньевич был постоянным, необходимым лицом, где ему приходилось лицемерить, изворачиваться, он, и сущности, никогда не был злым по отношению к ней и всегда сохранял свою зависимость от нее. Он бывал разный, но он всегда был ей предан, и что теперь винить друг друга за неудавшуюся жизнь. Конечно, она тоже не права и виновата и видит все не так, как обстоит в реальности, на самом деле, но в любом случае она не должна оставаться неблагодарной, отвечать злом на его добро. Он всегда приходил по первому ее зову и без зова, приходил в самые тяжелые минуты, возился с нею, вызывал врачей, устраивал в лучшие клиники, отправлял в санатории и каждый раз встречал нежностью и молчаливым обожанием. Такой преданности позавидует любая женщина. Ведь и он по-своему прав, и у него одна жизнь, и он потратил ее в основном на нее, и если он сейчас не в себе, его надо отвлечь, успокоить, смягчить его боль. Ведь, в сущности, он единственный во всем белом свете близкий ей человек…
Предательская теплота подступила к глазам Тамары Иннокентьевны, глаза ее, обычно серые, еще посветлели, снопы лучистого света преобразили тяжелые, начинавшие грузнеть черты, и лицо ее стало почти прекрасным. Не отрываясь от этого внезапно преобразившегося, тонкого, одухотворенного лица и весь погружаясь в свет и теплоту, исходившие от нее, Александр Евгеньевич присел рядом на краешек дивана, легко, совсем не горбясь, и в какой-то предательской опустошенности прижался к ее рукам в таких знакомых потускневших от времени кольцах.
Вот и все, решил он, и ничего не надо, услышать знакомый горьковатый запах, исчезнуть, раствориться в мягком свете ее глаз. Ему не может быть отказано в этом праве, он ведь обыкновенный человек, никто его не проклинал.
От прошлого не избавиться, но с ним можно примириться, тем более сейчас, хотя где-то глубоко продолжает тлеть уголек, в любой момент готовый вспыхнуть и выжечь у него в душе последние остатки тепла и нежности. Он незаметно отодвинулся от нее, и не потому, что в борьбе со своим дьяволом был бессилен и лишь на время мог придержать его. Он сейчас с невыносимой ясностью понял, что и она и сам он стоят в преддверии еще одной, скорее всего самой последней, дали. Она возникла в нем как какой-то повторяющийся, усиливающийся мотив, вместивший с начала и до конца всю его жизнь, он возникал из мрака и, заставив вздрогнуть сердце от ужаса, от предчувствия скорого исчезновения, сливался с мраком, это надо запомнить, надо как-то сосредоточиться и запомнить, сказал себе Александр Евгеньевич, бессознательно стремясь уйти в другую, привычную и безопасную плоскость жизни.
— Саня, — окликнула Тамара Иннокентьевна, тихонько притрагиваясь к его плечу, он в этот момент не смог ответить, но вялым движением руки дал понять, что слушает. — Саня, скажи, после смерти действительно больше ничего не будет? — спросила она, и он взглянул на нее испуганно и дико. Вот так, кончено, отсечено… больше ничего, ничего, совсем ничего?
— И слава богу, что ничего, — с трудом выдохнул он из себя. — Ты бы и там устроила себе муку…
— Саня, ты напрасно сердишься, — Тамара Иннокентьевна опять попыталась наладить относительное равновесие. — Говорю тебе, я не помню, ничего не помню.
— Не сержусь, не сержусь, у тебя просто удивительная способность замыкать все только на себе. Как будто вокруг тебя никого и ничего…
— Я, Саня, действительно не помню, — заставила себя вернуться к тому, что было между ними запретного и тайного, Тамара Иннокентьевна.
— Не верю, нет, нет, не верю, — не принимая ее тона, покачал головой Александр Евгеньевич, — этого нельзя забыть. Не пытайся же отрицать, в тебе живет т а музыка…
Тамара Иннокентьевна отстраненно понимала, зачем он так настойчиво пробивается к запретному и самому сокровенному в ее душе, но не разрешила себе продумать свою мысль до конца, она ничего не хотела менять, живое пусть оставалось живым, но давний запрет Глеба, наложенный им на молитву солнца, был для нее свят всегда. Это единственно, что она сохранила в своей жизни в чистоте и неприкосновенности, чем всегда тайно гордилась. Она великая грешница, она безобразно плохо распорядилась своей жизнью, и все же она никогда не сделает последнего шага, а он, этот человек, ждал, ждал такого момента, всю жизнь ждал, вот он сидит, совсем уже старик, а в глазах дьявол, самый настоящий дьявол. Ее душа нужна ему полностью, без остатка, без единой тайны.
Тамара Иннокентьевна сама не заметила, что смотрит на своего гостя в упор, ее глаза, незнакомые, горящие от открывшейся слепящей истины, почти парализовали Александра Евгеньевича.
— С твоего разрешения, я пойду на кухню, покурю. — Он торопливо отвел глаза, и она поняла, что не ошиблась в своих мыслях.
— Кури здесь.
— Зачем же. Тебе вредно, — не принял Александр Евгеньевич попытки к примирению, в который раз ее верность мертвому испугала и больно ранила его, он подумал, что незачем было приходить, если он за столько лет ничего не мог добиться.
— Саня, там холодная курица и печеные яблоки. Поешь, ты, наверное, голоден, — предложила Тамара Иннокентьевна ему вслед, не оглядываясь, он молча кивнул, оставшись одна, Тамара Иннокентьевна обессиленно откинулась на подушку. Она знала, о чем он думал уходя, он никогда не умел скрывать своих мыслей, и сейчас она попыталась взглянуть на себя со стороны. Действительно, что ей мешало нормально жить и быть счастливой, если не она сама? Немного терпения, там, где иначе нельзя, где нельзя идти напролом, чуть-чуть уступить, где-то, напротив, настоять на своей женской прихоти, капризе, даже в ущерб здравому смыслу, — вот в чем мудрость жизни, все сейчас могло быть по-другому, и она сама не была бы так ожесточена, и Саня бы пришел к итогу жизни с другой душой, без излишней, ненужной горечи и жестокости.
Опять почувствовав подступающую к глазам теплоту и ненавидя себя, Тамара Иннокентьевна сильнее вжалась в подушку, постаралась совсем не шевелиться, сердечный приступ всегда нес расслабляющую слезливость, почему-то встал перед глазами громадный одинокий дуб, весь в молодой, с шумящей, в солнечных потоках листве — такая листва бывает только в начале лета, во время стремительных и бурных гроз и ливней. Ей вспомнился запах цветущего леса — запах меда и солнца, и запах лесной прели, стелющийся над самой землей и ощущение свежести молодого, здорового, разгоряченного желанием тела, это воспоминание было мучительно в ожидании еще большей пустоты.
3
Дуб, насчитывающий не одно столетие, пророс из желудя, укоренился на невысоком холме и разросся до размеров, уже с трудом воспринимавшихся, он стоял, царствуя над всем остальным лесом, и во всей своей сказочной мощи отражался в ласковой сумрачности небольшого озера, подступавшего к холму.
День выдался ясный, с наслаждением прищуриваясь, Тамара Иннокентьевна чувствовала голыми плечами начинавший потягивать порой легкий теплый ветерок, доносивший до нее какие-то неведомые лесные тайны, лес потому волнует, что он — весь тайна, и вся жизнь-тайна, и никогда не надо давать клятв и обещаний, рано или поздно все оказывается ложью. Она невольно покосилась на лежавшего рядом в густой изумрудной траве Саню, вновь прижмурила глаза, о пронесшихся годах лучше не думать, разрешила она себе, в конце концов Саня прав, жизнь, считай, прошла, уже за тридцать, а что хорошего в том, что она себя замуровала?
Она опять с восхищением и чувством тайного узнавания оглядела озеро, плавно струящуюся зелень берез, окаймлявших озеро с другой стороны и в изумрудном разливе уходящих к синеющим горизонтам. Над водой озера воздух отливал зеленью, а в листве дуба, наоборот, сквозил легким серебром. Прилетела какая-то крупная, немыслимо яркая птица, с головой, украшенной золотисто-черным веером, это был обыкновенный удод, но Тамара Иннокентьевна с радостным изумлением разглядывала удода, пока он радужным пятном не вспорхнул с дуба и не улетел. Затем внимание Тамары Иннокентьевны привлекли порхающие над водой озера большие прозрачные стрекозы с выпуклыми изумрудно-светящимися глазами. Она удивилась их способности зависать в воздухе, трепеща крыльями, на одном месте и затем стремглав, скачком бросаться вперед, Тамара Иннокентьевна даже отдаленно не могла предположить, что это никакая не игра и не причудливый танец, а самая настоятельная жестокая необходимость, что таким образом стрекозы добывают себе пищу, ловят комаров и мошек. на какой-то миг Тамара Иннокентьевна ощутила в себе ни на минуту не обрывающееся движение жизни, ей показалось, что она не сидит под дубом, а парит высоко-высоко над зеленым океаном леса и ноет, звенит в ней пространство и что так хорошо ей еще никогда не было.
— Ты спишь? — спросила она Саню, бездумно погруженного в плывущее марево полуденного июльского зноя.
— Нет, блаженствую, — он даже причмокнул от удовольствия, даже не пытаясь повернуться в ее сторону. — Куда-то несет, несет, не надо думать, спешить. Ах, какая голубая, голубая страна.
— Хорошо, что ты меня сюда привез, — вздохнула она. — Я все жалею, почему не раньше!
Он пружинисто повернулся к ней, притянул к себе, положив горячие вздрагивающие пальцы ей на колени. Осторожно взяв его руку, она накрыла ее своей и, не выпуская, положила рядом, на прохладную, слегка помятую траву, источавшую терпкий, возбуждающий запах.
— Саня, Саня! Всегда ты спешишь! Разве здесь можно? Посмотри, как тут торжественно! — слабо запротестовала она, опять ощущая его настойчивые, ждущие ответной волны руки. — Как же здесь? Вокруг тысячи глаз… На нас отовсюду смотрят…
— Здесь совершенно никого нет, — засмеялся он, приоткрывая влажные крепкие зубы. — Ну совершенно никого!
Мы ушли километров за шесть от дороги… Неужели тебе сейчас плохо?
— Ах, Саня, мне слишком хорошо, — она потянулась к нему всем телом, сбрасывая с себя долгое оцепенение. — Даже страшно, так мне хорошо…
Она почувствовала его разгоряченное дыхание и закрыла глаза, отдаваясь во власть его рук и его нетерпения, отдаваясь надвигающейся мутной волне, разрывающей все внутри слепой мукой разрешения. Казалось, он во что бы то ни стало должен был наверстать упущенное, наконец-то безжалостно и до конца разорвать невидимую преграду, продолжавшую отделять их друг от друга даже в эти темные, тайные моменты, он был ненасытен, настойчив, неумерен, он решил раз навсегда подчинить в ней все до конца и, едва ощутив первоначальное, еле уловимое сопротивление, окончательно обезумел. С готовностью и с некоторым испугом подчиняясь неумеренности его желаний и идя ему навстречу в каждом движении, она и в самом деле переступала в себе некий давний запрет, теперь она сама стремилась освободиться от него. Темная, душная волна снова накрыла ее, и она застонала сквозь стиснутые зубы, и когда центром всего, что было, стала она и то, что с ней происходило, в ней резко прозвучала тревожная останавливающая нота, прозвучала и оборвалась, она вспомнила об этом лишь погодя, когда тело начало возвращаться к ней, но не сделала ни малейшей попытки что-либо переменить. Не хотелось двигаться, а тем более заставлять себя искать несуществующие вины… Боже мой, как хорошо, ободрила она себя. Наконец-то, наконец она свободна от пут, от условностей и может дышать полной грудью. Все, что позволено людям, позволено и ей, можно наконец пить жизнь сполна, пить до сладкого изнеможения, перестать оглядываться на каждый шорох… Боже мой, как многого она себя лишила, и прав Саня: что она доказала своим воздержанием? Чего добилась? Что старилась, пропадала в одиночестве, что уходила ее красота, неумолимо угасало тело?
Она испуганно вскинулась, провела ладонями по голой груди, по-своему поняв ее движение и несколько раз расслабленно поцеловав ее, приподнявшись на локоть, Александр Евгеньевич опять откинулся в смятую траву навзничь.
Солнце уже клонилось к закату, и трава, насквозь пронизанная его косыми длинными лучами, изумрудно и мягко светилась.
— Смотри, день пролетел совсем незаметно. Ты поразительная женщина, Тамара. — Как всегда в хорошем настроении, Александр Евгеньевич сильно растягивал слова. — Такой второй на свете просто нет. Ты себе цены не знаешь. Чем больше я тебя узнаю, тем больше удивляюсь.
— А ты, Саня, ни о чем не думай. Живи. Кто я тебе? Два года мы вместе… Ни жена, ни любовница, ни добрая знакомая…
Это было жестоко: по первому ее зову, даже не зову, а едва осознанному ею самою движению к нему он оставил семью, налаженный дом и безоговорочно и бесповоротно связал свою судьбу с нею, всякий раз, когда он заводил разговор о том, чтобы узаконить их отношения, именно сама она уклонялась от решительного шага. Она мало тяготилась неопределенностью своего положения, жила, как и раньше, ничего не загадывая, сначала он сердился, настаивал, требовал, обижался, но, наталкиваясь всякий раз на уклончивый, ласковый отпор, в конце концов отступился, положившись на спасительное время, которое без излишних усилий и нервных затрат перерабатывает и не такие жизненные переплетения и узлы.
Не желая быть втянутым в бесполезный и ненужный в этот счастливый для обоих день, больной для своего самолюбия разговор, Александр Евгеньевич без всякого усилия перебросил по траве свое большое полноватое тело ближе к ней и легко, почти не касаясь, как кошку, погладил ее по плечу.
— Ты — любимая. Все о себе великолепно знаешь, что относишься к разряду любимых. Великолепно этим пользуешься. У-у, хитрюга!
— Да, Саня, я женщина капризная и опасная, вот возьму заколдую тебя, превращу в черного лебедя… Навсегда оставлю плавать здесь, в лесном озере!
— Почему в черного, Тамара?
— Ты же черный, давно известно.
— А ты, конечно, белая, — по-детски обиделся он. — Чистая и безгрешная.
— Именно чистая и безгрешная!
— Ну конечно! Поэтому ты и не загораешь. Нехорошо быть такой белокожей… Ах, Тамара, Тамара, царица Тамара, мне все не верится, что ты со мной, мне все кажется, что я тебя вот-вот потеряю.
— Значит, мы с тобой останемся вместе до самой старости. В жизни все случается как раз наоборот. Ах, Саня, Саня, вот бы мне ребенка, вот была бы я счастлива, — перескочила она чисто по-женски с одного на другое, эта ее особенность всегда его восхищала. — Я ведь ничего хорошего в жизни не сделала, неужели мне не суждено иметь ребенка?
— У нас теперь обязательно будет ребенок, ты сегодня была вся моя.
— Нет, — ответила она, не задумываясь. — Чего-то было слишком много. От такого безумия детей не бывает.
— Ты жалеешь? — спросил он, приближая к ней лицо с близорукими красивыми глазами, сейчас выражавшими напряжение.
— Ни о чем, Саня, я не жалею. Я тебе благодарна, от самой себя освободил, я ничего больше не боюсь. Пошли к озеру, искупаемся. Представляешь, русалки нас давно ждут не дождутся, — потянула она его в сторону тихого сумеречного озера, сильно затененного опрокинутой в его глубину листвой дуба. Солнце должно было скоро сесть, и, как всегда летом, краски быстро менялись, под деревьями начинали копиться сумерки, и только посредине озера, на его гладкой зеркальной поверхности, одиноко розовело, отражаясь, легкое воздушное, точно взбитое облачко.
Взявшись за руки, они пустились вниз с холма, все убыстряя и убыстряя бег, Александр Евгеньевич от восторга что-то кричал, что-то бесшабашное, невразумительное, отчаянное. Они с трудом остановились у самой воды, чтобы удержаться и не упасть, она обхватила его за плечи, ткнулась в грудь, и Александр Евгеньевич быстро, воровато поцеловал ее разгоревшееся лицо раз и другой, она засмеялась от полноты счастья, оттолкнула его руки, выбрав место-чистую, нетронутую, изумрудную траву, донага разделась, переколола волосы и осторожно вошла в воду, вблизи казавшуюся зеленой.
— Ледяная! — задохнувшись, охнула она, придерживая одной рукой грудь, сделала еще шаг, резко опустилась в воду и поплыла.
Александр Евгеньевич видел ее скользящие белые плечи под водой и какое-то странное предчувствие стиснуло его холодом.
— Не заплывай далеко, слышишь? — закричал он. — Озеро лесное, там глубоко… Тамара! Слышишь?
— Слышу! — отозвалась она, оборачивая к нему смеющееся лицо, но продолжая, теперь уже на спине, плыть к противоположному берегу. — Плыви сюда, вода чудесная! Уже не холодная! Только сначала прохладно!
Чувствуя все ту же молодцеватую приподнятость и решимость, он быстро сбросил одежду, попробовал воду пальцами ноги, сделал несколько гимнастических упражнений, шлепнулся прямо у берега в мелководье и, неестественно высоко держа голову, близоруко щурясь, поплыл короткими саженками.
На самой середине озера они долго лежали на спине, обо всем забыв и всматриваясь в глубоко, по-вечернему синее, бездонное небо, теперь озеро, со всех сторон окруженное дубами, березами, в низких местах-зарослями черемухи, ивы и ольхи, было как бы частью неба, его продолжение, начинавшее темнеть пространство текло им в глаза, все синее и зеленое, и Тамаре Иннокентьевне вспомнилось забытое ощущение тепла и полной защищенности, близость матери уже в полусне, в начинавшихся мягких грезах и белых облаках. Ласковые бережные руки легко, точно пушинку, переносили ее из кроватки на такое облако, оно медленно плыло в вечернее, мягко пламенеющее небо, где бесшумно воздвигались и рушились розовые замки и дворцы.
Тамара Иннокентьевна закрыла глаза, ну вот наконец минула ужасная пустыня одиночества, длившаяся столько лет, она все еще не верила, что для нее может начаться новая жизнь, а ведь эта новая жизнь давно началась и длится, длится, только надо суметь в нее поверить. Вот и подтверждается старая мудрость, живым — живое, но как же долго она к этому шла! Тамара Иннокентьевна оборвала себя: нельзя кощунствовать в такой день-всему свой срок и свой путь, и раз так случилось, значит, так тому и быть, ничего нельзя вернуть из прошлого, была война, и Глеб погиб на этой страшной войне, и что удивительнее всего, сама она выжила, только голос пропал, подумаешь, голос, кому нужен ее голос, ко всему можно привыкнуть, и к Сане можно привыкнуть, он ее любит, что еще нужно женщине?
— Тамара, холодно, я на берег, — раздался в это время голос Александра Евгеньевича, она рывком ушла под воду, и, пока он близоруко оглядывался и щурился, она поднырнула, скользнула по нему прохладным длинным телом и вынырнула уже в другом месте. Он было погнался за ней, скоро отстал, и она опять стала кружить вокруг, подныривая все ближе, защищаясь, он беспорядочно бил руками и ногами по воде, и лес гулко и звонко гасил их голоса и всплески.
— Ты отпускаешь бороду? — поддела она его, когда они, обсохнув и согревшись, устроились под тем же дубом выпить вина, перекусить жареной курицей, свежими огурцами, луком, помидорами, колбасой-Тамара Иннокентьевна набрала с собой еды полную корзинку.
— Тебе не нравится?
— Как-то непривычно. И потом, в воде она ужасно похожа на старую растерзанную тряпку, — рассмеялась Тамара Иннокентьевна.
— Сбрею к черту! — угрожающе зарычал Александр Евгеньевич, с хрустом разгрызая огурец, он залпом выпил целый стакан вина, ее присутствие продолжало возбуждать его.
— Поспи, — предложила Тамара Иннокентьевна, — а я, как пещерная женщина, буду тебя караулить.
— Нет, — отказался он, хотя его действительно тянуло в дрему. — Нет, повторил он упрямо, теперь больше самому себе. — Сон-это удел нищих, а я сейчас слишком богат. Я не могу спать… слишком расточительно. Знаешь, с тех пор как ты рядом, у меня все переменилось. Был мир серый, тусклый, все в одну краску, а сейчас, боже мой, какая радуга! Поразительное многоцветье! Знаешь, ради тебя я сделаю все, даже невозможное, напишу самую прекрасную музыку на свете, получу все премии, ах, Тамара, Тамара, сколько времени мы потеряли!
— Не слишком ли на многое ты замахнулся? — поддразнила она, глядя на него исподлобья блестящими, поощряющими глазами.
— Не слишком, ради тебя не слишком! — повысил он голос. — Посмотришь, я псе получу.
— Я рада за тебя, — сказала Тамара Иннокентьевна с тенью грусти в глазах, она вспомнила Глеба и точно обожглась радостью Сани, но тотчас испугалась: ведь это грех, думать так после того, что между ними только что было, Саня ведь так долго ждал своего часа, и слава богу, что он ничего, кажется, не заметил.
— Ты приносишь счастье, — сказал Александр Евгеньевич, прижимаясь головой к ее груди, как ребенок, украдкой вздохнув, она погладила его мягкие волнистые волосы, едва касаясь их ладонью, приказывая себе не думать больше ни о чем, кроме Сани, прочь, прочь все призраки, сказала она, вот он, живой, понятный, ее Саня….
Быстро темнело, воздух становился ощутимее и гуще.
— Тамара, слышишь, так боюсь двадцатого, — признался вдруг Александр Евгеньевич, глядя ей в глаза снизу вверх до неловкости преданно и любяще. — Мой концерт и консерватории. Не первый же! А вот сейчас волнуюсь, как в первый раз. Вероятно, из-за тебя. Из-за того, что ты будешь. Ты всегда заставляешь меня выложиться до дна, больше, чем я могу, чем я умею.
— Как знать, — задумчиво произнесла она, — я тоже жду многого от твоего концерта.
— Банкетный зал я уже заказал, а людей приглашать пока не будем, подождем, у меня предчувствие.
— Вот не знала, что ты такой суеверный. Ну, не будем так не будем. Пригласить можно и в тот же день, и на день позже. Вот посмотришь, пройдет отлично. Утихни же, смотри, тишина-то в природе. Боже мой, какое блаженство! Что может быть прекраснее лесной тишины?
— Только музыка и ты, — Саня прижался лицом к ее рукам, не целуя.
Тамара Иннокентьевна недоверчиво улыбнулась, она знала свое лицо с начинавшими уже кое-где проступать морщинками, просто сейчас она не хотела думать о неприятном, ведь она действительно была счастлива и весь этот чудесный день и все следующие.
С тем же чувством глубокого внутреннего покоя, приходящего в душу лишь в случае полного, безоговорочного счастья, она заранее попросила свою старую приятельницу заменить ее на занятиях в среду. Нужно было успеть отдохнуть и подготовиться к концерту, ей нужно было и хотелось быть красивой. Она выбрала свое лучшее темно-вишневое тонкого бархата платье с закрытым воротом, две бриллиантовые капли в ушах подчеркивали строгую изысканность линий фигуры, начинавшей уже чуть-чуть полнеть. Александр Евгеньевич был занят, и она приехала к консерватории одна, она обрадовалась нарядной толпе у входа, заинтересованно отметив, что многие пришли с цветами, и Тамаре Иннокентьевне постепенно вспомнилось приятное ощущение праздничной приподнятости и своей сопричастности к предстоящему событию, приятно было ощущать на себе пристальные, просто любопытные и восхищенные взгляды, последнее время их с Александром Евгеньевичем часто видели вместе, и общественное мнение уже прочно связало их имена, на концерт пришло много общих знакомых, ей то и дело приходилось раскланиваться, заранее поздравляли с успехом, обменивались дежурными, расхожими любезностями и похвалами в адрес таланта Александра Евгеньевича и ее внешности, как это водится в подобных случаях. Она едва отвязалась от невесть откуда взявшегося Демьяна Солоницына — популярного песенника, к тому же еще и поэта. Солоницын был преданным сторонником Сани в его делах, и поэтому они сближались все больше, часто, обсуждая предстоящие дела, они любили спокойно посидеть за чашкой кофе или бутылкой вина, но Солоницын обладал удивительным и редким качеством. Он всегда умел остаться где-то на втором плане, он был незаметен, тогда как Саня главенствовал, был старшим, в присутствии Солоницына казался всегда более талантливым, значительным, чем. на самом деле, Тамара Иннокентьевна была убеждена в том, что Солоницын своим поклонением портит Саню, но ничего не могла поделать с его влиянием: податливый во всех других случаях, Саня становился ужасно грубым и нетерпимым, как только она упоминала о Солоницыне, он начинал кричать, ругаться, выходить из себя. Тамара Иннокентьевна в конце концов научилась переносить присутствие Солоницына и раз и навсегда не принимать его всерьез. Вот и теперь она с ничего не выражающей, отстраненной улыбкой повернула к нему голову и приготовилась слушать, улыбка ее относилась не к Солоницыну, а скорее к необходимости ей слушать, а, ему говорить слова, в которые оба не верили, но принуждали себя слушать и говорить. Густо-красная, почти черная роза в суховатых руках Солоницына только подчеркивала это несоответствие, и, почувствовав взаимную неловкость, Солоницын поспешил отдать розу Тамаре Иннокентьевне.
— Вам, Тамара Иннокентьевна, — сказал Солоницын с лёгким полупоклоном, в котором, однако, проступало неоскорбительное лукавство, как бы указывающее на то, что он отлично все чувствует и понимает, знает также и о ее отношении к нему, но ничего сделать не может, и что она со временем поймет свою ошибку и переменит свое мнение о нем.
Тамара Иннокентьевна взяла розу, молча поблагодарила, глаза ее и в самом деле потеплели.
— Если вы не возражаете, я к вам в ложу пристроюсь, — сказал Солоницын, — мне место там указано, но если…
— Что вы, Демьян Андреевич. — Тамара Иннокентьевна невольно засмотрелась в его широкое, выражавшее сейчас предельное благодушие лицо и опять не удержалась от улыбки. — Конечно, садитесь, конечно, буду рада.
— Сегодня все недруги Александра Евгеньевича будут повержены к ногам его дарования, — не стесняясь, громко сказал Солоницын, пытаясь вызвать ее на разговор.
Тамара Иннокентьевна не стала ему отвечать, сделала вид, что заинтересовалась кем-то в зале. Она хорошо знала цену этим любезностям и похвалам, все дело в высоком положении Сани, а следовательно, в зависимости от него по многим вопросам многих людей, и, когда прозвенел первый звонок, Тамара Иннокентьевна с облегчением оставила гудящее фойе и с напряженным, не допускавшим ничего постороннего в свой мир взглядом прошла в ложу. Она любила именно эти недолгие минуты перед началом: настраивался оркестр, публика неторопливо рассаживалась, люди сбрасывали с себя груз дневных, мелких, житейских забот и готовились приобщиться к высокому и прекрасному.
Тамара Иннокентьевна любила наблюдать за людьми в эти недолгие затаенные минуты, за их размягченными лицами, заранее настроенными на сосредоточенность и внутреннюю тишину. Вот идет девочка с огромными распахнутыми глазами, рядом с ней тоже несколько непривычное в своей сосредоточенности юношеское лицо, мальчишеская, изо всех сил сдерживаемая улыбка счастья, а вот знакомый, музыковед Парьев, живой как ртуть, с вечной озабоченностью в лице, быстрыми движениями и невнятной речью.
Тамара Иннокентьевна не знала, какой он критик, хороший или плохой, но что его присутствием всегда определялась степень значимости концерта или любого другого события, было известно всей музыкальной Москве. Наблюдая со стороны взвинченное оживление Парьева, обладавшего почти женской способностью самовозбуждаться, словно весталка, и особенно проявлявшего это свое качество в присутствии рядом нужного и важного человека, Тамара Иннокентьевна постаралась, сколько могла, притушить собственную раздерганность и успокоить лицо, она тоже готовилась к должному свершиться таинству. С наслаждением вслушиваясь в узнаваемый звук настраиваемых инструментов, возвращавший се в далекие годы юности, в годы недолгой, шумной славы Глеба, она загоревшейся кожей лица и шеи чувствовала на себе пристальные взгляды оркестрантов, в директорской ложе было просто некуда деться от этого липкого въедливого интереса к се особе-люди оставались людьми. Каким-то непостижимым образом у нее за спиной почти тотчас оказался Солоницын, он словно прошел сквозь стену: не было его — и есть. Тамара Иннокентьевна этой его поразительной особенности боялась и, ощутив у себя за спиной его присутствие, с трудом заставила себя не думать о нем.
Солоницын, словно почувствовав ее состояние, сидел спокойно, отдыхал после утомительной работы в фойе, где пришлось рассчитывать каждое движение и слово. Он подумал, что стал подозрительно быстро уставать, что, очевидно, пора на два-три месяца исчезнуть из Москвы. Он старался не смотреть на тяжелый узел волос, на высокую и чистую шею Тамары Иннокентьевны, чтобы не будить в себе застарелое неприязненное чувство к этой женщине, неизвестно за что его презиравшей и даже ненавидевшей.
Он никогда не позволял себе обижаться, тем более высказывать каким-либо образом свою обиду, это было ему не по карману, а, следовательно, не существовало для него, но вот сейчас он не узнавал себя, проснулось что-то мальчишеское, ненужное, и он никак не мог с этим сладить. «Тоже мне, строит из себя первозданный кристалл, непорочная дева, да и только, из-под мышки рожать думает, без зачатия, — раздраженно и грубо думал он, в то же время ничего не выпуская из виду и сохраняя на лице любезное выражение. Что же ее Санечка, не знает, что ли, она, по каким гекатомбам он бодро шагает вверх? Что за непостижимое ханжество, какое уважение к своей особе! Посмотреть бы, смогла бы она сохранить вот такое царственное спокойствие, не будь рядом с ее наполеончиком таких вот, как я, незаметных, сереньких, не замечающих оскорблений и все прощающих, ведь ее-то наполеончик только на таких и держится, такие, как он, всегда были, есть и должны быть. Мы ему делаем славу, мы его подножие, а он нас соответственно подкармливает, бросает нам время от времени кусок, другой! Мы сила, потому что мы умеем организоваться, подчиняться, мы умеем постоять друг за друга, а все те, мыслящие себя гениями, вроде Горского, надеются лишь на божью искру, один другого, как черта, сторонятся. Фу-у-у, и нету такой искры: сколько их уже погасло, достаточно кое-кому подуть или вовремя не подбросить самого примитивного горючего: дровишек там или солярочки… Хе-хе-хе!» — с удовольствием мысленно потер руки Солоницын, ощущая свое могущество в единении с тем же Александром Евгеньевичем и восхищаясь именно неизвестно откуда взявшимся ласковым словом «солярочки».
Тут появился ловкий, с широкой лысиной знаменитый дирижер Лолий Вайксберг, снискавший себе славу не без деятельного участия и покровительства Александра Евгеньевича, и это тоже было сделано не без дальнего прицела-последние годы Лолий Вайксберг широко пропагандировал музыку Александра Евгеньевича в своих частых поездках и гастролях за границей…
Солоницын стал смотреть, как прославленный дирижер незряче и привычно поклонился в зал, выпрямился, повернулся, напружинил жирный затылок и демонически вознес руки над ждущим оркестром. Программу Солоницын знал наизусть, он сам составлял ее по указаниям Александра Евгеньевича, и поэтому мог себе позволить сейчас как бы отключиться от концерта, сплошь составленного из произведений Александра Евгеньевича, отрывков из его патриотической оперы «Высокое небо», получившей самую лестную оценку на самых высших уровнях, музыки из кинофильма «Великий путь», сюда Александр Евгеньевич умело пустил в дело отходы от оперы, затем шло несколько народных песен в обработке Александра Евгеньевича и его же романсы на стихи современных поэтов. Одним словом, Солоницын мог позволить себе заниматься все тем же блестящим анализом, он довел до логического конца мысль о полной своей правоте и на примере Тамары Иннокентьевны пришел к неопровержимому выводу, что сейчас люди их круга живут как бы в двух главных измерениях. В одном приходится приспосабливаться, многого не замечать, со многим соглашаться, оправдывая это все тем же старым утверждением, что такова жизнь и против нее не попрешь, в другом же горизонте совсем иной тон, необъяснимая мораль некоей разграничительной линии в одном и том же вопросе. То, что допустимо по одну сторону этой линии, по другую встречает удивление и даже негодование, вот он сам, Солоницын, сколько угодно может прислуживать, подличать во имя того же Александра Евгеньевича, но это лишь по одну, определенную сторону черты… Стоит же ему ступить па неположенную половину, и ему тут же дадут понять, что он переборщил, что от него дурно пахнет, что каждый должен знать свое место, — и все это будет оправдано сложностью, даже диалектичностью жизни. А вся мораль здесь на ладони и выражается двумя словами — делают одно, а говорят другое, и, очевидно, для этого в мире есть свои причины.
За подобными рассуждениями Солоницын совершенно забыл проследить, как раньше хотел, за Тамарой Иннокентьевной, за ее восприятием концерта, а когда вспомнил об этом, было уже поздно. Первая часть закончилась, прогремели аплодисменты (Солоницын не без тайного удовлетворения отметил, что особого энтузиазма слушатели не проявили), дирижеру принесли огромный букет алых роз. Начался антракт.
Тамара Иннокентьевна, задумчиво улыбаясь, занятая какими-то своими мыслями, вышла из ложи, Солоницын не стал ей навязываться, но, скользнув вслед за ней в фойе, некоторое время продолжал думать о ней. Впрочем, и для Тамары Иннокентьевны ничего нового или неожиданного не было, все, что исполнялось, она знала, исполнение могло быть лучше или хуже, но существенно перемениться ничего не могло. Это был Саня, это была его музыка, ничего другого никто, и тем более она сама, ожидать, а тем более требовать не мог. Нужно было прогнать чувство неловкости и растерянности, пришедшие к ней вроде бы ни с того ни с сего, ниоткуда.
Она пожалела, что не пригласила кого-нибудь из подруг, — все сложности отступили бы, растаяли, а то ведь обязательно кто-нибудь привяжется со своими фальшивыми восторгами, и будет совсем неловко. Саню же видеть тоже сейчас ни к чему, биологически он удивительно чуткий, сразу поймет, что она далеко не в восторге…
Едва она успела пожалеть о своей неосмотрительности, перед ней оказался Парьев, сказал какую-то плоскую любезность, сощурил умные, плутовские, все понимающие глаза, взял ее руку, осторожно поцеловал.
— Хорошо, хорошо, я давно хочу познакомить с вами свою жену, что-то все никак не складывается. У нее сегодня защита… Хорошо, очень хорошо! сказал он почему-то значительным шепотом и осторожно исчез. К чему относились его слова, к Сане ли, к ней самой, Тамара Иннокентьевна не поняла, Парьев, вероятно, просто еще раз напомнил о себе, о своем присутствии на концерте.
Тамара Иннокентьевна направилась к широкой мраморной лестнице с намерением выйти на улицу и побыть под темными деревьями в одиночестве, но тут же почувствовала на себе чей-то взгляд: она даже вздрогнула, но заставила себя идти прямо и не оглядываться. Она знала, что человек, неотступно следивший за нею, пошел следом.
Тамара Иннокентьевна хотела обернуться и как следует отчитать наглеца, но вместо этого лишь прибавила шаг н, оказавшись в знакомом скверике перед консерваторией, облегченно вздохнула, выбирая затененные места, она медленно прохаживалась, наслаждаясь привычным слитным шумом города, одиночеством, какой-то внезапно охватившей душу легкой грустью. Ей больше не хотелось никаких перемен, то, что дано судьбой, ее вполне устраивает, большего ей и не надо, хотя в юности, в молодости, когда рядом был Глеб, все это представлялось иначе, как-то больше, возвышеннее, грознее. Но что не грезится в юности, уж такая крылатая пора, затем все получается иначе, начинаются неизбежные потери, душевная усталость, приходится мириться со многим, нужно держать себя в руках. Что же, Саня есть Саня, это не Глеб, и при всем желании и изворотливости он не может подняться до него, но он же в этом не волен, а значит, не виноват.
Столько ему отпущено от бога, не всем же быть высокими творцами, он хороший человек, любит ее, что же еще надо? Мужчины вообще честолюбивы, со своим тайным дном: на этого противного Солоницына нечего особенно сердиться. Везде своя борьба, а она всего лишь женщина-не ей переделывать мир! Смешно… Стать на площади и проповедовать? А какое у нее право учить? Что она знает?
Совершенно теперь успокоившись, Тамара Иннокентьевна озабоченно подумала о предстоящем после концерта банкете и нашла просчеты в своем туалете. Нужно было одеться построже, здесь к месту был ее зеленый костюм без всяких украшений, но теперь уж ничего не поделаешь.
Кто-то стремительно шагнул и стал перед нею, она вздрогнула, невольно оглядываясь, как бы собираясь позвать на помощь, но тут же, различив знакомые черты лица, облегченно перевела дыхание. Меньше всего она хотела встретиться в этот вечер именно с ним, с Димой Горским, всегдашним соперником Глеба, в последнее время что-то замолчавшим, — те же странные, словно раз и навсегда изумленные жизнью глаза, то же длинное, асимметричное лицо, тот же знакомый отсвет доброй улыбки на губах-и в то же время что-то новое, страдающее, какое-то отсутствующее выражение на этом знакомом, дорогом и оттого желанном сейчас лице заставило сжаться сердце. Тамара Иннокентьевна почувствовала легкий запах вина и сдержала неожиданный порыв-она готова была обнять, расцеловать этого человека за то, что он есть, что он был как бы вестником Глеба, тех грозных и прекрасных, раз и навсегда отшумевших лет.
— Здравствуй, Дима… Оказывается, это ты меня преследуешь, — она протянула руку, еще и еще раз жадно окидывая его взглядом и отмечая про себя сизые, нездоровые мешки под глазами. — Вот никак не думала, что ты придешь на концерт Сани.
— Слишком много о нем говорили… любопытно, — ответил Горский. Прости, Тома, если я допустил бестактность. Мне просто хотелось увидеть тебя.
— Что ты, Дима! — горячо возразила она. — Я понимаю, сложно все в жизни, но ведь что делать… Так уж получилось.
— Я ни в чем тебя не виню, Тома.
— Ты все такой же… Ничего не умеешь скрыть, — с еле уловимой горечью вслух подумала Тамара Иннокентьевна.
Близко и как-то до неловкости доверительно поглядев ей в глаза, он не стал возражать, в свое время, когда она еще была тоненькой девушкой, он любил смотреть на нее, она была божественна красива, и у него даже в мыслях не могло возникнуть нечто плотское, грубое. Он хорошо знал, что это не было любовью и она являлась для него просто существом из иного, сказочного мира, и он ей посвятил свою самую любимую сюиту и скрипичный концерт. Он наслаждался, что он один знал об этом, и теперь, неожиданно вспомнив те давно минувшие времена, мысленно улыбнулся своей наивности. Тамара Иннокентьевна видела, как вздрогнули, напряглись его густые, торчавшие в разные стороны брови, она обрадовалась этой незабытой его особенности.
— Расскажи о себе, Дима, что нового у тебя, — попросила она, беря его под руку и отводя подальше в сторону, в густую тень, ей показалось, что где-то неподалеку мелькнуло широкое лицо Солоницына.
— Во сне сегодня тебя видел, — растерянно улыбнулся Горский, не замечая ее маленькой хитрости. — Неожиданно… давно ведь и не встречались, и не думал. Ты изумительно пела… Какая-то белая-белая гора, солнце, ветерок, а я боюсь шевельнуться. Как же ты пела, Тома! Не сон, а праздник. Я сегодня весь день под очарованием этого сна!
Спасибо, Тома… Я пришел тебя увидеть.
— Спасибо, — с трудом шевельнула она губами. — Я понимаю, Дима… Но я знаю, ты не за этим пришел.
— Подожди, подожди, — поспешно сказал Горский, опять близко заглядывая ей в глаза, и опять она уловила запах чужой, посторонней жизни — горечь вина, табака.
Появилась какая-то обида, что эта настоящая, терпкая, в муках жизнь проносится мимо.
— Ох, Дима, Дима, — сказала Тамара Иннокентьевна все с той же горечью в душе, начинавшей перерастать в досаду. — Вот от тебя не ждала жалости.
— Тома, Тома, что ты это напридумала? — совсем смешался Горский, но глаза его выдали-вдруг заблестели, засияли.
— Вот, вот! — торжествующе обрадовалась Тамара Иннокентьевна. — Вот теперь ты настоящий, Дима! Хотел надуть, и кого? Меня! И не стыдно, до чего же люди переменились, даже самые лучшие.:
— Преувеличиваешь, как всегда, — со сложным чувством досады и восхищения попытался несколько притушить неожиданную остроту Горский, ему сейчас достаточно было видеть ее и быть рядом. — А у меня сейчас доброе, доброе настроение, сам себе не верю. А что мы друг другу не все говорим, это же в порядке вещей, иначе невозможно было бы никакое общение. Ты же умная женщина.
— Умная, еще не значит счастливая, — в Тамару Иннокентьевну словно вселился неведомый бес. — Но ты ведь пришел посмотреть на меня и определить, что же произошло со мной. Откуда у вас у всех право судить? Кто вам его дал?
— Тома, Тома…
— Нет, выслушай!
— Да мне уже достаточно! Не мучай ты себя, ты же не виновата, так уж сложилась жизнь.
— Вот, вот! Не мучай! Не виновата! Вот теперь, Дима, ты прежний, тот, которого я раньше знала и который всегда был мне дорог. — Тамара Иннокентьевна с холодным ужасом чувствовала, что ее словно подхватила и безостановочно несет черпая волна, она приказывала себе остановиться и не могла, и, когда увидела жестко напрягшиеся складки на лице Горского, резко и зло обозначившие сжатые, слегка кривящиеся губы, ей стало легче. Когда-нибудь это должно было произойти, такова плата и такова мера за прошлое.
— Знаешь, Тома, ты все равно останешься для меня прежней, — тихо сказал Горский. — Так оно и будет, я ведь тебя когда опять увижу. А то и совсем не увижу. Вот если бог даст, я напишу твою душу, вероятно, это поможет мне… еще раз подняться. Слышишь, я заставлю звучать твою душу!
— Я же другая, Дима! Я совсем переменилась! — забывшись, с ненавистью почти закричала Тамара Иннокентьевна. — Я просто женщина, я жить хочу. Почему же вы все так безжалостны? Только потому, что был Глеб и была война? У многих все это тоже было. Все ведь живут…
— Прости, я не хотел сделать тебе больно, — Горский теперь смотрел на нее как бы- издалека и думал о чем-то своем. — Ты же сама виновата, что ты на меня-то накинулась? Если я даже показался тебе призраком из прошлого… нет, виноват… такие, как я, остались где-то за роковой чертой, не смогли ее переступить. Что же на нас сердиться?
— Если бы вы только не винили в своих бедах других…
— Тебя? Саню? — быстро спросил Горский. — Ты это хочешь сказать?
— За что вы его так ненавидите? — глухо пожаловалась Тамара Иннокентьевна. — Господи, отчего люди так жестоки. Он ведь ни у кого не отнял, делает, что может и как может… Не смей на меня так смотреть, Дима! — слегка повысила она голос, но Горский, начиная подпадать под ее настроение, отвернувшись, покусывая губы, молчал.
Он жалел ее, и ему не хотелось говорить ей грубых, унижающих слов, он видел, что для себя она уже давно все оправдала, но теперь ей хотелось, чтобы он, он, именно он (он улыбнулся), давний друг и соперник Глеба, всегда слывший прямым, бескомпромиссным человеком, чтобы именно он подтвердил ее правоту и еще больше укрепил ее в этой мысли. Пытаясь пробудить в себе давнее, светлое чувство в отношении Тамары Иннокентьевны, он с какой-то мучительной настороженностью попытался прислушаться к себе, ну что же, подумал он, все меняется, переменилась и она. Почему я должен был ожидать другого?
В молодости многие талантливы, это особая пора, а вот начинается повседневность, и многое меняется. Проступает и утверждается истинная суть человека. Что же на нее сердиться? Если ей хорошо и удобно рядом с Саней, кто же имеет право мешать? Зачем?
Все, вероятно, кончилось бы миром, сдержись Тамара Иннокентьевна и переведи разговор на другое. Но она чувствовала, что, если она сейчас уступит, пошатнется и рассыплется прахом весь ее с таким трудом созданный порядок, в душе у нее все сломается. Сейчас, в лице этого, когда-то талантливого, одаренного молодого человека, а сейчас, по всему видно, разочаровавшегося, пьющего, в ее душу опять постучалось прошлое. Саня прав, нельзя ни на минуту поддаваться слабости.
— Вот видишь, Дима, — сухо усмехнулась Тамара Иннокентьевна, — по существу, сказать и нечего. Так уж устроена жизнь, один состоялся, другой нет, вот и завидуют успеху Сани, ненавидят за это.
— Ты имеешь в виду меня?
— Все люди одинаковы, Дима, — все так же сухо ответила она, выбирая момент попрощаться и поскорее уйти, но ее поразил и удержал его смех, какой-то захлебывающийся, больной — она никогда раньше не слышала, чтобы так смеялись.
Горский хохотал, время от времени с каким-то неприятным фырканьем, с трудом произносимым в перерывах хохота на разные лады одним-единственным словом «ненависть», глаза его, попадая в свет фонаря, влажно и дико поблескивали.
— Кажется, ничего смешного я не сказала, — неприятно удивилась Тамара Иннокентьевна.
— Ненависть? К твоему Сане? Зависть? Нет, Тома, нет. — Как бы в один момент стряхивая с себя нервный неестественный смех, Горский стал подтянутое, суше.
Тамара Иннокентьевна почему-то испугалась этой перемены в нем, внутренне вся сжалась, похолодела.
— Я пойду, пойду, Дима, — заторопилась она, но Горский не пустил, схватил ее за плечо и повернул к себе.
— Не торопись, я скажу всего несколько слов, Тома, Мне жаль, но твой Саня всего лишь удобная посредственность. Всему миру удобная! Таков миропорядок! У него никогда не прорвется святой бунт страждущего духа, ни одно сердце он никогда не заставит вздрогнуть от сладкой тоски исчезновения. От его бескрылой музыки никто не захочет броситься сломя голову в огонь! Никогда бы не поверил, что ты когда-нибудь станешь защитницей посредственности! И тебе не стыдно! Ты была рядом с Глебом рядом с вулканом, с очистительной грозой, и вот тебе Саня! Разумеется, какая теплая сырость, как сытно!
— Молчи, молчи, ты пьян! — попыталась остановить его Тамара Иннокентьевна. — Замолчи, ради бога. Как ты можешь, ведь Саня говорит о тебе только хорошо, он так высоко отзывается о твоем таланте. Я всегда радовалась…
— Ты еще больше порадуешься, если спросишь Саню, почему я вот уже третий год не могу получить ни одного концерта, не могу записать пластинки, а в издательстве вот уже третий год без движения лежит мой сборник.
И почему у самого Сани всю его серятину выхватывают, не дожидаясь, пока просохнут чернила? Знаешь, Тома, мне думается, что твой Саня одержим новой разновидностью гуманизма, знаешь, как его характеризует между собой наша братия?
— Как же?
— Постно-справедливый Саня Воробьев. Правда, здорово?
— Боже мой, какой ты стал злой, Дима! — прошептала Тамара Иннокентьевна, не прощаясь, резко повернулась и пошла.
Горский посмотрел ей вслед, воздел руки то ли к небу, те ли к приглашающему москвичей в волшебный мир музыки Чайковскому.
— Благослови заблудших, возврати их на путь праведный! — пробормотал он, не обращая никакого внимания на изумленно отшатнувшуюся от него длинноволосую девицу, проходившую в этот момент мимо.
4
Пропустив последний звонок, Тамара Иннокентьевна едва успела занять свое место в ложе, вместе со вспыхнувшими аплодисментами она увидела Саню с бледным красивым лицом, стремительно пробиравшегося между пюпитрами к дирижерскому пульту. Он поклонился залу и, слегка повернувшись в сторону ложи, сразу нашел глазами Тамару Иннокентьевну, словно испрашивая благословения. Бледная, еще не пришедшая в себя после неожиданного разговора, — Тамара Иннокентьевна все же ответила улыбкой, и вся его высокая, резко очерченная фраком фигура, слегка начинавшая полнеть, стала законченное и резче. Саня умел и любил дирижировать, у него была исключительная память, он часто дирижировал наизусть, с двух, трех репетиций он безошибочно исполнял любое трудное произведение. Сегодня, как и всегда, впрочем, во время авторских концертов, вся атмосфера зала была наэлектризована нетерпеливым ожиданием успеха или неуспеха, и это теперь не зависело ни от положения, ни от протекций, а зависело только от таланта.
Внутренне подобравшись, Тамара Иннокентьевна ждала начала, она не выносила диссонирующей музыки, она вызывала у нее ощущение физической боли, хаоса, распада, мир и без того был страшен, жесток и разъят. В музыке она искала утешения и надежды и была твердо убеждена, что музыка без гармонии не нужна, не боясь показаться старомодной, Тамара Иннокентьевна находила в музыке то, что искала, и ни за какие новации не собиралась расставаться с мелодией.
Начало ей показалось резким и разочаровало, она отодвинулась в глубь ложи, и полузатененная бархатной портьерой, напряженно ждала продолжения. Понемногу в разлаженном, разбегающемся хаосе разъедающих, враждующих, наталкивающихся друг на друга звуков стало восстанавливаться равновесие, время от времени все настойчивее вступала партия скрипок и легкой волной смывала с души тревогу и усталость. «Ничего, — говорили скрипки, — еще будет радость, еще не все потеряно, и это пройдет, ты узнаешь радость, потерпи». Тамара Иннокентьевна не узнавала Александра Евгеньевича, его руки, обычно изнеженные, вялые, сейчас царили над оркестром, над залом. Она не ошиблась, что поверила, и вот награда, от неожиданности тем более дорогая, — как она могла хоть на миг усомниться… Дима Горский хороший, добрый, талантливый, ему не хватило немного везения, вот он и стал скептиком. Не надо на него обижаться.
Глубже погружаясь во что-то привычное, необходимое ей, к чему все больше прирастала душа, Тамара Иннокентьевна попыталась вспомнить: когда же, где, где? Она точно знала, что такое ощущение бесконечности, продленности своего «я» она уже испытывала однажды, когда вот так же все исчезло в сумасшедшем стремительном потоке, подхватившем и понесшем ее в знакомые родные дали… Каким-то подсознательным судорожным усилием пытаясь остановить этот неудержимый поток, стараясь оборвать его, она едва удержала готовый вырваться крик-случилось невозможное, она узнала тяжелую лобастую голову Глеба, резкий, юношеский профиль его лица, его характерные движения, даже его характерную манеру напевать сквозь сомкнутые зубы во время исполнения его вещей с оркестром.
Тамара Иннокентьевна боялась шевельнуться, чтобы не спугнуть мгновение, и в то же время не находила в себе сил прекратить эту муку. Теперь она знала, что испытывает человек, умирая, она сама была сейчас где-то именно на этой грани, сердце остановилось, оркестр отдалился, глухая пелена затянула все перед глазами, внезапно ее накрыла с головой непроницаемая оглушительная тишина.
Она не знала, сколько прошло времени, минута, две или десять, только в ней вновь прорвался, вначале исподволь, затем нарастая, усиливающийся тоскливый крик скрипок, и сразу же понеслось к пей навстречу лицо Александра Евгеньевича. Страшное оцепенение сковало ее, не было сил даже отодвинуться в глубь ложи, чтобы положить хоть какую-то преграду между собой и этим мешающим, ненужным, ненавистным сейчас ей лицом. Со свойственной в отношении ее почти звериной чуткостью Александр Евгеньевич понял, что с ней происходит, ему передалась едва не удушившая ее волна, он твердо и отстраненно посмотрел в ее сторону и опять повернулся к оркестру. Никакого Глеба больше не было, только Александр Евгеньевич с его красивыми руками, чуть полноватым, голым (он сбрил бороду к своему концерту) женственным лицом и высокой рыхловатой фигурой, плотно затянутой во фрак, и… с его чудовищной везучестью, всепроникаемостью и безнаказанностью! Да полно, был ли Глеб вообще, если ничто больше о нем не напоминает, если его музыка ему больше не принадлежит, а значит, никогда не принадлежала, а принадлежит и отныне всегда будет связываться с именем этого овладевшего ее волей, ненавистного, преуспевающего человека. Он хладнокровно, обдуманно стер саму память о Глебе, взяв себе его музыку, почти без помарок, ничего не переменив, использовал в своей симфонии любимые мотивы Глеба, Тамара Иннокентьевна особенно любила эту тему борьбы двух влюбленных, стремившихся пробиться друг к другу сквозь разделяющую их тьму, из незаконченной сюиты Глеба.
Александр Евгеньевич высоко вскинул руки, и она отчетливо увидела его округлый затылок с длинными, плотно уложенными, напомаженными волосами, даже от резких движении в прическе (Тамара Иннокентьевна не могла вспомнить сейчас имя модного мастера из известного всей Москве салона, обычно приходившего на дом к Александру Евгеньевичу укладывать волосы по особенно торжественным случаям) не сдвинулся ни один завиток. Так же и на его лице, обычно мягком, чуть расслабленном, сейчас не двинулся ни один мускул, оно казалось вычеканенным из бронзы. Тамара Иннокентьевна была уверена, что и он испытывает сейчас точно такое же чувство. Да, он давал ей понять, что принимает вызов, что между ними с этого момента возникла и установилась какая-то совершенно новая, беспощадная связь. Он продолжал дирижировать с тем же затвердевшим отстраненным лицом, и даже если она ошибалась, это уже ничего не меняло-их захлестнуло смертельной петлей.
Тамара Иннокентьевна ощутила приближение новой удушливой волны, да, Саня решил ее сломить, заставить окончательно забыть о прошлом, она сейчас вспомнила ранее ускользавшие от ее внимания мелочи в их отношениях, они лишь больше утвердили в ее догадках, нарастающий же разлад в оркестре, доходящий до откровенной какофонии, должен был, по всей вероятности, означать новое слово в музыке.
Крепко сцепив побелевшие пальцы рук, Тамара Иннокентьевна приготовилась бороться до конца, подбадривая и успокаивая себя, она стала вспоминать еще студенческие времена, ухаживание Глеба. Это помогло, и она обрадовалась, теперь меня так легко не возьмешь, подумала она, имея в виду Александра Евгеньевича, теперь я тебя знаю, хоть ты самим дьяволом обернись, не поможет.
Между тем из хаоса рушащегося мира опять пробились согласные, легкие и стремительные голоса скрипок. Тамара Иннокентьевна крепче стиснула руки на коленях, Глеб не успел дописать эту сюиту, и публично она никогда не исполнялась. Тамара Иннокентьевна хорошо помнила светлую, стремительную, как бег прохладной чистой воды, мелодию, опять два родственных начала пробивались сквозь все преграды друг к другу. Тамара Иннокентьевна видела перед собой любимое запрокинутое лицо, и сквозь стиснутые зубы опять доносились привычные до боли, до страдания звуки, и уже новый приступ глухоты начинал сковывать ее, уже…
Еще мгновение, и она бы страшно, на весь зал закричала, в самый последний момент, собрав остатки сил, в бессильной ненависти, она встала, не оглядываясь прошла к двери, слепо толкнула ее и почти побежала к выходу, теперь она знала, в чем был весь дьявольский план концерта.
Не сломись она во второй раз, был бы третий, и четвертый, и пятый. Вздрагивая от нервного озноба, она остановила такси, назвала адрес и только в машине начала приходить в себя. Она попросила ехать кружным путем, движение всегда ее успокаивало, и шофер, молодой парень, выполняя ее желание, с интересом к ней приглядывался, Тамара Иннокентьевна не замечала. Первый ожог прошел, теперь ею все. больше овладевало тупое отчаяние и безразличие, боже мой, зачем куда-то возвращаться, куда-то ехать, лучше всего сейчас было бы на всей скорости налететь на что-нибудь, на стену, на дерево, на бетонный столб, и все разом кончить. Она повернула голову и поглядела на шофера: молодой, лет двадцати семи, с красивым профилем мужчина, у него были крупно очерченные губы, прямой нос, длинные брови, кисти рук тоже красивые, артистичные. Шоферу начинало передаваться ее состояние, и он как-то странно завороженно, не мигая, смотрел в летящее навстречу пространство.
— Пожалуйста, быстрее!
Шофер молча кивнул, и машина плавно рванулась и скользнула вниз, точно в пропасть, в сияющую огнями улицу, но тотчас нырнула, не сбавляя хода, в какой-то темный проулок и тут же выскочила опять на открытое, залитое огнями пространство. Тамара Иннокентьевна облизнула пересохшие губы и как-то сразу успокоилась и даже взглянула на себя в косо висящее зеркальце, она уже ощутила в себе шумно ворохнувшегося знакомого беса, в ней все сильнее разгоралось желание и в самом деле удивить себя и переступить последнюю черту. Долгим приближающим взглядом она опять посмотрела на шофера и почувствовала, что он сделает все, что она захочет, он уже и без того отвечал на каждое ее движение. Выскочив на какое-то пригородное шоссе, они теперь неслись с сумасшедшей скоростью, стремительная ревущая тьма, рассекаемая узким лучом света, мчалась навстречу, уже время исчезло, уже достаточно было одного неверного движения, одного толчка…
Тамара Иннокентьевна не могла понять, отчего вдруг все оборвалось, сумасшедшее, опустошительное, успокаивающее ее движение внезапно прекратилось, разрывая все внутри. Она страшно, смертельно побледнела, но уже и машина резко сбросила скорость, взвизгнув тормозами, шофер сидел, бледный до синевы, стиснув зубы, всей тяжестью своего здорового молодого тела навалившись на руль, с трудом оторвав руки от баранки, он толкнул дверцу и, не говоря ни слова, исчез в темноте и долго не возвращался, а когда вернулся, тотчас, не глядя в ее сторону, резко развернул машину и погнал обратно…
Сознание возвращалось медленно, просто они уже не принадлежали себе, на сумасшедшей, бешеной скорости пронеслись мимо крошечной, лет пяти, девочки с поднятой ручонкой, сноп света лишь на какую-то долю мгновения вырвал из тьмы, из кипящего пространства фигурку девочки — знак провидения и предостережения, но этого было достаточно-все существо Тамары Иннокентьевны, поглощенное ожиданием предстоящего, успело, оказывается, выхватить из тьмы девочку с поднятой ручонкой, чтобы затем осознать и вздрогнуть от смертельного озноба, Тамара Иннокентьевна никак не решалась взглянуть в сторону шофера, успевшего в последнюю долю секунды опомниться, пересилить себя у самого края пропасти. Рассчитываясь, она просто выгребла на сиденье все содержимое сумочки и, выходя из машины, лишь мимоходом, с мольбой заставила себя взглянуть ему в зрачки, опять увидела в них откровенное восхищение, почти страдание, вся вспыхнула и торопливо вбежала в подъезд. Едва успев открыть дверь в квартиру, она вздрогнула — напористо и весело зазвонил телефон, и она поняла, что это звонит Александр Евгеньевич.
Телефон продолжал надрываться, несколько минут она сидела вяло, без движения, без мысли, слушая настойчивые непрерывные звонки, затем тяжело встала, взяла трубку, в уши ей тотчас рванулся бурный, взвинченный голос.
— Да, это я, — отозвалась она, чувствуя смертельную, почти обморочную усталость. — Да, я тебя поздравляю…
Слушала, нет, не все… Да, да… вернешься, поговорим… Да, да, уехала, не дождалась… Все объясню… Не понравилось? Нет, нет, не знаю. Она с удивлением вслушивалась в свой тусклый, безжизненный голос. Пришлешь машину? Зачем? Ах, банкет… Нет, нет, я себя неважно чувствую, не надо, я подожду тебя дома. Нет, нет, не присылай, я не приеду. До встречи, Саня. — Она положила трубку и долго не снимала руки с трубки, как будто насильно заставляя телефон молчать, она уже все продумала, но никак не могла заставить себя поверить до конца, боялась сделать еще одно последнее усилие и убедиться окончательно.
В комнате, выходившей окнами на улицу, было очень душно, и Тамара Иннокентьевна, открыв окно, легла грудью на подоконник, нагретый за день воздух не освежал, прохлады и спасения от духоты по-прежнему не было, Тамара Иннокентьевна вяло оторвалась от подоконника и пошла на кухню, выходившую балконом во двор-здесь было меньше шума, движения и сам воздух казался прохладнее и чище. Тамара Иннокентьевна села у открытой балконной двери на сквозняке, ей нужна была передышка, нужны были силы для того, что ей предстояло. И когда пришла нужная минута, она тяжело поднялась, вернулась в большую комнату и, не раздумывая, выдвинула два нижних ящика письменного стола, где всегда хранились рукописи и бумаги Глеба. Давно, может быть уже больше года, Тамара Иннокентьевна сюда не заглядывала, но сразу же увидела, что из всего хранившегося здесь осталось меньше половины. Дрожащими руками она стала перебирать знакомые листы, она физически ощущала теплоту шероховатой бумаги, под ее пальцами вспыхивали и бились стремительные, обрывочные пассажи, таинственные, явившиеся из неизвестности и ушедшие в неизвестность всплески мыслей Глеба, даже в таком незавершенном виде пронизанные необычайным чувством гармонии. Недоставало очень много из неоконченного, исчезли почти готовые вальсы, наброски молитв, как называл их Глеб, тоже исчезли…
С трудом остановив подступившую дурноту, почти не соображая, Тамара Иннокентьевна слабеющими руками рассовала бумаги по ящикам, с грохотом задвинула их, и сразу в комнате установилась мертвая тишина. Тамара Иннокентьевна поежилась, испытывая чувство полнейшей опустошенности, словно кто-то ограбил, обобрал ее до нитки, и ей. стало стыдно своей наготы и невозможности куда-нибудь укрыться. Опять пришло то же чувство зияющей черной ямы, что и в машине недавно, — пустота, ни желаний, ни мыслей, нужно было заставить себя что-то сделать, сдвинуться с места, чтобы не тянуло: опять заглянуть в зияющую пустоту, откуда нет возврата…
Заученно, как автомат, двигаясь, Тамара Иннокентьевна принялась совершенно механически за уборку, протерла полы, мебель, вымыла ванную, перечистила на кухне кастрюли, до блеска надраила медный старинный чайник, разобрала грязное белье для прачечной. Было уже далеко за полночь, а она все придумывала и придумывала себе новые дела, наконец достала откладываемое на более благоприятные времена шитье-серую шифоновую блузку (она любила шить, и это ее всегда успокаивало) — и не заметила, как время подошло к двум. Щелкнул замок, хлопнула дверь, из передней послышалась оживленная возня, раздался веселый, уверенный, ликующий голос Александра Евгеньевича, а затем и сам он, без шляпы и бороды, собственной персоной появился в широко распахнутых створах стеклянных дверей с бутылкой шампанского, с огромной (едва умещалась в руках) охапкой махровых палевых хризантем. Глаза Тамары Иннокентьевны, до сих пор отрешенные, потеплели, перед нею стоял еще совершенно молодой мужчина со счастливым блеском в глазах, с гордой, свободной посадкой головы, она и раньше знала, что успех красит, теперь же это еще раз подтверждалось. Она подумала, что у нее уже нет сил на вторую жизнь, она слишком долго пробыла в горе и одиночестве, радость не приходит сама по себе, за нее нужно бороться.
— Как ты хорош, Саня… Как тебе хорошо без бороды. И это все мне? по-детски обрадовалась она цветам. — Мои любимые!
— Все тебе, еще вот это, — он вытащил из бокового кармана длинный узкий футляр и небрежно бросил ей на колени, прямо на шитье. — За удачу!
Футляр раскрылся, и на колени Тамаре Иннокентьевне скользнула короткая нитка розового жемчуга неправильных крупных зерен, теплого густого тона, казалось, они мягко светятся изнутри. У нее на глазах показались слезы, со смешанным чувством страха, восхищения и отвращения к себе, она уже не ощущала непримиримости, негодования, оскорбленности, не ощущала всего того, что кипело в ней в ожидании встречи, хризантемы сильно пахли, остро заполняя комнату запахом свежей зелени.
— Я немного выпил, совсем немного, нельзя было отказаться, все пришли, все, кого я пригласил. Спрашивали о тебе и заметили твое отсутствие. Я уж врал, как мог. Ты бы заранее предупредила, если у тебя каприз. — Александр Евгеньевич поставил шампанское на стол и бросился на диван рядом с нею. Как я устал… Даже нет сил разозлиться и побить тебя. Ну что опять на тебя накатило? Пойми, ничего нет, есть мы, и только мы, и наша жизнь. Остальное не имеет значения. Все остальное не существует! Ну же, ну! Опять слезы? Мировая скорбь по несуществующему предмету? — Приподняв ее лицо за подбородок, Александр Евгеньевич поцеловал ее в губы, властно, по-хозяйски, и у нее не хватило сил ни отодвинуться, ни оттолкнуть его руки, она опять с ужасом почувствовала, что ей приятно, что она уже привыкла именно к этому человеку, к этому мужчине, и ей ничего не хочется менять. Пряча глаза, она зарылась лицом в ворох хризантем, несколько раз глубоко вобрала в себя простои и, возможно, самый разумный в мире запах, запах беспечности и счастья.
— Я плохо себя почувствовала, — сказала она. — Ничего не готовила…
— А что нам надо? Что нам надо? — запел он, срываясь с дивана. — Там в коридоре еще во-о-от какая коробка со всякой всячиной. Ты плохо обо мне думаешь, разве я мог забыть главное, наш с тобой праздник? Столько вкусного.
Из Армении Астмик Тевосян даже твою любимую колбасу привез и твой фирменный коньяк «Ахтамар». Астмик свое избрание отрабатывает. Трудно было его в правление провести — нужен, но не популярен, а себя он, разумеется, считает классиком современной массовой песни. Зовет пас, говорит, у него загородный дом в Цахкадзоре, фантастика, роскошь, супер и рядом, горы, первозданная природа. И даже античный храм есть. Первый век до нашей эры. Махнем, а? Вот пленум проведу-и махнем! Меня попросили, для чего-то надо, чтобы провел его именно я. Сиди, сиди, — приказал он Тамаре Иннокентьевне, двинувшейся было ему помочь, и она осталась на диване, с цветами и жемчугом на коленях, Александр Евгеньевич ловко и быстро накрывал прямо в этой же комнате стол, накинув на него белоснежную хрустящую скатерть, попутно он сгреб у Тамары Иннокентьевны с колен хризантемы и воткнул всю охапку в огромную напольную вазу севрского фарфора, единственное, что он взял с собой из своего прежнего дома. — Пусть с нами тоже празднуют. — Он небрежно, на ходу чмокнул ее в щеку и, почувствовав ответное движение, с торжествующей улыбкой опять засуетился вокруг стола.
Конечно же каждому приятно, когда тебя любят, подумала Тамара Иннокентьевна, поглядывая на него, ей самой давно надоело одиночество, бессонные ночи, страх вступить снова в жестко очерченный круг, когда за дверью квартиры встречает мертвящая тишина…
Несколько раз она порывалась встать и помочь Александру Евгеньевичу, но он всякий раз усаживал ее обратно, говорил, что сегодня ему хочется сделать все своими руками, и она всякий раз охотно подчинялась, продолжая наблюдать за ним и ощущая замедленное течение глухой ночи. Он ведь прав, думала она, как бы разрушая последние запретные границы в своей душе, живое-живым, иначе мир не смог бы существовать и развиваться. Жизнь требует уступок, хочешь, чтобы тебя любили, лучше всего не замечать недостатков, даже пороков, особенно если рядом творческая натура, из этого тоже состоит жизнь. Те, кто идет прямо и говорит все, скорее гибнут или становятся пророками, но их гибель тоже норма для обычной жизни. Пророки хороши на отдалении, в своем времени их никто не терпит. Да и что такое, в конце концов, сделал Саня? Молодой, сильный мужчина, честолюбивый, дорвался наконец до власти, до славы, костер-то вон какой прожорливый, сколько ни бросай, сгорает мгновенно, вот он и подбрасывает, что под руку попадается, да и кому во вред?
Если спокойно разобраться, обдумать-никому, прошлое есть прошлое, и пусть лучше все, чем пропасть, все, что осталось от Глеба, оживет хотя бы таким образом, какое де* ло людям до утомительных и ненужных подробностей до кухни? Им нужен результат, изнаночная сторона их не касается, они приходят в раздражение, когда им навязывают что-то непонятное и выходящее из общих правил. Вот идиотка, запоздало спохватилась Тамара Иннокентьевна, сидит, упивается своими придуманными страданиями, а мужик кухарничает после авторского концерта. Если бы все стали заниматься самоедством, хорошая бы наступила жизнь. Кто бы, интересно, рожал и растил детей, писал музыку, строил дома?
Быстро сбросив домашнее вязаное платьице и радуясь, что не успела переменить красивое дорогое белье, надетое перед концертом, Тамара Иннокентьевна с удовольствием достала черное, расшитое серебром кимоно, купленное по случаю, после войны, на барахолке, она его очень любила и редко надевала. Высоко заколов волосы и подкрасив губы, требовательно разглядывая себя в зеркало, она с удовольствием отмечала, что за последнее время посвежела и похорошела и выглядит много моложе своих тридцати пяти, она поймала себя на странном и неожиданно возникшем желании подойти к старому роялю, погладить его, но она смогла удержать себя и скоро забыла об этом.
Чуть позже они сидели друг против друга за красиво убранным столом, при зажженных свечах, держа в хрустальных бокалах шипящее шампанское, чувствуя голой шеей продолговатую округлость жемчужин и время от времени незаметно гладя самые крупные из них, Тамара Иннокентьевна и верить не верила и думать не хотела о недавних страданиях.
— Пью за тебя, Саня! — блестящими глазами всматриваясь в искрящееся вино, сказала Тамара Иннокентьевна. — Действительно, большой день.
— А я за нас, Тамара! — Он с незнакомой ей уверенностью и даже вызовом поднял свой бокал, затем глаза его смягчились, они чокнулись, вслушиваясь в тонкий замирающий звон.
— Ты на меня так странно посмотрел, — вопросительно и немного искательно улыбнулась Тамара Иннокентьевна.
— Посмотрел? Как посмотрел?
— О чем ты подумал?
— Пожалуй, о том, что ты наконец сделала выбор, вот только сейчас, ответил после напряженной паузы Александр Евгеньевич и потянулся было привычным жестом огладить свою бородку, натолкнувшись на жесткую выбритость кожи, он почему-то заметно расстроился.
— Как ты почувствовал?
— Не знаю. Неожиданный ожог, изнутри… Как будто меня ударили. У-уф… неприятно! — передернул Александр Евгеньевич плечами и залпом допил шампанское.
— Что же, обиделся?
— Отлично знаешь, на тебя я не могу обижаться. Здесь другое… Когда так долго ждешь приговор, нервы сдают. Помилование даже не радует.
И она опять почувствовала к нему нежность и, ничего но отвечая, только улыбнулась, точно погладила его глазами.
— Не прикидывайся таким ручным. Ты ведь не такой, ты не домашний кот Васька. Совсем нет.
— Какой же?
— Ты только с виду мягкий, шелковый, покладистый, — сообщила Тамара Иннокентьевна почему-то шепотом, — под этой мягонькой шерсткой — сталь, я сегодня почувствовала…
— И что же?
— Странно, непривычно… Мне с таким стержнем нравится. Шелковый мужчина, да еще с красивой внешностью — ужасно, мужчина должен что-то хотеть и уметь. Главное — хотеть!
Вместе с четкой, просветленной решимостью принимать жизнь отныне без ненужной рефлексии Тамара Иннокентьевна какой-то второй половиной своей души, совершенно независимой и действующей сама по себе, механически, утомительно фиксировала происходящее, каждый штрих, интонацию, перемену в выражении лица, даже блик от свечей, отраженный в открытой крышке рояля, казалось, отпечатался в самом ее мозгу, раскрытый рояль казался черной птицей с неловко подвернутым крылом, и она опять вспомнила свое неожиданное удивительное чувство в отношении этого старого рояля. «Это от шампанского», — тут же отбросила Тамара Иннокентьевна беспокоящую ее мысль.
Закинув руки на плечи Александру Евгеньевичу, совершенно сливаясь с ним, чувствуя голой шеей нагревшуюся округлую неправильность зерен ожерелья, Тамара Иннокентьевна двигалась под тихую музыку, это и есть счастье, говорила она себе, ни о чем не думать, ничего не менять, подчиняться плавному ритму, чужой воле, властным мужским рукам, только бы движение это длилось долго, бесконечно, плыть куда-то в неизвестность в тихом, все более слабеющем шуме ночи, переходящей в рассвет, что ж, пусть кто-нибудь попробует осудить, она найдет ответ, да, да, тысячу раз да, как и любой женщине, ей сейчас необходима древняя, как жизнь, грубая власть мужчины.
Она забылась не сразу, уже крепко заснул, уткнувшись ей в плечо головой, Александр Евгеньевич, даже во сне он не отпускал ее, и Тамаре Иннокентьевне пришлось силой убирать со своей груди его руку, он недовольно почмокал добрыми, детскими во сне губами. Легонько, чтобы не разбудить его, она отодвинулась на самый край постели и откинула штору, тотчас ночь, синяя, звездная с таинственными, влекущими провалами лесных озер, укрытых тонкими туманами, раскинулась над ней, окутала и понесла на своих неслышных руках в неведомые просторы, и тогда она запела. Она пела все ту же, известную только ей мелодию, слова рождались сами собой, как что-то знакомое и привычное, она всегда пыталась запомнить их, чтобы потом записать, мелодия всегда жила в ней, чтобы сейчас вырваться на свободу. Голубые, лиловые, темно-бархатные облака с золотыми краями проносились мимо, они были частью ее, да и сама ночь, само движение были мелодией, и земля, лишь слегка угадываемая сквозь легкую дымку внизу, была ее мелодией. Впереди открылось невиданное зрелище-город из переливающихся воздушных куполов летел ей навстречу, он ежеминутно менял цвет и размеры, но здесь тоже был свой ритм, своя музыка. Затем что-то темное, разрушающее ворвалось в эту согласную гармонию, золотой город, летевший ей навстречу, вспыхнул в последний раз ослепительным пламенем, стал чернеть и распадаться. Чувство бесконечного падения и безысходности, отчетливый голос, одиноко звучащий в полной, абсолютной, непроницаемой тишине, заставили ее подхватиться в кровати, как от удара, она прихватила прыгающие губы ладонью. Большие напольные часы только-только кончили бить, в воздухе еще дрожало медленно затухавшее отражение звона.
«Часы… слышишь? Часы бьют… Томка, Томка… Нельзя больше спать», только что услышанные во сне слова резали мозг, с отвращением путаясь в смятых простынях, она выбралась из широкой постели, на ощупь набросила скомканное кимоно и, все так же боясь разбудить Александра Евгеньевича, задыхаясь от усилий сдержать разрывавшие горло спазмы, кое-как добралась до кухни, в большую комнату с роялем ей было идти жутко, точно кто-то ждал ее там, она даже втянула голову в плечи, все время ожидая резкого, презрительного окрика, — музыка, несшая ее ночью к золотому городу, была молитвой солнца.
— Что случилось, Тамара? — услышала она хрипловатый голос Александра Евгеньевича, сонно щурившего глаза. на режущий свет. — Что ты тут делаешь? Проснулся, а тебя нет…
Не поворачиваясь к нему, Тамара Иннокентьевна спиной чувствовала, что он сейчас совершенно голый, видеть его голым было сейчас выше ее сил.
— Иди оденься, — попросила она.
— Зачем? Ночь душная…
— Мне нужно с тобой поговорить.
— Сейчас?
— Да, сейчас…
— Фрак или смокинг? Ну хорошо, хорошо! — Александр Евгеньевич зевнул, недовольно потер лоб и с легким раздражением пошел одеваться, опять причуды, сказал он себе, женщина, даже самая лучшая, все-таки останется женщиной, всегда найдет время испортить настроение, без видимой причины перевернуть все вверх дном. Лениво прошлепав в спальню, он через минуту вернулся в пижаме.
Тамара Иннокентьевна уже приготовилась, глаза ее сухо блестели.
— Скажи, Саня, ты помнишь свое обещание исполнить, записать и опубликовать лучшее из наследия Глеба? — спросила она сразу же, едва только он появился в дверях. — Помнишь?
— Ты слишком торопишь события, — сухо отрезал Александр Евгеньевич, сбрасывая остатки сна и сразу же принимая вызов. — Считаешь, ты одна заботишься. Глеб и мои самый близкий, самый дорогой человек. Ну что ты так смотришь? — почти закричал он, и у него на лбу выступила испарина. — Я завидовал ему, но тебе не понять этого… да и зависть ли это? Что-то другое, не знаю, как назвать, только не зависть. Удар, ожог, ослепление, желание выскочить куда-нибудь на перрон и броситься под колеса… Со мной так было два раза, только я не мог шевельнуть ногами, ноги отказывали, они становились чугунными… А-а, зачем я тебе все это говорю! — безнадежно махнул рукой Александр Евгеньевич, но ее вид, и ее лицо, и что-то еще, то, чего нельзя назвать словами, то, что не имело имени, снова вставшее между ними, как бы подстегнуло его, он понял, что это последняя и единственная возможность вернуть ее. В нем словно сработала безошибочная защитная система, взвесившая все «за» и «против», и он понял, что главное и сейчас и в будущем заключается для него в этой женщине, что, если он ее потеряет, сама жизнь станет бессмысленной. Он заметался, пытаясь найти иной выход, по иного выхода не было и быть не могло. С застывшей, незнакомой, вымученной усмешкой он шагнул и сел недалеко от нее. Некоторое время длилась вязкая тишина.
— Чего же ты хочешь? — спросил Александр Евгеньевич, глядя себе под ноги на треснувший пол.
— Ты не ответил на мой вопрос…
— У меня нет такой возможности, — сказал он так же тихо, без всякого выражения, стараясь казаться спокойным. — Воскресить мертвого. Понимаешь, мертвого! Что дадут ему несколько публикаций? Вечер его памяти? Что?
Это не сделает его тем, чем он обещал стать. Великим Глебом.
— Я тебя понимаю, жалко. Но нельзя же отнимать у человека даже память. Только потому, что он был благороден… — Чувствуя глубокую смертельную усталость, Тамара Иннокентьевна подумала, что они продираются друг к другу через какой-то бурелом, продираются и не могут сойтись, а скажи он несколько слов, и дурной сон развеется.
— Не знаю, — наконец выдавил из себя Александр Евгеньевич, — поймешь ли ты. Столько лет прошло после войны. Кажется, совсем немного, но в музыку пришло новое поколение одаренных людей. Им нет дела до нас, тем более до мертвых. Кто такой теперь Глеб Шубников? Герой, пошел добровольно и погиб, что же? Две неоконченные симфонии, несколько ораторий, незаконченных вальсов, сюит… куски, куски… все в кусках… совершенно необычное, мощное начало… Законом искусства всегда был и остается результат. Мы потеряли, может быть, выдающегося композитора, он бы мог встать в один ряд с величайшими именами, я верю, только ведь не случилось! Понимаешь, не случилось! Не по его вине, но не случилось! — упрямо повторил Александр Евгеньевич. — Я же не бог, придет час, сам все сделаю, напоминать мне не надо, Глеб для меня тоже дорог, может быть, дороже, чем кому бы то ни было… Не смей так смотреть! — повысил он голос, отмечая начинающую проступать во всех углах какую-то жуткую красноватую мглу и относя это за счет усталости, банкета, недавнего трудного разговора, тут же опять какая-то красная волна поплыла в глаза, и он не смог сдержаться. — Ты не имеешь никакого права так смотреть! Нет, я больше не могу! Не могу! Взрослый человек, в конце концов, давно должен выбрать! Так же невозможно жить, все время под рентгеном. Ты должна наконец сделать выбор. Я мужчина, мужчина! Во всем прочем обыкновенный мужик, зверь, мне хочется иногда тебя задушить!
Выкрикнув последнее, он обессилел и умолк, все также пусто глядя перед собой, а у Тамары Иннокентьевны от его диких слов по коже пошла изморозь, было бы так хорошо, если бы разом все кончилось и ее бы больше не было, взмолилась она, разом все оборвать, лучше невозможно придумать. Не по ее силам этот непонятный, жестокий разъятый мир, вот и хорошо, если бы ее не стало, сразу бы кончились все ее долги и вины перед Глебом, перед Саней…
Перед умершим и живущим… Или закрыть на все глаза и жить, ничего вокруг не замечая, жить- и все. Дышать, покупать красивые вещи, ходить в театры и ездить в свободное время за город, действительно, в чем виноват Саня?
Что была война и Глеб погиб? Или в том, что Саня любит и что я согласилась жить с ним? И мне это приятно. Я взяла на себя ответственность, в отношениях с мужчиной женщина ведь главная пружина, что бы мужчины ни воображали о себе. Да, да, все это так, но ведь он лжет! Лжет!
И потом, знать, что обворована сама память… и продолжать жить… рядом, постоянно вместе.
Тамара Иннокентьевна словно взглянула на себя из иного мира, в котором не существовало ни обид, ни желаний, но присутствовало нечто большее, чем сама жизнь, она медленно, остановившимися глазами с недоумением осмотрелась, затем молча встала, одним жестом заставила вскочившего было вслед за ней Александра Евгеньевича опуститься на свое место и вышла, вернулась она одетая, в глухом платье, в туфлях и причесанная. Александр Евгеньевич, ждавший ее, до предела напряженный, едва взглянув на нее, все понял, она приняла решение, игра в прятки кончилась, он еще смотрел ей навстречу с ожиданием, с готовностью все забыть и простить, но приступ еще более дикой, нерассуждающей ненависти уже опять копился и поднимался в нем.
— Верни все украденное у Глеба, — бесцветным голосом потребовала Тамара Иннокентьевна, останавливаясь перед ним. — До последней строчки… Ты должен это сделать.
Он не стал ничего отрицать, пожал плечами.
— Разумеется, по твоим понятиям, лучше сидеть на куче нот и вздыхать по несостоявшейся идиллии. Нелепо?
Зато чувствительно. Молчи, молчи, — остановил он пытавшуюся что-то сказать Тамару Иннокентьевну. — Я дал жизнь, воздух, свет хотя бы отдельным мыслям Глеба, я посвящу очередной концерт его памяти. Этого уже не изъять, прости. Так получилось, и уже ничего изменить нельзя. Не тебе судить. Ты, именно ты вторглась в нашу жизнь, разбила нашу дружбу, непрошеная, ненужная, все испортила, извратила, у нас были другие замыслы, единые, долгие, — перешел Александр Евгеньевич в наступление. — Слышишь, не тебе указывать, что мне делать. — Побледнев, он вскочил на ноги, неумело сжав кулаки, в первую минуту, ошеломленная, подавленная силой его ненависти, она попятилась. Но тут же словно бросило ее вперед, она вцепилась ему в ворот пижамы, изо всех сил стала трясти его, огромного в сравнении с ней, растерявшегося окончательно, несмотря на отчаянные усилия, Александр Евгеньевич не мог оторвать от себя ее руки.
— Вор! — кричала Тамара Иннокентьевна яростно, забывая обо всем на свете. — Вор! Обокрал, изгадил память мертвого друга! Негодяй! Бездарный подлец! Слышишь, я все расскажу, я не оставлю этого так… Я всем расскажу, какой ты негодяй и подлец! Глеба помнят в консерватории! Его там любят, тебе это так не пройдет! Верни все назад! Твой вчерашний концерт — это его концерт! Ты все украл! Негодяй! Негодяй!
Ему удалось наконец оторвать руки Тамары Иннокентьевны от себя (сухо затрещала разрываемая пижама), он грубо отшвырнул ее прочь, и она, болезненно вскрикнув, отлетела в угол кухни, ударилась об угол шкафчика плечом и затылком, с трудом переводя дыхание, едва не теряя сознание, она тяжело привалилась к стене, теперь уже приходя в себя и с удивлением глядя на бешено жестикулирующую и оттого особенно нелепую и жуткую фигуру Александра Евгеньевича в растерзанной пижаме, она с трудом удерживалась от припадка нервного, истерического смеха, душившего ее. Александр Евгеньевич продолжал что-то выкрикивать, она его не слушала, и он тогда опять было двинулся к ней.
— Не подходи! Не прикасайся ко мне! — Тамара Иннокентьевна старалась отодвинуться по стене от него как можно дальше. — Не подходи, мне гадко! Ты мне гадок!
Ее беспомощный крик отрезвил их обоих, вздрагивающими руками Александр Евгеньевич налил себе воды и, судорожно глотая, выпил, не глядя в сторону Тамары Иннокентьевны, у него сильно дрожали руки, и Тамара Иннокентьевна все еще не решалась сдвинуться с места, оторваться от стены, ей сейчас больше всего хотелось оказаться где-нибудь далеко-далеко от собственного дома, от этого проклятого места, где она столько раз теряла самое дорогое, она видела, что он был напуган случившимся больше ее самой, и опять прихлынувшее чувство собственной вины словно придало ей решимости.
— Мы не можем быть больше вместе, — твердо глядя ему в глаза, она точно бросилась в воду, больше всего она боялась опять пожалеть его. — Тебе нужно уйти.
— Знаю. — Александр Евгеньевич пригладил трясущимися руками всклокоченные волосы, запахивая на груди пижаму с почти оторванным, болтающимся воротом, она отметила, что даже в своем растерзанном виде он все-таки умудрялся казаться респектабельным. — Я знаю, я лишь одного хочу… Успокойся, не натвори глупостей. Пожалей себя, тебе никто не поверит и никто не поможет. Ведь у меня имя… Тебе ж придется уйти из консерватории, лишиться самого дорогого… да и заработка… Подумай о себе, не горячись…
Тамара Иннокентьевна хмуро кивнула:
— Ты прав, только я уже ничего не боюсь. Проклятая ночь, она выжгла из меня все живое, последние остатки… Уходи, Саня, уходи совсем, украл и уноси… Помни, тебе не будет счастья в жизни. Такое не прощается… Живи, процветай, наслаждайся властью, спи с хористками… Пользуйся, жизнь одна. Знай, ты никогда, никогда даже на сантиметр не приблизишься душой к Глебу! Украденное тобой погубило к тебе человека, погубит и художника, если он в тебе был. Ах, Саня, Саня, как же ты мог? — спросила она с отчаянием, не веря еще своим страшным словам. — Его кровь, его живой след на земле… Чудовищно. Как ты мог!
Глеб был великий язычник, жизнелюбец, что у тебя с ним общего? Он любил солнце, небо, землю, в нее и лег. Нет, Саня, тебе не будет прощения. Ты все, все кругом ненавидишь! Кроме себя.
— Замолчи! — оборвал Александр Евгеньевич, отчаянно пытаясь направить ее внимание на другое. — Что ты из себя корчишь героиню, кто, скажи, кто ты в этом мире? Кто узнает о твоем героизме? А вот что ты спала со мной, знают все…
— Не кричи, разговаривай спокойно, ты даже расстаться не можешь по-человечески, по-мужски, — остановила она его, и в ее голосе послышалась незнакомая ему сила. — Я не твой холуй, никогда им не стану. Мы не слышим друг друга, даже если кричим. А жаль, Саня. Твои холуи только поют тебе аллилуйю. Ты удобен. Никто не скажет тебе правду. Глеб нес в мир героическое начало. За то и погиб, а ты своей музыкой разъедаешь душу, вот ты и процветаешь, тебе это очень удобно, все разъять и разъединить!
Александр Евгеньевич шагнул было к ней, невыносимо было слушать ее, такую далекую и чужую, высказывающую несвойственные ей мысли. Не двигая ни одним мускулом и не опуская глаз, Тамара Иннокентьевна ждала, он не смог подойти, побито вернулся под ее взглядом на свое место.
— Если б кто знал, как я устал, — пожаловался он беспомощно. — Как я устал.
— Уходи, — попросила она, отворачиваясь от него и прислоняясь к стене, у нее уже не было сил держаться на ногах. — Уходи и только, пожалуйста, больше не возвращайся… Пожалуйста, уходи… Бога ради, прости меня. Я сама виновата, — добавила она, и он точно ждал ее последних слов.
Тамара Иннокентьевна не услышала ни его шагов, ни стука двери, лишь почувствовала свое полное, безраздельное одиночество.
5
Забывшись на какое-то время, Тамара Иннокентьевна опять оказалась в удивительной зимней ночи, но она уже знала, что подступила еще одна черта, теперь все, и уже давно ушедшее, и реальное, еще продолжавшее окружать ее, смешалось в ней. Она внимательно огляделась, в очертаниях знакомой мебели появилось что-то новое, контуры как бы утяжелились и в то же время стали менее определенными. Тогда Тамара Иннокентьевна поняла и тяжело, трудно, всей немощной, уставшей грудью вздохнула, кончилось временное, жалкое, раздражающее, и начиналась вечность, не подлежащая переменам. Она не испугалась, но, чтобы что-то еще ощущать, взяла в руки край пледа и стала мять его пальцами. Теперь она все видела в том особом разреженном свете, как бы льющемся сразу отовсюду и совершенно не оставлявшем затененных мест. Был свет, должный в свое время смениться тьмой, и тайн больше не было, вернувшийся Александр Евгеньевич поразился ее лицу. Он принес свежий чай и, помедлив, осторожно поставил на столик, она внимательно оглядела его, отмечая белую, как первый снег, манишку с серой бабочкой, резко контрастировавшую с измученным вконец лицом.
— Прости, приводил себя в порядок. — Александр Евгеньевич слегка коснулся пальцами груди и тут же нервно отдернул руку. — Как ты себя чувствуешь, Тамара?
— Спасибо, превосходно, — сказала Тамара Иннокентьевна значительно. Вспомнила, вспомнила…
— Все вспомнила? — спросил он с явной иронией, но Тамара Иннокентьевна посмотрела на него с грустью.
— Все, — коротко ответила она, не в силах перебраться через пропасть в двадцать с лишним лет, отделявшую сейчас в ее душе одного Саню от другого, с невольным интересом присматриваясь к нему нынешнему, сильно постаревшему, и пытаясь понять, что в нем осталось от прежнего, так цепко удерживаемого в памяти, и неприятно удивилась себе, в душе опять зашевелились ненужные чувства и обпды, словно это был он во всем виноват, хотя теперь она ясно понимала, что виноват он не больше других, не больше ее самой, и сейчас нехорошо видеть в его лице, в его образе свое собственное отражение и бессилие. И он не отводил от нее упорного взгляда, она бы сейчас могла радоваться, ведь давние ее слова оправдались, но в душе у нее не оставалось места для мелкого чувства.
Окликнув Александра Евгеньевича, она попросила его сесть ближе, помедлив, он устроился рядом на диване, и старые пружины под его тяжестью обессиленно застонали, Тамара Иннокентьевна поправила у себя на коленях плед.
— Я рада, Саня, вот ты опять здесь, — сказала она. — Спасибо тебе, я сейчас не одна. Ты не сердись, если я буду говорить глупо. Я ведь так ничего и не поняла в жизни, все проворонила… Мне кажется сейчас, ты вообще всегда был рядом, правда, странно?
Заставив себя взглянуть на нее, Александр Евгеньевич внутренне вздрогнул, выражение ее лица опять поразило его и испугало, она уже была отделена от него чертой, он опоздал, последнее ожидание рушилось. С трудом отведя глаза в сторону, стараясь не дать прорваться затаенной давней мысли, Александр Евгеньевич почувствовал отчаяние.
— Скажи, Саня, зачем ты пришел? — Тамара Иннокентьевна все так же светло смотрела на него.
В его напряженном сознании сверкнула спасительная мысль, он во что бы то ни стало должен убедить ее, судьба предоставила ему единственную возможность добиться ответа, добиться того, ради чего он жил и поднимался по ступеням все эти годы, все ведь относительно, а что, если он ошибался и в ту невероятно далекую декабрьскую ночь сорок первого ничего и не было? Или ему просто померещилось, сработала обстановка, горячечное воображение?
Или что-то в нем самом прорвалось, а он приписал весь этот взрыв эмоций Глебу.
— Я пришел получить прощение, — сразу устремился к цели Александр Евгеньевич, безошибочно чувствуя необходимость именно такого пути.
Строго на него взглянув, Тамара Иннокентьевна, как бы укоряя его за несерьезность, даже слегка улыбнулась, и постепенно глаза ее смягчились.
— Пожалуйста, ответь еще. — Тамара Иннокентьевна старалась говорить легко, без нажима, чтобы не спугнуть установившееся между ними доверие, Ты не боишься?
— Не понимаю. — Александр Евгеньевич, теперь полностью захваченный своей тайной мыслью, словно выдавливал из себя каждое слово. — Нужно чего-то бояться?
— Ты ведь так и не выполнил своего обещания, — напомнила Тамара Иннокентьевна, слабо грозя ему пальцем. — Ничего не напечатал у Глеба. А ведь теперь тебе ничего не стоило бы, всего ты добился, во всех президиумах сидишь, ни всех комитетах значишься. Вон депутатский значок носишь. Только и слышно-Воробьев… Воробьев… Воробьев… Какие только чины и эпитеты на тебя не навешали, а свое обещание ты так и не сдержал. Вот почему ты сейчас у меня. Ты хочешь, чтобы я до конца молчала, никому ничего не сказала.
— Всё те же ребяческие фантазии! — шумно отмахнулся от нее Александр Евгеньевич, в то же время внутренне содрогаясь от ее провидческой беспощадности, сейчас она была настолько близка к истине, что любое ее слово больно ранило. Лицо ее истончалось на глазах и начинало светиться каким-то тихим светом, и он, предпринимая отчаянное усилие, рванулся навстречу неизвестному. — Могло случиться и так, только ты ошибаешься, сказал он горячо. — Ты лучше любого другого знаешь мою жизнь… все эти побрякушки-для болванов, для меня-побочное, второстепенное, главным для меня было творчество, вот здесь…
— Здесь у тебя пусто, Саня, здесь тебе не повезло, — спокойно закончила за него Тамара Иннокентьевна. — Впрочем, как знать! Скорее повезло. Все подравниваешь под себя, под серость. Если бы Глеб остался жить, вы бы убили его! Засосали своей тиной… Все засасывается тиной, и гениальное и ординарное. Не различишь, где истинное, где временное, сиюминутное. Всем покойно, всем удобно… утрачиваются критерии…. все причесывается под одну гребенку, талант и серость приводятся к одному знаменателю. А живого, вечного вы не умеете создать… и ты тоже, Саня, хотя ты лучше других, у тебя хоть иногда гармония пробивается…
— Да, да, — подхватил он, решив больше ни в чем ей не перечить, — может быть, излишне строго…. но во многом справедливо, — заторопился Александр Евгеньевич, уловив еще новое изменение в ее облике, — ты имеешь право судить, по самому высокому праву. Что с тобой? Что случилось? Тамара! Что ты? — почти закричал он, бросаясь к ней, она остановила его легчайшим, почти невесомым жестом руки, черта, отделявшая их друг от друга, почувствовалась еще резче. Тамара Иннокентьевна как бы еще больше сосредоточилась в самой себе, глубже погрузилась в свое, по ее виду Александр Евгеньевич, хотя следил за малейшим ее движением, так и не догадался, что минутой назад она испытала одно из сильнейших когда-либо выпадавших на ее долю потрясений — у нее отнялись ноги, все тело ниже пояса как бы одеревенело, время от времени она продолжала попытки шевельнуть ногами, ставшими неподвижными, пугающе мертвыми, она не хотела, чтобы неожиданную, новую беду заметил или понял Александр Евгеньевич, и сейчас больше мучилась именно по этой причине.
От своей полнейшей беспомощности она было окончательно упала духом, но какое-то чувство ей тотчас подсказало, что это ненадолго. Она успокоилась так же внезапно, как и смертельно испугалась, нечто другое, более важное, мучившее ее в продолжение всей ночи, оттеснило второстепенное и ненужное, собираясь с духом, Тамара Иннокентьевна медленно и подробно оглядела комнату, громадный, удобный письменный стол (в старину люди были надежнее, основательнее и любили окружать себя такими вещами), затаившуюся, стройную массу рояля, старые массивные шкафы с книгами, затем опять вернулась к роялю. Нужно было решиться, в ней возник какой-то обратный поток: она увидела и себя, и Александра Евгеньевича, и всю свою жизнь совершенно в ином значении, и опять словно кто-то посторонний, невидимый, но бывший теперь неотлучно рядом с ней, подсказывал ей торопиться, уже был близок рассвет, буря усиливалась: Тамара Иннокентьевна увидела сейчас Москву, метельную, притом всю сразу, в снежных клубах и в ветре.
— Саня, Саня, — строго позвала она, и когда он встал перед ней во весь рост, с длинными опущенными руками, она с сожалением подумала, что он совсем уже старый, и только в глазах у него еще таился, ожидая своего часа, дьявол. У нее сейчас не оставалось выхода (обратный поток в ней. все усиливался), и она, попытавшись оправдать себя, не смогла, и в этот момент падения глаза ее вспыхнули каким-то внутренним светом, и ее состояние перекинулось Александру Евгеньевичу, он почувствовал освобождение от чего-то всю жизнь мешающего, ненужного, вся скверна жизни опадала с души тяжелой, лохматой массой, в нерассуждающем порыве благодарности он старчески неловко опустился перед ней, прижался губами к се горячей сухой руке.
— Саня, не надо, — опять откуда-то из своего немереного далека, отстранение и строго попросила она. — Не надо, не время. Ты меня всегда огорчал в жизни, Саня, теперь ты должен все исправить. Встань, пожалуйста. Не плачь, мужчина должен оставаться мужчиной до конца. Встань, встань, времени совсем не остается. Встань же!
Александр Евгеньевич поднял голову, вернее, ему показалось, что кто-то посторонний и беспощадный рванул его голову до резкой боли в затылке, запрокинул ее.
— Теперь ты меня бросаешь, — пожаловался он тихо. — Сначала Глеб, теперь ты. А мне что здесь делать? Что я без вас?
В другое время Тамара Иннокентьевна поразилась бы и его словам и их безысходности, но сейчас ока не обратила на них внимания, торопясь выполнить назначенное, она просто не слышала их.
— Саня, скорей! Ну что ты бормочешь? — возмутилась она. — Саня, возьми, возьми, — нетерпеливо потребовала Тамара Иннокентьевна, протягивая ему неизвестно как и откуда оказавшиеся у нее в руках ноты. — Иди, сыграй… Скорей, Саня, Санечка! Скорей… скорее… а то не успею…
Едва взглянув на потертую, износившуюся бумагу, Александр Евгеньевич с трудом устоял, ноги ослабли, сделались почти ватными, от радостного мучения сердца он не удержался, смахнул слезы, они застилали глаза, не давали видеть, едва взглянув, он сразу забыл обо всем на свете, перебирая дрожащими руками листы, он еще не мог поверить самому себе, свершилось, свершилось, сказал он себе, то, что мучило его всю жизнь своей недостижимостью, теперь было у него в руках, все случилось слишком просто, и он еще не мог прийти в себя, уже беглого, торопливого взгляда было достаточно, чтобы знакомые, снившиеся ему звуки вспыхнули в единый, стройный поток, исполненный высшей гармонии, высшего полета.
Александр Евгеньевич стоял потрясенный, у него в руках сейчас трепетало живым огнем само бессмертие, глаза у него горели, и целая буря была в душе, его взгляд невидяще блуждал вокруг, а руки сами собой сворачивали ноты.
— Саня! Саня! — в ужасе, бессильно закричала Тамара Иннокентьевна, и он, дико взглянув на нее, вначале не понял, затем лицо его исказилось раскаянием, он схватился за голову, приходя в себя, и бросился к роялю. По-прежнему трясущимися руками поднял крышку, раскрыл ноты и, не отнимая глаз от нот, стиснул кулаки.
— Не могу, — замотал он головой, и из него вырвался глухой стон. — Я не могу этого играть, — повторил он. — Боюсь. Меня словно держат за руки… страшно… Освободи меня.
— Играй, — раздался твердый голос Тамары Иннокентьевны, — играй, Саня… ты должен, ты обещал.
— Не могу.
— Трус! Ты должен, должен пройти через это, хоть под конец душа твоя очистится! Играй!
И такой силы был ее взгляд, что он не выдержал, подчинился, ударил по клавишам. И тут произошло чудо. Раздвинулись стены, распалась ночь, неведомые солнечные просторы затопили и прошлое и настоящее, водопад низвергающихся, возникающих из ничего звуков выстраивался в душе в одно единое звучание. И тогда Тамара Иннокентьевна увидела сверкающую, перекинувшуюся из края в край дорогу и, гибко, легко, молодо поднявшись на ноги, сбросив и оставив на тяжелом, вытертом, пропитанном неистребимыми запахами жизни диване свою уже немощную и ненужную оболочку, пошла по этой сверкающей дороге свободная, гибкая, молодая.
Кончив играть, Александр Евгеньевич сидел, бессильно уронив руки, опустошенный и потрясенный, сам еще не осознавая, что с ним и где он. Тамара Иннокентьевна хотела окликнуть его, но у нее не оставалось сил, все же она окликнула его и попросила вернуть ей ноты. Александр Евгеньевич не услышал или сделал вид, что не услышал, затем стремительно обернулся к ней, и Тамара Иннокентьевна увидела его помолодевшее лицо с безумными глазами.
— Зачем тебе ноты? Это преступно… прятать такое.
Это принадлежит всем, народу! Слышишь? — он остановился как вкопанный, прислушиваясь к глухим раскатам. — Слышишь? Гроза зимой, это что-то такое значит. Я ехал, даже молнии сверкали. Шофер говорил, что ничего подобного он никогда не видел…
— Отдай, отдай мне ноты! Я обещала! Я не могу! — опять потребовала Тамара Иннокентьевна, стараясь отдалить подбирающийся к сердцу холод и чувствуя, что, поддавшись минутной слабости, совершила непоправимую ошибку. — Ты должен сдержать слово… хоть однажды… или я тебя прокляну!
Остановившись перед ней, Александр Евгеньевич долго смотрел на нее в изумлении, затем поднял руки над головой, потряс ими и пронзительно, как-то трескуче захохотал.
— Невероятно! Невероятно! — повторял он между судорожными приступами смеха. — Отдать ноты! Невероятно! Нет! Законная плата за все, за все в жизни. Сколько я вынес от тебя, от него — Глеба! Это принадлежит народу.
Прятать — значит красть. Украденное возвращается к своему законному владельцу! не имеет значения, в какой форме это случится.
— Боже мой, какой же ты подлый, какой страшный, — теряя последние капли сил, неслышно прошелестела Тамара Иннокентьевна. — Отдай же! Отдай! — закричала она, но ей лишь показалось, что она закричала.
«Господи, где же ты? Есть ли на этом свете хоть что-нибудь святое? Глеб! Глеб! — неожиданно, как последней спасение и прибежище, вспомнила она и увидела его, молодого, бледного, с огромной шапкой спутанных волос, стоявшего возле рояля. — Глеб, Глеб! — жалобно рванулась она к нему. — Он хочет украсть твою молитву солнцу. Глеб, наконец-то ты! Глеб, я ничего не могла сделать, он…»
«Томка, Томка, ты что! Как можно украсть душу? — сказал Глеб и засмеялся. — Можно украсть бумагу, душу не похитишь, понимаешь, не украдешь. Душу можно только убить, мы ее убьем до лучшего случая. Пока на земле не станет чище. — Он опять засмеялся и легко провел ладонью по нотам. — Все, Томка, а ты боялась».
Жалко и радостно всхлипывая, не отрывая от него сияющих глаз, Тамара Иннокентьевна чувствовала освобождение от сковывающей ее тело тяжести, Глеб шагнул к ней, и она в страхе протянула руки, останавливая.
«Не подходи, — попросила она, в то же время мучительно желая хоть на мгновение прикоснуться к нему. — Не подходи ко мне, я безобразна».
Глаза у него по-прежнему молодо вспыхнули, он шагнул к ней, легко подхватил ее на руки, наклонился, целуя, и она узнала его запах, слегка горчащий запах молодой полыни.
«Нет, Томка, нет, — прошептал он ей, и ее лица коснулось его жаркое, свежее дыхание. — Ты прекрасна».
Тамара Иннокентьевна прижалась к нему и в полнейшем успокоении закрыла глаза.
Комната снова озарилась вспышкой бледной зимней молнии, невнятный прерывистый гул тронул стены, Александр Евгеньевич, давно следивший за Тамарой Иннокентьевной, за ее взглядом, напряженно устремленным в сторону, мимо него, не выдержал, закричал, стараясь подбодрить себя:
— Куда ты смотришь? С кем ты разговариваешь?
Голова Тамары Иннокентьевны сильнее вжалась в кожаную обшивку дивана, глаза ее остались широко открытыми, устремленными на рояль. Затаив дыхание, Александр Евгеньевич подошел ближе и попятился, он понял. Натолкнувшись спиной на угол рояля, Александр Евгеньевич резко, испуганно отскочил, оглянулся. Белое пятно нот бросилось ему в глаза, он жадно схватил их, это было спасение.
В следующую минуту лицо у него исказилось, редкие седые волосы стали дыбом, и невольный, невыносимый крик разорвал ему все внутри. В руках у него были совершенно чистые нотные листы, и сколько он ни вертел их, нигде не было ни малейшего знака. Не веря самому себе, он дрожащими руками нацепил очки, и опять ничего не изменилось-бумага была совершенно чистой и даже какой-то новой, хрустящей. Он опустился на колени, стал ползать вокруг рояля, заглядывая в каждую щель, в каждый угол, и наконец, почувствовав на себе чей-то пристальный тяжелый взгляд, он медленно встал. Глаза Тамары Иннокентьевны были устремлены прямо на него, с недоумением взглянув на зажатые в руке листы, Александр Евгеньевич с ужасом бросил их на крышку рояля, побежал было к двери и затем, воровато оглянувшись, вернулся назад мелкими, крадущимися шагами. Ничего не изменилось, бумага осталась по-прежнему нетронуто чистой.
Был рассвет. По заваленным снегом арбатским переулкам и тупичкам шел странный человек, старик, без шапки, без пальто, то и дело останавливаясь, он начинал что-то говорить самому себе, дворники, вставшие в это утро из-за метели очень рано, с интересом прислушиваясь, слышали только часто повторяемое одно и то же:
— Вспомню, все запишу… да, да, сам!
При этих словах он начинал хохотать, но лишь только кто-нибудь хотел приблизиться к нему, он с необычайной быстротой исчезал, так что даже дворники, народ бывалый, скептический и ко всему приученный, начинали сомневаться, уж не померещился ли им хохочущий старик из-за метели, нз-за необычной зимней грозы, продолжавшейся гад Москвой, то и дело испещрявшей буйное небо бледными вспышками.
Тайга (Повесть)
1
Все началось с того, что в диких, малообследованных Медвежьих сопках исчез почтовый самолет с трехмесячной зарплатой рабочих леспромхозов, звероводческих совхозов и других предприятий в верховьях Игрень-реки, и весть эта быстро распространилась по всей округе на сотни километров: назывались большие цифры-свыше миллиона рублей, а некоторые говорили о трех. Поиски с воздуха ничего не дали, и тот, кто хоть немного представлял себе Медвежьи сопки, не видел в этом ничего удивительного. Горный массив, захвативший сотни безлюдных квадратных километров, дикие, неприступные скалистые ущелья, распадки и склоны, тайга, заваленная вековым буреломом, метровыми снегами удивительной голубоватой чистоты, бездонные провалы, скрытые под той же слепящей и, казалось бы, совершенно безопасной, белизной, в которой каждая черточка осыпавшейся хвои слепит и радует — все-таки что-то живое, понятное, просто земное, тогда как эта сверхъестественная белизна была откуда-то из-за той грани, которую никогда не переступает живой человек, и живой зверь, и даже живая трава. Иван Рогачев, большой здоровый мужчина тридцати пяти лет, любивший пожить сладко и привольно, и особенно если это касалось второй, слабой половины, рода человеческого, лежал на деревянной широкой кровати в своем совершенно пустом доме и переживал. Его жену, молодую женщину двадцати семи лет, на прошлой неделе отправили на самолете в область, врачи открыли в ней какую-то непонятную болезнь, и теперь Иван Рогачев уже вторую неделю проводил в одиночестве. Характера он был общительного, широкого и доброго, и быть в одиночестве, одному есть, и растапливать печь, и стелить себе постель было для него чистым мучением. Так уж выпало, что, когда жена заболела (а Рогачев тайно любил свою Тасю и здорово ревновал), он взял отпуск, чтобы ухаживать за больной женой, первый за три года, до этого они отпуск с женой не брали (в этом, разумеется, был свой расчет — хотели взять сразу за три года и поехать на родину Рогачева, на материк, на Смоленщину). Отпуск ему неожиданно легко дали, хотя был самый сезон лесозаготовок, и рабочих не хватало. И вот теперь Рогачев, оказавшись совершенно не при деле, мучительно раздумывал, пойти ли завтра к мастеру и попросить наряд, или поехать в область, к жене в больницу, или выкинуть что-нибудь такое позаковыристей, он вспомнил, как перед вечером ходил в столовую, пытался подъехать к знакомой буфетчице, но попал, очевидно, не в добрую минуту, и буфетчица не приняла его заигрываний, и вот теперь он лежал и злился. Он был очень сердит на Зинку-буфетчицу, зная определенно, что она не обделяла своим радушием многих в поселке, а ему, здоровому, сильному, хорошо знавшему о своей мужской силе и привлекательности, она наотрез отказала, и он никак не мог этого стерпеть, он даже встал и, прошлепав босиком по настывшему полу, напился у порога ледяной воды и, несколько успокоившись, лег опять, сон не шел, лунные квадраты медленно передвигались по стене, побледнели и совсем истаяли, и тут в голову пришла замечательная, как ему показалось, мысль, он даже вскочил, обдумывая эту мысль со всех сторон, чего там, все проще простого, в Медвежьих сопках он не раз бывал и зимой, и летом, исходил их вдоль и поперек, бывало, до пятнадцати соболишек там брал, выкроив недельку-другую где-нибудь в разгар зимы.
Тоже прибыльное дело, соболь в Медвежьих сопках красивый, крупный идет высшим сортом, ничего особого, если он на пару недель оторвется в тайгу, сколько раз так бывало, и жена не удерживала, наоборот, весело и домовито собирала его в дорогу. Рогачев довольно завозился в постели, вспоминая свою маленькую, крепко сбитую кареглазую жену. Он решил завтра же написать Тасе сразу два письма, собраться и к вечеру отмахать верст этак сорок на своих старых охотничьих лыжах, приняв решение, Иван Рогачев успокоился и сразу же уснул. Утро было ясное и морозное, придя утром завтракать в столовую, сложенную из смолистых крепких бревен (столовую рубили прошлым летом — бревенчатый дом с просторным залом и низкими потолками, длинным рядом столов, сбитых из крепких досок, деревянным высоким буфетом местного же производства), Рогачев плотно поел, выпил два стакана компота и, покосившись на засиженные мухами плакаты о технике безопасности, заговорщически подмигнул хмурой буфетчице, е грохотом передвигавшей ящики в своем углу и, как пить дать, жалевшей сейчас о своей вчерашней холодности к нему, Рогачеву.
— Жалеешь, Зинок? Ну, признайся, жалеешь.
— Помог бы лучше, чем зря языком-то чесать. Шлендрают тут всякие. Ничего тебе не перепадет, проваливай, видишь, товар принимаю.
— И пожалеешь, да поздно уже, — притворно вздохнул Рогачев.
— Еще чего жалеть, всех не пережалеешь, много тут вашего брата ходит, искоса метнула Зинка в сторону Рогачева любопытный, оценивающий взгляд. Свою-то заездил, в больницу свез?
— Да нешто этим бабе можно повредить? — искренне удивился Иван Рогачев. — От этого она только распышнее. А ты погляди-ка вон на себя, Зинок, в буфете среди всякой сласти сидишь, а сама точно дрючок высушенный.
Буфетчица разозлилась наконец по-настоящему и пошла на него грудью, схватив попавшееся под руку грязное полотенце. Рогачев выскочил на крыльцо, очень довольный, что вывел все-таки ее из себя. Дойти по морозцу до дому через поселок в другой конец было делом нескольких минут.
Весь день до вечера Рогачев собирался, сосредоточенно и неторопливо, раза два еще сбегал в магазин и спать лег рано, спал крепко и без сновидений. Встал он затемно, вынес на крыльцо тяжелый, пуда в два с половиной, рюкзак, ружье, охотничьи лыжи, сходил к почте и опустил в ящик сразу два письма жене (почта была рядом, через три дома), потом, несмотря на сильный мороз, неторопливо покурил на крылечке, обдумывая, не упустил ли чего в сборах, затем крепко подпоясался, запер дом, сунул ключ в потайную щель, известную лишь ему да жене, и, навьючив на себя рюкзак и приладив винтовку, сунул широкие лыжи под мышку и тронулся. Было безветренно, и снег остро хрустел, а когда Рогачев вышел за поселок, рассветный мороз стал жечь сильнее, и у него мелькнула короткая мысль вернуться, он даже приостановился на минуту, но тут же двинулся дальше, говоря себе, что никто его в спину не гонит, но, думая так, он уже знал, что не вернется, какое-то ложное, но сильное чувство не позволило бы ему это сделать, Рогачев посерьезнел, и это опять вызывало нечто неприятное, это было словно в ощущении приближения тяжелой болезни или вообще какого-то большого перелома в жизни. Он шел ходко, ему явно некстати вспомнилось совсем уже далекое, еще с той довоенной поры, когда он был пятилетним мальчиком и были живы отец с матерью, вспомнились зубцы старой крепостной стены в древнем городе Смоленске, у которой отец любил с ним гулять, отец сильно подбрасывал его вверх длинными мосластыми руками и что-то говорил, улыбаясь, потом было лето и осень сорок первого года, грохот и стон умирающего города, из этой поры Рогачев помнил неясно, отрывочно, смутно.
И мать и отец были связаны с подпольем, и оба были расстреляны, но это он уже хорошо помнит, тогда ему было уже восемь лет. Он помнит замученную весеннюю ночь, когда мать в темноте (он навсегда запомнил ее белое испуганное худое лицо с сумасшедшими глазами) быстро одела его и, выталкивая во двор через заднюю дверь, твердила быстрым сумасшедшим шепотом:
— Беги! Беги! Беги, сынок! Милый, родной, скорей! Скорей!
— Куда, мама? — спросил он тогда, оглушенный происходящим, улавливая в темноте какое-то бесшумное, напряженное движение в доме и замечая темную фигуру отца с автоматом у светлевшего пролома окна.
Он не закричал и сразу подчинился матери и, замирая перед сырой весенней тьмой, побежал через двор к уборной, за которой знал дыру в заборе, унося на лице ощущение дрожащих, теплых рук матери, именно через них, через эти руки, все его маленькое тело впервые наполнилось животной, смертной тоской, и он, не останавливаясь, бежал и бежал, проваливаясь в какие-то ямы, лез через груды обломков и заборы и, наконец, обессилевший, забился под обломок стены в рухнувшем здании, и, размазывая слезы, начал безудержно, беззвучно плакать. И потом он уже больше никогда не видел ни отца, ни матери и лишь позднее, шестнадцатилетним парнем, уже будучи в ФЗО, узнал об их кончине. Захоронение их не было известно, и Рогачев, сидя перед усатым капитаном из КГБ, выслушал его рассказ в каком-то тягостном и замороженном состоянии, ему лишь хотелось как можно скорее вернуться в общежитие к ребятам. Когда рассказ капитана пришел к концу, Рогачев поблагодарил и, встретившись с внимательными глазами капитана, вышел из кабинета, все в том же заторможенном, отупелом состоянии, и, выйдя на улицу, тут же свернул в пустынный, безлюдный переулок, ему все казалось, что на него смотрят, отовсюду смотрят, и он не мог избавиться от этого ощущения. В тот день он плакал в последний раз в жизни, и ему все казалось, что на сердце ему кто-то сыплет колючую холодную пыль, в один час он перешагнул розовое поле детства и ступил в иной мир, в иное пространство и равновесие.
Рогачев глубоко и растроганно вздохнул и, свернув с дороги, приладил лыжи, перед ним стояла снежная тайга, без конца и края, начинался звонкий от мороза февральский день, и солнце косо скользило по верхушкам самых высоких деревьев, Рогачев шел легко и свободно, плотно слежавшийся к концу зимы снег хорошо держал его и лишь изредка проседал под лыжней, вес мысли отошли от него, и он весь отдался свободному непрерывному движению, белой, оглушительной тишине, по-прежнему не было ни малейшего шевеления воздуха, и старые, высокие ели стояли часто, голые в полствола, почти совершенно закрывая небо. Часа через два он минул эту полосу, и начался лиственный лес, теперь уже с елями вперемежку, и сразу стал чувствоваться некрутой, непрерывный подъем, и небо посветлело и раздвинулось, голубое молодое сияние ударило в глаза, такое небо всегда бывает в конце февраля. Вскоре и ветер потянул со стороны сопок, безмолвно поднявших свои острые вершины, сиявшие впереди нестерпимой белизной, Рогачев старался не смотреть в их сторону. За день он останавливался лишь однажды, поесть, согреть и напиться чаю, и к ночи вышел к знакомой горной речке, густо поросшей по берегам ольхой и тальником. Он немного не рассчитал, и до заброшенной охотничьей избушки на берегу ему пришлось добираться уже в темноте, за весь день он не встретил на своем пути ни одного следа, вполне вероятно, что в эту зиму сюда никто из охотников не забредал, про себя он несколько удивился, здесь уже встречался соболь, цепочки его следов Рогачев пересекал перед вечером трижды.
Расчистив от снега сколоченную из тесаных досок и расшатанную дверь, Рогачев поставил снаружи стоймя к стенд лыжи, затащил в избушку значительно потяжелевший к вечеру рюкзак и присел на голые нары, нащупав их по памяти: впервые за весь день, стащив шапку, он закурил. Огонек спички осветил черные бревенчатые стены с лохмотьями копоти в пазах, груду сухих сучьев у очага, сложенного из дикого камня, низкий бревенчатый потолок, тяжелую лавку и стол в углу, окна вообще не было. Не спеша докуривая и чувствуя, как отходят уставшие ноги, Рогачев посидел еще, отдыхая, затем стал быстро устраиваться.
Разжег огонь, поставил таять снег, достал крупу и кусок сухого мяса, после бесконечной утомительной белизны глаза отдыхали, он сварил крупяной суп и приготовил место для спанья, воздух в избушке постепенно нагревался, но стены оставались холодными, и именно через эти стены к нему пришло чувство отъединения от всего остального мира, по еле слышно звучавшим стенам он понял, что мороз в ночь еще усиливается, он с жадным аппетитом съел суп и мясо, вычистил снегом котелок и поставил греть чай, дрова горели дружно и ярко, старый запас их был невелик, но на ночь, должно, хватит, Рогачев подбросил в огонь три полена потолще и с тяжелой, расслабляющей сонливостью в теле прошел к нарам, уже через силу бросил на нары полушубок и лег, заснул он еще в движении, когда ложился, и стал слышен уже один только негромкий голос огня в очаге, треснет перегоравший сучок, осыплется раскаленный уголь. Настывшие за зиму бревна в стенах постепенно прогревались изнутри, и потолок начинал сыреть. Рогачев спал крепко, несколько часов подряд на одном боку, и проснулся в самое начало рассвета от холода бодрым, отдохнувшим и, полежав минуты две, соображая, вскочил, принялся весело разводить погасший огонь. Камни очага были теплыми, и он задержался на них ладонями, посматривая на слабый огонек, постепенно набиравший силу.
Поставив котелок на огонь, Рогачев вышел из избушки и задохнулся сухим, веселым морозом, тайга уже выступила из белесой, предрассветной мглы, и раскаленный восток взбух и придвинулся к земле, а дальше к северу снова отчетливо прорезались острые вершины сопок. Наверное, на все полсотни натянуло, подумал Рогачев, пряча в карманы застывшие руки и подергивая мускулами лица, сразу охваченного морозом. Ему хотелось увидеть момент восхода солнца, и он потоптался на месте, с неосознанным удовольствием чувствуя, что прочная и легкая оленья одежда хорошо держит тепло. Он громко и протяжно закричал, пораженный своим одиночеством, и, вслушиваясь в ответный гул тайги, бездумно засмеялся, вот пошел, и хорошо, хорошо, такого нигде больше не испытаешь, только здесь, на Севере, подумал он.
Светлело с каждой минутой, деревья вокруг проступали в чистейшей тишине, краем показался огромный и бледный диск солнца, и Рогачев, весь напрягшись, ждал, пока колючий холодный сноп его лучей ударит в глаза, зажмурившись, он отвернулся, в глазах расходились черные круги. Он вернулся в избушку, позавтракал, затем, взяв маленький походный топорик, пополнил запас дров, на снегу вокруг избушки появилось живое кружево следов, и Рогачев, внезапно затосковав, все медлил и не решался отойти от места своего короткого ночлега в белую, нетронутую даль, но идти было нужно, и он, скользя по твердому насту, пересек речку, не торопясь поднялся по распадку между двумя сопками, редко поросшему ельником и березкой, и шел опять не останавливаясь до трех часов. Отмерив себе остановку у сломанной старой березы, он в начале четвертого с размаху остановился, так что снежная пыль веером поднялась над лыжней, сбросил рюкзак и стал готовить место для ночлега. Он выбрал отвесную каменистую скалу, расчистил у ее основания снег до самой земли, свалил две сухостойны, разрубил их и, перетащив к скале, разжег огонь, еще нужно было приготовить поесть, нарубить еловых лап для спанья, и Рогачев заторопился, силы ему было не занимать, и он работал споро и с удовольствием. Хотя он и устал, но его усталость была легкой, привычной как после обычного рабочего дня, и, уже засыпая после всех хлопот и чувствуя у себя на лице приятную теплоту от ровного огня, он подумал, что уже успел за эти два дня соскучиться по живому человеческому голосу, нужно было бы взять с собой собаку, но ведь ее нужно кормить, тут же сонно подумал он, окончательно засыпая.
Слабое чувство тоски и подавленности от безмолвия осталось в нем и во сне, и в следующие третий, четвертый и пятый дни усилилось, Рогачев иногда даже останавливался и, освобождая уши от шапки, пытался уловить хотя бы какой-нибудь звук.
В начале второй недели запас продуктов уменьшился вполовину, Рогачев исходил район Медвежьих сопок вдоль и поперек и успел до самых глаз зарасти черной, густой щетиной, пора уже было думать о возвращении, и он, радуясь предстоящей встрече с Тасей, довольно посмеивался.
Пора, пора и домой, говорил он, кого это я удивлю своими подвигами, разве что буфетчицу Зинку, тайная мысль, которую он гнал от самого себя, найти останки разбившегося самолета — казалась теперь смешной, посреди всего этого огромного, бесконечного, равнодушного безмолвия.
Нет, надо же подумать, захотел найти какой-то паршивый самолетишко среди этого страха, да тут тысячу лет будешь ползать, костей своих не соберешь, не то что самолет.
И живность вся точно вымерла, хотя бы в насмешку баран какой завалящий попался или олешек, да ведь все словно вымерло, точно чума какая прошла или холера, один только раз и видел каменного соболя.
Рогачев открыл глаза после полуночи от холода, поправил костер и теперь никак не мог заснуть, пялился в черное, с ледяными колкими звездами небо, думал о жене, теперь она уже дома наверняка, зря ее, наверное, в область и таскали, какая там болезнь, баба кровь с молоком, в ней каждая жилочка играет, Рогачев засопел, заворочался, вспомнив жену, так, блажь какая-то, что хочешь отыщут эти доктора, дайся только им в руки. Недаром он, Рогачев, за семь верст их обходит. Но дело не в этом. Вот вернется Таська домой, а его нет как нет, и на столе лежит путаная записка, и в ней сказано, что ему-де захотелось побродить по сопкам, ну, она подумает-подумает и пойдет с подружками в клуб, а в поселке полно молодых парней, голодных, как волки по весне. Долго ли перемигнуться да столковаться да, заслышав тихий стукоток в окошко, встать и откинуть крючок, а там разбирайся, как случилось, дело живое, горячее. Вот он тут загорает возле костра, а там небось…
От такой невероятной, незаслуженной обиды Рогачев окончательно разволновался и расхотел спать, решив утром же, затемно возвращаться обратно, тем более что харчей оставалось ровно на шесть-семь дней, как раз впритык дойти, довольно накручивать и взвинчивать себя, ну даже нашел бы он эти миллионы, ну и что дальше? Куда бы он их дел? В банк не положишь, детям (которых, кстати, пока тоже нет) не оставишь по отходной, можно было, конечно, уехать с Таськой куда-нибудь к теплому морю и прокутить все в два-три года, было бы что вспомнить, да ведь кто в Тулу со своим самоваром ездит? Дурак дураком ты, Иван, герой без крылышек, больше ничего по такому случаю и не скажешь. Государству этот твой подвиг тоже не нужен, государство крутанет машинку, сколько хочешь миллионов отстучит, успевай мешки подставлять. А те несчастные миллиончики вместе с самолетом и одним-двумя бедолагами спишутся в графу убытка по случаю несчастья и суровой северной местности, и дело с концом, точка.
И кончай бродить, каждый должен свое родимое дело знать, пахарь-ковыряй себе землю, слесарь-возись с железом, а если ты лесоруб — у тебя в руках тоже своя профессия, не хуже иных прочих. А пропавшие самолеты пусть ищут те, кто к этому делу приставлены, а то, пока ты геройства ищешь, собственную жену уведут, днем с огнем потом не вернешь.
Настроившись таким образом, обрадованный и освобожденный от сомнений, Рогачев перед самым утром забылся коротким сном и еще затемно, точно от толчка, проснулся, быстро, без суеты собрался, позавтракал слегка, лишь только заглушил чуть-чуть чувство голода, чтобы легче было идти, и отправился в обратный путь. Тело было легким, по-молодому подобранным, он наметил себе путь напрямик и, пробежав километров пятнадцать под уклон, остановился поправить лыжи и, внезапно охваченный каким-то предчувствием, взял винтовку в руки. Это странное предчувствие опять хлынуло на него, когда он уже собирался двинуться дальше, и он долго и напряженно осматривался, затем пробежал немного назад, метров двести, и остановился как вкопанный, точно его лыжня пересекала другой, чужой след, который он при быстроте движения не заметил, по который все же каким-то образом отложился в нем и заставил его вернуться. Чудеса, подумал Рогачев, больше озадаченный, чем обрадованный, машинально отмечая про себя, что чужие лыжи чуть уже его собственных и короче, и что человек, видно, сильно устал и потому шел неровно, и что весил он немного и был небольшого роста.
Надо же угораздить, сказал Рогачев, озадаченный еще больше тем, что неизвестный прошел недавно, ну, может, даже сегодня рано утром, и что шел он в сторону совершенно безлюдную и дикую, к юго-западному побережью, где лишь в периоды сельдяной путины можно было наткнуться на людей. Или он спятил, подумал Рогачев, даже ведь до пустых бараков не дотянет, верст шестьсот-семьсот с гаком придется отмахать. Рогачев находился в двойственном состоянии: во-первых, ему хотелось проследить, откуда и почему лыжня протянулась из безлюдных Медвежьих сопок и что там делал человек, а во-вторых, ему хотелось, несмотря на все ночные доводы, во что бы то ни стало пойти по следу, догнать незнакомца и убедиться своими глазами, что он есть на самом деле, существует, очень уж неожиданной была на этом нетронутом снегу лыжня.
Рогачев пробежал по следу назад три километра, поднялся на склон высокой сопки и остановился в раздумье, лыжня огибала склон и терялась в редкой тайге, в распадине. По-прежнему ослепительно сияли снега, было безветренно и оглушительно тихо, глаза уже начинали побаливать, и Рогачев все время напряженно щурился. Он прикинул в уме, на сколько еще ему хватит продуктов, и решил, что дней пять вполне можно протянуть, он принадлежал по натуре к характерам сильным и не терпел неопределенности ни в чем, казалось, он чего-то не доделал, хотя бы мог. В той стороне, откуда тянулась лыжня, находилась самая глухая и непроходимая часть Медвежьих сопок, и было непонятно, что там мог делать человек, разве какой-нибудь отчаянный охотник из местного населения приходил пострелять соболей, соболь тут водился знатный.
Рогачев тут же отбросил эту мысль: сезон давно кончился, еще с месяц назад областная газета писала о том, что план добычи мягкого золота, в том числе и соболей, выполнен на двести тридцать процентов. Хотя, конечно, и это ничего не значило, мог охотиться какой-нибудь сорвиголова-одиночка, но тогда какого черта его понесло к юго-западному побережью? Может, какое-нибудь кочевье? Хоть все равно, ни один охотник не решится идти на охоту почти за тысячу верст, здесь что-то не то. Рогачеву уже до невозможности хотелось размотать эту неожиданную загадку, и, так как он был твердо уверен, что больше сорока-пятидесяти километров в ту сторону, откуда тянулся след чужой лыжни, пройти невозможно, он решил потратить на это сегодняшний день и, поправив тощий мешок за спиной, пустился в путь, в остром предчувствии каких-то новых открытий и ощущений, подспудно в нем уже брезжила одна потаенная мысль, но он гнал ее, и она, возвращаясь, усиливалась, и Рогачев окончательно утвердился, что эта чужая лыжня связана с исчезнувшим самолетом, он бежал, разгорячившись, быстрее, не пропуская, однако, ни одной мелочи я пути. Мелькнула мимо молоденькая елочка под неправдоподобно огромной шапкой снега, он, отметив про себя остановку того, чужого, внимательно на ходу осмотрел снег кругом, не брошено ли чего.
Скатываясь со склонов и замедляя движение на подъемах, Рогачев заметно напрягался (пройденное расстояние уже давало себя знать ощутимо) и километров через двадцать остановился: след лесенкой уходил круто вниз, в заросшее густой неровной тайгой ущелье. Солнце клонилось к вершинам сопок, и Рогачев видел сверху дружно заполнившую ущелье тайгу, равнодушно сиявшую под косым холодным солнцем, снегу-то, снегу там, безразлично и вяло подумал он и начал осторожно спускаться. Еще одна мысль мучила его, ведь должен же был тот чужой откуда-то прийти, несомненно, но откуда?
Уже метров через двести, еще издали, Рогачев все понял, и сам удивился, как у него может так сильно биться сердце, перед ним было место крушения, узкая, сбитая силой падения самолета, проплешиной искалеченная тайга, куски покореженного железа и два изуродованных до неузнаваемости трупа, один почти перебитый пополам, со смятой головой, другой вообще как мешок с перемолотыми костями свисал с расщепленной пополам толстой ели метрах в пяти от земли, на той же высоте завис обломок самолета.
Видать, тянули до последнего мгновения и почти дотянули до земли, помешали деревья, ну что бы ровная площадка, полянка какая-нибудь. Рогачев с ожесточением пнул попавшуюся под ноги корягу. Видать, надеялись до конца, думали выжить и ведь почти дотянули! Рогачев уже знал, что денег, если они даже уцелели в катастрофе, здесь больше нет, тот, чужой, побывал тут, и то, что тот, чужой, до сих пор незнакомый и глубоко безразличный ему человек, не позаботился о трупах, бросив останки летчиков на произвол равнодушному безмолвию, как бы празднующему свое превосходство (окружающую его тайгу и белое безмолвие снега Рогачев теперь воспринимал как нечто одушевленное и враждебное), на съедение таежному зверзо и птице, обожгло его, Рогачева, незлобивого, общительного и жизнерадостного человека, ненавистью к тому неизвестному. Рогачев затравленно озирался в беззвучном сумраке глубокого ущелья, пораженный не только разрушительной силой маленького самолета, смерть пахнула ему в сердце, последний час, последняя минута людей, еще думавших долго жить, но помышляющих о смертном часе, в какой-то момент ему послышался крик, метнувшийся по елям и застрявший в толстом метровом снегу. Освободившись от лыж, поставив рядом с ними ружье и сбросив мешок, Рогачев внимательно и подробно исследовал место катастрофы, стараясь все запомнить, иногда проваливаясь в снежные наносы с головой и отчаянно ругаясь, мертвых летчиков, вернее, то, что от них осталось, он собрал вместе, их останки замерзли и стучали, как камни, но они были легче камней, и Рогачев машинально отметил это про себя. Он вырыл в снегу яму, сложил в нее останки и, пользуясь топором, завалил их валежником, сверху приладил длинный шест с большой тряпкой на конце, примотав ее найденной проволокой намертво, остатки комбинезонов на летчиках смерзлись от крови и прикипели к телу, он не стал отдирать их и отыскивать какие-либо бумаги. Выбившись окончательно из сил, измученный близостью этих изуродованных, совсем еще недавно молодых и сильных тел и невозможностью помочь и изменить что-либо, Рогачев собрал немного валежника и нагрел кипятку, вяло пожевал сухого мяса, нужно было торопиться, след чужой лыжни не шел из головы. Хотя было уже поздно и лучше было остаться в ущелье на ночлег, Рогачев решил во что бы то ни стало сегодня вернуться к тому месту, где его лыжня впервые пересекла чужой след, и поэтому через силу, тяжело, надсадно, отдыхая на особо крутых местах, он выбрался из ущелья и, не останавливаясь, повернул назад, предварительно замотав лицо теплым шарфом и оставив лишь узкую щель для глаз. Мороз к вечеру усилился, и встречный ветер жег, сопки на западе, охваченные предзакатным огнем, горели в таком ожесточенном холоде, что Рогачев нет-нет да и поглядывал на них украдкой, чем-то смутно встревоженный.
2
Погоню за собой Горяев почувствовал на вторые, вернее третьи сутки, хотя вокруг беззвучно, как и вчера, расстилалась слепая вездесущая белизна, остановившись вчера для очередной передышки и оглянувшись назад, на уменьшившиеся проклятые сопки, из каменных объятий которых он наконец вырвался, Горяев сначала не поверил, решил, что ему просто мерещится, слишком напряжены были нервы, не только от невероятной удачи, но и от мыслей, охвативших в цепкое кольцо позже, случившееся представилось ему с другой стороны, и его впервые пробрала тоскливая дрожь. Жил себе, как все люди, работал, находилось время и на спирт, и на баб, и вот теперь у него за спиной в рюкзаке десять тысяч в крупных купюрах, в банковской упаковке, остальное (он даже боится представить себе эту цифру) надежно упрятано в резиновом мешке в приметном месте, известном ему одному. Ну, дело сделано, допустим, и что дальше, что ему делать дальше с этаким-то богатством? Да ничего, тут же постарался он успокоить разгоряченные мысли. Только бы добраться до места, не вызвав подозрений, понадежней упрятать взятые с собой деньги, о сберкассе пока думать нечего, надо затаиться и выждать, уляжется шумиха, вызванная исчезновением самолета, утихнут страсти, схлынет острота, а там дело покажет. Всегда можно затеряться, не здесь, конечно, где каждый человек наперечет, зато уж потом он поживет в свое удовольствие, один раз за всю жизнь, пусть теперь другие осваивают этот дикий Север, он и без того отдал ему больше шести лет, раз ему сверкнула сумасшедшая удача, можно и пожить по-человечески.
Все эти несвязанные мысли промелькнули у Горяева, пока он стоял, встревоженный необъяснимым чувством опасности, он знал Север и привык к нему. Вот так не раз приходилось бродить по тайге или тундре, обычно он всегда использовал свой отпуск в зимнее время, приурочивая его к соболиному сезону, облавливая распадки Медвежьих сопок и сбывая потом шкурки в частные руки, и вдруг ему действительно в первый раз по-настоящему повезло. Нехорошо, конечно, нужно бы сообщить людям о месте катастрофы, но мертвым ведь все равно, мертвым не больно, он, кажется, где-то читал об этом. Скорей бы, скорей прийти на место, пока его не хватились, впрочем, кто станет его искать? Кому он нужен, скромный бухгалтер, взявший две недели отпуска за свой счет? Никто даже не подумает искать его в Медвежьих сопках, в двухстах километрах от того места, где он тихо жил и работал в конторе, составлял ведомости на зарплату рабочим сплаврейда, подсчитывал количество поступающей древесины и рубли, десятки, сотни тысяч рублей, особенно в осенние месяцы, у него на глазах сплавщики сотнями швыряли деньги направо и налево, он и за год не мог заработать столько, сколько выплачивалось им за сорок — пятьдесят рабочих дней. Не отказываться же от своего счастья, и ему удача не с неба свалилась, сколько раз он слышал, что Медвежьи сопки с востока недоступны, а вот он нашел проход и сам сколько раз оказывался над обледенелыми пропастями, однажды почти два часа отодвигался еле заметными микроскопическими движениями от неожиданно открывшейся прорвы, отодвигался и чувствовал, как она держит его и при малейшем неосторожном движении мускулов тянет назад вниз, он этого ощущения до сих пор не может забыть.
Сверившись по компасу, Горяев пошел дальше, точно на юго-запад, местность все время понижалась, и бежать было легко. Хорошо, поднялась бы пурга, неожиданно подумалось ему, сразу бы все сомнения и страхи кончились, невероятно для этой местности, вот уже месяц жарят морозы, а стоит ясная, безветренная тишь. А может, вернуться, стать героем, пропечатают в газетах, гляди, и главбухом станешь, а то и в трест возьмут, подумал он со злой насмешкой к себе, будешь аккуратно, за исключением, разумеется, двух выходных, надевать ровно к девяти нарукавники, считать чужие деньги, ездить с отчетами в область, женишься в конце концов на какой-нибудь самке, привыкнешь к тому, что ты серость, не предназначенная природой к большему, а сложись твоя жизнь по-иному, может, и явился бы миру второй Наполеон или еще какое историческое лицо, оставил бы после себя память. А так что? Работай до честной пенсии, может, и расщедрится судьба на медаль, а то и на орден, придет время, отнесут его вместе с тобой на кладбище два-три человека, если выпадет хорошая погода, скажут речь в предвкушении выпивки и забудут на другой же день. А в мире всего довольно, и до сих пор есть полководцы, гаремы, и где-нибудь на экваторе люди все еще ходят голыми.
Разгоряченный бессвязными и отрывочными мыслями, Горяев забыл на время об испугавшем его предчувствии, и к вечеру, когда пора было останавливаться на ночлег, тревога опять охватила его, и он, взобравшись на возвышенное место, недоверчиво и долго осматривал белые безмолвные окрестности, сюда он никогда не забредал, низкорослая тайга тянулась редкими островами среди гольцов и низин, что указывало на близость тундры, безотчетная жалость к себе и страх перед этой бесстрастной пронизывающей мощью пространства сковали его, и он не сразу смог двинуться с места, хотя надо было спешить к ночлегу, укрыться на ночь.
Выбрав расщелину между двумя гольцами, Гораев кое-как очистил необходимое место от снега, наломал сушняку и, хотя раньше думал обойтись эту ночь без костра, все-таки разжег огонь и, содрав с лица обледенелый шарф, повесил его на корягу просушить. Затем, чувствуя от тепла еще большую усталость, пересмотрел оставшийся запас пищи, разделил ее мысленно на десять дней (на большее при всем желании не хватало), жадно, обжигаясь, напился кипятку и съел, не чувствуя вкуса, часть сухарей, предназначенных на сегодняшний день. Внутри отошло, отогрелось, и, хотя есть захотелось больше, он позволил себе выпить лишь еще котелок кипятку и, поправив дрова, задремал в тепле, отражаемом от гольцов, доставать и разворачивать спальный мешок у него недостало сил, хотя обязательно нужно было снять торбаса и просушить отсыревшие портянки. Он проснулся часа через два от холода, костер догорел до углей, он быстро наладил огонь, достал и развернул спальный мешок, снял торбаса и юркнул в настывший густой мех, необходимо во что бы то ни стало выспаться перед неизвестностью завтрашнего дня, согревшись, он даже не вспомнил о своих вчерашних страхах, но наутро, одевшись и уже приготовившись встать на лыжню, Горяев замер: в чудовищной давящей тишине он уловил далекий, может за километр или за два, скрип снега и вначале подумал, что ему просто почудилось. Через несколько минут этот же скрип повторился, уже ближе и сильнее.
Кровь застучала в висках. Горяев метнулся в сторону, скрываясь за гольцами. В глаза ему ударило солнце, он переменил место и теперь, заслоняя глаза, мог смотреть в ту сторону, откуда шел и сам, и вскоре на склоне одного из распадков километрах в двух от себя увидел быстро катящуюся вниз и, несомненно, по его, Горяева, следу человеческую фигурку, и, хотя она была вполовину меньше обычной, он тотчас определил, что его преследователь высок и молод.
Минуту или две Горяев думал, затем быстро спустился вниз, взялся за лямки мешка, но тотчас бросил его наземь.
Уходить было бессмысленно, Горяев задохнулся от подступившей к сердцу ненависти. Не дадут ведь уйти, проклятие, один раз человеку повезло, так ведь не оставят в покое, всю душу вытрясут, сам с повинной придешь… И откуда его принесло, ишь торопится, с ненавистью смотрел Горяев на увеличивающуюся, ходко вымахивающую фигурку, охотник из местных или так, бродяга, искатель приключений? Ишь торопится, Одиссей, нет, не в добрый час ты сюда сунулся, если бы можно было по-человечески договориться и в разные стороны. Так ведь нет же, кодекс. Ах, сволочи, сволочи, бессильно ругался Горяев, чувствуя, что мешок за спиной жжет лопатки. Так вот взять и отдать свой единственный шанс слепому случаю? Но ведь этого верзилы могло и не оказаться на дороге, и тогда он, Горяев, клерк, вышел бы победителем, тогда до конца дней он мог бы диктовать судьбе, никто бы не посмел ему приказывать.
Значит, все дело в том, что их дороги скрестились. Его, горяевская, и этого верзилы? Но кто его просил лезть, тайга велика, здесь и разминуться и потеряться не долго, был человек, и нету человека, ищи иголку в сене. Находят потом обглоданные кости, да и те не соберешь. Все эти бессвязные мысли путано промчались в одну секунду, что делать, что делать? Каменея лицом, Горяев почувствовал пальцами затвор (исстывшее железо обожгло), холодно и бесстрастно, как если бы за него думал и рассчитывал кто-то совсем сторонний, другой Горяев рассчитал, что незнакомец по его лыжне пройдет мимо гольцов, почти рядом, ветра нет, он не учует. Более удобного момента не представится. Горяев приготовил лыжи, в любой момент можно было встать на них и покатиться в сторону, вниз, и стал ждать, и но тому, как размашисто и ходко шел незнакомец, Горяев окончательно понял, что он один и совершенно ничего не подозревает. Легонько пошевелив затвором, проверяя и примериваясь, он еще глубже втиснулся в расщелину, вот уже пронзительно-резкий скрип снега совсем рядом, и тут же Горяев увидел выкатившегося из-за гольца высокого, умело и прочно одетого человека, мешок и винтовка были у него за спиной, и на мгновение руки у Горяева дрогнули, но только на мгновение, он выступил из расщелины, повел мушкой, ловя левую сторону спины, в тот же момент оглянулся. Что дальше произошло, Горяев не мог потом понять, он выстрелил раз и другой, но незнакомец проявил удивительную подвижность и прыть, понесся сумасшедшими зигзагами и на глазах у растерявшегося Горяева влетел, пригнувшись, в таежную глухомань, заполнившую один из распадков, и пропал. Вскинуть за спину и закрепить мешок-дело нескольких секунд, руки дрожали и не попадали в лямки, проклиная себя и свою торопливость, Горяев бросился в другую сторону, не выпуская винтовки из рук. А может, все-таки этот («этот» Горяев выговаривал с ненавистью и страхом, то и дело липкой волной приливавшим к телу и ногам), этот подстрелен и теперь отстанет? В сущности, он и хотел только пугнуть, ненароком все вышло, ведь раньше он и о существовании его ничего не подозревал, зачем он ему сдался, ах, если бы ударила пурга, почти молил он, я бы от него в два счета оторвался, поминай как звали. Подожди, тут же остановил он себя, пурга-то пургой, но ведь он, этот, молчать не будет, а может, уже и у самолета был, а если нет, побыть может. Хватая легкими сухой, обжигающий воздух, Горяев спустя час или полтора непрерывного петлянья по распадкам на минуту приостановился, освободил от меха уши, которые тотчас схватило пронзительным морозом, и прислушался, ничто не говорило о том, что за ним кто-то идет, и все же Горяев до самого вечера продолжал бежать, бросаясь то в одну, то в другую сторону, а перед самым вечером, сделав огромный крюк, вернулся к намеченному заранее месту, у своего следа, и затаился, решив ждать здесь хоть сутки и теперь уже бить наверняка. Мучила жажда, он не решался развести даже небольшой огонек, который сразу бы выдал место, где он находится. Пришла ночь, все было спокойно, к полуночи Горяев почувствовал, что, если сейчас не напьется, сойдет с ума или околеет, хватая обжигающий снег и пытаясь утолить им жажду, обламывая нижние, омертвевшие сучья старой низкорослой ели, он развел под ее прикрытием небольшой огонек и, натопив снегу, выпил сразу целый котелок обжигающей, пахнущей дымом воды, сжевал сухарь и стал ждать рассвета, спать ему не хотелось, и, когда прошел остаток ночи, и утро, и потом еще полдня, он почти поверил, что незнакомец и встреча с ним — всего лишь случайность, так неожиданно закончившаяся для обоих, ему даже мучительно захотелось вернуться назад к каменным гольцам, посмотреть по снегу, не ранил ли он этого, пересилив себя, усмехаясь припухшими губами, он быстро собрался и, затоптав следы костерка, пошел дальше, не оглядываясь. Была все та же безлюдная, слепящая белизна вокруг и маленькое злое солнце, катящееся низко над горизонтом. Горяев подумал, что потерял почти двое суток, и шел теперь, присматриваясь, в этих местах должны были попадаться дикие олени, может быть, и снежный баран или кабарга подвернется, потому что все еще тянулись предгорья.
3
Выстрела почти в упор, в спину, Рогачев, разумеется, не ждал, и, если бы не интуиция, заставившая его в последний момент оглянуться, его Тася, да и никто в поселке так никогда бы и не узнали, где он сгинул, через десять или двадцать лет кто-нибудь, вероятно, и наткнулся бы на его кости, если бы их к тому времени песцы не растащили и не изгрызли в голодные зимы, долгое время после столкновения с Горяевым Рогачев, не в силах успокоиться, ругался последними словами. «Так ты думаешь, что и ушел? спрашивал он. — Нет, брат, черта с два я тебя теперь выпущу, сволочь, ведь ты меня убить хотел и убил бы, не промахнись. Ты не для острастки стрелял, это я точно знаю, я твои глаза подлые запомнил, уж я за это над тобой похохочу, не будь я Иван Рогачев».
Все-таки одна из пуль задела его, прошла под мышкой, порвав кожу, но крови было мало, и она сама остановилась, Рогачев обнаружил это лишь вечером, устраиваясь на ночь, и его неприязнь к человеку, которого он никогда не видел, не знал и знать не хотел и который чуть не убил его ни за что ни про что, усилилась. «Сволочь, — ругался Рогачев, — мог бы по-другому. Вот, мол, у меня миллион, давай по-братски, потолкуем, вот тебе треть или даже четверть, и ступай, откуда пришел, я тебя не знаю, ты меня».
Задумавшись над таким забавным оборотом дела, Рогачев прикинул, как бы он поступил, и тут же почувствовал загоревшееся от стыда лицо, он вспомнил заледеневшие, окровавленные мешки с перетертыми костями — все, что осталось от двух летчиков, и впервые в жизни ощущение возможной и даже близкой смерти, бродившей где-то в белых снегах, совсем неподалеку, в облике заросшего неопрятного и нестарого еще человека с цепкими глазами, сжало сердце. Здоровый и сильный, никогда не знавший раньше ни больниц, ни болезней, ни дурных мыслей, он сейчас напряженно вглядывался в темноту, она уже не казалась принадлежащей единственно ему, когда, прочищая легкие, он радостно кричал на заре, встречая солнце и чувствуя себя в этот момент его единственным властелином. И хотя внешне как будто бы ничего не изменилось, и небо было то же, что вчера, и холодные, крупные звезды все те же, он никак не мог заснуть и все прислушивался к мягкому треску дров в костре, и удивительные, непривычные мысли рушились на него. Незаметно мысли его перекинулись на другое, он в который раз уже задумался над тем, почему остался в этом чужом диком краю, бросил завод и уже почти десять лет работает в леспромхозе.
Сначала после армии хотелось погулять, повидать новые края, да и заработать, потом вскоре и пила нашлась, первая жена Настюха, худая злющая баба, все пилила, мечтала сколотить денег на домок, она был из гжатских, землячка, это на первых порах их и сблизило, да и что молодому парню было надо, надоело скитаться по общежитиям, он, сколько помнил себя, другого жилища не знал, из ремесленного на завод, с завода в армию, затем Север.
Чисто выдраенными желтыми полами, да лоскутными разноцветными половичками, да пышной геранью пленила его сердце Настюха, только все это быстро кончилось, и растащила их жизнь клещами в разные стороны. Ничего, расстались они мирно, по-хорошему, в чем был Рогачев, в том и ушел из Настюхиных хором, все нажитое оставил ей, чем, видно, и улестил ненасытное Настюхино сердце. Ничего, в ее хомут охотники найдутся, не у всех ведь ветер в голове и душа нараспашку, только ж… голая, говаривала частенько Настя, суча шерсть или меся тесто, — руки ее всегда были заняты, язык-тоже. Всем вышла Настюха, все у нее на месте, кроме сердца, вместо него, наверное, исписанная до корочек сберегательная книжка.
Рогачев перевернулся на другой бок, поворочался, устраиваясь удобнее. И черт его знает, как она складывается, жизнь, с Тасей все было по-другому, вроде и он, Рогачев, был прежний и в начальство не вылез, по-прежнему гонял до седьмого пота на своих лесосеках, а радость из их дома не выходила. Характер у Таси был легкий, все у нее спорилось, и звонкий голос ее слышался в доме с утра до вечера, с тряпкой она за ним по дому не ходила, подбирая следы от его сапожищ, и зарплату проверять не бегала. Но и Тася тоже стала частенько заговаривать об отъезде, о возвращении на материк, в Россию. «Я уже, Ваня, забыла, как вишня-то цветет, — жаловалась она ему, и при этом глаза ее становились детскими и круглыми. — Или мы не люди, и на солнышке погреться хочется, раздевшись походить, из шерсти ведь не вылезаем круглый год, окромя консервов, не видим ничего». Рогачев с ней соглашался, и самому хотелось побаловаться морем и песочком, поесть заморских апельсинов, которых, говорят, в Москве на каждом шагу, как в тайге грибов, пройтись чертом по ресторанам, но какой-то внутренний бес держал и не отпускал его сердце от Севера. В прошлый раз, еще до женитьбы с Тасей, он ездил на родину, на Смоленщину, но никто не ждал, не встречал его, все казалось ему чужим, а вернее, он сам был здесь всем чужой, ненужный, неинтересный. Да и разные перелески показались ему до смешного маленькими, тесными, обжитыми настолько, что негде, казалось бы, походить здесь с ружьишком, все трещало и лопалось по своим швам, потому что швы оказались узкими и тесными для раздавшегося, привыкшего к немереным тундровым просторам Рогачева. И он затосковал, не дождавшись окончания отпуска и растратив с попутными, всегда к такому случаю многочисленными, дружками отпускные, кое-как наскреб деньги на самолет до Игреньска и рад был без памяти, очутившись в игреньском знакомом дощатом аэропорту, и пил без просыпа на радостях (уже на чужие, угощал кто-то совсем ему не известный из соседнего леспромхоза, летевший в отпуск на материк), а потом добирался на попутных к себе в леспромхоз.
За этими приятными воспоминаниями Рогачев заснул.
Несколько раз за ночь он просыпался, высовывал голову из спального мешка и прислушивался, теперь уже не было ощущения всепоглощающей безраздельной тишины, где-то недалеко был человек, и Рогачев чувствовал его и напряженно ждал в этом залитом звездным мраком огромном пространстве, к утру он даже решил все бросить и вернуться домой, теперь, наверное, и Тася с ума сходит. Да и что ему? Вернется, заявит обо всем в милицию, пусть ищут, как ни мал человек, не затеряется бесследно, да еще с миллионами в придачу. «А то, что он хотел тебя прихлопнуть? — тут же поймал он себя. — Так и проглотишь?»
Обидно ведь, какой-то хмырь, не оглянись, и не было бы на свете Ивана Рогачева. «Да ведь у тебя продуктов на несколько дней, — тут же подумалось ему, — только-только домой добежать. Подстрелит он ведь тебя из-за какой-нибудь кочки, этот, видать, ни перед чем не остановится, если его брать, так только хитростью и не голыми руками».
И все же наутро Рогачев опять пошел по чужой лыжне, зорко всматриваясь во все стороны, и, если видел впереди навалы камней, гольцы или заросли кустарника, то есть все то, за чем можно было укрыться, делал большой крюк и поэтому не дошел в этот день до того места, где Горяев ждал его, но на второй день к полудню он сразу нашел это место среди развесистых низкорослых елей, лыжня снова повернула прямо на юго-запад, ровная полоска лыжни уводила все дальше и дальше. «Решил, что отстал, — усмехнулся Рогачев, — проворный, гад, резво мечется».
Прошел день и второй в беспрерывном скольжении по ослепительно одинаковым снегам, местами пространство переходило в совершенно ровную плоскость, и идти было легко, но на третий день незнакомец стал забирать все больше к югу, что озадачило Рогачева совершенно, он подумал, что если так пойдет дело, то они опять вернутся к Медвежьим сопкам, или с ним что-то стряслось, решил Рогачев, или опять коленце выкинуть задумал, да и вообще он, кажется, начинает крутить не в ту сторону, тут же начинаются Хитрые гольцы, зимой по ним разве сумасшедший отважится пройти. Но Рогачев стал двигаться осторожно, размереннее, с внутренней готовностью столкнуться в любую минуту с какой-нибудь неожиданностью и, переночевав еще раз в удобном, защищенном от ветров месте, с утра опять отправился по чужой лыжне, теперь он до мельчайших подробностей знал характер этой чужой лыжни, знал, когда человек начинал уставать, знал, когда он особенно нервничал, а когда был настроен уверенно и свободно. Сразу же вскоре, как он выступил с места ночлега, его охватило неясное, тревожное предчувствие, он останавливался, пристально вглядывался в причудливые формы гольцов, часто покрытых широкими шапками снега, и начинал все упорнее думать, что как раз и пришла пора все бросить и вернуться. Он увидел впереди, километрах в двух, голец, торчащий много выше остальных, и решил дойти до него и возвращаться.
4
Горяев остановился на ночлег именно у этого гольца, с трудом набрал немного сушняку, выдергивая его из-под снега в зарослях стланика и карликовой березы рядом.
В предвкушении недолгого, необходимого отдыха, теплоты огня и кипятка он заторопился, сходил за сушняком раз, другой, он был почти уверен, что его преследователь теперь отвязался, и собирался хорошенько отдохнуть. Можно было еще с час идти, но сил осталось слишком мало, он нарочно пошел через Хитрые гольцы, и теперь не знал, выберется ли из них сам.
Случайно взглянув вверх, Горяев выпрямился, потянул руку к глазам. Голец странной, причудливой формы, похожий на вставшего на дыбы медведя, возвышался над остальными метров на пятьдесят, пятясь задом, Горяев медленно обходил его, стараясь рассмотреть его вершину, он только помнил потом, что из глаз выметнулось небо, цепляясь за снег и обрушивая его вслед за собой, он скользнул по какому-то косому склону, оборвался и полетел вниз, снег забил ему глаза, снежная масса, летевшая с ним вместе, издавала искрящийся холодный шорох, и это, наряду с мучительным ощущением останавливающегося сердца, было последнее, что Горяев помнил, последовал тяжелый удар о слежавшийся многометровый снег на дне провала, и этот скопившийся за долгую зиму снег спас его, но минут десять Горяев лежал без сознания, а когда очнулся, некоторое время никак не мог вспомнить, где он и что произошло, тьма была вокруг, и он, с трудом высвободив руку, отодвинул снег от лица. Было холодно, Горяев попытался встать и неожиданно легко высунулся из снега, серый полумрак ударил по глазам, и он, привыкнув, увидел каменные отвесные стены вокруг и высоко вверху небольшое продолговатое отверстие в слое снега, которое он пробил, сорвавшись в провал, светилось недостигаемое далекое небо вверху, и Горяеву казалось, что он различает даже искорки звезд. Выбравшись из рухнувшего сверху снега, Горяев задрал голову, лицо его от страстного ожидания чуда разгорелось.
— Люди, эй, люди! — кричал он. — Там у меня в мешке веревка есть должно хватить! К краю близко не подходи! За что-нибудь закрепись сначала! Люди, люди, эй!
Корка слежавшегося снега в провале была крепкой и свободно держала его, он ходил в каменной западне метров двадцать в длину и пятнадцать в ширину из конца в конец, согреваясь, и часто кричал вверх, его голос гулко отдавался назад от камня вокруг и снега вверху, мелькнувшее в самом начале подозрение, что никто его здесь вовсе не услышит, теперь перешло в уверенность, и Горяев, сразу обессилев, почувствовал выступивший по всему телу холодный пот. Минут на пять ослабел и обмяк, боясь даже подумать, что теперь с ним будет. Он еще, уже без всякой надежды, покричал и стал тупо обходить и разглядывать отвесные стены провала. «Ночью конец», — подумал он почти безразлично, в то же время припоминая до мельчайших подробностей все за последние дни. «Дурак, дурак, — бессильно ругал он себя, — подыхай, раз тебе так захотелось. Сам себя в могилу загнал, ты тут сто лет, как мамонт, пролежишь, ведь снег, видать сразу, до конца в этой прорве не тает».
В одном месте он нашел забитую снегом щель и стал бешено разгребать снег и, пробившись метра на два, бессильно опустил руки. Это была всего лишь выбоина в скале, у самого дна провала, он словно попал в ледяную пещеру с острым сводом, выбравшись из нее, Горяев опустился па корточки, прислонился спиной к холодному, тяжелому камню, ноги не держали. «Прежде всего, успокоиться, — приказал он себе, хотя ясно понимал, что это конец. — Ну что успокоиться, под снегом обязательно должно быть какое-нибудь топливо, а спички с собой. Только бы докопаться, хотя бы небольшой огонек, дня два-три продержался бы, ведь мало ли, могут хватиться, искать пойдут, а тут дымок». Он ведь, кажется, писал в заявлении на имя начальника сплаврейда Купина, человека удивительно энергичного и вспыльчивого, что отправляется побродить в Медвежьи сопки на одну-две недели, — кажется, писал… Писал или нет? Писал, писал, теперь он точно вспомнил, писал и даже обещал обрадовать его парой первосортных каменных соболишек на разные там бабьи выдумки, ухватившись за эту призрачную мысль, Горяев уже думал, что, если бы топливо, он бы и всю неделю продержался, а там бы его обязательно нашли. Он наметил место, куда, по его мнению, по весне и летом в дожди должно было сверху нести всякий сор, и стал разгребать снег, углубляясь в него все больше и больше, он разбрасывал его руками и ногами, как зверь, всей тяжестью тела отодвигал в стороны грудью и уже пробился метра на два вниз, под руки ему стали попадаться камни, и скоро он наткнулся на старый толстый лиственничный сук, затем попалась какая-то измочаленная щепка: по коре он определил-еловая. Когда он добрался до самого дна, он едва не заплакал от радости. Все дно в этом месте было устлано толстым слоем старой травы, битых веток и даже каких-то обмызганных обломков бревен, укрепившись после острого обессиливающего приступа радости, Горяев стал рвать из-под снега и через час натаскал большую груду дров, несколько сырых, как он чувствовал, но и был уверен в своем искусстве и скоро стал ладить костер, отщипывая от выбранного материала тонкие щепочки охотничьим ножом, который всегда находился с ним в походах у пояса. Он священнодействовал, складывая щепочки на плоский камень, освобожденный им от снега, и, когда все было готово, извлек из внутреннего, нагрудного кармана спички, заложенные в презерватив и несколько раз перевязанные, это был неприкосновенный запас, которому были не страшны любая вода и сырость. Он не любил этих резиновых штучек и пользовался ими лишь в своих охотничьих походах вот для таких целей, но сейчас он без удержу расхваливал неизвестного ему деятеля, придумавшего их когда-то, это его несколько развеселило, и он зажег спичку уже спокойно, дождался, пока не загорится тоненькая острая щепка и, наслаждаясь самим видом огонька, бережно поднес его к сложенному костру. Он знал, что все будет в порядке, он испытал странное чувство страха и удовольствия, наблюдая, как огонь переходит со щепки на щепку, наконец начинает одолевать и более трудные сучья, и все это время старался тише дышать. Несмотря на усталость и подступившее чувство голода, он не удержался и сделал вокруг костра несколько диких прыжков, затем сел и стал думать, как ему теперь напиться, в одном месте на камне было небольшое углубление, и туда уже ползла темная струйка воды, а когда костер разгорелся вовсю, Горяев придвинул к нему снегу побольше-и скоро пил с камня теплую, пахнущую дымом воду, стараясь наполнить ею пустой желудок. Ну, теперь жить можно, думал он расслабленно, как бы сливаясь с вязким сухим теплом, распространявшимся вокруг костра, преодолев усталость и неожиданную сонливость от тепла, Горяев встал, из сучьев и поленьев устроил место рядом с костром, где он мог бы лечь. Часы показывали третий час, даже в провале, перекрытом толстым слоем снега, было еще достаточно светло, скользя взглядом по стенам провала, Горяев обнаружил, что они кверху сходятся, остается лишь длинная щель метра в четыре, вот ее-то каким-то образом и перемело, а он и влетел в этот каменный мешок. Огонь есть, вода тоже, он ведь давно уже привык довольствоваться малым, можно было отрезать от верха торбасов полоску кожи, опалить и пожевать, а большего человеку в его положении и желать нечего. Завтра с утра дело покажет, и осмотрится внимательнее, а сейчас нужно заняться ужином.
Горяев отвернул во всю длину голенище левого торбаса, выбрал остроконечную щепку, проткнул ею отрезанную полоску оленьей кожи и поднес к огню. Шерсть вспыхнула мгновенно, и в ноздри ударил едкий запах паленой шерсти и жира, Горяев опалил кожу до чистоты, соскоблил ножом, снял с нее гарь, затем еще несколько минут подержал на огне. Кожа вздулась, стала толще, и от нее теперь шел совершенно уже раздражающий вкусный запах. Горяев резал ее горячую на мелкие куски и ел, и, когда полоска кончилась, чувство голода лишь усилилось, но он твердо решил, что на сегодня хватит, поправил костер. Кстати, и рукавицы успели высохнуть, и было совершенно тепло, он свернулся у огонька и, не думая больше ни о чем, попытался уснуть, какие-то судороги в желудке мешали, и Горяев, поворочавшись, приподнялся, напился с камня и опять сжался на сучьях, нужно еще было просушить носки, но он решил, что успеет, закрыл глаза, от пережитых волнений в теле стояла слабость, и мысли были рваными, беспомощными.
Он неожиданно вспомнил давнее, институтское, полузабытое — сверкающий в вечерних огнях город, мокрый асфальт, свою первую и последнюю привязанность к женщине, оказавшейся иного рода, чем он привык считать. Вначале ей нравилась его собачья привязанность, они столкнулись у входа в театр в первый раз, и тотчас, едва взглянув в ее широко распахнувшиеся, безжалостные глаза, он понял, что погиб, и от этого непривычного, удивительного чувства предвидения собственной беды у него закружилась голова, хотя он продолжал беспомощно улыбаться.
Он был молод и, несмотря на заурядную внешность, заносчив и хотел было пройти мимо, по его против воли остановило, как от сильного встречного удара, женщина все с тем же торжествующе отсутствующим выражением обошла его (он хотел и не мог посторониться) и исчезла среди колонн, а он все стоял, и какой-то странный слепящий свет постепенно наполнял его. Он уже знал, что она хоть однажды будет принадлежать ему, и готов был заплатить за это любой ценой, он был согласен на все. И он не ошибся, но и сейчас, оказавшись заброшенным на другой конец страны, в совершенно иные условия, ни разу не пожалел и не пожалеет, то, что с ним случилось, было великой радостью и великим счастьем. С тех пор как он уехал сюда, на край ёемли, прошло уже больше десяти лет, он не писал и не получал писем и не знал, что с ней, да и не хотел знать…
Вот и прошла жизнь, неожиданно подумал Горяев с коротким смешком, от которого он еще больше стал противен себе, ни детей в мир не пустил, ни памяти о себе не оставил. «Прошла? — тут же спросил он и возмутился: — Ну это мы еще посмотрим, прошла или нет, час подводить черту еще не наступил».
5
Они уже встречались больше месяца, и он медленно привыкал к ее странному характеру, а она к его заурядному облику ординарности, как она любила говорить, особь мужского пола, ничем не отличающаяся от других, но это было неправдой, иначе она бы оставила его тут же, среди колонн, в безжалостном, желтом свете догорающего дня, в нем чувствовался тот скрытый, бушующий огонь, что обязательно когда-нибудь прорвется, и ей хотелось дождаться этого. Горяев знал, что он не один у нее и ему она уделяет как раз самые крохи своего времени, жалкие остатки от других или другого, когда ей становилось плохо и когда можно было всласть натешиться своей безграничной властью над ним. Он принимал эти отношения с внешней покорностью и терпением, ничем не выдавая бушующего а нем огня, он ждал, в надежде взять реванш, она догадывалась и умело поддразнивала его, не подпуская близко.
Ей подсознательно нравилось чувствовать себя могущественной в отношении этого неотвязчивого, тихого парня со светлыми глазами, в которых плясала иногда тысяча чертей, и пусть он заканчивал всего лишь какой-то там примитивный финансово-экономический и будет, самое большее, прозябать где-нибудь главбухом, он ей в чем-то становился необходим. Горяев ждал своего часа, и он наступил, однажды она пришла к нему чем-то расстроенная и обозленная, он вышел на кухню сварить, как обычно, кофе, в огромной коммунальной кухне (на пятом курсе он позволил себе роскошь снять комнату) судачили, как обычно, несколько соседок, они обшарили его любопытными глазами и понимающе переглянулись, когда он вернулся. Лида плакала, опустив голову на стол, он осторожно без стука поставил чайник и два стакана и все это время смотрел на ее затылок, волосы у нее здесь были мягкие, шелковистые, не съеденные краской. Да, сегодня мой день, подумал он а не почувствовал радости.
— Да брось, Лида, — он слегка притронулся к ее волосам, чтобы почувствовать их мягкость, и тотчас отдернул руку, словно от удара. Брось, не плачь.
— Я не плачу, — сказала она, поднимая голову, и он увидел ее сияющие ненавистью золотистые глаза.
— Вот и отлично, всё ведь, ты знаешь, трын-трава, — сфальшивил он, потому что именно в этот момент думал как раз обратное и нетерпение его становилось опасным.
— Не надо, — коротко остановила она его руки, достала из сумочки тяжелую серебряную с чернью пудреницу.
Он ничего ей не сказал и тут же забыл о ее словах, он с самого ее появления сегодня знал другое: будет так, как он захочет, игра и поддразнивание кончились, сегодня oн нужен ей и был полон чувством того, что должно произойти и произойдет непременно. Он, как всегда, аккуратно резал колбасу складным ножом, наливал в стаканы какой-то скверный портвейн (на большее у него не было денег) и по тому, как Лида пила, видел, что пьет она редко, она опьянела почти сразу и сделалась милее и проще, по-детски смеясь над своей беспомощностью.
— Пьяна, — сказала она, — совсем пьяна. Вася, Вася, точно тебя толкают из стороны в сторону. — Она засмеялась, взглянула на Горяева и с внезапно затвердевающим лицом попросила поцеловать ее.
Горяев осторожно обошел ее и открыл окно, с улицы ворвался теплый ветер и захлопал шторой, Горяев долго не мог справиться с ней.
— Ты не хочешь меня поцеловать? — Глаза Лиды удивленно раскрылись. — Но это же чудесно, тогда я сама тебя поцелую!
Она поцеловала его сильно, почти по-мужски больно и, не отпуская от себя, показала глазами на свет, хотя теперь даже снег или вода уже не остановили бы их, Лида почти сразу же заснула, а Горяев все никак не мог оторваться от ее длинного, мучительно прекрасного тела, он целовал ее спящую, и ему казалось, что он сходит с ума от усилившегося желания, она принадлежала теперь ему, и раз, и другой, и третий, но желание лишь усиливалось, он почти не помнил себя и того, что делал.
Ближе к утру он на полчаса словно провалился в сон, открыв глаза опять, Горяев испуганно приподнялся и тотчас откинулся назад, засмеялся, она была рядом и по-прежнему спала, он чувствовал ее ровное, бесшумное дыхание своим телом, слегка отодвинувшись, он встал, прошел к столу, небо только занималось, и слабо посвистывала какая-то пичуга, это были лучшие часы его жизни, он это знал, и теперь безразлично, что будет дальше. А дальше было все то же, и много хуже, потому что привязанность к нему со стороны Лиды после этой ночи уступила место неприязни и скоро перешла в откровенное страдание, ей нравилось и хотелось с ним спать, но она считала его слишком ничтожным, чтобы сойтись на всю жизнь, она даже не скрывала своего презрения к себе за то, что привязалась к нему физически, в свою очередь он мстил ей ночами, мучил своей ревностью, своей ненасытностью, заставляя приходить в неистовство, в эти минуты он был ее господином, ее богом, и она выполнила бы все, что он захочет, этих минут ему было достаточно для ущемленного самолюбия, а наутро все начиналось сначала.
— Боже мой, как я тебя ненавижу! — сказала она как-то в минуту откровенности. — Ну почему, почему именно ты?
Горяев во время этих вспышек молчал, стараясь чем-нибудь занять руки, он мог ее ударить, да, он знал, что им недолго осталось быть вместе и скоро все это кончится, но так же точно он знал, что всю свою жизнь она его не забудет, и со всегдашней своей тихой улыбкой смотрел на нее, точно на ребенка.
— Ну почему ты молчишь, скажи что-нибудь, не молчи!
— А что говорить, Лидок, все же сказано, я воинствующая серость, ты ждешь принца с алыми парусами, остается лишь узнать, когда мы встретимся. Как обычно, в пятницу.
— Никогда, — хотелось ей крикнуть — «никогда я больше не приду», но сил уже не было, эти объятия изматывали их обоих, и она ведь столько раз давала себе слово не при.
И все же наступило время, когда она перестала приходить, и Горяев, хотя был готов к этому и приучил себя к этой мысли, потерял голову, часами простаивал у ее дома, почти преследовал ее. Он понимал, что этим ничего не исправишь, и не мог остановить себя, он чувствовал, что у него появился соперник, и во что бы то ни стало стремился увидеть его, но Лида избегала его, и ей удавалось ускользнуть от него, и ожесточение его нарастало, он должен был знать, на кого его променяли, и в этом своем стремлении был злобен и жалок.
Горяев задремал незаметно и, как ему показалось, тот час открыл глаза, костер ровно горел, и темнота уже сгустилась, дальних стен провала не было видно. Горяев вскочил на ноги и в следующую минуту почувствовал судорожную длинную боль в сердце.
— Эй, послушай! — донеслось сверху. — Там есть кто-нибудь живой?
Переждав, дав сердцу немного успокоиться, Горяев, стараясь не выдать волнения, отозвался:
— Слышу. Есть, провалился ненароком.
— У тебя все в порядке? — высоким криком спросили сверху, и было странно слышать живой человеческий голос.
— Кажется, все.
— Сейчас веревку спущу. Черт, запуталась, ничего, у меня крепкая, капрон.
Горяев почувствовал, насколько взволнован человек наверху, испугался за какую-нибудь неловкость с его стороны.
— К провалу не подходи близко! — предупредил он криком. — За какой-нибудь камень привязывайся… Там у меня в мешке тоже веревка осталась, достань, одной, пожалуй, не хватит.
Прошло еще минут десять, прежде чем конец тонкой капроновой веревки оказался в руках у Горяева, он обвязался под мышками, еще раз все проверил, в последний момент ему стало жалко собранных зря дров, он засмеялся и крикнул вверх начинать подъем и, услышав утвердительный ответ, почувствовал натянувшуюся веревку и стал карабкаться на стену. Рукавицы он снял и засунул за пазуху, он уже не думал о том, что тот, чужой, может отпустить веревку где-то у самого верха, но на всякий случай лез так, чтобы в случае чего можно было грохнуться в глубокий снег, веревка то натягивалась, то ослабевала, цепляясь за малейшие неровности и выступы, Горяев время от времени отдыхал и давал отдохнуть Рогачеву. Примерно на полпути ему попался выступ, и он, предупредив Рогачева, отдыхал минуты две, все время чувствуя под собой пустоту и придерживавшую его сверху веревку, ноги подрагивали, и было жарко, даже изодранные о камень руки были горячими, вторая половина подъема оказалась легче, стена теперь не обрывалась отвесно, а шла кверху с небольшим уклоном, и подниматься стало проще, минут через двадцать Горяев отполз от края провала и долго лежал, приходя в себя, Рогачев, не теряя времени, стал рядом раскладывать костер, о чем-то спрашивал, но Горяев молчал, ему не хотелось говорить. Рогачев стал варить мясо, и в небе уже горели холодные, частые звезды, Горяев подошел к костру и сел, протянул к теплу руки, он никак не мог заставить себя взглянуть на Рогачева, но, когда мясо сварилось, Горяев, потирая руки, поднял голову.
— Вот такие дела, — скупо уронил он и сразу же увидел дико блеснувшие в свете костра глаза Рогачева.
— Они, дела, всегда такие, — непонятно отозвался Рогачев, раздумывая, что же ему делать дальше, после целого дня почти беспрерывной ходьбы зверски хотелось есть.
Рогачев осторожно снял котелок с огня, достал мясо и заметил, как Горяев отвернулся.
— Послушай, ты, — сказал Рогачев с усмешкой в голосе. — Давай, что ли, знакомиться. Меня Иваном звать, по фамилии — Рогачев. Тот самый, которого ты на днях чуть на тот свет не отправил.
— Ерунду не мели, — услышал Рогачев простуженный, низкий голос. Никого я на тот свет не отправлял… Ну, а с тобой как-то странно вышло, и лица не успел различить.
— А на тот свет всегда странно отправляют. — Рогачев присвистнул, деля мясо на две части. — У тебя кружка есть?
— Была. Меня Василием звать. Горяев.
— Может, и так.
Рогачев поел, но успокоиться не мог, над ним теперь было в льдистых искрах звезд небо, был свободный простор, иди куда хочешь, и в ужасающей тишине темнели в небе старые вершины гольцов, привычный и все-таки какой-то новый, по-другому воспринимаемый мир, провал в пятидесяти метрах от него все время чувствовался, и казалось, что из него порывами тянуло пронизывающим сквозняком.
— А ты бы меня ведь бросил там, случись наоборот, — Рогачев говорил убежденно, с каким-то детским обиженным удивлением, словно сейчас только уверился в этом, увидев собственными глазами Горяева. Он с любопытством, подробно и без стеснения рассматривал его и видел, что Горяев еще не пришел в себя и не знает, как ему держаться. — Подлец ты невероятный, Горяев, — сказал он озадаченно и даже весело. — Я вот тебя кормлю, пою, а ты меня чуть на тот свет не отправил. Вот тут ты мне и растолкуй…
— Не отправил же, что об этом поминать…
— Значит, не поминать, ишь ты, мягкозубый какой выискался! — удивился еще больше Рогачев, присматриваясь внимательней к своему неожиданному собеседнику.
— Напрасно привязываешься, случайно вышло, от неожиданности, закачалась на снегу большая, резкая тень Горяева. — Кто же думал в такой пустоте наткнуться? Один шанс из тысячи, — Горяев все так же прямо глядел на Рогачева, стараясь не выпустить его глаз. — Один раз не попал, а вторично, когда выпало, не смог, видишь. Слушай, ты прости меня, я сам не понимаю, что это со мной стряслось. Прости, ну вот прости, слышишь, я ведь только человек, не бог, ничего лишнего не хотел.
— Лишнего не хотел? Стряслось? — переспросил Рогачев и крикнул: Хватит! Сядь ты по-людски. Что ты качаешься, как гидра? И без того в глазах рябит. Думаешь, кто-нибудь тебе поверит? Ты с меня дурачка не строй, мозги не завинчивай, высветился до самого донышка.
Горяев сел на место, взял рукавицы и спрятал в них замерзающие руки, сделал он это машинально и сидел, похожий на крючок, пригнув голову к коленям, он понимал, чувствовал, что ему важнее всего сейчас заставить понять именно этого человека, в которого он стрелял, который случайно оказался на его пути и был не виноват в этом.
— Ты действительно не виноват, Иван Рогачев, — машинально говорил он вслух свою мысль. — В чужую шкуру не влезешь. Ты вот сидишь судишь меня, а по какому праву?
— Что ты обо мне знаешь?
— Чего? Чего? Я сужу? — запоздало изумился Рогачев. — Ты, часом, не псих? Может, случайно не в ту дверь выпустили?
— Подожди, Рогачев, успокойся. Не псих, на учете не состою и ниоткуда не сбежал, — остановил его Горячев с возбуждением, у него все росло желание переломить сидящего рядом, пусть совершенно чужого и ненужного ему человека. — Ты послушай, это нам только внушили, что все вершины доступны, что жизнь как линейка… Как встал на дорожку-и на другом конце свои почетные похороны видишь, с оркестром, речами и орденами на подушках. Собачья чушь это, Рогачев, в жизни не так…
— Зря митинг открыл, — остановил его начинавший утихать Рогачев. — Да у тебя что, с собою склад с продтоварами? У меня нет, мне каждый час дорог…
— Час ничего не изменит, Рогачев. Уж в этом ты можешь быть уверен. Продуктов у меня на два дня, если их есть теперь по чайной ложке. Ты, верно, проверил и спрашиваешь.
— Не успел, — Рогачев сощурился на костер, втягивая ноздрями запах талого от огня снега. — Тебя спасать кинулся, только вот затвор у тебя и успел вынуть. А то, думаю, второй раз не промахнется. Затвор у меня, уж не посетуй.
— Ничего, ничего, — равнодушно сказал Горяев, все так же размеренно покачиваясь перед костром. — И подохну, ничего в мире не случится, никто не заметит. Людей слишком много развелось, они друг другу мешают, хотя нас только двое среди всего этого, — он, теперь уже с определенным выражением какого-то отчаяния и отрешенности на лице, повел головой вокруг на просторно и беспорядочно расставленные гольцы, купающиеся в жидкой жесткой голубизне, тишина, ясность и пустота были столь ощутимыми, что нельзя было не подумать о выжидающем присутствии еще кого-то всесильного, нельзя было представить себе, что эта торжественная и ужасающая картина могла организоваться сама по себе, без всякого разумного вмешательства. Низкое солнце давно уже вышло из-за гор и наполняло все пространство вокруг гольцов еще чем-то новым, оно теперь не было столь отрешенным и чистым, и все-таки по-прежнему это была особая, подавляющая мощь, разлившаяся над творением великого мастера, и чувствовалось, как глубоки и обширны пропасти вокруг, не предусмотренные и не рассчитанные для живого, но ведь и это смертно, подумал Горяев с каким-то мучительным восторгом в себе, почти в бешенстве от желания внести в этот каменный, равнодушный, замкнутый в своей гармонии мир живую краску, хотя с ним рядом был живой человек, он задыхался от одиночества.
— Рогачев, Рогачев, — пробормотал он почти скороговоркой, но Рогачев его понял. — Послушай, давай разделим эти деньги. У меня с собой немного, там они все, в ущелье, в каменном мешке, я их хорошо запрятал. Я тебе скажу где, там много, достаточно, чтобы многих сделать счастливыми, но ведь нас только двое. Ты только не молчи, — добавил он, встретив посерьезневший, жесткий взгляд Рогачева. — Кричи или ругайся, а то я с ума сойду, слышишь, Рогачев.
— Что? Что? — спросил Рогачев, придвинулся ближе, Так и не дождавшись окончания всей этой странной речи незнакомца, видать и в самом деле свихнувшегося на своей находке. Горяев спал с неприятно открытым ртом, и лицо его во сне не смягчалось, морщины и складки словно стали суше и проступили отчетливее и резче.
6
После разрыва с Лидой Горяев за несколько дней похудел, почти не ел и не спал, он знал, что нужно пересилить себя, все бросить и уехать подальше, продраться сквозь всю эту липкую вонючую паутину в другую жизнь, опомниться, повидать другие края, ведь он, в сущности, ничего не видел, учился, работал и снова учился в своем финансовом, подрабатывая летом на стройке. Родители у него умерли, и заботиться о нем было некому, но он был раздавлен и не способен шевелиться. Он пролежал несколько суток, поднимаясь лишь при последней крайности, затем встал, бледнея от головокружения, сел за стол и побрился, с жадным удивлением вглядываясь в свое изменившееся лицо. Он снял с него наросшую щетину, вымылся под ледяным душем, оделся и вышел поесть, стояло душное лето, и сокурсники разъезжались по стране, меняясь друг с другом адресами. Горяев отлично помнил сейчас, как отрешенно шел по хорошо знакомым улицам, с необычной остротой и жадностью всматриваясь во встречные лица, точно после тяжелой болезни, и ему хотелось всех остановить и всем сказать, как ему сейчас тепло и хорошо оттого, что есть этот город, вот они, эти люди, движущиеся ему навстречу, в его истончившемся лице светились теплота и радость, и на него смотрели, и ему было приятно. Лида для него теперь умерла раз и навсегда, и он думал об этом без всякой боли и злобы, все положенное свершилось и прошло, и надо было жить, и можно было жить, он шел по городу опустошенный и светлый, словно впервые в жизни видя этот мокрый глянцевитый асфальт, дымящийся от прошедшего летнего дождичка, и полощущиеся под ветром стяги на стадионе, свежую листву на деревьях. Он освободился от цепкой тягостной власти чужой, ненужной ему силы и радовался своему освобождению. Увидев афишу новой премьеры, решил непременно пойти вечером в театр, хотя тотчас понял, что принял это решение в надежде увидеть там Лиду. Вот беда, сказал он себе с веселой насмешкой, что же мне теперь, забиться в пору и сидеть безгласно? Уж это совсем ни к чему.
Горяев пошел в этот день в театр, и, хотя он ни за Что бы не признался, его вело желание увидеть Лиду, а не новый спектакль, и увидел ее в антракте в сопровождении высокого темноволосого, надо было признать, интересного мужчины, несомненно, и этот был влюблен в Лиду без памяти, он держался с достоинством, и Горяев мгновенно почувствовал это. Ну что ж, вот и прекрасно, и увидел, и ничего страшного, и незачем было гоняться, теперь он знает наверняка, и так гораздо лучше. Лидия увидела Горяева еще издали, и тотчас лицо ее приобрело равнодушное, знакомое ему победно-жестокое выражение. Сильно побледнев, Горяев посторонился, пропуская мимо себя высокого военного.
Скользнув по лицу Горяева, как по чему-то наскучившему, незначительному, набившему оскомину, Лида отвернулась и сказала что-то своему спутнику и отошла к витрине с фотографиями артистов.
Сволочь, бездушная сволочь, думал Горяев, уже не в силах оставаться больше в одном здании с нею, он стянул с себя галстук, сунул его в карман и пошел к выходу. Узнать бы фамилию этого черноволосого, думал он опять в какой-то горячке. Руку дам отрубить, непременно что-нибудь выгодное влиятельные родители, должность, судя по ее виду, добыча немалая, вцепится намертво, теперь уж не отпустит, а может быть, какой-нибудь жизнерадостный идиот с бицепсами.
Дома он, не раздеваясь, свалился на кровать, кажется, все начиналось-сначала, и он от одной этой мысли сразу обессилел, нужно было что-то делать, немедленно, сейчас же уезжать вон из города, он так и заснул, не раздеваясь, не гася света, и все вздрагивал во сне, ему казалось, что лампочка под потолком лихорадочно дрожит и от нее идет отвратительный звон, и он все силился протянуть руку к выключателю и не дотягивался каких-нибудь нескольких сантиметров.
Ошалело открыв глаза, Горяев вначале не мог понять, где он и что происходит, затем приподнялся, сбросил ноги с кровати. Непрерывно, с надсадными перебоями над дверью трещал звонок, чувствовалось, что звонят уже безнадежно давно, Горяев пригладил волосы ладонями, встал и открыл дверь, Лида тотчас разгневанно перешагнула порог, и, так как он все стоял столбом, держась за ручку открытой двери, она поморщилась и сама закрыла дверь, стараясь не щелкнуть замком, но он все равно натужно щелкнул, замок был старый, и жильцы всё рядились между собой, кому его покупать.
— Можно ли так спать, Василий, день на дворе. Ну что же, так и будем в коридоре стоять, на радость соседям?
Она так и сказала «Василий», очевидно показывая, что они совершенно чужие друг другу люди и что зашла она лишь по крайней необходимости. Не говоря ни слова, он выключил свет в коридоре, счетчик был общий, и прошел в комнату.
— Мне необходимо поговорить с тобой, — Лида поискала глазами пустое место на столе для своей сумочки из ярко-голубой искусственной кожи, она любила яркие цвета.
Стол был сплошь уставлен грязной посудой с засохшими остатками еды, Лида снова поморщилась, но ничего не сказала, села на одинокий стул посреди комнаты и оставила сумочку у себя на коленях. Горяев безучастно наблюдал за ней, она нашла его глаза и покраснела. — Я пришла поговорить с тобой, Василий, — повторила Лида, и краска ярче проступила на ее щеках и шее. — Я была неправа, уклоняясь от разговора… видишь, я пришла.
— Да, я слушаю, — Горяев опустил глаза, потому что по его глазам она тотчас узнала о не только не прошедшей, но усилившейся любви к ней, если бы мог, он бы избил ее до полусмерти. — Я слушаю, — повторил он все так же безучастно, найдя какую-то видимую ему точку в полу, хозяйка-жила, дерет такие деньги за комнату и не может привести пол в порядок, такие щели.
— Знаешь, Василий, — тотчас сказала Лида, быстро, с болезненным оживлением. — Не надо притворства, оно никогда тебе не удавалось. У-у, как я ненавижу эту твою тихую гордость. В общем, так, Василий, прошу тебя забыть, что между нами было. Я виновата, не сумела справиться с собой, дала тебе привязаться, но ведь мы были честными друг перед другом, ведь так? Помнишь наш уговор — не связывать друг друга, ну помнишь?
И потому что Горяев молчал, по-прежнему безучастно рассматривая расшатанные половицы, она заговорила еще торопливей, проглатывая слова.
— Ну, в общем, понимаешь, я встретила человека, Вася, не сердись, ведь ты же все понимаешь, такого, как я хочу.
Я его, может быть, даже люблю…
— Не надо, — с трудом выдавил он из себя. — Пожалуйста, без подробностей. Все и так ясно. Мы и без того можем понять друг друга, сказал он, чувствуя, что его подхватил и понес куда-то мутный поток и он не в силах из него выбраться, хотя это было необходимо.
— Значит, все, да? — метнулось к нему просветленное лицо Лиды. — Я так боялась, я же знала, что ты не такой, как все.
Горяев отчетливо, как-то замедленно видел, как она уже сжимает сумочку в руке, сейчас она уйдет, думал он с тупой болью, появившейся где-то в висках.
— Только у меня одно условие, — сказал Горяев, теперь уже совершенно не в силах остановить себя, и умолк, увидев совсем близко перед собой ее глаза, они почти жгли его и вдруг отпустили, точно шлепнули об пол.
— Я подозревала, что ты подлец, но до такой степени… — прозвучал где-то в пустоте голос Лиды, и в следующую минуту он увидел ее уже возле двери и бросился к ней.
— Лида! Лида! Прости меня, я сам не знаю, что говорю, прости, — он прижался лицом к ее платью и вдруг почувствовал, что Лида беззвучно плачет, это было так неожиданно и непривычно, что Горяев почувствовал, что он в первый и, вероятно, единственный раз одержал победу и, если бы захотел, она осталась бы у него…
* * *
— Ну, так и что ж, — сказал Рогачев, старательно обкладывая костер. Мало ли… Баба, она хоть какая цивильная, силу любит. Мало ли баб да свете, а ты к одной прилип, в том и беда.
— Нет, не то, — как-то вяло не согласился с ним Горяев. — Потом их у меня много было, баб, так, конечно, на случай. Ни к одной больше не прикипел. Они все одинаковы, бабе только надо сразу ее место указать. Что там, разве дело в них, бабы — второстепенное дело в жизни, частность, на них серое вещество тратить не стоит. Это я на первой по неопытности обжегся, потому в памяти и осталась, а вот целое, Рогачев, из рук выпускать нельзя, с самого начала, — с каким-то напряженным, холодным блеском в глазах подчеркнул Горяев.
Рогачев, с интересом слушавший, искоса взглянул на него и ничего не ответил, хотел бы он увидеть свою Таську рядом с Горяевым в этот момент. Верно, она бы ничего и& сказала, но уж поглядеть бы поглядела на этого товарища.
Не так он прост, под свое тощее брюхо целую продовольственную базу подстегивает, вот ведь как некоторые умеют.
— Ты, Рогачев, не слушаешь меня.
— Отчего же, почему ученого человека не послушать.
— Охотно, — отозвался Рогачев своим сильным, раскатистым голосом, неторопливо укладывая мешок.
Горяев теперь неотрывно следил за его руками.
— Собираешься, Рогачев? — спросил наконец он. — А что, не хочешь пригласить в попутчики?
— Пора, брат Горяев, наш митинг закрывать, гляди вон, поземка. Слов ты много наговорил, все кругом да около, а бывалые люди недаром говорят: кто в солдатах не потопал, хорошим генералом не станет. Ты, может, повыше, чем в генералы, метишь, гляди, корень твой не выдержит, неглубоко торчит. Остановившись взглядом на Горяеве, Рогачев помедлил, крупные, обветренные губы шевельнулись в усмешке.
— Прощай покуда, а богатство свое при себе оставь, тебе нужнее. Тут уж на двоих никак не разложишь. У меня своя дорога, у тебя своя, вот и поступай как знаешь. Достаточно я за тобой погонялся, было бы за кем. Вот тебе твой затвор, а я пошел, да и тебе то же самое советую.
Рогачев встал, достал из кармана затвор, отдал его Горяеву, тот взял молча, без всякого движения в лице, он, казалось, еще больше сгорбился у огня и не проявлял больше ни малейшего интереса к собравшемуся в обратный путь Рогачеву. И только когда тот приладил мешок и, пробормотав неразборчивое что-то, вроде «ну, пошел», Горяев проводил его холодными глазами, но с места так и не стронулся.
7
Дня через три со значительно потощавшим мешком Рогачев выбрался на прямую дорогу к дому и шел по одному из верхних краев распадка, теперь уже всерьез поругивая в первую очередь себя, а затем и Горяева и удивляясь, как это все могло с ним получиться. Глубокий, метра в полтора, снег (Рогачев определил это по верхушкам каменной березы, оставшихся сверху) плотно слежался, и лыжи оставляли на нем лишь едва приметные царапины, выбравшись наверх, Рогачев тут же попятился. Километрах в четырех от себя он увидел маленькую движущуюся точку среди раскаленной белизны, она медленно приближалась к гребню в очередной возвышенности, и за ней в беспорядочном нагромождении высились острые, горящие под солнцем вершины Медвежьих сопок, на фоне чистого, густой синевы, неба они проступили резко и неприступно, и Рогачева пробрала дрожь при мысли, что неделю назад он облазил их сверху донизу. Он, теперь уже по привычке к осторожности укрывшись за валуном, стал наблюдать за движущейся точкой в белом пространстве и смотрел до рези в глазах, до тех самых пор, пока она не перевалила за гребень и не исчезла. Вполне вероятно, что это был кто-то другой, не Горяев, не мог же он определить. И тут, встав, Рогачев едва удержался на ногах, белое пространство перед ним поплыло, он почувствовал судорожную звенящую пустоту в голове и медленно охватившую тело слабость, это был первый признак недоедания, усталости и сумасшедшей гонки. Он подумал, что за все время он ни разу не встретил живого следа, правда, он мог его и не заметить, охваченный одной мыслью, погоней, и твердо решил в первом же удобном месте остановиться засветло и попытать счастья, в мешке его болталось несколько сухарей, но такое место он приметил лишь назавтра, в начинавшихся опять предгорьях Медвежьих сопок, поросших елью и лиственницей, и, не колеблясь, сбросил с себя легкий мешок с десятком сухарей и остатками крупы, которую он варил теперь по полгорсти в день. Нарубив молодых елок, он быстро слепил шалаш, заготовил дров на ночь и, проверив винтовку, стал обходить распадок за распадком, теперь он совершенно отбросил мысли о чужом, азарт погони увлек его слишком далеко, и он переоценил свои силы и не рассчитал продукты, нужно было что-то срочно предпринимать. Даже если бы он захотел сейчас вернуться домой, неделю на кипятке не выдержать, если даже пустить в ход и еловый отвар. По прежнему своему опыту он знал, что предгорья Медвежьих сопок богаты зверьем, здесь спасались от стужи и находили пищу дикие олени, водились белка и соболь, раньше попадалось много коз, а иногда удавалось увидеть и снежных баранов, мысль о куске свежего теплого мяса его захватила, и в глазах опять потемнело, а потом слабость скоро прошла, и Рогачев двинулся дальше. Но надежды вскоре подтвердились, и если он, занятый раньше одним, ничего не замечал вокруг, то теперь он внимательно приглядывался, стараясь ничего не пропустить, — раза четыре тут пробегал соболь или куница, два раза ему попа. дались старые оленьи лёжки, он снял с камня клочок шерсти и понюхал. Вымороженная, она ничем не пахла, но у Рогачева мучительно свело скулы, и он про себя выругался.
Ветра по-прежнему не ощущалось, застывший, какой-то тяжелый воздух был заметен только в быстром движении.
Рогачеву мучительно хотелось курить, но он боялся. Уже под вечер он заметил с гребня одного из распадков стиснутый со всех сторон высокими скалами небольшой островок старых раскидистых елей и решил наведаться туда, хотя для этого пришлось обогнуть нагромождения гольцов километра в полтора, он пересилил слабость и пошел, хотя ему сейчас хотелось одного: вернуться к шалашу, напиться кипятку и лечь. Иссиня-темные изнанки лап, пригнувшиеся под тяжестью снега, издали тянули к себе намученные изнурительной белизной глаза, Рогачев не спешил показаться в открытую и шел стороной, в обход, под прикрытием стены можжевеловых зарослей, плотно забитых доверху снегом, дальше начиналось голое пространство, и он еще издали увидел на снегу темные неровные латки, здесь совсем недавно паслись олени, взрывали снег и доставали мох из-под твердого наста. Боясь поверить в свою удачу, таясь и стараясь не дышать, Рогачев продвинулся еще метров на двадцать и, выглянув из-за можжевельника, увидел их, около двух десятков, — старый бык, с ветвистой тяжелой головой, стоял чуть в стороне, словно застывшее изваяние, но стоял он к Рогачеву задом. Пересиливая волнение, Рогачев выбрал двухлетка, достававшего мох из-под снега, и, сосчитав до двадцати, чтобы успокоиться окончательно, бесшумно лег и, прицелившись, словно срастаясь с винтовкой, нажал на крючок. Выстрел хлопнул оглушительно звонко, и тотчас топот взметнувшегося, пронесшегося мимо стада, испуганный храп животных раскололи тишину, Рогачев передернул затвор и в азарте лишь в последний момент удержал руку, в пятидесяти метрах от него на снегу, завалившись на бок, билось красивое сильное животное, высоко вскидывая голову и ноги. Проваливаясь в снегу, Рогачев подбежал к нему и, прижав голову оленя к земле, одним ударом охотничьего ножа перехватил горло и сразу опьянел от теплого густого запаха крови, без сил опустился рядом на снег. Глаза оленя подернулись холодной пленкой, тело дрогнуло в последний раз. Рогачев, отдышавшись, огляделся, лучше места для дневки нельзя было себе представить, но времени до темноты оставалось мало, нужно успеть освежевать оленя, пока он не застыл, перетащить сюда сумку и прочий припас, устроиться на ночь, надо было спешить. Рогачев хрипло, с надсадом перевел дыхание — дышать становилось все труднее, умело и ловко сняв шкуру, он выбросил внутренности, отделил окорока, несмотря на усталость и усилившийся мороз, ему хотелось сейчас петь, в желудке от запаха мяса начались спазмы. За работой он не заметил, как солнце скрылось за сопками, темнело здесь быстро, но еще оставалось время, чтобы сбегать на лыжах за спальным мешком и остальными вещами, возвращался Рогачев уже в темноте, в темноте и варил мясо. Заснул он окончательно счастливый, ему здорово повезло с оленем. Весь следующий день Рогачев только и делал, что ел и спал. Проснется, поест, заготовит дров и опять поскорее нырнет в нагретый спальный мешок. Он уже твердо на завтра решил возвращаться прямо домой, хотя пищи у него теперь было на две-три недели.
Отоспавшись и чувствуя себя свежим и сильным, он открыл глаза, из предрассветной мглы, заполнявшей предгорья и распадки, он увидел далекое небо, и его цвет сразу встревожил Рогачева: в небе проступил неспокойный, беловатый оттенок, он быстро вскочил, разжег костер и стал готовиться в дорогу. Мясо он еще вчера разделил на порции и его розовато-льдистые кирпичи плотно уложил в мешок. Получалось тяжеловато: килограммов на тридцать, но он подобрал все до последнего кусочка, остатками сердца и печенки решил позавтракать, и скоро ароматный парок потянул от котелка.
Чуть погодя вершины сопок беспокойно зажглись от невидимого еще солнца, но их неровное, неспокойное сияние вызывало тревогу, торопливо приканчивая завтрак, Рогачев косился на сопки, и тревога его все росла, мимо острых белых вершин проносились и гасли какие-то тяжелые, стремительные потоки, солнце, поднимаясь и отвоевывая все новые пространства, казалось, пронизывало все насквозь неестественным нестерпимым светом. Рогачев заметил, что мороз сильно сдал и дышать стало легче, но какая-то тяжесть нависла в воздухе. «Н-да, допрыгался, — с досадой сморщился Рогачев, еще и еще оглядывая сопки и небо, — все одно к одному, кажется, прихватило».
Он оглядел удобный, защищенный почти со всех сторон еловый распадок, в котором ему удалось добыть оленя. С таким запасом пищи можно вполне переждать ненастье, хотя бы и здесь, ну три-четыре дня, ну пусть неделю-полторы.
Правда, бывает и так, что всякие приметы обманывают, там, вверху, покрутится, покрутится, а до земли и не дойдет или в сторону оттянет.
Да и потом, пока небо раскачивается во всю силу, верст сорок свободно отмахать можно. Рогачев решил идти: после сытной пищи и крепкого сна он чувствовал себя уверенным, раза два мелькнула мысль о Тасе, которая, видно, его уже заждалась. Пора, давно пора ему быть дома. Со стоявшей рядом ели сполз пласт снега, и в воздух облаком взлетела сухая снежная пыль. Ага, сказал Рогачев, значит, в самом деле стронулось, ну да ничего страшного, дорога знакома, через три дня он доберется до охотничьей избушки, а там и до дома рукой подать. В крайнем случае остановится на полдороге, слепить шалаш да заготовить дров не долго.
Рогачев уже стал приспосабливать за спину мешок с мясом, как вдруг, выпустив лямки, одним гибким движением схватил винтовку и, пятясь, почти втиснулся наугад за ствол большой ели, под которой недавно вытоптал снег, обламывая омертвевшие нижние ветви. Почти сразу же из зарослей можжевельника выдвинулся, с трудом переставляя лыжи, человек, Рогачев сразу узнал его и поднял винтовку, но тотчас опустил ее, Горяев еле шел, последние метры до костра, крошечный подъем, он едва осилил, спотыкаясь, путаясь ногами и руками, тяжело опираясь на винтовку, как на костыль, и подтягивая грузно обвисшее тело. Он шел прямо на костер, не сводя глаз с котелка, стоявшего рядом, на земле, Рогачев не успел выплеснуть из него воду, в которой варил сердце и печенку. Дотащившись до костра, Горяев упал не колени, схватил котелок и, задыхаясь, кашляя, стал пить, стоя все там же под елью, Рогачев видел его исхудавшие, дрожащие руки, воспаленные, с блеском глаза, обтянутое, казалось, одной кожей, заросшее до самых глаз лицо, судорожно ходивший кадык, Горяев пил со стоном, захлебываясь.
Рогачев вышел из-под ели и остановился в двух шагах от Горяева, а тот все пил, высасывая из котелка последние капли. Мешок за его спиной, схваченный лямками на груди, мешал, винтовка валялась рядом, Рогачев ногой отодвинул винтовку Горяева в сторону, тот даже не пошевелился. Теперь Рогачев мог хорошо разглядеть его. Отставив в сторону опорожненный котелок, Горяев, грузно обмякнув, сидел на коленях, не в силах шевельнуться и только чувствуя, как начинает от тепла и отходить и болеть лицо, обмороженное на лбу и с правой стороны, распухшие и потрескавшиеся губы тоже зашлись, Горяев осторожно потрогал их, покосился на Рогачева, который не очень-то дружелюбно глядел в этот момент на неожиданного гостя, Горяев, устраиваясь удобнее, равнодушно закрыл глаза, с наслаждением ощущал в желудке сытую теплоту, медленно расходящуюся по всему телу, неудержимо хотелось спать. Рогачев сел по другую сторону костра, тревожно прислушиваясь к менявшейся погоде, вершины сопок были теперь в постоянном беспокойном, переменчивом движении, и Рогачев внутренним чутьем слышал их непрерывный, тревожный звон, упругой, яростной струёй льющийся с вершин, до старых елей, с которых теперь то и дело с шумом срывался снег, этот зов дошел раньше, и они хлопотливо оживали от долгого зимнего оцепенения, готовилось что-то грозное, неостановимое. Рогачев (в который раз уже) сжался перед мощью солнечного, пронизанного исполинской силой пространства. Га-ах! — еще с одной ели на глазах у Рогачева сполз снег, и она стремительно рванулась в небо освобожденной хвоей.
Можно бросить этого непрошеного товарища и уйти, думал Рогачев, оставить ему еды, отсидится, но он знал, что не сделает этого, с любопытством наблюдая за человеком, который хотел его убить и наверняка бы убил, если бы не осечка, и который уже вторично оказывается в зависимом от него положении, Рогачев не знал, как поступить дальше, он подошел к Горяеву и присел с ним рядом на корточки, разглядывая его сухое, почерневшее от мороза лицо, заросшее нссиня-черной щетиной.
— Она меня одолела, — сказал Горяев совершенно ясно, не отрывая пристального взгляда от догорающих, подернутых тончайшим седоватым пеплом углей.
— Кто? — от неожиданности Рогачев слегка отодвинулся.
— Она, — все так же осознанно и убежденно повторил Горяев, и Рогачев понял. — Конечно… теперь уже совершенно все одно, делай что хочешь.
Рогачев ничего не ответил, медленно поднял глаза к вершинам сопок, и Горяев снова забылся в дремоте, Рогачев подбросил в костер немного сучьев, огляделся, наметил подходящее место и, уже не обращая внимания на Горяева, стал быстро делать шалаш, рубить кусты и молодые ели, он двигался собранно, скупо размечая движения и поглядывая на сопки, вокруг вершин которых все гуще струились белые, взвихренные потоки. Наладив шалаш и настлав в него еловых лап, Рогачев взялся готовить дрова, складывая их рядом с шалашом, и провозился почти до двух. Заметно потемнело. Рогачев перенес в шалаш мешок с мясом, собрал все кости, с которых даем раньше обрезал мясо, сложил их на замерзшую оленью шкуру вместе с головой и все это переволок к шалашу, кстати и голову привалил коряжиной у входа, а шкуру размял и расстелил в шалаше поверх еловых лап, мехом вверх. Затем разложил у входа в шалаш небольшой костер, на четырех высоких кольях сделал над ним навес-защиту от снега, тоже из еловых лап и куска брезента, который всегда носил с собой. Колья забивал он уже под сильными порывами ветра.
Теперь высоко в сопках отчетливо слышался тяжелый непрерывный гул, небо потемнело и снизилось, солнце с трудом пробивалось сквозь красновато-серую мглу, старые ели под напором ветра глухо заговорили. Горяев очнулся. Рогачев подошел к нему и с невольной усмешкой, глядя в его встревоженные ждущие, влажно блестевшие глаза, помолчал.
— Ну что, снайпер, — сказал он наконец, — вставай, что ли? Тут рядом шалаш тебе приготовлен и постель постелена. Может, еще шашлык закажешь?
Горяева совсем развезло, он был весь как раскисшая жижа, Рогачев перетащил его к шалашу, перенес туда же его лыжи с винтовкой, ему противно было прикасаться к Горяеву, но тот неотступно следил за ним все теми же ждущими, светлыми и благодарными глазами. Рогачев даже сплюнул и про себя потихоньку выругался. Поставив варить мясо, он подумал, что надо бы посмотреть, что у Горяева с ногами, но тот точно почувствовал и стал жаловаться на рези в желудке — последние три дня он ничего не ел, а с ногами ничего, с ногами ему повезло, вот только лицо и руки прихватило, а с ногами ничего, унты у него крепкие, не выношенные.
— У тебя деньга хорошая, — сказал ему в ответ на это Рогачев. — Вот тебе бы сейчас в ресторан, бульончику из благородной птицы-для желудка оно полезно. — Рогачев поставил перед Горяевым кружку с кипятком.
— Ну бей, добивай, твоя взяла, — Горяев попробовал подтянуть ближе свой мешок, в распухших пальцах появилась боль, и он бросил лямки. — Она меня одолела. Если даже бросишь, уйдешь один, никто не узнает, не осудит, и первый я, твоя взяла.
— Дурак, — брезгливо сплюнул Рогачев подальше от костра.
— Меня дым от твоего костра спас, а это что, — Горяев снова пихнул мешок, — бумага. Нет, ты не поймешь, я боялся не успеть. Ну, думаю, пока доберусь, его и след простынет. Ногами двигаю — и ни с места, у меня всего несколько сухарей оставалось… На день, на два, иду и шатаюсь… Когда я тебя увидел, мне на колени хотелось стать, как перед господом богом. Да нет, нет, не то подумал… я человека увидел. Да разве ты поймешь, здоровый индивидуум, ты только не обижайся. Оно, — Горяев поднял черный корявый палец, прислушиваясь к грохотавшей тайге, как будто ворочавшей огромные валуны. — Слышишь, теперь вот грохочет, подает голос, а то ведь в ушах звенело от тишины, хоть ты лопни, даже сучок не треснет. Не-ет, неспроста это, попомнишь мое слово, неспроста! — Горяев погрозил кому-то темным скрюченным пальцем.
Рогачев по-прежнему ничего не отвечал, помешивая деревянной ложкой в котелке-он сам ее вырезал и с ней не расставался. Он любил работать с деревом, это передалось ему от отца, смоленского плотника и кровельщика. Тася любила его фигурки, которые он вырезал из мягкой ели, и уставляла ими подоконники. Как она там, Тася, задумчиво и растроганно подумал Рогачев о жене, и дров нарубить ей сейчас некому, а вдруг она еще слаба после больницы, наверняка слаба, а он здесь прохлаждается, байки слушает, да еще под пулю чуть не попал. Расскажи кому, так ведь не поверят, на смех поднимут.
Горяев тоже затих, пригрелся в теплом сытном воздухе, откинулся назад и лежал не шевелясь, лишь обмороженные ноздри его дергались от запаха варившегося мяса. По распадку с елями и шалашу в это время ударил, словно рухнул обвал, бешеный порыв ветра, выдувая из-под котелка пламя, и тотчас сплошная белая муть закрыла небо и землю.
Рогачев высунул голову из укрытия и торопливо подался назад. Ревущая белая мгла валом рушилась с сопок, Рогачев, закрыв голову брезентом, опять высунулся из шалаша, отворачивая лицо от режущего снега, как мог защитил еще костер, поправил навес, колья были укреплены надежно, недаром он больше всего над ними трудился, и, прихватив котелок, полузасыпанный золой, разделил дымящееся мясо на две части.
— Ешь, — сказал он, положив перед Горяевым горячее мясо. — Смотри, не сразу, не жадничай, здесь докторов нет и скоро не предвидится. Сначала самую малость съешь, часа через два — еще. Черт, как продувает… Ну ничего, снегом забьет, теплее станет, отлежимся. Ешь, ешь, кипяток сейчас поспеет. С мясом обязательно пить надо.
Горяев съел небольшой кусок сочного теплого мяса, и, хотя ему неудержимо хотелось еще, он пересилил себя, замотал оставшееся мясо в шарф, чтобы оно не замерзло, зажал его под мышку и лег навзничь, закрыв глаза, болевые спазмы в желудке усилились. Горяев вспомнил слова Рогачева о докторах. Да, в два счета согнешься здесь. И что?
Что сделают килограммы этих бесполезных бумажек в мешке? Только костер ими подправить. И странное дело, Горяеву мучительно захотелось, чтобы непогода никогда не кончалась, остаться здесь насовсем, принимать теплую, дымящуюся пищу из рук этого человека, имя которого он даже не помнил.
Дома Горяева никто не ждал… Ну вот, все и кончилось, думал Горяев расслабленно в полусне. Оказывается, одиночество всего хуже, не надо ни денег, ни счастья, ни карьеры, все тонет в этой кромешной белой тьме, сколько таких заблудших, потерянных душ нашло свое успокоение в этой бесконечной ненасытной ледяной могиле. А она, эта прорва, все тянет к себе, засасывает звенящей тишиной и начинает потом вот так неистовствовать и бушевать, когда жертва от нее уходит. А человеку немного надо. Немного тепла и дымящийся кусок мяса. Горяеву, как когда-то в далеком забытом детстве, не хотелось думать ни о чем дурном, помнить ничего дурного, пусть даже совершенного им. Вот он поел немного, и счастлив, и рад чужому человеку, возившемуся с костром, рад шалашу, укрывшему его от неминуемой смерти, — вот как воет и дрожит вокруг, опоздай он на четверть часа, и для него бы все кончилось.
Горяев открыл глаза, судорожно приподнял голову, ему показалось, что он совершенно один, а все остальное он просто придумал, он увидел Рогачева, по-прежнему копавшегося у выхода из шалаша с огнем (костер задувало), и успокоился, опять закрыл глаза, в глазах металась белая мгла, о чем бы он ни начинал думать, совсем постороннем, стараясь обмануть ее, она упорно возвращалась. В затишье все сильнее болело обмороженное лицо, Горяев осторожно, кончиками пальцев, притрагивался к обмороженным местам, усиливая боль, и все равно был счастлив. Он чувствовал присутствие Рогачева.
— Вот сейчас вода закипит, сала немного растоплю, помажешься, — услышал он голос Рогачева, и лицо его дернулось, его бы сейчас под пулей не заставили взглянуть в глаза человеку, которого он хотел убить и должен был убить.
— Что творится! — опять сказал Рогачев весело и возбужденно. — Тьма. Хорошо, шалаш в затишке, ветер сюда почти не доходит, один снег валом валит. Ну ладно, сейчас кипяточку перехватим, можно будет и поспать. Завалит нас сейчас, как медведей в берлоге, ни в жизнь никто не отыщет, зато и теплей станет. — Рогачев необычно для себя разговорился, не ожидая ответа собеседника, приятно было самому слышать свой голос, за неделю-то намолчался.
8
Зверь был необычный, черный и лохматый, с медвежьей головой и мягкими лапами, он не рычал, не кусался, он молча наползал на Горяева, и тот сквозь плотный свалявшийся слой шерсти чувствовал руками его горячую душную плоть, когда зверь вплотную приближал свою пасть, Горяева начинало тошнить от его шумного влажного дыхания, и он открывал глаза, постепенно приходя в себя, но жар снова усиливался, и он впадал в забытье и начинал бредить. Зверь снова наползал на него, наваливался и давил. Рогачев, сонно кряхтя и бормоча себе под нос ругательства, вылезал из мешка и давал ему напиться, клал ладонь на лоб Горяева.
«Вот поднесла нелегкая, рассказать кому, обхохочешься. Сестра милосердия, да и только».
Снежная буря не прекращалась уже третьи сутки, и Горяев то лежал неподвижно, то начинал метаться и вскрикивать в своем мешке, отбиваясь от кого-то. На четвертые сутки ему полегчало. Два раза в сутки Рогачев варил мясо и грел кипяток, они почти не разговаривали, но уже как-то привыкли друг к другу, Рогачев за хозяйственными заботами как-то не думал о том, что станет делать, когда буря стихнет и им нужно будет расходиться. Мешок с деньгами лежал в шалаше, в головах у Горяева, и о нем, кажется, забыли, но это было не так. Рогачев ловил себя на мысли, что его давит вроде бы беспричинное беспокойство, от такого количества денег исходила какая-то неприятная, тягостная сила, Рогачев даже хотел выставить их из шалаша, но, подумав о том, что Горяев расценит это совсем наоборот, оставил на месте, на четвертые сутки Горяев совсем отошел и все, делал попытки заговорить, Рогачев не отзывался. Оба чувствовали, что им невозможно быть дальше рядом, если они все так же будут молчать, Рогачев думал об этом и все время старался отвлечь себя воспоминаниями о прошлом, особенно часто ему вспоминалось почему-то, как он впервые увиделся с Тасей, и это было ему приятно, он опять и опять припоминал, как три года назад, уже после развода с Настей, пошел на сплав и была веселая, тяжелая работа от зари до зари, просторная и быстрая река, солнце и комары.
Было приятно вспоминать о тепле, и хоть ему не совсем тогда и повезло, все равно приятно. На сплаве со всяким может случиться, да и сколько он там пролежал? Дней десять, все засохло, сейчас уже только к сильной непогоде помятое тогда колено постанывает, да и то все меньше и меньше. А потом что ж, потом он Тасю увидел, а как увидел, так и почуял по-звериному сильно и глубоко, что вот она, его доля и петля, и никуда он от нее не денется,
9
Рогачева тогда встретили весело, и его друг Семен Волобуев сразу же выложил, что наряды закрыты хорошо, есть и прогрессивка, и премиальные будут.
— Завтра-послезавтра обещают деньги. Ты как раз вовремя подоспел, в самую точку. Ты как, наличными или через почту?
Рогачев пожал плечами.
— А ты, Семен?
— Да мы с Колькой решили наличными. Чего там путаться, что-то около пяти тысчонок. — Семен покосился на хозяйку, хлопотавшую над столом тут же в комнате, Рогачев отметил про себя, что уж что-то очень часто внимание Семена сосредоточивается на хозяйке, все трое они были тогда вдовыми Семен Волобуев, Колька Афанасьев и он сам.
Рогачев уважал Семена, его всегда удивляли в Волобуеве его природная сметка и ровность характера и вот эта неосознанная и неизвестно откуда берущаяся уверенность в себе — человек говорит о пяти тысячах, словно о пятидесяти копейках, и словно они ему ничего не стоят, и не он за них десятки раз висел на волоске от смерти.
Хозяйка, в летах, крепкая (она напоминала Рогачеву кряжистую здоровую березу ранней осенью, когда листья на ней все еще целы и еще все зеленые, даже темноватые кое-где от избытка сил, только вот именно этот оттенок избытка и наводит на грустные мысли о зиме), накрыла по просьбе Семена стол, и на нем появились маринованные грибы, сало желтыми ломтями, вареное мясо краба и маленькие, длиной в ладонь, копченые рыбки, которых хозяйка ласково называла «окуньки» с припаданием на первую букву.
— Сейчас Колька прибежит, — сказал Семен, выкатывая откуда-то из-под своего стула большой резиновый мяч, расписанный розовыми облаками и белыми стрелами.
— Чудо, — сказал Рогачев. — А где Колька?
— Да рядом, в соседях. Ты бы, Сонь, сходила за ним, ар-ласково попросил Семен, и Рогачев еще раз отметил, что тут далеко не все в порядке.
— Схожу, слыхала, — сказала хозяйка и сразу же вышла.
Семен проводил ее взглядом, толкнул мяч носком сапога, поглядел на Рогачева.
— Одна баба живет. Мужик рыбак был, в прошлом году утоп. Я их давно знаю. Хорошая баба, а вот поди тебе — утоп. А жиличка у нее еще лучше. Сейчас с работы придет, Тоже из наших краев. А мать твоя жива?
— Померла, — сказал Рогачев, хотя видел, что спрашивает его Семен только ради приличия и что на самом деле ему хочется поговорить об этой самой бабе, у которой прошлым годом утоп мужик.
— Старая будет?
— Шестьдесят один был…
— Все там будем, тут уж ничего не попишешь, — сказал Семен, задумываясь. — Поедешь, значит, после договора домой?
— Поеду.
— Так. Остаться, значит, не желаешь? А что тебе там, дома, а? Гнилая изба, огородишко? Семьи у тебя сейчас нет… Нет или скрываешь?
— Долго ли завести, — ушел Рогачев от ответа. — Дело нехитрое.
Семен поглядел на Рогачева быстро, вприщур и тихо, как-то про себя, повторил:
— Оно дело, конечно, нехитрое, да ведь и без него — как? А я бы на твоем месте еще подумал, Иван, еще бы один срок оттрубил. Тебе еще есть время, обдомоводиться успеешь.
Он глядел на Рогачева с грустью, и от этого тот злился. Можно ли было спрашивать об этом, поедет или нет? Да он не поедет, а полетит.
— Можно ведь и на год еще продлить, ты смотри, Иван.
— Ладно, Семен Петрович, погляжу, мне и без того еще почти год. Рогачев больше ничего не сказал, покосился на стол, ему хотелось есть с дороги, настроение было веселое и легкое. Давно ему не было так хорошо, как здесь, в жарко натопленной комнате с веселыми солнечными бликами на полу.
В это время в коридоре послышались голоса, шаги. Колька Афанасьев широко распахнул дверь — он, видно, только что встал с постели. За ним вошла хозяйка и еще женщина, помоложе, и Рогачев заметил ее мгновенный тревожный взгляд, брошенный на него еще из двери, и вот в этот момент от серых, широко распахнувшихся ему навстречу глаз и дрогнуло у Рогачева где-то в самой глубине, и он уже больше ни на минуту не мог забыть этого своего ощущения.
— Заждались? — засмеялась хозяйка, проворно снимая с полок у плиты какие-то банки и расставляя их по столу.
Рогачев не верил своим глазам: бутылки на столе не было.
— Подожди, подожди, — сказал Волобуев, перехватывая его удивленный взгляд, и поднял глаза на Кольку. — А ты что один?
— Настя на работе, записку оставила. У нее сегодня, оказывается, смена. Проснулся, шарю возле, нету. Да опять заснул. Хорошо вот, Софья Ильинична разбудила, до вечера бы проспал.
Колька говорил и глядел на Рогачева, он хотел, чтобы все понимали, почему он так долго спал, и это желание до того было откровенным, что все действительно понимали, почему он так долго спал, и Колька это видел.
— Вот съезжу, рассчитаюсь, да и сюда. Хватит голышом перекатываться, обрастать надо мхом-травой, надоело.
— Решил, значит?
— Решил, Семен. А чего ждать? Баба хорошая, здоровая. Чего-то я к ней сразу прилип, — Колька застеснялся своих последних слов, и Волобуев стал улыбаться.
— Рассчитываться-то зачем, по правилам она должна. Не муж к жене, а жена к мужу-давний закон.
— Работы и здесь хватит. Ты чего, Иван, стоишь, не садишься?
Рогачев подошел, сел рядом, Волобуев следил за ним своими маленькими ясными глазками. Он терпеливо ждал, когда все рассядутся и когда за стол усядется все время чтото хлопотавшая хозяйка.
— Садись, Сонь, — не выдержал он, и она послушно села рядом с ним на табуретку, откинула светлую прядку волос со лба.
— За возвращение Ванькино надо бы? — спросил Колька Афанасьев.
— Ничего, потерпишь до денег.
— Я-потерплю… Ну, с богом!
Вкусная еда на пустой желудок сразу ударила в голову, но Рогачев подумал, что он все-таки здорово ослаб в больнице, ноги стали словно из ваты.
Софья Ильинична, еще больше помолодевшая и разрумянившаяся от плиты, налила настоящие щи из свежей капусты и положила в них большие куски оленины. Рогачев жадно втянул в себя вкусный запах жареного лука, мяса и придвинул тарелку. Он опорожнил ее дважды и все не мог понять, в чем секрет, — это были щи невероятно вкусные, и чем больше он их ел, тем больше хотелось, хотя в поясе становилось все туже и дышать было трудно. Какой-то незнакомый ему запах так и тянул к себе, он отодвинулся от стола, смущенный своим обжорством, больше для Таси, сидевшей тут же, на краешке стола, и осторожно хлебавшей те же щи, сказал:
— Чу-удо!
Софья Ильинична засмеялась, довольная, — оказалось, все они наблюдали за Рогачевым.
— Тут грибки пережаренные да морской капусты чуток, — сказала хозяйка. — У нас все так варят, А мясо чего ж, не нравится?
— Не могу больше, лопну.
— Не лопнешь, — пообещал Колька, придвигая к нему налитый до краев стакан холодного, ледяного кваса. — Я вначале тоже объедался, здешние бабы умеют. Вот еще подожди, крабов тебе надо попробовать, здесь их тоже по особому варят, с кожурой проглотишь. Да только после этого…
— Ну-ну, — Софья Ильинична шутливо повысила голос.
Колька наклонился и зашептал, жарко дыша в ухо, Рогачев отодвинулся.
— Кончай свою бодягу, — недовольно остановил его Волобуев.
Голос Кольки никак не мог перейти на шепот, и все хорошо слышали то, что он говорил.
— И не пьянеешь от такой закуски, вот чудо. Ну, попей кваску.
Рогачев отпил квасу и придвинул к себе оленину, и все они были рады, что он хорошо ел, что они могут сделать приятное, особенно-хозяйка. Оленина была сварена, видать, с какими-то травами, была сочна, и от нее неуловимо пахло ароматом весенней тайги. Рогачеву вспомнились дикие распадки сопок в цветущем разнотравье, где он побывал прошлой весной, увязавшись с геологами на неделю.
Хотя их за столом было пятеро, шум стоял большой.
Колька Афанасьев все порывался что-то рассказать, его не слушали, и он внезапно загрустил и вспомнил, как в прошлом году на сплаве погиб его старый дружок. Волобуев сразу нахмурился, а Софья Ильинична стала толкать Кольку в бок, к, махнув рукой, он пошел к двери. Его не стали удерживать, тут каждый делал, что хотел. Рогачев заметил, что Софья Ильинична глядит на Волобуева с нежностью, с той бабьей нежностью, которую невозможно упрятать ни шуткой, ни резковатым словом, и порадовался за него, простым глазом видно, что тут все хорошо и жизнь его будет лучше, чем была до сих пор, и Васятке его будет хорошо.
Рогачеву определенно нравилась Софья Ильинична, в ней была какая-то домовитость и чистота, но, по правде сказать, его больше всего занимала Тася, просидевшая весь обед без единого слова, а потом, когда все встали, собравшая посуду и унесшая ее мыть.
— Она у вас всегда такая? — спросил Рогачев у хозяйки, и Софья Ильинична, не сдерживая голос, засмеялась.
— А ты не смотри, не смотри! — сказала она. — Тихий огонек, он хоть и не горяч, зато долог, в нем своя особица. Как привыкнешь, так уж и не оторвешься.
* * *
Рогачев уже перечистил котелок, ножи и кружки, больше чистить было нечего, винтовку за эти долгие дни он тоже не один раз разобрал, вычистил и собрал, он стал думать, как, переждав бурю, вернется домой, и его встретит Таська, здоровая и веселая, и как он позовет своих друзей, Волобуева Семку и Афанасьева Кольку, с женами и они посидят хорошенько вечером, он им расскажет все, вот рты-то раскроют, да ведь все равно не поверят. А потом… Об этом «потом» Рогачев старался не думать, чтобы не расстраиваться, уж очень долгим еще было возвращение.
— Не могу, — неожиданно сказал Горяев и, высунувшись до половины из мешка, сел. — Не могу я, не могу. Остаться одному-ни за что. Делай что хочешь, не уйду.
— Не можешь, не надо, никто тебя не гонит, — сказал Рогачев, с жалостью разглядывая три оставшихся в пачке помятых сигареты, наконец он решился, бережно разорвал одну из них пополам и закурил. — Как хочешь, а быть с тобой не очень весело.
— Понимаю, — торопливо согласился Горяев. — Понимаю, ладно, все равно, спасибо и на этом. Пойми, никого у меня, один как перст, сам виноват, конечно. Послушай, — попросил он Рогачева, — ты меня уважать, конечно, не можешь, не обязан… Но все-таки, если можешь, забудь тот случай. Не знаю, как вышло. Нет, ты сейчас ничего не говори. Понимаешь, когда я увидел эту кучу денег, какое-то затмение на меня нашло, не знаю, что со мной было…
Мне все время казалось, что я не на своем месте в жизни, все ждал свой единственный шанс, случай, мне сорок, а я до сих пор не женат, почему ты думаешь? Из-за той истории, что я тебе рассказал? Нет, это лишь начало, повод… во мне червь какой-то разросся и гложет, я не так жить хотел, вверху жить хотел! И никогда не получалось, смешнее клерка с претензиями ничего не может быть… И сразу столько денег!
Рогачев, вначале делавший вид, что не обращает внимания на слова Горяева, отбросил сучок, который он обстругал ножом, стараясь придать ему вид старичка-лесовика, пожалуй, в нем пробудилось нечто вроде сочувствия к Горяеву, он в чем-то мог и понять его, ведь какие-то отголоски своих мыслей и настроений чувствовал Рогачев в словах Горяева, п ему было и стыдно, и неловко, и хотелось прекратить эту внезапную исповедь.
— Ребят жалко, — сказал он задумчиво, в неподвижных зрачках его плясали крохотные отблески огня. — Пропали ни за что. На войне бы — не обидно. А за этот мусор. Ждут ведь их небось, надеются, все глаза проглядели… — Рогачев осекся. Его тоже ждали и выплакали небось все глаза, Таська небось почернела, леспромхоз на ноги подняла, а все из-за его дурной затеи — решил хлопец прогуляться в тайгу за соболишком.
Ему в сердцах хотелось вспомнить Горяеву, что бросил он летчиков не по-людски, незахороненными, но, взглянув на съежившегося крючком Горяева, почему-то промолчал и тщательно запрятал остаток притушенного окурка (потом можно будет размять и сделать самокрутку). Из-за жирной и обильной еды Рогачев за ночь несколько раз вставал пить воду и прислушивался, в реве бури теперь ясно различались пустоты и провалы, открыв еще раз глаза ближе к утру, он замер. Он сразу понял, что Горяев не спит, и сам затаился.
Горяев ворочался и трудно, шумно вздыхал. «Зачем? Зачем?» — услышал Рогачев совсем рядом и от неожиданности едва не отозвался, тут же не без доли злорадства перевернулся на другой бок и заснул, и, как ему показалось, опять почти сразу проснулся от необычного ощущения: было тихо, было так тихо, что он тут же бесцеремонно растолкал Горяева, и они несколько минут вслушивались, почти оглушенные.
Выбравшись наверх (их завалило снегом вместе с шалашом и навесом над костром), они увидели нетронутое, девственное пространство, мягкий молодой снег отдавал чистейшим перламутром, и взошедшее солнце холодно играло в пустынном небе, буря неузнаваемо изменила местность вокруг, и, прежде чем выбрать направление, Рогачев долго всматривался, недовольно крякал и прикидывал. В это время Горяев безучастно ждал, стоя позади и сердцем ощущая в этот момент зыбкость и ненадежность своего присутствия в жизни и в то же время испытывая сильное желание ошеломить, озадачить добродушного, здорового человека, делившего рядом припасы, но не знал, как это сделать, и ничего придумать не мог. Он обреченно следил за Рогачевым, строго делившим все припасы на две равные части, затем Рогачев уложил свой мешок, присел на корточки у догоравшего костра.
— Ну вот, — сказал он неопределенно. — Прощай, Горяев Василий, в гости не приглашаю, не обижайся. Дойти ты теперь дойдешь, я тебе мяса отполовинил. Прощай.
— Иван, послушай, — Горяев проворно достал откуда-то из-за спины туго набитый, видимо заранее приготовленный, большой кожаный кисет, бросил его к ногам Рогачева. — Освободи меня от них, ради всего святого!
— Ты ваньку-то не валяй, Горяев, — строго и отчужденно сказал Рогачев, застегивая ремни рюкзака. — Сам себя нагрузил, сам и освобождайся, ишь, привыкли к костылям! Нагадил, убирай за собой сам. Никто тебе ничего не должен. — Приладив винтовку, Рогачев встал на лыжи и, не оглядываясь, не взглянув на кисет, скользнул вниз с белого склона, и с вершин сопок еще доносился легкий гул, тишина после бури не успела устояться.
— Эй, Рогачев, подожди! — запоздало попытался остановить его Горяев, но Рогачев уже больше не оглянулся, ему наконец просторно стало на душе от своего решения все бросить и идти прямо домой, что мог, он сделал, а все остальное уже не его дело, на это есть суд и милиция, а ему за всю эту муру памятника не поставят, а времени уйму потерял.
Весело поглядывая кругом и радуясь обновленному бурей миру, он бежал скоро и ловко, потому что путь шел все время под уклон. Он отлежался за эти дни и набрался сил, и теперь уже ничего не было страшно: четыре дня ходу пустяк для него, ну, за то, что припоздает на несколько дней, начальство отругает, на том и сойдет. Правда, еще от собственного домашнего начальства, от Таськи, здорово достанется, вот уж покричит так покричит, душу отведет, думал он с удовольствием, видя перед собой возмущенное лицо жены, сейчас всякое воспоминание о доме было ему приятно. Лыжи скользили по синеватому, словно подсвеченному изнутри снегу легко и свободно, и Рогачев, отдавшись ровному движению, часа два шел не останавливаясь.
Он оглянулся где-то у подножья сопок, там, где тайга уже начинала вгрызаться в сопки по распадкам, и остановился.
Он увидел на ослепительно сияющем склоне темную точку, движущуюся по его следу. Вот сволочь, подумал Рогачев беззлобно, напал черт на грешную душу.
Рогачев подумал было остановиться и дождаться Горяева, затем, после небольшого раздумья, пошел дальше, в конце концов, он не мог запретить Горяеву идти, куда ему хочется, он лишь испытывал какую-то связанность от непрерывного ощущения другого, постороннего человека, неотрывно идущего по следу, как ни странно, уже не казавшегося ему чужим.
Его все гуще охватывала со всех сторон неподвижная, белая тайга, деревья, заваленные снегом, все-таки были живыми, и Рогачев чувствовал их ждущую, притаившуюся до поры жизнь, и от этого ощущения, почти запаха теплой земли и зелени в него опять начинало закрадываться смутное беспокойство.
Солнце низилось, от деревьев бежали, удлинялись размытые тени, еще один день кончался, и нужно было выбирать место ночлега.
В час искушения (Рассказ)
Вдохновение всегда было выше любви и больше смерти, оно копилось неделями, месяцами, иногда десятилетиями или даже всей жизнью и прорывалось всегда неожиданно проникновением в первичность какой-то жгучей, черной тайны, — он уже давно подобного не испытывал и вспомнил сейчас об этом случайно. Мысли, старческие, тягучие, бессильные даже вызвать отвращение к самому себе, к своей немощи, тоже скользили мимо, и он подумал об этом отстраненно, издалека и уставился на свои перевитые склеротичными узлами и венами руки, смутно проступавшие на столе. Он шевельнул ими, и опять все было расплывчато и далеко… Жизнь прошла. Кому же он служил — себе, Богу, сатане, людям? А что такое люди, человек? Разве кто-нибудь знает? Или он служил русскому народу? А что такое — русский народ, да и вообще, что такое — народ? От русского народа осталась лишь размытая тень, он окончательно лишен воли к борьбе и победе. Его вызывающее равнодушие к собственной участи изумляет, и его нельзя больше пробудить. Он пребывает в каком-то летаргическом сне и, вероятно, так и растворится в мареве времен, не пробудившись, — так уже исчезли сотни малых и больших народов. Но кто он такой сам, чтобы судить? Некий Батюнин, написавший несколько сотен никому не нужных картин? Жалкий неудачник, возомнивший себя на смех людям пророком? Человек же не должен быть смешным, особенно в старости. Зачем рассуждать о запретном? Народы рождаются, расцветают и вызревают, затем уходят по своим, никому не ведомым законам, и путь их темен и жесток…
И тут художник, ожидавший соседского парнишку, с которым давно сдружился, желая избавиться от своих мыслей, решил выйти из дому, но передумал и остался сидеть. Дверь на веранду растворилась, и появился некто в фиолетовом, вернее, в глаза ударило какое-то раздражающее свечение. Батюнин потом не мог вспомнить, почему ему пригрезилось фиолетовое, хотя в момент появления незнакомца он не удивился и не испугался, — будто считая, что так и должно быть. Он лишь слегка прищурился — с незваными зелеными гостями ему уже приходилось встречаться, а вот с таким зловеще вызывающим он сталкиваются впервые. «Совсем глаза подводят, — мелькнуло у него в голове. — Такого агрессивного цвета в живой природе не существует…»
Раздался вежливый, негромкий и даже приятный голос — спрашивали, можно ли войти. И Батюнину показалось, что этот вкрадчивый голос он уже не раз слышал. Странный гость был в меру плотен, с неуловимо асимметричным лицом, в капризных губах которого таилось некое высокомерие и брезгливость. Особенно привлекали глаза незнакомца — холодные, цепкие, ничего не упускающие, скользящие, словно проникающие под самую черепную коробку, и Батюнину захотелось подвинуть к себе блокнот и в быстром наброске схватить хотя бы взгляд пришедшего и его опущенные уголки губ, выражающие и вселенскую скорбь, и смешную и глупую обиду, словно кто-то насильно заставлял его присутствовать в жизни. Художник помедлил и, явно удивляя незнакомца, усмехнулся, а затем, не отвечая на вежливое «разрешите представиться», кивнул на кресло неподалеку от себя. Пришедший молча поблагодарил и сел, свесив узкие, красивые кисти рук с подлокотников. И тут Батюнина охватило странное пронзительное чувство, от чего он весь напрягся. К нему словно вернулась горячая, безрассудная молодость, мысли прояснились, а глаза обрели остроту и беспощадность.
— Нет, нет, ничего плохого у нас, Михаил Степанович, не будет, неожиданно мягко и тепло сказал странный гость. — Я огорчен, что являюсь причиной некоторого вашего беспокойства. Что поделаешь, я послан к вам и должен был прийти.
Батюнин ждал.
— Буду с вами совершенно откровенен, Михаил Степанович, — продолжал гость, несколько выждав. — Я к вам от силы, пришедшей кардинально переделать наш грешный мир по законом разума и гармонии, иначе человечество просто не выживет. Мы уважаем талант и мужество. Мне поручено передать вам высочайшее предложение, гарантированное абсолютно.
Батюнин, слушая незнакомца, пытался угадать, кого ему послал Бог соотечественника или кого-нибудь из вечных кочевников, не имеющих ни национальности, ни отчизны, но везде возникающих хозяевами и распорядителями.
— Ну так вот, дорогой и любезный Михаил Степанович, — благостно промурлыкают гость и, щелкнув замками неожиданно оказавшегося у него в руках изящного дипломатика, извлек пачку цветных фотографий. — Ну так вот, Михаил Степанович, перед вами Лазурный берег, вот Кипр, Флорида… Выбирайте любую из этих вилл, в любом месте… Если предъявленные райские уголки вам почему-либо не подходят, мы предложим другие по вашему желанию. Здесь все конкретные виллы, на обороте каждого фото — краткая характеристика и план, привязка к местности. Ваше короткое «да» — и вы владелец, со всеми вытекающими неукоснительными правами. Кроме того, Михаил Степанович, ваше короткое «да» — и вы будете обеспечены по самому высшему разряду… Да, да, Михаил Степанович, раз и навсегда. Вы заработали это право всей своей подвижнической жизнью, своим ярким, неподкупным талантом ваш счет в любом банке мира будет по мере расходов непрерывно увеличиваться…
— Свят, свят, изыди! — сказал Батюнин и перекрестился. — Сказки! За что мне такая благодать? — вторично изумился он, и впервые его брошенный на гостя взгляд приобрел неприятную, проникающую пронзительность действительно глубокого и беспощадного художника, стремящегося постичь тайну натуры, и что, видимо, почувствовал гость, в лице которого появилась скованность. Увидев это, старый художник успокоился.
— Право, кто вы и что вам нужно? Что за загадка? Легкая ирония хозяина была тотчас подмечена гостем, поспешившим изобразить обиду.
— Никаких загадок, уважаемый Михаил Степанович! — воскликнул он горячо. Никто не в накладе! Мы вам достойное вашему гению обеспечение… Да, да, да, сотрите тень раздражения с вашего чела — сами знаете, много званых да мало избранных! А вы, многоуважаемый Михаил Степанович, отдаете на хранение в надежные руки все вами созданное, понимаете, все! Мы закрепляем наше соглашение юридически, любой ваш штрих заносится в специальную прошнурованную опись… и скоро ваши выставки триумфально шествуют по планете, великие столицы вам рукоплещут!
Тут у Батюнина закружилась голова, лицо гостя поплыло в сторону, размазалось, послышался треснувший звон, и мучительное, почти убивающее наслаждение оплело сердце, — он едва не задохнулся. Потом в груди отпустило, но в широко открытых глазах, устремленных на щедрого гостя, продолжало светиться жгучее наслаждение. «Опоздали, братцы-кролики, подумал художник. — Да, опоздали, и теперь уже ничего не воротишь и ничего не изменишь, теперь я понимаю, как прав мой сосед, отец Игоря… Кстати, куда же запропастился парнишка? А я еще не верил. Я… А это ведь мой звездный час, — перескочила его мысль совершенно на другое, — Пик судьбы, как высокопарно выразился бы мой прозорливый сосед… Странный и тягостный гость, устроившись в кресле передо мной, не шутит, и, кажется, я догадываюсь о его истинных целях. И пришел он навсегда. Сила, приславшая его и решившая так кардинально переделать мир, естественно, шутить не любит. Они лишь только не знают, что я уже ушел и теперь пребываю вне их досягаемости… Жаль, я вынужден их так жестоко разочаровать…»
— Весьма любопытно, молодой человек, — сказал Батюнин. — Какие виллы, какие соглашения? Вы пришли и даже не представились. Что за сила за вами-то? А что если вы сбежали с какой-нибудь Канатчиковой дачи?
На породистое лицо гостя с большим разлапистым носом надвинулась тень прозорливой мысли.
— Разумеется, разумеется, Михаил Степанович, — проникновенно заверил он. — Как только мы получим ваше принципиальное согласие, вам тотчас будут явлены подлинные свидетельства нашей добропорядочности и чести. Мы никогда не нарушаем своих обязательств, многоуважаемый Михаил Степанович! — заверил он дополнительно и покосился на полупустой хрустальный графин с лимонной настойкой на столе.
— Допустим, и все же, кто это «мы»? — гнул свое Батюнин, начиная втягиваться в мистификацию. — Почему выбор пал именно на меня, старого, немощного человека, неудачника? Жизнь проскочила в непризнании и вот пожалуйте! Какая вам от этого корысть? Нет уж…
— Ах, не будем скромничать, — почти трагически воскликнул, всплеснув руками, гость и даже уронил изысканный дипломатик. — Каждый живет своим умом, у нас свой аналитический центр, он никогда не ошибается, как не ошибается сам Господь Бог! О, в вашем взоре, уважаемый Михаил Степанович, появляется нечто ненужное… Хорошо, хорошо! Вот вам мои документы и разрешите представиться: старший юрисконсульт Всемирного Аналитического Центра Корф Геннадий Акилович. Пожалуйста, прошу — служебное удостоверение, доверенность Центра на ведение переговоров и на заключение соглашения, даже на выплату аванса в разумных пределах… Ну, скажем, до пятисот тысяч долларов. Одно ваше слово, ваш росчерк, и я выдаю вам чек в самый надежный в этой стране банк, еще один ваш росчерк — и ваши деньги будут переведены в Швейцарию или куда вам будет угодно, и, конечно же, на ваше имя или на кого вам будет угодно, Михаил Степанович. Вы, конечно, представляете сумму?
— А вилла? — ошеломленно поинтересовался Батюнин. — На Лазурном берегу?
— Само собой, — подхватил Корф с готовностью, и из глубины его бесцветных глаз пробилась острая искра. — А это просто на карманные расходы, Михаил Степанович…
— Просто! — подхватил Батюнин. — Очень вероятно, что в этой стране, как некоторые сейчас выражаются, даже подобное просто? Ну-ка, — он придвинул положенные Корфом на стол бумаги и, поднося их одну за другой к глазам, стал пристально рассматривать и изучать. Корф же, поудобнее откинувшись на спинку кресла, ждал, пока чудаковатый старик окончательно созреет. Сам лично он бы гроша медного не дал за всю мазню этого реалиста в кавычках, но он всего лишь исполнитель высшей воли и рассуждать ему не положено. Ведь никто, кроме троицы посвященных и сосредоточивших в своих руках высшую справедливость, не знает истинных целей.
Корф бросил несколько беглых взглядов на стены — они были, по сути дела, пусты и голы, лишь несколько миниатюрных пейзажиков в претенциозных рамках лезли в глаза. В давно нечищенных, запыленных углах таился всякий, излюбленный художниками хлам, от мраморной головки Афродиты до лаптей и связки сушеных раков. Вглядевшись и еще не понимая, что же его так озадачивает в этих мещанских захоронениях памяти человеческой, он ощутил во всем кажущемся беспорядке вокруг некую неподвластную для его понимания стройность гармонии — здесь, пожалуй, присутствовала особая философия бытия с момента зарождения жизни и до ее завершения. Корф стал рассматривать каминную старинную бронзовую решетку — в ее рисунке он опять уловил все ту же, начинавшую его подавлять гармонию и, может, даже мистическую формулу какой-то тайны. «Ну, этот гениальный, как утеряют, питекантроп, еще преподнесет нам сюрпризы, — с неожиданной тревогой подумал он. — Совершенно же другая раса, на перепутье между животным и человеческим сообществом, и мы никогда не поймем ее кодов… Надо подходить к таким проблемам проще и рациональнее».
И затем что-то случилось. Корф, подготовленный для своей деятельности в специальных заведениях, закрытых для непосвященных, явно уловил предостерегающий об опасности сигнал, некий щелчок в потаенных глубинах своего сознания. В первую очередь мелькнула мысль об отсутствии в каталоге художника сведений об этой каминной решетке. Вся жизнь и творчество Батюнина были чуть ли не день за днем тщательно описаны, и решетка, выполненная по его замыслу и эскизам, как он только что сам в этом признался, никак не могла остаться незамеченной, хотя с натяжкой можно допустить какой-нибудь досадный сбой, мучившийся даже в такой идеально отлаженной машине, какой и был Всемирный Аналитический Центр. Но другое больше сейчас озадачило и встревожило Корфа, одного из лучших инспекторов Центра по славянству, а в основном по России, по русскому этносу, и он, продолжая хранить благожелательное выражение лица, уже предчувствовал, что вышел на давно затерянный во мгле времен след чего-то значительного, а, может быть, даже исключительного, глобального, что даст ему возможность шагнуть по службе на самый верх, в элиту, управляющую миром и будущим, ведь в его руках могут оказаться реальные знания, дарующие безмерное могущество над жизнью мира и даже над временем. Боясь спугнуть добычу раньше срока, он упорно пробивался к сокровенному; он был уверен в успехе и от того почти полюбил этого смешного старика, пытавшегося выявить подвох в безукоризненных и ясных бумагах.
Тут Корф, глядя на склоненную к столу голову хозяина, с некоторым удивлением подумал о невероятно густой шевелюре художника. Перед ним колыхалась спутанная, видимо, давно нечесаная седая грива, с застрявшими в ней кое-где сухими иголками еловой хвои. «Черт знает что! — подумал он с некоторым раздражением. — Недавно бродил по лесу, что ли… Кажется, лысых художников в природе вообще не существует… Я лично ни разу не встречал…» И тогда еще один всплеск тревоги заставил его замереть, и глаза его нестерпимо вспыхнули фиолетовым — ему повезло натолкнуться на тайные, мистические символы древнейших праславян, дошедшие каким-то чудодейственным образом до наших дней и заключающие в себе поистине беспредельные знания творящего Космоса, позволяющие якобы повелевать его могучими силами, даже временем и пространством… «Но этого не может быть! — попытался остановить Корф охватывающее его торжество. — Это же неполноценная, сорная раса, неспособная даже к собственной государственности, и только что на последних своих президентских выборах окончательно подписавшая свой смертный приговор. Если они выбрали главой государства назначенного им со стороны палача, о каких тайных праславянских знаниях, якобы передающихся из рода в род, может идти речь? Такого не бывает в самой природе! Ничтожество и гений, могущество богов рядом с нищетой и разложением?.. Не сходи с ума, ты можешь невзначай вляпаться в дурацкую историю… Какая-то глупая каминная решетка… Перестань… встряхнись и приди в себя — этого не может быть, потому что не бывает…» И, однако, он понял, что самой судьбой ему выпало на долю невероятное встать на порог бессмертия, а может быть, и перешагнуть его, и сколько он ни приказывал себе не смотреть в сторону камина, чтобы как-нибудь не насторожить хозяина, он не мог оторваться от странного, затягивающего, живого ритма рисунка в бронзе… Еще немного, и он уже был вовлечен в колдовское, неостановимое, солнечное движение и, ужаснувшись, несмотря на все свои попытки, не мог из него вырваться — оно несло и сжигало его, и от этого его охватывало ни с чем не сравнимое наслаждение исчезновения… И тогда, не выдержав, он страстно вскрикнул и очнулся от своего собственного потрясения. Словно в ответ на его мысли Батюнин поднял голову, и опять его вбирающий взгляд заставил Корфа почувствовать себя неуютно и неловко.
— Что же, Михаил Степанович? — тем не менее спросил он весело, уже как бы заранее определяя положительный ответ хозяина.
— Что же, — тихо и неопределенно повторил старый художник. — Это, пожалуй, самый невероятный случай в моей жизни. Просто — необъяснимый! Человек, давно всеми забытый и даже похороненный, вдруг оказывается кому-то нужен, позарез необходим, да еще по такой цене! Прошу прощения, я в это поверить не могу… Не могу, и все!
— Михаил Степанович, дорогой…
— Извольте объяснить, кому и зачем понадобилась моя старая мазня? прервал Батюнин. — Нет, нет, уважаемый Геннадий Акилович, извольте изложить свои мотивы… Я старый и нищий — да, это так, но смеяться над собой я никому не позволю! Кстати, вы пьете водку?
— Да, пью, — неожиданно улыбнулся Корф. — Рюмочку с вами с удовольствием.
— Прекрасно… У меня нечем закусывать, вот только яблоки… немного старого сыру. Должен был уже приехать соседский парнишка, Игорек, кое-что привезти… Я послал его на Арбат кое-что продать из моих шедевров. Продать или произвести натуральный обмен, а его все почему-то нет… Закусим яблочком, вот нож.
— Яблоки — это великолепно! — опять одобрил Корф, и они выпили.
Водка показалась гостю чересчур крепкой, и он тотчас изобразил удовольствие и даже восхищение. Хозяин же, словно ожидая новых чудес, глядел на него молча и внимательно.
— Признаюсь, Михаил Степанович, я и не ожидал другого, — справившись со спазмами в горле, приветливо сказал Корф. — За объяснением далеко ходить не придется. Человечество зашло в тупик, необходимо отыскать иной путь и иной смысл его движения. Грядет совершенно неведомая цивилизация, основанная на иных законах бытия, даже в иных энергетических ипостасях. Остановить или переменить этого никак нельзя — человек слишком ничтожен перед законами всесильного Космоса. Нынешняя цивилизация трагически рухнет, вот и намечен список ученых, художников, философов, чье наследие должно быть сохранено для будущего. Кроме того, нет смысла будоражить людей несбыточными химерами, люди должны быть подготовлены к предстоящей катастрофе и должны воспринять ее спокойно, с достоинством, как суровую неизбежность.
— А-а! — сказал Батюнин и налил из графинчика еще по стопке. — Ну, мотив серьезный… Прошу! Вы мне открыли глаза на происходящее…
Они вновь выпили, и Корф с отвращением покосился на остатки водки в графинчике, на полузасохший искрошившийся сыр в тарелке, затем все-таки выбрал кусочек и пожевал. Один глаз у него приобрел стишком уж фиолетовый оттенок, и у Батюнина от этого установилось несоответствующее моменту игривое расположение духа.
— Благодарю вас, — сказал он весело и свободно, возвращая бумаги Корфу. И кто же все-таки за вашей спиной, Бог или сатана, Геннадий Акилович? Я имею в виду ломавшего вас.
— Не то и не другое! — воскликнул Корф, и ответная приветливая улыбка раздвинула его губы. — Просто самая примитивная необходимость.
— А если я не соглашусь? — не унимался все больше приходивший в отличное настроение Батюнин.
— Ах, оставьте фантазии, уважаемый Михаил Степанович! — с живостью подхватил Корф. — Это никак невозможно, об этом я вам даже думать не рекомендую! Трагически опасно!
— Почему, почему? — добивался Батюнин. — Я сам себе хозяин, наконец-то у нас объявлена демократия, и позвольте уж мне быть свободным человеком!
— Еще одно трагическое недоразумение! — воскликнул Корф и озарился яркой фиолетовой улыбкой, даже его превосходные, крепкие зубы просияли. — Это вам только кажется, Михаил Степанович, что вы сами себе хозяин, это оптический обман, мираж воображения, галлюцинация души! А на самом деле ничего подобного нет и быть не может. Михаил Степанович, вы же умный человек, не старайтесь Быть смешным — у вас не получится… Давайте, я вас отвезу в нашу нотариальную контору, мы быстренько все оформим, и вы действительно станете сам себе хозяином!
— А если я положу на вас крест, Геннадий Акилович? — поинтересовался Батюнин.
— Ради Бога, валяйте, Михаил Степанович… Если вам доставит удовольствие, развеет всякие гнусные сомнения — валяйте! — торжественно разрешил Корф и гордо выпрямился.
— Не боитесь развеяться яко прах? — теперь уже не совсем уверенно спросил Батюнин, и его гость, весь заструившись фиолетовым, раскатисто захохотал.
— То-то же, милый Михаил Степанович, то-то же! — возгласил он многозначительно. — Сами боитесь? Правильно боитесь! Жизнь одна, другой не будет даже у гения!
— И все же при самом горячем желании я не могу подписать ваши бумаги, угрюмо сказал Батюнин, привычно прихватывая горлышко графина и вновь наполняя рюмки. — Я — честный человек, я — гол как сокол, у меня не осталось ни одной самой завалящей работы… Ни эскиза, ни наброска — все продано и пропито! Вот только каминная решетка, выполненная по моей прихоти в пору расцвета соцреализма. Что вы так трагически смотрите, я ведь весь свой долгий век был изгоем, все свое вбухал в русскую идею, и вот… завершение- пришлось отдавать свое самое дорогое за кусок хлеба, за бутылку водки… И я, поверьте, мой странный и непонятный гость, рад своей нищете, по крайней мере даже сейчас ничего подписывать не придется, терпеть не могу никаких бумаг… Чего же вы скалитесь?
— Вашей детской наивности! — с готовностью откликнулся Корф, ярко полыхая фиолетовым и заставляя Батюнина невыносимо страдать. — Посмотрите, Михаил Степанович, внимательно, здесь ничего не пропущено?
В руках у него оказался роскошный альбом-каталог, на суперобложке одна из самых любимых картин Батюнина «Обнаженная в ландышах» и его имя — крупно и золотом. Корф, явно наслаждаясь, пометил и протянул альбом хозяину. И старый художник, не желая того, принял его занемевшими руками, сразу опустившимися от тяжести на стол. Взгляд у него стал почти безумным, и, когда он развернул книгу и стал неуверенно листать ее, переворачивая каждую страницу словно могильную плиту, лоб у него покрылся холодной испариной. Наконец он поднял страдающие, больные глаза и не увидел своего страшного гостя.
— Не может быть, — обреченно сказал он. — Этого никогда не было… ложь, наваждение… мистификация! Как вы устроили?
— Помилуйте, какие могут быть сомнения? — донесся до него чей-то далекий, хотя и знакомый уже голос. — Вы держите альбом в руках, неужели вы не верите собственным глазам? Налью еще по рюмочке, с вашего разрешения. Должны вы успокоиться, Михаил Степанович, нельзя так… Что вы! Вы стишком дорого стоите… Вы должны верить. Прошу вас, прошу…
— Черта с два! Меня никому не околпачить, любезнейший Геннадий Акилович, я слишком долго жил! — вновь запротестовал художник, стараясь по-прежнему не поддаваться искушению. Перед ним потихоньку уже начинало проясняться, и он, выхватив стопку из рук Корфа, залпом выпил лимонную, по-стариковски крякнул, потер почему-то руки, пожевал бескровными губами и сказал:
— Знаете, дорогой Геннадий Акилович, мне кажется, становится чересчур прохладно. Я разожгу камин… это всегда делал Игорек, да… вот сегодня его почему-то нет и нет… Вы не против?
— Отчего же? Конечно, нет, — отозвался Корф и шевельнулся, устраиваясь удобнее. Он давно взял себя в руки и уже предчувствовал близкое завершение своей миссии. Сначала нужно было сделать главное, подписать соглашение, а потом можно будет не спеша и основательно разобраться со всей остальной чертовщиной. Время и возможность для этого представятся… Ему не понравился мгновенный, брошенный на него взгляд хозяина: какая-то странность в построжавшем лице, в губах — змеящаяся короткая усмешка, но все это тоже могло только показаться — чужой дом, чужая душа потемки, как говорят в этой дикой стране, и лучше всего хранить спокойствие и выдержку. И Корф послал хозяину легкую, безмятежную и понимающую улыбку.
Батюнин, присев перед камином, сложил в нем дрова, подсунул под них кусочек сухой бересты и чиркнул спичкой. «Чудак, чудак, — подумал Корф с невольным чувством собственного превосходства, глядя на художника, протянувшего руки к разгоравшемуся огоньку, — какая жарища, а ему холодно… Чудак… Что это… Бог мой…» Он еще успел подтянуть к себе бумаги, оставленные хозяином на столе, успел схватить другой рукой свой изящный, крокодиловой кожи, дипломатик и слегка приподняться. Но в следующее мгновение, совершенно парализованный, рухнул обратно, и закипавший в нем крик беззвучно оборвался. «Вот она, их тайная и страшная власть», — еще успели промелькнуть у него в голове короткие и рваные мысли.
— Я, кажется, схожу с ума… Плата за самонадеянность…
И все дальнейшее он мог только видеть, осмысливать он уже ничего больше не мог — мозг оцепенел. Огонь разгорелся необычайно быстро каким-то одним беззвучным взрывом, и тотчас стала светиться, раскаляясь, каминная решетка. Колдовской рисунок на ней пришел в бесконечное, затягивающее кротовое движение. И сразу же пространство этого неодолимого движения раздвинулось, и художник, до сих пор согбенный, с опущенными плечами, выпрямился, широко раскинул руки, словно стремясь охватить всю свою бешено несущуюся в вечность вселенную, и Корф вторично содрогнулся от неизъяснимого чувства сладострастного ужаса. У него на глазах вершилось невероятное — вместо глубокого и бессильного старика перед ним возник ослепительно юный, смеющийся от неведомого счастья человек. И затем он растаял, исчез в веселом и буйном пламени, и тогда Корф увидел, что горит уже весь дом, со звоном трескаются и рассыпаются стекла, из всех дверей рвется огненный, гудящий ветер. Корф хотел вскочить и бежать и по-прежнему не мог шевельнуться. Теперь и ему самому было не страшно, — его все сильнее и властнее охватывало теплое чувство возвращения к самому дорогому и заветному в себе, давно забытому. Старый дом, построенный еще в начале почти пролетевшего века, обрушился во внутрь себя, и высоко в небо понесся столб огня и дыма. Именно в этот момент, расталкивая сбежавшихся на пожар местных обывателей, бестолково кричавших друг другу о вызове пожарных, о ведрах и баграх и про всякую иную чепуху, о коей любит кричать, выказывая свою природную смекалку и смелость, всякий русский человек на пожаре, особенно когда все уже сгорело и тушить больше нечего, и появился посланный Батюниным в Москву на Арбат тот самый соседский Игорек с тяжелой, набитой продуктами и бутылками хозяйственной сумкой. Вся жизнь, казалось, сосредоточилась сейчас в его потрясенных глазах, устремленных на опадающее пламя, дожиравшее остатки старого дома. Он выронил сумку из рук и завороженно двинулся к пожарищу. Его окликнули раз и другой, затем, видя, что он ничего не слышит, один из пожилых мужчин выскочил из толпы и, подскочив к очумевшему мальчишке, схватил его за плечи и рванул назад.
— Стой! Спятил! Сгоришь, поросенок! Здесь уже ничем не поможешь!
— Да, — сказал Игорь, крупно вздрагивая. — Он ведь обо всем этом вчера говорил… а я ничего не понял… Как же так… А я?
— Ты что? Думаешь, там… кто-то сгорел? Здесь, говорят, старый художник жил… еще из тех застойных времен… говорят, совершенно неудачник… а? — спросил мужчина, по-прежнему придерживая чересчур уж впечатлительного и нервного паренька за плечи и легонько отталкивая его подольше от огня. Ответа от своего невольного подопечного он не получил, но, встретив его взгляд, отдернул руки и торопливо попятился. Его словно потянуло куда-то в провальную глубь, и от предчувствия неумолимо близившегося обрыва закружилась голова, — он долго не мог прийти в себя, а когда очнулся, вокруг почти никого больше не было.
Улыбка ребенка (Рассказ)
Влажный горячий ветер идет с океана, только в тени от скал еще можно дышать. «Ну-ну, здорово, старина!» — говорю я мысленно, глядя поверх невысоких, непрерывно бьющих в прибрежные камни волн, и прихожу к узкой песчаной отмели; передо мною соленая прозрачная вода; сзади выветрившаяся, почти отвесная стена из красного камня; в сильные штормы волны накидываются на скалы и разрушают их. Я, как всегда, один здесь; медленно стаскиваю с себя рубашку, брюки; из-под обломка камня, который я нечаянно цепляю, выскакивает мелкий ловкий краб и быстро, боком-боком бежит к воде; я загораживаю ему дорогу, он сердится, подскакивает, и я даю ему уйти: пусть, зачем обижать такого маленького?
Ложусь на песок, от солнца пот не успевает выступить, высыхает; и в душе все как выжжено — пусто, легко, ничего не было, и нет, и не будет, только вот это беспощадное солнце льется сквозь крепко сжатые веки, льется непрерывно; и я поскорее перехожу в тень от скалы и опять ложусь, оставив на солнце лишь ноги до колен. Они все время болят, и их надо хорошо прожарить; я через силу ощупываю себе грудь, плечи, лицо; да, я никогда не был красив, а теперь вот, после несчастья, совсем опустился. Правда, тетушка Молли всегда говорит, что выгляжу я не больше чем на тридцать, но я-то сам знаю, сколько мне в самом деле, и знаю, почему эта ложь тетушке нравится. Идиот, на что я ухлопал всю свою жизнь? А теперь что можно сделать? Только вспоминать и жалеть, а больше ничего.
Что-то все время колет бок, я шарю под собой, нащупываю в песке несколько ракушек и забрасываю их подальше. Небо, очень синее и далекое, успокаивает, и, как только я начинаю глядеть вверх не отрываясь, сразу приходит дрема.
Я вздрогнул и открыл глаза, словно от резкого толчка. Опять прозвучал мучительно знакомый голос:
— Чарли, старина! Вы?
Огляделся — пустынная отмель, красные скалы, по-прежнему идут на камни невысокие волны и слышится ритмичный раскат разбивающейся волны. Э-э, опять та же чертовщина, пора бы и пообедать, а то на голодный желудок всегда что-нибудь мерещится. Но разморило вконец, встать трудно, еще труднее открыть глаза, а земля подо мной движется, я чувствую, как она движется, я знаю, что она движется, и у меня все время такое ощущение, что вот-вот она совсем выскользнет из-под меня и я останусь совершенно один ни земли, ни камня, ни живого краба. И я лежу, боясь открыть глаза, задрав острый подбородок, выставив костлявую, узкую грудь и худые колени, парящий вверху орел наверняка меня видит и считает, что это старая, нестоящая падаль. Я знаю, что орел висит как раз надо мной. Я быстро открываю глаза и вижу в небе медленно плывущую далекую черную точку: высоко-высоко, эх, негодяй, надо же так уметь! Потом я ни о чем не думаю; было самое страшное открыть глаза, а теперь ерунда, вот только в ушах начинает болеть, словно там плещется этот проклятый океан, а голова огромная, гулкая, ну совсем раковина, старая, пустая. Пропала голова. Да, да, вот оно, все начинается опять, но это ничего, только и на этот раз нужно выдержать и не поддаться. Все чушь! Это все океан, ядовитый зеленый океан, вот, вот, опять этот голос, хриплый, надтреснутый знакомый голос, и он опять будет рассказывать о знакомых надоевших делах. Я не хочу больше ни о чем думать, ни о чем вспоминать! Ну да, я был молодым и сильным, у меня были родители, потом женщины; но зачем мне об этом рассказывать? Вот, вот, опять тот же тихий свист, тонкая раскаленная игла сверлит воздух, он долго не обрывается.
А, к черту, я знаю, что нужно сделать. Вот так. Я рывком поворачиваюсь и начинаю сыпать себе на голову горячий песок, он лезет в глаза, в уши, забивает ноздри и рот, но мне хорошо. Однако сегодня определенно что-то новое. Этого еще мне не хватало.
— Здравствуй, здравствуй, — говорю я. — Послушай, где это я тебя видел?
Какая интересная все-таки промоина, по ней можно, оказывается, спуститься в самый центр Земли, она, как бурав, вворачивается все глубже и глубже; нет, нет, это действительно чудесное изобретение, тут ничего не скажешь. Молодец, Ульт, молодец, я рад за тебя.
Конечно, песок, на котором я лежу, и скалы вокруг — чепуха, я ведь старше, я был вечно и только сейчас перестаю существовать. Я ведь помню бури Гондваны и рождение Гималаев, когда крупная лихорадочная дрожь била глупую круглую Землю… А вот и бескрылые птицы моа. Господи, как они велики, чу… осторожно! Я слышу, напрягшись, как они проходят мимо. «Топ-топ-топ», — слышу я, ноги у них похожи на расчетверенные копыта, и мне кажется, что одна из них вот-вот наступит мне на голову и голова хрустнет.
Я пугаюсь, начинаю думать о другом и потихоньку успокаиваюсь. Ну что ж, вернемся назад, думаю я. Как всегда, ну, ну, еще немного, хорошо все-таки жить, если над тобою могут вот так шелестеть пальмы, и синева неба так густа и спокойна, и недалеко в темной тропической зелени белеет большая вилла. Сколько же это я здесь не был: год, два или все десять? Очень знакомое место. Да, конечно, вилла принадлежит сыну моего старого друга профессора Джеффа Ульта; я вспоминаю, как однажды профессор приехал отдохнуть к сыну недельку-другую в кругу внуков; их было трое, два мальчика и девочка; девочка родилась всего десять месяцев назад и теперь училась ходить; профессор любил ее больше всех. Он любил сидеть у кровати ребенка, когда она засыпала; бронзовые слуги неслышными тенями скользили мимо: он их не замечал. У девочки было смуглое личико и синие глаза. Широколобый, усталый профессор садился где-нибудь в стороне, так, чтобы видеть лицо ребенка, опирался на набалдашник трости и не шевелился часами. А по утрам, когда девочку выносили на нижнюю террасу играть, профессор тоже устраивался где-нибудь неподалеку, ему нравилось слышать голос ребенка. Это были для него самые приятные часы, воздух шевелили бесшумные вентиляторы, вдоль всей террасы били струйки воды из труб, спрятанных в зелени. Я, в свою очередь, любил украдкой понаблюдать за профессором, меня тянуло к нему, мы с ним были связаны крепко и давно. Но профессор ничего не замечал; ни болезненно-яркой красоты залива, ни губастой кормилицы-мулатки, отвечавшей на все вопросы заученно и односложно: «Да, сэр, нет, сэр». Он или глядел на девочку, или вслушивался в ее голосок и о чем-то думал, и никто из живущих рядом с ним не знал о чем. Меня это бесило, а сын с горечью говорил, что отец стареет, в прошлые годы такого за ним не замечалось, невестка, со своей стороны, пыталась отвлечь старика и терпела неудачу за неудачей. А старшие внуки платили деду его же монетой — полным равнодушием; и жизнь в вилле шла своим чередом; вышколенные слуги не замечали того, что им не нужно было замечать. И только Мэт, молодая хозяйка виллы, со временем начинала чувствовать все большее беспокойство при виде высокой сутуловатой фигуры свекра. Она замечала, что девочка в присутствии старика меняется, перестает шуметь и улыбаться, упорно смотрит в одну точку; если старик подходил к ней во время сна, она, бывало, просыпалась и начинала беспокойно шевелить руками. Девочка в присутствии деда никогда не плакала, и это особенно тревожило молодую миссис Ульт. Когда она после некоторых колебаний поделилась с мужем своими сомнениями, тот отмахнулся:
— Что ты, Мэт. Придумала вражду между шестидесятилетним человеком и ребенком… Да и по крови они близки, привыкнет. Не будем огорчать папу из-за таких глупостей.
Женщина промолчала, но вряд ли она согласилась с мужем, в глазах у нее так и остались недоумение и тревога.
Бывает так, что время исчезает и ты можешь пролежать двести или пятьсот лет и остаться таким же; приятно это знать и никуда не торопиться; нет, теперь никто не убедит меня в необходимости спешить. Приятен горячий крупный песок, я отлично помню, что перешел в тень под скалу; сейчас мне все время кажется, что именно в эту минуту вверху срывается камень и повисает прямо надо мной, я боюсь открыть глаза, ведь камень сразу ударит вниз, в меня. Странное ощущение! Пока я не погляжу вверх, камень будет висеть себе и висеть, но ведь нельзя долго удержаться, это не в человеческих силах. И я пытаюсь отвлечься, уйти в сторону или вернуться назад, ведь я хорошо помню, что минуту назад был где-то в другом месте, среди людей, вот их я никогда больше не увижу. Кого? Ах да, людей. Да и не хочется, тяжело на них смотреть, нервных, обозленных. Смешно, они всегда торопятся догнать и схватить то, чего в природе нет. Выдумали искусство, а оно лжет, наука же приносит одни несчастья. Сейчас меня ничто не может удивить. Люди…
А! Джефф Ульт, вот оно что, чуть не забыл окончательно! И случилось-то всего два года назад, когда я приехал на виллу Ультов — мы работали вместе с профессором, были старыми друзьями, но по целому ряду вопросов мы вообще не могли столковаться и оставались противниками. Когда мы впервые встретились и познакомились, в дебрях атомной физики прокладывали первые тропки, тупиков было много, а Джефф Ульт только что стал доктором и получил собственную лабораторию нас сблизило тогда изучение атомного ядра, и уже тогда Ульт был фанатиком, — приходилось проводить в лабораториях по два-три месяца кряду, не разбирая ночей и дней. Ну что ж, давайте еще раз встретимся, профессор Ульт. Здравствуйте, шеф, я рад вас видеть.
— А, Чарли! Вы еще живы, старина!
— Жив, профессор, видите, жив, а у вас как дела?
— Мои дела в порядке, Чарли, мне теперь ничего не нужно. Когда-то я был молод, полон сил и замыслов, а теперь я понял, что все это чушь. Ха-ха, что вы на меня так смотрите? А, Чарли? У меня вполне нормальная психика, Чарли, я не кусаюсь.
Я слушаю его и улыбаюсь, мне хорошо, что он после долгого отсутствия пришел и сел рядом со мной; да, это всегда был не человек, а кибернетическая машина, набитая теориями, формулами, расчетами, идеями. Ядро, ядро, лабиринт атомного ядра — Ульт чутьем большого ученого угадывал неисчерпаемые возможности атомного ядра и кружил вокруг него, не давая покоя ни себе, ни другим, и вся остальная жизнь до поры до времени проходила мимо него, незамечаемая. Например, он приятно удивился, когда узнал, что у него родился сын.
Окончательно Ульт прославился, когда ему сообщили в сорок пятом году об окончании войны. Как сейчас помню, он сосредоточенно оглядел своих сотрудников, пожал плечами и сказал, что это никого из присутствующих не касается. И никто бы не поручился, что Ульт запомнил этот разговор больше чем на пять минут. Помнится, именно в то время ему не давала покоя блестящая теория нового способа дробления атомных ядер заурановых элементов; и все мы уже работали в подземных лабораториях Черного Острова, удаленного от материка на полторы тысячи миль. Я украдкой гляжу на Ульта и не узнаю в нем, в тихом, успокоенном, того одержимого: он даже не поинтересовался тогда, почему институт переместили с материка на Черный Остров, его лишь возмущала потеря времени, но он вскоре же был вознагражден. В его распоряжении оказались лаборатории-заводы, оборудованные по последнему слову техники и научной мысли; и он, потирая длинные сухие руки, днями ходил по нескончаемым лабораториям и цехам. Я несколько раз слышал, как он повторял: «Сколько времени потеряно! Если бы мне дали это лет на тридцать раньше!» А вечером за чашкой турецкого кофе в подземном баре он сказал, что отдыхает от шума и грохота города, что люди науки так и должны работать — в тишине и уединении, мол, человеческая жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустяки вроде конференций и диспутов. Я осторожно спросил, не находит ли профессор немного странным наличие большого числа военных на острове, пропускную систему, отсутствие наземных сооружений, кроме маскировочного рыбацкого поселка. Ульт не понял меня, вероятно, даже не слышал.
— Сто тысяч миллионов, — сказал он, глядя в чашку с кофе. — Сто тысяч миллионов, Чарли.
— Чего, долларов?
— Градусов, Горинг. Вы понимаете, коллега, что освобождение человечества — в ядре атома, в этом колоссальном сгустке энергии? Я вот не представляю, как обуздать такую температуру, положить ее в карман человеку. Все, что открыто до сих пор, пустяки по сравнению с тем, что у меня здесь. — Он шлепнул себя по лбу. — Наперсток моего ядерного горючего, — косым размашистым почерком он стремительно набросал цепь сложных формул прямо по матовому стеклу столика и тут же тщательно стер, — будет весить три тонны и сможет осветить и обогреть страну с населением двести миллионов человек в течение двух лет.
Я взглянул ему в глаза и с содроганием отвернулся. Мне захотелось спросить, что будет, если такой наперсток просто взорвать. Я уже открыл было рот, но вовремя заметил, что к нашему разговору прислушиваются двое посторонних. Впрочем, разве сам Ульт не знал, что была Хиросима и в ней его доля?
Ульт сидел метрах в двух от меня, я видел его хрящеватое ухо и красную морщинистую шею, он как сел, так и замер, и мне все время хотелось протянуть руку, чтобы убедиться в его реальности.
— Джефф, — сказал я негромко, напряженно всматриваясь в него, и он поглядел на меня.
— Да, Чарли, я слушаю, — отозвался он, спокойно и как-то умудренно глядя на меня; у него было сейчас чужое, незнакомое лицо, он словно знал, о чем я минутой назад думал, и поэтому в углах серых губ была у него горечь.
— Знаете, Джефф, как-то странно мы сейчас сошлись и даже не удивились друг другу. Вот как мы стары, у нас и способность радоваться исчезла.
— А чего нам радоваться? — спросил он тихо. — Жизнь человеческая очень уж осложнена. Да, я знаю, что вы обижены, в душе вы всегда считали себя гением. Поверьте, это далеко не так.
— Чепуха! — возмущаюсь я. — Вы же знаете, Джефф, что это чепуха.
— Не знаю, — говорит Ульт, вздохнув. — Пойдемте.
— Куда?
— Пойдемте.
Он встает, мне становится не по себе, и я крепче вжимаюсь затылком в горячий песок и зажмуриваю глаза.
— Нет, нет, — бормочу я, — не хочу, никуда я не пойду. Мне и здесь достаточно хорошо.
— Ну, вставайте, Чарли, — настойчиво говорит он. — Сейчас не время заниматься разговорами, пойдемте.
Я хочу отказаться, но неожиданно для себя встаю и с удивлением осматриваюсь. Вот беда, конечно же, это Черный Остров, косые лучи пронизывают и плавят черный базальт. Нет, я не сплю: вот ревет океан, вон чахнет редкая растительность в расщелинах скал, издыхают рыбы в пене прибоя, — очевидно, была буря.
— Ну, хватит, Чарли, — говорит мне Ульт. — Подышали, пора спать, завтра рано подниматься, дело не ждет. Идите ужинать.
Ульт исчезает в кабине скоростного лифта, меня уносит в другом направлении, я прихожу к себе в комнату, включаю вентилятор и бессильно падаю на кровать. И только потом расстегиваю ворот рубашки и на ощупь сбрасываю туфли; они мягко шлепаются на пол, и я начинаю отдыхать. Вот тебе и штука, думаю я, оказывается, это все тот же Черный Остров, лаборатории, свинцовые двери, похожие на могильные плиты; открыть их без помощи автомата человеку не под силу. И на многих дверях кровавые росчерки надписей: «Не входить!» Кто-то невидимый руководит автоматами, я лежу, в голове тупая боль, и я думаю, что есть хозяин Черного Острова, нечто безжалостное и неумолимое. Я не трушу, я все больше прихожу к мысли, что мне нечего терять, и я, успокаивая себя, громко смеюсь. Ведь это не впервые: везде, где бы я ни был, я и раньше чувствовал присутствие хозяина, и во сне мне часто хотелось прошептать молитву, но я еще в детстве забыл их все. Я лежал, обливаясь липким потом, смеялся и думал, что в любой момент могу уехать с Черного Острова — все-таки я свободен в своих поступках и решениях, чего мне бояться? Бог? Какая чепуха! Атомная физика — и бог. Надо заснуть, а завтра чашка кофе, хороший завтрак, и все пройдет. Просто сказывается переутомление от непрерывной работы, от изоляции — она особенно отражается на нервах. И нечего думать, на кой черт мне все эти размышления о человечестве? Что тебе человечество? У тебя мозг и знания, у них деньги. Тебе нужно работать и жить, на Черном Острове платят в семь раз больше. Его деньги? Ты не знаешь, кто он. Ты лишь знаешь, что он вездесущ. _Хозяин_! Его воля выдолбила гигантские катакомбы, наполнила их движением и светом, за свои деньги хозяин стоит за спиной у каждого на этом проклятом острове, в этом угрюмом царстве камня, искусственного света, счетных машин, автоматов. У меня здесь по-настоящему один друг — кургузый человек с циферблатом вместо груди, в резиновом футляре. Ровно в девять он до смешного важно начинал мигать электрическими глазами, методично указывать себе на грудь и попеременно поднимать одну из своих четырех ног. Я любил конструировать подобные безделки — единственный отдых на острове. Если я не успевал встать за десять минут, человек-часы прыгал мне на грудь и начинал отчаянно верещать. Вот и сейчас — снится мне, что ли? Таращу глаза и долго не могу нащупать подпрыгивающий автомат, потом долго и тщетно оглядываюсь: в дальнем углу мелькает громадная человеческая тень, очертаниями напоминающая мистера Крэсби — директора Черного Острова, слово которого закон для всего живого и мертвого на острове. И только с профессором Ультом любезен мистер Крэсби, только в разговоре с ним у мистера Крэсби сияют крупные зубы, и это всем понятно. Профессор Ульт — мировая величина в атомной физике, сейчас он на пороге нового большого открытия — недаром его так ревностно охраняют, он уже много лет негласно засекречен. Временами даже я не вижусь с ним по месяцу и больше, на звонки по телефону отвечают, что господин профессор занят и подойти не может. Голос отвечающего всегда непреклонен, и каждый раз мне мерещится тень мистера Крэсби. Иногда я думаю, что начинаю сходить с ума: ведь и мистер Крэсби подставное лицо. Все равно никому не узнать настоящего хозяина, все равно не увидеть его лица: ни имени, ни лица у него нет. Это просто хозяин.
Я встаю с постели с головной болью, делаю несколько вялых гимнастических движений и замираю. Из большого зеркала на меня смотрит высокий костлявый старик, с большой сухой головой и с ненормально пристальным взглядом. Я с усмешкой рассматриваю его. В этом теле когда-то рождались и гасли страсти, в мускулах переливалась жадная сила. Ты помнишь, старик, женщин? Нет, не помнишь. Все прошло мимо, и жив один мозг, холодный, бесстрастный, способный только рассчитывать и вычислять. Все остальное отдано ему — _хозяину_.
— Ха-ха-ха… ха!
Неожиданный смех звучит глухо и безнадежно; в подземных помещениях звуки вообще быстро угасают. Я медлю, одеваюсь; эскалатор выносит меня в кафе — у меня часа три свободного времени. Я оставляю почти нетронутый завтрак и по сложной системе лифтов опускаюсь вниз, в длинный, залитый мертвенным светом коридор. В дверях появляются и исчезают фигуры в белом широкий коридор многократно разветвляется. Я медленно иду из отсека в отсек, провожаемый внимательными взглядами дежурных офицеров и мертвыми глазами плафонов опасности. На одном из поворотов я сталкиваюсь носом к носу с профессором Ультом; он стремительно шагает по пустому, почти квадратному коридору, заложив руки за спину и наклонив далеко вперед голову; у меня опять такое чувство, что, если я к нему прикоснусь, он исчезнет. У него кривятся серые губы, глаза воспалены, он еле сдерживает себя.
— Горинг, постойте. — Он притрагивается к борту моего пиджака. — Где вы опять пропадаете? Я вас не вижу, старина.
Я молчу, я мог бы спросить профессора о том же.
— Вы скверно выглядите, Ульт, — говорю я, присматриваясь и отмечая новые изменения в лице Ульта: больше нависли на глаза брови, стали заметнее большие уши.
— Ерунда! — профессор глядит мимо меня. — Ерунда, Чарли! Наука на пороге величайшего открытия… Фактически, Горинг, мои исследования привели к созданию нового сверхтяжелого элемента. Он бесконечно устойчив сам по себе. Я назвал его сверхэлементом «А».
Я гляжу на него, и у меня противно сосет под ложечкой, я всегда боготворил профессора Ульта, великого физика и безумца. Я завидовал ему, а сейчас я его ненавижу, от него веет страхом. Я вспоминаю все разговоры, которые велись на Черном Острове вокруг новой работы Ульта: последние месяцы все на острове подчинено его изысканиям, и говорят, что Ульт создал принципиально новое вещество совершенно немыслимой силы и теперь занимается разработкой путей его использования. И говорят, уровень современной техники не позволяет использовать это вещество в промышленных целях и что одна тонна его в кубическом сантиметре способна вскипятить Балтийское море. При этом сотрудники Ульта как-то натянуто улыбались — я боялся этих улыбок. Говорят, двух ближайших помощников Ульта увезли на материк со следами тяжелого психического расстройства; перед этим они имели с Ультом долгий разговор и настаивали на уничтожении всей документации по своему открытию. Поговаривают и о бомбе из сверхэлемента «А», способной испепелить материк, равный Африке.
Ульт долго глядит на меня, опускает набрякшие веки.
— Я знаю, о чем вы думаете, Чарли, — говорит он просто. — Не верьте, никакой бомбы не будет. Сверхэлемент есть, его уже около четырех тонн в моей лаборатории, но я не такой дурак. — Он усмехается. — Все расчеты, все, что касается синтеза сверхэлемента, здесь, в моей голове. Это надежный сейф. — Он притрагивается к своему лбу. — Иначе они бы давно вышвырнули меня с острова. А здесь есть все, что мне необходимо для окончания работы. Пока я не открою безопасных способов использования сверхэлемента, правительство не получит документации. Сейчас я в тупике, но я найду… Что вы, Чарли?
Я с трудом перевожу дыхание; я же не могу сказать Ульту, что увидел над ним громадную тень _хозяина_. Ульт все равно бы не поверил.
— Знаете, Чарли…
— Да?
— Всем нам нужен отдых. Я думаю сделать перерыв, пожить с месяц у сына на вилле. Берите отпуск и приезжайте.
— Вряд ли меня отпустят сейчас, Джефф.
— Пустяки, я скажу Крэсби.
Дальше, дальше… А, черт, откуда-то из-под черепа тонкой струйкой выбивается боль; я держусь за голову и мычу; это от жары, зря я, конечно, согласился и приехал сюда. Покачиваясь, я ухожу под навес, надо крикнуть, чтобы принесли воды, и не хочется раскрывать рта. Это ведь не отдых, а какой-то полутон, и втайне все встревожены состоянием старого профессора: здесь ничего не знают о Черном Острове, и поэтому можно предполагать, что на свете есть счастливые люди. Да, я чувствую какую-то зависимость от Ульта и все время думаю о нем; мне это неприятно, но я ничего не могу поделать с собою, иногда мне даже кажется, что нет на свете ни меня, ни Ульта, а есть из нас двоих что-то одно, единое. Я все знаю: когда Ульт встает (а встает он всегда вместе с солнцем), как он до завтрака бродит по берегу, молчаливый, прямой, похожий на штангу циркуля. Между прочим, он поразительно неуместен под ослепительным солнцем тропиков. Все равно здесь он инородное тело, и кто видит его в утренние часы, безошибочно это чувствует. И потом к нему всегда приковано внимание полудюжины скучающих для вида молодых людей, они появились здесь вместе с Ультом. Я люблю за всем этим наблюдать; когда солнце поднимается выше и маленькую Кэтти выводят на террасу, сразу появляется и профессор Ульт. Он по-прежнему не обращает внимания на старших внуков, зато возле Кэтти он может высиживать часами. То ли он отдыхает, глядя на чистое личико ребенка, то ли продолжает раздумывать над своим открытием. В такие часы я избегаю старого Ульта, но вот сегодня оказываюсь с ним вместе. Утро душное и жаркое приближается пора тропических дождей, я обливаюсь потом и завидую Ульту; я знаю, что он никогда не потеет. Если не считать крошки Кэтти и ее няньки, все остальные ушли к заливу купаться. Я дремлю, наслаждаясь тишиной и покоем; девочка возится в своей изящной клетке из бамбука, она то встает, то садится. Я вскидываю голову, когда раздается голос профессора, он зовет меня, и я подхожу. Опершись о набалдашник трости, Ульт глядит в одну точку; я вижу его седые, выгоревшие брови, запавшие щеки, выпуклый бугристый лоб мыслителя, положенные одна на другую руки. Много лет я знаю эти руки — сильные, рыжие руки в шрамах и ожогах. Он поднимает глаза, и я вижу перед собой просто очень старого человека.
— Чарли, — говорит он, беспомощно мигая безволосыми птичьими веками. Чарли… Почему она ни разу не улыбнулась мне? Она боится меня, старика. Вот итог, к которому человек приходит.
Я гляжу на ребенка в легком кружевном платьице, со смуглыми нежными щечками и растопыренными розовыми пальчиками, затем на старого профессора.
— Простите, как прикажете расценивать ваше новое открытие, Ульт? спрашиваю я.
— Не шутите, Чарли, это очень горько.
— Ну что вы, Джефф, что за чепуха, в самом деле!
— Нет, нет, Чарли, это нехорошо. Она меня боится, дети чувствуют чужую судьбу. Вот давайте подойдем посмотрим.
Признаться, я не сразу решаюсь, в моем и без того расстроенном воображении всплескивается темная волна неуверенности, страха, и я с трудом заставляю себя шагнуть ближе к ребенку; я чувствую затылком горячее дыхание старого Ульта.
— Смотрите, Чарли.
Полураскрыв губки, девочка улыбается, и в ее синих глазах прыгает солнце. Она тянется ко мне ручонками и улыбается, и я потрясение думаю, что она, вероятно, так же улыбается цветам, птицам, облакам, деревьям. И я для нее просто часть этой жизни, часть утра, часть добра. А я никогда никому не казался добрым, и никто мне сроду так не улыбался.
Я боюсь шевельнуться, в темноте сознания ворочается, всплывает прошлое — реакторы, аппараты, чертежи. Последняя работа по созданию машины холода для профессора Ульта — для его последних опытов. Понадобилось чудовищное давление в сотни тысяч атмосфер. Он получил и это, в его открытии оно сыграло не последнюю роль. Да, я причастен к новому открытию Ульта, я твердо это знаю. До поры до времени я был доволен, даже гордился собой как же, генеральный конструктор Черного Острова! А теперь вот перед этой детской улыбкой все во мне окончательно мешается: я никогда не понимал детей, мне всегда становится неловко с ними.
И все-таки неужели я когда-нибудь так улыбался? И Ульт?
Я не могу тронуться с места, и лишь резкий голос профессора приводит меня в себя.
Черт бы его побрал! Зачем ему вздумалось экспериментировать с ребенком? Мало ему его уранов?
— Отойдите теперь, Чарли, в сторону… вы увидите…
— Да бросьте, Джефф.
Ульт отодвигает меня. Твердо стукнув тростью, он встает на мое место. Вытянув шею, я вижу, как гаснет улыбка ребенка, как останавливаются, испуганно округлившись, глаза. Девочка смотрит на профессора в упор, не мигая, смотрит так, как могут смотреть одни дети, и в этот момент она похожа на маленькую старушку. И я начинаю отодвигаться от Ульта шаг за шагом, потому что мне делается немного не по себе. Я вижу его жизнь, всю от начала до конца, и на эту его жизнь как бы проецируется моя, бесплодная и жалкая, вложенная в железо машин, в кальку чертежей, в расчеты проектов, лишенная добра, и смысла, и самой простой детской улыбки.
Я не выдерживаю, отворачиваюсь, сбегаю с террасы и бросаюсь в чистую, промытую зелень сада.
— Горинг! Подождите! Что с вами?
На следующее утро начинается шторм, сдержанный, настойчивый гул дрожит в жарком плотном воздухе. Все уходят с террасы, кроме нас. У профессора на переносице мелко стекленеет испарина. Он выпивает кофе, отодвигает фарфоровую, насквозь просвечивающую чашку и шире распахивает белую фланелевую куртку.
— Сегодня всю ночь меня мучили кошмары, Чарли, — говорит он неожиданно. — Какое-то дурное предчувствие, тревожит сверхэлемент. Он в специальном сейфе.
— Ключи можно подобрать, Джефф.
— Зачем?
— Зачем? Чем больше дряхлеет человечество, тем нужнее ему сильные ощущения. Вы не замечаете такого парадокса?
— Не шутите, Горинг, вы сами не знаете, что говорите. Вы не можете представить себе… это дьявольская сила.
Он выговаривает это с трудом, у него страдающие старческие глаза, зрачки бесцветные, тусклые, белки в густой сетке красноватых жил. Больно глядеть в эти глаза, но я не могу удержаться. Не желая того, я мщу профессору за его головокружительную научную карьеру, за его слепоту. Я говорю, что мы в неумолимых тисках, что Черный Остров проклят людьми и богом, что мы слуги дьявола. Ульт пытается меня остановить, и я срываюсь окончательно.
— Нет, профессор, подождите, я не все сказал. Я хочу открыть вам глаза, пока не поздно. Вы не можете не знать, что на острове есть подземная гавань, куда не допускается ни один рядовой сотрудник. А вы…
— Знаю, Чарли, но…
— Туда заходят подводные лодки…
— Но, Чарли…
— Чтобы заправиться атомным горючим и увезти на полигоны новые виды бомб. Молчите? Дети, дети! Вам не улыбается Кэтти? Вас это удивляет, профессор Ульт? Ха-ха-ха!
Я хохочу так, что у меня сотрясаются внутренности, и старый Ульт глядит на меня с ужасом. Его взгляд для меня наслаждение. Ага, профессор! Ага!
— Крошка Кэтти! Неужели вы думаете, что рядом с вашим святилищем не идет подготовка к широкому производству этого вашего дурацкого сверхэлемента? Славный подарок детям, профессор, ах какой славный. Не прикрывайтесь наукой, нет, нет, у людоедов раньше тоже были свои принципы. Несомненно.
Я обрываю фразу и едва успеваю отодвинуться от стола вместе с креслом. Ульт вырастает надо мной, высокий, исступленный. Он взмахивает тростью она брызгает кусками от удара по столу. В следующую минуту он сбегает с террасы, нелепо размахивая длинными руками. Ветер остервенело мотает из стороны в сторону верхушки пальм, угрюмо ревет океан. Душно и жарко. Надоедливые крики попугаев звучат тревожнее, чем всегда. Мне нестерпимо хочется выбежать куда-нибудь в чащу, зарыться в землю с головой.
Я прихожу в себя уже на полу. Вокруг меня бестолково суетятся, и кто-то льет мне теплую воду на грудь и на голову.
— Пустите, — прошу я. — Дайте встать, я здоров, я совершенно здоров. Проклятое солнце, у меня черно в голове.
Несколько дней бушует океан, ломаются пальмы, тревожно кричат попугаи. Профессор Ульт не выходит к столу. Я вижу его лишь у залива. Он кивает мне и молча проходит мимо с напряженно сдвинутыми бровями. Собаки, изнывая от жары, яростно воюют со змеями. Как-то, забравшись в прибрежные скалы, я наблюдаю одну из таких схваток. Подобрав язык, собака продвигается медленно, ползет, словно по натянутой струне. Я любуюсь красивым гладкошерстным псом и упускаю момент схватки. Все происходит молниеносно. Прыжок, резкое движение головой и передними лапами — оторванная голова змеи падает в камни. Тяжело дыша, собака отскакивает, стоит, вздрагивая всем телом, трется носом о землю, сосредоточенно глядя на извивающееся змеиное тело, и даже на расстоянии я чувствую, сколько ненависти в собачьем взгляде.
Я задумываюсь. Продолжает волновать открытие Ульта. Неужели он в самом деле перешагнул через актиноиды и даже черт знает через что еще? Невероятно, однако этот факт существует. Пора бы мне уже перестать сомневаться в дурацких возможностях науки.
Выбравшись на берег, я иду вдоль самой кромки прибоя. Океан еще не успевает успокоиться, но здесь тихо. Выброшенные на песок водянистые тела медуз бледнеют и тают на глазах, остро и горьковато пахнет солью и сыростью, залив безлюден, и только голые дети местных туземцев что-то выбирают из влажных водорослей. Я думаю о предстоящем отъезде на Черный Остров и останавливаюсь. Наш век, безумная скорость, даже на минуту задержаться нельзя — голодные не замечают красоты. Рембрандт, Сессю… Где-то я слышал их имена. Литература? Ха! Живопись? Устарело! Бег, бег! Вперед! От расщепления атомных ядер до их синтеза, до сверхэлементов, до… Интересно бы погладить коралловую змею.
Я приподнимаю шляпу — голова совершенно мокрая. Бедный, неразумный наш мир. Что-то ожидает тебя за первым поворотом истории?
Я спотыкаюсь и едва успеваю ухватиться за нагретый солнцем камень рука дрожит, я не могу с ней справиться. Я недоуменно оглядываюсь — в сухом мареве дрожат красноватые скалы, дробится полоса прибоя, ломит возле ушей и в затылке. Я с усилием поднимаю голову. Расплавленным шаром висит в зените солнце. Я не могу сомкнуть век, я чувствую, как выгорают, дымятся мои глаза. Черная тень _хозяина_, распластываясь, закрывает солнце — боже мой, боже! Я хватаю и сжимаю свою голову изо всех сил, совершенно слепой, — значит, Ульт прав, говоря, что я болен. Но уже кто-то другой думает за меня, он видит меня со стороны, и я неотделим от него. «Чарли, — слышится мне. — Что тебе надо в этом проклятом мире?»
— А-а…
Медленно возвращается свет, медленно выпрямляется полоса прибоя, скалы успокаиваются — я стою на ногах, держась руками за гудящую голову, глубоко увязая ногами в песке. Ко мне бежит старый Ульт, размахивая шляпой.
— Горинг!
Я гляжу на него, не понимая, что ему нужно, почему он так радостно возбужден. Я еще не здесь. Ульт кажется мне ребенком, большим старым ребенком.
Он добегает до меня, бросает шляпу и хватает меня за руки. Я близко вижу его незнакомые, счастливые глаза.
— Что вы, Джефф?
— Она мне улыбнулась, Чарли!
— Кто? — спрашиваю я устало и безразлично.
— Она! Кэтти!
Господи! Какой глупец! И это один из самых выдающихся физиков XX столетия.
У меня в груди что-то начинает злобно копошиться, копошиться, вот-вот перехлестнет. Улыбнулась! Чему он радуется? Я снова не могу удержаться от дурацкого злого смеха. Ульт, болезненно улыбаясь, пятится.
— Профессор, улыбнулась? Ах, черт, хорошо! Чем же вы оплатите такой вексель? За доверие платят наличными! Они у вас имеются? Сверхэлемент «А»? Здорово подойдет малютке Кэтти… Смерть радиусом в триста миль! Белокровие, безногие младенцы! Великолепный подарок…
— Чарли, замолчи-и-те! Ради бога, ради бога…
У профессора растрепаны белые волосы, зрачки расширены. Он вытягивает вперед длинные руки, словно отталкивает мои слова. Потом поворачивается и бежит, неловко закидывая ноги. Таким он и остается у меня в памяти. Больше я его не вижу. Запоминаются узкая длинная спина, втянутая в плечи голова, мой злобный хохот.
На другое утро я встаю с тупой головной болью: случившееся вспоминается смутно. Я иду в душ и по пути стучусь к Ульту. В сущности, я виноват в том же, что и он. Я вхожу — комната пуста. За столом во время завтрака мне сообщают, что профессор еще с вечера вызвал вертолет и улетел. Молодая миссис Ульт, передавая мне сандвич с ветчиной, сообщает со вздохом, что профессор вел себя очень странно, но по ее глазам я вижу, что она рада неожиданному отъезду свекра. А еще через два дня в газетах начинают пестреть заголовки о гигантской катастрофе на Черном Острове: в результате взрыва чудовищной силы, который был зарегистрирован всеми сейсмическими станциями Земли, остров перестает существовать. Очевидец, капитан океанского лайнера «Мерседес», находившегося в это время в трехстах милях от Черного Острова, рассказывает о вспыхнувшей, взлетевшей к небу водяной стене, о сводящем с ума грохоте, о том, что люди на открытой палубе были ослеплены, искалечены, сброшены в океан, на который затем навалилась раскаленная мгла. «Мерседес» уцелел чудом. Остаткам команды назначены государственные пенсии. Правительственные экспедиции, отправленные для выяснения причин катастрофы, молчат. Работают они в двойных защитных костюмах, радиоактивность воды выражается в миллионах единиц.
Об этих подробностях я узнаю через год, когда меня выпускают из сумасшедшего дома, — я имел неосторожность высказать вслух свои предположения о причинах катастрофы. И вдали от Черного Острова за мной неотступно следит всемогущий _хозяин_. Давно уже, очень давно, я не вижу над собой проклятой тени, но я всегда чувствую его цепкую руку. Я давно уже не работаю, на свои скромные сбережения я купил домик на Восточном побережье, выращиваю бананы и кактусы, живу с полуглухой родственницей теткой, но молва до сих пор считает меня сумасшедшим, и никто не придает значения моим рассказам о Черном Острове, о профессоре Ульте, о его сверхэлементе.
— Это тот сумасшедший, который называет себя стариком Чарли Горингом? Тот, что рассказывает о маленькой Кэтти и ее улыбке? Ха-ха! И вы поверили? Этой сказке? Не обращайте внимания, пусть его болтает, у него давно уже не все дома.
Я приподнимаю голову; под конец все проносится во мне скачком, все разрывается, и я вспоминаю, что живой Ульт где-то рядом, ведь это я для него рассказывал, что потом со мной было. Я вскакиваю, озираюсь: так и есть, Ульт, опустив голову, сидит почти у самой кромки прибоя. Почему он только нелепо одет в какой-то грязно-белый халат? Чепуха, все чепуха. Вот солнце — оно есть, и скалы, и океан. Им можно верить. Они не лгут, они просто есть. Они чертовски правильно делают — никому не мешают, живут своей первобытной здоровой жизнью.
Я оглядываюсь: скоро вечер, в скалах захохочут, застонут обезьяны. Пора домой.
— Эй, Джефф, вставайте, — зову я, — нам пора. Сегодня мы опять славно поработали.
И тут я вспоминаю, что это случается уже не раз; и я гляжу, как медленно Ульт встает и, не оглядываясь на меня, идет сначала по берегу, затем исчезает в скалах, причем он без всякого усилия движется по самым отвесным местам и вскоре в последний раз появляется вдали крохотным белым пятнышком и меркнет.
— Ну вот, — огорченно говорю я. — Черт знает какая чепуха!
Вот так всегда, стоит мне встать, и все исчезает, Ульт словно ждет этого момента. Но я знаю одно: он завтра снова придет сюда, на свое место, и все будет по-старому.
Я накидываю полотняную куртку: пора домой. С трудом передвигаю старые больные ноги по знакомой тропинке; тетушка теперь нажарила орехов; иду, настороженно оглядываюсь: на тропинке в любое время можно встретить детей. Я боюсь их больше всего на свете, прячусь за камни и кусты, мне кажется, что меня обязательно убьют дети. Иногда мне хочется выскочить к ним и сказать: это я, тот самый Чарли Горинг, бейте. Когда-нибудь я это обязательно сделаю. Но прежде чем это случится, мне хочется рассказать им о себе, пусть они не думают слишком плохо, я не хочу, чтобы они повторяли наши ошибки, у них есть выбор, и пока еще не совсем поздно. Сам я опоздал, но не хочу этого для других. Я тяжело переставляю больные ноги, чутко прислушиваюсь и оглядываюсь, я знаю, что точно на этом месте я ушибу ногу об острый камень; так и есть, я морщусь от боли, и ругаюсь, и тут же бросаюсь за куст, и долго прислушиваюсь. Нет никого, я успокаиваюсь: тропинка пустынна, и совсем скоро дом, жареные орехи и простое рябоватое лицо Молли, она будет ворчать, но она всегда добра и заботится обо мне.
Я вижу Молли еще издали, она стоит, уткнув пухлые кулаки в бока, и сурово глядит на меня. Тихо, песок скрипит под ногами.
— Где ты все бродишь, Джон? — говорит она недовольно. — Дождешься, опять упрячут в лечебницу.
Ничего не отвечая, поджав губы, я прохожу мимо. Мне жалко ее, я замечаю, Молли горестно покачивает головой. Я останавливаюсь и говорю:
— Сколько раз я просил, чтобы ты не называла меня Джоном. Я Чарли, слышишь, Чарли Горинг.
Я прохожу в дом, а она еще долго стоит и думает. Я знаю, ей кажется, что во всем виноваты книги, всегда она, объясняя соседкам и знакомым, говорит, что я глотал их десятками, когда еще мальчишкой чистил сапоги, и потом, когда работал в ресторане официантом, и в гостинице носильщиком и швейцаром. Все это, конечно, правда, но она забывает, что потом я уехал и стал физиком, и она никак не может к этому привыкнуть. Если я начинаю рассказывать, вокруг всегда собирается толпа и слушает, раскрыв рты. Молли, моя тетка, простая женщина, и мне ее жалко. Чтобы она долго не думала, я подкрадываюсь к ней сзади и говорю:
— Я Горинг, Чарли Горинг. Сегодня я ходил в свое прошлое. Слышишь, я Чарли, Чарли Горинг, — повторяю я. — С тех пор как я вернулся, ты никак не хочешь ко мне привыкнуть. А я уже не тот, поверь, тетушка. Это плохо, ты не должна меня злить. И почему ты считаешь меня еще молодым? Ты просто не умеешь считать, я давно уже старик. Когда я уходил, я действительно был молодым, но ведь с тех пор прошло столько лет…
— Господи, ты же никуда не уезжал. Ты всю жизнь прожил здесь, и тебе ведь всего тридцать.
— Перестань, старому человеку нехорошо лгать! — строго говорю я, совсем рассердившись, и она покорно глядит и отвечает:
— Хорошо, Джон, хорошо. Пусть ты будешь Чарли. Ты уезжал, я согласна, будь Чарли, Джон, только не уходи далеко. Я всегда за тебя беспокоюсь. Ладно?
Я слушаю ее с подозрением, она хитрая, только никто этого не знает. Она всегда мне говорит, что было лучше, когда я просто таскал по лестницам чужие чемоданы. Она никак не поймет: я стал ученым, чтобы спасти и ее, и всех остальных. Я гляжу на нее и не улыбаюсь. Она только женщина, она плачет, вот только почему сама она не стареет, в самом деле? На этот раз она ничего мне не говорит. Бедная тетушка Молли, она, наверно, так и не поймет, что ее племянник — новый Христос, ждущий своего великого часа.
Я сам понимаю это только сейчас, когда она начинает плакать. И чтобы мой час наступил, меня должны убить только дети, а потом через три дня я воскресну. Я боюсь, час, мой великий час идет, близок, и все равно я буду приветствовать его.
— Пойдем, — говорит тетушка Молли, неловко вытерев слезы. — Пойдем, у меня сегодня хорошие бобы.
Мне хочется улыбнуться, я с трудом сдерживаюсь.
Бедная тетушка Молли! Бобы, ха-ха-ха! Мне наплевать на это, потому что завтра я опять пойду к океану и займусь своим настоящим делом.
— Спасибо. Я сейчас не хочу есть. Чуть позже. Мне нужно записать кое-какие расчеты, они только что пришли мне в голову. А то я забуду, а это очень важно, — говорю я и ухожу.
Тетушка Молли, опустив тяжелые, вечно красные от стирки руки, глядит племяннику вслед; ей страшно наедине с тем, чего еще никто пока не знает, но холодный ужас все больше сковывает ее, и ей хочется закричать и самой проклясть этот мир, в котором все дышит ядом.
Вот уже вторую неделю Джон читает по ночам, и она начинает замечать в его глазах что-то необычное и далекое: он все чаще уходит за эту черту, которую она не может переступить и может только молиться и верить. Но и вера все чаще покидает ее, и она, стараясь в себе оставить хоть крупицу добра, вспоминает, каким хорошим и умным мальчишкой был Джон; он даже как-то смастерил машину, которая сама двигалась в огороде и дождем разбрызгивала воду. А что она, старуха, могла изменить? Джону надо было учиться, может, отсюда и все беды, но что она могла сделать, если у мальчишки оказались такие беспутные отец с матерью.
Молли стоит, все думает, и вспоминает, и тихо плачет.




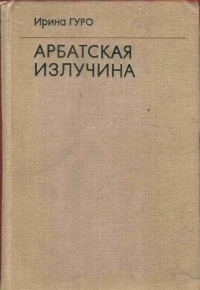

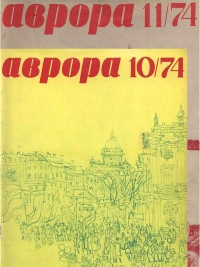


Комментарии к книге «Избранное», Пётр Лукич Проскурин
Всего 0 комментариев