Сергей Снегов Инженер Игнатов в масштабе один к одному Рассказ
— Шампанское во льду — штука приятная, — заявил Еремеев, опуская босые ноги на оленью шкуру. — На материке я эту микстуру принимал по паре бутылок, если заводились дензнаки. И здесь его можно выпить после спирта для отрезвления. Но шампанское со льдом внутри — противоестественно. А на дворе к тому же ветер двадцать семь метров в секунду.
— И мороз двадцать три градуса, — хладнокровно добавил Игнатов.
Фанерные стены домика сотрясала пурга. Раскаленные бока печки излучали жар, а в углах балка поблескивал нетающий лед.
Игнатов стоял посреди комнаты и рассматривал на свет бутылку шампанского. В бутылке сидел ком льда — когда ее встряхивали, слышались толчки о стенку.
— Я как-то купил портвейн розлива 1904 года, — продолжал Еремеев, подмигнув третьему жителю балка Воскресенскому. — Хорошая темная бутылка, только не такой обтекаемой формы, как эта. Дело было в день рождения жены, гости собрались, патефончик на столе, закуски. Я представляю обществу мою винную реликвию и, конечно, встряхиваю, чтобы пузырилось. И что ты думаешь? Это было не вино, а рыжий борщ. Мою бутылочку, оказывается, как разлили, так больше к ней и не прикладывались, в ней завелась всякая паутина — нужно было через тряпочку профильтровать, а я еще встряхнул. Досталось же мне от жены — никак не хотела поверить, что случайно.
— Ну, и какой вывод следует сделать из твоей пространной речи? — сухо осведомился Игнатов.
— Я же сказал — оставайся! А шампанское твое мы втроем выпьем — если дрянь, так тут свои, никто не обидится.
Игнатов повернулся спиной к Еремееву и стал одеваться. В разговор вступил Воскресенский. Старый химик неодобрительно качал головой. Нет, в самом деле, безумие выходить в такую погоду. До города двадцать один километр, транспорт второй день не работает, на сто четвертом километре повалило мачты электропередачи.
Если Игнатов принесет своей Аллочке поздравления с опозданием на два дня, его никто не осудит, в том числе и она. Заполярье имеет свои законы. Вероятно, никакого торжества Алла и не устраивает — кому охота пробираться в такой день к ней в гости.
— Мне охота, — решительно ответил Игнатов. — Еще полгода назад я предупредил Аллочку, что в день, когда ей исполнится двадцать лет, мы выпьем по бокалу шампанского. Я защищал эту бутылку от всех моих друзей не для того, чтоб испугаться какой-то жалкой пурги. Не уговаривайте меня, Алексей Петрович, все равно пойду.
Воскресенский, и Еремеев больше не убеждали Игнатова. Они понимали, что он не останется. Не одно желание распить со знакомой бутылку шампанского влекло Игнатова в город. Говорить об этом они не могли, это была область, в которую он никого не вводил.
Но они побаивались за него, на их лицах это было написано слишком явно. Еремеев прислушивался к вою бури с унылым видом, не вязавшимся с веселым тоном его слов. Игнатова тронуло живое участие друзей. Он отвернулся, чтобы не показывать, что понимает их состояние.
Он одевался тщательно и неторопливо, потом стал перед Еремеевым.
— Разрешите доложить, начальник, — сказал он с шутливой торжественностью. — Инженер Игнатов отбывает во внеслужебную командировку. Послезавтра буду обратно, если не потерплю крушение в автобусе или не поругаюсь с милиционером. Только подобные стихийные бедствия могут меня задержать.
— Действуй! — разрешил Еремеев. — Можешь не сомневаться, мы примем со своей стороны все необходимые меры. Когда пурга кончится, пошлем в Ленинск официальный рапорт о твоей пропаже в тундре, а весной, после таяния снега, снарядим партию рабочих — отыскивать твое тело.
Игнатов подошел к двери и стал ее открывать. Дверь распахнулась, и мощный воздушный насос мгновенно высосал его наружу.
Он с такой непостижимой быстротой исчез в ревущей и крутящейся мгле, что ни Воскресенский, ни Еремеев не успели даже вскрикнуть.
Он летел, ударяясь о камни, ломая ветки замерзших кустов, и только минуты через две сумел остановиться. Его вметнуло в ветви карликовой ольхи, торчавшей на склоне, и пока ветер вырывал его из непрочного убежища, он отдышался и успокоился.
И тогда буря, в первый момент оглушившая его яростным напором, перестала казаться непреодолимой. Все дело в неожиданности. Он просто не успел приготовиться к встрече с пургой, его поймали врасплох. Ветер вовсе не так страшен, как грохочет. Сейчас четыре часа дня. Максимум через пять часов он сбросит шарф, вытянется на стуле и скажет, указывая на надрывавшуюся радиолу: «Аллочка, дорогая, выключите эту адскую машину и включите ваши уши на максимальную слышимость — у меня важное сообщение».
Самым тяжелым был спуск с горы. Обледенелые склоны не давали опоры, а ветер с такой силой бил в бок, что приходилось через каждые десять минут отдыхать, отворачивая от пурги лицо.
Игнатов не торопился. Он знал трудности этого участка и берег силы.
Нужно спуститься, ни разу не упав. Если он покатился со склона, то костей, может, и не растеряет, но бутылку шампанского не соберет. Время экономить он будет внизу. Здесь требуется осторожность, а не быстрота. Кроме того, было темно. Ночь в этих местах начиналась в три часа дня при хорошей погоде, а сейчас темнота усиливалась пургой. В двух-трех шагах, полуосвещенные мерцанием бешено несущегося снега, скорее угадывались, чем виднелись валуны, редкие кустики.
Игнатов старался идти от кустика к кустику, — за них можно было держаться. Хуже всего было с дыханием. Приходилось временами поворачивать лицо навстречу буре, и тогда ветер с силой врывался в легкие, наполнял и распирал их — Игнатов захлебывался воздухом, как водою. А повернув лицо от ветра, он не мог достаточно вобрать кислорода, даже силой всасывая его в себя.
От этой борьбы за воздух сердце стучало, в ушах звенело, ноги начинали дрожать и слабеть, — через каждые три-четыре минуты надо было делать остановки не только у кустиков, но и у валунов, прижимаясь к их ледяным бокам, пока ветер не сбрасывал с них.
Ходу вниз было метров шестьсот, но, еще не пройдя их, Игнатов покрылся потом, как проскакавшая два часа лошадь.
Зато внизу стало легче. Здесь ветер дул в спину, и усилия тратились не на ходьбу, а на то, чтоб не идти быстро. Приходилось откидываться назад, сопротивляясь несущему вперед потоку.
Дороги не было видно, но в темноте смутно выступали телеграфные столбы, и Игнатов скоро открыл наилучший способ движения: отправляясь от столба, он шел шагов тридцать вперед и, если новый столб не встречался, поворачивал вправо и влево, пока не находил его.
Идти без ориентиров в сплошной темноте, наполненной снегом, светящимся каким-то призрачным сумрачным светом, он не решался. Он знал, как легко погибает человек, теряя направление во время пурги. Если он отойдет от дороги на сто метров, он будет кружить часами, пока случайно не натолкнется на нужный путь.
Около одного из столбов он услышал крики о помощи и глухой рев оленей. Кричали два мужских голоса с наветренной стороны.
Игнатов прислушался к крикам и повернул назад. Согнувшись, упираясь палкой в землю, он пробивал головой несущийся на него ветер, плотный, как «поток воды. Голоса звучали так неясно и отдаленно, как если бы зовущие на помощь находились на расстоянии километра. Игнатов поразился, когда уже через несколько метров перед ним из темноты встали рога оленей и показались одетые в сакуи двое нганасан, стоявшие спиной к буре и руками вцепившиеся в нарты.
Увидев Игнатова, они двинулись к нему и цепко ухватились за его шубу.
— Помоги, товарища, шибко плохо! — молили они.
— Дьяволы, зачем вы здесь торчите? — кричал он, почти не слыша собственного голоса. — 1 Полкилометра отсюда поселок, идите туда.
— Дороги нету, оленя не хочет идти! — кричали они в ответ и снова просили, еще сильнее хватаясь за него: — Помоги, товарища!
Он несколько секунд размышлял, затем схватился за ремни, а нганасаны, ободренные его присутствием, пустили в ход хорей. Во время пурги олени становятся мордой навстречу буре, чтобы ветер не забирался под шерсть. Олени бесились и не слушали понуканий и ударов, они не хотели оборачиваться назад и идти по ветру.
Все, что происходило потом, в памяти Игнатова осталось путаной картиной какой-то ожесточенной огромной работы, борьбы с самим собою, оленями и бурей. Он двигался к поселку, таща за собой стремившихся повернуть оленей и, озлобясь, пинал их нотами, когда они вырывали ремни из рук. Два нганасана, падая от изнеможения, помогали тянуть оленей. Дорога определялась легко — нужно было подниматься вверх и держаться самого трудного направления.
Когда показались дома и бараки, Игнатову начинало казаться, что его сердце не выдержит напряжения.
— Зайди, товарищ Игнатов, отогреешься! — кричал ему в ухо вышедший на стук рабочий шахты. — У нас печечка топится, чаек!
— Дело есть, идти надо! — кричал Игнатов в ответ. — Устрой получше моих ребяток и олешек.
Спускаться к оставленной дороге было легче, здесь не требовалось ориентиров.
Только раз, сносимый бурей, катясь по обледенелым валунам какого-то ручья, Игнатов почувствовал бессилие. Судорожно хватаясь за прибрежные кусты, ломавшиеся в руках, как стеклянные, он остановил падение и лежал, глотая разреженный воздух, распахнув шубу от жары, и перед глазами во мгле проносящегося, слабомерцающего снега плясали какие-то разноцветные искорки и змейки.
Поднявшись на трясущиеся ноги, он обнаружил, что обмерзает. Воротник дохи, шарф и подбородок покрывались слоем пористого, но прочного льда, и этот лед все утолщался. Хуже всего было то, что в валенки стал набиваться снег. Вначале Игнатов думал, что он проникает сверху, с колен, но потом понял, что снег, вбиваемый ветром в валенки, профильтровывается сквозь их ткань. Стенки валенок пропускали мельчайшие кристаллы снега, и портянки становились сырыми и холодными.
Потом спуск кончился, и Игнатов уперся в дорожный — столб. Теперь снова надо было, напрягая зрение до боли, искать столбы и считать шаги.
Когда он вспоминал впоследствии это путешествие, он говорил, что то была не работа, не борьба, не мученье, но, прежде всего, бесконечно однообразное, все время прерывающееся и начинающееся сызнова вычисление.
В нескольких километрах от поселка, в стороне от гор, дорога плутала среди болот. Ветер дул здесь то в спину, то в бока, один раз даже прямо в лицо. Это был тот единственный раз, когда Игнатов сбился с пути и потерял много времени, пока отыскал столб. Забыв о петлях дороги, он не поверил, что ветер может дуть навстречу, свернул и утратил ориентиры.
А потом опять начался счет. В темноте открывались столбы, и каждый следующий переход так неразличимо походил на предыдущий, что казалось, будто не часы, а целая вечность, огромное пустое время, разное, быть может, всей прошлой жизни, протекло с минуты, как он вышел на дорогу.
На каком-то переходе перед ним возник занесенный до крыш снегом поезд с замерзшим паровозом. Игнатов, изнемогая от усталости, тащился мимо товарных вагонов и платформ, толкался в подпиравшие их сугробы и добрался до единственного пассажирского вагона. Разгребая руками снег, он потратил минут десять, пока долез до двери. Он не кричал, зная, что никто в вагоне его не услышит.
Когда он ввалился в купе, сидевшие там люди испуганно вскочили. Это был служебный вагончик из одного отделения — четыре диванчика, столик, ярко накаленная печка. На столике стояла водка и лежал соленый муксун, на диванчиках сидело два человека: проводник и пассажир — бывший сосед Игнатова по общежитию диспетчер Симонов. Оба кинулись к Игнатову помогать раздеваться.
— Немножко дует? — спросил Симонов с ироническим участием, сдирая с Игнатова доху.
— Прежде всего, здравствуй! У порядочных людей начинают с приветствия, а не с допроса, — строго заметил Игнатов, переводя дух.
— Да я и так вижу, что здравствуешь. Послушай, у тебя вся одежда пропитана снегом, как губка водой. Садись, садись к печке, тут теплее. Михалыч, — крикнул Симонов проводнику, — развесь все это барахло над течкой, а валенки — к трубе. Вот тебе водка и муксун, пей с холоду. Сейчас будет готов свежий чай.
Игнатов от водки отказался, с наслаждением вытянулся на диване. Густое приятное тепло медленно проникало в тело. От шарфа и валенок шел белый пар, лицо горело, как будто обожженное, кипятком. Проводник подал стакан крепкого чая. Игнатов мельком взглянул в висевшее на стене зеркало. Обморожений не было, но кожа приняла кирпично-красный оттенок.
Симонов уселся в ногах Игнатова.
— Загораешь, загораешь, — ухмыльнулся Симонов, заметив взгляд Игнатова. — Типичный морозный загар. Разика четыре походишь в такую пургу, и кожа станет черной, какой и в Крыму не наработаешь при всех пляжах и процедурах. Мороз с ветром крепче действуют, чем все твои ультрафиолетовые лучи. Рассказывай, здорово дует? Какого дьявола тебя вынесло в такую погоду? Откуда и куда? Как ты пробирался?
— Отвечаю по порядку. За чай — спасибо. Дует как раз в норму декабря на семидесятой параллели. Иду по важному делу. Из шахты в Ленинск. Что там еще? Пробираться было тяжеленько, но ничего, можно. Сколько времени?
— У тебя часы на руке.
— Ты же видишь, я отдыхаю. Не заставляй делать лишние движения.
— Сорок минут седьмого.
— Значит, хожу уже три часа. Вы на каком перегоне?
— От Ленинска одиннадцать.
— Половина пути. Через десять минут пойду. А вы почему здесь торчите?
— Будешь торчать, если занесет. За нами, ближе к Ленинску, снегоочиститель замело. Он махал, махал щетками, но пороху не хватило против пурги.
— Железнодорожники поступили опрометчиво. Кто же посылает снегоочиститель» в бурю? Подождали бы, пока кончится пурга.
Симонов испытующе и тревожно поглядел на Игнатова.
— Слушай, Василий, ты в самом деле пойдешь? Сейчас только помешанные высовывают нос наружу. Я за — все блага мира не сдвинусь с места.
— Благодарю за комплимент. Тебе незачем оправдываться. Ты никогда с ума не сойдешь. И знаешь почему? Не с чего сходить.
— Я серьезно, Василий.
— И я серьезно. Папаша, как там мои вещицы?
— Подсохли, — ответил проводник и нерешительно добавил: — Остались бы, в такую погоду заплутать — плевое дело.
— Нет, папаша, мне плутать не годится. Иду на ответственное совещание. Опоздаю — влепят выговор на всю жизнь.
— Конечно, ежели дело служебное, — пробормотал проводник, подавая шубу.
— Я с детства вытвердил, что законы пишутся не для дураков, но про дураков, и с тех пор ежечасно в том убеждаюсь, — заметил Симонов на прощанье. — Выпей хоть стопочку для храбрости.
— Ни в коем случае. Сейчас стопочка — яд.
Теперь дорога определялась проще. На подходе к Ленинску было много разъездов, домики смотрителей, метеорологические службы. В тумане порой тускло светили окна, станционные фонари. Попадались заброшенные на боковушки или просто поставленные в тундре вагоны, превращенные в жилье.
Пройдя населенный пункт Надежный, расположенный в семи километрах от Ленинска, Игнатов наткнулся на закутанного до глаз человека, плутавшего у дороги и что-то кричавшего себе в шарф.
— Чего стоишь на пурге? — прокричал Игнатов, пробираясь к нему и хватая за рукав.
Человек, обрадованный, повернулся спиной к ветру и сдвинул шарф.
— На минуту вышел и заблудился! — крикнул он.
Игнатов засмеялся, но не услышал своего смеха.
— Помоги дорогу найти, — прокричал человек, снова отворачиваясь от ветра. — Где дом?
— Дом твой позади. Ты топаешь прямехонько в тундру.
— Сделай одолжение, проводи, одному до дома не дойти.
Укрывшись в сени своего дома, человек стал приглашать Игнатова зайти в комнату.
— У меня чай горячий, еды полно, — убеждал он. Ну, зайди на полчасика, отдохни.
— Не могу, нет времени, — отговаривался Игнатов.
— Ну, только чайку, с женой поболтаешь, расскажешь, как меня нашел.
— Нельзя. Чай недавно пил. Прощай, друг.
— Прощай, чудак.
На разъезде Малый Медвежий Ручей, в трех километрах от Ленинска, Игнатову самому пришлось проситься в помещение.
С лицом, полностью заросшим льдом, он три раза стучал в дверь, прежде чем его услыхали. В сторожке у телефона сидела женщина, лениво переругиваясь с диспетчером из Ленинска, требовавшим сводку о занесенности пути; у стола возились с репродуктором двое мужчин. У Игнатова были отморожены щека и подбородок, пришлось выйти в сени и оттираться.
Шуба, рукавицы, шарф, шапка были повешены для просушки у печки, а сам он, обессиленный и разбитый, растянулся на скамье. Мужчины вновь принялись щупать и переворачивать репродуктор, а женщина оставила позванивавший тихими звонками телефон и глядела на Игнатова добрыми темными глазами.
Игнатов лежа снимал с ресниц и бровей цепко намерзший на них лед.
— Хуже всего, что глаза зарастают льдом, через час буквально перестаешь что-либо видеть, — пожаловался Игнатов, бросая лед на пол. — Очень трудно идти вслепую.
— Далеко идете? — спросила женщина мягким певучим голосом, не совсем правильно выговаривая русские слова: кто-то из ее родителей был ненцем или якутом, оттого и были темные глаза, мягкий голос, широкие скулы.
Игнатов заметил, что она с любопытством смотрит на его насквозь прошпигованные снегом валенки — он постеснялся их снять.
— В Ленинск. Восемнадцать километров прошел, остались пустяки.
— Восемнадцать километров? — в ее голосе было недоверие.
— Я отдыхал в пути, — пояснил Игнатов.
Мужчины на минуту бросили свое занятие и, разинув роты, смотрели на Игнатова, потом подмигнули друг другу и вернулись к репродуктору.
Видно было, что ни они, ни женщина не верят Игнатову.
Он чувствовал себя совсем скверно. Ледяные валенки плохо оттаивали на ногах, от них исходил пронзительно сырой холодок; ноги, лишенные прежнего согревающего движения, замерзали, а не нагревались; все мускулы болели, кости ныли, мутная усталость кружила голову.
Если бы они поразились, стали возражать или расспрашивать, — ему было бы легче. Он знал, что совершил незаурядный поступок, а эти люди не считали нужным даже посочувствовать.
— Как там, у гор, тоже метет? — спросила женщина равнодушно, и было ясно, что ответ ее не интересует: буря бушевала по всему северу материка, метеосводки предсказывали приближение циклона еще позавчера.
— Везде один черт, — сдержанно ответил Игнатов и обратился к мужчинам: — Чего вы там мудрите, ребята?
— У нас радиоточка, — пояснил один. — Сегодня Ленинск передает хороший концерт, а репродуктор испортился.
— Дай-ка мне, — сказал Игнатов, отстраняя его.
Он осмотрел репродуктор. Катушка была в порядке, игла стояла на месте, контакты держались.
— Повреждение не здесь, — сказал Игнатов. — Куда идет линия?
— На крышу.
— Значит, на крыше обрыв.
Мужчины растерянно смотрели один на другого.
— Давайте проверим, — предложил Игнатов. — На крышу есть лаз?
— Снаружи надо лезть, — неохотно сказал один.
— Полезем снаружи.
— Что ты, милок! Да там пурга!
— Зажги фонарь и посвети мне. А ты, друг, дай свою телогрейку и рукавицы.
На крышу вела деревянная лестница. Подъем сначала не удался: спутник Игнатова не сумел справиться с ветром, дувшим прямо в лицо, и, задыхаясь, свалился в снег. Игнатов забрал у него фонарь и полез вперед. На крыше было еще труднее держаться, чем на лестнице. Игнатов приказал поддерживать его, пока он будет возиться.
Провод был оборван у самой крыши, и его свободный конец метался на ветру.
Игнатов три раза промахнулся, прежде чем сумел поймать конец. Он сделал скрутку, и за ту минуту, что руки были без рукавиц, пальцы пронзила боль, всегда сопровождающая неожиданное и быстрое обмораживание.
В сторожке их встретили радостные крики оставшихся и пронзительные голоса хора — репродуктор работал на полную мощность.
— Пурга, какой еще не бывало, — сообщил спутник Игнатова. — Ну, думали, не доберемся обратно в дом.
— Говори за себя, — поправил Игнатов, становясь возле печки. — Мы с твоей пургой старые приятели — ни я ей ничего, ни она мне.
— И неужели вы так все восемнадцать километров пробирались? — восторженно спросила женщина, словно теперь только поняв, что Игнатьев прошел этот путь.
— А что было делать? Надо! — ответил Игнатов.
Когда одежда просохла, Игнатов стал одеваться.
— Остались бы на ночь, — говорила женщина,глядя на Игнатова темными восхищенными глазами. — Я вам постель сделаю, ужин сготовлю. Ну, что вас так тянет?
— Дело важное, ждут меня, — пояснил Игнатов, прощаясь.
Когда он ввалился в комнату, где жила Алла с подругой, было уже десять часов и гости собрались. Его встретили ударами по плечу и приветствиями. Он сбрасывал с себя шубу, шарф, рукавицы, и все это тут же укладывалось для просушки на батарею водяного отопления.
Оборвав с глаз намерзший лед, Игнатов обнаружил, что в комнате четверо гостей — Танев, Гусман-заде, Лукирский и Софья Теренина, известная всему Ленинску под дружеским именем Сонечки.
— Неужели вы шли от самой шахты? Все время по этой пурге? — спрашивала Алла восхищенно.
— От самой шахты, — подтвердил он с гордостью.
— Чтобы поздравить меня? — шепнула она благодарно, еще раз пожимая ему руку.
— Именно. А вы помните — сегодня я сделаю вам важное сообщение.
— Вы такой хороший, такой удивительно хороший!
Ее приветливый голос, раскрасневшееся лицо, блестящие глаза опьянили его. Она показалась ему необычайно красивой, он оглянулся на других, не слыхали ли они их разговор, хотя в нем не было ничего секретного. Зато поведение Гусман-заде не понравилось Игнатову. Гусман-заде так крепко обнимал его, так долго тряс его руку, что это показалось Игнатову неприличным.
Лукирский обошелся с ним совсем по-другому.
— То, что ты сделал, так потрясающе глупо, что даже трогательно, — сказал он дружески.
Игнатов вышел в коридор умыться. Танев поливал ему из кружки.
— Где Маша, она ведь раньше жила с Аллочкой? — спросил Игнатов, поеживаясь от холодной воды.
— А ты разве не знаешь? Чудная история, новое издание арабской сказки. Роль Гарун-ар-Рашида играло наше жилищно-коммунальное управление. Маша переехала на другую квартиру, и теперь они будут жить одни.
— Позволь, позволь, кто они?
Танев не успел ответить: в коридор выбежала Сонечка и потребовала всех к столу.
Стол был сервирован роскошно. Неизбежный соленый муксун был подан в натуральном виде, вареный и даже жареный. Рядом с черным хлебом лежали, белые домашние булочки и печенье. Между двумя тарелочками с селедкой возвышалась запечатанная бутылка спирта. Ее окружали три блюда с самым редким на севере лакомством — вареной свежей картошкой с солеными помидорами.
Для празднования дня рождения этого было слишком много.
— Так в чем дело? — тихо спросил Игнатов Танева, сидящего рядом с ним. — Ты мне не досказал. Кто здесь будет жить?
— Позволь, а для чего сам ты побивал эти рекорды выносливости?
— Я пришел поздравить Аллочку с днем рождения.
— Можешь одновременно поздравить ее с законным браком. Сегодня они зарегистрировались.
Игнатов ошеломленно молчал. Так вот что означали объятия Гусман-заде и его влажные глаза!
А он, Игнатов, собирался сегодня во всем открыться Аллочке и просить ее решения. Решение уже состоялось — не в его пользу.
И почему он вообразил, что она ответит ему взаимностью, у них ничего не было, кроме дружеских разговоров, они и встречались только на людях, в клубе, на собраниях? Гусман-заде чаще бывал с ней, моложе на семь лет — не удивительно, что ему повезло, он, конечно, ей больше подходит. Она, вероятно, и не догадывалась о чувстве Игнатова, как сам он не подумал о Гусман-заде.
Он содрогнулся, вспомнив, какое проделал путешествие, — оно было не только напрасным, но и нелепым. Он вдруг почувствовал, что не может больше оставаться на этом вечере, слушать смех и поздравления.
Встав, он подошел к батарее и взял одежду. Ему удалось незаметно выскользнуть в коридор. Он быстро влез в шубу и рванул наружную дверь. Ледяной ветер мощно обрушился на него.
Игнатов с облегчением вздохнул: здесь, на буре, было проще и легче, чем в комнате, куда он недавно так стремился.
Он шел по улице, сопротивляясь ветру. Он не знал, куда идет, ему не хотелось ни в клуб, ни домой. Он не слышал крика и шагов за собой — все заглушал громовой голос пурги. Только когда его догнала Аллочка, он очнулся. Аллочка была без пальто, в одном платье, трясущаяся и задыхающаяся.
Испуганный и возмущенный, он втащил ее в соседнее парадное.
— Вы с ума сошли? — крикнул он гневно, подтаскивая ее к батарее.
Она дрожала, ничего не говорила: губы не слушались ее. Он сорвал с себя доху и укутал ее. Она улыбнулась умоляюще и жалко.
По одной этой улыбке он понял, что она все знала о нем: о том, зачем он пришел, отчего удалился.
— Почему вы молчите? — закричал он. — Зачем вы пошли за мной?
— Пойдемте назад, — прошептала она. — Я так боялась, что не догоню вас…
Он ответил грубо:
— И не подумаю. Мне нечего у вас делать, вы это сами понимаете. На чужое счастье я смотреть могу, но на ваше с другим человеком — не хочется. Сейчас провожу вас до вашей двери, извинитесь там за меня. Можете придумать любое объяснение моего ухода.
Она уже овладела голосом:
— Нет, Василий Николаевич! Без вас не вернусь. Я хочу, чтобы вы провели с нами этот вечер. Вы даже не знаете… Вы меня так поразили!.. — в голосе ее слышались слезы, она замолчала, потом закончила решительно — А уйдете, я побегу за вами! Если замерзну или простужусь — будет на вашей совести…
Он молча глядел на нее. Он чувствовал свое бессилие. Он хорошо знал ее настойчивость: она исполнит все, чем грозится, ее не переубедить.
Она со страхом и надеждой всматривалась в его лицо, умоляюще дотронулась до его руки. Он нахмурился и отвернулся.
— Пойдемте, Алла, — сказал он сердито. — Боюсь, за эту прогулку жених устроит вам первую семейную сцену.
Он мужественно старался не заметить радости, озарившей ее лицо. Он тащил ее, закутанную до глаз в доху, сквозь ветер и снег, сам шагал в одной телогрейке и шарфе. В коридоре он сказал, смягчаясь:
— Отдайте шубу, чтобы гости не догадались, куда вы бегали. Вообще замечу: бить вас надо за такое геройство — раздетой выскакивать на улицу. Никогда вам этого не прощу.
— Я торопилась, — сказала она виновато. — Я сразу догадалась, зачем вы взяли шубу. Не сердитесь на меня.
Он вошел первый.
Не было похоже, чтобы кто-нибудь сообразил, почему они отсутствовали. Гости разговаривали, ожидая Аллочку; Гусман-заде ушел на кухню за тарелками. Игнатов сел за стол. Неожиданный поступок Аллы не примирил с крушением так долго создававшихся надежд, но боль была уже не такой острой. Он знал, что сможет взять себя в руки и слушать смех и шутки, может быть, сам будет шутить.
Когда все разместились за столом, Лукирский встал, держа в руке стакан со спиртом, разведенным водой. Игнатов взял свой стакан и мрачно смотрел, как в нем играли блики света. Живое лицо Лукирского было мягко и приветливо.
— Товарищи, принято первый тост провозглашать за молодоженов и, во всяком случае, за женщин, раз уж с ними случается такая неприятность, что они вступают в третий десяток, — так начал он свою речь. — Но сегодня я хочу изменить этому обычаю. Есть чувства не менее высокие, чем любовь, например, дружба. Люди всегда становились взрослыми и давно научились любить. Но дружба — чувство молодое, чувство будущего. Сейчас еще не все люди могут назвать себя друзьями, но те, кому знакомо это чувство, ради дружбы совершают подвиги. И наступит время, когда люди заменят слово «товарищ» словом «друг». Это, так сказать, философское вступление. А конкретно: я предлагаю тост за нашего друга, явившегося порадоваться вместе с нами, за нашего дорогого Василия Николаевича.
Громкое «ура» заглушило его последние слова. Все тянулись к Игнатову, чокались с ним, целовали в щеки. И тут он совершил великое открытие.
Перед ним вдруг пронеслись яркие картины: сам он, долгие часы пробирающийся сквозь беснующую ночь, Аллочка, в отчаянии и изнеможении догоняющая его, Симонов, погребенный в вагоне, нганасаны с их оленями…
Конечно, он потерял самое важное, то, что строит жизнь человека — вернее, не потерял, а не добился. С этим уже ничего не поделаешь: любви не вышло. То, что осталось, не было любовью.
Но что бы это ни было — это было прекрасно, может быть, не менее прекрасно, чем любовь. Он не жалеет, что пробивался сюда сквозь бурю. Ради того, чтоб открыть это, стоило сделать все то, что он сделал.
Он поднял руку, показывая, что намерен произнести речь.
— Аллочка, дорогая, выключите эту адскую машину, — сказал он, указывая на пущенную Сонечкой радиолу. — И настройте уши на максимальную слышимость: предлагаю выпить за молодых, по не этой малооктановой горючей смеси, а как полагается, — настоящего шампанского.
И, вытащив из кармана бутылку, он поставил ее на стол под радостные восклицания женщин, и ликующий птичий клекот Гусман-заде, Лукирского и Танева.
Потом, рассматривая стакан, в котором на бледно-розовой жидкости плавали кусочки бледно-розового льда, Игнатов невесело пошутил:
— Шампанское во льду — вещь испытанная. Но шампанское со льдом открыто мною…


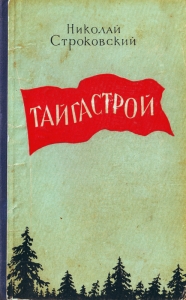

Комментарии к книге «Инженер Игнатов в масштабе один к одному», Сергей Александрович Снегов
Всего 0 комментариев