Пробуждение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Родился и вырос Илюшка в большой казачьей семье. Самым главным в доме был дед Никифор, по отчеству Иванович. Прожил он более девяноста лет, не потеряв ни одного зуба, и почти до самой смерти ездил за Урал косить для коров траву свежую, чтобы больше молока давали. Была еще бабушка Марина. Илюшка запомнил ее потому, что она стегала его хворостиной за то, что ябедничал дедушке. Смутно помнил Илюшка, как легла бабка Марина в белый ящик совсем сердитая… Так и унесли ее в церковь. Назад не вернулась, говорили, что жить туда переселилась. Хорошо это — стегаться не будет. Осталась дома славная горбатая тетушка Аннушка. Слышал Илюшка от старших сестренок, что Аннушка, когда была маленькой, помогала деду возить с Урала воду на паре большерогих быков. Возле станицы Петровской Урал бежит под кручей. Дед, держа налыгу, шел возле быков, Аннушка позади, ведерко все подставляла под тоненькую из-под крана струю. Заигралась и не заметила, как при подъеме бочка сползла с дрог и придавила ее, а дед не подоспел вовремя… С тех пор так и осталась калекой.
Дом у Никифоровых деревянный — две горницы и двое сеней. В одной большой горнице спали отец с матерью, в другой все остальные, с дедом Никифором во главе. Мать Илюшки тоже звали Аннушкой, отца Иваном. Детей-то было, как горшков на печке: шестеро больших — двое братьев, четыре сестры и двое малышей. Всего у Илюшкиной матери было четырнадцать детей, а выжили восемь. Горница, где ютились зимой ребятишки, по самую голландку была перегорожена крашеными досками. За перегородкой спал дед Никифор — раньше с бабкой Мариной, теперь один. Остальная мелочь и старшие вповалку на разостланной по полу большой серой кошме. Зимой из сеней через дверь поддувало, укрывались бараньими тулупами — если отцовский и дедушкин, то один на двоих. Уткнут носы в мягкую шерсть и спят себе, пока кто-нибудь утром не стащит тулуп. С ребятишками спала и тетка Аннушка. У нее было свое одеяло — теплое, ласковое, выстеганное из верблюжьей шерсти. Илюшка часто залезал под него, чтобы согреться у тетушки под бочком. Она нечаянно и головку погладит, и сказку расскажет. Вечером в горнице тепло, да еще надышит самовар, за которым любит сиживать дед Никифор. По его строгому наказу голландку топят два раза — утром и вечером. Калят жарко: таволжанником, бобовником, чилигой — вперемежку. Хворост этот густо растет по берегам Урала. Рубят его осенью по мерзлой земле или косят маленькими литовками. Привозят и наваливают ометом вровень с амбарным коньком.
Амбаров у Никифоровых два, и оба каменные. Плитняка вокруг полно. Раскопай любой бугорок — вот он и камень. Даже вход в церковь плитняком выстлан.
Была еще теплая и тоже из камня овчарня с плоской, как поветь, крышей, выстланной дерном. Летом там росли лебеда, паслен и высокие, веселые подсолнухи — это старший брат Минька насовал туда сырых семечек, вот они и росли на солнечном приволье воробьям на радость. Хлевы для коров и конюшня для лошадей сделаны из обмазанного глиной плетня. Рядом два навеса — повети. Зимой туда метали сено, а летом сушили траву для коров и рабочих лошадей. Всю свою жизнь дед хотел иметь самых хороших лошадей, мечтая хоть маленько перещеголять Полубояровых, у которых нагуливались целые косяки тонконогих диковатых коней. У деда же был старый, как и он сам, большущий, злой мерин Сивка. Ребятишки боялись к нему подходить, потому что он кусался, а может, только пугал, чтобы не очень-то к нему маленькие приставали. Ведь больших-то не трогал… Была еще длинная, задастая, темно-бурой масти кобыла Машка — покорная, ласковая, с широкой, мягкой спиной. Дед оберегал ее и запрягать не всегда велел. Минька на ней бороновал, даже Илюшку не раз на спину подсаживал. Машка была самая настоящая побирушка-кусочница. Стоило уйти от стана, она тут же припрыгивала к балагану, вытаскивала мешок с калачом и принималась его потрошить.
Водил дед Машку в аулы, к каким-то необыкновенно породистым жеребцам. От нее родился Лысманка — высокий гнедой жеребенок с белой, продольной на лбу лысиной. На следующий год принесла Машка голенастого, совсем неуклюжего жеребчика Бурку. На его ноги-растопырки Илюшке и глядеть-то не хотелось, а все расхваливали! Это было последнее Машкино потомство. Однажды в поисках хлеба ночью Машка свалила стоявшую позади балагана литовку. По несчастью, ручка окосева зацепилась за путо, а лезвие резануло по сухожильям — выше щетки. На рану жутко было смотреть. Все лето Машка прыгала на трех ногах, а осенью отдали ее татарам на махан.
Второй жеребенок Бурка вымахал так, что через три года выиграл на ярмарке самые крупные, на большую дистанцию, скачки, оставив позади знаменитых в округе лошадей, приобретенных баями, богатыми казаками, офицерами за огромные деньги. Так неизвестный доселе Бурка стал знаменитостью. Из неуклюжего он превратился в высокого, тонконогого жеребца. После одной из массовых скачек проезжий казачий офицер пристал к деду продать Бурку. Никифор Иванович долго не соглашался. Но офицер предложил за лошадь тысячу золотых, и дед не устоял. После того как распили магарыч, дедушка высыпал на стол кучу золота и стал у всех на виду пересчитывать свое богатство. В доме было уныло и тихо. Мать, тетка Аннушка, да и сестренки ходили с заплаканными глазами. Всем до смерти жалко было любимого Бурку. Когда офицер уводил его со двора, в доме поднялся такой вой, что и дед не удержался, заморгал глазами…
Войдя в горницу, не глядя на деньги, отец сказал деду:
— Продать такого коня все равно что дьяволу душу отдать…
Дедушка спрятал деньги, накричал на сына, хлопнул дверью, подседлал молодого Лысманку и куда-то ускакал.
Вернулся он через неделю, привел с помощью знакомого казаха трех полудиких степных кобылиц темно-гнедой масти. Спустя три года у него уже сбился небольшой косяк длиннохвостых, машистых коней. Верховодил в этом косяке свирепый, такой же бурой масти жеребец, с белой, как у Бурки, звездочкой на лбу, с густой косматой гривой. Дед продолжал выводить все ту же породу.
2
Мать Илюшки, Анна Степановна, была взята из Губерлинской станицы, из казачьей семьи Шустиковых. Кроме нее, в семье было еще три брата. Старший, Петр Степанович, служил поселковым писарем, второй, Алексей, был хлеборобом, а вот третий, Николай Степанович, учился в Москве, в университете. Говорили, что, будучи студентом, Николай бунтовал против царя, за что и был сослан в Сибирь на реку Лену, и там его не то убили стражники, не то он умер в тайге. В семье Никифоровых про него говорить не полагалось. Дед запрещал. Однако запрет этот нарушал Петр Степанович, когда приезжал в гости. После нескольких стаканов хмельной бражки он расчесывал окладистую бороду и начинал разговор о храбром вольнодумце Николушке, чем выводил из терпения Никифора Ивановича. Дело кончалось тем, что спорщиков разводили по разным комнатам.
Илюшу дед любил больше всех. Да и похож он был на него, как две капли воды. Дед радовался, но Илюшка не разделял этого восторга. Дедушку все побаивались. А Илюшке зачем, чтобы его пугались?
В порыве умиленности дед говорил внуку, что он наследник никифоровского казачьего рода. Илюшке нравилось быть наследником, потому что по тем временам дом со всеми пристройками отписывался младшему сыну. Старшим же строили новый и скотину выделяли по усмотрению отца. Все родственники считали, что Илюшка самый смышленый, добрый мальчишка, с бойким характером. Сам Илюшка не разделял этого мнения. Ну какой он бойкий, если среди дня боялся заходить в баню, полагая, что под полком затаился чертенок с хвостиком, с красненьким язычком, а на каменке — сам рогатый с выпаренным березовым голиком в волосатых руках…
А отважным и смелым он был, когда ездил верхом на коне. Этим искусством он овладел с малых лет не хуже взрослого. Верхом казачонка сажали чуть ли не с пеленок — давали почувствовать колючую конскую гриву… Да и работать детей приучали очень рано.
До самых последних дней жизни дед Никифор держал при себе хорошую, им же выезженную лошадь Лысманку. Когда продали Бурку, Лысманка был еще молодым жеребчиком. Через год, весной, его превратили в мерина и, как обычно, пустили в общественный табун. За одно лето с Лысманкой произошло чудо. Молодого мерина трудно было узнать, еще труднее заарканить. Лысманка хорошо помнил, какое изуверство произвели над ним люди. Он бешено скакал от плетня к плетню, шарахался от длинного чоблока с петлей на конце, прижатый в углу, фырчал, скалил зубы. Но Иван твердой, как железо, рукой быстро укротил и покорил коня своей воле. Иван Никифорович ростом был выше своего отца на целую голову. Смуглый, горбоносый детина — наверное, с примесью горячей азиатской крови, он подседлал молодого мерина, сел на него, выехал за Татарский курмыш и гонял до темноты. На другой день то же проделал с конем и брат Миша. Он был старше Ильи на девять лет.
— Ох и подсыпал же я ему жару! Не конь, а ветер! — дразнил он братишку.
— Ну дай мне проехаться! — просил Илюшка.
— Тебе?
— Хоть один разок, по двору!
— Такого шибздика враз сбросит…
— А вот и не сбросит! Поглядишь, поглядишь, — еле сдерживая слезы, дрожащим голосом твердил Илюшка.
Но старший брат был неумолим.
Дня через два Илюшка подкараулил, когда вернулся Минька, поставил коня на выстойку, а сам ушел в избу. Илюха шмыгнул под навес, вытащил из-за пазухи кусок калача, скормил Лысманке, огладил грудь и шею, взнуздал; потихоньку, как на проминку, вывел за ворота, вскарабкался в седло — и был таков! Лысманка оказался на редкость умной, послушной лошадью, слушался малейшего движения повода. Угощенье и ласка сделали свое дело.
Отец встретил Илюху у ворот с нагайкой в руках. Со своевольством детей родитель не церемонился. Шуточное ли дело — угнать коня! Рядом с отцом во дворе стоял и дед Никифор. Кивнув отцу, сказал кратко:
— Не тронь. Я сам сниму. — Стащил внука с седла, потрепал за ухо и добродушно сказал: — Ишь какой шельмец!
С этого времени Лысманка стал домашней, общедоступной лошадью. Дед Никифор не расставался с конем ни на один день. Сам ухаживал за ним и только Илюшке разрешал иногда водить на водопой. Когда не было деда, Илюшка смело расчесывал Лысманке гриву, хвост, пролезал между ног, выискивая клещей. Именно на Лысманке он выиграл несколько станичных скачек.
Кормили дед с внуком одну лошадь и сдруживались все крепче и крепче. Не успеет Никифор Иванович завести Лысманку в оглобли, а Илюха уже тащит вожжи, волочет подстилку кошемную, которой дед траву накрывает, чтобы сидеть было мягче.
— А ты куда собрался? — спрашивал дед.
— За травой! Куда же еще? Коровам-то есть нечево, и молока не дадут, — с детской серьезностью отвечал Илюха.
— Гляди какой заботливый… А если я тебя не возьму? — Широкое темнобровое лицо деда улыбалось.
— Не возьмешь? — озадаченно спрашивал Илюха. — А я оглоблю сломаю. На чем поедешь?
— Новую поставлю, а тебя выпорю.
— А я убегу…
— Куда?
— На Урал…
Однажды маленький Илюха самостоятельно отправился купаться и чуть не утонул. Вытащил его Ванюшка Миронов, купавший лошадь. Все тогда так переполошились, что отлупить забыли и даже меду сотового дали…
— Я тебе покажу Урал!..
Появлялась на крыльце мать, сыпала курам зерно.
— Не берите его, папаша, слепни заедят, — говорила она.
— Ничего, одну ножку съедят, другая нам останется…
Почти каждый день, под вечер, когда спадала дневная жара, дед запрягал лошадь в высокий, с плетеным кузовом тарантас, сажал Илюху рядом с собой на разостланную кошомку. Мать отпирала ворота, и они отправлялись на тот берег Урала за травой.
Когда дед брался за вожжи, он весь преображался, окладистая борода его будто делалась шире, смуглое лицо строже. Правил без шика, степенно, с присущим ему достоинством. Все встречные кланялись.
Лысманка в упряжке был красивый и статный. Весело помахивая головой да позвякивая колечками трензелей, легким, танцующим шагом он выезжал на Большую улицу. Так называлась самая главная и длинная в станице улица, пересекающая возле церкви площадь. Когда проезжали мимо церкви, дед снимал старую, в дегтярных пятнах казачью фуражку и крестился. Большая улица, по которой Илюха и дед направлялись к Татарскому курмышу, чисто подметена — каждый хозяин сам подметает против своего двора. Все улицы имеют свои доморощенные названия: Целовальникова, потому что на ней казенка, а проще — кабак; Аксиньин переулок, где когда-то жила бабка Аксинья — знахарка; Семишкин тупик, там расположена лавка татарина Семишки. Никифоровы в этой лавке ничего не покупают, здесь все дороже. Есть еще лавка Вахмистровых, Максима Овсянникова и самая большая Елизара Шулова. В станице на 360 дворов пять торговых заведений и одна пивная — тоже Вахмистровых. Три лавки русских, две татарских, как и два курмыша. В одном живут русские, в другом — татары. Ихний курмыш — конец — так и называется — Татарский, но они такие же правомерные казаки, как и все прочие. Илюшке приятно ехать по Татарскому курмышу в постный день — там всегда вкусно пахнет. А дома дадут чашку молока, и то украдкой от дедушки… Не дай бог, если увидит!
Живут в Татарском курмыше еще и нугайбаки. Это те же татары, только крещеные. В смысле веры и языка они ни то ни се. В мечеть их не пускают, а в церковь они сами не ходят. Говорят нугайбаки смешно: сначала скажут по-русски и тут же те же самые слова повторят по-татарски. Имена почти у всех русские, а фамилии татарские. Потешно слышать, как Васька Сафиулин кричит матери на всю улицу:
— Аный! Мамака! Шамшый-ны казасы на двор зашла!
— Вигони ево заразу. Кувалап шигар черту матери! — отвечает ему мамака, не переставая судачить с соседкой. Шамшый — это имя другого соседа, а казасы — его коза, что забежала на двор.
Весело слышать Илюшке мешанину нугайбацких слов. Он мгновенно запоминает их и повторяет дома, лежа на печке. Там он слышит разговоры взрослых, наматывает на ус все, о чем они толкуют. Тепло. Булькает в котле под крышкой варево, сладко пахнет на всю кухню упревающей бараниной. Глядишь, мать сжалится и подкинет ребрышко, попробовать…
3
Все необходимое дед покупает у Шулова. Лавка у Елизара самая богатая и товары отменные. К Максиму Овсянникову и Вахмистровым не подступишься — богачи, а торгуют еще дороже, чем Семишка. А Овсянников будто бы даже керосин разбавляет водой.
Не любят Овсянниковых. О Шуловых говорят почтительно, с уважением, потому что Елизар Елисеич в долг дает, а у Максима Овсянникова зимой снегу не выпросишь. Ребятишки быстро смекают про это различие в торговле и всячески задирают сына лавочника Потапку Овсянникова. Это мордастый, упитанный, высокомерный и злой мальчишка. Потапка старше и сильнее, но казачат больше, оттого они наглее и прилипчивее. У Потапки есть своя, правда, не очень устойчивая ватажка мальчишек, которых он подкупает конфетами. Любители раковых шеек и барбарисовых леденцов липнут к нему. В этом главное Потапкино преимущество и в то же время беда. Соратники требуют дань постоянно, если не дает вволю, бьют.
Носил дед обычно казачью фуражку. У фуражки когда-то был голубой околыш, а теперь просто серый. Тулья, тоже бывшая, так измята, словно по ней сто раз колесом проехали. Есть у него и новая фуражка, но она лежит в сундуке, прямо сверху, кокардой вперед. Там и казачий мундир с медалями. Надевает его дед только по праздникам, когда идет в церковь или на какую-либо важную сходку. Выглядит он, как говорит тетка Аннушка, складно. В церкви дед свою фуражку держит в левой руке, а правой, когда не крестится, касается головы внука, ласково гладит вихрастые, жестковатые волосенки. Илюшке скоро надоедает молиться. Он начинает вертеть головой, задирает ее вверх, глазеет по сторонам, на горящие перед большими иконами свечи, а сам хитро стережет все дедушкины движения, ждет, когда тот начнет усиленно креститься и уберет руку на пуговицу мундира. Илюшка тогда пятится назад, прошмыгивает мимо молящихся и вон в ограду — там кусты сирени, акация со стручками и такие же, как он, мальчишки. Вместе они отыскивают прутики и скачут на них. Носятся вокруг церкви, забыв обо всем. Дед появляется лишь под конец службы. Отыскать внука нетрудно, на нем ярко-красная рубаха.
— Илька! — раздается его басовитый голос.
Илька сначала замирает от испуга, но тут же спохватывается и летит к деду верхом на палочке во весь намет. Подкатывает, боченится, прутиком себя лихо подстегивает… Млеет казацкая душа деда. Казак растет! Глядишь, придет время — и грудь крестами да медалями обвешают… Натягивая тряпочки-поводья, Илька подскакивает и на всю округу кричит:
— Тырр!
— Я тебе, басурман ты этакий, покажу тыр… я тебе… Ты зачем из церкви убег?
— Думал, уж конец скоро… Потом мне захотелось…
— Куда же ты сходил?
— А туда, за кустики…
— Это в святом-то месте!
Илюшка озадаченно никнет — конечно, за такие дела бог по головке не погладит. Таловый его коняшка вяло падает к ногам.
— В другой раз гляди у меня, проказник! — Дед грозит толстым, скрюченным пальцем. Илюшка подтягивает единственную на плече подтяжку, подает деду руку, и они чинно выходят из ограды. Там их поджидают сестры, брат Миша, тетка Анна, иногда отец и еще реже мать — на ее плечах все хозяйство. Уму непостижимо, как она справлялась со всем, да еще родила четырнадцать детей!
Из церкви дед шагает степенным, медлительным шагом. Встречные казаки, почти все одетые в мундиры и брюки с голубыми лампасами, отдают ему честь. У деда две медали: одна за коневодство, другая не знаю за что. Женщины тоже низко кланяются, а за глаза называют Микифор горячий, потому что дед может вспылить, как буря, — тогда держись! У многих казаков есть прозвища — часто меткие, обидные. Илюшка еще маленький, но и у него есть дразнилка — Корноухий. Увидали, что по-разному торчат уши, вот и прозвали. Мать сама рассказывала, что во время беременности придавила ему ухо пудовкой с зерном.
После обедни все чинно садились за стол. Ни вина, ни бражки за завтраком не полагалось. Надо сказать, что за всю жизнь дед не выпил ни одной рюмки водки, не выкурил ни одной цигарки. Курильщиков презирает. Избави бог, чтобы Илюшкин отец закурил при дедушке или винца лишку выпил. Дед пьет только медовую бражку-бузу, и то по самым большим праздникам. Сначала ели пшеничную кашу, которую дети терпеть не могли. Зачерпнут ложку и размазывают по губам до тех пор, пока не получат подзатыльник. На второе паштет — куриное или утиное мясо в тесте, тушенное в глиняном блюде. Мясо медленно упревает в русской печке, тесто пропитывается жиром и становится сдобным. Дальше идет рыбная кулебяка, жареная баранина. К чаю горячие шаньги, малинки — тесто, сваренное в кипящем масле. Жирна казачья жизнь!.. Зато в году соблюдали четыре поста. Из них самый большой — это великий пасхальный, затем петровки, госпожинки — очень строгий и, наконец, — рождественский. Помимо укрепления культа религии, посты имели большое экономическое значение в хозяйстве. Сохранялось огромное количество скота, птицы, рыбы, жиров и вообще молочных продуктов. Излишки продавались на базаре, на вырученные деньги покупалась одежда и разная домашняя утварь. Кроме этих постов, были установлены два постных дня в неделю — среда и пятница. Фактически крестьяне постились 176 дней в году, почти половину своей жизни.
Весну и лето казаки питались салмой — рваным, наскоро замешанным пресным тестом, сваренным в соленой воде, пшенной похлебкой, забеленной кислым, откидным молоком.
Застольное изобилие происходило только в большие праздники — на пасху, рождество, масленицу и в престольный Петров день.
4
В обычные дни после обеда дед ложился на короткое время отдыхать, а потом шел собираться в поездку. Поездки могли быть не только за травой, но и на бахчи, за вениками, весной за столбунцами и дигилями. Во время таких сборов обязательно кому-нибудь влетало — кто угодит под горячую руку. Не было дня, чтобы у деда что-нибудь не пропало. То нет на месте уздечки, то кнута, дуги, смолянки, которой он точит косу. Часто виновником оказывался старший внук Миша. Как и все подростки, он хватал все без разбору. Дед горячился, шумел, оттого и влепили ему такое меткое прозвище. Подготовка к поездке — это особого рода ритуал. Прежде всего Никифор Иванович степенно подходил к тарантасу и опускал оглобли. До этого они торчали кверху, подтянутые к козлам поперечником. Если предстояла поездка на тарантасе, то он нес специальную мазь, которая продавалась на базаре в деревянных ящичках. Если на простой телеге, то лагун с дегтем. Когда дед бывал в добром настроении, Илюшка сидел в кузове и наблюдал за всей этой процедурой. Никифор Иванович приносил вагу, поднимал ось с колесом и внуком вместе и подпирал вагу дугой. Случалось, что все это нехитрое дедушкино сооружение, когда он начинал снимать колесо, срывалось с дуги и с грохотом падало. Тогда надо было быстро выпрыгивать из кузова. Больше всего Илюшке нравилось, как дед орудует мазилкой. Сначала он сует ее в ступицу и ловко шебуршит внутри, а потом тонким, аккуратным слоем намазывает ось. Однажды Илюха решил сам попробовать… С большим трудом, испачкав штанишки, подтащил к тарантасу лагун с дегтем. Поскольку колесо снять не мог, то вымазал его сверху. Уж больно хорошо поначалу деготь блестел на спицах и ступице. Покончив с колесами, он вымазал и плетеный кузов, выкрашенный до этого черной краской. Вся затея удалась на славу, тарантас стал как новенький… По рассказам старших дед сильно разгневался и не миновать бы Илье порки. Но его нигде не смогли отыскать.
— Не ушел ли опять на Урал? — сказала тетка Аннушка.
Гнев деда тотчас же остыл. Он быстро выкатил из-под навеса обтертый матерью тарантас, запряг Лысманку и, как только вытянул ноги, почувствовал под козлами что-то живое. Свернувшись кренделем, натянув на себя конец кошмы, Илюшка спал сном праведника. Дед извлек его и усадил рядом. Вид у Илюхи был, как потом рассказывали старшие, смешной и жалкий: измазался дегтем от носа до самых пяток.
Во время поездок за реку Урал долго приходилось ждать паромщика. Не теряя времени, дед обычно отмывал внука в Урале. Когда паром приплывал, Никифор Иванович принимал чалку — толстенную веревку и обкручивал вокруг изжеванного сокоревого стояка. Лошадь распрягали и закатывали тарантас. Потом дед заводил пофыркивающего Лысманку и держал его под уздцы. Паромщик — татарин — надевал рукавицы и тянул блестевшую на солнце проволоку. Второй паромщик бултыхал громадным, как чудовищная нога, веслом. Это богатырское весло и силища рыжего татарина приводили Илюшку в восторг и трепет. Паром, сооруженный из четырех огромнейших долбленых лодок, застланных широкими досками, был обнесен крепкими, сколоченными из жердей перилами. Илюшка сидел в кузове тарантаса, глядел на силачей паромщиков, на воду, где шлепала хвостами крупная рыба. Ему тогда всюду мерещились большеголовые, усатые сомы, которые, как говорили, даже ребятишек заглатывали. Иногда дед заезжал к рыбакам, брал у них страшнейших сомов, сгибал их полукольцом и совал под козлы. Сомов закрывали травой, и они там возились, шипели мокрой осокой. Поджимая ноги, Илюха подвигался поближе к деду…
На пароме они ездили, пока стояла в Урале большая вода. Когда она спадала, чуть ниже этой переправы строился мост на деньги общества. За проезд взималась плата — до пяти копеек за подводу. Станичное управление ставило караульщика, он же собирал деньги.
На ту сторону Урала дед с Илюхой попадали, когда спадала жара. Сначала они ехали тихим шагом по песку. Лысманка вместе с дугой нырял под ветки старого осокоря. Над спиной лошади вились слепни. Дед отпугивал их срезанной талиной. Кнут Лысманка не любил, и дед им почти не пользовался: помашет чуток и под козлы сунет. Тальники кончаются, начинается молодой корявый вязник и черемушник. Девки охапками ломают душистые цветы каждую весну, а он все растет и растет. В прибрежной полосе вязник запрещают рубить, но тайные порубки все же есть. Портят вязы и когда лыко дерут, из которого потом вьют путы для лошадей или немудрящую веревку плетут. Заметив свежие порубки, дед сердито ворчит:
— Эко вражина, нашел, где топором баловаться. Пымать бы охальника!
Вязник и дупластые ветлы густо растут по берегу старого Урала. Теперь река течет по новому руслу — ближе к станице — и уже начинает подмывать яр и ближайшие дома. Дед косит в кустах на старом Урале. Тут трава ничейная. Ее выкашивают на подкормку, кто сколько может. Здесь тоже густо растут тальники, а еще гуще ежевика. Весной можно найти кустики поемного лука — сочного, вкусного, а в ухе или в пирогах с яйцами еще вкуснее. Дед хорошо знает, где растет лук и самые лучшие кулижки травы. Останавливается и выбирает местечко, как лучше подъехать, чтобы было где лошадь привязать… Был случай, когда дедушка, не привязав Лысманку, ушел косить. Илья тогда был совсем еще маленький. Коню надоело стоять, а может, слепни стали одолевать. Он не вытерпел и побежал, аж колеса по кочкам подпрыгивали. Дедушка бросил литовку и за ним, а Илюшка с ревом за дедом. Выскочили они на берег, а конь-то прямо с тарантасом в реку — запомнил брод. Невдомек Лысманке, что вода в июне еще большая, глубокая.
Дедушка быстро разул сапоги, шаровары стянул, ножик в зубы и в воду бросился. А Лысманка то окунется вместе с дугой, то опять выныривает. С противоположной стороны казаки и ребятишки кричать начали, кто-то разделся и навстречу кинулся. Дед подплыл к лошади, обрезал гужи, освободил от оглоблей и, ухватившись за гриву, выплыл вместе с конем. Было тогда Никифору Ивановичу то ли 88, то ли 89 лет. За всю свою долгую жизнь он ничем не болел, а через пять лет помер от желтухи.
Это был первый в сознании Илюшки уход из жизни близкого, дорогого ему человека. Смерть деда так потрясла мальчика, что пришлось увести его на время к тетке Маше, отцовской сестре. Там же жила его крестная Манечка: молодая, круглощекая, с синими, сияющими глазами женщина, она бойко плясала на свадьбах и хорошо умела петь веселые и грустные казачьи песни. Муж ее — Илюшкин двоюродный брат Николай — был тихий, смиреннейший казак, которым крестная командовала, как хотела. Рос у них сын Васятка, славный добрый парень, намного старше Илюшки.
Привели Илюшку домой уже после похорон. Ему запомнилась панихидная в доме тишина, унылые стены, пропахшие ладаном и богородской травой. Тетушки Маша и Аннушка, а с ними еще какие-то старухи в черных салопах жгли по вечерам свечи, размашисто крестились и шумно вздыхали, с опаской поглядывая на хмурого, нетрезвого отца. Выпивши, он был куражлив, иногда буен — этого Илюха боялся до смерти. Теперь его побаивались не только хмельного, но и как главного в доме хозяина.
Илюшка ходил как неприкаянный. Сестры мало его интересовали. Беременная мать была целиком занята хозяйством. Жизнь ей отмеряла больше тревог, чем радостей. Почувствовав себя полновластным хозяином, отец придирался по всякому поводу. Единственно, кто его не боялся — это тетушка Анна. Однажды, затаившись в сенях, Илюшка случайно подслушал такой разговор:
— Ты чего это, Иван, басурманничаешь? — спросила тетка.
Отец ответил не сразу, закашлялся. В открытую дверь густо шел табачный дым.
— Что это за слова, Анна? — спросил наконец отец.
— Тятя еще не остыл, а ты уж всю горницу и божницу табачищем прокоптил…
— Ну, ладно. Помолчи лучше…
— А чего я буду молчать? Был бы жив тятя… — тетушка заплакала. Илюху тоже душили слезы. — Еще ладан не выветрился, а ты куришь, сквернословишь да водку глушишь! Анюту измучил!
— Ты перестанешь или нет? — кричал отец.
— Не перестану, Туман у тебя в башке, вот что я скажу, брат.
— Какой еще туман?
— Вольготность почуял, разнуздался…
— Кто ты такая, чтобы меня учить?
— Сестра я тебе, Иван, родная.
— Раз сестра, так я должен от тебя всякое терпеть?
— Потерпишь, если ум есть. Только я одна и могу сказать… Другие-то не скажут, побоятся…
— Что, я зверь, по-твоему?
— Не зверь, а чуть против твоей шерсти, кулак поднимаешь или за плеть хватаешься.
— Анна! — в горнице упал стул. Илюшке было видно, как он отлетел к порогу.
— Не шуми. Не боюсь я тебя. Вот как соберемся всей родней, так еще не то тебе скажем.
— Завидуете, обделил вас тятенька!
— Грешишь, Иван. Ох, не будет тебе фарту!
Отец вдруг закричал истошно. В горнице что-то с треском разбилось. Илюшка испугался и забился под лестницу. Запахло керосином. Оказывается, отец разбил лампу.
Мимо прошла, колыхая юбками, высокая носастая тетка Пелагея Малахова — шабренка Никифоровых. Она не боится не только отца, но и самого атамана. Пелагея Васильевна вдова. У нее пять сыновей, три дочери. Все живут вместе. Старшие два сына уже женаты, имеют детей. Это очень трудолюбивая семья. Скота у них много. На дворе такая чистота, хоть овес молоти. Дед, бывало, увидит у нас во дворе конские катышки или коровью ошметку, начинает корить малаховским двором. Всем хозяйством и многочисленной семьей самовластно управляла тетка Пелагея, да еще как управляла!
Приход тетки Пелагеи очень обрадовал Илюшку. Она-то уж утихомирит отца.
— Все воюешь, Иван Никифорыч? — раздался бодрый, звучный голос Пелагеи. Отец не ответил. Видно, растерялся. Илюшка выбрался из-под лестницы и заглянул в горницу. При чужих-то не шибко страшно. Аннушка смела веником стеклянные осколки и высыпала в помойное ведро.
— Никак лампу разбили? — спросила Пелагея.
— Да вот задел ненароком, — не поднимая головы, ответил отец.
— Я к тебе, шабер, по делу.
— Милости прошу.
— Нет ли у тебя запасной оглобли?
— Найдется…
— На бахчи собралась. Стала Рыжка в оглоблю заводить, а он, окаянный, возьми да и наступи. Откололась у самой оси…
— Мерин грузный, что и говорить, — кивал отец.
— Могу и вот этого пострела взять, пусть с Петюшкой прокатится. Может, дынешки какие поспели…
От радости Илья перестал дышать…
— Отпустишь, что ли? — кивая на него, спросила тетка Анна. Илюшка не понимал тогда всех тонкостей этого преднамеренно-хитрого разговора. Отца просто отвлекали от вина, которым он заливал горе и в то же время праздновал свою самостоятельность.
— Да нет, Васильевна, спасибо. Не съездить ли нам самим? Как ты думаешь, Аннушка? — уже обращаясь к своей сестре, спросил отец.
— Чего же не съездить? У меня с того краю ранний сорт посажен, — отозвалась Аннушка. — Запрягай, бери ребятишек — и айда! Анюту прихвати, а то она, бедная, совсем с ног сбилась.
— Дельно, сестра, что уж дельно, то дельно! И тебе, Васильевна, еще раз спасибо. Пойдем, возьми оглоблю-то!
— Ладно. Я ужо Петюшку пришлю… Прощевайте пока.
Пелагея торжественно удалилась. Отец поднялся и на весь дом:
— Анна! Анюта! Где вы? Собирайтесь на бахчи!
Самыми отрадными и незабываемыми были поездки за первыми дынями. Если ехал отец, то запрягал злющего Сивку, а если мать или тетка Аннушка, то детей вез общий любимец Лысманка. Однако Илюха был настолько нетерпелив, что готов был скакать и на Сивке. Бахчи засевались верстах в восьми-десяти от станицы. Обычно выезжали вместе с солнышком. Спали плохо. Шушукались до позднего часу.
— Рано едем. Ни одной спелой не найдем…
— Найдем! Найдем! — орали все наперебой.
— На днях я одну травкой прикрывал, — сказал Миша. — Один бочок уже желтоватенький…
— Ох, братик, какой ты молодец! — радостно говорила Саня, самая любимая Илюшкина сестра, восторженная и на редкость добрая.
— Только не будет ее уж там! — отрезвлял он Санькину восторженность.
— Почему не будет? — хором спрашивали остальные.
— Сорвали небось…
— Кто может сорвать?
— Караульщик, кто же еще! — выкрикивала Варька, самая младшая и самая непутевая. Она обладала каким-то особенно изощренно хитрым умом — могла быстро разоблачить самую скрытую и самую невинную ложь. Однако большей лгуньи и ябедницы сыскать было трудно. Чем больше она подрастала, тем чаще случались из-за нее скандалы. Смуглая, как и отец, горбоносая, стараясь всеми силами заслужить отцовское одобрение, она ябедничала на мать, на тетушку Анну, на сестер и братьев. Варьке ничего не стоило оклеветать любого из членов семьи и близких родственников. Иногда Варька до того доводила мать, что та, обращаясь к иконе, поднимала руки и умоляюще говорила:
— Господи, возьми меня к себе, грешницу, избавь от такой дочери! Или окуни ее в светлую, очищающую тень, чтобы не покинула она этот свет без радости!
Порой в поступках Варьки проявлялась несовместимая с ее характером доброта — она вдруг могла отдать последнюю тряпку, поделиться куском хлеба, а чтобы услужить кому-либо, готова была вывернуться наизнанку. Но в этих ее поступках было что-то ненадежное, шаткое, поэтому Илюшка с Марией и Шуркой принимали услуги своей сестрицы всегда с опаской, словно предчувствуя, что за ее добротой последует какая-нибудь неожиданная жестокая расплата. Она могла дать Илюхе яйцо, а потом сказать матери, что он утащил его из гнезда…
Земля отводилась под бахчи твердая, с ковыльком, часто на поемных, перед прибрежным тугаем, гривах. Ехали сначала верст пять большаком, а потом сворачивали к тугаю. Зеленые бахчевые полосы, высокий балаган сторожа видны издалека. Чем ближе подъезжали, тем больше споров и волнений. Спорили о том, кто скорее угадает свою бахчу. Кажется, хорошо знали, где она расположена, вроде бы совсем недавно полоть ездили, а поди теперь узнай! Все заросло. По краям вымахали подсолнухи на толстенных стеблях, с крупными, как решета, шляпами, а внизу все переплелось тыквенными плетями, даже проехать негде. Останавливаются и высыпают гурьбой на межу с намерением побежать скорее.
— Куда плети топтать? Не терпится?! Все вместе пойдем к дыням. Нечего по всей бахче шлендать, арбузы еще зеленые, — останавливал их грозный голос отца или матери.
Разве тут утерпишь! Схватил бы вон тот белый, в полоску, и умял прямо с кожурой. Первый же! А они выглядывают из сизой кружевной ботвы: черные, белые, пестрые, полосатые, с капельками росы на кожуре. Диво!
Все идут по меже, весело перепрыгивают через тыквенные плети. Дыни посажены отдельно на том конце. Они поспевают раньше. Их нельзя раскидывать по всей бахче, можно вытоптать арбузные плети. Все делается умно, с расчетом. Старшие шагают не спеша, окриками едва сдерживают детское нетерпение. Вот и дынная полоса. Все так сплелось, что ступить некуда. Илюшка зорко следит за братом Мишей, не отстает ни на шаг. Верит, что он прикрыл дыньку. Не раз хвалился. Но разве за ним успеешь! Он большой, прыгает ловко, а тут еще позади голос Варьки:
— А Санька на плеть наступила!
Пока Сане делается проборка, Миша уже у своей дыни.
— Вот она, весь бок желтенький!
А Илюха отстал, запутался в плетях, ревет от зависти.
— Ну чего, дурачок! — скажет, бывало, мать. — Становись сапожонком вот на эту плешинку, а потом сюда. На плети не наступай. Видишь, там маленькие арбузики? Они большие вырастут.
Илюшка прыгает раз, другой, третий, а потом, изловчившись, когда мать нагибается к нему, ловит ее шею и виснет на груди. Только, видно, матери так сладко пахнут. Прижался всем телом и совсем забыл о дыньках и арбузиках…
— Ах ты, мой лобастенький. — Материнские руки скользят по волосам, щекочут за воротником. Так приятно, что головы отрывать не хочется. Илюшка целует стрелочки морщин, поселившиеся около теплых губ.
— Минька! — кричит мать старшему сыну. — Погоди, сыночек, рвать дыньку. Мы сейчас к тебе придем.
— А вы скорее! А то тут Варька все перевертывает. — Та уже успела с сестрами перессориться. Сорвала у них под носом самые лучшие дыни, теперь лезет к брату. Правда, у Миньки не очень-то разживешься — у него кнут в руке.
— Прогони ты ее! — кричит старшая сестра Мария. Она хоть и моложе Михаила, но уже начинает невеститься, платочек голубенький повязала, на глаза его напускает. Нос залепила бумажкой, чтобы не облупился.
Подходят Илюшка с матерью. Дыня, которую караулит Миша, не совсем спелая, только один солнечный бочок чуть-чуть золотится. Начинается спор: рвать или оставить до следующего воскресенья? Решает возглас Варьки:
— Оставим, а ее караульщик сорвет…
— Типун тебе на язык, — не выдерживает мать. Ей больно, что дочка плохо думает о людях. — Прикрой, Миня, травкой, пусть доспевает.
— Арбузика хочу, — начинает хныкать Варька. В этом Илюха поддерживает ее первый. А потом присоединяются и остальные.
— Зеленые еще, животы заболят, — пытается возразить мать.
— А я знаю, где есть спелый, — заявляет Минька.
— Ничего ты не знаешь. Рано еще! — пытается остановить его мать.
— Поспорим? — горячится Миша.
— А, давай! — предлагает Варька. Она хоть и маленькая, но переспорить ее невозможно.
— С тобой? — Поначалу даже и он колеблется.
— Боишься?.. Давай на что хошь…
— На твою дыню!
— А-а! — Рисковать своей дыней не больно охота.
— А если твой арбуз только чуть розовый? — с сомнением в голосе спрашивает Варька.
— Пусть хоть самую капельку, дыня моя.
— Ладно, айда! — соглашается Варька. Если она и проспорит, то все равно первую дыню не отдаст, поднимет такой вой, что и от своей-то откажешься… Мишу это не огорчает — ему лишь повеселиться, подразнить спорщицу.
Дети окружили мать и наперебой стали уговаривать, чтобы разрешила сорвать арбуз. Разве может она устоять в такой радостный день? Выбирать идут вдвоем с Мишей — остальных не берут, чтобы плети не вытоптали. Ходят долго, часто нагибаются и щелкают ногтем по кожуре. Детям ждать надоедает. Из-за гор поднимается солнце и припекает все жарче. Лысманка влез с дугой в самый куст, мотает головой, гремит сбруей. От слепней нет никакого покоя. Наконец Михаил приносит большой черно-пестрый арбуз с белым на боку крестом.
— Твой? — осведомляется Варька.
— А то чей же! — раскрывая лезвие перочинного ножа, гордо отвечает он.
— Врешь все. Наверно, отец метил, а не ты, — пытается уличить его сестра и получает добрый шлепок пониже спины. За сестру заступалась Шурка. Сядет рядом с нею, обнимет и вдруг засияет такой искренней добротой, что Илюшке, несмотря на все Варькины каверзы, становилось жалко ее.
Арбуз разрезает мать.
— Не трещит, — замечает Варька. Слезы ее, как всегда, просыхают мгновенно.
— Совсем еще зеленый, — подтверждает мать.
— Розовый, розовый! — уверяет Миша. Илюшка и Шурка тоже за него. Им хочется убедить самих себя, что арбуз на самом деле начальной спелости… Но увы — розовинки едва наметились вокруг совершенно белых семечек. И все же расхватали по целому ломтю и уплетают за обе щеки.
— С калачом ешьте! — пытается остановить мать, да где там! — Глядите, телегу мне не испачкайте, — шутливо говорит она и тоже берет маленькую дольку. Смеются, радуются, что и мать участвует в их пирушке, перебирают всякие забавные случаи из короткой детской жизни, связанные с бахчами.
— А ну, Илюшок, расскажи-ка нам, как ты в тот год на бахчи с веником ездил? — тихим, вкрадчивым голосом просит Миша. Сестренки хохочут, стреляют друг в друга семечками. Мать гладит Илюху по голове и тоже смеется.
Было тогда Илюхе годика четыре, а может, чуточку больше. В один из субботних вечеров за ужином детям объявили, что завтра рано утром их повезут на бахчи за первыми дынями. Решили взять всех, кроме Илюшки, который накануне наелся незрелого пасленка и маялся животом. Он поднял такой крик, что пообещали разбудить и его. С вечера дети так развозились от радости, что их едва уложили спать. Проснулся Илюха в полутемных сенях, пошарил рукой по колючей кошме — ни тетки Аннушки, ни Саньки рядом не оказалось. Илюшка вскочил и, как был в одной рубашонке, зашлепал босиком по голому полу в маленькие сени, выглянул в окошко. Во дворе горланили петухи. Над поветью повисло солнышко, а в холодке, внизу, дедушкиного тарантаса не было. Илюха сразу догадался, что на бахчи уехали без него. Захлебываясь слезами, он бросился на кухню, но там на столе лежали одни высокие калачи, накрытые белой скатеркой, да черный кот сыто мурлыкал на лавке. Илюха схватил веник, зачем-то сунул его коту в усы, тот чихнул, спрыгнул с лавки и юркнул, загремев ухватами, под печку. Услышав во дворе голоса, Илюшка выскочил на крыльцо и остановился. В тени на завалинке сидели мать с тетушкой Анной и что-то вязали. Увидев Илюху без штанишек, с обтрепанным в руках веником, они засмеялись. Это вызвало у Илюхи такую ярость, какой он никогда не испытывал. Мало того, что обманули, да еще так обидно насмехаются. Размахнулся и запустил в них веником.
— Ну, хватит, сынок, хватит, родимый, — попробовала мать успокоить его. Но Илюша не унимался. Притащил поварешку и старые, растоптанные дедушкины валенки.
— До дедушкиных пимов, пострел, добрался… Вот ужо приедет дед-то, я ему все расскажу, — пригрозила тетушка. Но и эта угроза не подействовала. Бросать уже было нечего, тогда он выхватил из-под скатерти еще теплый калач и выскочил с ним на крыльцо. Тут терпению матери пришел конец.
— Эко чего удумал! Не смей! — крикнула она, подскочила и отняла калач.
— Шлепни-ка его по голой заднице! — посоветовала тетушка. Но мать никогда не била Илюшку.
— Ишь какой буян выискался! Вот те и ласковый! Лобастенький! То и гляди ухватом пырнет… Воистину дед Микифор горячий… — сокрушалась тетушка Анна.
Мать зажала голову Илюшки руками, прислонила к своему животу и зашептала что-то ласково-ласково. Немое Илюшкино горе начало затухать. Изредка всхлипывая, он выкрикивал:
— Скажу дедушке, как вы его дразните!
— Как, милый?
— Микифор горячий…
— Ну и скажи, скажи, — кивала тетушка.
— Ишо скажу, как киргизцу муку продаете…
— Приедет дедушка, ты ему все скажешь, а он возьмет нагайку, да и отхлещет нас с Аннушкой.
— Ну и пусть! Так и надо! Не разбудили! А вчерась-то сказали: поедешь… — Горе было настолько сокрушительным, что казалось, вовек его не забудешь и ничем не поправишь…
— Ты так сладко спал, что жалко стало, вот и не побудили, — оправдывалась мать.
— А Варюха-завирюха поехала, поехала… — снова заплакал Илюшка, начиная жалеть не только себя, но и мать, и тетку Аннушку, воображая, как дедушка на самом деле снимет со стены плетку и побьет их. Илюшка очень боялся домашних скандалов. Они нередко случались именно из-за того, что мать с тетушкой Анной иной раз продавали украдкой знакомому киргизцу пуд или два муки. Каким-то непостижимым для Илюшки путем дед узнавал об этом и начинал ругать женщин — шумел, как настоящий Микифор горячий. У него, как он говорил, «каждая копейка знала свое место в портаманете»… Не мог тогда знать Илюха и того, что деньги, которые мать и Аннушка получали от продажи пуховых платков, связанных в час досуга при едва тлеющей керосиновой лампе, обязаны были отдавать тому же дедушке. Все необходимое для каждого он «справлял» сам. Так было до самой его смерти. Только после женитьбы Михаила платочные деньги уже не шли в общую кассу. Настя — жена Михаила — запротестовала против этого первой. Ее поддержала мать, да и деда к тому времени в живых не было, а Ивана Никифоровича устранить от женских дел было легче…
5
Дедушку Никифора Ивановича забыли не сразу. Еще долгие годы в доме витал его строгий, могутный облик. Со смертью деда кончилась и привольная Илюшкина жизнь. Сына взял под свою отцовскую опеку Иван Никифорович и почти никуда от себя не отпускал. Куда бы он ни ехал — всюду брал его с собой. Однажды хотел даже повезти на ярмарку, но воспротивилась мать, потому что с базара, куда съезжалось много народа, никто трезвым не возвращался. Зато вскоре отец увез его на молотьбу. Взяли и девчонок. Они уже помогали взрослым. Саня считала молотьбу самым утомительным делом. Ее обычно сажали на телегу, давали в руки вожжи и заставляли ездить по разбитым на току снопам. Под телегой закреплялся каменный каток, позади шла еще одна лошадь, волоча на постромках второй каток. Взрослые перетряхивают хлебный настил бянками — специальными двурогими деревянными вилами, потом легкими граблями снимают края отбитой соломы, затем снова ворочают настил, перетряхивают к внешнему краю — с таким расчетом, чтобы зерно и мякина оседали внизу, посредине тока. Так до самого конца, покамест не снимут вчистую. Потом уж Санька гоняет по чистой, чтобы не осталось зерна в рубашке, которое может во время веяния улететь в охвостье.
— А ну веселее, голубчики! — покрикивает отец, встряхивая и продувая на ладони намолоченное зерно. Ему радость: урожай-то вон какой полновесный! Крикнет и пойдет к балагану курить. А брат Минька украдкой шмыганет куда-нибудь в кустики или за омет старой соломы и тоже потихоньку курит. «Не боится, шельмец, что пожар наделает», — думает Илюшка.
Полдень. Жарко. Однообразно скрипит рассохшаяся телега. Гулко постукивают катки. Шуршат по настилу копытами вспотевшие кони. Спустив на лоб кончик беленького платочка, Санька поет какую-то песенку. Резко обрывая мотив, посвистывает на лошадей. Смешно у нее получается. Увидев, как младший братишка бездельничает, начинает упрашивать:
— Братик, миленький, поездий со мной маненечко!
Отмахнувшись от ее просьбы, Илюшка продолжает барахтаться в нагретой солнцем соломе. Он знает наперед, чем все кончится, если уступит. Она проедет с ним два-три круга и запросится по неотложному делу… Потом пойдет к балагану, выкатит из-под соломы арбуз, расколет его и начнет есть деревянной ложкой сладкую, красную, сахаристую мякоть. Тут ее хоть кричи не кричи. Отец, глядишь, закурив цигарку, приляжет в тень и мгновенно уснет, Миша тоже, изрядно наглотавшись табачного дыма. Даже братишке в другой раз даст курнуть из своих рук. Илья чуть не задыхается, кружится голова, поташнивает, но терпит. Так вот и приучаются к курению.
Все же усаженный за вожжи, Илюха начинает молотить через пень-колоду, ездит посередке настила одним следом и всю пшеницу избивает катками в труху, тогда как края-то, что нужно снимать,-лежат и подрагивают усиками живых колосков. Бедная Саня — тетеха, попадет же ей! Но ради передышки она готова перетерпеть любое наказание. Илюшка тогда еще не понимал, как мучительно ездить по току с утра до ночи. От кружения по настилке постепенно одолевает дремота, того и гляди под каток свалишься, или кони, почуяв свободу, сойдут с тока, упрутся оглоблями в овсяную скирду и начнут рушить снопы. Вот тогда уж начинается настоящий ералаш… Всем достается от отца, и ездовому, и тем, кто должен неусыпно наблюдать за молотьбой. Сельских детей приучают к физическому труду очень рано. С малых лет у них у каждого есть свои рабочие инструменты: маленькие грабельки, вилы, лопата, метла… Все начиналось как будто бы с детской забавы, а кончалось тем, что дети трудились наравне со взрослыми, делали все, что им было под силу. Илюшка очень любил, когда сгребали намолоченный хлеб и, готовясь к провеиванию, начисто подметали гладкий, твердо укатанный ток. Дети разувались и босиком бегали по прохладной земле, где на их глазах вырастал огромный ворох. Потом наспех ужинали, а к сумеркам начинала тарахтеть старенькая веялка. Чудо, какие дивные стояли вечера. Илюшка любил наблюдать, как над горами тихо всплывал месяц и обливал голубоватым светом большие скирды хлеба, а вокруг серебристо блестела выброшенная с тока солома. Но дыра в балагане становилась тогда еще чернее, и лезть туда одному не хотелось… Нелепую, жуткую тень отбрасывали треногие таганки-растопырки, где висел большущий полевой чайник с длинным, лихо выгнутым рыльцем. Тут же рядом тяжко посапывали привязанные на ночь быки, приглушенно позванивая боталом, звучно пофыркивали в луговой низине спутанные кони. В лунной ночи далеко разносился стук веялки.
Илюшка стоял на коленях и отгребал от нижнего решета чистую пшеницу, орудуя то деревянной лопатой, а то и руками. Приятно утопить ладони в сухом, душистом зерне. Когда надоедало это занятие, начинал вторить, подражать звукам веялки:
— Так, так, перетак, я поеду на баткак. Я поеду с Мишей, соберу все вишни…
Баткаком называли поле, принадлежащее самым богатым в станице казакам Полубояровым.
Пока Илюшка, задумавшись, «едет на баткак за вишнями», под решетом горкой набухает и плывет в разные стороны пшеница. Крутить ручку веялки становится труднее. Миша с отцом крутят ее на переменках. Слышен сердитый окрик:
— Отгребай, чего рот разинул!
Вздрогнув, Илюшка торопливо начинает работать лопатой. Когда запустишь, не сразу справишься. Ему приходят на помощь Саня или Мария.
Ворох провеянной пшеницы растекается по току все шире и шире. Отец прикидывает на глазок, сколько пудов намолотили. Потом дружно подкатывают порожнюю, запряженную быками телегу и расстилают на ней полог. Отец черпанет краем железной пудовки, да еще рукой загребет, чтобы наплыло с верхом, высыплет на полог и скажет:
— Господи Иисусе. Первая! Манька, считай ты, что ли.
Считать начинают все и под конец обязательно сбиваются — у всех разные цифры… Перестают сыпать, смотрят, как полог сойдется, чтобы можно было зашпилить. Полог зашпиливается деревянными шпильками, выструганными из чилиги — одного из видов мелкой акации. Кончики остро затачиваются и специально обжигаются на огне, чтобы не гнулись и не ломались. Шпильки отец очень бережет — чем они старее, тем выше их качество. Когда полог готов, насыпают мешки. Отец сыплет, а дети держат края.
Девчонки за день так умаются, что на второй ездке начинают клевать носом. Это Илюхе хорошо — он и днем может свернуться клубочком между скирдами и поспать, да и утром его рано не будят — жалеют.
Время бежит. Месяц достиг Губерлинских гор и спустился к Тугаю. Прохладно. Сестры накинули свои длинные шубенки и двигаются по току, словно сонные клуши. Быки повставали и зашлепали ошметками. Почуяв, что веялка замолкла, лошади припрыгали к стану, чтобы овсом полакомиться. Водит их сюда хитрющая Гнедуха. Два раза Илюшку посылали отгонять их.
Оба воза готовы. Полога зашпилены, сверху положены мешки. Отец с Мишей запрягают быков. Илюха садится с кнутом в руках на первый воз, вторая пара привязана за налыги к телеге. Отец дает Мише последние наставления.
— Ну, с богом! — Иван Никифорыч, держа в руках налыгу, выводит быков на дорогу. Илюшка крутит кнутом над головой и весело, как большой, покрикивает:
— Цоб, айда, цоб!
Тяжело поскрипывая, качаясь на неровностях, возы медленно двигаются вперед.
Илюшке по душе такие поездки. Как только выберутся на равнину, отец начнет рассказывать сказки или истории про войну. Особенно Илюшке нравится разговор про японцев. Когда он родился, отец был на японской войне.
— Ну, какие они, тятя, японцы-то?
Быки, постукивая ярмами, медленно тащат свои поклажи. На выбоинах тяжко поскрипывают телеги. На кончики высоких рогов бороздового быка по кличке «Бугай» уселся месяц и едет себе, покачиваясь. А вокруг спят ковыли. Не спят только звезды. Они рассыпались по всему небу и подмигивают…
— Цо-об! — Отец отобрал у Илюшки кнут и сам теперь помахивает. Надо вовремя стегануть полевого Сайгака — высокий поджарый бычина любит отлынивать. О японцах отец отвечает не сразу, но Илья не торопит. Им еще ехать да ехать.
— Больше всего косоглазые они, япошки-то.
— И все с саблями?
— Все.
— А какие у них сабли?
— Коротенькие, но вострые.
— Вострее наших шашек?
— Это смотря как наточить…
— А далеко до японцев?
— Там вон, за теми они горами, — кивая на высокие Губерлинские горы, отвечает отец.
— А вон на той высокой горе есть?
— А как же!
Для Илюхи самая высокая гора — это Гарляушная. На склонах ее чернеют колки. Его воображение принимает их за японцев. И жутко и сладостно. Подкрасться бы, да как налететь на них с казачьей шашкой… Воинственный дух прививался с пеленок. Недаром, когда рождался мальчишка, старики снимали папахи и с гордостью говорили:
— Казак родился, защитник отечества.
— Цо-об! — пощелкивает отцовский кнут. Спать Илюшке не хочется, не дает ботало, которое висит у Бугая на шее. Если звон надоедает, они затыкают хайло и прижимают язычок пучком травы. Когда выезжали, Илюшка видел, как там торчала солома, а теперь выпала, ну и звенит на всю степь. Звук его заливистый, мягкий. Мать издали узнает, когда они въезжают в станицу, и готовится отпирать ворота. А сейчас ехать им еще долго. Быки шагают не торопясь. Про японцев все уже переговорили, Илюшка требует, чтобы отец рассказал сказку. Он много их знает и каждый раз рассказывает все новые, да такие, что дух захватывает. Отец соглашается не сразу, его нужно долго уламывать… Илюшка настаивает чуть ли не со слезами на глазах, а он только кряхтит да покуривает. Илюха начинает грозить, что больше сроду с ним никуда не поедет…
— Так и не поедешь?
— Так и не поеду.
— И на бахчи?
— Нет! — решительно заявляет он, хотя это стоит ему большого труда.
— Значит, ты меня не любишь, — заключает отец.
— Если бы ты рассказал про богатыря с двухпудовым мечом… — Но отец никогда не повторяет своих сказок. Тогда Илюшке и в голову не приходило, что он сочиняет их на ходу и второй раз рассказать не может.
— В некотором царстве, не в нашем государстве жил-был… — начинает отец. Детскую душу пленяют двенадцатиглавые змеи, богатыри-великаны с мечами-кладенцами, с конями, из ноздрей которых пламя пышет, а глазищи гневом дышат. Все атрибуты старинных русских сказаний, переиначенные на отцовский лад, будоражат воображение мальчика, нагнетают то ужас, то умиление.
Вдруг отец замолчал, и чудесное видение оборвалось на самом интересном месте.
— Давай дальше, — просил Илюха. — Позабыл, понимаешь…
— А ты вспомни.
— Стараюсь, да вот хоть убей не могу…
Давно выехали на Орский большак. Неизвестно где с рогов Бугая соскочил месяц и зацепился за мохнатую тучку. Он сразу как-то побледнел, скукожился, словно испугался телеграфных столбов, которые теперь строго шагают рядом со скрипящими возами, звенят проволокой, повисшей на белых стаканчиках.
— Вспомнил? — пристает Илюша к отцу.
— Не.
— Ты и тот раз говорил «не», а потом припомнил всю до конца.
— Про что это?
— А про Вернидуба и Вернигору!
— Ну-ка ты, сынок, сам расскажи! А то я и эту позабыл…
Илюшка пересказывает сначала сбивчиво, потом выправляется, приплетает разные случаи, которых вовсе не было у Вернидуба, окрашивает их новым цветом своей детской фантазии.
— Молодец, сынок, молодец, давай дальше, — похваливает отец.
— Эх ты какой!
— Какой же?
— Я буду рассказывать, а ты уснешь опять…
Бывали случаи, когда Илюшка с увлечением пересказывал и только под конец замечал, что отец давно уже спит. Быки плетутся шаляй-валяй, даже возы перестают скрипеть. Вдруг Илюху охватывает страх. Он же один, а гора Пещерная все ближе и ближе, что-то чернеет на самой вершине. Может, и тут японцы?
Орет прямо отцу в ухо:
— Тятя!
Отец встряхивает головой, поправив съехавшую фуражку, спросонья стегает не того быка. Ярмо пронзительно скрипит, и воз чуть не опрокидывается.
— Была бы нам сказка-лупоглазка, — направляя быков на дорогу, говорит отец.
Домой приезжают в полночь. А может, Илюхе так кажется. Потому что в станице почти все спят. Окошки такие же черные, как дырка балагана на молотьбе. Мать стоит в растворенных воротах. Из двери амбара струится свет. Это мать с Аннушкой лампу зажгли, чтобы светлее было ссыпать хлеб. Мать берет из рук отца налыгу и ждет, пока он отвяжет вторую пару. Мать всегда заводит первую, отец вторую.
Подводя быков к амбарной двери, мать заговорила с Илюшкой и прозевала, не остановила вовремя повозку. Воз проехал немного вперед. Отец начинает сердиться. Илюха сидит на возу ни жив ни мертв. Страшно боится, когда отец начинает кричать на мать:
— Ну куда завела?
— Можно немножко назад подать, — смущенно отвечает мать.
— Это тебе не порожняком, назад подать… — Отец подходит, несильно бьет кнутовищем по бычьим ноздрям, приговаривает:
— А ну, назад, Бугай, назад.
Быки мотают башками, сопят, телега медленно откатывается. Отец разналыживает рога, выдергивает железные занозки из ярма. Покачивая шеями, быки устало отходят.
— Голодные, поди, намаялись, — говорит мать.
— А что есть у тебя? — спрашивает отец.
— Петушка зарубила, почти все готово; полешка два подброшу в горнишку, и можно лапшу засыпать. Самовар у Аннушки шумит. Ну как?
— Не знаю, что и делать… Вон как мой помощничек скажет. — Подмигнув Илюхе, отец лезет в карман за кисетом. Слава богу, кажется, подобрел. Однако страх схлынул с Ильи не сразу. Он все еще сидит на возу и сам не знает, зачем шерстку из тулупа выщипывает… Почти ни один приезд не обходится без крика. Ох, как это Илюшку угнетает! Тогда и мать не сразу к нему подскочит, не скажет своих заветных слов, после которых он приткнется головой к ее груди и пустит, слезу. Так случилось и на этот раз.
— Эх, нюня! Мамкин прикормыш, — говорит отец и отворачивается.
— Конечно, мой сыночек! — заступается мать. Ну как тут можно сохранить свое казацкое достоинство, как не ответить на такую ласку? Мягкими, теплыми губами она касается взмокшего лица и сует в руку какой-нибудь сдобный кренделик или кокурку — пряник домашний.
— Ладно, раз он такой плакса, пусть остается дома. Дашь ему титьку, сосунку этому, — говорит отец и заплевывает цигарку.
— И дам! — певучим, радостным голосом отвечает мать.
— Вот, вот! Пусть девки молотят, а он будет баклуши бить. — Слово «баклуши» считается самым обидным. Его говорят только отъявленным лентяям. Однако пусть говорит, что хочет, а Илюха не прочь и по берегу Урала побегать, пескарей половить с такими же, как и он, мальчишками. Только бы оставили…
Решают сначала ссыпать оба воза, а потом уж не торопясь похлебать лапши, чаю напиться. Если вытоплена баня, то попариться. Как Илюха ни брыкался, мать сама сняла его с воза и поставила на амбарный порог. Из амбара так пахло дынями, что он тут же побежал взглянуть, какой у них с Аннушкой запас. Дно большой долбленой лодки было усыпано дынями.
Илюшка выбрал дыню покруглее, поменьше и присел с нею на кучу порожних мешков. Хорошо пахнет. Съел крендель. Отец с матерью гремят пудовками и совсем о нем позабыли. В амбаре, если оглядеться, то все хорошо видно. Лампешка стоит на крышке старой-престарой кадушки, в которой сморщился давнишний хмель. Тетка собирается выбросить его, да все никак не соберется. На толстых перекладинах лежат доски и острая пика. Илюха один раз достал ее деревянными вилами. Увидали и отняли. Поругали. Рядом с пикой здоровенные стоговые вилы. Только отец ими может метать, больше никто. Тяжелые, трехрогие — два рога снизу, один сверху. Это, конечно, не те вилы, которыми Илюха пику доставал, те сейчас на току. Ими наверх снопы подают, когда скирды делают. Вон висит на жерди попона с красными окоемками, а под ней отцовское фронтовое седло. Никому ездить на нем он не дает, только сам. Для других есть два башкирских седла — они в другом амбаре. Там еще больше всякого хлама. Туда и веялку ставят на зиму. Размышляя таким образом, незаметно для себя Илюшка заснул. Сквозь сон слышит голос матери:
— Совсем уморил моего последненькова. Зачем берешь? Мучить вот так!..
— А ты, поди, не возьми один раз. Помнишь, как на бахчи не взяли?
— Да что ему было-то тогда?
— А потом с ним весело. Ты знаешь, как он складно сказки рассказывает?
— Он смышленее всех…
— Недаром ика баш растет… — говорит отец. «Ика баш» в переводе с татарского — «две головы». У Илюшки на самом деле растет на затылке какая-то шишка. Остриженная голова имеет уродливую форму. Это его огорчает, да и ребятишки дразнят.
— Учиться бы его отдать, — говорит отец.
— Куда?
— В кадетский корпус.
— Жалко! — Мать сокрушенно вздыхает. Илюшка чувствует, как она берет его на руки. Волосы ее, как живые, щекочут щеки, шею. Он почти просыпается, но притворяется, что спит. Плохо ли покачаться на руках у матери?.. И тут же мысль: «А кто меня возьмет в кадеты с такой срамной башкой? Подумала бы?»
— Гляди-ка, какой тяжеленький…
— Растет.
— Растет, да не шибко. — Мать несет сына в дом. — Больше никуда не отпущу.
— Еще чего!
Вносит его в горницу и кладет на свою пуховую перину. На перине так мягко, а дремота так сладка. Мать стаскивает с него пиджачишко, сапоги, предлагает обглодать куриную ножку, съесть яичко всмятку. Но Илюше уже не до еды. Хочется спать. Сквозь сон он слышит, как гремят чайной посудой, стучат ложками, хлебают лапшу…
6
Отец спать не ложится. Поужинав, идет запрягать быков. Мать спешит укладывать харчи: калачи, шаньги, большой чиляк с откидным кислым молоком — для забелки кашицы и айрана. Отец велит разбудить Илюшку. Обычно это делает тетушка Анна. Она подсаживается на постель и ласково ерошит волосы. От такой неги еще пуще вставать не хочется. Наконец входит отец с кнутом в руках.
— Это что ж за работничек такой! Не добудишься! — кричит он на всю горницу.
— Оставил бы его, Ванюша, до воскресенья, — робко вступается тетка.
— Ты первая потатчица! Айда! Живо!
Илюха хватает штанишки, предусмотрительно положенные на кровать тетушкой Анной, сует ноги, глядит, пузырь впереди — задом наперед напялил… Покамест копается, отец сто раз наорет на всех. Выйдут на крыльцо — темнотища! Даже быков-то не сразу разглядишь. Прохладно. Месяц давно уже закатился. Коровы начинают мычать в хлеве — жалко, наверное, с быками расставаться. Вместе лежали в тепле почти всю ночь. По узенькому переулку, который пересекает большую улицу, отец ведет быков за налыгу. Илюшка в это время зарывается в подстилку. Солома всегда приятно пахнет. На отца затаил обиду. Дома кричит на всех, а как выедет за околицу, подлизываться начнет.
— Ты никак спать улегся, сынок?
Молчит Илюха, лучше бы дома оставил, чем подлизываться.
— А знаешь, что мы завтра с тобой сделаем?
«Делай, что хочешь, а мне и тут под соломой неплохо».
— Наловим в Письмянке ельцов, жерлиц на живцов поставим, знаешь, каких щук наловим?
Илюшка шевелится, тихонько соломкой шуршит, даже одну берет в рот, свистнуть пытается, но все еще не откликается. «Не стану поваживать, пусть помается хорошенько. А ельцов ловить страсть как люблю», — размышляет Илюшка.
— Ты что же, на самом деле спать хочешь?
— Нет! — отвечает сердито.
— Ну и молодец. Настоящий казак! А знаешь, что мы с тобой на будущий год сделаем?
— Что? — уже мягче спрашивает сын, но все еще не совсем дружелюбно. Обида спряталась, но не исчезла.
— Будешь верхом на Лысманке копны возить. Положу на спину новый потник, подтяну катауром, и ты марш, марш! Хочешь рысью дуй, хочешь наметом.
Илюшка вскакивает из своего гнездышка, частым, захлебывающимся от радости голосом говорит:
— Это верно, да? А ты мне того мухортенького жеребенка пымаешь в косяке? Я на нем на масленицу кататься буду!
— Конечно, пымаем.
Все говорят, что в косяке ходит «чудо-жеребенок». Правда, Илья видел его этой весной и никакого «чуда» в нем не приметил. Обыкновенный тонконогий жеребчишка, даже не очень складный. Но раз все говорят… Главное пристрастье Илюшки — любовь к лошадям. Кроме Сивки, он на всех верхом ездил, водил на водопой. Но самый любимый конь — это дедушкин Лысманка, умный и смирный. Он всегда терпеливо ждет, пока к нему не вскарабкаются на спину. Илья хоть и маленький ростом, но крепкий и ловкий. Подпрыгнув, хватается за гриву и мячиком взлетает на спину. Так делает не один он, многие станичные мальчишки. Тут уж врожденное, идущее от казачьей сноровки, перенятой когда-то от степных кочевников.
Обратно, порожняком, быки шагают ходко. Если нужно поторопиться, то отец пересаживает Илюху на вторую подводу и заставляет хворостиной подгонять быков, чтобы не тянулись. Начинает светать. Раньше всех светленькая полоска появляется как раз там, где японцы… Теперь дорога другая — напрямик через седловину горы Поперечной. Она начинается от Кувандыкской гряды и почти упирается в речушку Письмянку. С возами там не ездят. Крутой, с косогорами подъем и такой же спуск. Телеги грохочут, ярмы налезают быкам на рога. Хворостину тут уж не показывай! Илюха крепко держится за наклески. Боязно все-таки. В другой раз, чтобы не пугать сынишку, отец слезает и сводит быков на налыге, если они не держат дышло, им опять достается черенком кнута по ноздрям. Дальше пойдет ровнее. Есть еще переправа, но там, когда колеса бултыхнутся с кручи, немножко обрызжет грязью — и все. Когда подъезжают к броду, тут уж совсем становится светло. Только туман по кустам дымится и шубенку приходится накинуть на плечи. Вот он и ток. Отец прежде всего поглядывает, где лошади. Если у речки, на отаве, то ничего, а если на току возле скирд… тогда держись, Минька. Он здесь старший, и вовсе неважно, что хочет жениться. Сколько снопов разобьют лошади, столько раз его и «женят»… Не приведи бог, когда бывало такое. Девчонки забьются в самый дальний угол балагана и воют себе в рукава…
7
На следующий год отец выполнил свое обещание. Во время сенокоса Илюшку посадили на коня и заставили возить копны. Прежде Илюша с завистью смотрел на Саню и потешался, как она, шлепая ногами в белых шерстяных носках по запотевшим бокам Гнедышки, неуклюже подпрыгивая на перетянутом катауром потнике, трусила от стога к копне, волоча по кошанине на одном гуже толстенный, сплетенный из лыка аркан, на котором лошадь везла потом копну. Илюшке это казалось легким и развеселым занятием. Он был убежден, что Санька не умеет ездить верхом. Изо дня в день он неудержимо рвался заменить ее, но всякий раз просыпался тогда, когда солнышко уже поднималось над верхушкой нового стога. Выспавшись вволю, протирал глаза, нашаривал в балагане мешок с калачами, отрезал ломоть, макал в деревянный чиляк с кислым молоком и, уплетая краюху, плелся к матери. Наверняка она приготовила ему гостинец — веточку или горстку клубники, которую собирала в бобовнике, возле зеленого овражка.
— Вот и мой работничек пришел, — улыбаясь, говорила мать, заправляя лыковый аркан под самое донышко душистой копны. Гнедышка мотал усталой башкой. Из опущенного на лоб платочка торчал красный, облезлый нос сестренки.
Пока Санька отвозила копну к стогу, мать усаживалась с Илюшкой в тень другой, очередной копешки, клала его головенку к себе на колени, ерошила волосы теплыми, ласковыми пальцами. Поедая ягоды, Илюшка разнеживался и начинал канючить, чтобы дали коня и тоже разрешили возить копны.
— Я лучше Саньки умею!
— Эх, дурачок ты мой, дурачок! Надоест еще, когда подрастешь!
— Санька-то вон ездит и ездит, а совсем не умеет, — продолжал он хныкать.
— Саня, она девчонка, а ты у меня казачок. Тебе еще больше придется ездить. Время придет, на службу пойдешь, а может, и на войну…
— Как только сейчас приедет Санька, все равно отниму Гнедышку.
Однако отнимать лошадь не пришлось. Саня охотно уступила ее брату и сама помогла ему влезть коню на спину.
На первых порах не все ладилось. Илюшка без всякой надобности дергал поводья, задирал лошади голову, старался подхлестнуть ее концом повода. Лошадь шла неравномерным шагом, копна волочилась рывками и на полпути к стогу подрезалась. Чтобы исправить промах, надо было снова завести аркан, но этого Илюшка еще не умел делать. На помощь спешила мать. Вот тут и начиналось самое главное.
Работа задерживалась, отец ругался на всю степь и грозил большущими трехрогими вилами.
— Не рви лошади губы, не задирай ей башку, не форси. Ишь моду взял! Сколько раз тебе говорить?
После такой «науки» Илюху спешивали и снова сажали Саню, которой до смерти надоедало это «гарцевание» с раннего утра до позднего вечера.
Но вот Санька неожиданно заболела лихорадкой. Тут уж за Илюху взялись со всей строгостью и серьезностью. Хорошо запомнив конец повода, изрядно погулявшего по его спине, он быстро освоил отцовскую науку и подвозил теперь копны к стогу почти без промахов. Его наперебой расхваливали, но радости от этого он не испытывал. Подростков заставляли работать без всякого чувства меры, наравне со взрослыми.
Семилетнего Илюшку поднимали с рассветом, когда над озерами еще клубился холодный туман, истошно галдели лягушки. Полусонного, дрожащего от утренней сырости, отец сажал его на коня, а чтобы взбодрить наездника, подстегивал лошадь концом аркана. Гнедышка взбрыкивал. Едва удерживаясь на потнике, Илюха начинал ощущать в руках жесткие поводья и быстро приходил в себя, с нетерпением ожидая восхода теплого уральского солнышка.
Таскать копны приходилось с утра до ночи, с коротким перерывом на обед, когда солнышко уже не только грело, а изнуряло без всякой пощады. И если мальчишку в деревне уже приспособили к труду, научили бороновать, пахать, ходить возле быков с кнутом в руках, возить копны, жать серпом хлеб, косить, молотить, зимой возить корм, ухаживать за скотом, значит, он стал равноправным тружеником, работягой, не даром ел свой кусок хлеба, носил нанковые штаны и валенки, скатанные к рождеству Христову проезжими вальщиками.
8
Дети казаков учились раздельно. В станице на церковной площади были выстроены две одинаковые школы — одна для мальчиков, другая для девочек.
Этой осенью, еще задолго до начала занятий, Илюху начали снаряжать в школу в начальный класс, или в первое, как тогда называлось, отделение. Туда приводили самых маленьких. В старших отделениях учились взрослые парни. Многие из них сидели по два года на одной и той же парте. И не потому, что ребята не имели способностей. Старые, бородатые казаки на учебу в школе смотрели, как на самое последнее дело. Главным считалась работа в хозяйстве.
Оттого и процветали в казачестве малограмотность и дремучее невежество. Дед Никифор Иванович, прежде чем поставить подпись под каким-нибудь общественным протоколом или страховой бумагой, кряхтел и кашлял, засучивал рукав пиджака, сначала ставил большую, похожую на колесо фиту, мусолил кончик карандаша в прокуренных усах, а потом уж выводил остальные, растопыренные, как вилы, загогулины…
В тот год, когда Илюха должен был перешагнуть школьный порог, Мария и Саня учились в старших отделениях. От них он научился почти без запинки читать по печатанному, умел писать буквы и даже отдельные слова. В доме его уже считали «грамотеем» и проявляли к нему особое внимание. Мать сшила новый, защитного цвета мундирчик — на казачий манер, отец справил у знакомого киргиза-чеботаря юфтовые сапоги, густо промазанные дегтем. В старой, самодельной сумке лежала грифельная доска в деревянной рамке, два хорошо заостренных грифеля и запас новеньких перьев для ручки.
— Учись хорошенько, не шелаберничай. Научишься писать и читать складно, отдам тебя в кадетский корпус, — ведя Илюху за руку, говорил отец.
От его слов у Илюшки жутко замирало сердце. Уехать куда-то из дому, к озорным рыжим кадетам? Он видел, как в станицу приезжали сыновья к полковнику Клюквину на каникулы и осатанело дрались с местными мальчишками по любому поводу. За то, что их отец скупал у мальчишек бычков по две копейки за десяток, казачата дразнили кадетов поганцами, потому что рыбу эту считали поганой, вытаскивали ее на удочку и «казнили». Не очень-то улыбалось Илюшке попасть в лапы этим отчаянным краснолампасникам.
— Пройдешь кадетский корпус, — продолжал отец, — есаулом станешь, целой сотней казачьей командовать будешь!
Отец подвел сына к стоявшему у школьного крыльца учителю, господину Гетманову, откозыряв, легонько подтолкнул вперед, о чем-то поговорил с учителем, еще раз напомнил Илюшке, чтобы он хорошо учился, и ушел домой.
Оставшись один на один с учителем, Илюшка робко смотрел на его розовое лицо, темно-зеленый военный китель с ярко блестевшими пуговицами, черные сердитые усики. Захотелось вдруг к матери. Владимир Александрович внушал ему непреодолимый страх.
До этого Илюшка бывал в школе единственный раз. Он ходил туда с сестрами на елку. От них слышал, что учитель ставит мальчишек на колени и бьет линейкой.
Сейчас Илья стоял перед учителем, стараясь не показывать страха, мотал школьной сумкой, гремя доской и грифелями.
— Буквы знаешь? — спросил учитель.
— Ага.
— Ну и хорошо. Иди в класс и не трепли свою сумку, — добавил он, затаив усмешку в усах.
Стараясь осторожно ступать своими киргизскими сапогами, Илюха стал подниматься на крыльцо по свежевыкрашенным ступенькам. Из окон слышался неистовый галдеж, мелькали пестрые рубахи и вихрастые головы.
Все четыре отделения размещались в одном большущем классе. Между старшими и младшими отделениями было оставлено широкое свободное пространство, где в несколько шеренг могла выстраиваться вся школа.
Прошло много лет, но первый школьный день ярко и живо запомнился Илье на всю жизнь. Школа была залита солнечным светом. Множество лучиков блестели, переливались на позолоченной ризе священника. Пахло ладаном. Размахивая кадилом, поп отслужил молебен, ученики пропели — кто в лес, кто по дрова — «Достойную» и «Боже, царя храни».
Илюха немножко гордился тем, что уже умеет писать все буквы, но на первом уроке Владимир Александрович заставил рисовать какие-то непонятные крючки, и, к удивлению, это оказалось не так-то легко. Перо сразу же посадило на новенькой тетрадке расплывчатую кляксу — страшную, как черный паук. Выяснилось, что Илья не умеет правильно держать ручку. Он так круто выгибал указательный палец, что тот походил, по мнению учителя, на ружейный курок. Владимир Александрович несколько раз подходил и терпеливо, не повышая голоса, объяснял и показывал, как должен лежать палец на ручке. Без привычки пальцы не слушались. Урок показался длинным, утомительным. Домой Илюха принес заляпанную чернильной кляксой тетрадку с жирными мохнатыми загогулинами. Когда мать открыла тетрадь, сын, чтобы скрыть слезы, отвернулся.
— Ты погляди, какой он у нас молодец! — услышал он восторженный голос матери, обращенный к тетке Аннушке.
— Первейшим грамотеем станет, — откликнулась тетка.
— Плохо! Все равно плохо, — упрямо твердил Илья, хотя ему и приятно было слышать похвалу.
Он искренне переживал свою первую неудачу и удивлялся, почему они расхваливают такую мазню.
— Ну почему плохо? Очень даже хорошо, — вертя перед глазами тетрадку, продолжала мать.
— Ручку не умею держать.
— У-у-у, сынок! Научишься! — с радостным в голосе убеждением воскликнула она и усадила сына за стол. В маленькую глиняную чашку уже была налита куриная лапша. На белом полотенце лежала горка любимых кокурок.
Но Илью это нисколько не радовало. В глазах все еще стояли мохнатые крючки, писать которые, как ему казалось тогда, он не научится никогда на свете.
Первые дни Илья упорно практиковался на крючках, кое-как одолел, а когда перешли на буквы, стало легче. Получил первую пятерку и был рад, как казак первому Георгиевскому кресту. Тайно от всех открывал тетрадку и любовался. Выведенная красными чернилами пятерка стояла гордо, словно востроносая девка с длинной откинутой назад косицей.
9
Ежегодно в самый разгар бабьего лета, когда шелестела под ногами сухая желтая листва, уютно прятались в ней разлапистые грузди, густо краснели на ветках созревшие шиповник и боярышник, когда над головами со свистом пролетали стаи уток, школьники ходили в Тугай. С ружьем на плече, в высоких сапогах учитель Гетманов впервые объяснял, как растут, расцветают, опыляются черемуха, вишня, крушина, почему созревают ягоды. Все это было новым и любопытным.
Однажды во время прогулки школьников захватил в поле такой осенний ливень, что все они продрогли и промокли до нитки.
— Привыкать надо и к воде и к стуже. На то вы и казаки — войско царское, — говорил им учитель. — Вам еще предстоят не такие походы.
— Ты гляди-ка, Анна, башка у него, как утюг, горячая, — встревоженно сказала тетка, когда Илюшка пришел домой.
Илья сильно захворал. Пришлось звать войскового фельдшера Ивана Васильевича Тювильдина.
— Инфлюэнца, — сказал он.
Слова «грипп» тогда и в помине не было. Он дал Илюшке какие-то горькие порошки и велел лежать.
Хворать было очень приятно. Каждый день давали компот, мед, варенье и другие вкусные вещи. Все сочувствовали. Даже Варька ходила тихо, на цыпочках.
— Больше не пойдешь ни в какие походы, — сказала мать.
— Надо привыкать и к мокроте и к стуже, — напомнил он слова учителя.
— Э-э, сыночек мой! Все будет!..
Казачьи школы были откровенно военизированными. С первых же дней детей приучали к хождению строем. Расчет на первые и вторые номера был обычным явлением. На прогулки и в церковь ходили строем, пели военные казачьи песни. Дома и в школе постоянно внушали, что мальчики — слуги царя и отечества. Они должны знать наизусть по имени и отчеству все царское семейство, начиная от царя и кончая великими князьями, княгинями. Изучали историю всех русских царей, войны, которые они вели, и обязательно назубок историю казачьих войск. Этому предмету уделялось особое внимание. Урок примерно шел так:
— Никифоров! — выкликал учитель.
Илья обязан был вскочить и вытянуть руки по швам.
— Отвечай, сколько у нас казачьих войск?
— Семь, — после небольшой запинки говорил Илюшка.
— Назови.
— Оренбургское, Уральское, Донское, Кубанское, Терское, Семиреченское, Забайкальское…
— Глебов!
— Я, господин учитель! — бойко вскакивал и кричал, как оглашенный, Илюшкин сосед Саня Глебов.
— Ты согласен, Глебов, что у нас семь казачьих войск?
— Никак нет!
— Почему?
— Потому что казачьих войск у нас восемь.
— Какое пропустил Никифоров?
— Амурское.
— Верно. Садись, Никифоров, и запомни, что ты пропустил Амурское казачье войско… А ты, Глебов, отвечай, кто сейчас является наказным атаманом нашего Оренбургского казачьего войска?
— Его высокопревосходительство господин Сухомлинов!
— Совершенно верно. А кто у нас наблюдающий за казачьими школами?
— Его высокоблагородие господин войсковой старшина Прытков!
— Молодец! Садись. Послезавтра господин Прытков прибывает к нам для осмотра школы. Всем ученикам прийти в школу в полной казачьей форме.
Слово «войсковой старшина» звучало величаво, громоподобно. Илюха примчался домой как угорелый. Взбегая на крыльцо, кричал:
— Мама! Мама!
— Что случилось? — идя навстречу, испуганно спрашивала мать.
— Скорее шей, мне брюки с лампасами и погоны!
— На войну, что ли, собрался? — улыбалась она.
— Приезжает войсковой старшина! Наблюдащий.
— Ну и бог с ним, пусть приезжает, — спокойно ответила мать.
— Его высокоблагородие господин Прытков! Войсковой старшина! — повторял он раздельно и торжественно. Спокойствие матери выводило его из терпения.
— Еще что надо?
— Новую фуражку!
— А может, еще и коня с седлом? — ехидно сказала старшая сестра Мария.
Тут терпение Илюхи окончательно истощилось. Он запустил в сестру своим маленьким сапожком и заревел.
— Да уймись ты, дурачок! — вмешалась тетушка. — Погоди, Анна. Ведь он все-таки у нас казак! Раз начальство приезжает, учитель велит, значит, нужно подчиняться. Порядок есть порядок. Я пойду пошарю у себя в сундуке. У меня там есть всякие лоскутки.
Однако Илья не хотел, чтобы его казачья форма делалась из каких-нибудь лоскутков, и продолжал реветь.
Чтобы успокоить новоявленного казака, пришлось бросать всю работу. Мать и тетушка принялись перебирать и перекраивать ножницами лоскутки, быстро и ловко смастерили погончики и пришили к мундиру.
С лампасами дело обстояло хуже. Они вертели в руках штанишки и так и сяк, покачивали головами и грустно вздыхали. Простые бумажные брючишки, сшитые матерью, были не очень казачьи.
Вошел отец. Узнав, в чем загвоздка, решительно пресек все попытки облампасить штаны.
— Сходит и без лампасов. Невелика птица, — сказал он.
Илюха взвыл так, что загудело в печной трубе. Пообещав выпороть его, отец махнул рукой и вышел.
С горем пополам лампасы были пришиты. Примерили все вместе: мундирчик с голубыми погончиками и брюки. Надеть старую фуражку Илюша отказался напрочь. Она была измята, с полинялым, выгоревшим на солнце околышем, с выпотрошенной, облезлой внутри клеенкой. Не раз она побывала под дождем и, кроме того, поила хозяина в поле родниковой водой. Взрослые черпали воду своими фуражками, дети им подражали.
— Ведь только к пасхе совсем новенькую покупали у Шуловых, — сокрушалась мать.
— Если бы она была взаправдышная, — хныкал Илья.
Мечтой каждого казачонка было иметь касторовую, с голубым околышем фуражку. Их покупали только взрослым парням. Для мальчишек лавочники привозили бумажные, дешевые, но школьники их презирали, потому что в касторовые вкладывался стальной ободок, а бумажные держались на картоне, который расползался при первом соприкосновении с водой.
Мать и тетка понимали, что отправлять Илюшку в такой фуражке нельзя, тем более что после встречи с господином Прытковым школьники должны пройти парадным маршем по площади перед станичным управлением мимо начальства — атаманов, станичного и поселкового попечителя, священника и самых богатых почетных казаков.
Тетка Аннушка с матерью пошептались, повздыхали и нашли выход. Мать встала, пошла в большую горницу и вернулась с фуражкой Миши. Это была его первая праздничная «всамделишная» фуражка, с высокой тульей, голубым околышем, с блестящей казачьей кокардой.
— Померь-ка, сынок, — и мать сама надела Илюшке фуражку.
— А ить почти впору! Гляди, головастый какой, — проговорила Аннушка. Однако, несмотря на его «двухголовость», внутрь все же пришлось заложить круглую бумагу.
В полной теперь парадной форме он ходил из комнаты в комнату, стоял перед зеркалом, надувая щеки, пыжился, как лягушонок, позабыв, что фуражка чужая. Пока его снаряжали и вертели словно куклу, Варька все время крутилась тут же, рылась в лоскутках и ждала своего часа…
В это время Миша пас на отаве овец. Но когда он вернулся и вошел в избу, Варька тут же крикнула:
— А Илюшка завтра в школу пойдет в твоей фуражке!
— Не ври. — Насупившись, брат остановился посреди кухни.
— Вот те свят! — Варька перекрестилась.
Уткнувшись подбородком в чьи-то старые, пахнущие пылью валенки, Илюшка уже лежал на печке. Мать возилась у шестка. Минька сначала посмотрел на нее, потом на брата. Спросил:
— Правда?
Илюха давил кулачонками подбородок и прятал глаза.
— Ничего, Миня. Всего один разочек наденет, — ответила мать и объяснила, по какому случаю.
Минька застучал сапогами по коридору, побежал проверять свою фуражку. Там, где он всегда прятал, ее не было. Вернувшись, он прыгнул на печной приступок, встряхнул своим светлым чубом перед носом братишки, спросил грозно:
— Куда дел?
Часто заморгав глазами, Илюха отодвинулся.
— Не лезь ты к нему. Я прибрала, — вмешалась мать. — Наденет разочек, ничего с ней не случится.
— Да она ему, как козе барабан!
— А вот и как раз! — крикнул Илья.
У Миши было доброе, отходчивое сердце, и потому стычка кончилась тем, что, склонившись к братишке, он прошептал:
— Ладно. Не отыму. Но за это ты отдашь мне крашеный панок.
В козны играли не только мальчишки, но и большие парни — чуть ли не до первого лагерного сбора.
Козны-бабки! Что было еще милее на свете, чем эта игра?.. Илья играл на гладко утоптанном снегу или на льду замерзшей лужи до тех пор, пока не закоченеют руки. Панки и бабки выкрашены в разные цвета, а последний, широкий, лобастый биток налит оловом. Недавно Илья выменял такой биток у татарчонка Якубки за четыре полнехонькие варежки бабок. Целое богатство!.. Уходил в амбар, высыпал на разостланный полог и пересчитывал. На ночь приобретенный панок прятал под кошму в изголовье, днем же таскал за пазухой. Как же отдать такую красоту? Минька неотступно дышит в лицо. Ждет. Все тело Илюхи пронизывает огонь. Жарче всего пяткам и глазам. Чувствует, что сейчас заревет.
— Ты не отквашивай сковородник свой, а давай биток, — наседает Минька.
Сковородником он называет утолщенные Илюшкины губы. Илюшка хлипкий, может плакать по самому малейшему поводу. На его счастье приходит отец и прекращает спор с братом. Утром Илюшка идет в школу вполне экипированный, с новенькими, как голубые цветочки, погончиками, с белой, чуть не с куриное яичко кокардой, лампасы внапуск на сапожки, от которых за версту несет ваксой и чистым дегтем. Его столько одергивали и прихорашивали, что он едва не опоздал на сбор. Когда прибежал, все четыре отделения уже были выстроены во дворе. Учителя в новых, зеленого цвета мундирах с блестящими пуговицами ходили перед строем и поскрипывали сапогами, давая мальчикам последние наставления. За забором повизгивали девчонки, разглядывая в дырочки погончики и школьные шашки, два всамделишных, только маленьких, казачьих клинка в чистеньких лакированных ножнах. Их надели лучшие ученики четвертого отделения — Сережка Полубояров и Санька Корсков. Илюха перед ними казался таким неказистым: косолапенький, с непомерно большой головой. Но он в строю, и кокарда у него поблескивает не хуже, чем у других, а может, и лучше. Сердце тревожно замирает. Мальчишечьи лица строги, их трудно узнать под лакированными козырьками. Это уже не школьники, а маленькое казачье войско, которое марширует по двору вокруг казенных столбов. Казенными столбами здесь называют снаряды для военных и гимнастических занятий. В землю врыты два огромных столба, сверху перекладина. На ней лестница, кольца, шест, тут же рядом брусья и неизменная деревянная кобыла, отполированная штанами до блеска. Здесь прыгают, лазят по лестнице, взбираются по шесту. К гимнастике приучаются с малых лет.
А сейчас учатся маршировать, останавливаются на ходу, поворачиваются… Командует младший учитель Егор Артамонович Шаров — молодой, высокого роста казак из станицы Рассыпной. Все школьники хорошо умеют ходить в ногу. Немножко портят «обедню» первоотделенцы, но они стараются вовсю. В построении шестеркой залихватски топают навстречу старшему учителю Гетманову, который сейчас изображает войскового старшину. Топот сотен ног, блеск обнаженных клинков захватывает, будоражит ребячьи сердца. Впереди мелюзги — Полубояров и Корсков. С клинками наголо они рапортуют:
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
— Здравствуйте, школьники! — беря под козырек новенькой фуражки, зычно выкрикивает Владимир Александрович Гетманов.
— Здравия желаем, ваше бродие! — дружно отвечают всем строем.
— От Петровской казачьей школы ординарцами присланы ученики четвертого отделения Сергей Полубояров и Александр Корсков, — рапортует долговязый Полубояров. Он старший ординарец.
— Ординарцы приняты! Вольно!
Ученики первого отделения стояли в затылок за ординарцами, поэтому первыми встречали высокого, носастого наблюдающего. Его сопровождали атаманы, поп, школьный попечитель, густобородые именитые казаки, увешанные медалями.
Длинный, в сажень ростом, с большими, как распорки, усами, с Георгиевским крестом на светло-зеленом мундире, войсковой старшина сказал речь, призывая хорошо учиться, чтобы стать настоящими казаками, достойными защитниками царя и отечества. Потом прошли колоннами, перестроились, показали какую-то игру и были распущены.
10
Военные игры, упражнения на гимнастических снарядах были неотъемлемой частью школьных занятий. Осенью в погожие дни учителя выводили мальчиков в поле, учили перебежкам, маскировке, устраивали увлекательные поиски разведчиков. Зимой подростков ожидали любимые снежные городки, которые штурмовали не только они, но и взрослые служилые казаки. Но играть одним все же нравилось больше. Без учителей дети чувствовали себя вольготней и беззаботно шалили сколько хотелось. Школьная жизнь складывалась так, что все с нетерпением ждали, когда начнутся посты, сначала рождественский, затем самые продолжительные каникулы, веселая масленица с играми и скачками. Во время великого поста было не до игр — предстояло говение. Вставали затемно. Наспех одеваясь, бежали по звеневшему в лужах апрельскому ледку к заутрене, потом к обедне, а вечером к всенощной. Выстаивать натощак сразу две утренние службы было мучительно. Махнув рукой на грехи, мальчишки приходили в школу с краюхой хлеба за пазухой, наперед зная, что перед причастием последует полное отпущение грехов. Сам по себе обряд говения был утомительным и нудным, но имел и свои преимущества. Во время поста ребята мало учились, больше молились. В школу старались прибежать как можно раньше, чтобы до прихода учителей расправиться с запасами хлеба и поиграть. Самой любимой игрой была война — стенка на стенку. При этом сильные узурпировали власть и назначали себя полководцами. Так, например, Санька Корсков, ординарец, однажды объявил себя Александром Невским. В другой стенке предводительствовал ученик четвертого отделения Иван Серебряков, по прозвищу «Псаломщик». Это был невысокий, коренастый, довольно смышленый парень, прихрамывающий на левую ногу.
Игра, которую придумали школьные полководцы, заключалась в том, что одна сторона взбиралась на парты и вставала во весь рост, а другая атаковала. Мальчишки стаскивали друг с друга шапки. Лишившийся головного убора немедленно выбывал из строя. Многие носили барашковые папахи с высоким сплошным гайдамацким верхом, натянутые на уши. Стащить их было не так-то просто. Правил в игре не существовало, поэтому противника можно было хватать за что попало и стаскивать с парты. Нередко вместо шапки в руках оказывался валенок, а то и рукав от шубенки, не говоря уже о крючках и пуговицах. В классе поднималась пыль столбом. Вояки орали во всю глотку, гоняясь друг за другом, прыгали по партам. В тот день за Никифоровым погнался Санька Глебов. Несмотря на малый рост, Илюшка был крепким и вертким. Папаху свою нахлобучил так, что стащить ее можно было лишь с волосами… Санька, прыгая с парты на парту, пытался прижать его к стенке, но Илюшка все время ловко увертывался. Он знал, что Санька сильнее, но ему не хотелось быть побежденным. Во время этой беготни Илюха в какой-то миг повернулся к врагу лицом и попятился к окошку. Санька, налетев на него, вынес дружка вместе с оконной рамой прямо на улицу. Рама была, к счастью, одинарная. Вторую, по случаю весны, сторожиха успела выставить. Услышав звон разбитого стекла, из своей школы выбежали девчонки и подняли визг. Вояк мгновенно втащили в пустой проем окна. Живший при школе, Владимир Александрович прибежал в класс первым; губы его дрожали, в усах застряли хлебные крошки.
— Мы поклоны бьем натощак, а он калач жрет, — толкнув Илюху в бок, как ни в чем не бывало прошептал Санька — смуглый, широкобровый, один из самых способных учеников.
— Кто? — обводя весь, класс пристальным, разгневанным взглядом, спросил учитель.
Мальчишки молча сопели, вдыхая разгоряченными ноздрями клубившуюся до потолка пыль.
— По местам! — раздалась команда.
Прогрохотав сапогами, все быстро расселись по партам.
— Встать! — снова раздался грозный окрик учителя. — Последний раз спрашиваю: кто разбил окно?
Опустив головы, ученики замерли в тягостном, напряженном молчании.
— Я жду. Сейчас начнется в церкви служба. Если не признаетесь, кто выбил раму, поставлю на колени и будете торчать здесь на протяжении всей обедни. Говельщики… Вот оставлю весь класс без обеда, — добавил он насмешливо.
Все знали, что старший учитель может выполнить свою угрозу. После обедни вся голодная орава молельщиков отпускалась на час домой. Матери для них берегли лучшие куски пирогов с тыквой или морковкой. Стоять голодными на коленях не улыбалось.
— Я, Владимир Александрович, вышиб раму, — сказал Санька Глебов и поднял руку.
— Хорошо. Я с тобой поговорю потом. А сейчас все марш строиться и в храм! — приказал учитель.
Бывало еще и так: часть учеников, в том числе и Илюха, приходили в школу задолго до начала занятий. Одни придумывали разные игры, другие баловались, третьи наспех делали заданные на дом уроки. Илюшка почти никогда не раскрывал дома ни одного учебника. Никто из домашних не интересовался, когда и где он готовит уроки. Учится хорошо — и ладно. Иногда отец заставлял прочитать что-нибудь вслух. На этом проверка кончалась. За учение родители не беспокоились. Илюшка быстро и хорошо запоминал прочитанное, а поэтому, как только он приходил из школы, всегда находилась работа по хозяйству. Мальчик должен был поить скотину, раздавать корм, рубить и колоть дрова. Если выдавалась свободная минута, то моментально набивал карманы бабками и играл до самой темноты. Тяга к игре в козны была необоримой. Другим пристрастием были сказки. Мальчишки собирались у кого-нибудь на повете, зарывались в сено и могли рассказывать друг дружке до бесконечности, Пересказывали одни и те же сказки по нескольку раз, а иногда сочиняли и сами, улучшали варианты, слышанные от других. Илюшка обладал совершенно неуемной фантазией и так иногда завирался, что ставил товарищей в тупик, выставляя в смешном виде станичных знакомых.
Работа по хозяйству, бабки, сказки на поветях отнимали все свободное время. Заданные на дом уроки Илюха на скорую руку учил в школе и включался в игры или проказы. Неистощимые на выдумки ребята всякий раз изобретали какое-нибудь новое озорство.
Однажды придумали такую коварную забаву. Лежал в классе за печкой суковатый вязовый дрючок с обгорелой в корневище закорюкой. Дрючком этим сторожиха мешала в печке угли. Кочережки всегда куда-то исчезали.
В классе была огромная, тяжелая, обитая войлоком дверь. Мальчишки, как правило, впопыхах неплотно ее прикрывали, выстуживая и без того не очень теплое помещение. Дежурному надоело таскать провинившихся первоклашек за уши, и старшие сообща изобрели кару. Дверь из класса открывалась в сени. Решили вытащить из-за печки вязовую сторожихину кочережку и пристроить ее между дверью и косяком. Как только какой-нибудь мальчишка, разлетевшись, с ходу открывал дверь, черный, закопченный дрючок валился прямо в лицо. Ошеломленный такой встречей бедняга отскакивал и под хохот сорванцов начинал растирать сажу на щеках. В тот день все так увлеклись своей забавой, что не заметили, как прошло время и в открывшуюся дверь вошел старший учитель Владимир Александрович Гетманов. Ребячья забава рухнула ему на голову.
— Болваны! — крикнул он и, схватив дрючок, с остервенением швырнул его за печку. Вытирая платком испачканные руки, начал искать сердито вытаращенными глазами виновника. — На сей раз я не отпущу вас домой до тех пор, пока не назовете имя этого негодяя!
Зал притих. Сначала кто-то из мальчишек, давясь от смеха, пыхтел за партой, затем дружно, как это часто бывает с детьми, все неудержимо захохотали.
Гневно поджатые губы Владимира Александровича судорожно тряслись. Нос, щеки и кипенно-белая рубаха с черной бабочкой — все было испачкано сажей.
— У вас, Владимир Александрович, лицо в саже, — захлебываясь от смеха, прошепелявил Егорка Шулов. Он был родственником учителя, недавно женившегося на его тетке.
Поняв, что он попал в нелепое положение, учитель схватился за голову и выскочил из класса, забыв закрыть за собой дверь. Вернулся он в чистой рубахе с бантиком, который стрижом выглядывал из откидного воротника военного кителя.
Озорство зашло слишком далеко, поэтому после команды «на колени» все, как один, бесшумно и быстро влезли на парты.
— На рубцы! — последовала вторая команда. Ученики исполнили ее так же беспрекословно, хотя стоять на рубцах, где лежали карандаши и ручки, было несладко — сразу становилось больно коленкам.
Скрестив на груди руки, учитель прошелся посередине класса из конца в конец, остановился перед первоклашками и проговорил строго:
— Если не будет назван зачинщик, заставлю вытянуть руки.
Не понимая всей унизительности наказания, мальчишки принимали его как вполне заслуженное. Лучше уж постоять на рубцах, потерпеть, чем быть ябедником.
— Вытянуть руки! — снова раздалась сердитая и протяжная команда учителя.
Маленькие тогда еще не понимали, что значит стоять на коленях и держать руки вытянутыми. Поначалу это кажется совсем нетрудно. Но буквально через минуту руки начинают неметь и непроизвольно падают. Кто не выдерживает, к тому подходит учитель и из-под низа бьет линейкой по рукам. Малыши скисают первыми, начинают пыхтеть и всхлипывать. Но плакс потом дразнят и «клюют» чуть ли не в каждом углу.
Старшие ученики поглядывают на Егорку Шулова. Бывали случаи, что некоторые проделки становились известны учителю. Подозревали, что доносчик Егорка. Его потихоньку отлупили однажды, но он даже не пожаловался. Сейчас, надув мокрые губы, Егорка терпеливо держал руки вытянутыми, перенося эту муку наравне со всеми.
С красными, как мак, щеками учитель медленно ходил перед первыми рядами, свирепо теребя темные усики. Иногда он прибегал к помощи линейки. Если провинившийся начинал выть, разрешал опустить руки, но при этом награждал плаксу оплеухой. Илья не помнит, сколько длилось такое противоборство. Руки и ноги невыносимо болели. Многие уже шмурыгали носами на весь класс, елозили коленками по рубцам черных парт, но виновника не назвали.
11
В школу Илюшка ходил охотно, учился неплохо, но все же каникулы ждал как отраду. Сумка с книжками и тетрадками — с глаз долой — запиралась куда-нибудь в сундук или комод, и только перед началом занятий начинала мучить совесть, что ни разу не заглянул в книжки, не прочитал ни единственной странички из заданного или рекомендованного учителем. На третьем году учебы их класс повел Георгий Артамонович Шаров. Он как-то сразу сумел подобрать к мальчикам тот «золотой ключик», которым открываются юные души. С первых же уроков все полюбили его и прониклись доверием. Шаров сумел повести дело так, что основная часть самых способных учеников как будто «нечаянно» задерживалась после занятий в школе, и они доверительно беседовали о книгах.
— Мне хотелось, чтобы вы как можно больше читали, — говорил Егор Артамонович. — Чтобы книга стала другом вашей жизни.
Ни в школе, ни в самой станице в то время библиотеки не было. Дети читали принесенные учителем книги вслух и обсуждали прочитанное. Первой и, конечно же, самой памятной — после сказок Пушкина — была повесть Гоголя «Тарас Бульба». Жизнь и героика запорожских казаков, потомков славной казачьей вольницы, суровая и яркая любовь к своей отчизне была близкой, кровной. Ребята буквально впитывали прочитанное и готовы были слушать без конца. Частые задержки Илюшки в школе не остались не замеченными дома. Как-то отец нарочно подождал его возле ворот и не очень ласково спросил:
— Где ты болтаешься?
— В школе был.
— Не обманывай. Все ученики давно уже дома.
В станице почти из конца в конец было слышно, как с веселым шумом и смехом двести ребячьих голов, двести пар башмаков и сапог дружно скатывались с крылечек двух школ и шумно растекались по улицам. Обмануть домашних тут было невозможно.
— Говорю, был в школе, — упрямо твердил Илья. — Нас оставлял Егор Артамоныч.
— Без обеда, что ли? Так бы и сказал сразу.
— Не без обеда. Мы читали книжку.
— Читали? — Отец с удивлением поднял голову. — Вы что, не успеваете читать во время уроков?
— А мы читаем не по заданному.
— И какую такую книгу вы читали не по заданному?
— Гоголя. Про Тараса Бульбу.
— А-а! — Глаза отца расширились. — Это был такой казак, богатырь храбрейший, а у него еще двое сынов. — Отец самодовольно разглаживал густые темные усы, стараясь показать, что и он кое-что знает.
Героическая легенда о запорожских казаках передавалась из уст в уста.
— Сыновьев его звали — одного Остапом, другого Андреем, — подтвердил Илюшка, обладая цепкой памятью, и тут же почти дословно пересказал целые страницы.
— Складно. Больно складно. Молодец. — Задумчиво кусая ус, отец подобрел лицом. — Это что же, учитель вам читает, а вы запоминаете?
— Нет. Мы сами читаем.
— Как так сами?
— В черед. Сначала один, потом кто-нибудь другой.
— И ты все можешь наизусть запомнить?
— А то нет!
— Это хорошо, сынок, — вздохнул отец.
Еще бы! Илья часто во сне видел грозного, вислоусого Тараса, богатырского вида Остапа, без стона переносившего муки казни, когда палач ломал ему кости; высокого, стройного Андрея, упавшего после отцовского выстрела, как подкошенный сноп.
— Расскажи-ка, что ты еще запомнил?
Илюшка охотно рассказывал, да так увлеченно, что его трудно было остановить.
— Вот ты какой! — Отец отпер калитку и пропустил сына во двор. — Ладно. Читайте. Это, брат, не в козны биться.
Когда Илюшка уже хлебал на кухне щи, отец вошел, размотал синий кушак, подсел рядом, поглаживая ладонью его голову, и вдруг спросил:
— Слышь-ка, сынок, ты не можешь попросить эту книжку у вашего Егора Артамоныча? Принес бы домой и почитал нам всем вслух?
На другой день Илья передал учителю просьбу отца. Тот охотно дал книгу, только просил аккуратно обернуть ее.
Читка повести началась в тот же вечер и продолжалась до тех пор, пока не выгорел в лампе весь керосин. Именно тогда, впервые в жизни, Илюшка почувствовал волшебное воздействие книги на людей. Гоголь и его герои очаровали всю семью. Отец стал добрее и внимательнее к детям. Отдельные страницы повести, он заставлял перечитывать по нескольку раз.
— А ну, сынок, — говорил он, — начни-ка с того, где Остап на отца-то… «Не смейся, батька, ей-богу поколочу…» Вот это сын, едрена корень! Не то, что вы, сморчки!..
Отец был могучего телосложения, обладал огромной силой. Он легко брал под мышку пятипудовый мешок. Иногда он покупал большие, из толстого самотканого рядна мешки-капы, которые изготовляли казахи. Это были мешки пудов на восемь-десять. Мать не любила их и боялась, что, поднимая такую тяжесть, отец может надорваться. Он брал эти мешки на загорбок, в особенности когда был нетрезвый.
Илюшка хорошо помнил, как они ездили с отцом на мельницу. На реке Кураганке, притоке известной на Южном Урале Сакмары, были расположены неподалеку друг от друга три мельницы. Две из них принадлежали Илье Борисовичу Буянову. Владельцем третьей был Корней Косливцев. Отец, да и многие другие казаки станицы всегда делали помол у Ильи Борисовича. Однако на этот раз обе буяновские мельницы оказались сильно завозными и пришлось ехать к Косливцеву, которого отец терпеть не мог за то, что он гарнцевый сбор за помол брал большой и молол хуже.
Было это в конце августа. День выдался жаркий. Сняв фуражку, Илюшка караулил свой воз — сидел на закрытых пологом мешках и с изумлением глядел, как скрипит, ворочается в водяных брызгах большущее мельничное колесо, на которое с шумом лилась вода, бойко катившаяся по замшелому дощатому каузу.
У отца везде были дружки и знакомые — казаки соседних станиц, башкиры, татары и мужики с Сыртинских хуторов. Как только приехали, он распряг быков, привязал их к дышлу и ушел. Вернулся уже навеселе и на слова добрые не скупился. Когда он выпьет маленько, всегда так, а если чуток больше — начинается кураж…
— Поел бы ты, сынок, шанежек али возьми да яичко расколи.
— Не хочу, — отвечал Илюшка уныло. Ему уже тошно было смотреть на грохочущее колесо, на своих большерогих быков, которые, отгоняя слепней, беспрерывно махали загаженными хвостами; на серую, двухэтажную, густо запыленную мукой мельницу; на перепачканных в муке помольщиков, таскавших мешки на верхотуру, где зерно пускалось на обойку, очищалось от мусора, прежде чем попасть под жернова.
Рядом с их телегой стоял воз лохматого бородача — кержака. Он только что съел здоровый кусок сала, полковриги хлеба и выпил, наверное, полчиляка кислого молока. Все у него было громадное, неуклюжее — и его длинное рыжебородое лицо, и мосластые, заросшие шерстью руки, и черно-пестрые быки, и фургонище с толстенными ребрами на высоченных колесах. Мешки-капы из киргизского рядна тоже были самые большие.
С порожней в руках пудовкой бородач залез в фургон, поставил мешок на попа и начал развязывать.
Отец привел с водопоя быков, привязал их и стал дергать из-под полога сено. Поглядывая на кержака, спросил:
— Черед, что ли, подошел?
— Черед, пес ему в дышло. Погода стоит, а я тута три дня околачиваюсь…
— Мог бы сразу мешок затащить, чем рассыпать по пудовкам, — сказал отец.
— Как же ты его паташышь, коли в ём восемь мер?[1] — Кержак бросил развязывать неподдающийся узелок и задумчиво почесал за ухом.
— Ты сам-то откуда, сосед? — спросил вдруг отец.
— Саринские мы. С самой, значит, Сары.
— А-а-а! Великопостники. Староверы-малоеды…
— Как так, малоеды? Едим, как надобно…
Илья не знал, к чему отец клонит, но ему вдруг стало весело. Он-то видел, как уплетал калач и сало этот малоед…
— Поститесь шибко, вот и мало силенок. Куда там поднять мешок, вся сила в бороду пошла…
Отец никогда не оставлял бороды, а носил и холил густые темные усы.
— Ежели шибко сильный, бери и тащи! — рассердился сосед.
— И втащу! — крикнул отец и задорно поплевал на руки.
— Хвалилась курица, что петуха сомнет, — раздался с боку скрипучий голос. Илюшка повернул голову. К возам подходили сам хозяин мельницы Корней Косливцев и помольщики. Начали спорить.
— Не хвалюсь я, хозяин. Доказать могу. — Отец наступил сапогом на дымящийся окурок.
— Раз можешь, казачок, поднимай и тащи! — Востроносый, тщедушный Косливцев захватил реденькую свою бороденку в костлявый, сухонький кулачок и насмешливо поглядывал на отца снизу вверх. Помольщики тоже подзадоривали. Повернувшись к ним, отец круто и дерзко спросил:
— А с какой стати, любезные мои, я буду хребет гнуть? Ради красной бороды этого Саринского великопостника?
— Сам навялился! — крикнул кто-то из помольщиков.
— А спор?
— На спор? — переспросил отец. — Это еще куда ни шло…
— Ладно, православные! Бьем по рукам! Ежели втащит на верхотуру — мешок отдаю и черед свой уступаю, а ежели не осилит — с его воза в аккурат столько же отсыпем. Принимаешь, казак?
— Держи! — Отец протянул кержаку руку. Косливцев разнял их мосластые ладони и как ни в чем не бывало отошел в сторонку. Отец снял пиджак и кинул его Илюшке на воз. Засучив рукава синей рубахи, взял мешок за углы, покрякивая, взвалил на плечи, чуть пошатываясь, подошел к лестнице и стал подниматься по ступенькам.
Илья до боли впился ногтями в его пиджак, со страхом думал: «А вдруг придавит его этот желтый пузатый кап?» Вот он дошел до середины, остановился, зашатался вроде бы, постоял маленько и медленно пошел, переступая через бревнышки-ступеньки. Когда нога его очутилась на последней, кержак заорал истошно:
— Эй! Постой! Погоди, станишник!
Остановившись, отец с мешком грузно повернул голову. Илюшка только запомнил белки его глаз на темном лице. Не дыша, замер на своем возу. Вот так же, в праздники, он схватывался с кем-нибудь бороться. Тогда страшно было смотреть ему в лицо — глаза сверкали под спутанным чубом.
— Не ори, дурень! Уронит то и гляди! — зароптали на кержака помольщики.
— Я же шутейно, робята! Ей-богу понарошку! Право дело, брось! Что же, вы шуток не понимаете? Христом-богом молю, брось!
— Бросить?! — Отец маячил на верхотуре возле перильцев из неокоренной березки.
— Шутейно же! Шутейно! — вопил кержак.
— Ах, так? Тогда — на! — Легким, неуловимым движением отец стряхнул мешок с плеч, и он комом полетел вниз, тупо ударившись о деревянное ребро кауза. Желтое зерно брызнуло во все стороны и медленно поползло в воду.
— Ну и малина-ягода, — сказал кто-то ни к селу, ни к городу.
Вытирая лицо подолом рубахи, отец быстро спустился по лесенке. Кержак подскочил к нему, тряся лохматой головой, кричал:
— Ты чаво, лиходей, содеял, ай?
— Тоже, как и твоя милость, пошутил…
— Ды рази этак-то шутят, ялова твоя башка? — размахивая рыжеволосыми руками, наседал дядька.
— Экий, дядя, несуразный! Сам же взбаламутил человека, а теперь маешься, — проговорил Косливцев и зашагал в помольную. Дядька, что-то ему доказывая, бежал рядом.
Отец снял помятую фуражку, отряхнул и повесил на притыку ярма. Илья не видел, как очутилась у него в руках полбутылка. Хлопнув ладонью по донышку, он вышиб пробку и, запрокинув голову, звучно глотая, вылил водку в усатый рот.
— Достань-ка яичков, сынок, — попросил он.
Сняв с воза плетеную кошелку, где были харчи, Илюшка спрыгнул с оси. Стал очищать яички одно за другим. Отец закусывал и говорил:
— Вздумал, хлебало староверское, над казаком изгаляться, да я…
— Ты ешь, тятя, ешь. — Сын подсовывал ему чищеные яйца одно за другим, пугаясь до ужаса, что, мало закусывая, он, как говорила мать, скоро пьянеет и тогда от него никакого житья не будет. Отец покорно съел несколько каленых яиц и кусок шаньги. Покурил, разделся, прямо с обрыва плюхнулся в запруду. Много раз нырял, плавал саженками, отфыркиваясь, вскарабкался, держась за кустики, на крутой берег, оделся и вроде бы совсем отрезвел.
— Ты, тятя, не пей больше, — робко попросил Илюшка, чувствуя, что не выдержит и заревет.
— Не стану.
— Насовсем?
— Сказал — и баста. Не приставай.
— И мешки чужие не будешь подымать?
— Не буду. Матери не вздумай ябедничать…
— Да уж не скажу… ладно…
Трудно было тогда семилетнему мальчишке сохранить это в тайне. Нелегко жилось и матери. Недаром тетка Аннушка говорила:
— Ох, нелегкая тебе, Анюта, выпала доля!
Да. Нелегкая.
12
С каждым годом Илюшка любил школу все больше. Учение ему давалось легко, выручала на редкость хорошая память. Георгий Артамонович рассказывал после уроков о родном крае, казачестве, верности родине, товариществу, о взаимной выручке и справедливости. Не от отцов и дедов, а от младшего учителя мальчишки узнали, что они потомки Ермака, что оренбургская крепость была на месте теперешнего города Орска и название ее идет от реки Орь, впадающей в Урал. Предки будущих оренбургских казаков жили на реке Исети. Потом исетские казаки выдвинулись к Волге, постепенно тесня ордынцев, спустились в низовье, к Самаре, и стали самарскими. Продолжая теснить войска ордынских ханов, продвинулись на реку Урал и стали строить крепости. По одной из них, созданной на реке Орь, казачество было названо оренбургским. В 1735 году была заложена главная крепость, где сейчас Оренбург, а бывшая оренбургская стала называться Орской. В своих беседах учитель пробуждал любовь к родному краю, к истории. Мальчики тянулись к учителю, как травинки к солнцу. Желая сделать ему приятное, каждый старался как можно лучше написать диктант, обстоятельней запомнить и хорошо рассказать урок. Это было дружеское соперничество.
Но однажды Георгий Артамонович сам же и заронил сомнение в чуткие души ребят.
Как-то на уроке чистописания лучший ученик Санька Глебов, переписавший заданное без единой ошибки, вдруг получил четверку. Отметка была несправедливо занижена. Сидевший рядом с ним Егорка Шулов, ленивец и сладкоежка, получил «пять» с плюсом, хотя написал куда хуже Саньки. Учился Егорка, как говорили мальчишки, шаляй-валяй, но отметки имел такие же, как и у самых способных. Все были убеждены, что Егорка получает хорошие оценки благодаря своей тетушке, недавно ставшей женой старшего учителя Владимира Александровича Гетманова. Ребята были уверены, что теперь они едят шуловские конфетки пудами…
Обида, нанесенная Сане Глебову, не давала ребятам покоя. Во время большой перемены, когда Егорка вышел из класса, они украдкой перечитали текст домашнего задания и убедились, что оценка выставлена несправедливо: текст был написан отвратительным почерком; кроме того, на первых двух страницах ребята обнаружили более десяти ошибок и над каждой красным карандашом поставили крохотные, но хорошо заметные точки… Событие это быстро облетело всю школу и, видимо, еще до начала урока дошло до Владимира Александровича. Быстрыми, решительными шагами он вошел в класс и потребовал Егоркину тетрадь. Затаив дыхание все смотрели, как он читал, а ошибки сердито подчеркивал толстенным синим карандашом. Щеки учителя густо наливались кровью, а черные, чуть встрепанные усики дрожали.
— Гляди на уши, как они полыхают, — шепнул Илюхе Санька Глебов. — Сейчас из каждого уха раковые шейки посыплются…
13
После рождественской школьной елки, где Илюшка декламировал лермонтовское «Бородино», учителя настояли на том, чтобы во взятии снежного городка участвовали не только ученики старших отделений, но и самые маленькие.
Городок строился всей станицей. По решению казачьего схода на площади против станичного управления сооружалась высокая снежная башня, похожая на стог сена. Бока и вершина ее плотно утрамбовывались, а чтобы они хорошенько обледенели и были скользкими, их обливали водой. На самой макушке вмораживался на палке небольшой флажок. В задачу штурмующих входило как можно быстрее преодолеть скользкую стену, вскарабкаться на вершину и снять флаг. Победителю здесь же вручался приз. В тот год было установлено три приза. Первый — для младших школьников: казачья касторовая фуражка и наборный ремень, для старших учеников — тоже фуражка и платовские сапоги. В третьей группе участвовали все желающие взрослые казаки. Приз — новое седло с переметными сумами, кабурчатами и уздечка.
Такая игра выливалась в большой станичный праздник. При атаке на снежный городок применялась простейшая техника — хорошо отточенный железный зуб от бороны, допускалось также изготовление специальных сваек — круглых зубьев.
Для того чтобы очутиться на вершине башни, надо было иметь не только сноровку и силу, но и хорошую смекалку. Прямо лезть по гладкому льду невозможно. Поначалу нужно сильно вонзить зубья и подтянуться на руках, а дальше уже ковырять отверстия, чтобы потом можно было нащупать их носком и опереться. И так подниматься постепенно, от гнездышка к гнездышку.
Трудно преодолеть отвесную стену до половины башни. Дальше уже легче — башня конусом сходится к флагу.
Маленькие кинулись на снежный стог с радостным визгом и сыпались с него, разбивая носы, как не умевшие летать галчата.
Наборный ремень и казачья фуражка достались Саше Глебову. Илюшка добрался лишь до половины, а потом сполз по льду на голом пузе…
После малышей башню, словно черные грачи, облепили ученики старшего отделения и парни, окончившие школу годом раньше. Площадь, заполненная народом, гудела, как на ярмарке, подзадоривая штурмующих. Сначала бойко и хватко полезли бывшие ординарцы Саша Корсков — «Невский», рядом с ним зеленела военная рубаха Сергея Полубоярова. У «Невского» — когда он уже миновал самый трудный участок — отвесную скалу — неожиданно слетел с ноги валенок. Корсков поскреб по голому льду босой ступней и соскользнул на примятый снег. Сергей, неуклюже болтая длинными ногами, повис было на руках, но не удержался. Под хохот зрителей тоже сверзился вниз. У Михаила Андреева, как и у Корскова, снялся валенок. Сверкая синей заплаткой на белом чулке, Миша, недолго думая, сбросил с ноги второй валенок. Облегчившись, он начал споро колупать лед, работая зубьями, быстро и ловко нащупывал гнезда своими белыми носками, сноровисто полз все выше и выше. Празднично настроенные и тепло одетые казаки и казачки весело подбадривали его. Вот он сделал последнее усилие, поднялся на самую макушку и под восторженный гул толпы схватился за флажок.
Потом городок брали служилые и молодые казаки, побывавшие на первом лагерном сборе. Для них условия были совсем другие. Они должны были штурмовать башню в конном строю. Сначала выстраивались около станичного управления. Кто-нибудь из старших урядников подавал команду. Всадники бурно срывались с места и наметом скакали к снежной башне. У кого был резвее конь, тот первым подскакивал, становился ногами на седельную подушку и такими же железными зубьями начинал выдалбливать в стене ямки. Если конь оказывался не смирным, то всаднику приходилось лихо. Конь шарахался в сторону, и казак повисал на костылях, но чаще всего ненадолго… Приз доставался самому смелому и ловкому.
Зимой 1914 года женили Мишу Никифорова. Женой его стала Настя — дочь казака той же станицы Мардария Степановича Сурскова. Она была высокая, статная, за плечами две косы. Жили Сурсковы небогато, и девушка росла вроде бы неприметно, а тут вдруг, когда надели на нее белое подвенечное платье да вуаль, красавицей показалась. Домашние полюбили ее с первых же дней, и она прочно, на всю жизнь, вошла в новую семью. Но судьба ее оказалась нелегкой.
Известие о начавшейся войне застало Никифоровых на сенокосе. Настя первой увидела пылившего по дороге всадника. Он неистово махал красным лоскутом на пике. Это был давний, исконный недобрый знак. Вез его сотский, дежурный при станичном управлении казак, Иван Серебряков, посланный атаманом с вестью о мобилизации.
В тот год из Илюшкиной семьи никого не взяли. При станичном управлении собирались мобилизованные из четырех станиц — Хабарной, Губерлинской, Подгорной, Петровской. По пути присоединились: Никольские, донские, верхнеозеринские, алабайтальские, гирльянские, красногорские, каменноозерские. Все они были приписаны к полкам целыми земляческими сотнями, хорошо знали друг друга, были дружны, отличались в боях товариществом и взаимной выручкой.
В те дни в станицах и поселках во время проводов стоял такой крик и бабий рев, какого Илюшке не приходилось слышать никогда в жизни.
Весной 1915 года пришла пора идти в армию и Михаилу. Его призвали сначала на сбор в знаменитые Тоцкие лагеря, а оттуда прямо на фронт — в 8-й казачий полк.
…Еще до войны в доме возникал спор, на каком коне отправлять Михаила на службу. Отец давно уже определил гнедого трехлетку, а Миша требовал Мухорку. Потомок знаменитого Бурки унаследовал от своих родителей хорошую стать, а от дальних предков — злой и совершенно непокорный характер. Родился он голенастеньким, немудрящим на вид жеребенком. Рос как-то незаметно. Однажды отец его кастрировал и ранней весной пустил в косяк. До осенних холодов молодняк и нерабочие кобылицы паслись в общественном табуне. За лето жеребята так подрастали, что осенью их узнать было нельзя. Так случилось и с Мухоркой. Когда по первому снегу загнали косяк на карду, утро было туманным. Клубами пара остывал в ледяных забережниках Урал, на берегу которого были расположены все казачьи загоны — карды. Кобылицы и жеребята пугливо жались к новому высокому плетню, срывая озябшими губами желтоватые, увядшие листья.
— Сейчас будем ловить Мухорку, — проговорил отец. Еще в конце лета пастухи передавали, что Мухорка превратился в чудо-коня.
Илье не терпелось взглянуть на Мухорку.
— Где же он?
— А угадай, — самодовольно ответил отец.
Увидев людей, одичавший за лето молодняк сбился в углу в одну кучу. С длинным в руках чоблоком, с петлей из новой варовины на конце отец несколько раз пытался накинуть ее на шею высокому черногривому коню, бешено скакавшему по всей карде из угла в угол. Это большая, сердито храпевшая лошадь ни капельки не походила на прежнего неуклюжего, голенастого жеребенка. Наконец отцу удалось отбить его от косяка и загнать в хлев. Отец расправил петлю и повесил над дверью.
— Ступай и гони его оттуда палкой, — сказал он Илюшке. Тот нырнул под веревку и очутился в хлеву. Увидев дрожавшую в углу лошадь, он замер. Из-под черной, как смоль, челки на него смотрели два неморгающих глаза, пылающие темной злостью. Помахивая хворостиной, Илья стал робко красться вдоль плетня, приговаривая свое излюбленное:
— А ну, айда, айда! Пошел!
Словно поняв его приглашение, Мухорка фыркнул ноздрями, вытянул шею, щукой стрельнул в дверь и тут же был захлестнут петлей.
Когда Илюшка выскочил из хлева, отец уже волочился на веревке по мягкому, только что выпавшему снегу. Сын увидел, как он вскочил, круто уперся ногами, но затянуть петлю на шее коня ему не совсем удалось. Мухорка, сделав резкий скачок, вдруг повернулся, вскинул задом, отбросил отца к плетню и с арканом на шее птицей перемахнул через верхнюю жердь осиновых ворот.
Замирая от страха, Илюшка подбежал к отцу. Поджав ноги к животу, он стонал и скрипел зубами. И без того смуглое лицо его стало еще темнее.
— Позови свата… Пусть запрягет сани, — чуть слышно прошептал он.
К счастью, Мардарий Степанович жил близко — почти на самом уральском яру. Не дожидаясь, пока сват запряжет в сани лошадь, Илюшка со сватьей раньше его успели прибежать на карду. Согнувшись, отец лежал в том же положении.
У него оказался перелом двух или трех ребер. Отец не спал всю ночь. Иногда, поднимая от подушки голову, он спрашивал мать о лошади.
Искать Мухорку никто не поехал, да и неизвестно было, куда ехать. Ночью конь сам пришел к воротам и подал голос. Михаил его впустил, бросил к плетню пласт сена, а утром его поймали, надели недоуздок и привязали в углу хлева. Илюшке жалко было Мухорку — что сделает с ним отец, когда выздоровеет?
Илья украдкой заходил в хлев и подбрасывал лишний клок сена, любуясь конем, будто диковинкой. Едва начинал он открывать дверь, как Мухорка поднимал маленькую голову, навостривал уши и замирал на высоких тонких ногах. Он не спускал с маленького хозяина черных, с большими зрачками глаз. Шея, мускулистая грудь, круто выгнутые бедра чуть заметно дрожали, в них напряженно бились все жилки. Илья еще не знал тогда, какая трудная предстоит этой лошади жизнь.
Здоровый и сильный, отец поправился очень скоро. Немного окрепнув, он тотчас же начал обучать Мухорку. Наука в те времена была простая. На длинном чумбуре лошадь выводили со двора, загоняли в глубокий сугроб и, подстегивая кнутом, не давали останавливаться. Она прыгала, билась в сугробе, выворачивая ногами белые ковриги снега. Измучив хорошенько, на нее садились верхом сначала без седла, чтобы легче было падать, если скинет, а скинет — так в снег. Почуяв всадника, лошадь начинала метаться из стороны в сторону. Да куда там! Увязнет в снегу и ляжет на брюхо, передохнуть норовит, но отец лежать не дает — плетью поднимает. Прошел Мухорка такую науку от начала до конца, а в марте, когда снег становится праховитым и рыхлым, отцу захотелось запрячь его в сани. У Мухорки была необыкновенно резвая рысь. Отцова попытка проехаться в санках снова закончилась плачевно. Где-то вытряхнув его на раскате, Мухорка прибежал домой на этот раз с одними оглоблями. Коня снова гоняли по снежной целине… Он стал поджарым, словно гончая, казался выше ростом, корпусом длиннее. Но стоило дать ему однодневную передышку, он опять становился непокорным и бешеным. Мухорка обладал способностью в одну ночь восстанавливать прежнюю силу.
— У Мухорки столько в запасе энергии, что на сто лет хватит, — говорил отец.
— Выносливый, значит. Ну а если запрячь в телегу или тарантас, тоже прискачет с одними оглоблями? — спрашивал Миша.
— Если рот разинешь, то и костей не соберешь…
— Конь верховой, а не тележный, и нечего мучить его в оглоблях…
Отец понимал намек Михаила, презрительно улыбаясь в усы, говорил:
— На таком черте можно недосчитаться не только ребер…
Нетрудно было догадаться, что отцу не хотелось расставаться с такой лошадью. Он больше всего на свете любил в ней свирепую непокорность. То своей неуемной силой, то лаской, то упрямством отец с каждым днем постепенно, терпеливо, шаг за шагом покорял лошадь, а лошадь покоряла его…
14
Наступило время весенней пахоты. Илья с горечью ждал этих нелегких для него дней. Еще до выезда на пашню учеников забирали из школы и заставляли пасти на проталинах скот, пахать и бороновать до самой темноты. Постоянная ругань отца держала всех в страхе. За каждый малейший промах он жестоко наказывал. То не так забороновал, то сделал огрех, то не того ударил быка и не так держал налыгу. Попадало даже за то, что не вовремя износил на сапогах подметки… При дедушке Илюхе жилось куда легче — он не давал внука в обиду.
Однажды отцу вздумалось запрячь Мухорку в старый дедушкин тарантас, ветхий, допотопный кузов которого Илюшка когда-то «выкрасил» дегтем.
Сердито косясь на это высокое, неуклюжее сооружение, Мухорка нехотя вошел в оглобли. Запрягли его с большим трудом, а когда поехали, рассохшиеся за зиму колеса и разные железки затарахтели по кочкам, Мухорка испугался, рванулся вперед и понесся по большаку. Все видели, как возле телеграфного столба отлетело сначала одно колесо, затем другое, и милый дедушкин «карандасик», как его ласково называли в семье, рассыпался на глазах. Проскакав саженей двести на двух передних колесах, отец успел осадить лошадь и на этот раз отделался легкими ушибами. На другой день Мухорка был беспощадно наказан. Отец запряг его в борону, к первой бороне пристегнул вторую и на каждую положил по колесу от бычьей арбы. Взял под уздцы и начал бороновать крепкий, залежный пар.
После первого уповода Илюшка долго вываживал сомлевшую лошадь по ковыльной меже. Мухорка останавливался, опускался на жесткий ковыль, опрокидывался на спину и долго валялся, дрыгая в воздухе тонкими ногами. Потом быстро вскакивал, отряхивался и как ни в чем не бывало начинал щипать молодую, весеннюю травку. Теперь он уже не вырывался из рук, не шарахался в сторону, легко поднимая голову, переставал жевать, не моргая смотрел грустными, слезящимися глазами куда-то в степь… Вспоминал, наверное, и косяк, в котором вырос, и вольное пастбище…
Скоро вся семья полюбила Мухорку, как в свое время и Бурку. Дети старались сунуть ему корку хлеба, а то и целый ломоть. Но отец почти никого к нему не подпускал, старался ухаживать сам: вовремя поил и не жалел овса.
Оторвать от отца такого коня было не так-то просто. А брат упорно посягал на Мухорку и отказывался идти служить на гнедом трехлетке. В доме началась длительная и тягостная борьба. Никто не хотел уступать друг другу.
Почти до последнего дня так и не был решен вопрос о коне для Михаила. В канун отъезда брат опять заговорил о Мухорке. Махнув рукой, отец сказал кратко:
— Ладно. Седлай. — Отвернулся, уткнулся лбом в косяк кухонной двери и заплакал.
Война. К этому страшному слову казачьи сыны приучены были с детства. Еще с пеленок им внушали: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».
В те годы о войне дети были наслышаны по письмам фронтовиков, видели ее на красочных картинках — о казаке Козьме Крючкове, о солдате Филиппе Приданикове, о донцах с малиновыми лампасами, опускавших клинки на шишаки прусских касок. Каждый такой плакат будоражил детские души. Мальчишки «вооружались» как могли и проводили в пекле ребячьей войны каждую свободную минуту.
А по вечерам Илюшка читал. Он прочитал всю «Историю государства Российского», наперечет знал всех царей и войны, которые они вели. Изредка попадались увлекательные книжки про индейцев, бешеных неукротимых мустангов. Но книг было очень мало.
Алеша Амирханов, его мать и учительница женской школы Прасковья Григорьевна сумели добиться разрешения создать при школе библиотеку. Для таких, как Илья и Иван Серебряков, библиотека стала настоящим праздником.
Однажды Илье попалась книга с таинственным названием — «В дебрях атласских гор». Он прочитал ее с упоением и рассказал об этом Ивану Серебрякову, который окончил школу два года назад.
Полистав «дебри», он сказал:
— Ерунда.
— Как так ерунда? — удивился Илюха.
— Форменная дребедень. Ты прочитай «Приключения Тома Сойера» — вот это книжка!
— Да, ты прав… Самая лучшая на свете, — заявил Илья, когда прочитал. — Еще бы такую, Ваня.
— Одинаковых книжек нет на свете, — сказал Иван и посоветовал прочитать «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского.
— А про что там написано?
— Про купцов, ну и еще про любовь.
— Про любовь?
— Да. Есть там Фленушка. Ох и девка, шут ее дери! — Иван покачал своей лохматой головой.
Ивану было в ту пору шестнадцать лет, а Илье с ноября пошел только тринадцатый. Но это не помешало ему однажды объясниться в любви Анюте Ивановой — подружке сестры Марии. Это была красивая, веселая девушка на выданье.
Прочитав Мельникова-Печерского, Иван подсунул ему «Петербургские трущобы» и «Владимирские мономахи», где описывались такие любовные истории, от которых мурашки бежали по коже…
— Читай, читай, ты парень с понятием, — наставлял «будущий псаломщик». Это прозвище Иван Серебряков получил за то, что по субботам и воскресеньям помогал дьякону читать в церкви евангелие.
Библиотекой заведовала Прасковья Григорьевна. Она подбирала для школьников книги по своему усмотрению. Иван же, как церковный чтец, имел свободный доступ к книжным шкафам и брал все, что ему приглянется. Пользуясь покровительством Ивана, Илюха читал бессистемно и много. Книжка всегда была с ним: летом под ошкуром штанов, зимой за пазухой. Он мог читать и в хлеву, и на повете, и в поле.
Чрезмерное увлечение книгами, по мнению домашних, стало принимать угрожающие размеры. Днем Илья отлынивал от работы, а ночью, читая запоем, жег керосин. По распоряжению отца книги отбирали и прятали. Мать, веря в какие-то необыкновенные способности сына, находила их и потихоньку возвращала.
Илья рос очень впечатлительным. Прочитанное производило настолько сильное впечатление, что ночью, лежа под овчинной шубой, он часто грезил, будто гарцует на лихом коне, а то, распластавшись, умирает на бранном поле, а над ним склонилась милосердная сестра, очень похожая на Анюту Иванову.
В жизни Анюта была куда смелей. Летом сестры и их подружки спали в сенях, на полу вповалку на одной кошме. Вместе с ними оставался иногда ночевать и Илюшка. Перед сном начиналась обычная возня: кто ущипнет кого в темноте, толкнет ногой. Визг и смех продолжались до тех пор, пока не вмешивался кто-нибудь из старших. Возня утихала, тогда девчонки приставали к Илье с просьбой рассказать им сказку. Он знал их много, да разве напасешься на каждый вечер!.. Часто пересказывал содержание прочитанных книг, поражал девчат буйной выдумкой авторов и несусветной отсебятиной. Пользуясь меткими книжными словечками, Илья мог «изобразить» пьяного попа, самую непутевую, крикливую, знакомую всем станичную бабенку. Девчонки, катаясь по кошме, давились от смеха.
В ту весну Никифоровы отпахались рано. Вернувшись домой в один из субботних дней, помылись в бане. Распаренный, чистый Илюшка радостно взбежал на крыльцо и столкнулся в сенцах с Анютой.
— Ой, Илюшенька! Как ты вырос и какой стал хорошенький! — прошептала она. — Ведь мы с тобой не виделись с самой зимы. — Красивая бедовая Аннушка поцеловала его. Илюшка не помнит, куда пришелся ее поцелуй, но не забыл его теплоты и пронзительности. До самого вечера ходил, как в тумане, старался быть там, где она, и робко, словно боясь обжечься, касался ее руки, а то и просто пестренькой кофточки. Его все время преследовал запах ее волос, не сравнимый ни с чем.
— Ты чего все окли нас, девчат, трешься, будто дела нет? — вдруг спросила Варька. Чем больше она подрастала, тем становилась хитрее и проницательней. Ни на шаг не отставала от старших сестер и постоянно вмешивалась во все их дела. От нее ничего нельзя было скрыть.
Чтобы скорее покончить с делами, Илья в этот вечер попросил мать накормить его ужином пораньше, чтобы отвести на выгон коней.
Он отвел лошадей, заковал их в железные путы и быстро вернулся. Спать в сенях было еще холодно. Молодежи и маленьким постелили в большой горнице.. Когда Илюша вошел в полутемную комнату, Анюта уже лежала и что-то делала со своими длинными косами. На ее лицо падала полоска света от горящей в сенях лампы. В горнице вкусно пахло калачами и укропом. Разувшись, Илюшка на цыпочках подошел к Аннушке, положил голову на подушку и прижался к ее плечу. Она не отодвинулась, спокойно спросила:
— Ты почему не за столом?
— Я давно уже поел…
Перебирая на груди прядки темной косы, Аннушка дышала тихо и ровно. Илюшке хотелось расшевелить ее чем-нибудь, растревожить и сказать самые главные слова, которые бы разом, запросто решили все дело. Он мгновенно придумал их и без всякой передышки выпалил:
— Давай будем делать, как все… По-взаправдышному тоись…
— Тоись как? — быстро спросила Аннушка, и ему почудилось, что она перестала дышать.
— Как муж и жена…
Она бесконечно долго молчала, а Илюха давил затылком подушку и горел, как на костре.
— Ой, как нехорошо… Я же большая, а ты… А ты совсем мальчишка и говоришь мне такое… Нехорошо!
До Илюшки смутно доходил ее отрывистый шепот.
Из второй горницы, где все ужинали, слышны были голоса и звон посуды.
— Иди на свое место, — сказала Аннушка.
Илюша деревяшкой лежал на кошме и боялся пошевелиться.
— Айда, ступай, а то сейчас ваши придут, — снова проговорила она и тут же, протяжно вздохнув, добавила: — Ведь надо же сморозить такое!..
Что тогда «сморозил», Илюша понял позднее. С тех пор Аннушка перестала быть ласковой и как бы не замечала его. А ведь, бывало, тихим зимним вечером, когда по крыше дома гулял ветер и мороз зацеловывал окошки, она поднимала голову, заговаривала с кем-нибудь и обязательно взглядывала на него, улыбалась… Не раз он видел, как в глазах ее плясали веселые, одному ему предназначенные искорки, и чувствовал себя так легко, точно вот-вот взлетит выше крыши… А теперь Аннушка не смотрела на него, не улыбалась…
15
Брат Миша находился в действующей армии, и Никифоровы первый раз выехали на сенокос без него.
Сложился отец в супряге с казаком Семеном Прохоровым. У него было двое сыновей — Иван лет семнадцати и Санька годом или двумя постарше Ильи. У Никифоровых на сенокосе работали отец, Настя, Саня и Илюшка. По наделу покосы им достались в местечке Карим чапкан, где по косогорам и долинам ковыль прорастал пыреем, лошадиной кисляткой и другим хорошим разнотравьем.
Это была славная пора детства. Отец заметно подобрел, не так часто бранился, то ли Насти стеснялся и Прохоровых, то ли война приструнила маленько… Лето было ненастное. Дожди подолгу не давали работать. Младшие мальчики быстро сдружились. В свободное время они лазили по горам и собирали дикую вишню. Однажды верхом на конях они перевалили через большую, совсем незнакомую гору, спустились в долину, заросшую вишневыми деревьями, сплошь усыпанными крупной и спелой ягодой. Наевшись досыта, Илюшка с Санькой Прохоровым набрали по полной фуражке — напоказ. Место, куда они забрались, называлось Баткак, что в переводе с татарского означает грязь. Здесь вся земля принадлежала казакам Полубояровым. Это была их вечная собственность, полученная от царя за какие-то особые заслуги.
Вернувшись на стан, ребята гордо вывернули свои пропитанные вишневым соком фуражки и все до ягодки высыпали на рядно. Решено было, что завтра, захватив все порожние ведра и чайники, они поведут женщин в эту сказочную долину.
Семен разбудил всех на рассвете. Утро было сырое, прохладное. В долинах гнездился промозглый туман. На место прибыли рано, но, к удивлению, их кто-то уже опередил. В глубине меж зарослей мелькали белые платки женщин, а внизу, под косогором, стояла телега с приподнятыми кверху оглоблями.
Не теряя времени, вишни стали рвать прямо с самого края. Их тут было столько, что глаза разбегались.
Настя с Саней приладили ведра спереди, и вскоре первые ягодки звонко застучали по днищам.
— А мокротища! — протяжно пропела Саня.
— Ради такого дела и промокнуть можно. Ягод-то, ягод-то! — удивлялась Настя. Она брала вишню ловко, споро. Ребята же — одну в чайник, другую в рот. Только Саня, чтобы не отстать от Насти, старалась не есть…
Прошло совсем немного времени, и перед ними, как из-под земли, вырос верховой. Это был один из полубояровских внуков, Пашка. Под ним была большая рыжая лошадь без седла.
— Чего приперлись? — высоко задирая лошади голову, крикнул он.
— Тебя не спросились, — ответил Иван Прохоров. Они с Пашкой были одногодки. Только Ваня высокий, стройный, а Пашка точно обрубышек, с косматым на виске чубишком.
— А вот мы с тебя так спросим, что будешь гнать до самого стану не оглядываясь. Земля-то наша!
— Земля пусть будет ваша, а ягодки божьи, — смиренным голосом произнесла Саня. — Всем хватит!
— Сказано — наши угодья и никому не велено их вытаптывать.
— Это же ягоды, а не бахча! — возразил Иван.
— Бахча не бахча, не велено — и все! — напирая на Ивана грудью своего коня, кричал Пашка.
— Ты что, ошалел, парень! — возмутился Иван. — А ну-ка, убирайся с конем!
— Это вы убирайтесь с нашей земли! — размахивая нагайкой, кричал Пашка.
— Ты еще и нагайкой махать!.. — Иван был вдвое сильнее Пашки. Поймав конские поводья, он вывел лошадь из ягодника и добродушно пригрозил: — Не уедешь добром, стащу с коня, вырву плеть и такую нарисую на твоей ж… азбуку, что не скоро верхом сядешь…
— Ну ладно, ладно… Ты меня, Ваня, еще вспомнишь… — Полубояров хлестнул нагайкой лошадь, поднял ее на дыбки и ускакал.
— Зачем же так-то? — забеспокоилась Саня.
— А что мне с ним, детишков крестить?
— А вдруг он опять прискачет?
— Ну и пусть…
— Возьмет да киргызов своих приведет, — не унималась Саня.
Она слышала, что Полубояровы косят траву за Уралом вместе с киргизами.
Все посмеивались, но Саня оказалась права. Не успела тучка перевалить за гору, как на косогоре показались всадники. Видно было, как за их спинами раздувались рубахи. Впереди чернела борода Пашкиного отца, Ерофея, за ним скакали Пашка, Жумагул — страшный вислоусый киргиз, постоянно живший у Полубояровых, и еще один работник.
Размахивая нагайками, они обступили женщин и Ивана, напирая грудью коней, погнали их к телеге. Илья с Санькой Прохоровым успели спрятаться в ягоднике. Пока верховые шумели и угрожали, мальчишки ползком выбрались на плоскогорье, сели на коней, спрятанных в колке, и помчались на стан.
— Ах, живоглоты проклятые! — распалился Семен Иваныч — он велел поймать ему Лысманку, а сам нырнул в балаган и тотчас же выскочил оттуда с ружьем.
При виде оружия у Илюхи екнуло сердце. «Значит, с пальбой придется выручать пленников», — подумал он.
Однако выручать не пришлось. Всех троих встретили неподалеку от ягодника. Верховые отобрали у них вишню и прогнали.
— Вот поеду и так разделаю этого Ерошку! — храбрился Семен Иванович.
— Не связывайтесь, дядя Семен, — сказала Настя.
— Еще как свяжусь! А ну, Ванька, айда со мной. — Семен Иванович тронул коня и поскакал к торчавшим в ягоднике оглоблям. Иван вместе с Ильей на одной лошади помчались вдогонку.
Ни Ерофея, ни работников там уже не было. Одни бабы собирали вишню. С ними был и Пашка. Его спутанный конь пасся на косогоре.
— Да я за такое живоглотство!.. — рассерженно закричал Семен.
— Ты чего тут яришься? — спросила грудастая тетка с опущенным на глаза платком. Это была одна из многочисленных снох Полубояровых, знаменитая Дуня-ругательница, каких свет не родил.
— За что у наших девчонок последнюю ягоду вытряхнули! Да я вас, эдаких-то…
— А ну замолчи, блохатый! — крикнула Дуня и начала сыпать разными словечками.
Семен Иванович подскакал к телеге, дернул за край и высыпал вишню в ягодник, густо поросший бобовником.
Дуня завизжала. Гремя ведрами, бабы кинулись к телеге и начали собирать рассыпанные вишни. Да разве соберешь ее в густой траве?..
Семен Иванович отъехал немного, спешился и стал крутить цигарку. Настя с Саней подошли к краешку и принялись рвать ягоды, прислушиваясь к бабьему визгу и к Дунькиной ругани.
Вдруг Настя выпрямилась.
— А ну ее к шуту, эту ягоду. Пошли на стан, — сказала она.
— Собирайте, чего там! — крикнул Семен Иванович.
— Все равно не дадут. Вон Пашка опять на хутор поскакал.
— И правда, айдате лучше домой, а то они нас выпороть обещались, — вспомнила Саня. У нее был жалкий вид: кофтенка намокла и прилипла к плечам, юбка висела кулем. Илюшке даже жалко стало Саню-тетеху, да и драки он тоже побаивался.
— Домой так домой, — Семен Иванович вскочил на коня.
Едва они поднялись на вершину Баткакской горы, как на взгорье с улюлюканьем и свистом по ту сторону дола выскочила целая орава верховых.
— Мамаевцы! Крохоборы! — крикнул Семен Иванович.
— Чувашские пустобрехи! — ответно заорали мамаевцы. Они кидались всякими словами. Неизвестно, как насчет Прохоровых, но в жилах Илюшкиной семьи, наверное, бродила такая кровь, недаром их дразнили «чувашами».
— А ну, подъезжайте поближе, староверы некрещеные, из узды лыком тащенные, я всажу вам по дробинке! — Семен Иванович бабахнул вверх. Лошади вздрогнули и прижали уши. Саня, хлюстая мокрой юбчонкой, помчалась на гору. Выстрел остановил мамаевцев. Полаялись еще маленько, да и разъехались.
16
Одним из любимых праздников — кроме рождества и пасхи — была масленица. Широкая, русская, как принято о ней говорить. О масленице написано немало книг, нарисовано великое множество картин.
Настоящая русская масленица в широком смысле этого слова была большим, раздольным традиционным праздником — отдыхом от постоянных трудов и забот перед длинными, суровыми, великопостными днями. В станице она не отличалась диким и буйным разгулом, как в престольные праздники. Водки почти не пили, предпочитали бражку, приготовленную домашним способом в последний, так называемый прощеный день, спиртное ставилось на стол в самых малых дозах. После скоромного ужина дети подходили к отцу или деду, размашисто крестились, становясь на колени, кланялись в ноги:
— Прости, тятя!
— Бог простит, — отвечал он с мягкой торжественностью.
Затем младшие подходили к старшим. Нужно сказать, что не только Илюшкин дед, но и большинство других казаков всегда презирали пьянчужек. Сохрани бог, явится просить прощения в нетрезвом виде.
На другой день, в «чистый понедельник» — первый день великого поста — все домашние мылись в бане, окончательно очищаясь от скоромного… На малышей весь этот строгий и внушительный порядок производил неизгладимое впечатление.
В дни масленицы на Южном Урале почти всегда устанавливалась хорошая погода. Ярко, по-праздничному светило солнце. На улицах станицы поскрипывали сани, весело позванивали бубенцы. От гладко раскатанной, с притертым навозом дороги с крохотными желтыми лужицами, успевшими родиться в теплый полуденный час, шло первое доброе весеннее дыхание. Для ребятишек, катавшихся в кошевках на смирных, объезженных лошадях, наступал долгожданный праздник. Можно было выпростать из-под кошмы руки, помахать варежкой встречным саням, улюлюкнуть молодому наезднику, скакавшему на запотевшем коне, а потом заехать в гости к родным или знакомым. Заезжали, конечно, не с бухты-барахты — сговаривались заранее:
— Завези, часом, своих-то. Я розанцев напекла, — приглашала чья-нибудь крестная или тетка.
Детей «завозили». Упершись оглоблями в ворота, вылезали из кошевки и шустро взбегали по ступенькам высокого, выкрашенного охрой крыльца, наперед зная, что будут и розанцы и сдобные кокурки, а Илюхе-кучеру (когда приходилось им быть) обязательно перепадет стаканчик сладкой, пенистой медовухи.
17
Последнюю в станице масленицу, которая Илье хорошо запомнилась, весело праздновали в марте 1917 года. Он уже учился в старшем отделении.
Эта масленица была знаменита тем, что проходила она в самом начале февральской революции и была овеяна ее первым, вольным дыханием. Приехавшие на побывку фронтовики привезли новые, незнакомые, страшно притягательные для молодежи слова: свобода, равенство, братство.
Бывалые казаки, всю жизнь верой и правдой служившие царю-батюшке, выказывали явную озабоченность. Новые эти слова тревожили, ошеломляли. Да и было отчего тревожиться.
Первым нарушил извечные традиции молодой учитель Георгий Артамонович. Он сказал, что гимн «Боже, царя храни», который школьники пели каждое утро, отменен. Снял со стены царский портрет, вынул из рамки, разорвал пополам и бросил к печке. До жути притихшие ученики следили за действиями учителя с любопытством и страхом. Георгий Артамонович вынул из кармана какую-то бумажку, развернул ее, разгладил бережно на ладони, сказал:
— А сейчас мы будем разучивать новую, революционную песню. Слушайте!
Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе.Он медленно, с расстановкой читал, а ученики, шурша тетрадками, записывали. Те, у кого была хорошая память, запоминали сразу. Потом пели хором.
Илюшке особенно нравились слова:
Все, чем их держатся троны, — Дело рабочей руки… Сами набьем мы патроны, К ружьям привинтим штыки.Он пел их дома, во дворе, а однажды запел в конюшне, когда чистил скребницей лошадь. Отец вошел и спросил сердито:
— Что за песня такая? Где ты ее подцепил?
Илья рассказал.
— Мда-а, — со вздохом протянул отец, подергал ус и подколол вилами мерзлый конский котях. — Вот что, рука рабочая, если я еще раз услышу, так навинчу, что неделю на скамейку не сядешь…
Илье хотелось сказать, что теперь наступили другие времена, растолковать про свободу и равенство, но он вовремя удержался. Вместо этого он рассказал отцу, что стало с царским портретом в школе; у них дома он все еще висел рядом с часами.
— Напополам, говоришь? — Илье показалось, что у отца даже зашевелились усы.
— Ага, — подтвердил он. — Вот взял… раз… и порвал. — Илья показал, как проделал это учитель.
Отец насупился и полез в карман за кисетом. Сыну даже стало жаль его. Чтобы хоть чем-нибудь задобрить отца, он заговорил о скачках, которые решили устроить учителя. За первое место обещали сочинение Карамзина «Историю государства Российского» — несколько книжек в маленьких, красивых, зеленого цвета корках — и рубль серебром; за второе — сказки Пушкина и 75 копеек, за третье — книжка Лермонтова и 50 копеек.
— Ну что ж, ладно. Поглядим. Коня надо промять хорошенько.
Против скачек отцу устоять было трудно, и с этого дня они начали к ним готовиться. Чтобы не маячить на глазах у людей, выезжали за Урал на торный, хорошо накатанный зимник. На этот раз отец подседлал Лысманку своим фронтовым седлом, укоротил путалища, старательно подогнав стремена по Илюшкиным ногам. В седле паренек всегда чувствовал себя куда ловчее.
В день скачек, когда Илья подъехал к школе, там уже гарцевали до полусотни всадников. Кроме школьных товарищей, Пети Иванова и Саши Глебова, тут были и бывшие ученики — Александр Корсков, Иван и Сергей Полубояровы со своими товарищами. Они составляли особую группу, для которой и приз учрежден другой — пять рублей золотом. Под ними были крупные, породистые кони, большинство рыжей масти. Седла тоже иного образца, отличавшиеся яркими, расписными вальтрапами, нагрудниками с серебряными бляхами, тонкими уздечками, сверкавшими коваными наборами из чистого черненого серебра. Илюшкино седло было с высокой лукой, с потрескавшейся на потнике кожей, пропитанной чистым дегтем. Зато Лысманка с белым, продольным на лбу пятном выделялся непомерной длиной корпуса, поджаростью и сухими, тонкими, в белых чулках ногами. Он был на редкость смышлен, слушался малейшего движения повода, резко брал со старта и без особого труда со стороны всадника останавливался.
Наездническая страсть Ильи была уже хорошо известна, поэтому его и Петю Иванова учитель записал в особую группу на Большой приз. Парни постарше приняли их с насмешками и откровенным презрением.
— Гляди, не забудь валенки из стремян вынуть, когда будешь падать, — сказал Сережа Полубояров. Под ним была рослая кобыла с рыжей закуржавленной шерстью. У нее была широкая мускулистая грудь и хорошо подобранный живот. Видно, что кобылу, недавно взятую из косяка, немало гоняли. Лучшим из всех считался игреневый конь Александра Корскова. Высокий, статный красавец с желтоватой, как пена, гривой, он уже участвовал в скачках и всякий раз приходил первым. Никто не сомневался, что и сегодня он займет первое место. Сидевший на нем Сашка Корсков за эти годы вытянулся и стал еще более надменным и горделивым. Крупный, плечистый, но с неуклюжими тонкими ногами Петя Иванов был добрым артельским парнем и отличным наездником. Илья в свои двенадцать лет все еще был мал ростом, это угнетало его больше всего на свете. К тому же и волосы на уродливой голове росли жесткие как проволока и не поддавались никакому гребню.
— Повиснешь на стремени и будешь лохматой башкой улицу подметать, — тонким, гнусавым голосом дразнил его Сергей, все время без дела задирая голову своей кобыле, грива которой была пышно расчесана, а в одной из косичек заплетена голубая ленточка.
Шмыгая носом, Илюха молчал и гладил варежкой шею лошади, мысленно моля бога, чтобы он помог им с Лысманкой обскакать гундосого Сережку. Прежде чем посадить сына на коня, отец и крестный, Степан Иванов, помолились вместе с ним.
Потом крестный, отдавая Илюшке свою легкую, кистистую плеть, наставлял:
— Смотри, только плетью особо не балуй. Расстояние короткое, а Лысманка твой умница, сам все сделает.
Помогая сесть в седло, отец добавил:
— Не распускай поводья. А плетью можно разок врезать, если обгонять будут. А потом вот что… Не обгонишь всех этих хвастунишек, Лысманки больше не увидишь. Сниму. Будешь с девчонками в кошевке ездить и подбирать из-под чужих хвостов конские ошметки…
От его слов Илью бросило в жар. Он знал, что отец в случае проигрыша выполнит свою угрозу.
Перед тем как участников скачек поставить в общий строй перед школой, к Илье неожиданно подошел младший писарь Алексей Амирханов.
— Придешь первым, получишь от меня полтинник, — сказал он.
Алеше Амирханову было тогда 18 лет. Отец его, Николай Алексеевич, казак богатырского роста и поразительной широты в плечах, всю жизнь был писарем. Писарем в поселковое управление устроил он после окончания школы и своего сына. Жена Николая Алексеевича, Прасковья Григорьевна, заведовала женской школой. Николай Алексеевич был дружен с Илюшкиным отцом. В молодости они когда-то вместе проходили лагерную службу.
Пожелание Алеши обогнать других и прийти первым ободрило Илюшку. С чувством приятного волнения он повел коня к старту сначала маховой рысью, а потом, как учил отец, еще раз прогрел легким, сдержанным галопом. Скакать в казачьем седле на мягкой кожаной подушке было необыкновенно хорошо и удобно.
Наконец участников скачек выстроил веселый рыжеусый казак Гаврила Епанешников. Он должен был вывести их на Красную полянку, расположенную возле кладбища. Оттуда версты полторы, а может и чуть побольше, надо было скакать по прямой до церковной площади и финишировать против школьного крыльца.
Плечистый, в голубой, касторового сукна теплушке, опоясанный тонким наборным ремешком, в косматой, заломленной на затылок папахе, Гаврила с бородатым, багровым от медовухи лицом возвышался на гнедом коне и бранил мальчишек, что не умели держать строй.
— Не табунись, сосунки! Повода держи, повода! А вы, куроеды, — обращаясь к парням постарше, кричал он, — скоро в лагерь пойдете, а конем владеть не умеете! Р а в н я й с ь!
Куда там равняться! Почуяв скачку, кони разгоряченно взбодрились и не стояли на месте. Одни наездники выскакивали вперед раньше команды, другие, путаясь в поводьях, считали хвосты.
Поскакали чуть ли не после пятого или шестого заезда. Сильным прыжком Лысманка сразу же вырвался вперед и повел всю группу. Илья оглянулся. Вытянув длинную шею, за ним на два корпуса сзади скакала кобыла Сережки Полубоярова, но ее вскоре обогнал конь Александра Корскова. Пустив в ход нагайку, он пытался догнать и обойти Лысманку, но так и не сумел.
Выиграв особый приз, Илья принял участие в скачках на приз сочинений господина Карамзина. Полубояров и Корсков в этой скачке не участвовали. Приз считали пустячным, а компанию мелкой. Илья и тут одержал победу легко и не без гордости опустил в карман полтинник Алеши Амирханова.
Самолюбивый и вспыльчивый Александр Корсков не мог сразу смириться, что его обогнал «сосунок». Когда крики и суматоха с вручением призов затихли, он подъехал к Илье и хмуро проговорил:
— Твой конь-то и не запотел даже.
Илюшку всего распирало от радости. Он не знал, что и сказать в ответ. Только гладил вынутой из варежки рукой теплую конскую шею.
— Его конь берет тем, что прыгает с места, как кошка, — сказал подъехавший Сережка Полубояров. — А вот если взять да пустить на даль — сдохнет.
— Давай попробуем? — предложил Санька.
В Илюху уже вселился бес победителя. Верхом на коне он чувствовал себя взрослым, ровней им. Делая вид, что проминают коней, не желая привлекать внимание, тихим шагом они горделиво проехали вдоль большой улицы, уступая дорогу кошевкам и санкам с детворой. Скакать решили на Татарской поляне. Так назывался выгон, расположенный за Татарским курмышом, — ровная, верст на пять грива, круто срезанная берегом Урала. Поляна казалась далекой. Радужно искрился на солнце чистый снежок. От легкого ветерка на гладко укатанной дороге шевелились клочки сена, изредка маячили желтые будыли лошадиной кислятки.
Наездников было четверо. Корскова сопровождал Сережка Полубояров, Илью — Петя Иванов. Дорога шла в направлении кузницы — по ней и пустили во весь мах. Рыжая полубояровская кобыла, не выезженная толком, оказалась «сырой», как говорили опытные в этом деле казаки; на третьей примерно версте она пустила мыло и отвалилась. Скоро отстал и Корсков. Дав коням отдохнуть, пытались скакать еще два раза. Лысманка даже и близко не подпускал.
Эта масленица была настоящим праздником. А к пасхе отец заказал сапожнику Петру Федорову для Илюхи первые в жизни платовские сапоги…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Дети всегда очень чутки к беспокойству домашних. Как-то осенним вечером у Никифоровых собралась отцовская родня, и начались охи да вздохи.
— Сын на отца, брат на брата пошли с ружьями, — сказала тетка Маша.
— Весь Петербург встал на дыбы. Казачество напрочь будет лишено своих прав и земли. Довоевались, так твою, — ворчал зять Захар Корсков.
В школе учитель объяснил, что в Петрограде произошла революция и установлена новая власть. Слетел со своей должности и атаман станицы вахмистр Турков. Вместо него был избран вернувшийся из лазарета казак Алексей Глебов — дядя Саньки Глебова. На здании станичного управления появилась вывеска: «РЕВКОМ». Секретарем этого ревкома стал Алеша Амирханов.
Зимой 1918 года с фронта большими группами стали возвращаться казаки. Вернулся и Михаил на худом, как скелет, Мухорке. Он привез тайком тяжелый артиллерийский наган. Впервые в жизни Илья с трепетом взял в руки наган и не хотел с ним расставаться. К Михаилу и Мухорке относился теперь с глубоким почтением, завидовал, что им пришлось побывать на войне, увидеть многие города со звучными таинственными названиями — Минск, Пинск, Ковно, Ровно, Августов. Как тут не позавидовать!
С возвращением брата в доме чаще стали произносить разные незнакомые словечки: большевики, меньшевики, буржуи, казачьи депутаты, школа прапорщиков, из которой на скорую руку выходили офицеры. Офицером бы стать Илюхе, только говорят, что с офицеров-то теперь погоны содрали… В башке полная кутерьма.
С осени в школе тоже все пошло вверх тормашками: начали учиться вместе с девчонками. Мужскую школу пришлось закрыть. Всех разместили в женской — она была светлее и чище. Появились новые названия: вместо отделений — классы. Теперь запрещалось ставить учеников на колени, а тем более лупить линейкой. Вместе с буквой «ять» был отменен и «закон божий».
Новые порядки не всем пришлись по душе. Школы опустели почти наполовину. Казаки запретили своим детям ходить учиться. А староверы в противовес новой открыли свою «тайную школу», где властвовал поп Парфен Полубояров.
Старший класс, где учился Илья, и первый младший вела сама Прасковья Григорьевна Амирханова. У нее был властный и зычный голос. Несмотря на внешнюю строгость, она была доброй и отзывчивой. Дети быстро сумели приноровиться к ее характеру. Если Прасковью Григорьевну ученики выводили из терпения, она могла гневно крикнуть:
— Аслы! Встать!
С удивленными лицами мальчишки сидели за партами, как истуканы.
— Я каму гаварю!
Привыкшие «окать» и «чокать», умиляясь ее «господским», как считали, произношением, школьники дружно отвечали:
— Ослам!
— А кто же вы, как не аслы?
— Ученики четвертого класса Петровской начальной школы!
— Вы не ученики, а разбойники! Если вы еще раз устроите мне в школе мамаево побоище и будете обижать девочек, я велю стащить с вас валенки и выгоню босиком на мороз!
— Ой! Замерзнем же!
— Туда и дорога! Разве можно бегать по партам и хватать девчонок за косички? Вы действуете как самая необузданная арда! Кто такие девочки? Это ваши будущие невесты…
— Хи-хи! Ха-ха!
— Не хихикайте, кретины! Да, невесты, будущие матери ваших детей! Посмотрите, какие в вашем классе красавицы! — кивая на девчонок, продолжала Прасковья Григорьевна.
Мальчишки оглядывались и как будто впервые видели своих румяных, круглощеких подружек. (Все учились в одном общем зале, но сидели раздельно.) Чинно опустив приглаженные головки с разноцветными ленточками в косичках, они уютно кутались в пуховые платки.
Вот тут-то Илюшка и разглядел Машу Ганчину. Белое, чистое лицо и тихие, глубокие, с небесной голубинкой, доверчивые глаза поразили его. До этого бегала девчоночка в беленькой кофточке, со светлыми, прыгающими на плечах косичками, а теперь…
Первые дни он ходил как лунатик и, казалось, спал на ходу, забывая про еду и уроки. Дивясь сумрачной, неправдоподобной задумчивости, домашние ругали его, старались уличить в притворстве. Никому не приходило в голову узнать, что творится в его застигнутой врасплох еще детской душе.
Начались первые, самые милые «грезы», навеянные тихой грустью девичьих глаз, нежностью белого лица и, конечно, романтическими историями из прочитанных книг.
Илюшка на уроках был задумчив, рассеян. Это не ускользнуло от внимания учительницы. В одну из перемен она попыталась поговорить с ним. Но тайна ученика была заперта на много прочных замочков…
Заметив Илюшкину тягу к книгам, Прасковья Григорьевна однажды пригласила его к себе домой. Очутившись в прихожей, он встал у порога, не зная, куда девать шапку.
Улыбнувшись, Алексей Николаевич взял ее и повесил на гвоздь.
— Ты, Алеша, займись этим дикарем и покажи ему нашу библиотеку. В школьной он берет все без разбора. Даже Мельникова-Печерского читал. Подбери ему что-нибудь подходящее.
Алексей Николаевич провел Илью в комнату, заставленную книжными шкафами. Такого количества книг Илья еще не видел.
— Читать надо как можно больше, но с разбором, — сказал Алексей Николаевич. — В мире столько написано интересных книг, не прочтешь и тысячной доли. Есть книги, читать которые вовсе не обязательно. Будем, брат, приучаться к порядку. Начнем с Пушкина.
— Пушкина я помню наизусть, — похвалился Илья.
— Расскажи, что ты помнишь?
Он прочитал отрывки из сказок «О царе Салтане», «Рыбаке и рыбке». На этом его познания о сочинениях Пушкина исчерпались.
— Небогато. А тебе не приходилось читать «Капитанскую дочку» или «Дубровского»?
— Нет. Я даже ничего не слыхал о них.
— Вот видишь! Прочитаешь и расскажешь мне. — Алексей Николаевич дал ему аккуратно обернутую книжку. Он всегда говорил коротко, отрывисто. — Про Фленушку рано тебе читать.
— А как же в учебнике Баранова напечатано из Мельникова, как на Потапа Максимовича напали волки?
— Ну это же про волков… Мало ли у Баранова всякой ерунды…
Вот тебе раз! К учебнику Баранова Илья относился, как к святыне, а тут его хулят. Хотелось спросить — почему, да постеснялся. Вечером, когда гнал на водопой скотину, спросил об этом у Ваньки Серебрякова.
— А теперь все учебники пойдут на цигарки, — ответил Ванька.
— Почему?
— Чудак человек! Там царская буква «ять» и твердый знак на конце. Скоро будут ноше учебники, с «Интернационалом» на первой странице.
— Заместо «Боже, царя храни»? — допытывался Илюшка.
— Нашел с чем сравнивать, балда!
С самых первых дней революции Иван Серебряков был за большевиков. Где-то он добывал разные политические брошюры и высказывал мальчишкам свои резкие суждения о буржуях. Вскоре Илья узнал, что он тоже ходит к Амирхановым и берет у них книги.
— Попов и дьячков тоже к едрене фене, — говорил Ванька.
— Как же так? Ведь ты хотел быть псаломщиком?
— Мало ли что могла придумать моя бабка Аксинья… Это она все отцу нашептывала, вот и послали… Дудки! Я тепереча безбожником стал. Наступают такие времена: держись, мировой капитал!
А времена действительно наступали неспокойные. Все чаще и чаще высоченный рыжий казак — татарин Саптар выходил на Большую улицу, останавливался возле каждого перекрестка и играл тревожный сбор. Неожиданно сместили с должности председателя Алексея Глебова и снова выбрали на сходе атамана — своего местного казака Степана Дмитриева. В эти же дни произошло еще одно событие. В полном вооружении прямо с германского фронта в станицу прибыл 16-й казачий полк. Состоял он из казаков верхнеуральских станиц второго отдела Оренбургского казачьего войска. Верхнеуральцы сумели проехать всю Россию и не дали себя разоружить. Наконец-то мальчишки увидели настоящие пулеметы, которые зловеще глядели на них с саней тупорылыми стволами. Полк остановился в Петровской на дневку. Ревкомовцев — двух Алексеев, Амирханова и Глебова, — прибывшие казаки тут же сместили и будто бы хотели расстрелять, но станичники своих земляков в обиду не дали, собрали сходку и постановили освободить их.
2
На другой же день случилось страшное событие. У остановившихся на дневку верхнеуральцев пропали две лошади. Казаки догнали конокрадов, привели на станичную площадь и на том самом месте, где недавно стоял полуразвалившийся снежный городок, убили камнями.
Ученики во время перемены сумели сбегать на площадь и поглядеть на это чудовищное зрелище. После этого Илья надолго заболел. Даже по прошествии многих лет, когда он вспоминает тот ужасный день, его начинает мутить.
Через несколько дней после ухода казачьего полка опять был смещен атаман. Вновь ревком возглавили два Алексея и Мавлюм Халилов. Чаще и тревожнее пела на перекрестках труба Саптара. Послушные привычному зову сигнала, казаки хватали папахи и шли к сборной станичного управления. Прошел слух, что в низовьях Урала появилось много большевистских отрядов, которые взяли Оренбург. Слухи эти вскоре подтвердились. Как-то в сумерки, когда мальчишки в который раз и все «напоследок» скатываются с горки на салазках, в станицу въехали несколько крытых кошевок. Их сопровождали всадники в башлыках и папахах. Кошевки остановились возле дома полковника Карабельщикова. В числе приехавших казаки узнали двух офицеров — сыновей полковника.
Станицу быстро облетела эта новость. Вечером ревкомовцы и недавно вернувшиеся с фронта казаки решили арестовать всех приехавших офицеров, в числе которых оказался и бежавший из Оренбурга наказный атаман Дутов.
Полковник генерального штаба царской армии Дутов, будучи назначен Временным правительством особо уполномоченным по заготовке продовольствия в Оренбургской губернии и Тургайской области, по тайному заданию врагов революции срывал заготовку хлеба, способствуя усилению голода в рабочих и промышленных центрах страны. Одновременно он собирал контрреволюционные силы для борьбы с Советской властью, рассылая своих эмиссаров по станицам. Так осенью 1917 года в Петровской побывал полковник Карабельщиков. Он был желанным гостем казацкой знати, совещался с братьями Полубояровыми, выезжал с ними в степь для встречи с крупными баями-скотоводами, известными богатеями и националистами.
В то время международная буржуазия, всполошенная победой Октябрьской революции, начала обдумывать свой коварный план, стремясь с запада и востока военным путем вместе с внутренней контрреволюцией раздавить молодую Советскую республику. По замыслу американо-английских империалистов в задачу Дутова входило поднять оренбургское казачество и буржуазных националистов, сосредоточить белогвардейские силы в юго-восточной части страны, оторвать от Советской России Урал, Башкирию, Туркестан и объединиться с донскими, кубанскими и другими мятежниками.
К тому времени контрреволюционеры всех мастей и, в частности, апостолы корниловского мятежа, участником которого был и Дутов, получили весьма внушительный урок от большевистских отрядов. Воспользовавшись благоприятной почвой, созданной меньшевиками, эсерами, офицерами, юнкерами и воинствующими кадетами, тяжелым положением трудящихся масс, уставших, изголодавшихся, истерзанных за четыре года империалистической войны, Дутов решил возобновить мятеж на Южном Урале, предполагая, что кулацко-зажиточная верхушка оренбургского казачества и богатая, не менее воинственная часть башкир поддержат его замысел.
В ноябре 1917 года кадеты, юнкера, меньшевики, эсеры во главе с Дутовым образовали в Оренбурге, игравшем важную военно-стратегическую роль, контрреволюционную организацию под названием «Комитет спасения родины и революции».
Эта организация 14 ноября захватила власть, арестовав руководящий состав большевистской организации, Совета рабочих и солдатских депутатов и военно-революционный комитет. В Оренбурге утвердилась военная диктатура Дутова. Дутов объявил себя наказным атаманом, а созданное им «правительство» — единственной властью на всей территории Оренбургского казачьего войска. «Правительство» приступило к мобилизации казаков в белогвардейскую армию. В этом Дутову помогали все антисоветские партии, а также казахские и башкирские буржуазные националисты.
Дутов зверски расправлялся с революционно настроенными рабочими и крестьянами. Положение в крае стало критическим для Советской власти. Рабочие Оренбурга послали к Владимиру Ильичу Ленину делегацию с просьбой о военной помощи. По указанию Владимира Ильича против белогвардейских отрядов Дутова были посланы войска из Петрограда, Москвы, Самары, Уфы, выступили красногвардейские отряды рабочих уральских заводов и золотых приисков.
Основная часть оренбургского казачества не поддержала мятежников. Большинство казаков, вернувшихся с германского фронта, успело досыта нахлебаться войны. Они своими глазами видели, как рухнул царский трон, развалилась армия, образовались Советы рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Фронтовикам не безразлична была судьба России, и большинство из них безоговорочно признало Советскую власть. Исключением были старики из богатых семейств. Это была самая кастовая, консервативная часть казачества. Расслоение происходило и в середняцкой среде.
Зимними январскими вечерами некоторых казаков через посыльных, поодиночке вызывали в ревком. В помещении сборной было страшно накурено. Часть казаков толпилась возле урядника — батарейца Василия Алтабаева, друга председателя ревкома Алексея Глебова. Оба они с первых дней революции без колебаний примкнули к передовым, большевистски настроенным казакам и вернулись в станицу не с кокардами, а с красными на папахах бантами. Новости Алтабаев всегда узнавал одним из первых, но сегодня и он не знал, зачем их позвали.
— Может, насчет контрибуции? — высказал свою догадку сосед Никифоровых, Иван Малахов.
— Все может быть, — сказал Алтабаев. — Такой вокруг разор, нищета.
— А при чем тут мы, казаки? — спросил Малахов.
— Ты что, куском хлеба не хочешь поделиться?
— А ежели у меня в сусеке одни мыши?
— Не прибедняйся. У мамаши зато карман под юбкой поболе аршина…
Казаки засмеялись. Иван сердито надвинул на брови большую, длинношерстную папаху.
— Не шарь по чужим карманам, — сказал он.
— Ишо как придется, милок! — подзадорил Алтабаев.
Вспыхнул горячий спор, но ему не дали разгореться. В сборную вошли ревкомовцы: председатель Алексей Глебов, секретарь Алеша Амирханов, его отец Николай Алексеевич, заместитель Глебова Мавлюм Халилов, трубач Саптар и еще несколько казаков.
— Здорово, курильщики! — добродушно сказал Алексей Глебов, сдвигая на затылок папаху.
— Здравия желаем! — невпопад, по старой привычке, ответили казаки, поднимаясь с расшатанных скамеек.
— Сидите, товарищи, сидите! — Глебов вышел на середину сборной и остановился в длинном проходе. — Товарищи казаки! Мы кликнули тех станичников, которым ревком доверяет, надеется на их поддержку.
— Об чем вопрос? — выкрикнул Алтабаев.
— Вопрос о том, что в станицу только что пожаловал атаман Дутов.
— Дутов! — Казаки завозились на скамейках и еще гуще задымили цигарками. Заговорили на разные голоса: — Каким ветром занесло к нам его? Чего ему надо? С какого бугра скатился?..
— Подзатыльник ему — и все! — перекрыл всех чей-то голос.
— А он как раз хочет пощупать ваши затылки…
— Наши затылки стреляны, умом трезвы! Покамест за царями скакали, до плешин дочесались! Хватя, батя! — крикнул казак Николай Горшочков — из молодых, самого последнего призыва.
— Погоди с прибаутками, дай председателю о деле сказать, — широким, в черном полушубке, плечом Алтабаев потеснил молодого казака к стенке.
— Полегче, Василий Петрович, своей лошадиной силой. Я ить тоже не без дела голос подал…
— Старших надо слушать. Вот твое дело! — снова осадил его Алтабаев.
— А по делу, товарищи станичники, выходит так, — продолжал председатель ревкома. — Части Красной Армии растрепали батальоны дутовских офицеров и юнкеришек. Те сейчас вразброд, кто куда — одни в степи, другие на Нижний Урал, а Дутов удирает из Оренбурга на Верхний Урал. Его приспешники шмыгают уже по нашей станице, настроение казачков прощупывают… А оно, как вы знаете, не у всех одинаковое — есть такие, что одной рукой голосуют за Советскую власть, а другой за бороду держатся… Ревком имеет сведения, что атаман Дутов намерен собрать тайную сходку. — Глебов ходил по проходу четкими шагами, теребя ус и неспокойно поглядывая на взволнованных казаков.
— Какие могут быть тайные сходы? — крикнул Семен Прохоров. — А вы, ревком, на што! Мы вас выбрали, власть вам утвердили!
— Верно! — поддержал его Саптар. — Я так давно говорю. Кто у нас революционный комиссар? Ты, товарищ Глебов, и наш товарищ Мавлюм Халилов. Скажите сбор сыграть, мы сейчас, айда! Хоть в седле соберем, хоть на одних потниках! Скажи толька!
— Тебе, Саптар, легче сыграть сбор… А вот нам закавыка, — проговорил Глебов. Ему важно было уверовать в поддержку собравшихся казаков. То, что ревкомовцы задумали, решить было нелегко. Алексей и Мавлюм шагали по горячей, суровой тропе революции порой на ощупь, благодаря врожденной смекалке, самобытному чутью, хорошо зная классовую сущность казачества.
— На дудке, Саптар, мы пока играть не будем! — Поскрипывая кожаной, обтянутой полевыми ремнями тужуркой, вперед вышел Мавлюм. Он был в серой, сдвинутой до самых бровей кубанке. Казаки, с которыми он служил на войне, любили его за отвагу, за честность и бескорыстие. На фронте он единодушно был избран членом полкового комитета, участвовал на армейском съезде, как делегат от своей части, общался с большевиками. Нервно перебирая тонкими пальцами зеленый шнур от нагана, он сказал:
— Если мы позволим Дутову созвать тайную сходку, то этим самым плюнем в лицо Советской власти, ревкому! Вы, земляки, согласны плюнуть нам в лицо?
— Что ты, Халилов! Как можно? Мы вас разве для этого избрали! Всей сотней бедовали вместе! Нам этот Дутов как бельмо в глазу. Хватит нам атаманства!
— Значит, вы доверяете нам? — сверкая из-под темного чуба такими же угольно-темными глазами, спрашивал Мавлюм.
— Об чем разговор, Халилов! Кому ишо доверять-то?
— Поддержите решение ревкома?
— Ты, Мавлюм, не дергай кобылу за титьку, лягнуть может!.. — выкрикнул Алтабаев — Говори, что решили?
— Мы решили господина Дутова арестовать и отправить в губревком! — Слова Мавлюма, как обушком, ударили по ушам и тяжело повисли в воздухе. Приземлил их протяжный, недоуменный голос Николая Горшочкова:
— А р е с т о в а т ь! Ничего себе кишмиш в сладкой похлебке…
— А ты что думал? — набросился на молодого казака высокий, похожий на борца, грузный Николай Алексеевич Амирханов. — Ты полагаешь, что господин Дутов заехал к нам кутью варить? Его благородие едет не сладкую похлебку вкушать, а собирать войско. Он хочет, чтобы вы сели на коней и пошли за ним. Свергать Советскую власть!
— Дудки!
— Дураков нет!..
— А думаешь, не найдутся!
— Взять его за шкирку — и баста! — со всех сторон прорывались выкрики и тут же гасли в многоголосом шуме.
— Будя галдеть, будя! Дайте слово сказать! — Вытянув вперед новенькую рукавицу, поднялся Иван Малахов. Казак он был осторожный, жил с оглядочкой.
— Чего тут рассусоливать! — Михаил Никифоров толкнул локтем Ивана. — Чего высовываешься?
— Как чего? Стоит ли нам, казаки, руки пачкать? Шутка сказать, наказный атаман! Грех на всю станицу. А там ишо старики…
— Старики, старики! — подхватил Алтабаев. — Они тут без нас волосами обросли. Мы вошек кормили, кровушку по капелькам выцеживали, а они здесь сладкую похлебку хлебали со снохами…
— Сыпь, Вася, по самые уши! — Оживленным ветерком по сборной пробежал смешок.
— Обстригнуть их надо маненько, бородачей наших… — заключил Алтабаев.
— Мотри, как бы тебя не обстригли вместе с башкой! — не сдавался Малахов. — Предлагаю не трогать офицеров, а выпроводить из станицы на все четыре стороны…
— Послушайте, казаки! — крикнул Николай Алексеевич. Он выделялся из всех своей крупной, широкой в плечах фигурой. Галдеж сразу утих. Казаки уважали писаря.
— Хотите, чтобы вас одурачили? — продолжал Амирханов. — Хотите, чтобы господин Дутов по вашим спинам, как по ступенькам, взобрался на пост наказного атамана? А дальше что? Новый царек? Не выйдет! Как можно выпускать такого зверя! Вы же знаете, сколько он успел пролить рабочей крови! Расстрелял в Оренбурге самых преданных революции людей! А сколько еще он может натворить! Вы пойдете ему помогать, подставите спины и лбы?
— Не-ет! Амба! Не пойдем! Будя! Арестовать! — кричали со всех сторон. — В ятапную их, айда! Назад отправить, откуда удирали!
— Правильно! — подхватил Мавлюм. — В губревкоме разберутся!
— Тихо, товарищи! Значит, решено! — Глебов поднял руку в серой перчатке. — Кто пойдет с нами?
— Все пойдем, раз такое дело! — поднялся Михаил Никифоров. За ним Алтабаев, Горшочков, Семен Прохоров со старшим сыном Иваном — рослым и краснощеким. Несколько человек спрыгнули с подоконников, натягивая на лоб папахи, застегивали шинели, окружив Глебова и Мавлюма, наперебой заговорили об оружии.
— Оружие дадим. Пошли! — скомандовал Глебов.
— Мишка! Айда со мной, полчок! — крикнул Мавлюм Никифорову. Они дружили давно, вместе прошли всю войну.
…Дутов не то с женой, не то с сожительницей, с двумя сыновьями местного полковника Карабельщикова остановился в их доме. Остальные офицеры и юнкера с четырьмя длиннобородыми, кряжистыми, как старые дубы, казаками-уральцами в штанах с желтыми лампасами, в здоровущих мохнатых папахах по знакомству завернули в обширный двор с теплыми конюшнями и амбарами к Александру Вахмистрову, жившему в другом конце станицы. Встреченные хозяином и его двумя сыновьями-сотниками, гости, офицеры и юнкера во главе с войсковым старшиной Лукиным вошли в дом. Бородачи-уральцы остались распрягать и расседлывать коней. Однако сделать этого они не успели. С наганами в руках и винтовками на изготовку в ворота вошли Глебов и Мавлюм с казаками.
Мавлюм с Михаилом Никифоровым сразу же бросились к кошевкам, вытащили из-под кошмы станковый пулемет с вложенной лентой, передали Горшочкову несколько винтовок и шашек.
Батареец Василий Алтабаев сноровисто обшарил ошалелых уральцев, повытаскивал из кобур револьверы. Один из бородачей вздумал сопротивляться.
— Не тронь оружие, слышь? — Уралец свирепо срывал намерзшие в бороде сосульки. — Это мое, именное, слышь, шуба?
Алтабаев был в длинном черном дубленом полушубке, со старым казачьим палашом на портупее.
— За какую такую заслугу получил ты эту пушку? — пряча револьвер в карман полушубка, спросил Алтабаев.
— За верную службу.
— Кому? Дутову, что ли?
— А хотя бы!.. Не нахальничай, верни штуку. Добром прошу! — Казак свирепо сощурил косматые брови, продолжая теребить красную бороду.
— Ты, чебак, угомонись. Бородой своей огненной не пугай. А то запрем в амбар, и будешь там зубами клацкать, школьну азбуку припоминать: а, бе, ве, ге…
— Стой, брат казак, а чо с народом творишь, чо? — укорял бородач Алтабаева.
— Эка свояк нашелся… Не я тебе свояк, а бирюк степной, да ишо полковник твой. И ты, борода, язвить тя в душу, не расстраивай меня, не тереби! Ишо брякнешь слово, будешь вверх тормашками в сугробе торчать…
Тут батарейца позвал Мавлюм.
Пока Алтабаев с дружками обрабатывали конвой и денщиков, войсковой старшина Лукин с офицерами и юнкерами, очутившись в избе, сняли тулупы и как попало свалили оружие на крашеную, с высокой спинкой скамью. Хозяева предложили гостям выпить с дороги водки. Осушив рюмки, все столпились возле топившейся печки-голландки, разговаривая о последних событиях. Они не знали, что происходило во дворе, и не слышали, как в горницу вошли Глебов и Мавлюм. Сзади их прикрывали Михаил Никифоров и Николай Горшочков. Последними перешагнули порог Алтабаев и Саптар. Мавлюм и Алексей поздоровались негромко и быстро своими крупными фигурами заслонили скамью, где лежало оружие. Когда гости спохватились, Никифоров и Горшочков уже выносили винтовки и револьверы в сени.
Первым опомнился сотник Владимир Вахмистров.
— Ты чего, Алешка, дуришь? — спросил он надтреснутым от волнения голосом.
— Я тебе не Алешка, а председатель ревкома. Понял?
— А ты понял, что находишься в моем доме, а они мои гости? А тебя, вас, этих всех… — сотник сверкнул побелевшими, нетрезвыми глазами, — не звал, не приглашал!..
— Сами пришли… Извини, мы твоих гостечков арестовать должны. Вы, господа хорошие, арестованы! — показывая стволом нагана на растерянных офицеров, проговорил Глебов.
— Как ты смеешь! — Лукин вскочил со стула. Повскакивали и другие офицеры. Молоденькие, без погон, юнкера с недавно отпущенными усиками тоже завозились было, но, увидев в руках Алтабаева большущий артиллерийский и маленький офицерский наганы, испуганно присели на пустую скамью, где только что лежало их оружие.
— Ты знаешь, с кем разговариваешь, знаешь? — наседал Лукин на Глебова.
— Кто же тебя, таку собаку, не знает? — усмехнулся Глебов. — Уймись, войсковой старшина! А то ведь…
— Ты меня стращаешь? Ты кто, казак или… — Лукин схватился костлявыми пальцами за небритый подбородок. От душившей его злобы он на глазах постарел, усох лицом. — У тебя осталась казачья честь или нет? По какому праву ты врываешься? — продолжал выкрикивать войсковой старшина лающим голосом.
— А разъезжать по станицам с пулеметами в кошевках, где установлена законная Советская власть…
— Законная, советская! — Лукин не дал договорить Глебову. Протяжно, со свистом в горле, он хрипел, застегивая дрожащими руками воротник кителя. — Может, ты меня, кадрового казачьего офицера, сразу к стенке, а?
— Дурака не валяй, офицер, — сказал Мавлюм. — Губревком знает, кого куда поставить. Алтабаев, ты останешься тут за старшего и, если это пьяное благородие будет куражиться, отведешь его в амбар и запрешь понадежнее.
— Слушаюсь! — откликнулся Алтабаев.
— Понадежнее… Советская, законная! Ха! — Лошадиное, в крупных рябинах лицо Лукина перекосилось.
Бессильно сжимая кулаки, молча злобились офицеры, исподлобья косясь на ревкомовцев.
Мавлюм зорко стерег каждое их движение и, чтобы хоть немного остудить рассвирепевших непрошеных гостей, обращаясь к Глебову, сказал громко:
— У крыльца, товарищ председатель ревкома, и под окнами выставлены наши караулы.
— Хорошо, — одобрил Глебов. — Если кто вздумает удрать или окажет сопротивление, прикажи караулу стрелять. Слышите, господа белая гвардия?
— Что с нами будет? — спросил один из офицеров.
— Пока останетесь тут. А там решим… — ответил Глебов. — Только ведите себя, как надо, без куража…
3
…Еще с вечера дом полковника Карабельщикова, где остановился атаман Дутов со свитой, был взят ревкомовцами под наблюдение. Окруженный каменным забором, дом стоял на крутом яру. Сумерками, хоронясь под обрывом, пробираясь берегом Урала, перелезая через занесенные снегом плетни прибрежных кард-загонов, здесь побывали пять братьев Полубояровых, Гаврила Фролов с сыновьями, торговцы пуховыми платками Евграф Дементьев, Трофим Бузякин, священник Карталинский, поручик Клюквин, женатый на одной из дочерей Вахмистровых.
Мавлюм наведался к однополчанину Андрею Коншину, дом которого стоял напротив усадьбы Карабельщиковых, и видел, как выходили из дома закутанные в башлыки станичники.
Сейчас у крыльца маячил рослый часовой в полушубке, надетом поверх длинной юнкерской шинели.
— Юнкерок, совсем еще молодой, хоть и большой, как лошадь… — тихо говорил Мавлюм Глебову. — Я нарочно, будто по делу, сначала зашел к портному Галимдару. Бекешу он мне шьет. Потом сидел у Андрея. Они оба были моими глазами и ушами…
Мавлюм и Глебов с казаками вышли к дому Карабельщикова со стороны Урала — по скотопрогонному переулку. Над высокой офицерской папахой часового в полосках скользящего из окна света кружились снежинки.
Казаки вывернулись из переулка и сразу же очутились у крыльца. Услышав звуки хрустящего под ногами снега, часовой неуклюже повернулся, увидев людей с винтовками, клацнул затвором.
— Мы из ревкома. Убери оружие, — тихо, но с внушительной твердостью сказал Мавлюм.
— Ничего не знаю! Мне приказано! — Выставив вперед ствол винтовки, часовой попятился к крыльцу. Кто-то из казаков подставил ему ногу, и юнкер рухнул в сугроб.
— Стрельнуть мог, дура! — Мавлюм выдернул из рук юнкера винтовку. — Мишка, вытащи его и покарауль тут у крыльца, — добавил Мавлюм.
— Ладно. Вставай, друг. Только не шуми, — сказал Михаил.
— Какой я тебе друг! Я бы… — барахтаясь в сугробе, бормотал юнкер.
— А ну помолчи, франт, — предупредил Никифоров.
Подняв часового, он загнал его под навес. Пыхтя и отдуваясь, юнкер стащил с головы папаху и стал отряхивать ею снег с полушубка, с ненавистью поглядывая на казака выпученными глазами. Хлопья снега липли к его взлохмаченным волосам, к молодому, безусому лицу и тут же испарялись.
Дутова, его чернявую, похожую на цыганку подругу, хозяина дома полковника Карабельщикова с сыновьями казаки застали за чаепитием в просторной комнате, освещенной лампами — висячей и настольной.
Высокий, в папахе казак с тонкими вразлет усами, рядом с ним плечистый, черночубый красавец с дерзкими, горящими глазами, в обтянутой полевыми ремнями кожанке и двое рослых казаков с винтовками наперевес возникли в распахнутых настежь дверях, словно тени. Режущий глаза блеск эфесов клинков, висящих на потертых портупеях, косматые папахи, хмурые, настороженные глаза заставили атамана Дутова отодвинуть стакан.
— Паслушайте, господа! — теребя пухлой рукой седенькие усики, полковник Карабельщиков поднялся. Он был небольшого роста, тучный, в белой с вышитым воротником косоворотке. — Пазвольте!
Загремев стульями, вскочили и сыновья, одергивая новенькие зеленые кители.
— Всем сидеть! — громко скомандовал Глебов. — Именем революционного комитета вы арестованы!
— Ты что, урядник Глебов, очумел? — крикнул офицер. Они знали друг друга с детства — еще мальчишками, приезжая из кадетского корпуса на каникулы, вместе с казачатами удили рыбу, купались, бывало, и дрались, как все подростки.
— Так пазвольте, господа, пазвольте! — суетился хозяин дома.
— Спокойно, Александр Иваныч. Присядьте. — Глебов махнул в его сторону зажатым в кулаке наганом. — Это не вас касается, а господина Дутова и вот господ офицеров, — показал он на молодых, очень похожих друг на друга есаулов.
— Они же мои сыновья, понимаете, сыновья! — высоко, звонко выкрикивал отец.
— Если, господин Дутов, у вас есть при себе оружие, прошу на стол, — не обращая внимания на слова хозяина, сказал Мавлюм и почти вплотную подошел к столу.
— Нет! — Взявшись за борта расстегнутого кителя, Дутов резко откинулся на спинку старого венского стула, заскрипевшего под его плотной фигурой. Ярость застыла на его широколобом скуластом лице с густой, неряшливо торчащей на щеках щетиной. Он видел, как вошедшие казаки быстро распорядились его маузером и оружием сопровождавших офицеров, деловито навешивая кобуры на себя.
— Образумьтесь, урядник Глебов! По какому праву? — Голос Дутова звучал глухо. Он по-азиатски щурил откровенно злые, колючие глаза. В его облике было что-то от монгола, и в то же время он походил на кряжистого, закоренелого старообрядца.
— По праву революции! А остальное вам напомнит военно-полевой суд.
— Вы хотите предать своего атамана суду? — сказала женщина и попросила у есаула папироску.
— Вас, тетка, тоже… — ответил Мавлюм, улыбаясь яркими, чернеющими при свете глазами.
— Мы не имеем чести вас знать! — прервал его Дутов и, схватив наполненную водкой рюмку, опрокинул ее в волосатый рот.
— Зато мы тебя очень хорошо знаем! Может, расскажешь в губревкоме, как рабочих в Оренбурге расстреливал, большевиков казнил? Или ты забыл, атаман?
Дутов насупился. Кровь отлила от его нахмуренного, вспотевшего лба. Серые глаза помутнели.
Тишина была напряженной, звенящей, как январский мороз. Только в переставшем шуметь самоваре что-то гулко пощелкивало. Вдруг открылась дверь, и, лавируя между казачьими полушубками и шинелями, появился Санька Глебов с повисшим на лбу ухом от шапки. Подняв руку в желтой дубленке, он поманил дядю пальцем.
— Ты чего тут? — шагнув к племяннику, спросил Глебов-старший.
— Отец прислал, — тяжело дыша, ответил Санька.
— Зачем? Говори!
Санька покосился на Дутова.
— Выйдем! — Дядя взял Саньку за руку и вышел с ним на кухню. — Ну, что сказал тебе отец?
— Полубояровы, Митрий Фролов, Овсянниковы с попом заодно, сходку собирают. Енька Фролов, Пашка Полубояров верхами сели, весь Большой курмыш обскакали и всем нагайками в ставни постучали. Сборная уж битком набита. Полным-полно казаков. Так галдят, то и гляди, стекла мерзлые повылетают…
— Ты короче, короче! — тормошил его дядя.
— Короче? Отец велел тебе и Мавлюму скорее приходить!
— Вот так-то ладно. Молодец, что прибег. — Алексей Глебов быстро подошел к двери, знаками вызвал Мавлюма, объяснил ему создавшееся положение.
— Учуяли, прасолы! Надо нам быстро идти туда. Оставим здесь караул, — пряча наган в кобуру, проговорил Мавлюм.
На улице все крепче и крепче мороз пощипывал щеки. Приплясывая на обледенелых досках крыльца, юнкер оттирал себе уши.
— Мишка, отпусти этого лопоухого в избу. Пусть погреется, — сказал Мавлюм Никифорову. — Караульте хорошенько. Мы в ревком. Я скоро смену пришлю.
…Сходка проходила бурно. Истошно горланя во все глотки, казаки вскакивали с мест, хватали друг дружку за грудки так крепко, что летели оторванные крючки, пуговицы, трещали рукава чекменей, теплушек, полушубков.
Полубояровы, Фроловы, Дементьевы, Шуваловы и прочие зажиточные казаки из Большого курмыша, торговцы, прасолы из Татарского сумели посеять недоверие к действиям ревкома, запугивали петровцев тем, что в Тургайские степи ушел с войском генерал Белов. Увел с собой часть офицеров и юнкеров сподвижник Дутова, полковник Вяткин, на границе Оренбургского края сосредоточил белогвардейские части адмирал Колчак, формирует батальоны смерти полковник Каппель, у моря высаживаются союзные армии англичан и французов с невиданными, ползущими, как черепахи, бронированными танками. Фамилии генералов, новое название вооружения завораживали психику старых казаков. На сходку явились даже те седобородые деды, которые редко слезали зимой с печки. Они так орали и стучали сучкастыми батогами, что молодые фронтовики вынуждены были помалкивать. А верховоды продолжали угрожать, что расправа над атаманом Дутовым черным пятном ляжет не только на станицу, но и на все казачество и возмездие будет самым жестоким и беспощадным.
Большинством голосов сход вынес постановление: отпустить атамана Дутова и его приспешников на все четыре стороны, не подозревая, какой дорогой ценой придется заплатить за это.
Сразу же со сходки исчезли братья Полубояровы, Дементьевы, Шуваловы. Сославшись на решение схода, угрожая ручным пулеметом и гранатами, они сняли караулы, а обрадовавшимся уральцам помогли запрячь лошадей и посоветовали Дутову: не дожидаться утра, а этой же ночью покинуть станицу, зная, что ревкомовцы вопреки постановлению схода могут принять иные меры.
— Выпустили хищника из клетки! — узнав о бегстве Дутова и его свиты, сказал Николай Алексеевич. — Попомните мое слово: теперь война закипит еще жарче, потемнеет Урал от кровушки.
Вещими оказались слова бывалого казака. Много потом атаман Дутов пролил крови русских, татар, башкир, казахов.
Послушать, о чем казаки галдели на сходке, Илюшке так и не удалось. Даже Саньку Глебова, который был у ревкомовцев за посыльного, дежурный с болтавшейся на боку шашкой выставил за дверь.
— Мал еще, мал, — запирая за ним дверь, сказал казак.
Войдя на кухню, Илюха залез на печку, усердно потирая озябшие руки, стал размышлять над происходившими в станице событиями.
Вечером, когда сноха Настя варила лапшу с бараниной, пришел наконец Михаил.
— Ты куда полез, куда? — услышал Илюшка надрывный Настин голос.
— Не я же один… — оправдывался Михаил. — Фронтовики пошли, мои товарищи.
— Тоже придумали, такую шишку, атамана наказного… Да вы что, белены объелись?!
— А ты знаешь, сколько он в Оренбурге крови пролил?
— Господи, когда все это кончится?
— А черт его знает!
— Ты хоть бога-то не хули. Что порешили с атаманом?
— Крику было… одни орут отправить назад, сдать губревкому, а другие против.
— Кто же на сходке-то всех больше куражился? — допытывалась Настя.
— Бородачи.
— А наш?
— Ругал меня, что я ходил атамана брать…
— Тебе больше всех надо… Про детишек забыл…
— Не хнычь! Отпустили же!
— Он вернется и попомнит вам…
Со двора вошел отец, сумрачный, недовольный. Оторопь брала при таком его сердитом виде. Илья подальше отодвинулся за трубу и прилег головой на чьи-то пимы, не видел, но чувствовал, как отец сует варежки в печурку и разматывает кушак.
— Ну што, ерой, перед женой, поди, хвалишься? — спросил отец.
— А чем хвалиться?
— Царя не надо, атаманов тоже в каталажку, а правит пусть Алешка Глебов с Мавлюмкой.
— Ничего, живем же без царя… А Глебов еще получше Туркова. Свой казак и сходки ведет без разных церемоньев…
— Вот вы и удумали своими башками наказного атамана арестовать… Он еще вам покажет кузькину мать…
— Понятно, покажет, раз улепетнуть дали…
Спор бы, наверное, разгорелся и дальше, если бы не пришла мать.
— Опять сцепились? В могилу загоните. Минька, живо беги и наколи дровец сухоньких. Не видишь, чем жена твоя горнушку растапливает? Не дрова, а сырье одно… А ты, отец, ступай и отруби мне мяса на завтра. Ради бога, прошу, перестаньте баталиться. И так уж не жизнь пошла, а разброд какой-то…
Михаил встал и начал искать под лавкой топор. Отец покряхтел маленько и тоже потянул с вешалки полушубок.
— А ты что на печи жаришься? — обращаясь к Илюшке, спросила мать.
— Греюсь…
— Сто раз согрелся… Все разговоры наши подслушивает, — сказала Настя.
— Наслушаешься и опять захвораешь.
От всяких разговоров и слухов можно было не только захворать… Вся жизнь стала тревожной, непрочной. Бабы, размахивая коромыслами, толпились у прорубей и судачили бог знает о чем. Говорили, что большевики не только отбирают добро, но и уничтожают все казачество. Илья не утерпел и спросил об этом Алексея Николаевича.
— Фу, чушь какая! — с возмущением ответил он. — Не надо слушать разные сплетни. Наоборот, хорошо будем жить. Учиться тебя пошлем. Обязательно. Кем ты хочешь быть?
— А на учителя долго учиться? — спросил Илья.
— Прежде всего надо прилежно учиться в школе и не слушать разную болтовню про большевиков.
Илья рад бы не слушать, да новости сами в уши лезли. Теперь Саптар появлялся со своей трубой по два раза в день. Как рассыплется по станице его тревожный призыв, так сердце сжимается… Опять появились неслыханные, странные слова: «разверстка», «контрибуция».
Однажды отец, пропадавший весь день на сходке, вернулся домой сердитый. Хлебая щи, он сказал сумрачно:
— Орали как оглашенные: слобода пришла… И чего ты драл глотку — долой атаманов? — спросил он Михаила. — Вот и доорались!..
— Что случилось? Расскажи хоть толком? — встревожилась мать.
— Велели собрать сорок тысяч рублей контрибуции, или как ее там, и еще доставить на станцию больше сотни фронтовых лошадей с седлами. Может быть, подседлаешь и поведешь своего Мухорку?
Отец швырнул ложку на стол. Тягостно стало всем, будто тьма вползла в горницу. Отец вылез из-за стола, надел полушубок, обмотал в талии синим кушаком и опять пошел на сходку.
Апрель уже взбугрил укатанный за зиму большак. Потемнели у заборов снежные сугробы. Илюшка с Санькой Глебовым, пошептавшись у школьного крыльца, побежали к станичному управлению. Может, удастся подслушать какую-нибудь новостишку…
В сборной гул стоял, словно богослужение справлялось. Ребята заглянули в одно окошко, в другое. Какой-то казак увидел ребячьи рожицы, кулак показал — здоровенный, грязный от дегтя.
— Наверное, седло смазывал и уздечки, чтобы от большевиков спрятать, — сказал Санька. — Полубояровы сегодня косяком на хутора махнули. Ищи-свищи!
Вечером стало известно, что казаки решили на сходке собрать сорок тысяч рублей и дать пятьдесят лошадей с седлами. Седла постановили брать в тех дворах, где по два и более. На другой день бородачи принесли одни керенки — сороковками и двадцатками, аршина по два длиною. Коней никто не привел. Ночью казаки подседлали своих фронтовых лошадей и подались в горы, прихватив оружие у кого какое нашлось. Михаил тоже кобуру через плечо навесил — в горы собрался, но отец загородил ему дорогу.
— Выкинь из башки и не думай.
— Придут и заберут Мухорку.
— Пусть заберут, зато голова будет цела.
Судили, рядили чуть ли не всю ночь. А на улице жалобно взвизгивал чей-то конь, переступая копытами, и кто-то дробно стучал нагайкой по закрытому ставню. Это Михаила вызывали дружки, с которыми он сговорился. Отец велел матери привернуть фитиль в лампе, а сам угрюмо стоял у порога и курил.
Так прошла ночь. А дня два спустя пришел отец Амирханова — Николай Алексеевич. С Илюшкиным дядюшкой, Николаем Степановичем Шустиковым, они когда-то вместе учились. Приезжали в чудесную Губерлю отведать налимьей щербы. Николай Алексеевич очень уважал мать Ильи. Дружил и с отцом. Оба любили бывать на Никольской ярмарке и опрокинули не одну чарку. Сегодня мать извлекла откуда-то заветную бутылочку и паштет налимий состряпала. Чокнулись раз, другой. Поначалу речь текла тихим ручейком, а потом забурлила и из бережков стала выплескиваться.
— Молодец, Степановна. Беду на порог не пустили, — сказал он.
— Что же будет-то, Миколай Алексеич? — спрашивал отец.
— А это, брат, глядя по заслугам…
— Нет! Я на полном сурьезе.
— Спасибо скажи тому, кто надоумил сына не пустить в горы.
— Тут большого ума не надо.
— Не говори! Я вот с Саринских хуторов приехал, там мужики за новую власть, за большевиков.
— Тебе легко. Сын у власти, да и сам ты давно обольшевиченный…
— А кто твой шурин, тезка мой? — навалившись богатырской грудью на стол, где возвышались глиняное блюдо с паштетом и пестрый соленый арбуз, спрашивал Николай Алексеевич.
— Все вы одного поля ягоды!
— Вот я об этом и толкую. Знать хочу — на какое поле ты глаз свой метнешь?
— Ты на жалованьи, а я пахарь! А пахарю была бы земля, а цари всегда были и опять найдутся…
— Нет, ты прямо скажи, за кого ты? За народ или за царя-батюшку?
— У меня вон своего народа по лавкам да на печи — дюжина ртов.
У Михаила и Насти тоже уже было двое детей.
— Дюжина, говоришь?
— Посчитай!
— Да это, дружок мой, хорошо! Преотлично! У меня у самого пятеро внучонков! Слышь, Степановна, пятеро! Вот для них, маленьких, Иван Никифорович, стоит жить!
— А я и живу. В горы не пошел и сына не пустил.
— Значит, у тебя хватило здравого смысла. А ты знаешь, что означает уход в горы?
— Кумекаю маленько…
— Тут не кумекать надо, а понимать. Уход казаков в горы — это война против Советской власти.
— А скажи мне, Миколай Алексеич, дружок любезный, надолго пришла она, эта Советская власть?
— Думаю, Иван Никифорович, да и Алексей мой того же мнения, — навсегда. А ты что, не веришь?
— Не знаю… — Отец замолчал. Потом, не поднимая от стола головы, проговорил хмуро: — Если такая власть начнет тянуть у казаков по сто коней, как бы не всколыхнулись казачки за свое доброе…
Так и случилось. Спустя несколько дней нагрянули с гор в конном строю казаки, разогнали ревком и поставили атаманом казака-татарина, сына местного станичного муллы. Мятеж возглавили Полубояровы и офицер Клюквин. Будучи родственником полковника Карабельщикова, он прибыл с семьей в станицу и затаился, ожидая своего времени. В тот же день Клюквин в сопровождении нескольких казаков приехал к Никифоровым во двор.
— Раз сына не пустил, отдавай лошадь. Под командира сотни хороший конь нужен, — сказал он.
— Если хотите Мухорку, нет его… — Предчувствуя недоброе, Иван накануне отправил Михаила верхом на Мухорке в дальний аул к знакомому киргизу. Среди степняков у него было много друзей.
Под рев и крик всей семьи подседлали и увели Лысманку.
Сотня мятежников, не имея определенного плана, блудила по хуторам, брала фураж, спускалась с гор то в Губерлинскую станицу, то в Подгорную, посылала своих делегатов в низовские станицы. Те обещали на сходках поддержку, но выступили казаки лишь двух станиц — Верхнеозерной и Красногорской.
Вскоре стало известно, что от Орска на усмирение мятежников идет отряд Красной Армии под командованием какого-то Николая Каширина. В горах заухали раскатистые выстрелы. Раньше о войне знали только понаслышке, а теперь она к домам подступала. Поползли тревожные, бередящие душу слухи: одного зарубили, другого застрелили в тугае — и все свои, знакомые.
У каждого крыльца толпятся бабы. Руки под фартуками, глаза выпучены.
— Резня сплошная. Никого не щадят, ни малых, ни старых. А с девками что творят! Сохрани бог!..
У Никифоровых мать и тетка так были напуганы, что решили девчат на хутора отправить.
— Сидите дома и меньше слушайте брехню всякую, — сказал отец. А сам тоже не находил себе места-то в амбар побежит, то опять в избу вернется. А тут еще из аула Михаил приехал и своими разговорами всех переполошил.
— Красногорцы, озернинцы — не вояки… У них и винтовок-то одна на пятерых. А у Каширина и пулеметы, и пушки. Поставит возле пещерной горы батарею, да как даст…
— Что же будет? — с ужасом спрашивал Илюшка.
— В дом попадет — и вдребезги. Валится все кругом…
Узнали как-то вечером, казаки идут низовские на помощь. Мальчишки, конечно, первыми хлынули за околицу. У мостика, на взлобке, народ собрался кое-какой. Над головами церковная хоругвь, на ней белый конь Георгия-победоносца на шелковых тесемочках мотается. С иконами встречать вышли. Над станицей тишина нависла, даже петухи перестали горланить.
— Едут! Едут! Спасители наши! — запричитала какая-то тетка. Впереди метнулось облачко пыли. Длинная стежка темных всадников уже спускалась с первой крутенькой горки, как вдруг где-то совсем близко ударил длинный раскат грома. Ближние горы загрохотали, заухали, будто раскалываться начали. Строй приближающихся всадников мгновенно сломался и рассыпался на глазах.
— Батарея! — заорал Илюха во всю глотку и что есть духу помчался назад. Бежал, оглядывался на дома и с охватившей жутью все ждал, когда они начнут разваливаться…
Лишь дома узнал он, что с пещерной горы ударил всего-навсего один пулемет каширинцев и обстрелял сотню красногорцев. Они отстоялись где-то в ближнем овраге и только сумерками въехали в станицу, выстроились на площади, помаячили редким частоколом старых пик и разъехались на отведенные для них квартиры. К Никифоровым тоже двоих казаков поставили. Один, рыжий, добродушный, был безоружный. С пустой торбой в руках он ходил по двору вслед за матерью и клянчил:
— Насыпала бы, хозяюшка, еще маленько.
— Ты же скормил одну долю?
— Уморился маштак-то мой… Путь-то вон какой!
— Чего же с пустыми кабурчатами ехал? — спрашивала мать, насыпая по доброте своей еще долю овса.
— Брал малость, да скормил.
— Ни ружья у тебя, ни шашки… С чем воевать-то будешь?
— Сдали мы тот раз оружие… Вилы бы какие дала, хоть старенькие. Может, с одним рожком есть? Дай, которые не жалко.
— Эх ты, вояка! Нету у меня ни с одним рожком, ни с двумя. В коноводы просись.
— Да уж придется.
Рано утром всех, как молнией, пронзило известие:
— Бьются у татарских могил!
Забухали выстрелы, Илюшка подскочил к окошку. По улице проскакали несколько казачьих коней. За плечами у всадников коротенькие винтовки болтаются, ремешки от фуражек на подбородок опущены.
— Ради бога, уйди от окошка! — зашептала мать.
В ворота уже кто-то барабанил.
— Не ходи, Ванюшенька! — умоляющим голосом просила мать.
— Казаки же! Или ослепла?
Отец вышел во двор. Илюшка за ним. Остановился на крылечке. Солнце присело на поветь — прямо на старый, зимний окладок сена. Зажмурился от яркости. Открыл глаза, а во дворе уже два чубатых казака. Оба сидят на больших запотевших конях и о чем-то спокойно с отцом разговаривают. На них все самое обыкновенное, казачье — и шашки, и лампасы на штанах. Только на фуражках вместо кокард алели красные ленточки. Выговор тоже твердый, окатистый, под стать губерлинскому. Овса требуют.
— Насыпай в телегу и вези на площадь, — сказал отцу казак, у которого был гнедой белоногий конь.
— Сколько надо насыпать?
— Не жалей, папаша. Мы лишнего не берем.
— Сын-то небось беляк? — спросил второй, с пышными светлыми усами.
— Сын в ауле.
— Почему не в сотне?
— Не пустил.
— Кто это его не пустил?
— Я, отец.
— А не врешь?
— Ты сам в сыны мне годишься, чтобы враньем попрекать. Больно умен. У шабров вон спроси.
— Правда, не пустил. Хоть кого спросите, родимые! — раздался голос матери.
Она неотступно следила за отцом и, как только он начал задираться, очутилась рядом.
— Попить бы, тетушка, принесла, — попросил казак на белоногом коне. Илюшке он показался добрее светлоусого.
— Милости просим. Сейчас квасу нацежу. А может, молочка холодненького?
— Лучше квасу.
Пока она бегала за квасом, отец со светлоусым до всяких подковырок дошли. Нацедив квасу, Анна Степановна возвращалась из погреба и в сенцах наткнулась на Пелагею Малахову. Та бах ей новость: троих наших делегатов, что красногорцев поднимать ездили, поймали на Саринском шляху и зарубили, а сына муллы — атамана нового — посекли каширинцы на Татарской поляне. За Урал хотел убежать…
— А сердитый у тебя, тетка, хозяин-то, — сказал светлоусый и тоже выпил квасу.
— Он только с виду сердитый, — принимая ковшик, ответила мать.
— А мы на таких сердитых даже воду не возим… Давай сыпь овес, а сам айда на митинг. Да не жди, чтобы плеткой погнали…
— Не дорос еще махать на меня плеткой.
Отец огрызается, а у Ильи с матерью сердце в комок. А светлоусый все с ухмылочкой гнет свою линию. Ему что? У него за плечами трехлинейка, в кобуре рукоять револьвера, витым темляком взнуздана. Выхватит — и поминай как звали…
— Ванюшенька, ради бога, прошу тебя! Детей наших пожалей! Не слушайте его, товарищи станичники, родные мои! Выпивши он!
— А-а-а! — засмеялся светлоусый. — Значит, у тебя и винцо есть?
— Если для хорошего человека… В Орске оно, милое, прямо из чанов ручьями бежало, — сказал отец.
— Попользовался, стало быть?
— За свои, кровные…
Когда по станицам прошел слух, что в Орске громят винные склады, отец с Илюшкиным крестным махнули за дармовым вином. День и ночь скакали, а поспели к шапочному разбору. Все вино уже было растащено, да так — по бесшабашности, как говорил крестный — зазря разлито… Купили у торгашей сколько могли. Один бочонок у матери в предбаннике, в кизяках спрятан был. К свадьбе Манькиной берегли.
«А вдруг этот задира усатый развалит кизячную кладку?» — подумал Илья, но тут же решил, что не сообразит все-таки. Они с матерью аккуратно ее кизяком заклали…
— Так говоришь, для хорошего человека не жалко? — опять подковырнул тот задира.
— Не вяжись к словам, — отмахнулся отец.
— Ладно. С митинга мы к тебе в гости заскочим, — проговорил усач и, вроде бы подобрев маленько, попросил еще квасу.
4
…Пока Илюшка с матерью овес в мешки насыпали, отец лошадь запряг. Втроем свезли они овес на площадь и в обоз сдали. Мать на пустой телеге обратно погнала. Наказала Илюхе, чтобы от отца ни на шаг не отлучался и с митинга прямо домой. А на площади войск столько — дым коромыслом; конные и пешие впритирку, и почти все казаки с лампасами на справных конях. Станичные бородачи держались все вместе и косо поглядывали на казачью Красную гвардию. Со стороны посмотреть на них — смех один и срамотища. Самую что ни на есть рвань на себя напялили. Отец, как увидел в толпе крестного, так и ахнул.
— Ты что, кум?
— Бес попутал, едрит твою налево, — зашептал крестный. — Так обмишулились, от стыда зубы ломит…
Степан Иваныч брезгливо посмотрел на свой пиджачишко, которым вот уж сколько лет суягных овец утепляли да мокрых ягнят завертывали, пока по морозцу в избу несли. На брюки тоже смотреть было тошно — в навозе кизячном, и одна штанина короче другой.
— Ну и ну! — покачал головой отец.
— Будя уж… Идем поближе. Сейчас ихний командир Каширин речь начнет говорить. Два брата их тут, и оба из казачьих офицеров. А вишь Красной гвардией командуют. Вот, поди, и раскумекай…
Протиснулись к сколоченному на скорую руку возвышению, где уже стоял высокий, плечистый, в кожаной куртке начальник отряда Николай Каширин и пушил бородачей разными словами:
— На что толкнули сыновей своих? Против кого? Против народной власти, против революционной Красной гвардии?
Его голос гудел на всю площадь. Смущенные станичники бормотали хором:
— Виноваты! Сами видим. Не казни! Помилуй! Ни коней, ни седел не пожалеем!
— Теперь мы ваших дурошлепов сами спешим. Чтобы без всякого промедления возвращались в станицу и сдавали оружие. Не тронем мы их. Слово даем! Не вернутся, пусть потом пеняют на себя. Пощады не будет!
Словно в знак согласия кони вскидывали косматые головы, помахивая ими, звенели удилами. За последними конскими хвостами к стенкам крайних домов жались бабы. Всхлипывая, они прикладывали к глазам беленькие платочки, иные широко крестились — решения ждали для своих муженьков.
Каширинцы простояли два дня, взяли несколько лошадей с седлами и двинулись к Оренбургу, устанавливая в каждой станице Советскую власть.
Без шума и гама, прокрадываясь, как воры, начали по ночам возвращаться местные горе-вояки.
Вернули домой вконец измученного, исхудавшего Лысманку. Его едва узнали. Так и не поправился общий любимец и вскоре околел. Плакали всей семьей. Не было больше такой смирной и покорной лошади. Из киргизского табуна пропали две старые дедушкины кобылицы. Пастухи сказали, что взяли их убегавшие в степь офицеры. Исчез и Клюквин. Его долго искали ревкомовцы, но так и не нашли.
Мятежников Советская власть простила.
5
Во всех станицах, начиная от Оренбурга до Орска, было спокойно и тихо примерно до июня 1918 года. Где-то за Оренбургом, в башкирских степях и под Верхнеуральском, шла война, но Петровской она пока не коснулась, да и казаки обожглись на мятеже. Образумленные каширинцами, они поняли, что сваляли дурака, и теперь рады были, что легко отделались… Оплакали и похоронили зарубленных. А на месте, где все это произошло, родственники поставили огромный дубовый крест.
Приближалась троица. Сыграли несколько свадеб и стали к сенокосу готовиться. Луга уже были поделены, и по новым законам Советской власти каждая живая душа получила свой пай, даже титешная… любого пола.
Казаки уже начали было выкатывать из амбаров сенокосилки, как вдруг, словно дым по степи, потянулся опять тревожный слух: «За рекой Буртей показалось конное войско».
Разговор этот Михаил с отцом вели за обедом, а вечером к ним зашел Николай Алексеевич Амирханов. Они присели на каменный приступок возле амбарушки и стали шептаться. Илюшке уже шел тринадцатый год, ко всем событиям они с Санькой Глебовым начали проявлять горячий интерес. Подслушивать разговор взрослых было нельзя, но Илюха сделал вид, что играет в бабки, а сам, как заяц, навострил уши.
— Приезжал дружок мой Жумагул. Видел, как они расположились около озера, кругом пулеметы выставили. У Беркутбаевых взяли триста баранов и несколько голов рогатого скота. За все заплатили николаевскими деньгами, — рассказывал отцу Николай Алексеевич.
— И когда же они успели подойти?
— Ночью, говорит.
— И много их? — допытывался отец.
— До черта. Несколько тысяч.
— Ого! И когда успели набрать столько?
— Верхние станицы поднялись, да и второотдельцы на коней сели…
— Не казнятся, что столько пролили кровушки?
— Продразверсткой недовольны, то да се…
— Без этого в такое время разве обойдешься? А дутовцы придут, тоже скажут — вези овса…
— То-то и оно, что от господина Дутова добра не жди. Наоборот! — уже совсем громко проговорил Николай Алексеевич.
— Само собой! — вздохнул отец. — Припомнит, как его арестовали…
— Уж конечно, не забыл!
— Тебе, Миколаич, подумать надо…
— Сегодня до рассвета думали…
— Уехать надо покамест.
— Алексей уже на хутора направился.
— А сам-то ты?
— Остаюсь.
— А не зря?
— Двум смертям не бывать…
— Тоже верно.
— С казаками нашими поговорить бы надо.
— О чем?
— Чтобы не клюнули на удочку господина Дутова. С черным делом идет наказный. Да какой он наказный! Холуй господина Керенского. Продовольственный, видите ли, комиссар… Боюсь, как бы не взбулгачил он казачков наших. Ты, Иван, подумай насчет этого.
— Подумаю.
Они простились и разошлись.
О том, что Дутов не наказный атаман, а какой-то комиссар, у Ильи гвоздем засело в голове, но дальше было уже совсем непонятно: братья Каширины — кровные казачьи офицеры — за красных, а Дутов, комиссар, — за белых?..
Своими сомнениями Илюха немедленно поделился с Санькой Глебовым.
— А может, ты врешь?
Илья побожился.
— Никому больше не болтай, — сказал Санька и побежал домой.
На другой день, едва успели проснуться, стало известно, что ночью в станице побывали дутовские разведчики, подняли с постели кого-то из Полубояровых и увели с собой.
— А может, сами усвистали? — предположил Санька.
Опять по станице смятение пошло. Раньше хоть Саптар на трубе гудел, будоражил и малых и старых. Теперь на перекрестках одни бабы гуртовались и судачили на разные лады. А казаки, как тараканы перед холодом, расползлись по щелям. Брат Михаил в горнице при закрытых ставнях на кровати прохлаждается, отец в завозне пыхтит со старым хомутом, который уж давно надо было выкинуть.
Прибежал Санька Глебов и свистнул за воротами. Илюха к нему через крыльцо уличное выскользнул, чтобы мать не увидала.
— Бежим скорее, — едва переводя дух, зашептал Санька. — Через брод переправляются видимо-невидимо и конны, и пеши.
Они помчались туда как рысаки. Выбежали на Татарскую поляну, а там уже, начиная от старой кузницы чуть ли не до мечети, часовые со штыками, привинченными к новеньким трехлинейкам, — юнкера безусые в фуражках с кокардами, в синих брюках бутылками, с желтыми полосками грязных лампас.
Брод находился прямо за кузницей, и ребята как раз подоспели к тому времени, когда начали переправляться конные. Много конных.
На берегу около перевернутых вверх дном паромных лодок стояли несколько татар. При приближении кряжистого, темнобородого всадника они стащили с бритых голов тюбетейки и поклонились ему.
— Сам атаман Дутов, — прошептал кто-то из них.
Тонконогий, поджарый конь рыжей масти первым ступил на звенящую под копытами гальку. На Дутове была голубоватого цвета косоворотка, подпоясанная узеньким наборным ремнем, на котором висел маленький револьвер в мягкой кобуре. Всем своим видом он смахивал на местного казака Полубоярова: широкое, как у монгола лицо, густо заросшее темной бородой, казачья, помятая, совсем не форменная фуражка на крупной, лобастой голове. Рядом с ним ехала молодая черноглазая женщина в юнкерских брючонках, повязанная серым платком, с торчащими, как рожки, кончиками.
— Здравствуйте, казачата! — крикнул Дутов и приложил к виску руку в перчатке с повисшей нагайкой.
Мальчишек собралось на переправе более десятка, и они дружно ответили ему так, как их приучили в школе.
Переправившись, конные перестроились на ходу — справа по два и двинулись к станице.
6
Дутов со свитой остановился в доме Вахмистрова, а все его войско — около трех тысяч человек, главным образом офицеров, юнкеров и кадетов, — заняло базарную площадь и прилегающий к ней конный плац.
Морил июньский зной. Пешие беляки жались в тень казенных амбаров. Конные сошли с седел и держали лошадей под уздцы. Опять пронзительно запела сигнальная труба, по улицам скакали верховые, колотя по закрытым ставням черенками нагаек — требовали, чтобы все жители от мала до велика шли на сходку.
Илюшка на минутку забежал домой, рассказал, как встречали у брода Дутова, ухватил кусок хлеба и вместе со всеми пошел на плац. В самом центре, маяча штыками, выстроились в две шеренги отборные офицерские роты, на флангах — взводные колонны конных сотен. В числе пеших в первой шеренге все узнали двух офицеров Карабельщиковых. Роты стояли лицом к станичному управлению. Вдруг шеренги дрогнули и раздвинулись. Рослые юнкера выкатили несколько станковых пулеметов и направили стволы их на собравшихся стариков и баб с ребятишками на руках. Небритые, с растрепавшимися чубами служилые казаки замерли.
— А ну, дальше от стола! — крикнул кто-то хриплым голосом.
Прямо в центре площади стоял маленький стол на точеных ножках. На нем что-то лежало, накрытое белой скатертью. После сердитого окрика около стола остались только самые старые бородатые станичные казаки с медалями на допотопных мундирах. Пешая рота, где стояли братья Карабельщиковы, опять внезапно расступилась, и в образовавшемся проходе взвилось знамя; чуть впереди без фуражки стоял атаман Дутов, увешанный крестами и медалями, с серебряной атаманской насекой в руках. Знамя нес лохматый казак с урядницкими лычками на погонах и с двумя крестами. Охраняли знамя два офицера с шашками наголо. Дальше весь проход занимали разномастные офицеры с блестевшими на солнце кокардами и погонами.
Два местных бородача, несмотря на свою дряхлость, проворно сдернули скатерку, и народ увидел большой белый калач и синюю, похожую на лампадку, солонку.
При появлении Дутова с регалиями наказного атамана люди притихли, и даже разомлевшие на жаре ребятишки перестали кричать. Слышен был лишь всхрап коней да звон стремян.
Один из бородачей взял в руки поднос и засеменил к Дутову. Весь облик белогвардейского атамана поразительно изменился. Это был совсем не тот человек, добродушно махавший ребятишкам плеткой во время переправы. Гневно насупив косматые брови, он отстранил бородача с подносом, шагнув к столу, резко стукнул насекой о землю. Слова его заглушили бабьи выкрики:
— Хлеб-соль не принял! Господи Иисусе! Святый боже!
Люди, наверное, по старой рабьей привычке, как по команде, упали на колени. Ребятишки тоже плюхнулись вслед за остальными, настороженно прислушиваясь к сердитым, отрывистым словам Дутова. Чем гневней становилась его речь, тем громче всхлипывали бабы, а за ними взвыли и дети. Илья не помнит, сколько времени это продолжалось. Дутов все же взял хлеб, перекрестил и передал стоявшему рядом офицеру. Пошептались о чем-то.
— Слава те, господи, вроде простил, родимец, — снова закудахтали бабы.
Дутов расправил бороду и опять бухнул насекой о землю, крикнул громко:
— Кто старое помянет, тому глаз вон!
Пешие шеренги колыхнулись. Офицеры дружно вскинули винтовки и на плечи повесили. Седой вислоусый войсковой старшина Лукин приказал всем станичным казакам выйти из толпы и построиться. С унылым, покорным видом казаки медленно выходили из пестрых бабьих рядов. Набралось их больше сотни. Войсковой старшина без всякой команды гуртом погнал их к сборной. Брат Михаил и будущий зять Степан тоже были среди казаков.
— Теперече уж не отвяжутся, язвить их в душу, — сказала Настя, перекладывая ребенка с руки на руку.
Сызнова начались причитания, ругань. Бабы и ребятишки толкнулись было вслед за казаками, но юнкера оттеснили их без всяких церемоний и велели по домам расходиться.
Отец пришел только к вечеру. Снял новую фуражку и не на гвоздь повесил, как обычно, а на лавку швырнул. Значит, не в духе…
— Поужинать собрать, чо ли? — тихим, робким голосом спросила мать. Ее страх перед отцом и покорность всегда приводили Илюшку в уныние. Он забивался куда-нибудь в угол и с трепетом ожидал грозной отцовской вспышки.
— Погоди. Не до еды. Где Настя? — озабоченно спросил он.
— В горнице ребенка качает. А чо?
— Миньке подорожники надо собирать, вот чо!
— Господи! — Мать перекрестилась. Смахнула концом головного платка слезы. Лицо ее как-то сразу постарело. На нее было жалко смотреть.
— Ладно. Не причитай, и так тошно. Позови сноху. Надо все собрать. Подорожники испечь. Выступают рано, по холодку.
Наутро провожали целую сотню казаков. Кони пылили на шляху, а люди с ревом бежали по обочинам чуть не до второй крутенькой горки.
7
Ни одно лето не было таким унылым и тоскливым. В станице не слышно ни одной песни. Все с ужасом стали ждать казенных писем и гробов. Говорили, что фронтовые казаки не очень охотно лезли под красногвардейские пули. Зато к осени белые подчистую забрали весь молодняк. На плацу ежедневно происходили учения. Парни рубили лозу и кололи тряпичный шар. Ребятишки бегали смотреть на эту рубку, торчали у казенных амбаров часами.
Как-то вечером, прямо с учения, зашел крестник Илюшкиной матери, отцовский племянник Вася Ингин. При нем была всамделишная казачья шашка. Вася поставил ножны меж колен, а руки в пуховых перчатках на эфес положил. Мать поставила перед ним тарелку и прямо с горячей сковородки блин кинула.
— Слышь ты, казак, фуражку-то хоть сними. У нас вон иконы в переднем углу, — сказала тетка Аннушка. — Шашку тоже на стенку повесь. Не украдут небось твое добро…
Казак стащил с косматой головы фуражку, снял перчатки и, прежде чем отстегнуть портупею, на Илюху взглянул. Наверное, по себе знал, что тот потянется к его добру… Положил всю свою справу на лавку и сразу же превратился в славного веселого Васятку с коротеньким, неухоженным чубиком. Ел блин, а масло вытирал с губ рукавом старенького, потрепанного пиджачишки.
— Ешь, ешь… Спросить тебя хочу, — намасливая гусиным пером очередной блин, говорила тетушка Анна. — Неужто, Васятка, сможешь и ты живого человека срубить?
Васятка испуганно заморгал круглыми глазами и положил надкусанный блин обратно в тарелку.
— Я и то могу, — подал свой голос Илюха, пытаясь вытащить из ножен густо смазанный клинок.
— Тебя только и не хватало. Васятка, отними у него шашку и положи на место, — напустилась тетушка.
— Дайте гостю поесть! — вмешалась мать. — Ешь, Вася, больше ешь. В сотне-то блинков не получишь…
— Господи, куда только берут таких мокрогубых? — сказала тетушка, когда Вася ушел. — Какой он казак? Ему мать все еще сама уши моет… Разве он может человека срубить? Телок телком… Чует мое сердце, снесут ему головушку…
Молодых казаков обучили наспех и влили в первый Оренбургский казачий полк белой гвардии.
Как-то ушел отец с утра и не приходил почти до самого вечера.
Когда вернулся, в избу не сразу зашел. В окошко видели, как он то к амбару пойдет, то назад вернется, то посреди двора остановится, словно потерял что…
— Трезвый вроде, — проговорила мать.
— А может, с Минькой что? — встревожилась Варька. Уж лучше бы она этого не говорила! Лицо матери стало белее муки.
Наконец отец вошел, ни на кого не глядя, вяло и нехотя сел на скамью. Долго потом гремел рукомойником. Вытер полотенцем руки, подошел к столу и достал из кармана косушку водки.
— Вроде не праздник… — Мать едва сдерживала слезы.
— От Маши я, от Ингиных. Беда у них.
— Да что ты, Ванюша!
— Казаков наших молодых — первый Оренбургский — большевики под Шарлыком прижали и в Салмыш-реку сбросили. Плыли, кто уж как мог. Вояки! Ну и не выплыли многие… Среди них и Васятка Ингин… За какого-то Дутова…
Отец поспешно вылил в рот водку, сутулясь, наклонил голову, продолжал:
— Маша чуть руки на себя не наложила…
Мать качнуло к печке. Илья успел подхватить ее и помог сесть на лавку.
Она не плакала, а зябко дрожала всем телом. Отец встал и насильно заставил ее выпить глоток водки. Мать вроде отошла маленько и трястись перестала, а Илюшку держала возле себя.
— Еще новость есть: Миколая Алексеева с Алексеем арестовали и на станцию увезли.
— Да ведь их и дома-то не было! — сказала мать.
— На хуторе или у знакомого мужика. Доказал кто-то…
— Что же им теперь будет?
— За большевиков считают… Добра не жди…
— Неужто и с ими лихо сделают? Да какие они большевики, господи?
— Большевики ли, кто ли. Не в том суть. Главное, казаков нет своих, заступиться некому.
Спать легли в тот вечер не ужиная и даже лампу не зажигали.
Жутко было без огня. Девчонкам все гробы мерещились. Их привозили на скрипучих телегах, запряженных ленивыми круторогими быками. Детей особенно поразила смерть Васятки Ингина. Ведь он совсем недавно катался с ними на салазках с крутой горки, сбегавшей прямо к Уралу. Дети перешептывались в темноте, жались друг к другу, словно цыплята, и долго не могли заснуть. Как всегда, летом все спали в больших сенях. Илюшку разбудили шум и беготня в кухонном коридоре. Поднял он от подушки голову и в полуоткрытую дверь увидел отца. Весь в белом, он держал лампу над головой. Тусклый свет выхватил темнолицую фигуру казака с лохматым клочком чуба под козырьком фуражки.
Лицо знакомое, свое, близкое, только усики растопыркой — чужие. Не то явь, не то сон тревожный… Свет померк. Голоса смолкли за кухонной дверью. Илюшка нашарил в темноте брючишки, надел — и туда. Только он за скобу взялся, а навстречу отец.
— Вскочил уж! Иди, иди, поцелуйся с братом. — Отец прямо-таки раскис от радости. Значит, не сон, коли Илюшку вдруг обнял и казенным запахом с ног до головы обдал неповторимый дух седельной кожи, дегтя, карболки и конского пота.
В кухне зажгли сразу две лампы и фитили открутили до отказа. Веселее стало в избе; в углу над столом засветилась икона, у печки радостно загудел в трубу большой семейный самовар. Высокая, статная, в белом платке Настя прилаживала на полотенце табунок яичек. Около стола хлопотала мать — она то калач начинала резать, то совала в руки Михаила полотенце, но тут же роняла его и снова обнимала сына и никак не могла выплакаться. Илюха занял свое любимое место на печке и украдкой вытирал слезы теплой старой варежкой.
Со двора вернулся отец. Он расседлал Мухорку и задал ему корм. Сел рядом с Михаилом. Закурили. Брат давно уже не прятался и курил вместе с отцом.
— Что же вы всей сотней снялись? — часто затягиваясь цигаркой, спросил отец.
— Не токмо мы одни…
— Кто же еще?
— Никольская сотня, подгорненцы, губерлинцы.
— Ну а дальше как? — допытывался отец нетерпеливо.
— От всех сотен послали выборных к командиру полка. Миколай-то Алексеевич — писарь четырех станиц.
Илюшка долго не мог уловить, о чем шла речь, и только под конец понял, что, узнав об аресте Амирхановых, казаки решили выручить их.
— Ну а командир как вас приголубил?
— Он не дурак, чтобы наперекор идти. Шутка сказать — четыре сотни!
— А если бы он вас прогнал, тогда что?
— Что тогда… Мы уж были наготове. Снялись бы…
— Куда бы вы подались?
— Нашли бы местечко…
— К большевикам, что ли?
— Что вы, папаша, все его пытаете? Поесть не даете… — вступилась Настя. Умница она была. Почуяла, что разговор круто загибается!.. Отец тоже вовремя спохватился. Поднял голову, зыркнул на Илюшку темными зенками и пригрозил:
— Смотри у меня, только пикни где!
— Мне-то что? — Илюха с обидой опустил голову и перекатился к трубе, но и оттуда слушал в оба уха.
— Время, тятя, наступило такое…
— Табак время. Бьют вас большевики.
— Пехота у них сильная. А мы не больно в охотку лезем…
— Кому охота! Вон под Салмышом полезли…
— Набрали сосунков и перетопили.
Вошла мать и позвала всех за стол. Илюшка тоже слез с печки. Брат подмигнул ему. Радостно было, что тебя за большого начинают считать…
— Как же с Амирхановыми? — прихлебывая из блюдечка чай, спрашивал отец.
— Разрешили взять на поруки. Поручилась вся сотня.
— Это вы дельно придумали.
— Свои же! И так столько крови, захлебнуться можно.
— Об чем разговор! Дома-то как ты очутился?
— Дядю Миколая с Алехой проводить вызвались, чтобы… Сейчас зверья всякого развелось, мало ли что может быть…
— Тоже верно. Своя охрана надежней. А как поступить с ними велено?
— Доставить сюда и сдать атаману под особый догляд…
— Значит, привезли в станицу?
— Мы что, дураки?
— И где же они теперь?
— В ауле, где-нибудь в степи…
— Вы что же, сами их переправили?
— От Никольской той стороной Урала шли. На хуторах простились.
— Умно, умно!.. Кто же у вас был самым главным умником?
— В сотне Алексей Глебов, а дорогой другой Алексей — Амирханов. Эх, в баньку бы!
— Что же молчал! Уж давно бы топилась, — укорил отец. — Ты домой-то надолго?
— Отпросились у сотника до утра.
— На вот тебе!
Разом все всполошились. Мать за ведра, Настя за коромысло, а Илюшка бегом кизяки таскать.
Рано утром брат уехал. Илья не провожал. Проспал.
8
Все лето дутовцы простояли под Оренбургом, а взять так и не смогли. Дальше Менового двора красные их не пустили, а зимой погнали без остановки к Орску, потом к Троицку и еще куда-то дальше. Отца тоже угнали, и он второй месяц где-то скитался с отступающими обозами. Однако подвод все равно не хватало. Белые вынуждены были бросить много снарядов, патронов и военного снаряжения. Чтобы удирать налегке, ящики с боеприпасами спускали ночью в нарочно пробитые на Урале проруби и засыпали снегом. Мальчишки об этой проделке тихонько разнюхали и потом воспользовались на свой лад…
Вся зима была какая-то суматошная, наполненная бог знает какими слухами про большевиков. Илья не верил этому и начал «отбиваться», как говорили про него, «от рук». Пока отец был дома, он продолжал ходить в школу и много читал. За зиму он заметно повзрослел и окончательно возненавидел повседневные дела по хозяйству. Делал все не так, огрызался, когда упрекали в нерадивости, вызывая со стороны отца жестокий и беспощадный гнев.
Так продолжалось до половины зимы, пока отца не взяли возчиком на подводы и не ранили брата Михаила. Три дня дома выли, как по покойнику, больше всего оттого, что остались одни женщины — восемь юбок — и один Илюха. Со школой пришлось распроститься.
В конце 1918 года во время большой перемены Прасковья Григорьевна собрала все четыре класса и сказала на прощанье, что Илья самый прилежный, аккуратный и начитанный ученик, достойный похвального листа. Но поскольку листы эти были с царским орлом, их уже не выдавали. В знак поощрения она подарила Илье толстую книгу, сочиненную господином Загоскиным. Очень приятно было получить подарок и слушать такие хорошие про себя слова, тем более что они долетали до ушей и Маши Ганчиной. Навсегда запомнился этот день. Домой отпустили раньше. Илья шел по тихому, безлюдному переулку и мучился, что Прасковья Григорьевна не знает своего ученика. Никакой он не прилежный — ленится чистить навоз, ухаживать за скотиной, может бросить посреди двора лопату или метелку и на целый день ускользнуть из дому, чтобы где-нибудь проваляться с Санькой Глебовым на повети и говорить черт знает о каких делах…
В зимнюю длиннющую ночь, чтобы много не жечь керосина, прямо с вечера залезают ребята на кошму под шубы. Лежат пять головенок и крутятся — то лбами стукнутся, то пинаются голыми ногами. Утихают лишь после грозного окрика. Если у Ильи есть желание, он начинает разговор первым:
— Чищу я сегодня назем в коровьем хлеве…
Коровник у них пристроен к бане, чтобы скотине теплее было. С трех сторон каменные стены, с четвертой плетень, обмазанный глиной. Ну а где баня, там уж всегда и нечистый…
— Выкинул назем, натаскал для подстилки соломы и вдруг вижу, из предбанника выходит черный-пречерный котище! Глаза — во! Усы — во!
— Миронихин? — спрашивает Шурка.
— Куда там! Миронихин!.. Этот большущий, ноздристый, а из ушей седые волосы пучками торчат. Выше нашего Мальчика ростом…
Мальчик — собака-дворняжка. Ее притащил Илюха еще кутенком. Теперь это добрейшее и ленивейшее существо.
— Ползет, крадется через порожек на своих голеньких лапках…
— А почему голеньких?
— Потому что лапки у него не кошачьи, а жабьи. И голова, как у филина, глазастая, а усы вахмистровы…
Фантазия Илюшки была неистощимой, и часто ему было обидно, что все это считали только враньем и не видели в грезах того, что видел он сам.
— Ну тебя ко псам с твоим котом. Выдумщик! — скажет, бывало, Саня.
А выдумщик лежал уже на отдельно постланной ему кошомке, натянув до подбородка отцовский бараний тулуп, гладил мягкую шерсть, думал о самом несбыточном — о той красоте, которая была рядом: это пахнущая хлебом земля, это цветы в степном разнотравье, жаворонок над головой в синем безоблачном небе, грачи в теплой борозде, звонкая, нагретая солнцем галька на берегах Урала, сказочный розовый закат.
И вдруг, как кнутом хлестнула, каркнула вороньим голосом Варька-ехидина:
— А у Нюрки есть зазноба…
К выходкам сестры привыкли, и поначалу ей никто не ответил.
— Мавлюмка-скрипач… — продолжала Варька.
— Замолола, дуреха! — одернула ее Мария.
— И не мелю! Своими ушами слышала, как вы в бане шептались…
— Выдумывает тоже! Он же татарин… — пыталась образумить сестру Шурка.
— И большевик, — послышался голос Марии. Она живет думами и помыслами своего жениха Степана.
А у Варьки свой резон:
— Ну так што? Минька наш тоже большевик, самого Дутова за грудки хватал!
— Если ты, холера, не замолчишь, я тебя башмаком огрею! — разозлилась Мария. — Об этом никто не вспоминает, одна ты, чертова дура!
— Ох, Варька! Мне подумать страшно, а ты… — шепчет Шура.
А Варьке хоть поп по деревне и дьякон по селу, она свое:
— Я дура, да? Сами вы халды! Думаете, не слыхала, как вы кукарекали: «Ах, какие глаза, ах, чуб, ох, кресты на мундирах, ой, как выводит на скрипочке!..» Каждый вечер бегали, все подоконники обтерли… Все знаю, все! И под окошками торчали, жалели сиротиночку…
Мавлюм и на самом деле рос сиротой. Мать умерла во время родов, как это нередко случалось в станице. С детства тихий синеглазый мальчишка пас с отцом Ахметшой конские казачьи табуны, рано научился владеть конем и играть на скрипке. Играл так умело и ловко, что зимой его приглашали веселить гостей на именинах, свадьбах. Как водится, девчонки прибегали поглазеть на жениха и невесту и невольно заглядывались на веселого, чернобрового скрипача.
С войны вернулся Мавлюм рослым, чубатым, гвардейского вида казаком с двумя Георгиевскими крестами. Днем заседал в ревкоме, а по вечерам еще звонче, задушевнее пела его скрипка и так хватала за сердце, что Илюшка сам не раз приходил слушать.
Поговорили, поругали Варьку и наконец умолкли. Под редкий на улице собачий лай в темноте властно подкрадывался сладкий девичий сон.
Вот всхлипнула, забормотала что-то во сне самая меньшая сестренка. Засопела носом Варька. Задремала и Санька, поглаживая уже довольно вместительный, самолично сшитый лифчик. Недавно длиннющий, со светлыми волосами, неуклюжий, как дылда, Афоня Викторов во время игры в горелки догнал ее, схватил и так надавил груди, что пришлось их в лифчик упрятывать… Зовут ее тетехой, а она добрая и скрытная девочка. Умрет, а не проговорится о своей маленькой тайне.
Сон примирил девчонок, все вроде бы угомонились, притихли, только Аннушка съежилась под одеялом, поджала коленки к подбородку, вздыхает, сжимая ладонями пылающие щеки. Звуки греховной татарской скрипки назойливо слышатся в ушах — хоть бери их и отрезай…
— Чо не спишь? — шепчет Мария.
В ответ слышится лишь протяжный вздох. И снова бодрый, как ни в чем не бывало, каркающий голос Варьки:
— Притворяется, будто дрыхнет, а сама вздыхает, вздыхает…
— Ох, Варька, змея подколодная! И в кого ты только уродилась такая! — послышался из темноты голос Аннушки.
— Ну, нечистая сила! Сейчас я тебя угомоню… — Мария шарит рукой в темноте, ищет башмак и не находит.
А Варька уже захрапела.
— Неужто по своему басурману вздыхаешь? — шепотом спрашивала над самым ухом Мария.
Аннушка не ответила.
— А знаешь, что большевички-то творят?
— Вранье. Спи… Привыкла сказки слушать… — строго сказала Аннушка.
9
Детям в ту зиму было не до игр и сказок. Отступая, белогвардейцы распространяли о большевиках такие злобные и нелепые слухи, что волосы шевелились под шапкой, хотя в станице тоже было несколько большевиков, но это были свои, казацкие… До этого из «чужих» приходилось видеть только каширинцев-красногвардейцев. И в этом отряде главным образом были казаки с Верхнего Урала — второй и третий отделы Оренбургского казачьего войска. Не верилось, что все они имели полное касательство к большевикам… Такое предположение исходило от женщин. Теперь они хозяйничали в станице. Почти все мужское население ушло на войну — одни служили белым, другие — вроде Алексея Глебова — красным, третьи — больше всего старики — месяцами ездили в подводах. Близким к семье Никифоровых стал новый сват — Гаврила Степанович — старый казачий ветфельдшер. За его сына весною была просватана старшая дочь Мария. Осенью ей исполнилось 18 лет. Свадьбу отложили до тех пор, пока не отвоюется жених — Степан Гаврилыч — казак-батареец саженного роста. Рядом с ним Мария выглядела крохотной, как синичка перед орлом. Илюшке даже жалко было отдавать сестру за такого верзилу, хотя Степан был тихим и смирным человеком. Просватали сестру и совета у братишки не спросили. Другое дело, когда через пять лет пришла пора Саньки, тогда его голос оказался решающим.
Афоня Викторов теперь нередко подкарауливал Саньку у проруби. Иногда ведерко зачерпывал, коровьи лепешки с дорожки счищал, чтобы не споткнулась… Илюшка все это замечал и посмеивался над тетехой. Ей шел уже пятнадцатый год. Санька заметно подросла, выровнялась. Отпустила косы ниже талии. Щечки ее округлились, лицо стало строже, а серые ласковые глаза лучились добром. В те дни одна бродила по горнице вялая, тихая, в желтой дубленой шубе нараспашку и не находила себе места — пуще всего боялась не за себя, а за Афоню и Илюшку, которые подсмеивались над ее страхами и уезжать никуда не собирались. На домашнем женском сходе в переднем углу, как идол, сидел сват Гаврила и не выпускал изо рта цигарки. Он требовал, чтобы девчат, Илюшку и молодых снох отправили на Ярташинский хутор. Илья заартачился было, но домашние и Гаврила подняли такой крик, что пришлось махнуть рукой и замолчать. У свата были свои две девицы и две молодых снохи. Поначалу и они согласились ехать — одна даже с титешным ребенком, но в последнюю минуту снохи пошли наперекор свекру. Бойкая, синеглазая Раечка, жена среднего сына, полкового писаря, была взята из городской, полугосподской, как говорили, семьи. Раечку все любили за ее добрый и веселый нрав. В трудную минуту жизни она оказалась самой благоразумной.
— Большевики, папашенька, не изверги, какими их малюют дутовцы, а обыкновенные идейные солдатики, — сказала она, поглядывая на свекра синими глазками. — Среди них даже и казаков полно… Вон и Аннушка Иванова, Манечкина подружка, так говорит.
— Тоже не хочет ехать? — спросил свекор.
— Ни в какую! Про большевиков одни бородачи врут…
— Помолчала бы ты, идейная… А невесте нашей нечего с Нюшкой якшаться… Она вон в Татарский курмыш бегает скрипку слушать… — Гаврила еще пуще задымил цигаркой. — Запрягайте лошадей — и марш на Ярташку без всяких рассусоливаний…
— Не поеду ярташинский навоз нюхать. Своего и тут невпроворот. Будь что будет.
Свекор не смог сладить со снохами, да и характером был слабоват. Больше рыбачил, чем хозяйничал в доме. Всем бабы командовали, а он так, для важности, жег в цигарках турецкий табак…
Собрали всего пять душ — Марию, Саньку, Илюху и сватьевых девчат — Галю и Шуру. В самую последнюю минуту в кошевку всунули закутанную в шубу и пуховые платки бывшую Илюхину зазнобу Анюту Иванову. С вожжами в руках Илья сидел на козлах. Мать тоже ехала с ними. Ей самой хотелось устроить детей на хуторе. Разъехались по разным хуторам и другие. Ивановы девки подались в Петровское, Мироновы — в Елшанское. Никифоровы ехали к отцовскому дружку Куприяну Долганину. Ярташинский хутор находился от станицы верстах в пятнадцати. По хорошо накатанной дороге кони бежали ходко. Доехали быстро. Долганины встретили приветливо, ласково — отогрели на печке, накормили ужином и уложили на полу спать. Утром, наревевшись досыта, дети простились с матерью.
Потянулись однообразно-унылые дни. Зима для детей, впервые оторванных от родного очага, тянулась долго и мучительно. Тягостно было жить в чужом, неуютном доме. Девчонки плакали втихомолку; чтобы отвлечься, вязали кто варежки, кто пуховый платок. Илюшке нечем было заняться, кроме чистки навоза из-под хозяйских коров. Слоняясь из угла в угол, он изнывал от скуки.
Наступил день заговенья — конец февральского мясоеда.
За завтраком Илья совершенно бесхитростно сказал тетке Фросе, что в этот день дома делали пельмени. Сестры смутились.
— Как тебе только не стыдно! — корила его потом Мария. — Суешься не в свои дела. Надумал, пельмени… У них и корыта-то нет…
Но слова Илюши не остались без внимания. Перед обедом тетя Фрося принесла из амбара большущую говяжью ногу, и, после того как она оттаяла, Куприян отрубил топором несколько здоровенных кусков.
— Ну что ж, нехай будут пельмени, — разглядывая зазубрины на лезвии топора, проговорил он к всеобщему удовольствию. У детей это блюдо было самым лакомым, потому что стряпали его два раза в году, в заговенья. Лепить они приучились с детства. Сначала раскатывали скалками лепешки, присматриваясь, как мать ловко делает сибирские «ушки» или уральские «писанные», с замысловатыми на краях узорами-рубчиками. Мясо для фарша рубили в специальном корыте, а здесь прямо на крышке стола. Для пельменей мать выбирала обычно лучшие куски говядины, свинины или баранины. Для сочности добавляла шурпы, сваренной из мозговых костей. А здесь тетя Фрося рубила одну мерзлую говядину вместе с жилами. Дома такая стряпня была веселым праздником, а здесь это мало кого интересовало. Налепили каких-то пирожков, похожих на свиные уши. Мясо оказалось старым, сухим, жилистым и невкусным. Илья съел несколько штук для приличия и раньше всех вылез из-за стола. Мария посмотрела на него с осуждением. Аннушка тоже от пельменей отказалась. Она все время о чем-то задумывалась и подолгу молчала. Ухаживание Илюшки раздражало ее. Наверное, все мальчишки в этом возрасте самонадеянны и глупы. Аннушка не выдержала. Когда стряпали пельмени, она повернула в его сторону голову, закутанную в пуховый платок, и, всплеснув руками, проговорила:
— Ох, как же ты нам надоел!
От обиды Илья убежал в хлев, вычистил весь назем и маленько поплакал в варежку. Он уже начинал многое понимать. Ему было стыдно. Это был самый постылый день в его мальчишеской жизни.
Более скучной и унылой масленицы не могло быть на свете. Почти всю неделю дул свирепый буран. Его тоскливое завывание наполняло детские души воспоминанием, как в прошлом, восемнадцатом году, во время схваток дутовцев и красногвардейцев станица сгорела на одну треть. Никифоровы тогда были в поле. Они лишились всех дворовых построек, и лишь чудом уцелел дом. Отстояла его находившаяся дома тетушка Анна. В субботу, накануне прощеного дня, по хутору пустили слух, что в станице уже большевики. Если большевики уже в станице, почему бы им не быть к вечеру на хуторе?
И вдруг нежданно-негаданно на старых розвальнях прикатила Раечка. Сбросив огромный мужской тулуп, свежая от мороза, с искорками в синих глазах, радостно и беззаботно посмеиваясь, она рассказывала удивительнейшие про большевиков вещи.
— Веселые, сердечные и вежливые, в смысле обходительности, солдатики! Не то что наша казачня, грубияны и матерщинники!
Вот тебе раз! Дети так были напичканы разными байками, что не знали, чему и верить. Однако вот она, Раечка, живая, невредимая, с ямочками на щеках. Девчонки мокроглазые вешались ей на шею и целовали эти самые ямочки. Илье она нравилась, и он готов был стать ее рыцарем.
— А я давно чуял, что это брехня, — сказал не очень разговорчивый Куприян.
— Почему же молчали? Боялись, что сочтут за большевика?
— Я солдат. Чего мне бояться? Могли подумать, что гостей выпроваживаю…
— Спасибо вам, миленький, добренький Куприяныч! А большевики, ей-богу, народ славный! У нас один на квартире стоял, и не такой уж молоденький, так он ведра не давал взять в руки. Чуть что, бежит на Урал. Попробуй дай коромысло кому-нибудь из наших усачей! Да что там, господи! Словечка плохого не услышишь от них. Один комиссарик все меня с собой звал… Вот те крест, чуть-чуть не уехала!
— Раиса! Ну что ты такое городишь? — вмешалась золовка ее Галя, самая старшая и некрасивая.
— Не горожу, а душеньку свою открываю. Ах, что с тобой говорить! Давайте-ка, беглецы несчастные, лучше собирайтесь живехонько. Эх, девчоночки, разбитые гребеночки, я такое пережила, такое!
Она говорила настолько убежденно и искренне, что Илье захотелось домой. Потихоньку он взял Раечку за руку.
— Ну что, миленький? — спросила она по-матерински.
— На чем же, тетя Раиса, домой мы поедем?
— На моих санишках! Там у меня полно сена и кошма большая. Я нарочно сани запрягла. Разве всех вас втиснешь в одну кошевку? Ничего. Уместимся за милую душу. А если начнем мерзнуть, пешочком наперегонки…
Раечка то вскакивала и начинала проворно собираться, то снова все швыряла куда ни попадя, принималась хохотать и тормошить девчат.
— Ты, Райка, стала какая-то верченая. Комиссара себе придумала… Надо же… — неторопливо собирая и связывая в узел свое барахлишко, ворчала золовка.
— Вовсе не выдумала, дурочка ты этакая! Он мою душу выпростал, душу!
Как комиссары «выпрастывают» души, Илья тогда еще не знал. Но душа сватьевой снохи была для него вся наружу — живая, веселая и, что особенно в ней привлекало, шальная маленько…
— Откудова он ее выпростал, твой комиссар? — спросила золовка.
— Из нашего казачьего навоза. Да собирайтесь вы, что ли, ради бога!
Во дворе Илья украдкой остановил Раечку и спросил на ухо:
— А сейчас у нас тут есть хоть один большевик?
— Мавлюмка, дружок твоего братца, вернулся… — Раечка отвела глаза.
— И что же он?
— Ничего… Раскрасавец такой, с красным бантом на папахе. Днем Советскую власть устанавливает, а ночью на скрипке играет на весь Татарский курмыш…
— И злой аль как?
— Чего ему злым-то быть? Он всегда был добрый и уважительный…
— А Нюрка тут все вздыхала, вздыхала… Говорят, все о нем маялась. Не надо было ее брать сюда…
— Болтай больше… Лучше к мамаше вон поедем. Извелась она по тебе.
— Правда, мать велела скорее ехать?
— Велела, родненький. Сено и солома кончаются, а в хлевах назему по колено. Ты теперь ведь у нас самый главный мужчина…
Она наклонилась и прижалась к его лбу румяной, душистой щекой.
Илюшка уже был возле саней, а девчонки все еще копошились в избе. Вчера вечером буран утих. Сугробов намело по самые ставни. Куприян притащил беремя купной из-под молотилки соломы, раструсил по всем саням и застелил серой кошмой. Все беглецы разместились в широких розвальнях. Закутанные в бараньи шубы девчонки сидели как клуши. Илья был за кучера. На сильном морозе снег скрипел под полозьями. За хутором дорога петляла вдоль речушки Ярташки. Плелись шагом по старому утреннему следу. Впереди по взгорьям круто пластался снег, угрюмо желтела высокая гора Гарляук. Несколько лет назад за этой горой у них была пашня. Илюшку тогда заставляли нянчить Настину девочку Кланьку.
Едут по занесенному снегом зимнику. Полозья поют. Хорошо бы никого не встретить, пока домой не приедут. Девчонки пробовали запеть песню, но не поется. Да и с чего петь-то? Каким бы ни был хорошим и обходительным Раечкин комиссар, а дети робеют все-таки… Ехали долго. Увидели станицу. С пригорка от часовни она заморгала сумеречными огнями. Высунув головы из бараньей шерсти, девчонки перекрестились.
10
Мать поджидала их возле ворот. Увидев ее, сестры кинулись навстречу, запричитали, заплакали. Илье невыносимо было их хлюпанье. Нытье и слезы до смерти надоели ему на хуторе. Сестры повисли у матери на шее, не дают ей и шагу сделать. Будто только они одни и есть на белом свете…
Илюшку увела Настя. Стащила с окоченевших рук варежки. Тихо и ласково спросила:
— Ну как, хорошо доехали?
— Шагом тащились.
— Ты руки-то засунь в печурку, они скорее согреются.
— А если ломить начнут?
— Не обморозил же…
— Вроде нет. Озябли просто, когда правил. Вы-то как тут жили без нас?
— Живем. Целы…
— Большевики у нас стояли?
— В первый же день.
— Ну и как они? — Это был самый тревожный вопрос.
— Люди как люди. Обошлось. Я больше с Зиночкой сидела. Хворала она у меня.
— Поправилась?
— Ничего. Играет. Золото, а не ребенок.
— О наших что-нибудь слышно? Как Михаил?
— А кто ж его знает. Ранили ведь… — В глазах Насти показались слезы.
Настя сейчас была добрая, ласковая. Может быть, именно с того несчастного дня и началась дружба с ней. Раньше Илюшка не ладил со снохой, потому что из него хотели сделать няньку.
В тот год Никифоровы жали пшеницу на Гарляуке. Там есть глубокий дол, зажатый с двух сторон ковыльными горами. Самая высокая — Гарляук. Ее крутой западный склон давал осыпи и сочился малыми родничками. Место это выглядело загадочным и диковатым. Плоскогорье напротив осыпи и сам дол были распаханы. Здесь пшеница вымахивала вровень с лошадиной холкой. Жали ее серпами. Илюшке тогда еще не могли доверить серп, и он должен был качать под пологом зыбку с Кланькой. Когда Клашка начинала орать, он вынимал ее из зыбки, завертывал, как умел, в чистые пеленки и медленно плелся по жаре к жнецам. С грустными, протяжными песнями мать с Настей и Миша, срезая постать за постатью, уходили от зыбки все дальше и дальше. Жала вся семья, кроме отца. Он крутил перевясла и вязал снопы, аккуратно ставил их в ряд вверх колосьями. Илюшка долго тащился с Кланькой по жнивищу. Из-под ног вспархивали птички, юркали серые мышата с глазами-бусинками. Иногда, зазевавшись на них, он нечаянно спотыкался о кочку и падал вместе с Клашкой. Тут уж она орала на весь гарляукский дол. Настя втыкала серп в ближний сноп и бежала к ним навстречу. Пока плакса сосала грудь, Илюшка отдыхал от этой каторги…
В один из таких страдных дней он узнал, что отец собирается ехать на бахчи за первыми арбузами и дынями.
— Пока Кланька спит, вы с отцом съездите, — сказала мать.
Но Кланька в тот день, как назло, не засыпала и улыбалась во весь рот. Илюшка раскачивал зыбку и так и сяк, ворчал, грозился, а она в ответ еще шире раскрывала глазенки и ворковала, словно птенец в гнезде. Отец уже заводил в оглобли Лысманку. Клашка внезапно закрыла глазки и вроде бы засопела. Опустив полог, Илья прибежал к отцу и решительно заявил о своем намерении поехать с ним.
— Куда же ты, сынок, поедешь, когда девчонка не спит.
— Спит, спит! Теперче до самого вечера продрыхнет!
— Как же спит? Видишь, швыряется в зыбке. Беги, а то еще вывалится. Ты уж поиграй с ней, а я тебе спелую дынешку привезу.
Вернувшись, Илюшка увидел, что Клаша успела уже вывернуться из мокрых пеленок и даже пыталась выкарабкаться из зыбки. Подстелив сухую тряпицу, он положил девочку обратно. Она так разгулялась, что о сне не могло быть и речи, да и отец уже поперечник начал подтягивать. Оставалось лишь одно средство: заставить ее орать во весь голос, чтобы сбыть на руки матери. Илюха резко встряхнул зыбку. Молчит, хоть лопни! Тогда он решился на последнее коварное средство: ущипнул ее за ножку. Молчит, кряхтит только. Ущипнул раз, другой, а она хоть бы пикнула. Недолго думая, он хорошенько нашлепал ее по мокрому задку… Тут уж она закричала во всю мочь.
Когда прибежала Настя, Кланька так закатилась, что не сразу приняла грудь.
— Что ты с ребенком сделал?
Илюха молчал. Он сам готов был заплакать.
— Ты ее ущипнул, наверное?
— Очень надо…
— Да чего уж там, вон и синячок на ножке! Ах ты!..
Измотанный изнурительной жарой и передрягой, он дал волю слезам. Бросив запряженную лошадь, прибежал отец, а потом и мать. Отцу стало жаль Илюшку, и он велел ему лезть на телегу. Дорогой Илюшка признался во всем, рассказал и про щипки, и про остальное.
— Что хошь буду делать, хошь кизяки!.. — выкрикивал он сквозь слезы.
Для мужчин кизячная работа считалась самой позорной и унизительной. От таких парней отворачивались девки, и все же, когда Илюха подрос, не раз пришлось ему укладывать в станок перемешанный лошадьми навоз, таскать сочащуюся тяжесть и опрокидывать у плетня.
После этого случая мать с Настей поняли, что доверять ребенка Илье больше нельзя. Он стал помогать отцу делать перевясла. Сначала выдергивал вместе с корнями пшеничные стебли, а потом и крутить научился. А время бежало неудержимо. Кланька уже вовсю бегала по двору. У Насти появилась еще одна дочка — Зиночка. Повзрослел и Илюшка. Теперь он уже по-иному смотрел на маленьких. Охотно забавлял маленькую Зиночку. Когда он входил в горницу, она встречала его радостным смехом, потешным лепетом первых слов. Говорить она начала очень рано. Была на редкость спокойна и ласкова.
— Уж така головаста… помрет, поди… — говорили про нее старухи, которых привечала тетка Аннушка.
Илья не любил и боялся этих кликуш. Но они все же накаркали. Зиночку не уберегли и простудили. Гибель детей в те времена была обычным явлением. Сколотят, бывало, малюсенький гробик, закопают возле бабушки с дедушкой, сядут за поминальный обед, вздохнут и скажут: «Бог дал, бог и взял…»
11
Впервые после двух недель, прожитых на Ярташке, свой двор показался Илюшке чужим, неуютным, запущенным. Все было не так, как прежде: большие плетеные короба, в которых возили с гумна мякину, как-то почернели, обшарпались, талы на кольях частью поломались, расплелись и торчали, как рыбьи кости. Раньше на поветях возвышались аккуратно наметанные кладки зеленого лугового сена, припорошенного пухлым снежком, а теперь сиротливо ютилась клочковатая копешка. Амбарушки и хлев провалились в сугробы и обросли неряшливо выброшенным вместе с объедками навозом, да и сам дом, засыпанный снегом, сырыми бугорками золы, будто скукожился и стал меньше.
— Вот и ты уже вырос: хозяин, принимайся, сынок, за дело. Ты одна у нас теперче надежа, — проговорила мать и заплакала.
Ну что ж, надежа так надежа… Илюха надел полушубок, обмотался отцовским кушаком и вышел во двор. Взял железную лопатку котяхи подкалывать, оперся на черенок и встал посреди двора. Так всегда делал отец, прежде чем начать работу. Вспомнил, что надо варежки под кушак засунуть — тоже по-отцовски. В хлевах навозу было невпроворот. Последнее время его почти никто не убирал. Илюха понял, что одному ему вовек не осилить, вернулся в избу и тихонько заглянул в горницу. Простоволосые девчата в валенках на босу ногу со своими подружками, сбившись кучкой вокруг стола, хихикали над оставленными большевиками картинками, где был нарисован краснолицый солдат, выметавший огромной метлой пузатых попов и буржуев. И еще что-то про Анюту и Мавлюма судачили. Слегка прикрыв дверь, Илюшка прислушался. Он знал, что Мавлюм стал теперь в станице чуть ли не главным комиссаром. Воевал за красных, был ранен, приехал в станицу долечиваться и попутно помогал Советскую власть восстанавливать. Вчера вечером Настя и мать о чем-то таинственно перешептывались, вздыхали и ахали.
— Надо же, удумала такое… Кума Прасковья свалилась, как подкошенная, — говорила мать.
— С ума, что ли, спятила? — отвечала Настя.
Стоило Илюшке открыть дверь, как разговор сразу же прекратился. Ему нетрудно было догадаться, что разговор шел об Аннушке. После возвращения с Ярташки она в доме Никифоровых почему-то не появлялась.
Сейчас он стоял за дверью и слышал такое, что шапка сама на затылок сползла…
…После возвращения Мавлюма в Петровку в доме его отца по вечерам заиграла чудесная скрипка. Как Аннушка попала туда в гости, никто не знал. Девчонки говорили, что видели ее на Татарской поляне у старых ометов. Она стояла на закате в обнимку с Мавлюмом. А Мария и Шурка с новыми подружками, оказывается, в сумерки бегали под окна и сквозь закрытый ставень в щелочку подглядывали и видели, как Аннушка сидела на нарах ноги калачиком на подушке, пила из маленькой пиалы чай и, словно завороженная, слушала скрипку. Выяснилось, что ходила она туда каждый день. А позавчера и вовсе домой не вернулась. Аннушкина мать — тетка Прасковья — ночью глаз не сомкнула, ждала, ждала, шубенку за рукав — и средь ночи к Никифоровым. А у них уже и свет не горел. Постучалась к матери. Та вышла к ней в сени, узнав, в чем дело, руками всплеснула. Тоже накинула на себя пальто и вместе с Прасковьей пошла в Татарский курмыш. Там их на каждом шагу встречали злющие собаки и в домах ни одного огонька… Пришлось вернуться.
Рано утром, не чуя под собой ног, Прасковья отправилась на розыски дочери. День только занимался. Солнце еще пряталось за пещерной горой. Мычали коровы, в хлевах звенели подойники. Дымкой нависал над поветями январский мороз. На Урале гулко стучали пешни, подчищая проруби.
Аннушка знала, что мать придет, она караулила ее у окна и встретила в сенцах, пряча счастливый, чуть испуганный взгляд.
— Мы, мама, Мавлюм и я, — заговорила она сбивчиво. — Я вышла за него замуж, мама! Ты только не плачь, не надо! Слезами уж не поможешь…
— Не слезами, а плетью отцовской тебя надо…
— Ну что ты, маманька, какой плетью? У меня теперь и фамилия другая…
— Татарская?
— Мужняя…
— Святы боже! Опоили, что ли, тебя нехристи? — Губы матери дрожали, уголки рта опустились, Она вглядывалась в дочь и как будто не узнавала ее. Стоит вроде бы и виноватая, а в глазах никакого греха…
— Я люблю его, и у нас все по закону новой власти. Алеша Амирханов нас расписал и бумагу выдал, сама увидишь…
— Гляжу я на тебя и думаю: ты ли это или дурочка какая? Кумысом тебя опоили или ворожбой басурманской? Святы боже! — продолжала причитать Прасковья, не зная, чем ей пронять дочь, чтобы хоть капельку раскаяния вызвать.
— Никакие, маменька, святые нас с Мавлюмом не разлучат! Алеша крепко повенчал, на всю жизнь!..
— Дурочка, вот те бог, тронутая… Да што, твой Алешка поп, что ли? Отуманили тебя. Алешка твой такой же супостат…
Это был первый в станице гражданский брак, без попов и венцов, и дерзкий поступок дочери никак не укладывался в голове у Прасковьи. Разве о такой свадьбе она помышляла? Приданое приготовила… Раньше это было семейное торжество, священнодействие. Икона давно уже висит в переднем углу для благословения. Мавлюмку-нехристя под божью матерь не подведешь, на аркане не затянешь… Скорбящая иконка не только мешала разобраться с мыслями, но и окончательно запутывала все дело. Осталось лишь опять взяться за причитание:
— Отуманили, опоили…
— Ничего, мама, окромя воды, я не пила. Мы с Мавлюмом собрались к тебе идти и в ноги поклониться, а ты сама пришла.
— Где он, басурман-то твой, где? — шебутилась Прасковья.
— Здесь я, мать! — Мавлюм открыл дверь и, взяв нареченную тещу под мышки, уволок в избу.
Так, стоя под дверью, Илюшка подслушал разговор сестер.
— Прасковья, говорят, от слез незрячей сделалась! — сказала под конец Мария.
В это время Варька открыла дверь.
— А-а! Подслушивал! — закричала она.
— А вы, значит, с подруженьками будете тут над картинками валандаться, про Нюшкину свадьбу лясы точить, а коровы пускай в назме киснут? — Широко расставив ноги, как полагается настоящему хозяину, засунув руки под кушак, Илья встал у порога.
— Возьми да почисть, чем тут торчать. Не заморился… вон сколько дней баклуши бил, — проговорила Мария.
— Ты поди и взгляни, сколько там навалено!
— Сколько есть, столько и выкинешь. Невелик барин…
— Барин не барин, а велю, и пойдете, — проговорил он по-отцовски.
— Подумаешь, страсти! — отмахнулась Мария.
— Думаете, отца нет, так лафа вам? Скрипочку тоже побегете слушать?.. Одна вон доигралась…
— Глядите! Он и кушак намотал тятькин! — крикнула Варька. Слова ее как кнутом стеганули. Илья решил начать хозяйничать с усердием, а тут смешки одни и новость, как гром в зиму… Подружки сестер начали в рукава хихикать. Подошла Шурка и совсем огорошила:
— А где у тебя другая варежка?
Илюха полез за кушак — и на самом деле одна.
— Наверное, на дворе потерял. Беги скорее, пока телка не сжевала…
Побежал во двор. Нашел. Рядом с лопатой валялась. Встретил у крыльца мать, ворчливо заявил, что не подшибет ни одной коровьей лепешки, покамест девчонки не выйдут.
— Ладно, ладно. Выйдут. И Настя сейчас придет.
Одетая в шубу желтой дубки, подпоясанная синим мужским кушаком, вышла Настя, взялась за оглобли и велела подталкивать сани к навозной куче.
— Сегодня назем повозим, а завтра за мякиной.
Появились Мария с Шуркой. Закутались в шали с завязанными на спине концами. Куклы, а не работнички. Только и слышишь хныканье:
— А где вилы? Лопатку где взять?
Весь навоз с переднего двора вывозили и сваливали под горой, на берегу Урала. Когда начиналась оттепель, казаки выпускали с кард нагульных кобылиц вместе с полудиким, необъезженным молодняком. Кони разгребали копытами навозные кучи, выбирали и начисто съедали остатки корма. Весной, во время разлива Урала, вся эта масса навоза смывалась и уносилась полой водой, оседая на широких приуральских поймах, где потом буйно зеленели луга, а на ковыльных гривах вырастали арбузы величиною чуть ли не с тележное колесо.
Жили и хозяйничали без мужчин. Теперь вся доставка кормов лежала на Илье с Настей. Тока находились около полей, иногда в двух разных местах. Возчиков будили чем свет. Мать кормила горячими пшенными блинами, смазанными душистым конопляным маслом, поила чаем, и они шли запрягать красных быков. Темь стояла на дворе. На повете, посвистывая, играл клочьями сена утренний ветер. Пока Илюшка отвязывал в хлеве бычьи налыги, Настя стояла в дверях и подсвечивала маленькой мигающей лампешкой. Большерогие быки сопели в углу, жевали солому и глядели черными добрыми глазами. Илья поодиночке выводил их из хлева и накидывал скрипящее ярмо. Потом Настя с матерью запрягали в розвальни Гнедышку, застоявшегося в кизяках. До самой околицы Илюшка вел быков за налыгу и подгонял ременным кнутом. За последним домиком Татарского курмыша он давал быкам волю, а сам пристраивался возле переднего кола на связку бастриков и кольев. Быки шли навстречу серой, предрассветной дали, гулко переступая через невидимые струйки колючей поземки. Дробно стучала о ярмо притыка, свирепо скрипели на морозе широкие некованые полозья бычьих саней. За быками, помахивая поседевшей от инея башкой, плелся Гнедышка, дыша горячими ноздрями в Илюшкин затылок. Закутавшись в большой черный тулуп, Настя сидела спиной к головяшкам и пела. Голос у нее приятный, сильный. Шагают быки, гремят на раскатах сани, поет под полозьями снег, бодро пофыркивает Гнедышка, нетерпеливо бьет копытами по затвердевшему, вылизанному поземкой шляху. Насте надоедает петь и тащиться за ленивыми бычьими санями. Она протяжно свистит, как мальчишка — это значит, Илюшке надо придержать быков и дать ей дорогу. После четверти пути она всякий раз выезжала вперед, обгоняя, кричала в снежную ночь:
— Смотри, опять не усни, как тогда…
Однажды произошел такой случай. Плохо, неудобно сидеть на голой передней колоде возле бастриков, то и гляди свалишься под полоз. Как-то с вечера Илюшка на бычьих санях разнял колья и приладил на них старенький от телеги плетешок, привязал веревкой, сенца подложил, чтобы сидеть было помягче. Прилег на сено, поднял воротник тулупа и знай кнутиком помахивает да на полевого быка-лентяя покрикивает, а то и песню затянет. Вот так пел, пел, да и задремал. Просыпается, стоят его быки, дышлом в ворота упершись. Домой повернули, пока он спал…
Самыми каторжными были поездки за мякиной, особенно на вторую Грязнушку. Тащатся, бывало, через горы и буераки, кувыркаются на каждом косогоре. Собирай потом со снега, особо когда буран задует. Да и с сеном хватало муки. Настя подавала, а Илюшка навивал воз. Делал он это еще неумело, обязательно стаптывал в ту сторону, под раскат… Огромный возище на первом же повороте летел вверх тормашками. Все трещало, ломалось, рвалась сбруя.
В тот раз они ездили за сеном к Домикам, где находились их стога. В низине, прикрытой со стороны Урала Тугаем, ветер задувал не очень шибко. Навили два бычьих воза без особых помех и, наверное, чуть-чуть пожадничали. Уже на первом пригорке их встретил сильный буран, и густой снег начал косо хлестать в бычьи бока. Поскрипывая ярмом, быки с трудом тащили перегруженные сани. На небольшом косогорчике внезапно налетел ураган, и передний воз, на котором сидели Илья с Настей, опрокинулся. Едва выбравшись из-под бастриков, они зарылись с подветренной стороны в сено. В степи все померкло и затянулось серой, бушующей снежной мглой. Ветер вырывал клочья сена, и они кувыркались по полю, как большие седые ежи… Свалившийся воз быстро превращался в сугроб. Передних быков выпрягли, и теперь сквозь вой урагана было слышно, как они, пожевывая сено, сопели рядом. От усталости Илья и Настя скоро заснули и, возможно, никогда бы не проснулись, если бы их не нашли на другой день мать с другом отца — киргизом Беркутбаем.
Так в труде, а порой и в горьких семейных невзгодах крепла дружба с Настей. Не все шло гладко в хозяйственных делах. Кормежка скотины, утомительная чистка навоза — все это другой раз так надоедало, что Илья срывался и исчезал из дому. Без отца Илюшка почувствовал соблазнительное ощущение свободы, и женщинам справляться с его выходками становилось труднее. Если раньше он увлекался книгами, то теперь вместе с Санькой Глебовым, которого в доме, как самого дерзкого и непослушного, терпеть не могли, решил извлечь из прорубей брошенное белогвардейцами вооружение. Опасную затею эту они продумали со всей мальчишеской основательностью. В ту пору зимой скотину гоняли поить на Урал к прорубям. Станица разбивалась на три участка. Два курмыша и центр имели свои проруби и специальных прорубщиков, которых подряжали на сходке за определенную плату — с головы. На каждом участке долбились три проруби: одна длинная, узкая — для скота и две круглых — для питьевой воды и полоскания белья. Каждое утро отверстие очищалось. Но шла гражданская война. Из мужского населения в станице оставались одни старики да мальчишки. Водопой на Урале находился в полном запустении. Под видом очистки прорубей Илюха с Санькой брали пешню, железные лопаты и как заправские казаки шли на Урал. Санька никуда не убегал из станицы, а потому хорошо знал, где были затоплены белогвардейцами ящики. Первыми были извлечены длинные трехдюймовые снаряды с медными гильзами. Разряжать их приладились так: брали снаряд в руки, били о другой и без особого труда выворачивали из медной гильзы, вынимали желтый порох, похожий на мелко нарезанную лапшу, замешенную на яичном желтке… Головку снаряда запросто сбивали обыкновенным молотком, выковыривали находившуюся там шрапнель, пересыпанную каким-то желтым веществом, вроде канифоли. Впервые в жизни мальчишки соприкасались с такими «игрушками» и были настолько беспечны, что не испытывали никакого страха. На другой день вытащили ящики с шести- и двенадцатидюймовыми снарядами, тут же нашли патроны от японских винтовок, высыпанные в прорубь навалом — прямо в обоймах. Для извлечения их из воды приспособили обыкновенные вилы. В чистой, прозрачной уральской воде на небольшой глубине дно просматривалось до единой галечки. Опуская вилы в воду, вкалывали между патронами крайний от вил рожок и ловко выкидывали обойму на снег — с потерей одного патрона.
Вскоре прошел слух, что в одной из прорубей есть ящики с японскими винтовками. Из тех же мальчишечьих источников стало известно, что где-то есть и наганы… Кто из нас в детстве не мечтал иметь настоящий револьвер? Илья с Санькой пробили несколько старых прорубей, но ничего не нашли.
— Болтовня, — сказал Санька. — Какой дурак станет наганы топить. На площади прямо из ящиков их расхватали казаки в один миг. Сам видел.
Саньке можно было верить.
— Вот я знаю одно местечко, — заявил он однажды.
— Какое?
— Такое! — Он даже присвистнул.
— Скажешь? — спросил Илюха.
— А не разболтаешь?
— Вот те Христос!
— Против карды Полубояровых есть одна прорубь…
Полубояровы имели свою, отдельную прорубь. Перед приходом большевиков они угнали скот на Баткакские хутора. Прорубь давно занесло снегом.
— Видел я, как белые опускали туда длиннющие ящики…
— А что в ящиках?
— Если бы я знал…
— Так раздолбить — и вся недолга! — горячился Илюшка.
— А может, там что-нибудь такое…
— Что бы ни было. Пошли. — Илюху уже ничем остановить было нельзя.
Дом и карда Полубояровых стояли на отшибе. По бугоркам колотого, задутого снегом льда прорубь найти было нетрудно. Расчистили и начали долбить. Лед оказался толстым, прочным. Пыхтели над ним долго. На помощь пришел Петя Малахов. Он был двумя годами старше, посильнее и посмышленее и сразу же огорошил своей осведомленностью.
— Значит, решили достать пики?
— Как пики?
— А так… Думаете, я не знаю?
С большим трудом удалось поднять на край проруби один конец ящика. С нетерпением отбили пешнями крышку и, замирая от восторга и страха, вытащили одну пику, потом другую. Илья приволок домой шесть штук и стал обладателем бесценнейшего для него вооружения. Это были новенькие, сделанные из легких трубок пики с острыми трехгранными наконечниками. Их старая, деревянная, хранившаяся в сарае, годилась только в костер. Илюшка не удержался и похвалился своим приобретением Насте.
— Ох и дурачок ты! Греха не оберешься, если узнают…
— Кто узнает?
— Начальство новое…
Чтобы уберечь пики от глаз «начальства», он втащил их в амбар и затолкал на матицы, где лежали стоговые вилы и новые оглобли. Положил так, что снизу не заметно. Одну оставил и спрятал на поветях в сено. Улучив минуту, вытаскивал, упражнялся, колол направо, налево… Подростки теперь вооружались, кто как умел. Известно, что во все века мальчишки были самым изобретательным народом. Первый пистолет смастерили с Санькой Глебовым. Выстругали из березового полешка цевье и подобие рукоятки, выдолбили ложбинку, прикрутили проволокой ружейную гильзу двенадцатого калибра, насыпали туда японского пороха, забили бумажным пыжом, вложили крупную шрапнелину и закатали второй пыж. Еще хватило благоразумия стрельнуть для пробы не с руки, а с чурбака, где самопал был закреплен гвоздями. К дырке от пистонки чуточку подсыпали пороха, и Санька, отвернувшись, поднес на железной лопатке тлеющий уголек… Трахнуло так, что чурбак отлетел к забору. Гильзу разорвало.
— Говорил тебе, что надо пороху класть поменьше, — заметил Илюха.
— Ерунда, — проговорил Санька. — Вот если бы трубку…
Вспомнили, что в одном из снарядов, в самой серединке, находится металлическая трубка подходящей длины, а в трубке этой заложен еще маленький патрончик, точь-в-точь как патрон от нагана. После тщательного исследования выяснилось, что в гильзе такого привлекательного для них патрончика есть черный, мелкий, страшной силы порох. Гильза была залита каким-то вязким, похожим на воск веществом. Первооткрывателями этого патрончика были братья Сурсковы — Колька и Ванька. С Колькой они были одногодки и учились в одном отделении. Ванька был помоложе. Чумазые от взрывов, в изодранных шубенках, они появились за плетнем, словно черти из ада, похвалились друзьям чудо-патронами и показали способ их извлечения. То, что это взрыватель, никому из них не приходило в голову. Они обращались с боевыми снарядами, как с чурками. Снаряд, хранивший в себе патрон, был крупный, не меньше доброго поросенка, головка навинчивалась на стакан и была закреплена стальной поперечной заклепкой. Снять головку было не так-то просто. Но Сурсковы придумали, как это сделать: один снаряд они клали на землю, другой прислоняли к стакану и тяжелой кувалдой били по головке до тех пор, пока не срывали нарезы и не выворачивали заклепку. Почему ни один снаряд не разорвался? Одни говорят, что лежали больше месяца в воде, другие утверждают, что дуракам везет и они часто рождаются в счастливой рубашке… Однако эти «забавы» все же добром не кончились. Братья Сурсковы решили перещеголять всех и соорудили пушку. Вместо трубки они прикрепили к бревну трехдюймовую гильзу, заправили порохом и так грохнули, что в бане, около которой стояла «пушка», вылетели все стекла. Ваньке оторвало два пальца. Оба они с Колькой начисто лишились бровей, полушубков и штанов…
После этого случая терпение матерей лопнуло, и они пригрозили ребятам, что пожалуются комиссару Мавлюму, который считался в станице главным большевиком.
Стоит однажды Илюха у ворот и видит, как подъезжает к их дому на темно-гнедом коне с коротко подрезанным хвостом сам Мавлюм. Он в кожаной, перекрещенной ремнями куртке, с наганом в кобуре, на голове круглая папаха с алым бантом.
«Значит, дознался», — подумал Илюшка и порядком струхнул.
Мавлюм смело въехал во двор. Пока он слезал с коня и привязывал его к плетню, на крыльце появилась мать. Гость запросто, радушно с ней поздоровался, а с Ильи долго не спускал черных насмешливых глаз. Смуглый, темноволосый, он, весело подмигнув, проговорил:
— А ну-ка, Ильяс, тащи оружие.
— Оружие? — У Илюшки сжалось сердце. Все это было неспроста.
Мать испуганно посмотрела сначала на гостя, потом на сына. Занятая поездкой на мельницу, она ничего не знала о его делах.
— Нет у нас, товарищ Мавлюм, никакого оружия, — ответила она.
— Ну а если я найду? — улыбчиво сощурился Мавлюм.
«Вот оно и началось». Илюха испугался этих темных, проницательных глаз. Было неловко, что мать божилась и призывала в свидетели разных святых…
— Вы, мамаша, погодите, — остановил ее Мавлюм и, кивнув на Илью, добавил: — Сынок ваш лучше знает…
— Не знаю… — пролепетал Илюшка.
— Может, и вправду знаешь? — строго спросила мать.
— Ладно, тетка Анна. Вы не тревожьтесь. Мы спокойно выясним сами. Так говоришь, Ильяс, нет оружия?
— Нет… Патронов достали…
— Японских?
— Ага!
— В ящиках?
— И в ящиках, и рассыпаны были на дне…
— Ну а еще что вытащили?
— Были снаряды…
— Снаряды… А дальше?
Про пики Илья сказать не успел, да и язык у него не поворачивался. Про пики крикнула Настя. Она стояла в сенцах за дверью и все слышала.
— А ну покажи, где лежат пики? — приказала мать, и опять начались причитания. А у мальчишки сердце того и гляди выскочит из-под полушубка. Повел гостя в амбар. Мавлюм взял стоявшие у плетня вилы, достал все богатство и выкинул на двор.
— А говорил, нет оружия?
— Это пики, — сдерживая слезы, ответил Илюха.
— Это холодное оружие. Можно насквозь проколоть человека. — Мавлюм подхватил одну пику, сделал выпад вперед, повертел над головой, потом положил на землю, наступил ногой и переломил пополам. То же самое проделал и с остальными. Отойдя от груды обломков, сказал матери: — Прибереги, тетка Анна, может, сгодятся на что-нибудь. — Отряхивая кожаные перчатки, Мавлюм толкнул яловичным сапогом груду обломков, не глядя на Анну Степановну, спросил: — Про Мишку что слышно?
— Служит… — Мать горько сморщилась и махнула рукой.
— Зря служит… Ладно, мамаша, не плачь… Если башка есть, уцелеет и домой вернется. Вот тогда я с ним говорить буду… А ты, друг, смотри не больно-то балуйся оружием. Это тебе не игрушки!
Мавлюм попрощался и уехал. По пути завернул к Малаховым и Глебовым и так же расправился с пиками.
— Все раскромсал Нюркин полюбовник, — сердито сказал Илюшка.
— Помолчи! — крикнула мать.
— А чего там… Она, говорят, брюхатая ходит, — добавил Илюха.
— Ты, видно, на самом деле с ума спятил… Он ей муж! — строго сказала мать. Она все хотела спросить Мавлюма, как они с Нюркой живут, да постеснялась.
— Муж так муж… Бравый стал скрипач, — сказал Илья.
— Да, славный и обходительный.
— А ты откудова его знаешь? Да и он тебя по отчеству величал?
— Бумажку ходила брать, когда на мельницу ездила. Убери эту дрянь с глаз долой. Господи, до чего ты нас измучил. Хоть бы отец вернулся скорей. Молебен отслужу!
Может быть, бог услышал ее молитву. Ровно через три дня заявился отец. Все радовались его возвращению, бегали, суетились. Вид у отца был жалкий. Лошадь с телегой он бросил где-то за Орском, а сам свалился в тифу на хуторе у незнакомого мужика и прохворал чуть не ползимы. Хозяин оказался добрым, сердобольным. Он ухаживал за отцом, кормил, поил, а когда тот поправился, привез в Орск. У отца много было знакомых татар. Он хорошо знал язык, а это имело первостепенное значение в таком обширном скотоводческом крае, как Оренбургский, где проживало много татар, башкир, киргизов. Погостив у Хайруллы неделю, отец попросил переправить его в Губерлю, к Петру Степановичу Шустикову. А тот привез его уже домой.
12
Лечить Ивана Никифоровича стали домашним способом. Перво-наперво повели в жарко натопленную баню да так напарили, что он захворал опять, как говорили — возвратным… Когда через две недели станицу снова заняла дутовская армия, отец валялся без памяти. Заехали на побывку и местные станичники — почти всей сотней. Боев близко не было. Части Красной Армии отходили к Оренбургу по линии железной дороги Орск — Оренбург. Здесь население больше сочувствовало Советской власти. Казаки же были настроены враждебно. В наступившую весеннюю распутицу белогвардейские части почти без боя занимали одну станицу за другой. В Петровке, кроме Мавлюма, не было ни одного красноармейца. Мавлюм уехал в Кувандык.
Однажды утром Илья гнал с водопоя скотину. Чувствуя приближение весны, коровы протяжно мычали, чесались о плетни, теряя клочья рыжей шерсти, поднимали рогатые головы, шумно вдыхали влажный апрельский воздух. А телята все время норовили удрать. Один, как ошалелый, кинулся к малаховскому крыльцу. Илюшка погнался за ним и чуть не угодил под ноги верховому Конь шарахнулся в сторону. Темнолицый казак в косматой папахе, с винтовкой за плечами и шапкой на боку откинулся к задней луке, натянув поводья, крикнул:
— Ты что, брат, под копыта ныряешь? — Круто повернув к малаховскому дому, казак соскочил с седла. Перекинув поводья через конскую голову, черенком нагайки поднял со лба папаху, добавил безрадостно: — Ну здравствуй, что ли.
— Здорово, — ответил Илюха и только тут узнал Ивана Малахова. Они служили с Михаилом в одном взводе. Обрадованный и растерянный такой неожиданной встречей, стал торопливо расспрашивать Ивана о брате.
— Поранили его тогда. На поле боя остался. Кто знает, где он сейчас? Время такое… Конь ваш в полку, офицер на нем ездит.
— Как это на поле боя? — спросил Илья.
— А вот так, остался — и все… Он ведь, братец твой, всегда был с фокусами. — Иван помахал перед Илюшкиным лицом нагайкой.
— С какими, дядя Ваня, фокусами?
— У красных остался, вот с какими! — Иван дернул коня за чумбур и завел в ворота.
От его слов Илюшка так и присел в сугробе… Не разбирая, где рыхлый снег, а где лужа, вскочил и помчался домой. Заорал еще в сенях.
— Отец хворает, а ты кричишь, как взбалмошный, — накинулась на него Мария. — Ну чего разорался?
— Иван Малахов вернулся!
— Правда?
Выслушав Илью, мать бросила ухват посреди кухни, велела позвать Настю. Через минуту они были уже у Малаховых. Вернулись обе с распухшими от слез глазами. Не снимая дубленой шубы, Настя расслабленно, словно пьяная, опустилась на кухонную скамью, протянув вялую руку, взяла зачем-то торчавший в ступе пест, потом подняла на Илью большие печальные глаза и сказала, как пестом стукнула:
— Мавлюма убили.
— Окстись, Настя! — у Илюшки свалились с рук варежки и шлепнулись на пол.
— Изверги проклятые! Аннушку вон замертво унесли. А она ишо и брюхатая вдобавок… Чать, и ребеночек-то пропадет…
Лучше бы уж не видеть Илюшке Настиного лица — щеки отвисли, как у старухи, под глазами полоски, словно курица лапкой приложилась.
— Я же вчерась видел его… — бормотал Илюшка. Вчера вечером он встретил Мавлюма, когда гнал с водопоя скотину. Мавлюм вел в поводу своего поджарого, темно-гнедого, под седлом, коня. Остановив Илюшку, посмеялся над тем, как ломал его пики, весело улыбаясь, спросил:
— Ничего больше не вытащил?
— Нет, — ответил Илья. После женитьбы на Аннушке Илюшка в душе считал Мавлюма своим человеком, да и с Михаилом они дружили. А воевать угодили поврозь — один за красных, а другой попал к Дутову.
— Увидишь брата своего Мишку, скажи ему, что он дурак большой…
— То было вчерась… Заехал Мавлюмушка к Анютке своей проститься, а они его, наверное, подкараулили…
— Кто, кто? — Илюшка схватил брошенный матерью ухват и швырнул под печку.
— А я почем знаю? Кто? Кто?.. Ты чего пристаешь, как банный лист? И все-то ему надо знать, унюхать своим носом… Ну что за парень, господи! Мотри, ишо не брякни где… Мало льется кругом людской кровушки…
Брякай не брякай… Илюшке до смерти жаль было всех: Мавлюма, Настю, раненого Михаила, но пуще всех Аннушку. На его глазах она невестилась, примеряла перед зеркалом всякие ленточки, бантики… «Кто ее теперь возьмет замуж, да еще и с прибавочкой?» — думал Илюшка. Ведь полезут же в башку мысли, как всегда некстати и не к месту. Хоть сапогом топчи их или вон тем пестом выколачивай… «Было бы годов чуть побольше, женился бы сам и ни на кого бы не поглядел. А ребенка полюбил бы как своего родного. Брал бы его с собой на пашню, за травой, на рыбалку. Не испугалась же Аннушка, ушла в Татарский курмыш — смелая и не такая злющая, как сестра Мария…»
— Ты, Илюшка, никуда не уходи из дому, — приказала мать, прервав его размышления о жизни.
Строго поджав бескровные губы, она долго и молча сидела на лавке, потом поднялась, поправила на голове пуховый платок, решительно проговорила:
— За Мухоркой пойду. А потом к Аннушке…
— Одна пойдете? — спросила Настя.
— Его вон возьму, — кивая на Илюшку, сказала мать. — Собирайся живо!
Какие тут сборы. Пока он застегивал полушубок, девчонки подступили к матери и захныкали.
— Мы тоже с тобой…
— Ишо чего.
— Мы все как заревем!..
— Обойдется без вашего реву. За своим добром иду. К Аннушке пойдем все вместе, там нареветесь…
Никогда Илья не видел мать такой суровой и решительной. Все заботы теперь легли на ее плечи — дом, семья, больной отец.
— Заберем, да и все, — выходя из дому, храбрился Илья, хотя на душе было пасмурно.
Апрельское утро было сырым, прохладным. В весенней дымке солнце казалось тусклым и плохо грело. Перешагивая через грязные от навоза ручейки, бегущие под звонким ноздреватым ледком, шли по Большой улице мимо многочисленных захлестанных обозных саней, с которых незнакомые казаки в желтых, помятых за спиной башлыках перекладывали в телеги мешки и казенные ящики. Почти в каждом дворе за плетнями стояли военные кони. Помахивая подвязанными хвостами, они жадно поедали навалом сброшенное с поветей сено и не столько съедали, сколько стаптывали. Кони гулко фыркали — то ли от усталости, то ли от едкого кизячного дыма, лениво сползающего с почерневших крыш. За окнами билась тоскливо-протяжная казачья песня. По стеклам сочились мутные весенние слезы…
Крытый жестью, покрашенный зеленой краской огромный полубояровский дом был обнесен палисадом и стоял на другом конце станицы вторым от края. Двустворчатые ворота были распахнуты настежь. Илюшка с матерью прошли под тесовым козырьком и очутились во дворе, заставленном телегами и санями.
У крыльца их встретил сам хозяин — губастый, широкобородый Ерофей. Он почтительно поздоровался с Анной Степановной. Поговорив о том о сем, главным образом о здоровье отца, спросил:
— Поди, на свою лошадь поглядеть пришли?
— Да ведь, Ерофей Александрыч, не то что глядеть… Это уж само собой, свое кровное… — Мать заморгала глазами и отвернулась.
— Что и говорить! — вздохнул Ерофей.
— Ты хоть покажи, Ерофей Александрыч, где он стоит-то? — Мать беспомощно озиралась по сторонам.
Илюшка тоже шарил глазами по всем углам.
— Тут он, в сарае стоит. Тощой уж больно…
— Ничего, поправим, — ответила мать и, выпростав руки из рукавов старой шубы, нетвердой, вихляющей походкой направилась к открытым дверям каменного сарая. Илюшка кинулся вперед и первым очутился у станка.
Мухорка стоял у кормушки и жевал овес. Мальчик обнял его за худую шею, уткнулся лицом в жесткую, взъерошенную шерсть и заплакал. Мать велит чумбур отвязать, а у него руки дрожат, будто чужие, никак не слушаются…
Мать отвязала сама и вывела коня во двор.
— Уж не увести ли хочешь? — спросил Ерофей.
— А ты как думал?
— Не знаю, не знаю, — пробормотал Ерофей. — На нем сам есаул ездит, сотник.
— По мне хоть сам полковой.
— Ты, часом, погоди, Степановна. Я вестового вызову, а он тебя к есаулу проводит.
— Не нужен мне твой есаул, свое беру, — обходя сани с сенными объедками, проговорила мать.
Между двух телег с высоко поднятыми оглоблями ей перегородил дорогу чубатый казак в одной гимнастерке, без ремня, в резиновых, на босу ногу, калошах.
— Ты, тетка, чего тут распоряжаешься? — спросил он. От него разило луком и водкой.
— Коня своего увожу. Не видишь, что ли?
— Не вижу, с какого боку он твой…
— Ты казака Мишу Никифорова знал?
— Может, и знал… — Казак качнулся, сунул руки в карман.
— Так вот, для своего сына я этого коня с горсточки выкормила, и ты мне дорогу не загораживай. — Голос матери задрожал.
— Ты, тетка, не реви. Мы стоко навидались этих слезов… Вернется твой сын из лазарета, отдадим ему лошадь и седло отдадим без всякой анархии…
— Нет уж, не вернется…
— Тебе откудова известно?
— Матери, сынок, все известно…
— Ну что с тобой поделаешь, мамаша… — Почесав за ухом, казак качался с пятки на носок. — Турнул бы я тебя отсюда, да ладно уж…
— Попробуй… Видно, давно с бабами воюешь…
— Не задевай ты меня, слышь? Давай миром поставим лошадь назад в конюшню и вместе зайдем к есаулу.
— И к есаулу не пойду, и повода из рук не выпущу, хоть стреляй!
— По-хорошему, тетка, прошу, миром! — Казак перестал качаться и протянул руку к поводу.
— Не дам! Сказала, не дам! Можешь ружье брать! — громко выкрикивала мать.
На крыльцо вышли полубояровские снохи. За палисадом показались бабьи полушалки, ребячьи шапки. Ерофей начал уговаривать мать, чтобы она зашла к есаулу. Не слушая его, Анна Степановна вдруг оттолкнула казака и повела коня к распахнутым воротам. Казак рванулся было к ней, но в это время на крыльце появился офицер в очках, в накинутой на плечи шинели.
— Оставь ее, Катауров, — крикнул он казаку. — Пусть уводит. Он же хромает. На нем ездить все равно нельзя. — Дымя папиросой, офицер улыбнулся стоящим на крыльце женщинам и тут же скрылся в сенях.
— Твоя взяла, тетка, — сказал казак, уходя вслед за офицером.
На улице Илья заметил, как тощий, с заостренными маклаками Мухорка сильно припадал на левую заднюю ногу, и сказал об этом матери.
— Да что уж там. Потому и отдали, — махнула мать концом повода. — Жив — и ладно. Теперь дай бог, чтобы Минька…
Поставив лошадь в сарай, Илюшка принес ей навильник сена, выкинул назем, постелил соломы и, не находя себе места, слонялся по двору от плетня к плетню. Мать с Настей и сестренками ушли прощаться с покойником и заодно навестить захворавшую Прасковью — родительницу Аннушки. Илюшку тоже тянуло сходить и взглянуть на Мавлюма. Не верилось, что человек, который несколько часов тому назад разговаривал с ним, смеялся, ласкал коня, застрелен на девятой версте Кувандыкского ущелья.
Через два дня Илюшка пошел на похороны. Проводить земляка пришло много людей. Мавлюма похоронили на татарском кладбище и поставили угловатую плиту. Отец выбил на ней крючковатыми арабскими буквами надпись. Аннушка стояла перед свежей могилой на коленях, разминая в руке горстку холодной земли, усталым голосом негромко причитала:
— Ух, змеи ползучие! Палачи! Звери! Чтобы вот эта земля не приняла ваших проклятых костей…
Все ниже и ниже клонила она голову к рыжей суглинистой земле. Мартовский ветер не мог унять боль, лишь трепал выбившиеся из-под темного платка, освещенные солнцем волосы. Рядом с лопатой в руках, сгорбившись, стоял отец Мавлюма — Ахметша. Неподалеку валялся темным жалким комочком его полушубок с торчащими клочьями шерсти.
Прошло несколько дней. Дутовцы и колчаковцы оставили станицу и пошли к Оренбургу.
В течение трех месяцев защитники Оренбурга, окруженные превосходящими силами белых, вели неравную героическую борьбу.
«Захват Оренбурга белыми позволил бы последним создать из верхушки контрреволюционного казачества экономическую и политическую базу в районе Оренбурга для новых формирований вооруженных сил против Советской власти. И, наоборот, удержание Оренбурга свело на нет политическое формирование контрреволюционной верхушки казачества и выбило у него почву для распространения своего влияния на иногородних крестьян. Это привело к потере веры в какой-либо успех белых и быстрому переходу на сторону Советской власти широких масс трудового казачества…
Белая Оренбургская казачья армия генерала Дутова и 4-й армейский корпус генерала Бакича под Оренбургом были окончательно разгромлены и сброшены со счетов белых армий Восточного фронта»[2].
…Как-то вечером Ахметша принес из Семишкиной лавки почти полное ведро керосина, разлил его по четвертным бутылям, а одну долго и старательно затыкал винной пробкой. На другую ночь он куда-то исчез. Аннушка ждала ребенка и дохаживала последние дни. Теперь она больше находилась у постели хворой матери. Иногда вечером, чтобы не показываться на людях, выходила на яр смотреть ледоход на Урале. Она стояла под апрельскими звездами и вспоминала, как ровно год назад нахлынула ранняя весна. Горные речушки-грязнушки сначала набухали потемневшим снегом, потом вздувались, мчались как бешеные, вырывая с корнем прибрежный чернотал, ломали старые, одряхлевшие ветлы и выбрасывали их в русло реки. Вспомнила, как бежала она на Татарскую поляну к длинным ометам, где ждал ее Мавлюм, как прижимался он щекой к ее лицу. Голос его звучал мягко, нежно, как напевы маленькой скрипки. Потом в темноте он надел ей колечко. Оно и сейчас было у нее на пальце. Аннушка поцеловала его и заплакала.
На реке гулко ворочались, стонали, звенели шугой расколотые льдины, крутились вместе с корневищами деревьев, похожими на живых пауков.
Аннушке жутко стало и за свекра тревожно — уехал, а куда — не сказал. Ахметшу она застала дома. С распухшим лицом, тяжело нависшими веками он сидел на нарах, покрякивая, сплевывал в таз темные, при слабо горевшей лампе, сгустки крови. С кнутом в руках тут же стоял знакомый башкир Муса-Гали, виновато разводя широкими рукавами стеганого бешмета, говорил:
— Ночью пришел к нам в Кидрясово, совсем плохой, кроф много. Вымыли его маленько. Молоко дали, чай. Совсем ничего не кушает… А потом айда, скорее домой повез. Вот ведь какая беда-то! — сокрушался Муса.
— Спасибо, Муса, спасибо! Какой страх! — всплеснула руками Аннушка, подошла к нарам. — Кто тебя так, отец? Кто?
— Там был… — Он повернул опухшее, в синяках лицо, отвечал, едва шевеля губами.
— Где?
— На Баткаке, волков зажигать хотел…
— Каких волков? Господи!
— Они Мавлюма… — Ахметша закашлялся и зажал рот платком. Успокоившись, поднял затекшие глаза. — Не серчай, сноха, маху дал чуть-чуть, собаки схватили… Убили, убили меня, сноха. Помру скоро… Ты его береги! — кивнул головой он на ее выпуклый живот и махнул рукой на порог, давая понять, чтобы она вышла.
Этой же ночью Ахметша умер.
13
…Михаила отпустили по ранению, и он приехал домой во время весенней пахоты. Пахали в супряге с двоюродным братом отца, Матвеем Ильиным.
— Отвоевался, племяшок? — здороваясь с Михаилом, проговорил Матвей.
— Как видишь, — показывая руку, подвешенную на черной повязке, ответил племянник.
— Вижу, платок черный, а сам ты, говорят, шибко покраснел. К большевикам переметнулся?
— Ты, Мотька, не пытай его. Не пытай, — вмешался отец. — Ты сам-то порохового дымка и не нюхивал…
— А кому хочется от чужого дыму кашлять?
Матвей ухитрился не служить ни белым, ни красным. Жена его, Дарья, умная, изворотливая баба, приторговывала пуховыми платками и ядреной медовой бузой. Она часто моталась в разные города — вплоть до Самары, вела знакомство с городскими чиновниками, торговцами. Как-то она свозила своего Мотю в город и показала каким-то знаменитым докторам, всучив за это воздушные пуховые паутинки, и заимела магическую бумажку, которая освобождала мужа от воинской службы. Матвей, посмеиваясь над своей «хворью», работал как лошадь.
Прямо со стана Михаил пошел в поле. Соскучившись по работе, он взял в здоровую руку кнут и сменил Илью, как погоняльщика, заставив ходить за двухлемешным плугом.
Удаляя чистиком липшую к отвалам землю, Илья приглядывался к брату и все искал случая поговорить с ним по душам. Слова Мавлюма, сказанные в канун той злополучной ночи, крепко засели в памяти. После двух гонов Михаил остановил запотевших быков и предложил отдохнуть. Присели на раму плуга и закурили. За последний год Илюшка сильно вытянулся.
— Подрос ты, Илюха!
Не отвечая, Илья убрал тащившиеся на лемехах сухие арбузные плети и притоптал их в борозде. Перепахивали они под овес прошлогоднюю бахчу. В конце загона буйно цвел бело-розовым цветом бобовник. Посапывали вечно жующие быки, отмахиваясь от мух рыжими хвостами. Над головами, как на невидимых нитях, висели поющие жаворонки.
— Я думал, что ты меня не об этом спросишь, Миня, — сказал Илюшка.
— А об чем же? — Михаил медленно закручивал лиловую тесемочку на кисете.
— О Мавлюме, — тихо ответил Илюшка.
Михаил жадно затянулся табачным дымом и окинул Илюшку печальным, затуманенным взглядом. Он чувствовал, что брат не только вырос, но и поумнел. Михаил и раньше боялся его глубоких, черноватых, пронзительно чистых глаз, удивлялся его упрямству в частых и жестоких спорах со взрослыми. Били, наказывали за курение, а он брал табак и курил, запрещали по ночам читать, а он читал. Мог бросить лопату или метелку посреди хлева, обнять соху и о чем-то думать. Отмалчиваться перед повзрослевшим братишкой было невмоготу.
— От Насти все знаю, — заговорил Михаил. — Он сказал тебе, что я дурак?
— Сказал… И правильно сказал… Вместе ходили Дутова брать, дружили на фронте германском, а тут пошли врозь…
— Погнали же, как арестантов! Ты что, забыл, как стояли на площади под пулеметами?
— Помню. Мог бы и по дороге убежать… — Илья вертел цигарку выпачканными в земле пальцами.
— По дороге?.. Тоже нашел чего сказать… Одному?
— Зачем одному? Ты же не один такой был…
— Ваньке Малахову предложил, а потом и сам раскаялся!
— Он про тебя сказал, что ты у нас с фокусами… И плеткой все перед моим носом размахивал. Злой был. Я думал, стегнет за тебя…
— Он потом за мной ходил, как смерть! До ветру не отпускал одного. Прямо-то не говорил, что пулю пустит вдогонку, но видно было, как зенки бешено прищуривал… После с Васей Алтабаевым сговорились. Случай подходящий выпал, дозорными выскакали, спешились, в канавку залегли. Кони выстрелов испугались и назад, а мы поползли вперед. Обстреляли нас.
— Кто?
— Свои, конечно!.. Хорошо, что в плечо угодили, а не в спину. Навстречу к нам двое красноармейцев. Расспросили потом обо всем у комиссара. Меня в госпиталь, а Васе коня дали. Алеша Глебов приехал, растолковал, что и как. Он эскадроном командовал. Вася про Алешу все знал, а он про него… А через неделю Алтабаев ночью целую полусотню увел к красным.
— Иван в тебя стрелял? — допытывался Илюшка.
— Не знаю… Слушай, Илька, ты мне душу не береди. Мы и так ходим с ним и в землю глядим, словно примериваем: кому там первому лежать… Не суйся ты не в свои дела! Ты что, тоже большевиком стал?
— От такой каторжной жизни, Миня, в разбойники убежишь…
— Начитался?
— Насмотрелся… Поживи с тятей недельку, узнаешь… От его окриков на подловку хочется залезть и не вылазить… Кобылы пропали дедушкины, так он готов нас всех взнуздать. Да шут с ними, с кобылами, там люди от голода и тифа мрут, как мухи, а ему — кобылешки…
— Мрут люди — это, Илюха, верно. Да и батя наш после хвори стал похож на ошпаренного кипятком линя…
Здоровье отца на самом деле сильно пошатнулось. Он ссутулился, выглядел стариком, сердился и выходил из себя по любому поводу. Доставалось от него девчонкам, Насте, а больше всего Илюшке и матери. Мать старалась удержать отца от ненужных, пустяковых нападок и заступалась за детей. А дети постепенно отдалялись, ускользали из-под его влияния. Когда отец поправился, перед пахотой он наведался к своему другу Кодаргалею, у которого паслись в табуне остатки дедушкиного косяка. Теперь сохранилась лишь одна старая темно-гнедая кобыла с игреневым жеребенком.
— Куда же девались остальные? — спрашивал отец.
— Все брали — белые угоняли, красные тоже взяли одну. Не обманываю ведь… Ты меня хорошо знаешь…
— Верю.
Ивана Никифоровича это подкосило под самый корень. Он ходил мрачнее тучи. С каждым днем Илья отдалялся от него все больше и больше. Боясь стычек и побоев, он старался избегать отца, испытывая тягостное чувство неприязни и стыда. Дом с жестким, как ярмо, кастовым укладом становился постылым. Нарастало чувство протеста, искало выхода. Первым стал уходить из-под ига отцовской власти Михаил. Он начал возражать против отцовского властолюбия и открыто поговаривал о разделе. Илюшке же некуда было деваться, и он протестовал молча — продолжал красть отцовский табак и почти не таясь курил. Однажды в жаркую, душную летнюю ночь он подслушал разговор: двери в доме были распахнуты. Все спали в больших сенях, отец с матерью в горнице. От жары мать постелила на полу.
После очередного столкновения с отцом Илюшка лежал с открытыми глазами и обдумывал, как убежать из дому и начать новую жизнь. Сладостно и страшно было думать об этом. В сонной тишине он отчетливо слышал каждое слово.
— В кого он такой уродился? — говорил отец.
— Не знаю, — тихо отвечала мать.
— Как ты не знаешь?
— А так… Парень растет, как парень, как все…
— Как все! Он во всем сам себе на уме. Нет у него ни к чему никакого радения!
— Мал еще…
— Мал! Ты погляди, как работает Петька Иванов!.. Уж если везет воз чилиги, так это воз. Двор блестит, молотить можно. Или возьми Малахова — сразу видно, что это хозяин!
— С твоим характером ты кого хочешь отучишь хозяйничать…
— Помолчала бы ты, потатчица. Кто избаловал мальчишку?
— Я, скажешь?
— Ты и дедушка. Головастый, твердили, смышленый, учить надо, в кадеты отдать… Я покажу ему такие кадеты!..
— Ты покажешь… Вон Настя от твоих показок делиться хочет.
— А ты, поди, рада?..
— Радоваться тут нечему… Ты на себя оглянись и вспомни: когда ты был добрым к детям?
Но отец иногда бывал ласковым и добрым. Особенно, когда вместе ходили в баню. Распаривался он и становился неузнаваемо мягок, заботливо мылил Илюшке голову и отмывал добела каждую косточку. Сколько раз Илюшка обманывался этой его «заботливостью» и потом расплачивался своими же косточками… С возрастом он перестал верить в доброту отца, которая, как он понял позже, все же не была показной. Илюшка был памятлив, восприимчив. На особенности его характера сказалось и чтение книг, и влияние Алексея Амирханова, которого он уважал и любил до самозабвения, а Ивану Никифоровичу это причиняло страдание. Он не раз пытался сгладить противоречия, хотел устранить их своими, чисто родительскими средствами. Однажды перед пасхой он велел запрячь в телегу лошадь. На вопрос сына — зачем? — ответил:
— Проедем к рыбакам и по пути наберем в тугае дровишек.
В дни великого поста рыбу полагалось есть только в вербное воскресенье, за неделю до пасхи. Станичные рыбаки, братья Абязовы, взяли у отца лодку и обещали поймать к празднику свежей рыбы.
Отец заставил Илью править лошадью, а сам прилег на разостланный в телеге полог.
Весна в том году была капризной, недружной. В начале апреля сильно пригрело жаркое уральское солнце, за одну неделю почти растопило все сугробы, затем похолодало, пошел снег с дождем и расквасил пашни. Отец решил до пасхи на пахоту не выезжать, а дать земле согреться и подсохнуть. У стариков издавна были свои хозяйственные и погодные приметы.
Было прохладно и пасмурно. Ветер дул вдоль Урала свирепыми порывами, пригибая голый молодой вязник и черемушник. Подъехали к берегу. Урал был взъерошен гривастыми волнами. На яру упруго качались старые осокори. Рыбаки ставили сети в крутояром затишье глубокого левобережного затона. Отец пробовал кричать, но голос его заглушал шум прибоя. Илья предложил поехать к старому ерику и поставить там морды.
— А какой толк?
— Поймаем рыбы.
— Неплохо бы… Только как ты ее возьмешь в такую непогодь?
— Я знаю как…
— Ну, ну, — снисходительно прогудел отец. Он с утра был покладист и уступчив. Илья не понимал, зачем он затеял эту поездку в такой холодный, непогожий день. К рыбакам он любил ездить один, чаще всего верхом, а тут и сына потащил с телегой. Не из-за дровишек же! Когда мотались туда-сюда по тугаю, с хрустом давили звонкий валежник, он даже ни разу не взглянул на это добро. Никогда Илья не видел его таким задумчивым и ко всему безразличным. Он ни в чем не перечил, легко согласился о выборе места с сыном. Еще с осени отец прибрал две новые морды и укрыл их в кустах под корягами. Сейчас они пригодились.
— Добро, что целехоньки остались, — сказал отец. — Вот если бы крылышки им сплести…
— Сплетем, долго ли…
Тальнику было много, и он еще не успел налиться весенним соком. Вдвоем они споро нарезали длинных, ровных, талинка в талинку, гибких прутьев, сплели два крыла, приладили их к мордам и перегородили небольшую протоку, соединяющую — во время половодья — два больших озера — Кривое и Старый ерик. В эту пору, бывало, дедушка Никифор брал таким манером много рыбы.
— А ты дельно придумал, — когда все было готово, похвалил отец. — Варит башка-то… Вот если бы у тебя была такая охота и к другой домашней работе, — добавил он неожиданно.
Илюшка в душе признавал справедливость его слов, но сделать с собой ничего не мог. Домашние дела тяготили его всегда. Смотрел он сейчас по сторонам и молчал.
Вокруг по изрезанной ковыльными межами гриве протяжно завывал степной ветер, зло мотая вязовый куст, за которым стояла лошадь. Ветер налетал яростно — то гнул куст, то срывал остатки мертвых листьев. Те, что упрямо держались на ветках, издавали пронзительный свист, а те, что отлетали, кувыркались в протоку и уплывали на гребешке мутной волны бог знает куда.
Ветер дул сырой, промозглый. Из приставленных к телеге ветрениц и остатков сена с остожья соорудили затишку и укрылись в ней. Было голодно — попробовали есть мякоть из корня ситника-камыша. Он был сладковатый, пах тиной. Отец достал из мешка холодную картошку в мундире и две ржаные лепешки.
— Поговорить с тобой хочу последний раз, — расстилая на сухом сене мешок и раскладывая еду, начал Иван Никифорович.
Илья молчал.
— Ты почему молчишь? — Отец сдвинул папаху на затылок и прислонился спиной к заднему колесу.
Ветер, все круче завывая, тормошил клочья сена.
— Нечего тебе сказать?.. — Отец разломил лепешку на несколько кусков, один кинул в рот. Широким рукавом желтого армяка смахнул застрявшие в бороде крошки. — Слов нет, ты грамотей и голова башковитая, пишешь стишки, читаешь. А к остальным делам нет у тебя никакого радения. Живешь ты в доме, будто чужой…
Илья сидел с опущенной головой, крошил лепешку. Есть ему расхотелось.
— Разве я не для тебя стараюсь? Разве не тебе достанется все мое добро? Но можно ли тебе все это оставить?
Илья еще ниже опустил голову, всем своим видом соглашаясь, что ему никакого добра оставлять нельзя… Отец мог работать, как двужильный, а для Ильи выезд в поле — будь это весенняя пахота, сенокос, жнитво или молотьба, которую он когда-то любил, — хуже каторги. Беда была и в том, что всякий раз, куда бы отец ни собирался ехать, с раннего утра беленился, бранил всех, кто попадался под руку, за каждую мелочишку. За всякий пустячный промах мог наградить затрещиной, да какой!.. Ему казалось, что все, начиная с матери и кончая Ильей, делали ему наперекор и ничем не могли угодить. Чаще всех козлом отпущения был Илюшка.
— Как, дармоед, вожжи смотал? — раздавался на весь двор его окрик.
Вожжи Илюшка прибирал еще неделю тому назад, но, видимо, не сумел сложить их колечко к колечку.
— Где калачи? Чиляк с кислым молоком? Ну погодите, лодыри.
Илья и Шурка метались, не зная, что делать с калачами и чиляком. Не боялась отца одна Настя.
— Начинается… — язвительно говорила она, подходя к телеге с ворохом разной на плече одежды. — Будет теперь куражиться на весь белый свет. Что за свекор, господи!
Настя была справедлива и беспристрастна. Первые годы отец вроде стыдился снохи. Трудно было ему придираться к этой строгой, работящей молодухе — возможно, он чувствовал ее твердый, спокойный характер.
— Опять достанется вам на пашне, — говорила она.
И Илье с братом доставалось. Не так Михаилу, как младшему. Старший брат был защищен женитьбой, службой в армии, участием на войне. Илья же чувствовал себя бесправным и беззащитным. Родили, будто картуз купили и по отцовскому велению могли напяливать на любую башку… Его шпыняли на каждом шагу. В любой промашке видели подвох, злой умысел — ежели Илья ударял не того быка или в борозде делал огрех, на него замахивались кнутом, а то и чистиком.
С каждым годом Илья внутренне все больше и больше отдалялся от отца. Был рад, когда тот уходил куда-либо. Отец почувствовал это с первых же дней своего выздоровления и решил, что сын без него отбился от рук… Стало известно ему и про драмкружок, который возник при школе. Создал его Алеша Амирханов. Там они читали и репетировали пьесу Гоголя «Женитьба» и «Юбилей» Чехова.
— Ты, говорят, без меня какие-то комедии тут разыгрывал? — Слово «комедия» звучало так, будто сын человека зарезал. — Видишь, до чего довели тебя книжки… Ты даже комедиантом решил заделаться, — продолжал отец. — Пристало ли моему сыну перед людьми кривляться? Сроду этого не было в нашем казачьем роду! До чего дожил!.. Ну гляди, парень, я это комедиантство вышибу из тебя одним духом. Вся жизнь трещину дала, а у него комедь на уме! — Отец сердито плюнул на цигарку, бросил под ноги и затоптал сапогом. — Давай твою морду смотреть. Домой пора.
Илья обрадовался, спустился к протоке, потянув морду за крыло, почувствовал, как оно сильно затрепетало в руке. Карасей налезло чуть не полмешка.
«Жизнь дала трещину», — всю дорогу думал он над словами отца и понял их смысл только позднее. Весной сыграли свадьбу Марии и Степана Вахмистрова. Свадьба была не очень веселой. В станицу все чаще и чаще привозили гробы с убитыми казаками. Прокатилась молва о больных тифом и даже холерой. Какое уж тут веселье! Семья уменьшилась, но все равно оставалось еще одиннадцать душ. И все-таки в доме что-то изменилось, как-то нарушился давно установленный уклад. Несмотря на угрозы родителя, Илья продолжал много читать. Не ладил отец и с Михаилом. Брат побывал на двух войнах. Вернулся с искалеченной рукой и вольными мыслями. Отец вольностей не терпел и с каждым днем становился все мрачней и мрачней. Чтобы не видеть этого, Михаил запирался в горнице и возился там со своими ребятишками.
Иногда отец не выдерживал, врывался в горницу, и начинался крик. Истошно плакали ребятишки. После скандала Михаил не выходил к общему семейному столу, обедал с женой и детьми у себя в горнице. Отсутствие внучат окончательно выбивало отца из колеи. Обеды в такие дни превращались в пытку. От одного угрюмого вида отца у Шурки тряслись руки и расплескивалась с ложки лапша.
— Как ешь, тетеха! — орал на нее отец. Шура совсем терялась и не могла попасть в рот ложкой…
К несчастью, таких дней было немало, и от необузданных вспышек отца всем становилось невмоготу…
14
Трещина в семье расширялась — больше всех это чувствовала мать. Она беспокойно металась от мужа к Михаилу, от Михаила к Насте, от Насти к остальным детям и внукам, что-то пыталась смягчить, кого-то с кем-то примирить, а сама в хлопотах и заботах после четырнадцати родов старела, увядала, гасла ее былая, неповторимая красота. У Илюшки ныло сердце, когда он видел, как сбегались морщинки возле ее добрых, усталых глаз. Больше всего на свете он боялся, что однажды вдруг лишится матери. В детях это, наверное, заложено от первого прикосновения к материнскому соску. Все ли берегут своих матерей?
Попытки матери заполнить образовавшуюся трещину ни к чему не привели. Все одним ударом разрушил сам же Иван Никифорович. Остальное сделала жизнь и ее беспощадное сокрушительное течение…
После троицына дня Никифоровы почти всей семьей выехали на сенокос. Домовничать осталась тетка Аннушка, Варька с Нюркой и двое маленьких — дети Михаила и Насти. Обильным разнотравьем славились приуральские гривы. Вскоре на обширных прогалинах между чилижником и курганчиками замаячили зеленые копны душистого сена. Ранним прохладным утром начали метать первый стог. Илюшка с Шуркой верхами на лошадях возили копны. Настя и мать подкапнивали. Михаил чувствовал себя совсем здоровым и вершил стог. Отец подавал, орудуя большими деревянными вилами. Он с утра был не в духе, отругал Михаила за то, что тот нарубил коротких ветрениц. Все началось с этого пустяка. Иван Никифорович так разгневался, что схватил топор и побежал рубить другой хворост…
— Ну и пускай папашенька побесится… Надоели его куражи, — сказала Настя.
Первые копны свезли без него. Вернулся он со связкой длинного чернотала под мышкой и сразу же закричал на Шурку, что она медленно порожняком возвращается. Он не принимал в расчет, что Шура не умела обращаться с конем.
— Ползешь, как муха после дождика! — корил ее отец.
В тот год, как на грех, буйно уродилась и вызрела дикая клубника. Крупные ягоды краснели на скошенных рядах, вялились на солнце целыми гроздьями, да и в чилижнике было ее полным-полно. Пока Илюшка подвозил копну к стогу, мать уходила в бобовники и собирала клубнику прямо в ведерко. Когда Илюха подъезжал, мать угощала его душистыми ягодами. Однако с каждым разом дальних копен становилось все меньше, а расстояние от ягодного бобовника все увеличивалось. А Илюшка, после того как отец отругал Шурку, скакал к новой копне галопом, и мать не всегда поспевала вернуться. Приходилось поджидать ее с ягодами. Этого было достаточно, чтобы отец снова разгневался. На беду следующая копна, которую волочила Илюшкина лошадь, подрезалась на полпути. Отстегнув арканную петлю, Илюша заехал вновь, чтобы зацепить копешку. Иногда ему удавалось удачно обвести аркан, но на этот раз он промахнулся и срезал копешку наполовину. Мать увлеклась сбором ягод, ползая в кустарнике, не видела этого, зато Иван Никифорович ничего не проглядел. Размахивая черноталом, он подбежал к Илюшке, стащил его с лошади, вскочил на коня сам и помчался навстречу бежавшей матери. Михаил видел, как над ее головой взвилась ветреница. Мать упала рядом с копной. Скатившись с незавершенного стога, Михаил поднял железные трехрогие вилы и пошел на отца. Мать поднялась и тихо поплелась в направлении стана. В одной руке она держала ведерко с ягодами, другой зажала рассеченную бровь.
— Запорю зверя! — надвигаясь на отца, прохрипел Михаил. На побелевшие глаза его свисал светлый чуб, припорошенный сенной трухой.
— Брось вилы! — задирая морду тяжело дышащего коня, крикнул отец.
— Изверг! Мучитель! Думаешь, нет на тебя управы? Забыл, какие теперь времена!
Страшные, непонятные для отца слова слетели с языка старшего сына, а младший стоял в сторонке и смотрел на них темными, непокорными глазами.
Вдруг отец опустил крупную чубатую голову, как будто желая подставить себя под удар, повернул коня боком, проговорил негромко:
— Ну что ж, ладно… пори отца.
— Эх ты! Родитель, родитель! — кричал Михаил, нацеливаясь вилами.
— Да будет вам! Перестаньте, ради Христа! — взвизгнула подбежавшая Настя. — Белены, что ли, объелись?.. Эх ты, папашенька, папашенька! А ведь накажет тебя господь бог, накажет! — Настя с размаху воткнула вилы в разворошенную копну, отпустив черенок, присела на сено, вытирая лицо подолом синей юбки, устало заплакала. Из-за копешки, в сбитом на затылок платочке, выглядывала Шурка и всхлипывала.
Ни брат, ни Илюшка не могли простить этого изуверства своему отцу, хотя он тут же раскаялся, догнал мать и просил у нее прощения.
15
После случая на сенокосе Илья и Саня долго не могли опомниться. Без боли нельзя было смотреть, как двигается по кухне мать с завязанным глазом. Растерянным и неестественно мягким казался отец. Он заигрывал с внуками, но это быстро надоедало ему; тогда он напяливал на лоб старую фуражку, уходил во двор и копался там. Михаил почти не разговаривал с ним. От службы у белых он уклонился, отсиделся где-то в горах. А к осени белая армия начала разваливаться. Красные ходко погнали беляков на восток. Дутов бежал в Китай, Колчак — в Сибирь, где был пойман и расстрелян.
В станице Петровской прочно укрепилась Советская власть. Стали возвращаться с фронта казаки. Многие были больны тифом. Болезнь буквально косила народ. Особоуполномоченным сюда приехал комиссар Ефим Павлович Бабич. Он поселился в горнице у Никифоровых и тотчас же занялся изоляцией больных и вылавливанием дезертиров. Ушел в Красную Армию Михаил. Настя с ребятишками теперь больше находилась у своей матери.
Илюшку точно магнитом потянуло к Бабичу — человеку новому и интересному. Они быстро стали друзьями. Узнав, что Илья любит читать, Бабич стал посылать его в школьную библиотеку за книгами. Илюшка брал книги по его запискам, а для себя все, что ему вздумается. Иногда Ефим Павлович заходил в школу во время репетиций. Ставили «Женитьбу» Гоголя. Руководителем кружка стал Алеша Амирханов. Он же играл и Подколесина. Невесту играла сестра Алексея Валентина, сваху — молоденькая, недавно прибывшая попадья — Нина Александровна, которую комиссар Зинченко почему-то назначил делопроизводителем загса. Однажды на репетицию пришел и сам священник — спокойный светловолосый попик лет тридцати. Гаврила Епанешников, исполнявший роль Ивана Павловича Яичницы, порекомендовал назначить отца Константина суфлером. Батя охотно согласился, благо попадья неумеренно вертела накрахмаленной юбкой вокруг Алеши. Илюшка играл слугу.
Смеху и веселья на репетициях было столько, что в школу стали вечерами приходить не только молодежь, но и взрослые казаки. Осмелев, они начали давать артистам свои советы. Доставалось и попу.
— Да что же это, едрена корень, за пастырь? Кто к нему говеть-то пойдет?
— Отговелись…
— Говорят, попа тоже в комсомолы запишут…
В следующий раз, чтобы избавиться от посторонних, пришлось закрывать на крючок дверь и завешивать окна.
Особенно смешно было, когда на сцене появлялся Гаврила Епанешников — Яичница: низкорослый, круглолицый казак с окладистой рыжеватой бородкой — весельчак, балагур, обладавший природным юмором. Когда он начинал перечислять по росписи приданое, считать флигеля, дрожки и парные с резьбой сани, зал дрожал от хохота. Все знали его ужимки. Гаврила старался своей игрой высмеять скопидомный характер многих, всем известных в станице казаков.
Успех спектакля был такой, что пришлось показывать его несколько раз. В школу набивалось столько народа, что во время представления в зале гасли керосиновые лампы — не хватало воздуха.
Светлое, необычное входило в жизнь Илюшки, как теплота весеннего солнца. Вечерами в школе была совсем иная жизнь, а дома… Если бы не мать, наверное, и домой бы не вернулся совсем… Отец смотрел на его «комедиантские» дела косо, ворчал по утрам, но пресечь увлечение сына не решался, побаивался Ефима Павловича, который был в восторге от постановки.
Однажды после репетиции Ефим Павлович задержал кружковцев и поблагодарил за спектакль.
— Гоголь — это, конечно, смешно и весело. Хорошо! Но ведь свершилась великая революция. Именно ее вы и должны прославлять. Поставьте революционную пьесу, разучите революционные песни, стихи. А батюшку, Алеша, пожалуй, лучше отстранить. Думаю, что вы и без него справитесь. Да и не по пути нам с попами…
Зимние вечера длинные, керосину в школе много. Как секретарь, теперь уже волисполкома, Алеша распорядился, чтобы привезли целую бочку. Можно и беседу прослушать, о боге поспорить, прочитать вслух новую пьесу. Каждое воскресенье показывали новый спектакль. Заправлял всем по-прежнему неутомимый большевик Алеша — единственный в станице большевик — и трое комсомольцев. Ячейка была создана как-то внезапно. Тогда наезжало в станицу немало всяких представителей. По привычке всех их звали комиссарами. Однажды вечером на одну из репетиций пришел Ефим Павлович, привел с собою молодого парня в очках и объявил, что прибыл агитатор. Парень провел беседу о Коммунистическом союзе молодежи.
После выступления агитатора был составлен список вступающих в РКСМ.
— Иван Серебряков, бери ручку и пиши, — сказал Алексей Николаевич.
Иван послушно сел за учительский стол, открыл тетрадку, куда он записывал все сыгранные роли, обмакнул в непроливашку перо.
— Пиши, — диктовал Алеша торжественно. — Пиши, Ваня:
Протокол № 1 Петровской ячейки РКСМ того же района.
СЛУШАЛИ:
1. Об организации ячейки РКСМ.
2. Текущие дела.
ПОСТАНОВИЛИ: Создать в станице Петровской ячейку РКСМ. Просить уездный комитет утвердить членами Российского Коммунистического союза молодежи следующих товарищей:
1. Петрова Федора Андреевича.
2. Серебрякова Ивана Ивановича.
3. Никифорова Илью Ивановича.
Избрать секретарем Ивана Серебрякова.
Иван писал, а Илюшка заглядывал ему через плечо. Это был первый в жизни протокол, и слова с л у ш а л и и п о с т а н о в и л и вызывали трепет. Возбужденный Илья усвоил одно, что теперь он сам вроде большевик. На душе было радостно и страшновато…
По дороге к дому он спросил у Ивана:
— Значит, Ваня, и мы теперь большевики?
— До большевиков у нас еще кишка тонка. — Прихрамывая, Ваня шагал рядом, суровый и задумчивый. Серебряковы жили от Ильи неподалеку, в узеньком скотопрогонном переулке. У поворота домой Иван остановился, придержав Илюху за руку, сказал:
— Ты гляди, большевик, дома не проговорись, куда мы с тобой записались…
Именно эта мысль и Илье не давала покоя. Он знал, что родные не одобрят его нового комсомольского звания, а тем более отец.
— Сколько же мы будем скрывать?
— Столько, сколько надо. Покамест будем жить тайно.
— Вроде подпольщиков, что ли?
— Да нет… Нам надо учиться. Вот что.
Еще бы! Илюшка думал о занятиях в школе, как о самом чудесном минувшем времени, бранил себя, что не всегда был прилежным учеником.
— Будем больше читать книг новых, пьесы разыгрывать чаще.
Первое время вся работа ячейки к этому и сводилась. Начали ставить пьесы Островского. Они были созвучны казачьему домострою, выворачивали наизнанку весь уродливый, деспотичный быт. Длинные монологи сокращали, чтобы облегчить постановку. Учились декламации, пели хором новые, революционные песни.
Однажды в разгар репетиции вошла закутанная в пуховый платок Илюшкина сестра Мария. Остановилась у порога и поманила брата пальцем.
Илюшка медленно и неохотно подошел. Визит сестры ничего хорошего не сулил.
— Выйдем на час? — сказала она.
«Может, с Михаилом что-нибудь?» — подумал Илюшка. Брат воевал в Красной Армии на Украине. Они гонялись за какой-то бандой. «А может, отец узнал про комсомольские дела?»
Сестра его опередила.
— Ты тут песни распеваешь, а дома мать помирает.
Мария, как всегда, была суховата и беспощадна в словах. Илюшка знал, что мать больна, отца дома не было. Он полагал, что мать просто прихворнула немножко. Это обычное дело в семье — полежит несколько деньков, попарится в бане да и встанет как ни в чем не бывало. Неделю тому назад она возила на маслобойку несколько мешков семечек и вернулась с бочонком подсолнечного масла. Илья тогда встретил ее у ворот, принял из продрогших рук вожжи. В длинном, черной дубки, тулупе она с трудом вылезла из саней, отряхнулась от налипшего снега и проговорила глухим, осипшим голосом:
— Захворала я, сынок, совсем….
В сенях Илюшка развязал на спине концы ее пухового платка, помог снять шубу.
— Видишь, щеки-то какие… — Она прислонилась к его лицу горячей щекой. — Не знаешь, когда приедет отец?
— Нет. Говорят, больно завозно.
Отец вторую неделю сидел на реке Кураганке на мельнице и ждал очереди, чтобы смолоть зерно.
— Сбегай-ка, родимый, за Иваном Васильевичем, — попросила мать.
Иван Тювильдин был казачьим фельдшером. Тугой на уши, заядлый курильщик, он долго укладывал в старую кожаную сумку свои инструменты, дымил козьей ножкой и кашлял, как из бочки. Шел не спеша.
Что он слышал, когда прислонялся к больному своим глухим ухом?
Подержав за руку, заключил:
— Инфлюэнца.
Пациенты переиначивали это замысловатое слово на свой лад:
— Лихоманка…
Иван Васильевич давал порошки, значение которых было известно только ему одному… Если у больного был жар, «прописывал» на лоб намоченную в холодной воде тряпку; если знобило — горячую баню. Как он лечил мать, Илюшка не знал. Она лежала на кровати в боковушке передней горницы, где умер дед Никифор. Детей туда не пускали. Когда Илья с Марией пришли, мать уже лежала на полу. Говорила с трудом, хрипло, знаками велела позвать детей, перекрестила каждого, потом отвернулась к стене и еще тяжелей задышала.
Всю ночь никто не спал. Рано утром тетушка Анна, повязанная черной шалью, и Настя с распухшими от слез глазами снова повели детей в горницу.
Мать уже лежала в переднем углу на лавке, закрытая до подбородка чем-то белым. Лицо ее было спокойно, а плотно сжатые губы еще сохраняли живую, трепетную теплоту. Ощущение этой последней материнской теплоты он сохранил на всю жизнь. Оглушенный звуками рыдающих, он незаметно вышел и очутился в коровьем хлеву. Коровы тоскливо замычали. Он машинально взял вилы и бросил им несколько навильников сена. То, чего он боялся с самого раннего детства, свершилось. Хлев. Коровы. Соха, обтертая до светлой гладкости коровьей шерстью, и он — один во всем мире со своим страшным, внезапно поразившим его горем. Он, наверное, громко плакал, в дверях появилась соседка. Это была женщина одних лет с матерью. С ее сыном Илюшка учился в школе. Она стала утешать его, говорила какие-то добрые, жалостливые слова, от которых еще громче хотелось плакать. Здесь, в коровнике, и нашел их отец. Опустив непокрытую голову с мокрым от слез лицом, Иван Никифорович стоял в дверях, сжимая в руках папаху.
— Нет у нас больше матери, — дрожащим голосом сказал он. Он хотел еще что-то сказать сыну, но не смог, часто заморгал и отвернулся. Лицо его показалось Илье до жути чужим, почерневшим.
— Как будем жить-то без матери, а? — спросил он наконец, ударяя себя по сморщенному лицу папахой.
Илья не знал, как они будут жить без матери. В памяти вдруг всплывал стог сена, черноталовая ветреница, свистящая при взмахе отца, и мать, уходящая к далекому стану с рассеченной бровью…
Последний раз Илюшка прощался с матерью в церкви. Кругом горели свечи. Он снова поцеловал ее, но губы уже не отдавали прежнего трепетного тепла…
После похорон матери девчонок на время взяли к себе сестры Ивана Никифоровича.
Илюшка пока оставался дома под крылышком тетушки Анны. Она хоть и не могла заменить ему мать, но в ее заботах он очень нуждался. Насте было не до сирот. На ее плечи легли все домашние дела, да и свои двое малышей отнимали время. Вскоре Илюшку взял к себе учеником делопроизводителя Алеша Амирханов и этим круто повернул его судьбу. Приближался голодный 1921 год. Уже с осени Настя перестала замешивать калачи и лишь по воскресеньям выпекала тоненькие шанежки, а потом исчезли и они. Если раньше она раскатывала для лапши большие — во весь стол — сочни из белой, просеянной на мелком сите муки, то теперь брала одну-две пригоршни простого размола, брызгала водичкой, растирала пальцами и бросала в кипящий котел. К середине зимы люди стали пухнуть с голоду, а к весне столько поумирало, что даже некому было рыть могилы. Мертвых складывали в бывший пожарный сарай. Прекратились спектакли, свернулась работа комсомольской ячейки. Ванюшка Серебряков, чтобы не умереть с голоду, уехал куда-то в Ташкент. Похоронив отца и дядю Алексея, умерших от сыпняка, в тот же край отправился и Санька Глебов с матерью. Волисполком в Петровке был упразднен. Алешу Амирханова перевели в уезд.
Захирела станица. Землю истощили сухие ветры, высохли все мелкие горные ручьи. Коров, которых не успели съесть, чтобы хоть как-то сохранить до весны, кормили снятой с крыш соломой, подвешивали к перекладинам на веревках.
Неслыханно тяжкое наступило время в эти два последних неурожайных года.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
1921 год унес много жизней. Как только весной чуть смягчилась, оттаяла земля, петровцы выкопали рядом с общим кладбищем большую продолговатую яму и захоронили в этой братской могиле русских и татар — земляков своих.
Положив перед собой список умерших за зиму односельчан, Илюшка по указанию Алеши записывал фамилии покойников в толстую книгу с загадочным названием «АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ». Записал он туда и свою любимую тетку Аннушку, и отца Алексея Амирханова — Николая Алексеевича.
Вечерами Алексей все чаще брал с собой в исполком Илюшку и учил, как нужно вести делопроизводство. Илюшка старался все запомнить и усвоить. Кроме регистрации поступающих бумаг — чему всегда учат в первую голову, — он научился вести протоколы заседаний, выписывать окладные листы по налогам, составлять разные нехитрые бумаги и справки.
— Учись, Илюша, учись. Придет время, меня сменишь, — говорил Алеша.
— Ну что вы, Алексей Николаевич…
— А почему бы и нет? Поедешь учиться. А главное, больше читай. Заведи тетрадку, записывай туда все, что прочитал, о чем книга, что больше всего понравилось.
Однажды январской ночью Алексей прислал за Ильей исполкомовского сторожа.
— Скорея иди. Заболел Олексей Миколаич, — сказал сторож.
Застегивая на ходу полушубок, Илюшка выбежал на улицу. Мороз стоял лютый.
Алексея Николаевича он застал в постели. Он полулежал на подушках и гулко кашлял в платок, зажатый в костистый кулак.
— Ленин умер, — сказал Алексей. Глаза его блестели сухо и жарко.
— Что же теперь будет? — испуганно спросил Илья, мысленно дивясь тому, что не может представить Ленина неживым.
Илья вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха и к горлу подкатывается горький ком. Они посмотрели друг на друга и без слов поняли, что думают сейчас об одном и том же — о беспощадности и неумолимости смерти.
— Покурить бы, — сказал Алеша.
— Вам же, Алексей Николаевич, нельзя.
— Мне скоро, пожалуй, все будет можно… Ты, гляди, не проговорись моим домашним… Знают только фельдшер Тювильдин да ты, мой дружок. А как, наверное, не хотелось Владимиру Ильичу уходить из нашего нового, прекрасного мира? Сколько он не успел еще сделать! Теперь вы, молодые, должны довести его дело до конца. А чтобы лучше понять все, что у нас происходит, надо изучать труды Владимира Ильича Ленина. У него ты всегда найдешь ответ на любой самый сложный вопрос.
Алексей видел, как Илья тянулся к знаниям, но осмыслить все ему было трудно и сложно — не хватало образования. И он старался оказать ему посильную помощь. Алексей часто приглашал Илью к себе домой. Они наскоро ужинали и садились за книги. Желание знать больше у Алексея с Ильей было взаимным и фанатичным.
Работы Ленина читали вслух. Илья часто спотыкался на непонятных словах, делал неправильные ударения. Алексей терпеливо поправлял его, заставлял рассказывать прочитанное, объяснял непонятные места. По его совету Илюша вел конспекты прочитанных работ.
Все лучше и глубже он понимал окружающее.
— Труды Владимира Ильича надо знать. Только тогда из тебя выйдет хороший советский работник, — говорил ему Алексей Амирханов.
Илюша любил Алексея. От него исходило то самое человеческое тепло, которого со смертью матери так не хватало. Да и петровцы, за исключением богатой казачьей верхушки, уважали секретаря волисполкома. Многие, кто остался в живых, были обязаны ему — единственному в станице молодому коммунисту. Еще до распутья он добился в уезде, чтобы в Петровскую завезли пшеницу на семена, просо и кукурузу для голодающих.
После гибельных суховейных лет на уральскую степь хлынули, словно по заказу, обильные дожди. Поднялись хлеба в человеческий рост. На улицах запахло свежеиспеченным хлебом. На поправку пошли казачьи дворы. Замычали за обновленными плетнями коровы, заблеяли овцы.
Сразу же после первого урожайного года зять Степан где-то закупил по дешевке телят. Не прошло и трех лет, как эти бычки превратились в крупных волов.
Ни к чему не лежала душа лишь у Илюшкиного отца. Старший, Михаил, отделился еще до голодных лет, а младший, Илья, в исполком ходит да в комсомольскую ячейку. Все чаще Иван Никифорович жаловался зятю Степану на Илью:
— Хворает Алешка. Видел я на собрании, как он кашлял в платочек… Илья за лекарствами для него аж в самый уезд гонял. Хороший Алексей парень, и с отцом его мы жили душа в душу, а вот сына он у меня отнял, от бога отлучил. В хозяйстве работает через пень-колоду, больше за книжками просиживает. Говорит, что жалованье ему назначили двадцать рублей. Сапоги себе справил, френч по моде, гармонь купил. Безграмотных буквам учить вздумал с Федькой Петровым. Тоже мне безусые учителя выискались. А в станичной сборной, что ни день, то пляски под гармонь. Опять комедии начали разыгрывать. До работы ли тут, до назьму ли в хлеве?
— Воли вы ему много дали, папаша, — замечал Степан. — Подрос, только нашего, казачьего, в нем ничего не осталось…
— Ну это ты зря, Степа, — отвечал Иван Никифорович, стараясь снять с души тяжкие мысли о сыне. — Илья, конешно, слов нет, другим стал: с мачехой обходительный, называет ее на «вы», не то что Варвара. А сладу нет с ним…
Степан отмалчивался. Он больше думал о том, как бы поскорей достроить новый дом да еще пары две телят прикупить и пустить в нагул. Дети пошли один за другим — четыре сына родились после голодных лет.
В 1925 году волисполком был переведен в большое торговое село Покровское. Переехал туда и Алеша. Он все чаще стал кашлять, в доме у них запахло креозотом.
В следующем году, зимой, Илья был взят на допризывную подготовку, которую проводили командиры кавалерийского эскадрона территориальных войск. Пройдя ее, Илья по рекомендации Алексея Николаевича был назначен секретарем Петровского поселкового Совета. От отца он ушел и поселился в доме Пелагеи Малаховой.
Жизнь в станице постепенно налаживалась. Сельхозмашины, полученные из кредитного товарищества, быстро помогли восстановить пришедшее было в упадок хозяйство. Возродилась и начала расти кооперация, увеличивался приток пайщиков. Чем быстрее богатела станица, тем труднее стало работать комсомольцам — Илье и его другу Феде Петрову. Вновь принятый Иван Молодцов заседания посещал украдкой. Приняли в комсомол и Саню Амирханова — бойкого, смышленого парнишку. Но он был еще совсем молод и учился в средней городской школе.
Трудно было комсомольцам потому, что в то время кооперацией в станице заправляли братья Полубояровы — Сергей в потребиловке, а Пашка, с которым Илюшка и семья Прохоровых баталились за вишню, теперь верховодил в кредитном товариществе. Председателем поселкового Совета избрали Николая Горшочкова. Он хоть и ходил арестовывать Дутова, но до смерти боялся зажиточных бородачей, в особенности Полубояровых.
— Не связывайся ты с Полубояровым, — говорил он Илюшке, — эти кержаки кого хошь в бараний рог согнут…
Когда приезжал из города Алексей Амирханов, он говорил иначе:
— Полубояровым никакой пощады! Два братца заправляют кооперацией. А где другие? Вспомни, Илья, как мы с тобой прорабатывали материалы Десятого съезда РКП(б). Решение нашей партии о замене продразверстки натуральным налогом, о борьбе с оппозицией, о единстве партии. Это надо знать каждому комсомольцу. На этом съезде Владимир Ильич Ленин говорил, что сближение рабочего класса с крестьянством спасло революцию. Но соглашение это в силу своей классовой разнородности непрочно. А с казачеством, будем говорить прямо — это я добавлю от себя, — дела обстоят и того хуже. Гражданская война выкинула за границу два миллиона эмигрантов, в числе их несколько сот тысяч казаков. Там есть и наши станичники, братец Полубояровых тоже есть. Живут они в Маньчжурии и пока не собираются складывать оружия. Мало того — у меня есть сведения, что сибирский кадетский корпус переброшен из Шанхая в Югославию и объединен там с донскими кадетами под эгидой барона Врангеля. Вывод: готовят офицерские кадры, и, разумеется, не для того, чтобы маршировать в лампасах перед недобитыми генералами, а для борьбы с Советской властью. Сейчас мировая буржуазия, а вместе с нею и вся зарубежная белогвардейщина не перестают распространять про нас самую несусветную ложь о том, что Советская власть недолговечна, что двадцать шесть тысяч казаков во главе с атаманом Семеновым двигаются по Сибири, восстают большими массами и кубанские казаки, что кавалерия Буденного перешла на сторону бунтовщиков.
— Присоединилась возле Орла! — со смехом подхватил Илья. — Это товарищ Ленин говорил! Как можно забыть такое?.. Помню, как мы тогда хохотали с вами!
— Сейчас, дорогой мой, не до смеха. Полубояровы и их приспешники ждут, когда над станицей снова взовьется белый флаг. А пока они тепленько укрылись нашим красным кооперативным знаменем. Вот что страшно. Повторяю: никакой пощады им! Будь здоров как они ловко используют лозунг нашей партии о свободной торговле. Открыто спекулируют хлебом, скотом, пухом, шленкой, пуховыми платками, ажурными шалями. А платки и шали должны идти на экспорт. Нам нужно золото, чтобы купить машины, которых у нас еще нет. Присмотритесь, чем они торгуют в кооперации? Ведь завозят черт знает какую дрянь! Изгонять их надо из кооперации, и чем скорее, тем лучше.
— Что-то надо придумать, — пожимал плечами Илья, жалея, что Алексея Николаевича перевели в район.
— Придумать… Почему комсомольцы не организовали выпуск стенной газеты? Говорю тебе, что у этих толстобаших кооператоров не все идет тихо и гладко! Не все!
На собрании ячейки обсудили вопрос о стенной газете. Подражая журналу «Крокодил», газету назвали «Бегемот». Как бы ни были наивны первые заметки в стенгазете, но они все же делали свое доброе дело. Полубояровы мало пока завозили нужных товаров — дешевых сатинов, ситцев, зато ерунды всякой, вроде плохих детских игрушек, гнилой веревки, помады, высохшего, твердого, как галька, чернослива, был завал. Всеобщую насмешку вызывали небольшие слоники, вылепленные кустарями из глины, смешанной с соломой. Голова слона крепилась на металлическом стержне и свободно раскачивалась. Игрушка была сделана примитивно, грубо, а стоила дорого. Вислоухие слоники стояли в магазине на длинных полках и уныло мотали аляповатыми башками. Вот о них-то и написал Илья свою первую заметку. Заканчивалась она так:
«Выстроились слоники в один ряд, глядя на цену, хлопают большими глиняными ушами. А покупатели, тоже покачивая головами, ждут, когда председатель Полубояров вместо соломенных слонов завезет дешевого сатина и ситчика…»
— Эту заметку можно и в уездную газету послать, — сказал Алексей Амирханов. К тому времени он уже работал в Зарецком исполкоме.
К великому удивлению и радости комсомольцев, заметка действительно была напечатана в газете и почти без всяких изменений.
Однажды в поселковый Совет вошел высокий парень во всем кожаном — в тужурке с косыми карманами, в модной по тому времени кожаной с козырьком шапке, с большим, из рыжей кожи, портфелем. Сняв коричневые, из мягкого хрома перчатки, переводил быстрый взгляд живых, веселых светло-серых глаз то на Горшочкова, то на Илью.
— Вы Никифоров? — спросил он, указывая на него пальцем.
— Он самый, — смущенно ответил Илья. Он принял гостя за одного из уездных уполномоченных, которые часто приезжали покупать скот, козий пух, перемерять обширные казачьи земли, морить саранчу. — А вы, извините…
— Василий Кудашев, писатель из Москвы, сотрудник «Крестьянской газеты». А сейчас еще и корреспондент вашей оренбургской газеты «Смычка».
Пожав Илье руку, он решительно протянул ее Горшочкову.
— А вы председатель Совета, если не ошибаюсь?
— В точку попали, — кивнул Горшочков. — С какими к нам новостями?
— По газетным и молодежным делам. Ну и еще немножко по литературным…
— Это как понимать? — спросил Горшочков.
— Езжу вот по селам и станицам, раскладываю людей по сортам, вслушиваюсь в казачью чекменную мудрость, мотаю на ус…
— А у самого усов-то и нет! — Горшочков тронул свои рыжеватые, словно опаленные, усишки и засмеялся.
— Ничего, отпустим… А вы казак?
— Сын казачий, — усмехнулся председатель и подумал, какими мандатами могут располагать вот такие писатели.
— Это еще хорошо, что сын…
Словно прочитав его мысли, Василий Кудашев развернул перед председателем удостоверение «Смычки» на фирменном печатном бланке, а перед Ильей положил на стол второе удостоверение — в корочках, да еще с позолотой на обложке: «КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА».
— Сначала, товарищ Никифоров, поговорим о молодежных и комсомольских делах. Я заведую в газете именно этим отделом. Где бы нам приютиться?
— Да располагайтесь тут! Я как раз уходить собираюсь! — сказал Горшочков.
Коротко расспросив, сколько в станице комсомольцев, какая ведется работа, гость неожиданно положил на стол знакомую уездную газету и, разглядывая Илью в упор, спросил:
— Вы писали эту заметку?
Илья смущенно наклонил голову.
— Значит, ваша. Давно пишете?
Узнав, что это первый в жизни опыт, гость удивился.
— Мне предложили быть сельским корреспондентом газеты «Орские известия». Не знаю, как быть.
— Вы хорошо о себе заявили. Конечно, надо соглашаться. Пишите и нам, в областную газету «Смычка».
Илья растерянно кивал головой. Он рад был этой встрече с живым писателем…
— Сейчас, на исходе 1928 года, вторжение в дела кооперации — одна из главных задач селькоров. Как саранча расплодились торговцы, купцы, купчишки. Купаясь в сладкой и сытой жизни, они с лихвой используют новую экономическую политику, разлагающе действуют на кооперацию. Нэпманы гуляют широко, раздольно, тешат своего на время воскресшего буржуазного бесенка. В этой ленивой прелести пребывают и некоторые кооператоры. В настоящее время суть дела заключается в том, в чьих руках находится кооперация. Ты затронул самую острую тему — классовую. Мы не должны им позволить испакостить кооперацию. Эта тема как раз для твоей будущей селькоровской закалки. Ленина читаешь? — неожиданно спросил Кудашев.
Илья рассказал, как в течение трех лет с ним занимался по истории и обществоведению Алексей Амирханов, как заставлял его читать и конспектировать труды Владимира Ильича Ленина, в частности, материалы X съезда партии, о профсоюзах, работу «Развитие капитализма в России» и все, что написано им о кооперации.
— Надо обязательно проработать статью Ленина «Новая экономическая политика и задачи политпросветов» и письмо «О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики». Эти работы я тебе дам сейчас. Идет борьба с нашими политическими противниками. Борьба эта жесточайшая, смертельная. И в этот период ответственная задача ложится на плечи работников печати.
Гость не говорил, а сыпал словами, как горячими углями. Илья смотрел на него с восторгом и завистью.
Вечером после молодежного собрания в клубе Кудашев с Ильей уединились в избе-читальне. Писатель расспрашивал, что Илья читал из художественной литературы, какие ему писатели нравятся. Кроме классиков, Илья назвал «Бруски» Панферова, «Комиссары» Либединского, «Перегной» своей землячки Сейфуллиной и одну из самых любимых книг — «Железный поток» Серафимовича.
— А «Тихий Дон» Михаила Шолохова ты читал? — Кудашев не сводил с Ильи светлых, ласково заблестевших глаз.
Илья рассказал, как он привез экземпляр «Роман-газеты» из района. Запойно прочитал сам, а потом собрал в клуб молодежь и стал читать вслух. В первый вечер ребята пришли потому, что были объявлены после чтения танцы. На второй день так слушали, что и о танцах позабыли. На третий — в клубе не было ни одного свободного места. В последующие дни в клуб стали приходить школьники и взрослые, женщины с детьми и деды с бабками. Всем интересно было слушать про свое казацкое житье.
— На меня «Тихий Дон» подействовал так, что я ходил потрясенный. Потом я перечитывал несколько раз его. Ведь сумел же написать так, что каждая строка хватает за душу. Он такой близкий, доступный и понятный всему народу, особенно казакам.
— Именно народный! — подчеркнуто громко воскликнул Кудашев. — О романе Михаила Шолохова Александр Серафимович говорил: «Автор живет среди своих героев, среди колоритнейших казацких типов. Сам вскормлен на соске из степного молока вольной придонщины, с детства впитал в себя все сгустки извечного народного творчества».
Они долго бродили по берегу Урала. Под толстым слоем льда и снега, как голубая кровь, сочилась чистая уральская вода. Ночь была звездной, прозрачной и радостной, как утреннее пробуждение.
Так жизнь свела Илью с человеком необыкновенного задора и ума, писателем Василием Кудашевым, погибшим в годы Великой Отечественной войны, автором романа «Мужики» и широко известной повести «Куликово поле».
Под влиянием этой встречи и «Тихого Дона» Илья втайне от всех решил писать роман «Голубые лампасы». Но одно дело решить, а другое — написать.
Еще в школе украдкой он писал стишки в честь Маши Ганчиной. Как-то он задумал объясниться с ней в стихах. Написал и решил сначала показать стихи Ванюшке Серебрякову, но в самую последнюю минуту струсил и выпалил, что любит Маню, но не знает, как об этом сказать ей.
— Не можешь, так напиши.
— А что написать? Стишок?
— Можно и стишок. Я бы написал так:
Любовь есть высший дар природы, А без любви нет смысла жить. Любовью дышат все народы. Желаю вас я полюбить.Стихи, продиктованные Ванюшкой, были написаны на почтовой открытке с голубями. Примерно через полчаса открытка вернулась с той же соседской девчонкой, с какой была послана. На уголке под самым клювом востроносой голубки мелкими буковками было выведено два слова:
«Смех один. М. Г.».
Так Илюшка потерпел свое первое поражение в любви. А потом началось такое, что стало не до «высшего дара».
После серии небольших статей и заметок о спекулянтах и самогонщиках Илья написал статью о жесточайшей эксплуатации женщин-кустарей, которые вязали знаменитые оренбургские пуховые платки. Коз казаки не держали. Пух покупали втридорога у спекулянтов. А спекулянты, в свою очередь, бессовестно обманывали киргизов и казахов, скупая у них пух. Они набирали с собой разной ерунды: цветных ленточек, бус, платков и платочков самых ярких расцветок, залежалых пряников, причудливо раскрашенных пекарями, сушек и кренделей. Все это они везли в Туркестан. Там выгружались на станции Темир и устремлялись в степь, где за эту мелочь нанимали чесальщиков из бедняков-кочевников и тысячами пудов вывозили козий пух по баснословно дешевой цене. Потом на самой центральной улице станицы появлялся босоногий мальчишка верхом на лошади и орал:
— Тетки-лебедки, несите платки серы-белы на деньги и пух менять к Митрию Степанычу Фролову!
Женщины открывали сундуки, доставали платки, вспрыскивали их водицей, встряхивали и, аккуратненько уложив на руку, несли к дому Фроловых. Разбитной купчик улыбался и совал оторопевшей тетке фунт пуха, несколько мотков бумажной пряжи-шленки, хрустящую кредитку с горсткой мелочи в придачу и кидал товар в угол.
Вот об этом-то и написал свою статью Илья. Ему хотелось оторвать вязальщиц от прожорливых, бесстыдных торгашей и создать промысловые, кооперативные товарищества.
— Хорошую и нужную статью ты написал, — хвалил Илью Алеша. — Надо еще заглянуть в кредитное товарищество и посмотреть, кому выдают кредиты и новые сельхозмашины?
Илья проверил. Кредиты выдавались все тем же Полубояровым, их родственникам, а бедноте, хуторским, что останется.
Следующая статья вышла в оренбургской «Смычке» под названием «Машины и кредиты».
Однажды на ярмарке Илью встретил подвыпивший Сережка Полубояров. Сдвинув на лоб папаху из мельчайшего барашка, с голубым верхом, отделанную золотыми позументами, он сказал, прищурив глаз:
— А ведь нам, милок, известно, кто слонов-то протаскивает, от чьего кнута они башками мотают… А еще и с нашим хлебушком вы начинаете мудрить, принудительные квиточки выписываете…
— Выписываем, что полагается, — ответил Илья мимоходом.
Шел 1928 год. Страна нуждалась в хлебе. Кулацкая и зажиточная часть крестьянства стала намеренно придерживать излишки. Правительство вынуждено было ввести налог на индивидуальное обложение с учетом полученного урожая.
Поселковый Совет составил списки и разослал извещения на сдачу излишков зерна. Первыми в списке стояли фамилии Полубояровых и Овсянниковых. Были там и братья Малаховы, и сват Никифоровых — Гаврила, и зять Степан.
Вечером к Малаховым пришла Мария. Поздоровалась с хозяйкой и, обращаясь к Илье, сказала:
— Степа мой зовет тебя.
— Зачем?
— Что, он тебе не зять, а я не сестра? Не можешь, что ли, зайти?
— Не время сейчас, Маня.
— Урвешь минутку… У него до тебя дело есть. Приходи.
— Раз так, то забегу.
Илья знал, что Степан казак серьезный и без дела не позовет.
Пришел сумерками. В горнице было накурено, хоть топор вешай. Сидят по углам два свата, Иван Никифорович и Гаврила Степанович, курят беспрестанно. Степан у порога и тоже с цигаркой. Илья понял, что позвали его сюда неспроста. Отец метнул на него угрюмый взгляд и часто задышал.
«Значит, круто разговаривали обо мне», — подумал Илья. По давней, с детства привычке душу кольнул томительный мерзкий страх. Наган тяжело оттягивал карман. Илья сунул руку и вцепился в рукоятку.
Тягостное молчание усиливало нервозность. Гаврила часто затягивался, перехватывал желтыми, прокуренными пальцами самокрутку, пускал к потолку колечки дыма. Он не выдержал первый:
— Ну что же, сват, твой сын, ты и начинай…
— До каких это пор ты будешь из нас душу выворачивать? — простуженным голосом спросил отец и рывком встал. Илья исподволь наблюдал, как сжимался мосластый отцовский кулак. Поднялся и Степан, батареец саженного роста, торопливо заплевывая цигарку.
— Отойди, Степан, от порога, — сказал Илья и вытащил из кармана наган. Пятясь к двери, добавил: — Если кто ударит, спущу курок.
Криво усмехаясь, Степан сделал шаг к печке и поймал ремень зыбки. Коричневые усы его подрагивали.
— Не валяй дурака. Не трону…
— Спасибо, Степа, за приглашение! — громко проговорил Илья и выпятился за дверь.
Вернулся на квартиру. На столе его ждал ужин, но он не стал есть. Взял книгу и читать не мог — строчки прыгали перед глазами. Лежал в темноте с открытыми глазами и думал: «Придет ли время, когда середняки перестанут шарахаться из стороны в сторону и поймут наконец, для кого завоевана Советская власть?»
Утром Илья получил письмо от Бабича и путевку на учебу. Настроение поднялось. Он решил съездить в соседний аул к своему товарищу, секретарю аульского Совета Байсугиру. Тот давно просил его приехать и показать, как правильно вести делопроизводство.
Илья пробыл у Байсугира целый день, а вечером заторопился домой — неотложные дела ждали. Он сел на лошадь и поехал шагом, наслаждаясь прелестью летней ночи. Свет луны бил в щеку, над головой сыпались звезды, прочерчивая длинные огненные хвосты. Из ковыля со свистом вспархивали куропатки. Илья с радостью думал о том, что скоро поедет на учебу. Тогда прощай, станица! Спустившись в бывшее русло старого Жяика, Илья размечтался, ослабил поводья и не придал значения тому, что малообъезженный конь, взятый у друга Феди Петрова, прянул ушами, неожиданно фыркнул и шарахнулся в сторону. Покрепче бы надо было держать поводья, тогда не вылетел бы Илья из седла и успел бы наган вытащить… После удара он сразу же потерял сознание. Пришел в себя лишь среди ночи. Волосы, густо смоченные кровью, прилипли ко лбу. Встал и почувствовал, что ноги отяжелели и плохо слушались. Сделал несколько шагов, услышал шум воды, потом увидел при мутном лунном свете невысокие перила и будку сторожа с черной, настежь открытой дверью. Сторож громко храпел, от него разило самогонкой. Попытка разбудить его ни к чему не привела. К рассвету Илья добрался до станицы и пошел прямо к Ивану Тювильдину.
— Где это ты так, парень, разукрасился? — заливая раны на голове йодом, спросил фельдшер.
Илья рассказал.
— Придется тебе полежать, казачок, и не одну недельку… — сказал Иван Васильевич и, затянувшись махоркой, закашлялся.
Лежать Илья не стал. Несмотря на тяжесть в голове, распухшее лицо и кровоподтеки под глазами, Илья ежедневно бывал в поселковом Совете. Дело без него стояло. Малограмотный председатель мог только прикладывать к бумажкам печати. А казаки шли, кто за справкой, кто нес недоимку по страховке или налогу, а кто просто поглазеть на секретаря. Пряча ухмылки, любопытствовали:
— Где же ты, Илья Иваныч, мог так напороться?
— Бодал перила на мосту… — Илья низко клонил голову к столу, продолжая писать.
— Значит, шибко ты у нас рогатый…
— Подойди, пощупай…
— Дык мы и сами с глазами!..
Крутились возле стола и задавали каверзные вопросы полубояровские подпевалы. Илье нетрудно было догадаться, что не случайно он вылетел из седла. С каждым днем он ожесточался все больше, но доказать, кто его бил, ничем не мог. Происшествие обсуждали в ячейке и тоже примерно догадывались, чьих это рук дело, но ведь догадки к делу не подошьешь. В милицию Илья сообщать не стал, а подробно написал секретарю волкома партии Ефиму Павловичу Бабичу и Алеше Амирханову.
С нетерпением ждал он ответа от Алексея Николаевича Амирханова, но вместо письма получил телеграмму о его смерти. После похорон матери это была самая тяжелая для Ильи потеря. Совсем молодым ушел из жизни его учитель и друг. Трудно будет без него…
Внезапно приехал на побывку Санька Глебов. В голодные 1920—1921 годы, похоронив отца, Санька с матерью уехали в Актюбинск. Мать работала там в военном учреждении, а Санька стал курсантом кавалерийского училища. Приезд друга детства так был кстати.
Вечером, закончив в Совете все дела, Илья решил сходить на квартиру, привести себя в порядок, переодеться, а потом уж в полном параде пойти к другу.
На улице было пасмурно. По переулку свирепо дул сырой, знобкий осенний ветер. Над мокрыми крышами густо плыли лохматые облака. Где-то совсем близко за малаховским плетнем лениво гавкала собачонка. Парочка вывернулась из-за угла так внезапно, что Илья невольно отпрянул и прижался к простенку между плетнем и углом дома.
Высокий военный в длинной, до самых шпор, шинели, с яркой звездой на буденновском шлеме вел под руку Машу Ганчину. Саньку Глебова трудно было узнать.
У Ильи ноги стали какими-то ватными. А Санька с Машей так весело и увлеченно разговаривали, что ничего не замечали вокруг. Не заметили они и Илюшку, который еле стоял на ногах. Ему тошно было идти на квартиру, не хотелось видеть хозяйку — тетку Пелагею.
Последние дни она то молчала, то донимала Илью вопросами: будет ли у них в станице коммуна или общая артель? Сгонят ли всю скотину на один двор и как будут с нею управляться? Отберут ли всех коров с овцами или кое-что оставят для прокормления, хотя бы таких, как он, Илья… Словно испытывая терпение жильца, тоном проповедницы говорила:
— Конец миру, конец!..
В станице ходило столько разных слухов о предстоящих переменах, что Илье не хотелось тратить слова попусту.
— Чо завальню-то обтираешь, секлетарь? — Пелагея возникла перед Ильей как изваяние. Крупная ростом, в старом, линялом мужском пиджаке, покрытая пестрой поношенной шалью. — Аль выпил после драки? — Пелагея сноровисто, с привычной ловкостью грызла крепкими зубами тыквенные семечки.
— Кажется, я говорил вам, и не раз…
— Ты вьешь свою веревочку, а люди бают другое, — перебила его хозяйка.
— Ничего я не вью… — Илье было не до разговоров. Перед глазами маячила удаляющаяся фигура Саньки Глебова.
— Вьешь, токо крепко ли? — наседала она. Но, видя, что жилец как-то размяк, перевела разговор на другое, не подозревая, какую причиняет ему боль.
— Жениха с невестой проздравил?
— Жениха? Какого жениха? — Илья не сразу понял, о ком идет речь.
— Саня Глебов, крестник мой, токо што были у меня с Машей. Вчера сговорились. Я благословила крестника, хоть и безбожник он, а все равно пара хорошая. — Пелагея говорила, точно клинья вбивала в голову.
«Саня Глебов — жених Маши?» Покачиваясь, Илья жевал распухшими губами незажженную папиросу.
— Не дознался еще, кто это тебя так раскостерил?
Илья отрицательно покачал головой.
— Пойдем в дом, чо ли? Мне с тобой сурьезно поговорить надо.
Пелагея вытащила из печки горшок молока и поставила на стол. Илья налил чашку, отпил и закурил.
— Сядь к порогу и дыми в сени. — Хозяйка не выносила запаха табака.
Зазвонили к вечерней. Стопудовый колокол бухал редко, с протяжной заунывностью. Пелагея повернулась к переднему углу, истово перекрестилась, подошла к печке и, нашарив в печурке спички, зажгла лампадку. Тощенький язычок пламени осветил скорбные лики икон.
В ожидании «сурьезного разговора» Илья сидел на табуретке у порога. Ему хотелось скорей поговорить и лечь в постель.
— Не дознался про драчунов-то? — Пелагея сняла пиджак, встряхнула его и повесила на гвоздь. Оправив длинную кофту цвета высохшей картофельной ботвы, встала спиной к печке.
Закрыв глаза, Илья не ответил, а только пожал плечами, понимая, что эта властная старуха пытает его неспроста.
— Подозреваешь кого?
От гнева у него задрожали колени. Он чувствовал, что она знает все, а спрашивает.
— Ну, допустим, дознаешься…
— И дознаюсь, дознаюсь! Непременно дознаюсь. И пусть, Пелагея Васильевна, не ждут никакого милосердия.
— А ты, милый, не ярись больно-то, меня, старуху, послушай. Подумай, как жить дальше, на себя оглянись…
— И так хожу и оглядываюсь на каждом шагу…
— Я не про эту твою оглядку речь веду…
— А про какую же, Пелагея Васильевна?
— Про такую, что ты сейчас мотаешься промеж казаков, как дикий подсолнух на меже…
«Вот куда завернула Пелагеюшка». Пела она, конечно, не со своего голоса. Илья это хорошо понимал.
— Подсолнух, Пелагея Васильевна, всегда тянется к солнцу. Плохо ли это?
— Мотри, Илья, как бы ветром головку не раскачало да семена галки не поклевали…
— Вы о чем это, Пелагея Васильевна? — Илья делал вид, что не понимает ее слов. Ему хотелось вызвать хозяйку на откровенность.
Она посмотрела на него и спросила сурово:
— Вы, комсомолы, начали с песен, а чем кончаете?
— Чем же? — Илья замер от напряжения.
— Разбитыми губами…
— Заживут наши губы, Пелагея Васильевна, заживут…
— А то, что на родителя оружие поднял, это, думаешь, заживет? Не знала я! — Она вошла уже в раж и не могла сдержаться. — На днях, когда я за тебя вступилась, пожалела, Иван Никифорович рассказал мне… Это что же такое, господи! — Она молитвенно подняла руки и скрестила их на груди. — Да если бы мой Петька так на меня, я бы взяла ухват, топор схватила!
Илья прошел от порога к столу и сел на лавку. Отхлебнул глоток топленого молока, вяло пожевал жестковатую, тягучую пенку. Он цепко улавливал каждое слово хозяйки.
— Если ты уж перед отцом начал махать оружием, чо же будет с нами, когда подчистую начнете из сусеков подметать? Выгребете до последнего зернышка, а потом в коммуну погоните? Нет уж, меня туда вы и медом не заманите! Да кто вы такие есть-то? Ты да Ванька хромоногий с Федькой Петровым, с Нюшкой, с этой басурманской потаскухой в кумпании, да голытьба вроде Саптарки-трубача, ну и еще десяток голоштанников из Татарского курмыша. Вот и все ваше войско, весь ахтив, как он у вас там называется. А казаков-то три с половиной сотни дворов. Хозяева, а не какие-нибудь шаромыжники на вислопузых клячах. Это все обчество! А обчество — сила, и не сломать вам его! Нет!
Чем больше она говорила, тем жестче становились ее глаза; они нацеливались из глубоких впадин, как две картечины. Все, что сейчас Пелагея думала, но не высказала до конца, было выражено в этих глазах.
— Придется тебе, Илья Иваныч, оставить мой дом. Ищи другой угол себе. Ступай к Нюшке. Она приветит. Вы с этой татарской подстилкой одним миром мазаны, — с ярой, неумолимой злобой заключила она.
Раньше Илья благоговел перед хозяйкой — ее внушительной осанкой, твердым характером, который казался ему верхом мудрости и благоразумия. Она единовластно атаманствовала над пятью тихими, послушными сыновьями, над их женами, внуками, владычествовала даже после того, как они постепенно отделялись и обзаводились своим хозяйством. Властвуя, она учитывала каждую копейку, пудовку зерна, клочок сена, распоряжалась круто, жестко. Теперь все это рушилось, ускользало куда-то — даже младший Петька стал безбоязненно хлопать дверью…
Не сказав хозяйке ни слова, Илья прошел в боковушку, быстро уложил в чемодан немудрящее свое имущество, запер в футляр баян, увязал в стопки книги. Хотелось покинуть этот дом, не теряя ни минуты, но куда идти? К Аннушке? Первый раз за весь нелегкий день Илья мысленно улыбнулся.
«А если на самом деле взять да и перебраться к Аннушке? Живет одна. Сынишка Колька — в школе крестьянской молодежи».
Илья хорошо понимал, какой «грянет гром» в этом любезном для Пелагеи Васильевны «обчестве» старого бородатого сословия, если он переселится под крышу к одинокой вдове. Загудят, словно осы, чтобы побольнее ужалить. О том, что в это трудное для него время Аннушка приютит, он нисколько не сомневался, хотя и решился не сразу. Долго перебирал в памяти родственников, знакомых, но более подходящего места, чем у Аннушки, не находилось. Можно было бы переехать к Михаилу, но у него трое маленьких детей, а комнат в каменном, крытом камышом домишке — одна горница и кухня, где добрую половину занимала русская печка, а зимой прибавлялся еще закуток для теленка и ягнят. Сколько он ни прикидывал, выходило так, как сказала Пелагея Малахова. Аннушка была близка Илье и по духу, и по делам общественным. А то, что он когда-то «сморозил», давно провеялось на ветерке времени. Да и вряд ли она помнит эту мальчишескую глупость. Теперь и она и он стали другими.
…После смерти свекра Ахметши Аннушка Иванова, а по-станичному теперь Нюшка Мавлюмкина, родила черноволосого, лобастого Кольку. Вскоре похоронила она и мать Прасковью. Станичники сторонились ее, не могли простить скоропалительного замужества. Аннушка тоже постепенно отходила от них, все больше тянулась к Татарскому курмышу. Она видела, что соплеменники мужа куда ласковее и добрее. Точно паутина, потянулись сплетни. Говорили, будто кинет Нюшка ребенка на соседку, а сама с татарскими парнями за реку Урал весной поемный лук собирать или на рыбалку — на всю ночь. А утром выпрыгнет из лодки со связкой судаков и лещей на кукане, помашет рукой бритоголовому гребцу и поднимается на ярок в аккуратненькой, подоткнутой выше колен юбке, с растрепанной на затылке густой косой.
— Гляди-ка, отряхнулась, как курица, и хоть бы что ей! — говорили вслед бабы.
— Сейчас к Полубояровым побежит рыбу сбывать. Потом полы мыть останется, чтобы лясы с Сережкой или Пашкой поточить… Сноха Дуня будто бы не раз ей волосы трепала…
— Бузу варит и хахалей своих спаивает. У этой староверской судомойки приезжие прасолы днюют и ночуют.
Аннушке с ребенком жилось трудно. Родни не осталось. Приходилось батрачить на весь многочисленный полубояровский клан — не только белье стирала, но и огромные кошмы вымачивала, кадушки из-под кислой капусты выпаривала, коров выдаивала, весной кизяки в станках топтала от зари до зари. Брала у хозяев быков — и опять же с каким-нибудь татарчонком в тюбетейке воду в бочке возила, навозную от коровы кучу раскидывала, водой поливала, месила быками и на кизяки переделывала. А зимой на тех же Полубояровых из козьего пуха платки вязала — с такими каймами и узорами, глаз не оторвешь. Хоть и вела Нюшка вольную жизнь, как судачили про нее бабы, в хозяйстве оказалась ловка на все руки. С малолетства отец приучал, да и нужда заставляла. Могла и сено косить, и сети вязать, и морды из мелкого тальника плести. Могла и гостя приветить, рыбным пирогом угостить. Иных казачков тянуло в Аннушкин дом, как окуней к наживке.
— Что же это ты, Нюрка, срамоту таку разводишь? — спросила однажды самая ревнивая из жен, Агафья Иншакова.
— Каку таку срамоту? — Аннушка руки на грудь, в глазах искры. — Кого осрамила, ну-ка скажи?
— Себя самое. Обасурманилась, шинкаркой стала, мужей наших приманиваешь…
— Грязно живешь, Агафья, оттого и муж из дома бегает. А ежели будешь распускать про меня разные сплетни, сделаю так, что совсем сбежит. Эх ты, Никонова кума, побольше бы тебе ума. Спасибо скажи, что я незлая.
— Ты, ты!.. — Агафья выкрикивала на всю улицу срамное слово.
— А вот этого, Ганька, я тебе никогда не забуду. Ты еще вспомнишь меня.
Соперничать с Аннушкой казачьим женам было нелегко — она и ростом взяла, и статью девичьей, и на собрание женское как-то пришла в красном делегатском платочке, первая с речью выскочила и за пуховую артель голос подала. За это приезжий уполномоченный в члены правления ее выдвинул, а комсомольцы поддержали.
Дом Никанора Иншакова стоял на той же улице, где жила и Аннушка, только наискосок немножко. Видно ей было, как он дрова колет, сено на поветь мечет, как его простоволосая Аганька растрепой на крыльцо выскакивает, помои выплескивает и ни за что ни про что ругает мужа. Аннушке всегда было жалко Никанора. Повезло же такой охалке!
Однажды терпение у Никанора лопнуло. Плюнул он да еще грабли швырнул вдогонку Аганьке, а сам коня за повод и на Урал тело от горячки охладить, заодно и коня помыть.
Под яром шумливо бежала вода, ворчала, спотыкаясь на перекатах. Лоснящийся круп гнедой лошади калило солнце. На тропинку неожиданно вышла Аннушка, поздоровалась:
— С горячим утречком, Никанор Василич!
— И тебя с тем же, шабренка. Как живешь-можешь?
— По-вдовьи, Никанор Василич…
— Сама себе хозяйка… Плохо ли?
— Вдова, как чужая бахча: кто ни пройдет, глазом окинет, а то и руку протянет…
— Богом данное, Нюша… — усмехнулся Никанор, и взгляд его провалился за Аннушкину пазуху. Он невольно сравнил умытую студеной водой Аннушку со своей женой, у которой и юбка висела кособоко, и кофта жеваная, с дыркой под мышкой.
— Спросить хочу, Никанор Василич.
— О чем? — Никанор погладил конскую шею.
— Не твои ли жерлички стоят на Старом ерике?
Кровь по всем Аннушкиным жилкам горячо сбегалась к лицу.
— Мои вроде. А что?
— Вечор я там морды ставила и видела, как на одной сом бился. Здоровущий. Поводок под корягу завел и дергает, дергает, аж вся коряга ходуном…
— Дык сняла бы!
— Чужое-то? Что вы!
— Для тебя не жалко… — Никанор покрутил светлый, холеный ус. — Ну, спасибочко тебе, Нюша, спасибо. Я мигом проскочу и живцов, кстати, сменю.
Никанор даже вечера не дождался, взнуздал гнедка, кинул на спину потник — и в тугай. Над прибрежным лесом неподвижно нависало полуденное солнце. По кустам пробегал ветерок и лениво рябил воду в плесе. Забыв закурить, метнулся к жерлице сома снимать. Однако все жерлицы были пусты, снулые живцы не тронуты, и коряги не потревожены.
— Наплела, холера непутевая! Ах ты… — Выругавшись вслух, Никанор достал спрятанную в кустах удочку и отправился живцов ловить. Пока ловил да на жерлицы насаживал, солнышко за тугай скатилось, жара схлынула, от шелестящего тальника тень на воду упала. Заиграла рыба. Одна так громко плеснулась за кустами на песчаной отмели, что Никанор вздрогнул.
«Надо туда жерличку перенести», — решил он и раздвинул тальник.
На отмели, по пояс в воде, спиной к нему стояла Аннушка в розовых лучах закатного солнца. Плечи крутые, талия рюмочкой. Было отчего обалдеть казаку. С минуту затаенно сидел он в кустах. Веточку тальниковую сломал и разминал непослушными пальцами. Голова гудела… Не вытерпев, крикнул не своим голосом:
— Нюшка, что, шалава, делаешь, а?
— Ой, Никанор Василич! — вскрикнула она и опустилась по шейку в воду.
— Никакого сома-то нет.
— Был! Вот тебе Христос, сидел! — Из воды торчала одна Аннушкина голова.
— Бес в тебе сидит… Ладно, выгоню я из тебя шайтана этого… — Никанор осмелел, понимая, что церемонию тут разводить ни к чему, добавил: — Вылезай поскорее, я тут потничок на траве расстелю. Позабавимся… — Никанор поднялся во весь рост и вышел из кустов.
— А ну сейчас же уйди, черт усатый! — гневно крикнула Аннушка. Сердце ее занялось острым, неугасимым стыдом. Никанор отошел. Аннушка быстро оделась, прыгнула в стоявшую за кустом лодку, подняла за кормой садок с карасями, взмахнула веслом и отплыла от берега.
— Куда же ты? — издали крикнул Никанор. Возглас его подхватила дремлющая река и проглотила, как щука живца.
И все же эта случайная встреча не стала тайной. На противоположной стороне, на Старом ерике, рыбачил Захар Недорезов, по прозвищу «Камгак»[3]. Он видел, как голышом купалась Нюшка, видел и Конку Иншакова, слышал его слова, ну и разблаговестил по всей станице с разными прибавлениями. Узнала об этом Агашка, схватила кол и все стекла в Аннушкиной избенке разом выхлестала, а ночью и ворота кто-то дегтем вымазал. Аннушка начисто соскребла половым костырем черный позор. А стекла вставил тот самый гололобый татарин, что ее с судачками с лодки высаживал. Аннушка помогала ему и как ни в чем не бывало тараторила по-татарски. Он слушал и качал бритой головой.
Шли годы. Менялись времена, и люди тоже. Аннушка первой примкнула к комбедовцам, ходила на собрания, активно участвовала в общественных делах, вызывая у бородачей бешеную ненависть.
Отослав к Аннушке девчонку с запиской, Илюшка с нетерпением стал ждать ответа. Ответ пришел быстро. Приплюснув к запотевшему стеклу и без того курносый носишко, девчонка крикнула:
— Приходить велела, да только скореича!
Сумерками, захватив вещи, Илья покинул дом Малаховых.
Сыро и безлюдно было на улице. Низко над самыми крышами нависали тучи, шел мелкий тихий дождь. Капли проникали за воротник пиджака, холодили шею. Идти по грязи в темноте было трудно. Чемодан и футляр с баяном казались непомерно тяжелыми. Нестерпимо болело все тело.
Аннушка встретила его у калитки.
— Илюшка! Здравствуй, родной! Я жду, жду… Идем же!
В кухне на столе стояла чуть привернутая лампа. В горнушке под котлом горели мелко наколотые чурки дров.
— Я пельмешков налепила. Сейчас быстренько в котел опущу.
— Не торопись. — Илья присел на лавку.
— Устал небось? Чать, вся шкура болит. Вот мироеды! Бирючья порода, беляки недобитые. Как они тебя! Ой, ей-ей! Вот и моего так же, паразиты дутовские! А чо меня не позвал? Я бы хоть гармонь пособила тащить. Вишь, и пальцы распухли. Играть в клубе, небось, теперь не скоро сможешь?
— Заживут.
— А чо с пальцами-то?
— Каблуками давили…
— О господи! Ну раздевайся. Пельмени быстро поспеют. Квасок у меня есть. — Аннушка сняла мужнину кожанку, стащила с головы желтый с синими каймами казачий башлык, бросила на закрытый кошмой сундук. — Ты чо, и вправду хочешь у меня поселиться? — прибирая за плечами волосы, спросила она.
Илья видел, как пытливо сузились ее карие глаза.
— Я же написал тебе… Только знаешь что…
— Что?
— Ты одинокая. Боюсь, начнут плести…
— Пусть плетут! Мне, Илюшка, бара берь[4]. Уж что только про меня не плели, да и сейчас не перестают… Я ихние охулки с шурпой хлебать не стану, выплесну, как помои грязные… У меня душа чистая. Понимаешь, годами меня Полубояровы с кизяками месили, как тряпку выполащивали, а Дунька поедом ела и сама же сегодня опять капусту рубить позвала! Пойду… К ним торговец, платошник, приехал. Погляжу, что ему понесут бабоньки…
Аннушка говорила, а руки ее то поварешкой в котле пельмени помешивали, то поленце в горнушку подкидывали, то калач белый резали. Лицо от огня стало пунцовым, глаза блестели.
Илья поел пельменей, запил крепким холодным квасом и быстро сомлел. Потянуло в сон.
Аннушка проворно сдернула с кровати белое, с кружевцами покрывало, взбила перину.
— Ты тут будешь спать, а я на сундуке. Если Колька, часом, приедет на побывку, на печку переберусь. Люблю спать за трубой, к вьюге прислушиваюсь, про степь думаю, про буран, про жись свою… Только и радости, когда Колюшка на побывку приезжает…
Хорошо было лежать в тепле, боль отхлынула, а еще теплее становилось от Аннушкиной воркотни.
— Ты про сына так говоришь, будто он у тебя не в школе учится, а в Красной Армии служит.
— Ничего. Придет время, и послужит. Небось вон какой вымахал.
— Пишет?
— Не шибко большой писарь. Черканет на листочке низкий поклон, когда у матери трешку попросить надо.
— Посылаешь, конечно?
— Посылаю, когда есть в портмонете…
— Я тебе завтра отдам за постой. Отошли ему, сколько там надо… Могу и вперед дать.
— Ишо чего! Я с тебя ничего брать не стану.
— Это почему же? Уплачу столько, сколько Пелагее платил.
— Сказала, ничего не возьму. — Пододвинув лампу на край стола, она принялась довязывать варежку.
— С чего это ты решила меня облагодетельствовать? Я ведь жалованье получаю.
— Думаешь, я забыла, как помог Кольку в учение пристроить? Шаманался бы с удочками да полными карманами бабок. Без отцов-то не очень с ними сладишь. И пшеничку на семена выписал, и сеять ездил.
— Не я один. Все мы — и комсомольцы и комбедовцы. А что бумаги выписывал, так это моя прямая обязанность. И не спорь со мной.
— Я не спорю. Спасибочко, Илюша. Тогда я тебе пуховые перчатки свяжу на память. Ты только пуху купи в артели.
— Ладно, куплю.
— Ну и хорошо. Вот только с харчами… Пшено и мука есть. Картошка в погребушке. Насчет мяса, так попервости овцу зарежу.
Умиротворенно действовала на Илью Аннушкина доброта. Словно во сне сидела она своя, близкая, домашняя.
— Мясо и муку я буду в потребиловке брать. Это уж, Нюра, моя забота.
— Ну тогда и ладно, и хорошо. Проживем. Рыбы наготовлю. Саптар и Гиляс, наверное, скоро бородить на плесах начнут. Пройдусь с ними денек-другой. На затонах кархаля видимо-невидимо, подуста гоняет. — Аннушка украдкой посмотрела на Илью и опустила глаза.
Осенью рыбаки-татары, арендовавшие плесы и затоны, столько брали крупного, жированного подуста, что не могли своими силами вытащить на берег невод и звали на помощь казаков. Расплачивались за это рыбой. Аннушка тоже там промышляла.
— Нет, Нюра, ты уж нынче не ходи бредень тянуть. Не женское это дело.
— Ничего. Я Мавлюмовы штаны надену.
— Да разве в этом дело? Ты теперь у нас активистка, член правления пуховязальной артели. Понимать должна. Ты мать. У тебя сын. — Илья споткнулся на последнем слове, чувствуя, что не по той канавке побежал ручеек его мыслей…
Аннушка опустила варежку на колени, подняла клубок, наматывая пряжу, проговорила негромко:
— Ты ведь, Илюшка, не то хотел сказать.
— Что думал, то и сказал…
— Ты хотел сказать, что я шумливо живу, слава за мной худая тащится… С татарами больше якшаюсь…
— Да нет, Нюра! Нет! У меня у самого больше друзей из Татарского курмыша. Ты должна понять, что сейчас наступает другое время!
Приподнявшись на локте, Илья стал горячо объяснять, какую теперь имеет силу раскрепощенная советская женщина, способная управлять государством, как пишет товарищ Ленин.
— Ох, Илюшка, какой ты грамотный да башковитый, не то что… — Аннушка наклонила голову и закрыла лицо пестреньким передником. — Я не знаю, что пишет Ленин, — сказала она, вытирая глаза, — но верю, что ты не обманешь. Только в потребиловке вот пока управляет Сережка Полубояров, а в кредитке — его братец, и за прилавками стоят ихние дружки закадычные. Хорошо, что хоть в пуховую артель Федю Петрова провели, есть к кому пойти, платок показать, добрым словом перекинуться. А то придешь на собрание, слышишь за спиной жеребячий смех, а если повяжешь на голову красную косынку, так кое-кто и зубами поскрипывает. А если Пелагея Малахова придет и на всю скамейку растопырится, ей почтение, перед ней папахи ломают. Ну что ж! Пускай ломают, гнутся, хоть пополам складываются. Зато, когда я голосую за Советскую власть, я в свой голос, как на ладошке, вкладываю все свое сердце! А раз так, я себя жалеть не буду. Пробудилась я, Илюшка, для другой жизни, пробудилась. Мавлюм меня разбудил. Сына оставил. Спасибо ему вечное!
Аннушка положила вязание на стол. Подвернула фитиль в лампе, в комнате стало светлей, уютней. Веселее взглянули со стен на фотокарточках чубатые казаки с обнаженными клинками, с белеющими на мундирах Георгиевскими крестами.
— Правильно ты сказал, я мать, — рассматривая фотографии, продолжала она. — Вечно, как клуша, о сыне пеклась. Все сердце об нем изболелось. Корову ли дою, на скамейке ли сижу — все про него думаю. Приехал как-то и говорит: «В агрономы, мама, пойду». А что такое агроном, сам еще толком не знает. А я про себя молю бога, чтобы военным, как отец, стал. Загляну в завтрашний день и вижу: стоит мой Николай высокий, красивый, и брюки на нем с такими широченными пунцовыми лампасами. Потом вдруг спохватываюсь. Выходит, я еще не совсем советская, раз мне лампасы мерещатся. Корю себя, корю. Плачу другой раз…
— В завтрашний день заглянуть — это хорошо, но лучше без лампасов, — проговорил Илья, хотя самому до смерти хотелось стать военным. А тут еще Санька в буденовке, со шпорами…
— Красивая была одежда на казаках, что бы там ни говорили. Мавлюм, когда приехал с фронта весь в крестах, лампасы, будто бы ленты с голубого небушка выкроены, и глаза из-под чуба ласковые-преласковые. А как на скрипке заиграл, тут и конец тебе, дева казацкая… Татарин ли, башкир ли, сердце не разбирает — в купели ты крещен аль мулла в мечети на тебя полой бешмета помахал… Колька весь в отца, как две капли воды… Вот и наговорилась я с тобой, душеньку отвела. Не чужие мы. Правда, ведь?
— Правда, Аннушка! — быстро откликнулся Илья, испытывая острую жалость к ее нелегкой судьбе и к себе. Он сегодня, как никогда, нуждался в добром друге — участливом, проникновенном. В Аннушке он видел мать Кольки Халилова, будущего агронома, а может, и военного, может, секретаря — пускай маленького, как он сегодня, а может быть, и большого, как Ефим Бабич. Ведь ради таких Колек и Ванек сейчас перелопачивалась, заново ворошилась вся жизнь России. И, как бы ни беленилась Пелагея Васильевна, ни скрипели зубами Полубояровы, жизнь будет принадлежать им — Колькам и Ванькам.
2
Давно Илья не просыпался так поздно. Лежа на непривычно мягкой постели, не поднимая головы от подушки, он думал о предстоящих делах. Знал примерно, с чего начнет рабочий день и чем кончит. Больших и малых дел было множество, и надо было их решать честно, добросовестно. Так приучил его Ефим Бабич, когда он приезжал в 1927 году с председателем волисполкома Алешей Амирхановым.
— Есть мелочи, но нет маленьких дел! — говорил тогда Ефим Павлович. — Советская власть делает новые шаги. Мы можем шагать быстро, иногда и не в ногу, но поспевать надо. Идет заседание правления кредитного товарищества, потребительской кооперации, пуховой артели, ты должен там быть, знать, о чем идет разговор, влиять на сущность принимаемого решения. Не зовут — заставь позвать. Сам не сможешь пойти — товарища пошли, комсомольца, беспартийного активиста, того, кому ты доверяешь. Уважения добейся! Ты представитель Советской власти, Ленинского комсомола, большевистской партии. Разумеется, от торговца пуховыми платками, от прасолов, кулаков ты этого не дождешься, да и не надо тебе милости. Станешь поступать и решать дела по справедливости, народ поймет и пойдет за тобой. Рано или поздно, но пойдет. Колебание мелких хозяйчиков — явление временное, неустойчивое. Гигантское значение приобретает для нас кооперирование России. Так говорил Владимир Ильич Ленин. В кооперации должны сидеть люди, преданные Советской власти, а не лавочники. И ты должен все знать о кооперативных делах.
Илья быстро встал, оделся, ополоснул под рукомойником лицо.
Аннушки дома не было.
В кухне прибрано. Закрытое железной заслонкой чело русской печки дышало теплом, горячим хлебом. На столе — горшок молока, большой ломоть калача, три яйца. Сегодня выходной, и ему не надо никуда идти. На улице дождя как не бывало. Во все окна светило солнце. Позавтракав, Илья прошел в горницу с твердым намерением распаковать книги и дочитать статью Ленина о кооперации. Под окном возникла чья-то высокая тень.
— Дома? — В окно заглянул Горшочков.
— Заходи, — Илья кивнул на дверь, чувствуя, как гаснет в нем теплившаяся с утра радость.
— С переселением, значит? — Горшочков стащил с продолговатой, как дыня, головы черную папаху и покосился на плохо прибранную постель.
— Значит, с переселением, — хмуро ответил Илья.
— Как спалось на новом месте? — Рукавом серого пиджака, сшитого из армейской шинели, Горшочков прижимал под мышкой желтую, с красными тесемками папку.
— Отлично спал.
— Один или вдвоем? — Председатель подмигнул и ехидно улыбнулся.
— Брось дурака валять, Горшочков!
— Что я тебе клоун какой аль председатель? — обиделся Горшочков.
— Аннушка, товарищ председатель, жена большевика, командира Красной Армии, подло убитого белогвардейской сволочью! Запомни, Горшочков, да и другим скажи — кто ее обидит, рога посбиваю!
— Значит, успели обнюхаться…
— Перестань, Николай Матвеевич, прошу тебя! — крикнул Илья.
Они так спорили, что не слышали, как в сенцах громыхнула щеколда и в распахнутую дверь, задев косяк верхним острием буденовки, вошел Саня Глебов. Он стащил на ходу пуховые перчатки и обнял оторопевшего Илью молча, без слов. Потом поздоровался с Горшочковым, почтительно назвал его по имени-отчеству.
— Председатель?
— Так точно! — ответил Горшочков.
— Хорошо! С таким секретарем, как Илья, можно служить, можно! Живо оба в дом моей невесты. На маленький запой по нашему казачьему обычаю. Пошли, друзья! Через час мы с Машей едем на станцию! Эх, какая у меня будет жена! Илюшка, друг ты мой корноухий! — Санька опять было взял Илью за плечи, но тот тихо отстранил его.
— Спасибо, Саня, за приглашение. Не могу.
— Почему?! Ты что, Илюшка? Может, не хочешь? — Санька был немножко навеселе.
— Не могу, Саня. Видишь же?
— Слышал. Ты стреляй их тут, паразитов. Я тебе, если хочешь, кольт дам двенадцатизарядный… Жалко, у меня времени мало, а то бы мы вместе потрясли захребетников. Значит, не можешь? Нет? Тогда будь здоров. В гости приезжай в Актюбинск. У меня ух какой зверюга конь! Такие даже твоему деду не снились!
Санька попрощался и шумно вышел.
— Лихой! — восхитился Горшочков. — Весь в дядьку Алексея. Какого казака тифняк скрутил!..
Приход Сани Глебова на время охладил спорщиков.
— Куда твоя разлюбезная утопала?
— Слушай, Горшочков, я тебя просил…
— Ну что такого я сказал? Ешь с голоду, а люби смолоду… — Горшочков замотал башкой, постриженной ежиком. — Ведь она, Анюта, так умеет хвостиком повертеть…
— Брось, Горшочков!
— Да ить она… «тебя уж выманила», — хотел добавить Горшочков, но, видя, как сузились темные глаза Ильи, удержался.
— Что она?
— Бес она, твоя Нюшка. Ты ее протащил в члены правления пуховой артели… А еще одну статейку напишешь, на клиросе петь выдвинешь…
— Туда она сама не пойдет. А вот в председатели пуховязальной артели мы ее выдвинем, на курсы пошлем.
— Ну и валяйте. В председатели Совета можете двигать. Уступлю ей все мои папки. Кстати, тут вчерась торговец опять приперся. В Совет не явился, втихую шаромыга действует. Я инструкцию захватил насчет этих лимитных цен на платки. Я в этих делах, как баран в аптеке. Может, Нюшке своей покажешь. Она раскумекает что почем. Язык у нее, как наш большой колокол.
— И покажу! — Илье надоел этот глупый разговор.
— Чуть не первая выскакивает на собраниях и начинает учить уму-разуму казаков, которые…
— Которые царю-батюшке служили. Это ты хочешь сказать? — прервал его Илья.
— Ты меня царским кляпом не тычь. Все служили… А теперича «окна бьем, ворота мажем, атаману кукиш кажем»… Еще раз распишут воротца, авторитет твой в назьме вывалят. Смело тебе, Никифоров, говорю.
— Спасибо, Николай Матвеевич, за то, что печешься за мой авторитет. Только я не хочу, чтобы он был сладеньким, как вот это молочко…
— Ну и хрен с тобой! Шагай со своей Нюшкой под ручку. Гляди, оба останетесь с пустыми котомками. Вон, кажись, мчится твоя делегаточка. Ну, я пошел. Папку тебе оставляю. Помаракуй над этой инструкцией, может, чо и придумаешь… Ты мастер на придумки…
— Нет, постой, Горшочков, хозяйку подожди!
— Мне с ней детей не крестить…
— Скажешь ей все, что мне наговорил. Критику наведешь…
— Ну, Иваныч, ты что… — Нос председателя вытянулся.
— Как ты мне говорил, а?
— С тобой совсем другой коленкор, а с ней свяжись только!
— А ты не вяжись, а приглядись к ней получше, председатель…
— Это уж давай ты…
В избу вбежала Аннушка и прямо с порога:
— Ох, Илюшка, какие у меня новости! — Увидев председателя, тут же умолкла и так посмотрела, словно мерку сняла, сыпнула, как горохом: — Николай Матвеич, гостенечек дорогой, чо, родненький, стоишь-то, аль присесть брезгуешь?
— Да уж уходить собрался, — промямлил Николай Матвеевич. Задетый ее словами, он старался не глядеть, как она, сбросив с круглых, покатых плеч старенькую, из выношенного плюша кацавейку, засучив рукава розоватой кофты, подставила под рукомойник белые, проворные, закапанные веснушками руки.
Схватив полотенце, вытерла их, подскочила к печке, загремела заслонкой.
— Тыковку кинула испечь. Боюсь, чтобы не сгорела. Хочешь, председатель, тыковки?
— Нашла чем потчевать… — Только сейчас Горшочков перестал пялить глаза на эту черт знает какую ловкую, складную бабенку…
— Что за новости, Нюра? — спросил Илья, просматривая в папке бумаги.
— Новости такие, что у меня дух захватило. Одну выложу, а друга будет у меня в секрете. — Аннушка метнула победный взгляд на Илью, потом перевела его на председателя. — Хорошо, что вы тут оба вместе. Все заодно и решите. Рубила я у Полубояровых капусту. К ним вчерась торговец приехал, навез уйму пуху и шленки. Вовсю платки скупает, дает кустаркам такие цены, что они гуртом к нему валят. Наши некоторые артельщицы тоже туда прошмыгнули. Пух взяли у нас, а платочки туда тащат…
— Я-то зачем сюда явился? — Горшочков приосанился и даже большим пальцем по рыжим усикам чиркнул.
— Погоди, Николай Матвеевич. Кто оповещает кустарок? — спросил Илья.
— Уж, конечно, не нанимает мальчишек, чтобы орали: «Несите белы, серы!» У них свои тайные гонцы на оба конца… Приводят баб через задний скотный двор, где мы как раз кочаны кромсали. Ведь бабам одной-двум шепни, а там уж хабар сам побежит.
— Что будем делать, председатель? — спросил Илья.
— Сообща надо…
— Сообща так сообща… Возьмем понятых, составим акт и торговца со всем его товаром в поселковый Совет, — проговорил Илья. Он давно ждал такого подходящего случая, но спекулянты как-то все вывертывались. Лошадей резвых имели.
— Хорошо, приведем в Совет, а потом что?
— Поступим так, как сказано в постановлении.
— Стало быть, платочки тово… — Для казака Горшочкова это была первая акция решительного наступления на торговцев. Не такой уж он был недоумок, чтобы не понимать четкого и ясного смысла постановления о лимитных ценах на пуховые платки. Закупленные платки изымались у спекулянтов, расчет производился по установленным правительством ценам. Постановление, было справедливое, но пока его мало кто выполнял.
— Стало быть, платки отберем и передадим в пуховязальную артель, — сказал Илья.
— А гайки нам за это не накрутят? Может, штрафануть как следоват, — предложил Горшочков. Уж очень не хотелось идти с понятыми в полубояровский дом, вязаться с их дружками, да и торговца председатель знал как облупленного. Из казаков был платошник.
— У тебя закон, постановление в папке, — сказал Илья.
— Закон законом…
— Ты что же, Николай Матвеевич, по разным законам жить хочешь? — Илья уже загорелся предстоящей акцией и решил не упускать случая, тем более что связан он был с полубояровский кланом.
— По двум ли, трем ли… Я еще и одного-то хорошенько не знаю… Сумнительно… взять да и сразу распотрошить, забрать. Что о нас в станице говорить начнут?
— Мы же не даром берем. Заплатим. А хорошо, Николай Матвеевич, о нас после скажут… — ответил Илья и послал Аннушку за Федей Петровым.
— Не знаю, не знаю… Дело непривычное. Надо хоть понятых взять кого посурьезней, чтобы все по форме было…
— Федя Петров сейчас придет, а вторым…
— Кто вторым? — поспешно спросил Горшочков.
— А вторым будет Аннушка.
— Нюшка? — Председатель даже вскочил.
— Послушай, Николай Матвеевич, как зовут твою жену? — спросил Илья.
— Ну, Лизавета!
— А ты сам как ее зовешь?
— Что ты меня потрошишь?
— Лизкой, поди, не называешь?
— Это уж как придется…
— И она тебе не Нюшка. Анна — мать, сына имеет. А в слове «мать», знаешь, какая заложена сила?
— Ну пошел теперь агитацию разводить. Назначай, назначай!
— А почему бы и нет? Она член правления. За нее большинство кустарок проголосовали. В платках разбирается не хуже любого спеца. Кого же нам звать? Уж не Пелагею ли Малахову?
Вернулась Аннушка, а с нею и Федя Петров.
— Ну что порешили, заговорщики? — улыбаясь, спросил Федя. Он был в длинном кожаном пальто желтого цвета, пошитом из кож местной выделки.
— Тебя Нюра ввела в курс? — спросил Илья.
— Доложила в полном объеме. — Федя добродушно и весело засмеялся. — Мало того, еще какой-то секрет в запасе оставила. Это, говорит, только для Илюшки… Я уж не стал допытываться… С новосельем тебя.
— Спасибо.
— Ладно, на пельмени позовешь потом, а сейчас, выходит, начинаем действовать? Давно я ждал такого случая. А то некоторые наши члены товарищества держат платки в сундуках. Ждут Маркела Спиридонова аль Евграшку Дементьева. Кажется, он пожаловал?
— Он, — кивнул Горшочков.
— А кто понятые? — спросил Федя.
— Ты и Нюра.
— Аннушку правильно! Женский наш актив!
— А ты знаешь, куда он ее метит? — спросил Горшочков.
— Куда? — Федя продолжал улыбаться. Он был смешливым, словоохотливым парнем. Кустарки любили его за это.
— На твое место…
— А что? Аннушка и тут потянет, да еще если подучить маленько… Так пошли! Где Илья?
— Одевается, — выходя из горницы, ответила Аннушка. На ней были высокие желтые ботинки, привезенные Мавлюмом чуть ли не из самой Варшавы, новая коричневая юбка, ярко-лиловая, с вздутыми рукавами кофточка, а на затылке наверчена крупно заплетенная коса. Аннушка была радехонька и счастлива, что затеяла всю эту заваруху.
— Давай живее! — войдя в горницу, подгонял Федя Илью. Ему тоже не терпелось вступить в схватку.
— Я готов. — Илюшка надел свой единственный из синего сукна френч с накладными карманами. В один, правый, сунул наган.
— Все-таки решил взять? — спросил Федя.
— Мало ли что… В самое логово идем.
— Это верно. Ты только не задирайся и не выходи из себя. Понял?
— Как не понять. Как вспоминаю об этой бирючьей норе, коленки начинают дрожать…
— Так, может, тебе не ходить? Мы и одни. Я справлюсь и без пушки…
— Нет, пойду, Федя. В глаза хочу бирючкам поглядеть…
Пузатые, приземистые дома станицы успели за утро обсохнуть и сыто, миротворно пригреться на солнце. Небо было прозрачным и чистым, как большое голубое стекло, которое спозаранку протерли тряпицей.
— Торговца ты знаешь. Дементьев из Озерной. У отца в Оренбурге несколько мануфактурных лавок. Помнишь, когда мы с тобой работали в ярмарочном комитете, он у нас патент выписывал? Еще пятерку на углу стола «забыл». Я его тогда шуганул…
— Все помню, — кивнул Илья и поправил концы обмотанного вокруг шеи желтого башлыка.
В доме Полубояровых Илья был единственный раз, когда уводили с матерью Мухорку. Он пытался представить себе, с какой ехидной высокомерностью встретит их Сережка, его братья, а особенно снохи. Не ждут, наверное, такого визита.
Илья ошибался. Живописную компанию во главе с председателем поселкового Совета Полубояровы снохи узрели в окно и сторожко ожидали их приближения.
— Я так полагаю, Евграф Севастьянович, что идет эта большевистская братия по твою душу, — сказал Сережка Полубояров торговцу. — Я выйду к ним, а ты тут прибери, что успеешь…
— Что прибирать-то? Что?
Смуглый, черноволосый Евграф обеспокоенно обвел комнату круглыми, чуть раскосыми глазами. Весь передний угол крашеного пола просторной, многооконной горницы был завален разномастными кучками пуховых платков.
Полубояров встретил комиссию на крыльце в небрежно сдвинутой на лоб кубанке, во вздутых пирожками черных галифе, заправленных в шевровые сапоги.
— Советской власти наше нижайшее! — откозырнул он, не скрывая усмешки в прищуре серых, недобро поблескивающих глаз.
— Ты что-то рано, Сергей Ерофеич, вихляться начал? — спросил Федя.
— Не вихляюсь, а честь властям отдаю. — Полубояров так взглянул на Илью, точно отравленную стрелу метнул.
— Не надо нам твоей чести, — ловя его дерзкий взгляд, ответил Илья.
— Ты еще не власть, ты всего-навсего писарь… Вот и пописывай, пописывай… — Расставив ноги, Сережка сцепил пальцы за спиной.
— Это мы от тебя уже слышали.
— А ты не слушай, а то еще один чирышек наживешь на башке… — С утра Полубояров выпил с платошником лишку, потому и на язык был невоздержан, да и злости накопилось немало.
— Слушаю в оба уха и двумя глазами гляжу. Не задерживай. У нас дело к твоему постояльцу. — Илья не мог никак унять дрожь в руках.
— Ты что вязнешь к людям? Мы ить не в бирюльки идем играть. Пошли, ребята! — Оттеснив плечом Сережку, Федя пропустил вперед Илью и Горшочкова. За ними, поднимаясь по крашеным ступенькам, застучала каблучками Аннушка.
— А ты куда? — Полубояров загородил Аннушке дорогу.
— Она понятая! — сказал Федя.
— Понятая! Если уж Нюшка пришла в мой дом понятой, что же будет дальше, боги мои!
— А ты молись, молись, может, и услышит тебя твой боженька… А ну дай дорогу! Чего перья распустил, как петух общипанный?
Даже Федя изумился. Вот так Аннушка!
— Ты слыхал? — спросил он Полубоярова.
Тот стащил папаху, вытер ею щеки и, сверкнув белками красноватых глаз, молча стиснул зубы.
Торговец встретил комиссию в передней. За ним, прислонившись дородной спиной к наглухо закрытым дверям горницы, стояла Авдотья. Она раздобрела. Лицо ее, и без того широкое, стало еще мясистей. В заплывших глазах вспыхивали злые огоньки. Платошник суетливо рылся в толстом бумажнике, извлекая потрепанный патент.
— Мы знаем, что бумаги у вас в порядке, — отдавая патент Горшочкову, проговорил Илья. — Мы не за тем пришли, гражданин Дементьев.
— А зачем, дозволю себе спросить? — Взгляд торговца прилипал то к одному, то к другому, крупная косматая голова его вертелась, как на шарнирах.
— Мы насчет цен на платки, повышения, значит, — вставил Горшочков.
— Каких цен? Извините, не понял… — Длинные, чуткие пальцы торговца, привыкшие встряхивать платки и паутинки, скользили по золотой цепочке часов, растянутой поперек черного жилета.
— Брось, Дементьев! — не выдержал Федя. — Ты ведь хорошо знаешь, о чем идет речь. О лимитных ценах. Я за тобой, милок, знаешь, сколько гоняюсь!
— А ишо насчет того: почему в Совет не заехали, разрешения не взяли? — снова вступился Горшочков. — Я как председатель…
— Каюсь, товарищ председатель, каюсь. Поздновато вчера приехал, не хотелось тревожить перед воскресным днем… — оправдывался платошник.
— Вот ведь какой, врет и не краснеет! — воскликнула Аннушка. — Уже в полдень тут баб было полнехонько…
— А ты чего вякаешь! Я тебя зачем звала? — выставилась вперед Авдотья.
— Капустку твою, Дуня, рубила, капустку… — Аннушка улыбчиво прищурила глаза.
— А чего сюда приперлась? — Голос Авдотьи начал срываться.
— Позвали, Дуня!
— Позвали… А ну-ка айда отсюдова!
— Не шуми, Дуня. Нюра у нас при исполнении обязанности, — деликатно пытался вмешаться Горшочков. — Она понятая.
— Кака еще понятая? Я этаких вертихвосток так турну из своего дому!
— Ты что задом своим дверь греешь? Думаешь, не войдем в твои хоромы? — сказала Аннушка.
— Выдь, я говорю!
— Что такое? Об чем крик? — спросил муж Авдотьи Панкрат.
— Понятая она у них, сотская! — злобно продолжала Авдотья.
— Погоди, Дуня, уймись. Что тут, Николай Матвеич, происходит? — спросил Панкрат у Горшочкова. — И нельзя ли спокойно, миром все решить?
— Мир уже, Панкрат Ерофеич, нарушен, — сказал Федя. — Отослал бы ты жену-то от греха подальше…
— Авдотья, чем зубы скалить с Нюшкой, поди согрей чаю. Ступай! — добавил он властно.
— Показывайте, гражданин Дементьев, ваш товар, — когда Авдотья вышла, потребовал Федя.
— А зачем вам мой товар? — Глаза торговца побелели. — Ежели штраф уплатить, так я с моим удовольствием.
— Штрафов покамест с удовольствием никто не платит… А вот цены на платки вы вздуваете, — сказал Горшочков.
— Ничем не докажете. Входите! — Торговец распахнул дверь.
— Постараемся доказать, — ответил Илья и вошел в горницу первым.
Платки не просто были навалены, а бережно, аккуратными стопками разложены вдоль стены по размерам и сортам. Тут было много серых, с пестрыми, узорчатыми каймами и ни одной паутинки.
— Говорите, не докажем и не узнаем? — Аннушка взяла самый большой платок с широкой белой каймой, с темно-серыми по краям рубчиками. — Ну как его не узнать? Лизы Мироновой золотые рученьки! Шестьсотпетельный раскрасавец! А эти два — тетки Зубайды. А те вон серые, одинаковые восемь штук — Полины Дмитриевой. Сказать, сколько вы заплатили за каждый?
Перебирая пальцами цепочку часов, торговец помалкивал. Панкрат, лаская завиток уса, отвернулся к окну. Он не мог видеть, как, раскрасневшись от волнения, в горнице свободно распоряжалась Нюшка, которую они пускали только на задний двор…
— А ты, Нюра, разложи товар, как полагается. Ведь можешь? — спросил Федя, с восторгом думая, как привезет он такую красоту в промкредсоюз и раскинет на прилавок перед капризными приемщиками — любителями занижать цены и сорта.
— А чего не могу? Всю жись иголками щелкаем. Вот эти все четырехсотпетельные, с сученой ниткой пойдут первым сортом. А эти два, редковатые и с расколками, вторым.
Илья писал акт, Аннушка называла сорт, размеры. Федя согласно инструкции диктовал цены. Когда акт был составлен, Илья хотел было подвести черту. Но Аннушка остановила его.
— Погоди, Илья Иваныч, почему-то нет ни одной паутинки. — Она посмотрела на торговца и членов комиссии такими растерянными глазами, будто была сама виновата в исчезновении паутинок.
— Слушай, гражданин Дементьев, ажурные были? Покупал? — спросил Федя.
— Все тут, что видите… — резко ответил Дементьев.
— Как же все? — с прежним удивлением спрашивала Аннушка. — Маша Ингина сдала, Минзифа — две, Поля Гришечкина. Задами уходили, и при мне деньги пересчитывали, и пух еще показывали. — Аннушка назвала еще несколько имен и фамилий.
— Предъявить придется, гражданин Дементьев. — Строгий вид Ильи ничего доброго не сулил.
— Зачем мне предъявлять? Я не собираюсь продавать их по вашим лимитным ценам…
— Придется, гражданин Дементьев, — ответил Илья, не спуская глаз с кожаного в углу саквояжа.
— Не думаю. — Торговец все еще был уверен, что отделается штрафом. Так считал и Панкрат Полубояров.
— Согласно постановлению губисполкома о лимитных ценах ваш товар подлежит изъятию. Вам будет заплачено именно по лимитным ценам, — заявил Илья.
— Я не знаю никакого постановления…
— Неправда. Вас знакомят и при получении патента, а также, когда получаете разрешение на торговлю в селах. А вы решили нас обойти. Саквояжик придется открыть и положить на стол паутинки.
— Вы не имеете права обыскивать, шарить в чемоданах! Может, еще в карманы залезете? — Платошник так разошелся, что начал выкрикивать бранные слова.
— Ведите себя культурнее, гражданин Дементьев, — предупредил Илья. — Если вы сами не предъявите ажурные платки, мы откроем саквояж…
— Нате, берите все! Хапайте! — Торговец раскрыл саквояж и выкинул на стол паутинки. Там их было больше десятка. Схватив одну, платошник с остервенением стал раздирать ее на мелкие лоскутки.
— Ты что же, хапуга, добро-то портишь? — закричала Аннушка. — Переплачиваешь нам, дурам, против артельных цен по трешнику, а за пух дерешь, как с Сидоровых коз. Ничего бы я тебе не заплатила, обманщику, черту лысому! На-кось, что сделал!
— Мой товар, что хочу, то и делаю! — кричал торговец.
— Ты, что ли, его вязал? — наседала Аннушка.
— Когда хотите получить деньги? — утихомирив Аннушку, спросил Илья.
— Не хочу я ваших денег! Жаловаться буду!
— Можете, — кивнул Илья. — Если вы отказываетесь от денег, мы зачислим их в депозит Наркомфина. При подсчете подоходного налога за торговлю и штрафа там эту сумму вам зачтут…
Пока писали акт, Федя сбегал домой, запряг лошадь и приехал на телеге. Платки увезли в пуховязальную артель. Торговец хоть и поартачился, но от денег не отказался.
Когда комиссия уходила, в сенях Илью задержал Панкрат. Взяв его за борт френча, прохрипел:
— Не слишком ли круто, Илька, поворачиваешь?
Илья отстранил его от себя.
— Это что, угроза?
— Совет дельный…
— Совет… — Илья покачал головой. — Ты ведь, дядя Панкрат, вроде умный… зачем же нас-то за дураков считаешь?
— Раз у тебя наган в кармане, то большого ума не вижу…
— Какой уж есть… Ты бы лучше своему братцу Сереге посоветовал, чтобы соображал и действовал поумнее…
— Ты на что намекаешь? — С тревогой в голосе спросил Панкрат.
— Он и без намеков хорошо знает, да и ты тоже… Бывай здоров!
— Нет, Илья, погоди, погоди! — пытался удержать его Панкрат.
Илье и в голову не приходило, какой страх посеял он им в сердце.
— Некогда! — Илья резко оттолкнул оторопевшего хозяина и вышел.
Дома, когда они остались вдвоем с Аннушкой, она взахлеб рассказывала:
— Тяпку я бросила и в амбар побежала по малому делу. Слышу разговор под навесом — голоса Серегин и торгаша этого: «Хорошее мы с тобой, Сергей Ерофеич, дельце обтяпали, — говорит торгаш Сереге. — Мануфактуру твою…»
— Какую мануфактуру? — хватая Аннушку за руку, спросил Илья.
— Из какого-то Сакмара-Уральска, чо ли?
— Сакмаро-Уральский потребсоюз, наверное?
— Так, так и есть! Правильно! Продал, говорит, с большим барышом. Получай свою долю, Сергей Ерофеич… Я нос в щелочку, и своими глазами видела, как он передал Сереге целую пачку червонцев и еще отсчитал сколько-то…
— Ты никому об этом не рассказывала? — Илья сразу понял, что это была за сделка. Мануфактура, полученная по нарядам из Сакмаро-Уральского потребсоюза, пошла в лавки частникам по самой дорогой цене.
— Что ты, Илюшка! Ни словечка. Полубояровы-то вон какие староверские властители!
Аннушка знала силу этого привилегированного рода. Поощряемый царской властью, он процветал и креп. Эта станичная аристократия вершила всеми делами, была высокомерна, надменна, любила жить за чужой счет.
— Аннушка! — Темные Илюшкины глаза загорелись. — Лапушка! Ты такое зацепила, такое! — Он встряхнул ее за плечи, поцеловал в щеку и закружил по комнате. — Ох, дельно! Теперь Сережку из кооператива вышибем, а на его место выберем тебя, тебя, Анна Гавриловна!
— А ну вас с шуточками! — Аннушка вырвалась из его рук. — Федя вон тоже все насчет пуховой артели подзуживает… Что вы на самом деле!..
— Ты, Нюра, сама не знаешь, какая ты есть!
— Какая? — Аннушка стояла возле кухонного стола, глаза ее подернулись слезами.
— Умница. Учиться поедешь, учиться!
— А-а! Учиться… — проговорила она задумчиво. — Это ты уедешь, а без тебя они нас тут сырыми сожрут…
— Зубы сломают. А тебе, знаешь, какое спасибо!
— Не надо благодарить, Илюшка! Я теперь с вами, комсомольцами, до гробовой доски. Мне бы только грамоты поднабраться… Я бы тогда кое-кому показала, почем сотня гребешков…
— Все будем учиться, все! Сплошь! Потому что машины у нас будут самые могучие, и товары в потребиловке самые лучшие! Чтобы зашел и оделся с иголочки.
— А Сережка Полубояров, выходит, вместо того чтобы своих станичников одеть, ту мануфактуру спекулянтам сбагрил, а барыш себе в карман?
— В том-то и дело! И, поди, не первый раз…
— Еще бы! Мало у них добра всякого. Сколько из Туркестану привозят пуха! Отдают самым бедным татаркам, тем, кому купить не на что, да по хуторам развозят. За осьмушку целыми ночами спину гнешь, гнешь, аж руки деревенеют. Сколько я для них платков, шарфов, перчаток напетляла, господи! А сейчас наши кустарки…
— Кустарок надо в артель агитировать, выгоду объяснить. А пух в долг давать! — проговорил Илья.
— Агитируют и пуха не жалеют. Только в артель почему-то привозят больше дебаги, а у Полубояровых тимирский пух — длинный, сизый, как дым. Волос живо выберешь и прядешь припеваючи. А дебагу-то щиплешь, щиплешь…
Аннушка говорила справедливо. Илья хорошо знал, что в бескрайних степях Туркестана у кочевников паслось несметное количество овец и коз. На приволье они так быстро плодились, что иные богатые скотоводы — баи не знали своим стадам счета и не могли регулярно вычесывать пух. Он сваливался на козах, превращался в плотно скатанное руно — дебагу, жесткую, грязную. Обрабатывать ее было очень трудно, оттого и качество изделий из дебаги было низкое. Много пуха закупали у кочевников агенты промысловой кооперации. Дебага шла вагонами, а серый тимирский пух отправлялся почтой ценными посылками, нередко совсем по другому адресу… Нетрудно было догадаться, как хозяйничали в полудикой степи дельцы разных масштабов и, конечно, частники.
— Ничего, Нюра, придет времечко, будут у нас свои козьи совхозы. Разведем красивых, породистых козочек — серых и белых. И козелков, конечно… — весело заключил Илья. Сообщение Аннушки кружило ему голову.
— Козочки… Нюрку поставите царицей над этим козлячьим царством, — усмехнулась Аннушка. — Эх, Илюха, Илюха! Твоими бы устами медок пить да в голубенькой рубахе ходить…
— И голубенькая неплохо… — Илья пристально посмотрел на Аннушку и словно впервые увидел, какое у нее тонкое, нежное и красивое лицо. Он смотрел на нее и терзался мыслью: «Что бы сделать для нее такое хорошее, доброе?»
— Знаешь, Аннушка, что я тебе скажу?
— Что?
— Ты только никому ни словечка! Ладно?
— Ладно.
— Про то, что ты мне сегодня рассказала, я в газету статью напишу. Да такую, с гвоздями!
— Дай тебе бог, Илюшка… — ответила она негромко и вздохнула.
В ту ночь Илья написал первый в своей жизни фельетон: «Как доверить козлу капусту, так и кулаку кооперацию».
3
Почти весь ноябрь 1928 года по мерзлой уральской земле громыхали кованые колеса телег, фургонов с высоко навитыми луговым сеном и чилижником. Из-за Урала на тугай налетал ветер-афганец, яростно срывал с деревьев последний сухой лист и мотал в степях сиротливый ковыль. В один из пасмурных дней, словно устав от гулкого чернотропья, мороз внезапно подобрел — на землю упал первый мягкий снег.
Галинка, та самая девчонка, что бегала к Аннушке с Илюшкиной запиской, везла на салазках укутанный куском мешковины чиляк. Останавливаясь посреди улицы, она задирала головенку и ловила губами снежинки, а то лепила снежки и бросала их в плетень.
— Галя! Галинка! — крикнула Аннушка и постучала в окно. После случая с запиской Аннушка стала все чаще зазывать Галинку к себе — совала ей то кусок шаньги, то пирог с калиной. А для бабки Аксиньи особо завертывала гостинец в старую Илюшкину газету. Нередко садилась она с девочкой рядом и решала простенькие, за третий класс, задачки. Со временем поняла, что многое, чему училась когда-то в школе, забыла. Как-то, проводив девочку, достала из сундука связку Колькиных тетрадей и весь вечер просидела, уткнув нос в задачник. Иногда, когда Илюшка задерживался в поселковом Совете, отодвинув книжки и рукоделье, опускала на стол голову и плакала, то ли от одиночества, то ли от горького вдовьего бессилия. А тут еще сиротка-девчонка прикипела к ее сердцу.
Иногда Аннушка не выдерживала и сама с узелком в руках бежала к скособоченному дому бабки Аксиньи.
Сегодня Аннушка приготовила для Гали две ленточки — голубую и розовую. Когда Галинка свернула с салазками к воротам, Аннушка не вытерпела и, накинув на плечи шаль, побежала встретить ее.
— Чо везешь, Галюшка?
— Баушка прислала Илюшке гостинцев, — Галинка сняла с салазок чиляк.
— Погоди, я помогу тебе.
— Ничего. Сама справлюсь… — Пыжась, Галинка внесла чиляк в избу и поставила на стол. — Тут соленый арбуз, капуста кочанная. И ишо баушка велела сказать ему спасибо за дровишки.
По постановлению общего собрания казаки ежегодно обеспечивали школу топливом. Илья попросил, чтобы попутно завезли и для бабки Аксиньи, жившей с внучкой-сиротой. Родители девочки умерли в голодные годы.
— Скажу, умница ты моя, скажу. Раздевайся, и мы с тобой будем щи хлебать. А еще, знаешь, чо я тебе приготовила! — Аннушка дотронулась до светлых взъерошенных волос девочки и тут же невольно отдернула руку. Схватила ухват и полезла в печь за чугуном с водой. Налила в корыто.
— А ну-ка давай сюда головку свою! — крикнула она.
Девочка охотно покорилась.
— Господи, волосы у тебя так скатались, как на той овечке шерстка! Бабушка не моет, чо ли?
— Моет, да плохо. У нее руки трясутся.
— Зажмурь глаза! Ты и сама могла бы помаленьку…
— Царапаю, царапаю, когда в бане. Да рази их расчешешь… Высохнут — и опять гребенка не берет…
— Густущие потому что… и промываешь плохо. Приходи ко мне в баню.
— А как же баушка! Я ей спину натираю.
— Приходите вместе с бабушкой.
— Старенькая она. Куда уж ей! А у тебя теперя Илюшка. — Галинка глубоко вздохнула.
— Ну и чо из того?
Подняв голову, девочка посмотрела на Аннушку светлыми, недетскими глазами и шепотом спросила:
— Он женился на тебе, да?
— Ой, чо ты! Скажешь тоже… — Аннушка старательно расчесывала влажные волосы девочки. «Вот и Колюшка был когда-то маленьким. Дочку бы мне еще…» Руки задрожали от такой, давно терзавшей ее мысли. — А с чего ты взяла про Илюшку-то? — машинально спросила она, думая совсем о другом.
— Значит, это, тетя Нюра, неправда? — пытала Га-линка.
— Да не крутись ты! Как можно, доченька! Я старше Илюшки, и сын у меня есть, Колюшка. Как можно!
— А говорят…
— Кто говорит, кто? — Гребень выскользнул из ее рук и упал на пол. Аннушка нагнулась за ним и поправила половичок.
— Тетка Палаша сказала…
— Выдумала она.
— Значит, врет Малачиха?
— Еще как!
— Ну и ладно, ну и пускай, — обрадовалась Галинка. — А как Илюшка хорошо на гармони играет! Мне бы выучиться!
— Выучишься! — Аннушка и не подозревала, какой близкой была эта Галинкина мечта.
— А ишо я на фершала выучусь. Сама стала бы Илюшку лечить, повязку переменивала бы каждый день.
— Хорошо и на фельдшера.
Тепло ребенка передавалось Аннушке. Сердце ее сжималось от радости, на глаза навертывались слезы. Дала бы им волю, да как расплачешься на глазах у ребенка, только спугнешь эту веселую, мечтательную детскую минутку.
— Подсохла твоя головка. Теперь и обедать можно! — Аннушка вытащила из печки чугунок со щами, пшенную кашу, сваренную пополам со сладкой тыквой, которую очень любила Галинка.
— Ешь, фельдшерица, ешь, касатка!
— Прямо уж!.. — На секунду Галинка перестала есть, поглядывая на Аннушку с пытливым ребячьим прищуром, вдруг бросила на стол ложку, скрестила руки на животике и звонко, заливисто засмеялась.
— А ты почаще ко мне приходи, Галочка, — провожая девочку до калитки, сказала Аннушка.
— Приду! Обязательно приду! — Галинка побежала в больших, не по росту, валенках.
«Шерсти нащиплю и отдам скатать для нее валенки», — подумала про себя Аннушка.
Аннушка постояла немного на улице. В воздухе кружилась ленивая снежная карусель. Мальчишки в ушастых шапчонках старательно катили первый снежный ком.
Подошел почтальон Ванюшка Степанов и отдал для Илюшки газеты.
— А я письмо жду, Ванюша!
— Нету. Матерям всю жись суждено ждать, — ответил Ванюшка и, скрипя кожаной сумкой, пошел дальше.
Илья как селькор бесплатно получал оренбургскую газету «Смычка» и «Орские известия». Кроме того, выписывал «Правду», «Комсомолку», «Крестьянскую газету» и журналы «Резец» и «Вокруг света». В качестве приложений ему присылали удивительные для того времени книги — такие, как «Знаменитый Кудеяр», «Спартак», «Гарибальди». По вечерам он читал их вслух Аннушке, а когда ему было некогда, она сама дочитывала, да так втянулась, что уйму керосина жгла. Приучил ее Илюшка и газеты читать. Сегодня она успела лишь полистать журнал, картинки посмотрела, тут Илюшка обедать пришел. Пока он ел, Аннушка про Галинку ему рассказывала — какая она смышленая да ласковая. Про новые валенки, что скатать собиралась ей. Под конец обеда и про соленый арбуз вспомнила.
— Бабка Аксинья тебе гостинец прислала, арбуз соленый.
— Это с какой стати?
— За дровишки…
— Вот удумала! Скажут, что поборами занимаюсь…
Поговорить не успели. Кто-то шумно ввалился в сени и распахнул кухонную дверь. Не перешагнув порога, Федя, как флагом, размахивал газетой. Широкое лицо его расплылось в улыбке.
— Илья, пляши! — Вбежав в комнату, Федя лихо прошелся вприсядку так, что от калош полетели ошметки снега.
— Калоши-то хоть сними, чертушка! — крикнула Аннушка. — Чо притащил?
— Судьбу ему притащил, судьбу! — Федя подскочил к Илье и нахлобучил ему на голову свою коричневую, с красным верхом кубанку, привезенную из кавалерийского эскадрона. Повернулся к Аннушке и зажал ладонями ее лицо.
— Сбесился совсем! — Аннушка пыталась увернуться, но Федя все-таки расцеловал ее в обе щеки.
— Ой, и правда бес окаянный! — защищалась Аннушка.
— Это наш Илюха, бес, староверам на самую хребетину залез! Ты слушай, Анюта, что он тут распахал, слушай! — Федя развернул газету и бойко прочитал Илюхину статью.
Илья сидел за столом и растерянно улыбался. Он и не подозревал, что так внушительно могут прозвучать на страницах газеты самые простые, будничные слова.
Счастливый день подарила ему сегодня жизнь. Илья вскочил, одной рукой обнял Федю, другой Аннушку, расцеловал их, не в силах сказать ни слова, — в горле першило…
— Что же теперь будет? — спросила Аннушка.
— Что будет? — сказал Федя. — Сережку Полубоярова и всех ихних прихлебателей из кооператива турнем. Вот что!
— А когда это случится и как?
Федя и Илья поглядели друг на друга. Что они могли ответить?
— Ну протащили их, продернули, как через узкий хомут… А дальше чо? Отряхнутся — и опять нас снова запрягут, да? — настойчиво спрашивала Аннушка.
— Тебе, Илья, надо наметом завтра же в район, в волком партии, к Ефиму Павловичу! — проговорил Федя.
— Правильно, Федя! Еду. Завтра же! — решительно ответил Илья. — Только весь вопрос: на чем ехать, санного пути еще не натерли?
— А мой саврасый на что? — сказал Федя, и улыбка осветила его веселое, возбужденное лицо.
4
Тихо было до самого полудня, а как стемнело, налетел ветер, разогнал порхающие в сумерках снежинки, закрутил, погнал их к подворотням и начал озорно в ставни насвистывать. Тут и мороз пошел вместе с ним гулять по степи, хватать за носы припозднившихся путников, лез к ним под шубы, если они были плохо подпоясаны.
Конь шел по кочковатой дороге усталым шагом, ноги его заметала поземка. Телеграфные провода пели, словно на гуслях играли. Хорошо зная повадки коня, Ефим Павлович нечасто шевелил поводьями. А умный конь, чувствуя на себе опытного всадника, сам выбирал тропу и не мешал хозяину думать. Время настало тревожное. Надо было быстро всему учиться, еще быстрее разбираться в крестьянских и партийных делах. В глухой темноте уральских станиц, горных поселков все чаще раздавались гулкие выстрелы из обрезов. Ефим Павлович ехал в Петровскую по письму Илюшки и вез жалобу на петровских комсомольцев.
…Еще с вечера Аннушка завернула в газету полотенце, зубную щетку, мыло, отдельно хлеб и две сухие рыбины. Утром Илюшка должен был выехать в район. А сейчас они сидели в горнице возле помигивающей лампы; Аннушка чинила старую шубейку, доставшуюся от матери, а Илья расположился по другую сторону стола и читал вслух:
Знаю, за дурное слово, За обиду острый нож, Не боясь суда людского, Прямо в сердце ты воткнешь; Знаю, ты вина за чаркой, За повадливую речь Смело в бой полезешь жаркой И готов в могилу лечь…— Постой, Илюшка! — Аннушка отложила шубейку.
— Ты чего? — спросил Илья.
— Про тебя стишок, вот те бог!
— Ну что ты выдумала…
— Про твой характер!
— Да будет тебе! — не без досады проговорил Илья, хотя сам нередко сравнивал себя с героями прочитанных книг.
— Нет, нет, точно! Кто сложил такие?
— Аполлон Майков.
— Ведь так сочинил, что как будто всю жизнь в щелочку за тобой подглядывал… И слова-то вроде не шибко красивые, а понятные.
Илья стал рассказывать Аннушке о поэте Майкове, о его стихах, широко распространенных в России.
— Вот уедешь ты от нас, зачахнем мы тут, — вздохнула Аннушка.
— Пока никуда не уеду.
— Правда?
— Завтра в район…
— Так это ненадолго… — Аннушка вздохнула.
В горнице было хорошо натоплено, а за окнами свирепствовал снежный буран. Вдруг в окно кто-то сильно постучал, послышался знакомый голос:
— Хозяюшка!
— Слышь, Нюра?
— Слышу. Кто это там?
— Это Ефим Павлович! — Илья вскочил и побежал открывать.
— Вот тебе на! Такой гость!.. А у меня, как у цыганки Мотьки в кибитке… — Аннушка скатала шубенку трубочкой, старые валенки запихнула ногой под лавку, схватила с лежанки новые чесанки, надела, да так и выскочила к гостю с овчиной в руках.
— Хозяюшке мое почтение! Прощения прошу за такое неожиданное вторжение. — Бабич снял шапку, вытер платком заиндевевшие усы. — Догадливая у тебя, Никифоров, хозяйка, тулупчик озябшему путнику приготовила. — Бабич улыбчиво поглядел на смущенную Аннушку.
— Какой там, товарищ Бабич, тулупчик! Старенькая, престаренькая овчина от моей мамы осталася. Проходите. Милости просим! — Бросив шубейку на лавку, Аннушка кинулась помочь гостю снять шинель.
— С этим я сам справлюсь. А вот от стакана чаю не откажусь. Сейчас это будет в самый раз.
— Сейчас! Я мигом! — Аннушка схватила в одну руку самовар за ушко, в другую Илюшкин сапог для раздувки и выскочила в сени воду наливать.
Повесив шинель, Бабич остался в защитной гимнастерке, перехваченной военным ремнем, причесал седеющие на висках волосы, потер обмороженную половинку уха и подошел к печке. Он озяб и проголодался.
— Был в Елшанской, а оттуда к вам, — сказал Бабич.
— А я собрался ехать завтра, — проговорил Илья.
— Получил твое письмо и не очень удивился, что на тебя напали… Есть случаи куда пострашнее. И скот падает от ящура, и немолоченый хлеб горит у артельщиков. Ну да ладно. Что сам расскажешь?
— Вроде бы я все написал, Ефим Павлович?
— То, что ты мне написал, я знаю… Ты лучше поподробней расскажи, что за конфискацию пуховых платков ты произвел? Как наганом размахивал? Кстати, надо его сдать.
— Есть разрешение… — У Ильи похолодело внутри. С оружием он чувствовал себя куда увереннее.
— Наган, как тебе известно, состоит на вооружении Красной Армии. Я сам, гляди, какую маленькую пичужку таскаю. — Бабич вынул из кобуры новенький вороненый браунинг, показал и положил обратно. — Ну так как было дело?
Илья кратко рассказал о случае в доме зятя Степана, затем со всеми подробностями изложил историю с торговцем.
— И это все? — Бабич потер согревшиеся руки, достал из кармана трубку, не спеша набил ее душистым турецким табаком, который сам выращивал на грядке.
— Да, товарищ секретарь волкома, это все, — Илья опустил голову.
— Допустим, допустим… — Посасывая трубку, Бабич принял свою излюбленную позу — левой рукой он держал трубку, правой придерживал локоть.
— Наверно, я допустил…
— А как у тебя с семейными делами? — перебил его Бабич.
— К чему этот вопрос? Не понимаю… — Илюшка пожал плечами. Переход к личному смущал и настораживал. Так, с бухты-барахты Ефим Павлович спрашивать не станет…
— Ты еще не женат?
— Нет.
— А может быть, живешь в свободном браке? — Бабич расправил трубкой кончики усов, пряча в них усмешку.
Из сеней прибежала Аннушка. Она почувствовала, что при ее появлении гость и Илюшка замолчали. Схватила шубенку, накинула ее на плечи и тихо вышла в сени, плотно прикрыв за собой дверь.
Илья видел, как Ефим Павлович проводил взглядом статную фигуру Аннушки. Илья молча катал пальцами папироску и так сильно нажал, что она лопнула, рассыпая на пол табак.
— Трудный вопрос, что ли? — спросил Бабич.
— Нет, — покачал головой Илья. — Лишний…
— Вот как! — Ефим Павлович полузакрыл глаза. — Ты ведь не в четырех стенах сидишь, — продолжал он. — Девушка, поди, есть?
— Была.
— Почему была?
— Недавно вышла замуж и уехала.
— Что же случилось? Поссорились?
— Нет… Это было детское, со школы… — Илья совсем потерялся, не знал, как отвечать. А может, все это было ненастоящее?..
— Стоишь, морщишься, отвечаешь, как огурец горький жуешь! — продолжал Бабич преувеличенно громким голосом. — Лишний вопрос… Знаешь, что вот здесь написано про тебя? — Ефим Павлович вытащил из нагрудного кармана несколько листов мелко исписанной почтовой бумаги.
— Написано? Что написано? — встрепенулся Илья.
— Читать это не надо… скверно, зловонно… — Бабич старательно разорвал листки и, подойдя к горнушке, швырнул в золу. — Тут не просто кляуза, а набор всякого вздора, с житейскими подробностями и с политической подкладкой… Последнее, брат, дело хвататься за оружие. Наши враги вокруг этого обедню служат, предают нас анафеме. А вот с пуховыми платками, изъятием у торговца поступили правильно. Нарушать постановление губисполкома никто не должен. Если говорить начистоту, так организация пуховязальных артелей, вся торговля чудесными оренбургскими платками, по существу, находилась в руках частников и спекулянтов. А ведь платки — это драгоценность, золотая валюта! А золото — это импортные станки, тракторы. Наши пуховые артели пока еще не так богаты, а спекулянты всеми силами стараются подорвать и без того их слабую мощь. Ты справедливо пишешь, что у нас в кооперации еще сидят торговцы, лавочники, чуждые Советской власти люди. В потребсоюзе заправляют бывшие дутовцы, заготовка пуха отдана на откуп дельцам и пронырам. Черт знает что! Немедленно надо очищать! Немедленно! Предстоит очень серьезная работа по подготовке кадров советских и кооперативных работников. Мы должны учиться! Пошлем тебя сначала на лечение и отдых, а потом на кооперативные курсы.
— Спасибо… Мне уже прислали направление… Я думал… — Илья почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он зашел в горницу, вернулся и подал Бабичу хорошо вычищенный и смазанный наган.
— Чего торопишься? — Ефим Павлович заметил, как дрожали у Ильи руки.
— Лучше уж сразу, чтобы не тянуть…
— Ну что ж, сразу так сразу… — Ефим Павлович снял с плеча кобуру с браунингом и протянул Илье. — Бери, а то ночь ведь спать не будешь…
— Мне? — Илья не верил своим глазам.
— Бери, пока даю… И не затем, чтобы ты размахивал им… На крайний случай… Запомни, что с тебя полетели первые клочья. Сейчас в нашего брата и из-за угла стреляют, и в прорубях топят, и нас же враги обвиняют в терроре. А вопрос стоит, как сказал Ленин: кто кого! Сейчас идет жесточайшая схватка, и фронт классовой борьбы проходит через все континенты, через народы, через семьи. Вот так-то, будущий кооператор. Покличь хозяйку. Чего она в сенях мерзнет?
— Там у нее самовар.
— Знаю, что не паровоз. Зови.
— Видите, каким он именинником выглядит? — кивая на Илюшку, говорил за чаем Бабич. — Жалеете, что уезжает?
— Завидую, Ефим Павлович! — воскликнула Аннушка. — Я бы сама уехала на край света, только бы учиться…
— Погодите немножко… Пошлем и вас. А ты, Илья, честно скажи, с охотой едешь? А то возьмем и пошлем вместо тебя Анну Гавриловну.
— Если честно… — Илья поправил повязку на голове. — Если уж начистоту, то… хотелось бы в армию.
— Очень много желающих, — сказал Бабич. — У меня в волкоме больше сотни заявлений, а у военкома в десять раз больше. Все желают скакать на Дальний Восток, беляков добивать. Неудержимое стремление! В то время, как у нас не хватает хороших кооператоров, которые бы хоть мало-мальски знали экономику. Ведь Полубояровых надо кем-то заменять!
— Хорошо, Илюшка, ей-богу, хорошо! — крепко нажимая на букву «о», сказала Аннушка.
— А я разве спорю? — улыбнулся Илья.
5
Утром Илья забежал попрощаться с Настей и племянниками. Настя поцеловала деверя и накинула ему на шею новый пуховый шарф.
— Мой подарок. — Она размашисто перекрестила Илью. — На могилку к матери сходил?
— Схожу… — Невыразимая горечь полоснула его по сердцу. Уезжая, он забыл о том, что у него здесь остается самое дорогое: могилы матери, дедушки, брата Павла, сестренок. Здесь же было похоронено и его детство, и нелегкая, прекрасная в своей неповторимости юность.
Укутанная, словно в дальнюю дорогу, в большой, недавно связанный пуховый платок, Аннушка вынесла чемодан, положила его в сани рядом с баяном. Запахнув полы желтой дубленки, попросила Михаила подвинуться.
— А ты чо? — спросил он ее.
— Провожу до первой крутенькой горки…
— А я уж думал, и ты с ним в город собралась…
— И соберусь. Не семеро по лавкам сидят…
— А за чем дело стало?
— Трогай, Миша. Ты-то хоть не царапал бы мою душеньку…
— Ну, я-то по-доброму… — Михаил разобрал вожжи и уселся поудобней.
— Спасибо, — прошептала Аннушка.
— Благодарить будешь, когда дровишек приду наколоть, плетешок поправлю и ишо на чо-нибудь сгожусь в твоем женском хозяйстве. А ну, полосатая! Айда, милая! — Почувствовав вожжи, Пегашка вытянул черногривую шею и мерным, спокойным шагом вывез поскрипывающие сани на улицу.
Был субботний день. На задворках почти всюду дымились трубы приземистых бань, овеивая кизячным запахом заснеженные крыши домов и окладки сена на поветях.
Илюшка с грустью оглядывался назад — на лениво убегающие дымки, на голый, темный, дремлющий в снегу тугай, где косил с дедушкой траву, собирал с матерью грузди, спрятанные под влажным пожелтевшим осенним листом, рвал сочные столбунцы, горный чеснок, когда с Санькой Глебовым и Ванюшкой Молодцовым пас на первых весенних плешинках скотину. Справа от дороги громадным белым китом ползла пещерная гора, упираясь тупым носом в речку-грязнушку. Она напомнила Илюшке, как он впервые в жизни услышал в гулких сумерках пулеметную стрельбу и принял ее за пушечную, бежал, умирая от страха, ожидая, когда начнут валиться дома, пожарная каланча и высокая церковная колокольня со стопудовым колоколом…
Аннушка сидела рядом. Она часто доставала из рукава шубы скомканный платочек, вытирала глаза и кончик покрасневшего носа.
— Я тебе к брюкам еще один кармашек внутрь пришила. Ты положи туда часть денег и заколкой пристегни. Там есть… А то, знаешь, сколько в городе карманников!..
Илья понимающе кивнул и глубже натянул на лоб кожаную с ушами шапку. Аннушка прижалась лицом к Илюшкиному плечу и беззвучно заплакала. Михаил спрыгнул с саней. Волоча длинные полы тулупа, подошел к лошади, поправил шлею, поперечник, тронул крепко натянутый гуж, хотя все было в полном порядке. Вернувшись к саням, он занял свое место. Илья сел к нему спиной. Михаил поднял кнут. Хитрющий Пегашка, не дожидаясь удара, хватил с места и пошел ходкой размашистой рысью. Пробежав саженей пять, снова перешел на бодрый, широкий шаг.
Не отрывая глаз, Илья с жадностью смотрел на одинокую фигурку в длиннополой шубейке, с приподнятой вверх варежкой. Отдаляясь, она становилась все меньше и меньше, словно таяла в снежной дымке, и вдруг исчезла…
…В Оренбург Илья приехал утром. Каждому человеку случается впервые в жизни ехать в вагоне на чугунных колесах. Илья ехал гордый своей самостоятельностью, вел себя, как бывалый пассажир. Поужинав яичками, запеченными Аннушкой в белые булочки, он поставил на верхнюю полку чемодан и баян, сначала подремал чутко, боясь за вещи, а потом крепко уснул.
Узнав из расписания, что поезд на Самару уходит вечером, Илья решил побродить по городу. Он манил его необычными звуками — ревом паровозных гудков, глухими, суматошными криками, знакомыми из многих прочитанных книг.
Еще дома он задумал обязательно побывать в редакции газеты «Смычка», где печатались его заметки.
Вокзальная площадь ошеломила Илью сутолокой — люди куда-то торопились, толкались, задевали друг дружку, бранились. Возле дощатого забора выстроились дородные тетки с лотками и ящиками, горласто выкрикивали:
— Французские булочки, французские! Сдобные языки! Заплатишь пятачок, проглотишь язычок! Самый сладкий ядреный баварский квас! Баварский! Пиво бархатное, вкус шелковый! Падхади! Пельмени уральски! Два на копейку, десять на пятак! Сегодня за денежки, а завтра так!
Несмотря на зиму, ломовики грохотали по булыжнику огромными колесами. Подкатывали лихачи на резиновых шинах, высаживали упитанных дядек и поджарых дамочек с коробками.
Илья подошел к извозчику с багровым, как и его кушак, лицом, назвал адрес и спросил, сколько он возьмет за проезд.
— Две бумажки, — хрипло рявкнул усатым ртом извозчик.
— Каких? — спросил Илья, догадываясь, что краснорожий дядька намерен содрать с него два рубля.
— Пару советских! А не хочешь, топай до Николаевской, считай булыжины! — Извозчик поиграл зелеными вожжами и захохотал. Крупный красавец рысак вороной масти, словно соглашаясь с хозяином, важно закивал горделиво посаженной головой, украшенной чеканным на уздечке набором.
Илья залюбовался конем и дорогой сбруей. Он не видел, как потешались над ним другие извозчики, безошибочно угадав в нем деревенского новичка. Илья решил, что выложит требуемые деньги и подкатит на этом черном рысаке к редакции. Он нацелился было ступить сапогом на подножку пролетки, но тут под хохот и улюлюканье извозчиков кто-то схватил его за руку и потащил на тротуар… Илья оглянулся. Молодая цыганка с большеглазым миловидным лицом, с кудрявеньким в капоре мальчонкой за спиной нахально волокла его вдоль забора и как заведенная тараторила:
— Чего ты, разиня, связался с этими гужбанами? Обдерут они тебя, милого, деревенщину! Паразит тот рыжий, клейма ему негде ставить! Нет улицы Николашкиной, есть Советская! А ты, парень, на лошадку залюбовался! Тебя, родименький, ждут такие кони, на каких и сам царь не езживал, цыган в кибитку не запрягал. Будешь ты скакать впереди таких же молодцов, шпорами звенеть, сабелькой сверкать!
— Погоди, погоди! — Илья хотел освободить руку, но она крепко держала и к тому же «судьбу» его предрекала. Не раз он видел во сне, как на лихом коне скакал и шашкой размахивал. А главное, не она первая так ворожила ему…
— Правду сказала! Хучь верь, родимый, хучь не верь! Сбудутся мои слова. Не веришь, родным своим дитем поклянусь! А чтобы сбылось да исполнилось, рученьку позолотить не предлагаю. Пожелаю тебе невесту-любушку, да не ту, что была, а какая впереди ждет!..
— А какая была? — и впрямь завороженный ее словами, спросил Илюшка.
— Синеглазая, лицом белая, посмеялась над тобой и с другим под венец… Правда ведь, голубок мой, правда? — Цыганка исступленно сверкнула большими, в глубоких впадинах глазами, полными тоски и отчаяния.
Илюшке стало не по себе.
— И еще была у тебя любовь. Не заметил ты ее, не изведал, колобком прокатился, не зацепил сладкого маслица… А колобки-то, как в сказочке сказывается, всегда лисы хитрющие лопают…
«Аннушка», — подумал Илюшка. По душе пришлись слова этой молодой бескорыстной ворожеи.
— Что, милый, так глядишь, припомнить хочешь?
— Спросить хочу.
— Спрашивай, спрашивай!
— Кто же та, что впереди ожидает? — Илья попробовал улыбнуться.
— Сказать? А если опять недобрыми будут мои слова?
— Ты ведь уверяешь, что правда…
— Правда.
— Говори.
— Через годик это случится, вижу я ее, как она перед тобой бисером рассыплется, сердце вынет, на ладошке подкинет, а потом отвернется и на твоих же глазах перед другим растопчет.
— Откуда ты знаешь?
— А я все про тебя знаю… Хочешь скажу, как тебя зовут? Хочешь? — Цыганка прищурила один глаз. — Хочешь?
— Да.
— Илюшкой тебя зовут. Родился ты в Петровской станице, молочко пивал из рук цыганки Мотьки. Не узнал ее? Позабыл, как девка по тебе сохла?..
Вольным движением руки, унизанной перстнями, она поправила вылезшие из-под тяжелой клетчатой шали темные волосы, смахнула набежавшие слезы и засмеялась. Вскинув головенку, засмеялся и малыш.
…Вскоре после голодного года в Петровской зимовал целый табор. Илюшке шел тогда шестнадцатый год. Большеглазая, бедовая Мотька с крупными бусами, обвитыми вокруг тонкой смуглой шеи, подобрав сборенную юбку, выскакивала на середину малаховской горницы босиком. Под гитару шлепала голой подошвой по крашеному полу, выпростав из-под зеленой шали прокопченные костром руки, легко взлетала, как большая разноцветная птица. Плясала она азартно, неутомимо и почему-то всякий раз пыталась вытащить на середину круга смущенного Илюшку. Он вырывался из ее цепких рук и прятался за чужие спины. Иногда она подстерегала его в темном коридоре, больно ущипнув, шептала на ухо непонятные цыганские слова. Илюшка шарахался от назойливой цыганки, старался не попадаться ей на глаза. А когда заболел воспалением легких, она приходила к ним домой и часами тихо сидела возле постели, смущая своими черными, колдовскими глазами. Сестры подружились с цыганкой, приставали, чтобы ворожила им на картах.
— Не узнал я тебя, Мотя. Как ты живешь? — Илюшка обрадовался встрече. Это была еще одна весточка из юности в чужом, незнакомом городе.
— Живу, как все грешницы… Мужем бог наградил и мальчонкой. Ах, Илюшка, Илюшка! Я тебя сразу признала. А ты меня не узнал. Постарела. Тимку кудрявого помнишь, чтоб на нем черти верхом ездили!.. Моим мужем стал.
Илюшка помнил рослого, красивого, с серьгой цыгана в длинной из синего сукна поддевке. Он якшался с прасолами, барышниками, гулял с ними на базарах и ближайших хуторах.
— И как он, твой Тимофей? — спросил Илья.
— Ладно уж… говорить не хочется… — Она вздохнула. Худое, желтоватое лицо ее расслабилось, темные реснички задрожали. — Сама виноватая…
— В чем же ты провинилась?
— А ничем… Кудлатые наши, таборные, кнутами замуж погнали… Цыганская доля, Илюшка, бывает еще похуже вашей казацкой. Как начнут трясти бородищами…
— Везде трясут, Мотя… — Илюшка потрепал мальчишку за вылезшую из-под капора кудельку. Тот протянул ему маленькие ручонки в зеленых, как трава, варежках.
— Не копошись, Васятка! А ты, Илюшка, вижу я, в начальниках ходишь? А меня точит прокопченная жизнь, трет бока, как тощую лошадь постромками… Ой, неладно я говорю. Уйдем-ка отсюда, а то гужбаны надсмехаются, и мальчонку покормить надо. Тут близко чайная, пойдем, если не брезгуешь. Мальчонка зябнет, и самой знобко…
— Как он у тебя не простужается? — удивился Илюшка. — Капор-то у него на рыбьем меху… Пойдем, пойдем!
— Вина выпьешь? — когда они уселись за стол, спросила Мотька. Илюшка отказался, с тоской поглядывал, как она пила рюмку за рюмкой. Цыганенок резвился в тепле, хватал со стола что попало. Мотька шлепала его по ручонкам, он похныкал и задремал.
— Часто пьешь? — спросил Илюшка.
— Все нэпмачи пьют, как зачумелые, а мне сам бог велел… Такую уж он выдал мне грешную грамотку…
Они замолчали. Илья все чаще поглядывал на карманные часы.
— Торопишься? — прихлебывая яркими губами крепкий чай, спросила Мотя. Она раскраснелась, угольками вспыхивали ее темные глаза.
— Хотел побывать в одном месте…
— Тогда ступай, ступай… а мы еще посидим в тепле.
Илюшка вынул из бумажника червонец и положил на стол.
— Не надо. Самому пригодятся. Не богач какой…
— И не беден. Возьми мальчику на гостинцы.
— А мы не нищие! Иди, иди! Не стой тут! Ради Христа, Илюшка, прошу! Ступай же! — выкрикнула она и склонилась над уснувшим ребенком.
Илья выскочил на воздух, как после бани. От непривычного трактирного запаха кружилась голова. В редакцию ехать было поздно. А если бы поехал, то получил первый в жизни гонорар. Он и не подозревал, что за его селькоровские заметки платят деньги. Он считал эту работу своим общественным комсомольским долгом.
6
Январь — время каникул. В дом отдыха наехало много учителей. Женщины — большей частью молоденькие, коротко подстриженные, с челочками. За стол Илью посадили к двум женщинам. Одна была пожилая. Носила очки с тонкой металлической оправой, гладкую, как на картинках, прическу. Жиденькие волосы она прятала под синий берет. Другой — темнобровой, подстриженной под мальчишку, было не меньше двадцати лет. Она носила собственной вязки белый свитер и за столом бесцеремонно сверлила Илью глазами цвета спелой вишни. Облизнув верхнюю, забавно выпяченную губу, она сердито колола вилкой кусок рыбы. Рыба была волжская, осетровая. Такой Илья никогда не ел. В Петровку осетры не загуливали, потому что в низовьях Урала река будто бы была перегорожена чугунной решеткой. По примеру молоденькой соседки Илья тоже вонзил вилку в сероватую, с колючками кожу и, видя, что рыбий панцирь не поддается, взял в руки тупоносый нож.
— Ножом резать рыбу не полагается, — заметила пожилая.
Илья сконфуженно положил нож рядом с тарелкой.
— А вы не смущайтесь! Это так принято… А в общем ешьте, как вам удобно… Как вас зовут? — по-птичьи склевывая вилкой крошки со своей тарелки, спросила очкастая.
— Меня? Алексеем, — неожиданно для самого себя ответил он. Ему не хотелось называть свое настоящее имя. Не нравились ему люди, которые начинали знакомство с нравоучений.
— Спасибо, Алеша. Меня зовут Аполлинария Христиановна. — Дама в очках церемонно поклонилась.
Подражая ей, Илья тоже медленно склонил голову, не зная, что ему делать с рыбой.
— Такую толстущую шкуру и ножом не урежешь, — кромсая рыбу как попало, подала голос другая соседка.
Илья не мог не оценить ее поступка. Она протягивала ему руку помощи…
— Вы тоже педагог? — спросила Аполлинария Христиановна у девушки в белом свитере и снисходительно улыбнулась.
— Ага! Еще только первый годик! — нанизывая на вилку куски рыбы, охотно и весело ответила та.
— Ведете начальный класс?
— Угадали! Такие чудесные ребятишки! Уезжать от них не хотелось! — Видно было, что молодая учительница проста, общительна, и эта откровенная восторженность шла к ней.
— Наверное, вы очень любите своих чудесных малышей.
— Очень!
— И тоже учите их таким словам, как «толстущий», «урежешь»?
Девушка вспыхнула.
— Меня, между прочим, зовут Ольгой, — немного подумав, ответила она. — А насчет…
— А насчет «урежешь» есть еще слово «разрежешь», — пощипывая желтоватое рыбье мясо, проговорила Аполлинария.
— А я еще вместе с ними и сама учусь, Аполлинария Христиановна.
— Это похвально, — улыбнулась старая учительница. — Где вы родились, милая?
— Далеко! В самом тьмутараканьем царстве!
— Где же находится это ваше царство? А словечки ваши все-таки… в школе… — Аполлинария зажала ладонями свои локотки.
— Словечки обросли нашим уральским дремучим мохом. Никак не могу от них избавиться, хоть урезайте меня на мелкие долечки, как эту рыбу…
— Русский язык так богат, щедр на пословицы, сказки и присказки… Надо его знать!
— Ой, как надо! Больно рада познакомиться с вами. Жалко, что через три дня уезжаю. Честно признаюсь, я ведь после техникума мало чему другому научена. А вы, наверно, еще в гимназии учились? И греческий и латынь проходили?
— И в гимназии училась, и педагогический институт при Советской власти окончила, — не без гордости ответила учительница.
— Так я и знала! — воскликнула Ольга. — Я тоже хочу одолеть пединститут. Вот только годочка четыре попрактикуюсь на своих озорниках, доведу их до самой малой спелости и сама буду дозревать с ними помаленьку. А за всякие наши «урезать», «уседлать», «упредить» буду им в тетрадки сушки ставить…
— Ах, боже мой! — Аполлинария закатила свои круглые, как нолики, глазки.
Илье показалось, что она сейчас упадет в обморок. Но этого не случилось. Она молодо, по-доброму засмеялась. Глаза-нолики подернулись слезой.
На отдыхе люди сближаются быстро. Илья с Ольгой почти не разлучались. Они успели побывать на концерте синеблузников, дважды смотрели одну и ту же картину. Ольга заметила, что во время сеанса, вместо того чтобы смотреть на экран, Илья поглядывал на нее. Не зная, куда девать руки, он мял шапку, приглаживал густой чуб, мешая соседям.
Ольга осторожно взяла его за нос и повернула лицом к экрану.
Когда они выходили из кинозала, Илья, крепко сжимая ей руку, сказал:
— А ты хорошо умеешь водить за нос…
Взгляды их встретились. Они без слов поняли состояние друг друга.
— Может, ты еще на недельку останешься?
— Мне и самой уезжать не хочется…
— Так в чем же дело? Город посмотрели бы вместе.
— Не могу. К старикам обещала заехать.
— Побудешь у них меньше.
— Мне батя новые сапожки тачает. Люблю ходить в сапожках!
Наивность ее была просто поразительна! Сапожки! Он уже приготовился показать ей самое сокровенное — статьи, заметки, записки в тетрадках, о существовании которых знал лишь Федя Петров. Илья старательно вел свои Дневники. Он записывал все, что видел и чувствовал. Попали в дневник и высокий, крутой волжский берег, где они стояли с Ольгой, и широкая, скованная льдом река с вмерзшими заснеженными баржами-гусянами, и Мотька с малышом, хамоватый извозчик-гужбан с багровым лицом, ломовики, везущие на деревянных полках громадных мороженых белуг и осетров, мясо которых два дня тому назад он резал тупоносым ножом… Ощущение полной свободы делало Илюшку душевно щедрым. И вот когда он готов был поделиться своим богатством с Ольгой, она решила ехать домой ради каких-то сапожек.
На другой день, прощаясь на вокзале, он не пробовал уговаривать ее остаться, потому что сам решил уехать. Илья был рассеян, смущен непонятным блеском ее опечаленных глаз. А когда она стояла уже на подножке вагона и поезд тронулся, он побежал рядом со стучащими колесами. Ольга кричала ему что-то, называла свой адрес, но он ничего не расслышал. Стоял в суетливой плотной толпе провожающих и не почувствовал, как у него вытащили кошелек с деньгами. Хорошо, что Аннушка запасной карман пришила и он спрятал в него несколько червонцев на черный день…
7
По приезде в Зарецк Илья без труда разыскал дом, где размещались курсы. Дом был каменный, двухэтажный — решетчатые балконы с замысловатой лепкой поддерживали на своих мощных загорбках голые, мускулистые, угрюмого вида мужики.
Илья поднялся по мраморной лестнице на второй этаж. На одной из дверей была приклеена бумажка с криво напечатанными на машинке буквами: «КАНЦЕЛЯРИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ КУРСОВ. ЗАВЕДУЮЩИЙ ТАРИЭЛ САРДИОНОВИЧ ШАДУРИ». Как раз к нему и должен был явиться Илья.
— Никифоров? — Взглянув на Илью и вобрав пышноволосую голову в плечи, заведующий прочитал направление. — Почему опоздал, дарагой?
— Был в доме отдыха, — ответил Илья.
— Ты что, очень уморился? — Тариэл Сардионович прищурил веселый кавказский глаз.
Илья молча пожал плечами.
— Ай-яй! — Черные, с проседью усики Шадури зашевелились. — Обиделся, дарагой! А если я тебе скажу, что твое место занято, совсем на меня рассердишься?
— Как это занято? — Илья не ожидал такого оборота дела. Его охватило пугающее предчувствие возврата домой. Это никак не входило в его планы.
— Пока ты там на лыжах бегал, музеи посещал, в киношку ходил с дамочками, мамочками… мы укомплектовали группу и приступили к занятиям. Что ты на это скажешь, дарагой товарищ?
— Ничего не скажу. У меня направление!
— Так надо было ехать учиться, а не развлекаться…
— Я не сам поехал. Мне путевку привезли.
— Кто привез?
Илья рассказал о Бабиче, но о своих станичных делах — ни слова.
— Значит, у тебя колоссальные заслуги…
Ирония заведующего приводила Илюшку в отчаяние. Он морщился, но молчал.
— Тут есть для тебя письмо, — сказал заведующий. — А с Ефимом Бабичем мы вместе Колчака били. Дутова почти до самой Кульджи гнали! Ладно! — хлопнув ладонью по краю стола, сказал Тариэл Сардионович. — Зачислим тебя сверх штата в бухгалтерскую группу.
— А у меня кооперативная.
— Це, це! — щелкнул языком завкурсами. — Нет кооператоров! Объединили. Только учет! Что сказал товарищ Ленин про учет, а? Социализм, понял? Будешь заниматься во второй вечерней смене. А вот со стипендией… — Тариэл Сардионович всю пятерню запустил в густую шапку волос, задумался. — Маленькая она у нас. Обед будешь получать за тридцать копеек. А на завтрак и ужин зарабатывать придется. Что умеешь делать?
Илья рассказал о работе в поселковом Совете и еще о том, что он член ревизионной комиссии кредитного товарищества и к тому же селькор трех газет.
— Печатных органов у нас пока нет… А писарей на бирже труда полно… А вот счетоводов, бухгалтеров нет. Мы их сотворить должны. Тебе еще где-то надо жить! А где?.. Це, це…
Тариэл Сардионович написал на клочке бумаги записку и отдал ее Илье.
— Иди к завхозу, он что-нибудь выдумает…
Завхоз находился внизу, в подвальном помещении. Он сидел за столом в старинном, с гнутыми ручками кресле. У него был единственный глаз — правый. На левый надвинута матросская бескозырка. По краям кресла, как часовые, стояли два костыля. Прочитав записку, он поднялся, застегнул бушлат на все пуговицы, сунув под мышки костыли, проговорил:
— Идем, парень.
Они завернули в первый же проход и очутились у открытой двери склада. С одной стороны на стеллажах лежали какие-то папки, с другой — свисали стопки наволочек и простыней.
— Бери вон полосатый матрац, иди во двор и набей его соломой. Сумеешь?
— Еще бы! — усмехнулся Илья.
— Набьешь и зашьешь, чтобы не сорилась. Если нет иголки, я дам. Пока все. Койка на втором этаже в седьмой комнате, первая направо от входа. Она там одна свободная. Потом придешь за бельем и распишешься.
В полутемном сарае, видимо бывшей конюшне, солома была свалена как попало. Илья набил матрац, умял поплотнее, присел на него с усталым, полным тоскливого уныния разочарованием. Хотелось с головой зарыться в солому и завыть… Ехал, ехал и приехал, чтобы сунуться носом в ту же, как и в Петровке, затхлую солому…
На улице гудел чужой, неспокойный город. Вспомнилась Петровка с ее теплыми домами, Аннушкины рыбные пироги, наваристая лапша из петушков… Здесь, как понял Илья, пироги будут совсем другие… Он вспомнил о письме и вскрыл конверт. Письмо было от Ефима Бабича. Он приезжал сюда на уездную партийную конференцию, побывал на курсах. Точно подслушав его мысли, Бабич писал:
«Если ты ждешь от города сказочных чудес, застегивай чемодан и поезжай обратно. Думаю, что тебя не увлечет дешевый тягучий нэпманский мармелад — с ним скоро будет покончено, — и ты не испугаешься трудностей. Профиль твоих курсов изменился. Учету сельскохозяйственного производства в совхозах и колхозах, которые будут в скором времени созданы повсеместно, — вот чему ты должен научиться в городе. Трехлетнюю программу вы должны осилить за один год. В течение этого года будут и бессонные ночи, и еще много скучных и неприятных мелочей, но за ними надо увидеть нечто более значительное, тем более человеку пишущему. Чтобы перестроить деревню, городу придется решать сложнейшие задачи. А что такое город? Город — это рабочий класс, передовая сила революции. Нам не хватает элементарно грамотных людей, не говоря уже о специалистах. Город поможет селу не только машинами и товарами, но и грамотными людьми.
Полубояровы из Петровки изгнаны, но их нужно кем-то заменить. Много будет трудностей. Надо отвыкать от жирной пищи и казачьей сытости. Спать придется не на перине, куда укладывала меня Анна Гавриловна, а на солдатской койке. Кстати, твою хозяйку мы тоже посылаем учиться на зоотехника. Поскольку набор курсантов увеличен, платить вам будут мало. Чтобы ты мог обеспечить себе прожиточный минимум, сходи на улицу Кропоткина, дом 69, в народный суд и обратись к Надежде Казимировне Бурмаковой. Скажешь, что пришел от меня. Все, что сможет, она сделает.
Е. Бабич.26 января 1929 г. Новопокровское.
P. S. Меня переводят в Шиханский район на ту же должность. Имей это в виду».
Лицо Ильи горело. Стыдясь минутной слабости, он спрятал письмо. Это сидение на соломенном матраце запомнилось ему надолго… Взяв у матроса иголку с ниткой, Илья старательно зашил матрац, положил его на свободную койку, расписался за белье и отправился искать Кропоткинскую улицу.
— Голубчик, Илюша!.. Простите, Илья Иванович… Вас послал мне сам бог!.. — Такими словами, когда Илья объяснил причину своего визита, встретила его высокая миловидная женщина в светло-голубом, накинутом на плечи пальто, с дорогим песцовым воротником. Небрежность чувствовалась во всем ее облике — в укладке скрученной на затылке косы, в меховой, по-мальчишечьи сдвинутой на левый висок шапочке.
— Ефимушка хоть и не бог, а намного дороже всевышнего, — продолжала она. Красивое, чистое лицо ее было усталым, озабоченным.
— Он недавно был здесь, — сказал Илья.
— Да-а-а… — протяжно, со вздохом ответила она и стала проворно листать папку с каким-то делом.
— Зачислим вас делопроизводителем. Оклад — сорок рублей. Устроит? — Она взглянула на него светло-коричневыми глазами и улыбнулась.
— Да, конечно! Что я должен…
— Что делать? Выписывать и рассылать повестки, снимать копии приговоров и обвинительных заключений. Ну и обычное делопроизводство — входящие, исходящие.
Обязанности оказались несложными. Илья быстро с ними освоился и навел в канцелярии идеальный порядок, за что получил похвалу от самого судьи.
8
Илья проучился на курсах чуть больше года и был назначен на работу в Шиханский район, на должность инструктора райполеводколхозсоюза. Прав оказался Ефим Павлович Бабич, к этому времени колхозы были созданы повсеместно. Из переписки с Аннушкой и Федей Илья узнал, что и в Петровке создан колхоз «Красный Урал», а в губерлинских горах на реке Чебакле зарождался совхоз племенной оренбургской пуховой козы. Аннушка закончила в областном городе ускоренные курсы зоотехников и вернулась в станицу.
Если говорить по совести — в родные места Илюшку влекло неудержимо. Тянуло туда, где прорезались первые зубы и мать научила делать первые шажки, где вдыхал целебный воздух ковыльных предгорий, нырял в студеную уральскую волну, ходил босиком по свежей борозде. Не раз еще будут сниться ему горы и пригорки, куст калины в молодом, гибком березовом колке с пылающими, как капли крови, ягодами, горный чеснок на первых проталинах, голубые подснежники и резвый с задранным хвостом жеребенок на зеленом, поемном лугу. По пути на работу Илья решил заехать на пару дней домой. Со станции его вез знакомый хохол Пантелей Недымко с хутора Елшанского — яростный и непоколебимый единоличник.
— В огне сгорю, из пепла не встану, а в артель таку не пойду! Ще только гарнизуются, ще робить по-настоящему не начали, а вин, гад, хитруе притащить в артель матузок[5], або вожжи, що постарее, а новые дома поховал за ларем… Який же с него артельщик, тать его распротать? Конское путо повесил мерину на шею с узелками, все в лохмах!.. А я ж знаю, что осенью свил, паразит, целу связку и опять поховал… Кого же он, свинья така, путать хочеть? Чи жинку, чи бабку Авдоху? — Пантюха крыл соседа, размахивая кнутом. — Я бы таких хитряков и на поле не пустил, не то що в артель. Он уже зараз хочет робить чужими матузками? Лезуть в артель, як бараны в загон. А почему, скажи мне, Илька?
— Почему?
— Бояться, щобы их за Урал не выселили, вот и пруть дуром. А я хлебороб. Меня никуда не ушлешь! А ежели що, так я ставни досками заколочу, ребятишек в телегу — и айда! У меня таки руки, шо я одним топором могу вырубить живую иконку… Приходи и молись!.. А дом, хай вин коноплей зарастае… Возьму и махну на Магнитку. Там тоже Урал!..
Спорить с Пантелеем было бесполезно, да и не знал Илья толком, что происходило в селах. Подъезжали к Петровке. Промелькнули знакомые речушки-грязнушки, горки крутенькие — и вторая и первая. А старая пещерная сгорбилась еще круче, упорно рылась тупым акульим носом в наструганных сугробах, без передышки сопела свирепой поземкой. Усталый и продрогший, Илья подкатил к Аннушкиной избенке. Хозяйки дома не оказалось.
— В Чебакле, на кошаре живет Анютка, — не слезая с печки, ответила старуха. — Она нас с Галинкой переселила в свой дом — тут и дрова и кизяки.
Илюшка тоскливо стоял посреди кухни и тер озябшие руки. Не такой он ждал встречи.
— Тут ночуешь аль к своим отправишься? Отец-то у тебя уж больно карахтерный — близко не подходи и далеко не стой… На конюшне сичас работает. Привычный к лошадям, ну и при деле опять же.
— А остальные без дела, что ли?
— Заседают больше…
— Ладно, бабушка. Пусть заседают. Значит, так надо…
— А я ни чо… Карасину много жгут — одну бочку спалили, другую почали…
— Пойду к брату, а чемодан здесь оставлю.
— Не пропадет. Тута тулуп твой был, так его Анютка надела в буран. Ты насовсем вернулся?
— Нет.
— А я думала, свататься приехал…
— К кому?
— К Анютке, к кому же еще…
— Мудришь, бабка!
— А чо? Ты знаешь, как она за год в городе выпрямилась? И юбочки привезла с оборочками, кофтеночки с кружевцами да с рюшками. Барыня барыней! Тут без тебя начальник наезжал, ночевал сколько-то ночей… Чо уж там было промеж ими, я не знаю… Он человек самостоятельный и будто бы посватался, а Анютка ни в какую — говорит, неровня мы…
— Что за начальник?
— А кто у нас в районе самый главный из партейных?
— Бабич.
— Он и есть! Бабичев! Галинка сказывала, что он и при тебе наезжал. А раз она ему отказала, значит, тебя ждет…
— Выдумываешь, бабушка! Бабича перевели в другой район.
— Ну так с горя и переехал от греха подальше…
«Да, вдова, как горох при дороге», — подумал Илья, надел перчатки, взял для детишек и Насти сверток с гостинцами и отправился к брату. Михаил уже знал о его приезде, встретил в переулке.
— Ты что, ко мне дорогу забыл? Письма не мог написать, — упрекнул он. — Едет к Нюрке, а мы с Настей как оплеванные! Отец тоже…
— А что мне отец?
— Постарел он, и спесь спала, как с линялого быка шерсть… Про тебя все спрашивал… Как ты в городе жил?
— Ничего. Вот назначен инструктором в Шиханский район.
— Почему не к нам?
— Я же по разнарядке!
— Тогда другое дело. Я в бригадиры угодил…
— Ну и что? Плохо?
— Хуже некуда!
— Почему?
— Хорошо тебе, холостому… А тут Настасья… Вечером придешь домой, как выпотрошенный, а она начинает дергать тебя за кушак: рассказывай, что говорили на правлении, что решили, какие стояли вопросы на повестке. Начинаю отвечать, а она как попрет: и дураки мы, и бестолочь, то ей не так постановили, то не эдак сделали, семена не так провеяли, сена травим уйму и без всякого толку. Согнали триста шестьдесят пар быков и валят сено под ноги. Кто бригадир, спрашиваю, я или ты?..
— Ругаетесь? — спросил Илья.
— Спасу нет! Я даже заикаться стал, контузия сказалась!
Они сидели во дворе на брошенной без колес телеге. Михаил горячился, вскакивал, снова садился, курил одну цигарку за другой, теребил густые светлые усы.
— А председатель кто?
— Прислали. Рабочий. Иван Петрович Уфимцев. Механику хорошо знает, присматривается к хозяйству, к людям. Главное, честный и не пьет. А пахать научится, особенно когда трактора получим. Скоро нам дадут машины?
— Не сразу. Пока и на быках можно гору своротить! — сказал Илья.
— Что же ты не приехал ее сворачивать?..
— Я к тебе не ругаться пришел. Пошли в избу.
Дети были в школе. Настя месила на столе лапшу. Как и Михаил, начала с упреков: почему мало писал, не к ним заехал?..
Илья, оправдываясь, развязал сверток, достал пугачи для племянников, куклу Кланьке, а Насте зеленую кофточку с рюшками. Настя клюнула на подарок, как плотвица на бабочку, и расцеловала деверя.
Сели хлебать лапшу, по рюмке водки выпили. От второй Илья отказался.
— А я выпью, — проговорил Михаил.
— А может, хватит? Уж очень часто стали прикладываться после заседаньев разных, — сказала Настя.
— Часто заседают? — спросил Илья.
— Прокоптились, как лещи… Курят беспречь…
— Слушай, Михаил, ты сколько вожжей в колхоз отнес? — Илью давно подмывало задать брату этот вопрос. Разговор с Пантюхой Недымко не давал ему покоя.
— Каких вожжей? Куда тя повело, брательник? — Михаил суетливо стал шарить по карманам.
— Спрашиваю, сколько увез сбруи Пегашка в приданое?
— Иди ты со своей сбруей!.. Кисет вот не найду… — Михаил прятал глаза.
— Не шарь, вожжей там ременных нет, а кисет в полушубке, — засмеялся Илья.
— И правда! А то пристал с вожжами… — Михаил вскочил и побежал к висящему у косяка полушубку.
— Ну сколько все-таки ты, братуха, обобществил веревок? — обсасывая баранью кость, не отставал Илья.
— Да ты что на самом деле? — вмешалась Настя. — Вон они, в сусеке висят!
— Это я как раз и хотел выяснить…
— Ну и выяснил! — пуская дым в приоткрытую дверь, крикнул Михаил. — В газете теперь продернешь брата…
— Лошадь отвел в колхоз, а ременные вожжи смазал дегтем и в амбаре припрятал… Ты на что, братец, надеешься?
— Молод еще допрашивать старшего брата, — пыхтя у порога цигаркой, незлобиво огрызнулся Михаил.
— Ты о чем думал, когда прятал?
— И правда, на кой шут сдались тебе эти ремни? — вмешалась Настя. — Меня, что ли, взважживать…
— Черт попутал, язви их в душу! Сегодня же отнесу и кладовщику отдам. А путаников разных сейчас, знаешь, сколько? — заплевывая цигарку, продолжал Михаил.
— Пока вижу одного тебя…
— Я-то ишо что! Я сам себя дурманил… Тут твой дружок Федя Петров расшебутился…
— Как расшебутился? — встревоженно спросил Илья.
— Размахнулись они попервости с Николаем Горшочковым и сразу всех чохом в коммуну…
— Вдвоем решили?
— Почему же вдвоем? Поддержал их уполномоченный из военных летчиков, ну и мы голоснули!
— Всем скопом голоснули? — насмешливо спросил Илья. В городе он кое-что слышал от докладчиков о горячих головушках, пылких организаторах коммун. После известной статьи Сталина они угомонились, и все вроде бы встало на свои места.
— А чего не голоснуть? Летчик так говорил о двухэтажных домах с балконами, что бабы в рот ему глядели, как завороженные, будто оттуда не слова, а конфетки сыпались… А Федька все земли и ближайшие хутора объединил. Потребиловку и пуховую артель тоже в коммуну влили.
— А сельсовет не упраздняли?
— Покамест оставили… Федьку выбрали председателем, Горшочкова — заместителем. И коммуна и Советская власть все вместе, чин-чинарем и ничего упразднять не надо…
— А ты сам-то как на это решение смотрел?
— А мне что! Сказали, что дома выстроят, как в городу, с теплыми нужниками…
— А куда бы ты в городском дому вожжи свои повесил?
— Иди ты, знаешь куда, со своими подковырками!.. Из волости приехал твой Бабич, Ивана Петровича привез, Федьке чуб надрал и в потребиловку перевел.
— А Горшочков?
— Ему-то чо, беспартийному…
Перед вечером Илья зашел в сельповский магазин с намерением повидать нового председателя потребительской кооперации Федю Петрова.
— Только что уехал в город за товаром, — ответил стоявший за прилавком завмаг Константин Иншаков — дядя того самого буяна, бывшего атаманца.
В магазине пахло карамелью, юфтой и лавровым листом. Илья и в городе любил ходить по магазинам, присматривался к ценам и покупателям. Посмотрев на штуки сатина и разноцветные ситчики, загляделся на широкополые, коричневого цвета плащи.
— Хороший, Илья Иваныч, товар, плотный, пошит с толком и недорогой. Можно примерить, — предложил завмаг.
Плащ и на самом деле был хорош, но для Ильи оказался великоват.
— Да, малость просторен, — пожалел завмаг и, усмехнувшись, добавил: — А слоников-то ваших заметили?
— Не моих, Константин Егорыч, а ваших…
— Точно-с, наших… Одна часть, что пораскисли, списать пришлось, а другую отправили обратно. Вернули нам денежки… А вот… и родитель ваш! Входи, Никифорыч, входи!
Илья оглянулся. В раскрытой двери стоял отец в новом из желтых овчин полушубке. После случая у зятя Степана они встречались лишь на собраниях. Иван Никифорович тяжело переживал разрыв с сыном, садился в задних рядах, выступал редко, а разные дела, какие случались, решал через Горшочкова. Сам отец не шел на примирение, а Илья тем более, потому что не чувствовал за собой никакой вины. Встреча застала его врасплох, но он не растерялся, протянул руку первым:
— Здравствуй, отец.
Помешкав, Иван Никифорович неторопливо выпростал руку из овчинной рукавицы, подал Илье и крепко сжал.
— Здравствуй, сынок! — проговорил он осипшим голосом. Рука у него была мосластая, с жесткой, как подошва, ладонью.
— Живешь как? — Ивану Никифоровичу было трудно дышать, рука непокорно тряслась, а скуластое лицо стало еще темнее.
— Хорошо живу. — Илья рассказал об учебе, о новом назначении.
— Ну что ж, дай бог. Со службой в армии как? Черед, наверно, скоро?
— Скоро… в переменный состав запишут, — ответил Илья.
— Так ить свой конь нужен!
Забота отца тронула Илью.
— Получу ссуду и куплю коня. А на седло своих добавлю…
— Седло можно и не покупать, сгодится и мое… — Последнее слово Иван Никифорович подчеркнул и вздохнул. На этом седле он служил действительную, не раз ходил в летние лагеря, воевал в Маньчжурии. Оно было сильно изношено, но старому казаку никак не хотелось списывать его.
— Староватое, и лука высокая, новое надо, — тихо, с сожалением проговорил Илья.
— Как хошь… дело твое…
— Вы как живете, отец, как девчонки?
— Живем ничего. Девчонки подросли. Вот только с Мариной не могут ужиться. Уж мирю, мирю, шут их дери… Зашел бы… — Отвернув полу желтой шубы, Иван Никифорович достал кисет, попытался скрутить цигарку, но руки не слушались. Скомкав клочок газетной бумаги, он сунул ее в карман полушубка. Илья попросил у завмага пачку папирос «Пушка», распечатал и подал отцу. Иван Никифорович хотел было вынуть негнущимися пальцами папироску, но она ускользала.
— Да бери всю пачку.
— Всю-то зачем…
— Бери. Для тебя взял…
— Спасибо, — Иван Никифорович взял пачку и закурил.
— Подай-ка, Константин Егорыч, плащ, пусть примерит родитель. Может, подойдет ему.
— Мне? — Отец жадно затянулся. — Оставь…
— Давай, Никифорыч, подходи, — пригласил завмаг.
— Ни к чему мне такая одежина, — упрямился старик. А это значило, плащ пришелся ему по душе, да и не носил он такого реглана во веки веков.
— От меня подарок, — сказал Илья и сам размотал на полушубке старый отцовский, мятый-перемятый, когда-то синий кушак. Не раз он свивался жгутом и гулял по Илюшкиной спине за всякие провинности…
— Ну чо ты вздумал на самом деле… — сопротивлялся отец, но все же дал Илюшке снять полушубок и позволил Константину Иншакову нарядить себя в обновку. Плащ пришелся ему впору, хорошо обтягивал все еще статные плечи, молодил темное, задубелое в папахе лицо.
— Зря ты, Илья… — пробормотал Иван Никифорович и, отвернувшись, стал вытирать ладонью внезапно повлажневший нос. Илья отошел от отца и попросил завмага отмерить ситца сестренкам на платье и мачехе и тут же за все расплатился.
Иван Никифорович наблюдал за сыном зорким взглядом крестьянина, хорошо знающего цену трудовым деньгам. Рубли накапливались из копеек годами: от продажи излишков пшеницы, яловой овцы или телки и на любое приобретение откладывались загодя, да еще со скрипом… А тут сын, как купец, сразу выложил такую уйму денег. Один плащ стоил чуть ли не полкоровы…
— Столько ухлопать… — Покачивая головой, Иван Никифорович аккуратно, по-хозяйски завернул покупки в большой лист синей бумаги. Он хотел спросить сына об источнике его доходов, беспокойно сдвигал папаху то на затылок, то снова опускал на лоб. Наконец решился.
— Как у тя с жалованьем-то?
Илья рассказал о стипендии, о жалованье в народном суде, о полученных подъемных и суточных.
— Гляди-ко! И учат, и денежки платят? Диво! А все ругают Советскую власть.
— А кто ругает? Сам, Никифорыч, знаешь!.. — заметил Иншаков.
— Известно, прихвостни полубояровские, горлохваты да платошники. Тут и знать нечего. На своих землях за ягоду готовы были убить… Ну спасибо тебе, Константин, за товар.
— Меня-то за что? Ты сына благодари…
— Ну, его само собой… Пошли, что ли, Илья?
Попрощавшись с завмагом, они вышли из магазина и пошли домой.
— Девчонки будут рады, да и Марина тоже. Она тебя уважает. Все уши мне прожужжала: и честный, и справедливый, и умный…
«Если бы родная мать…» — Илья ощутил частые удары сердца.
— Зайдем, только я ненадолго.
— Чего так?
— Еду в ночь.
— И ночевать не хочешь? Шурка вон тоже скучает и ребятишек показать хочет. Муж у нее золотой парень! На станцию отвезу тебя сам.
— Попутчики есть. На Чебаклу хочу заехать.
— К Нюшке небось? — Отец помрачнел.
— Новый совхоз там. Мне же интересно посмотреть, как ты не понимаешь? А об Аннушке не надо, отец, плохо думать.
— Ну так и женись с довеском…
— Не о том ведешь разговор.
— Не о том, это верно. Забываю, что вы растете, а мы стареем… Ладно, сынок. Ты уж меня прости. Ишо сказать тебе хочу… — Иван Никифорович гулко закашлялся. Свернул к плетню, взялся за суковатый кривой кол. — Грудь давит. Ты меня прости за все, — тяжело дыша, сказал он.
— Ну что ты, отец, что ты! Мало ли…
— Не перебивай! Дай сказать… За мать прости, за себя. Только теперь понимать стал дикарство наше. Будто ни глаз, ни башки на плечах, как в пустом, переспелом арбузе… — Иван Никифорович заплакал без слез, всхлипывал гулко, надрывно…
9
В Чебаклу Илья ехал на попутных колхозных конях вместе с районным уполномоченным, который объезжал только что созданные на Урале колхозы и совхозы. В Чебакле был организован необычный, единственный в СССР и во всем мире совхоз племенной оренбургской пуховой козы. Закутанный в тулуп уполномоченный дремал в головяшках саней. Изредка высовывая покрасневший от мороза нос, он расспрашивал Илью о гулевом скоте, заготовленном потребительской кооперацией.
— Чем вас заинтересовали эти быки и коровы? — спросил Илья.
— Город надо кормить мясом?
— Надо, — ответил Илья.
— То-то и оно… — Спрятав нос в шерсть тулупа, уполномоченный проспал всю дорогу.
Аннушка жила в длинной полуземлянке — азбаре, построенной на скорую руку из саманного кирпича — смесь соломы и глины. Это был извечный строительный материал пастухов и кочевников — дешевый и доступный каждому.
Когда Илья открыл дверь, в лицо ему ударил знакомый с детства теплый запах мокрой шерсти, овечьего навоза, смешанный с запахами кизячного дыма, горьковатой осины и мясного варева. В углу зашуршала солома, и навстречу ему выскочила тройка черных козлят. Стоявший возле топившейся печки мальчишка лет десяти, в лохматой лисьей шапке, с торчащими ушами, прикрикнул на козлят и замахнулся половником.
— Илюшка! — крикнула Аннушка. Из рук ее выскользнул еще один черный, как жучок, козленок и застучал по глиняному полу копытами.
На Аннушке была телогрейка защитного цвета, стеганые брюки, заправленные в серые валенки. Свет низко висящей под матицей лампы падал на ее лоснящееся лицо.
— Илюшка!
Мальчишка увидел, что она целуется с незнакомым парнем, цокнул языком и стал ворочать половником в казане.
— Вот уж не ждала и не гадала! Часто вспоминала вас с Федей. Наворожили мне тогда с пуховыми платками, вот и стала я командиршей над козлами и козочками.
— Жалуешься?
— Что ты! Тут же дело, да какое! Снимай тулуп, а я пойду переоденусь, а то как чучело на бахче… Как я радехонька, что ты приехал, Илюшка! — Она еще раз приникла упругой, обветренной щекой к его лицу и скрылась за висевшей вместо двери кошмой.
Илья снял тулуп и повесил на вбитый в стенку железный от бороны зуб, разглядывая крепкого, мордастого мальчишку, спросил на казахском языке:
— Тебя как звать?
— Кузьма.
— Это по-русски. А по-вашему?
— По-нашему тоже Кузьма…
— Ты учишься?
— Мы пастухи. В школу надо далеко ездить, а у нас лошадей мало еще. Когда будет свой лошадь… Ты милиционер, да? — вдруг спросил Кузьма.
— Нет. С чего ты взял?
— А зачем револьвер таскаешь?
— Надо… Вдруг в горах волки нападут?..
— Могут. Дай поглядим твой револьвер?
— Нельзя. Это не игрушка.
— Ружье тоже не игрушка, а глядеть всегда охота. У моего отца ружье есть, он волка им убил. Ты можешь застрелить волка?
— Могу…
Аннушка не появлялась долго. Наконец войлок колыхнулся и показалась ее голова в легкой белой косынке.
— Заходи в мой апартамент… Я тут временно, — сказала она, когда Илья вошел. — Снимай валенки и лезь на кошму. — Подобрав коротковатую, сшитую по-городскому юбку, Аннушка прыгнула на нары и села, поджав ноги калачиком. На ней была голубенькая кофточка с рюшками. Перед Ильей сидела совсем другая Аннушка, со свежим, потемневшим от горного солнца лицом.
— У меня на центральной усадьбе есть своя комната, в доме бывшего лавочника. А здесь живет чабан Кунта. Он повез в район беременную жену. Пока идет окот, я тут живу. С окотом у нас плохо — родятся когда попало. Никакой системы…
— Ты стала совсем ученая! — усаживаясь на кошме, сказал Илья.
— Такая ученость нам с тобой известна с малых лет. Осеменение должно быть в свое время, чтобы молодняк появлялся на свет в теплые весенние дни. Зря, что ли, кочевники подвешивали каждому барану под брюхо кошомку и снимали, когда приближалась свадьба…
— Ну а твоя свадьба когда подоспеет? — Илья успел только подумать, а вопрос сам слетел с языка.
— Ты о чем это?
— Слышал, что один человек подобрал ключик к твоему сердцу.
— Вот как! Не зря тебя учили целый год… Догадливый… Аль бабка сказала?
— Значит, правда?
— Я сначала думала, что он шутит…
— А потом?
Вошел Кузьма и внес огромную деревянную чашку с дымящимся мясом.
— Давай-ка лучше поужинаем! — предложила Аннушка.
Поели сытно, шурпы нахлебались вдоволь. А вскоре и самовар зашумел. После нескольких чашек чая Кузьма стал клевать носом, и Аннушка отправила его спать.
— Что же было потом? — допытывался Илья.
— Что ты меня пытаешь, как жену? — Прихлебывая чай, она держала пиалу всей пятерней, как истая кочевница. — Кто я тебе? Я тебя люблю чуть больше, чем сестру… И Ефима Павловича тоже…
— А ты не выкручивайся…
— Я и не выкручиваюсь… Когда он сделал мне предложение, я соображать перестала… Позже потихоньку очухалась и думаю: какая я ему жена, боже мой! — Она откинула назад голову и беззвучно засмеялась.
«Где она подцепила такую манеру смеяться?» — подумал Илья, забывая, что за год много воды утекло…
— Ты любишь Ефима?
— Потому и не согласилась, чтобы жизнь этому вдовому человеку не испортить…
— Чем?
— А разве бабка тебе не сказала?
— Неровня, значит! — насмешливо выкрикнул Илья.
— Такой коренник, как Ефим Павлович, должен иметь свою пристяжную, а не яловую, в ярме коровку…
— Смотри, как ты заговорила! Но это не твои слова, а бабушки Аксиньи! Сейчас другие времена. Как ты не понимаешь! — Илья стал доказывать, как она не права.
— Слушай, Илюшка, скажи мне, из чего сделана эта избушка, азбар, как его называют?
— Из самана!
— Значит, строили из того, что под руками… Рядышком лежит, и дешево, и тепло! Так и жизнь надо строить, надо брать то, что лежит близехонько, а не порхать в небушко, чтобы не шмякнуться.
— Брось ты выдумывать!
— Я не выдумываю. Вот уедешь отсюда, встретишь какую-нибудь шибко образованную, и начнет она тебя мытарить: не так сел, не так носом шмыгнул… В городе докторша, наш инструктор по ветеринарному делу, пригласила она меня в гости. Там все в очках, при галстуках. А у женщин рюшки-то не такие простенькие, как мои… Вижу, поглядывают они на меня, словно на куклу. В подпол была готова провалиться. Ну перееду, положим, в город, что там буду делать? Пельмени стряпать да пироги рыбные? Для этого можно кухарку найти… Знаю, опять скажешь про кухарок в государстве… Вот я и хочу управлять государством тут, на кошарах, а не в городе варить для мужа яички всмятку…
— Ишь ты какая стала!
— Какая?
— Шибко идейная, Аннушка! — улыбнулся Илья.
— Учиться нам надо, вот в чем вопрос! А то и вся жизнь пройдет всмятку!..
— Поэтому Ефим Павлович и перевелся в другой район?
— Никуда он не перевелся…
— Как так?
— Остался здесь, у нас…
— Остался? — Илья с грустью слушал, как гремит посудой Аннушка, как шуршат соломой козлята, укладываясь на ночь.
— Поздно уж… и нам пора… — Аннушка показала Илье, где он должен взять стеганое одеяло, бараний тулуп и в каком углу нар постелить себе постель.
Долго-долго придется отвыкать ему от спокойного, участливого голоса Аннушки. Отвернувшись к окну, он протер концом полотенца запотевшее стекло. За окном на снегу тускло блестело розовато-светлое пятно от лампы. В мутной глубине ночи на задутую бураном землянку наплывала белым выпуклым боком невысокая крутая горка. На ее вершине судорожно мотался от ветра сухой куст ковыля-цветуна, а над ним, игриво подбоченясь, стоял на своем остром кривом рожке молодой веселый месяц.
10
Ранним вьюжным утром поезд прибыл на станцию Шиханскую. Январские бураны свирепо метали на выемки тучи снега и застругивали на путях твердые, как кирпич, сугробы. Поезд тащился из Оренбурга чуть ли не двое суток. Буксуя, он часто останавливался посреди заснеженного поля. Машинист с помощниками, проводники и пассажиры выходили с лопатами очищать от снега рельсы.
Попыхтев перед заснеженной приисковой станцией, паровоз снова ринулся навстречу бурану, а Илья поплелся в сторону холодного, неуютного вокзала. Поставив вещи на деревянную, с высокой спинкой скамью, Илья огляделся. В плохо освещенной комнате не было ни души. На буфетной стойке вместо разных яств лежал чей-то чемодан, рядом с ним постель, завернутая в полосатый с красной каемкой плед.
«Значит, кроме меня, есть еще один пассажир», — подумал Илья и стал разглядывать яркий плакат на стене, призывающий к подписке на Госзаем. Пока он рассматривал вокзальное помещение и читал горячие призывы, перед ним открылась дверь со служебной табличкой. Сначала появилась девушка в коричневом пальто с воротником из серого барашка, повязанная дымчатым оренбургским платком. На ней были модные бурки из фетра, обтянутые желтой кожей. Следом за девушкой возник железнодорожник в шинели с тусклыми пуговицами. Сердитое лицо его было исклевано оспой.
— А дорожные вещи, между прочим, на буфет у нас не ставят… — сказал он, скрываясь за дверью.
— Черт рябой… — Облокотившись о стойку, девушка терла нос красной, домашней вязки, варежкой.
— Обморозились? — спросил Никифоров участливо.
— Тут не только обморозишься, а совсем закоченеешь. — Она шагнула к своим вещичкам, но Илья опередил ее, снял их с буфетной стойки и поставил на диван рядом со своим чемоданом.
— Как вас зовут?
— Евгения Артюшенко.
— А куда вы едете?
— В Шиханскую. Буду там работать акушеркой.
— Значит, поедем вместе! — обрадованно сказал Илья.
— Только вот ехать не на чем… И зачем только я напросилась в эту дыру?
— И вправду, зачем?
— Хотелось поближе к дому… Я ведь из Зарецка. Там у меня мама, папа, братишки. Свой дом. А вы?
— А я… по назначению…
— Вы партийный?
— Комсомолец.
— Ну, это все равно.
Женя прижала к лицу варежку, наклонила голову и замолкла.
Илье стало жаль ее. Он решил сам пойти к железнодорожному начальству и попросить подводу.
— Нету, нету! — поглаживая рябые щеки, ответил железнодорожник в шинели.
— Куда же подевались лошади?
— Обобществлены, сударь, обобществлены-с! — раздельно, со значением сказал он.
— Из колхозов, например, кто-нибудь бывает?
— Случается… Только какой же дурак в такой буранище погонит колхозных рысаков?
Едва Илья успел объяснить своей попутчице ситуацию, как в помещение шумно ввалился парень с веселым, бронзовым от мороза лицом, в замасленном ниже колен полушубке. Похлопав овчинными рукавицами, он крикнул:
— Кто в станицу?
— Мы, — показывая на спутницу, ответил Никифоров.
— Айда, собирайтесь живо!
Они засуетились около своих вещичек.
— Может, кому помочь? — спросил парень. — А это гармонь, что ли? — Он показал на футляр с баяном.
— Баян.
— Ого! Вот это штука! Я его положу к себе в кабину. Сберегу, как грудного… За это ты мне сыграешь потом какую-нибудь сердцещипательную… Можешь?
— Попробую.
— Баста! Ну, айдате, гости-любушки. Завернетесь в тулупчики — они у меня на моторе, тепленькие… Да и груз сегодня подходящий — пшеничка семенная, а не бороны.
Парень был простой, общительный. Для Евгении он разыскал серые валенки и велел переобуться.
— В этих, барышня, только краковяк танцевать… А ты, баянист, не забудь мою просьбу. До смерти люблю гармонь. В гости вас позову. Вместе приходите. Придете? — И, не дождавшись ответа, продолжал: — Я в новом совхозе работаю. В зерновом. Спросите Савку Буланова. Вам всякий дорогу покажет. Ты мне рванешь на своем, а я тебе — на двухрядке! Баста, значит!
— Баста, Савелий, баста, — кивнул Илья.
Разместились на невиданно больших санях на мешках с зерном, увязанных пеньковой веревкой.
Тракторные сани Илья видел впервые. Какая-то умная голова ловко приспособила огромные дубовые полозья, связанные на высоких прочных копыльях тремя поперечными колодами, устланными досками. На них удобно было возить любой груз.
Сыто напоенная горючей смесью, могучая машина с ходу врезалась в заметенную снегом дорогу, с грохотом шлепая железными траками по мерзлой земле.
Мимо мелькнули хатки с дымящимися трубами, проплыли какие-то сложные, непонятные сооружения, и, только когда они остались далеко позади, Илья вспомнил про знаменитые когда-то шахты Синего шихана.
Тяжело груженные сани гулко скрипели, на рытвинах заносило их и на раскатах. Женя невольно прижималась к Илье. Цепляясь за его рукав, она спрашивала:
— Сколько же мы будем вот так скрипеть?
— Покамест не доедем.
— Нас так раскатывает… А вдруг мы вывалимся?
— В снегу побарахтаемся…
— Воображаю!.. — Она тихонько рассмеялась, и холодок в ее глазах растаял. Илья почувствовал, как ему стало теплее.
Кипящая бураном степь теперь уже не казалась злой и сварливой. Вьюга озорно и звонко трепала верхушки ковыля, ручейки поземки неумолимо мчались в замутненную бескрайнюю даль. В скрипе санных полозьев теперь чудилась бередящая душу мелодия старой, давно знакомой, но забытой песни. Вдруг все звуки оборвались. Мотор укрощенно стих. Сани, словно нехотя, застонали и остановились. Буран яростно забрасывал людей снежным вихрем.
Прикрывая рукавицей лицо, появился Савелий.
— Ну как, не застыли? — крикнул он.
— Что-нибудь случилось? — спросил Илья.
— Ничего! Все ладно. Дал двигателю малую передышку, чтобы шибко-то не перегревался. Давай закурим!
— Много еще нам ехать? — подавая ему папиросу, спросил Илья.
— Как раз половина. Это место называется Родники. Близенько, за увалом была раньше шахта Родниковская. Отец мой Архип Гордеич Буланов золото там добывал. Два шиханских казака — родные браты Степановы — однажды весной пахали загон под просо. Родничок, как полагается, почистили. Вместе с грязью накидали горку и суглинистой землицы. Солнышко подсушило породу, ветерок обдул, ну и золотишко-то проклюнулось… Поначалу, говорят, брали много, пудами целыми. Разбогатели братцы, рысаков завели! Ку-да там! А потом все прахом пошло… Оба они к винцу пристрастились, ну и крышка обоим… Сейчас в одном бывшем ихнем доме ваш райполевод разместился, а в другом — банк.
— А отец ваш?
— А отец, что же ему… Тут неподалечку на новых приисках шахтой заведует. Отец у меня, я вам скажу… Ого! Хороший у меня родитель! Партиец старый. Везде побывал и людей повидал всяких. Мы еще к нему в гости съездим. Он баян любит!
Савелий бросил в снег окурок, похлопал замасленными рукавицами и твердо заскрипел пимами по снегу.
Трактор лязгнул металлом, жарко дыхнул едким дымом и плавно стронул поющие сани с места.
На душе стало веселей. Видно, сумел этот сын старого золотодобытчика приветить людей, сделать их путь приятным, несмотря на плохую дорогу и непогодь.
— Где вы остановитесь? — стараясь перекричать шум мотора и тарахтение гусениц, спросил Илья у Жени.
— Пока в больнице… А там не знаю!..
Женя открыла лицо, укутанное серым пухом платка — оно еще больше расцвело на морозе, только глаза были усталыми. Вскоре она задремала, положив голову на воротник Илюшкиного тулупа…
11
Перед навесным коньком высокого, похожего на теремок резного крыльца просторного приземистого дома бывших золотопромышленников братьев Степановых была прибита вывеска с длинным, привлекающим своей необычностью названием: «РАЙПОЛЕВОДКОЛХОЗСОЮЗ».
Ступеньки крыльца были недавно починены и еще не выкрашены. У новой коновязи, поедая брошенное на снег сено, стояли сытые, задастые, по большей части гнедой и вороной масти, лошади, запряженные одни в санки с выгнутыми передками, другие — в кошевки с рогожными кузовами.
В станице было куда тише, чем в степи. По улице вольно погуливал ветерок, выхватывая из-под конских копыт клочья зеленого сена, наметая на некрашеные доски крыльца мягкий сугробик.
Илья внес свой чемодан и баян в большую, пропахшую табаком комнату и поставил возле крайнего у порога стола. Пахло дубленками и дегтем. В углу за одним из столов сидел высокий, большелобый парень со светлыми волнистыми волосами, небрежно откинутыми назад. На курсах такой зачес прозвали «политическим». Длинными пальцами парень вяло перекидывал на счетах костяшки. С его стола почти до самого пола сползала огромная, склеенная из нескольких полос бумага. Из повисших вверх ногами крупных черных букв Илья успел сложить слово «с в о д к а». Узнав, что Никифоров прибыл в распоряжение полеводсоюза, парень сказал с явным украинским выговором:
— Добре, товарищ Никифоров! Давайте знакомиться. Я Гаврила Купоросный, бухгалтер по расчетам и сводным балансам, а занимаюсь всем, только шо навоз не чищу…
Гаврила Купоросный встал, с артистической важностью пригладил зачес. В модном, хорошо отутюженном костюме из серого коверкота, в широком, с большим узлом, голубом галстуке, он был похож на артиста. Илья в своей вельветовой толстовке, в синих галифе, втиснутых в черные валенки, явно проигрывал, находясь рядом с ним.
Гордость юности — комсомольский костюм — постепенно выходил из моды, зато браунинг Илья хранил как зеницу ока.
— Что ты умеешь делать? — с неожиданной бесцеремонностью спросил Купоросный.
— Все, чему учили…
— С каким уклоном ты закончил курсы?
— Сельскохозяйственной кооперации… И вообще производственной кооперации, — поправился Илья.
— Может, это и близко… Колхозный учет будет несколько специфичным. Понимаешь?
Илье не нравился экзаменаторский тон. В нем он улавливал скрытое презрение к себе и своим знаниям. На курсах он успел кое-что усвоить об учете в колхозах, нарождавшихся повсеместно. Но ему-то, Купоросу, откуда знать про эту специфику? Сам-то он давно ли тут?
Взяв адрес, Илья отнес вещи и оставил их в специально арендованной для сотрудников комнате. Когда вернулся, совещание уже закончилось. Из кабинета управляющего выходили председатели колхозов — чубатые усачи из местных казаков и совсем не похожие на них двадцатипятитысячники. Быстро разобрав овчинные тулупы и полушубки, нахлобучив мохнатые папахи, громко разговаривая о разных делах, они уходили к продрогшим у коновязей лошадям.
Из участников совещания в комнате задержался лишь один человек с рыжеватыми, заботливо расчесанными, бог знает какой пышности, усищами. Он то и дело трогал усы и разглаживал их. Остановившись посреди комнаты, он свернул из большого газетного куска козью ножку и, обращаясь к Купоросному, заговорил густоватым, прокуренным басом:
— Теперь вы, товарищ Купоросинский, будете ходить передо мной на цыпочках…
— Моя фамилия Купоросный, товарищ Важенин, Купоросный! Не искажайте моей батьковской фамилии и объясните, Захар Федорович, за что такая немилость?
— Потому что я теперь банкир! — Важенин с умной в глазах хитринкой окинул Илью взглядом, словно снял с него мерку. — Предстоит вам сурьезная работенка по оформлению обязательств. Писать и писать новые. А сколько надо мозгов, чтобы переписать старые, бывших кредитных товариществ?
— Понимаю, Захар Федорович, понимаю, — проговорил Купоросный. — У вас сейчас в новом банке тоже хватает дела. Интереснейший вид учета. И работа чистая, звонкая… Возьмите меня в помощники?
Важенин не спеша зажег цигарку, затянулся, а спичку положил в карман полушубка. Илья заметил, как дрогнули у этого смешного человека брови и нависли на глаза.
— Нема у меня для вас гнездышка, Гаврила Гаврилович, нема. Учет, он, как капризная девка, хорошего внимания требует…
«Банкир» в черных, подшитых, растоптанных валенках толкнул дверь могучим плечом и удалился, оставив в комнате ядовитое облачко табачного дыма.
— Чудной! — сказал Илья.
— Чудной… Это же знаменитый Важенин, полный георгиевский кавалер, бывший станичный писарь, а сейчас временный управляющий и старший бухгалтер Союзколхозбанка. Этот чудак учитывает все колхозные по ссудам обязательства и наши векселя. — Купоросный рывком схватил стакан с холодным чаем и выпил. Ответ Важенина, видимо, задел его. — Государство отпускает в кредит новые сельхозмашины, семена, племенной породистый скот. Все это полеводсоюз распределяет по хозяйствам. Мы тут считаем, сколько что стоит, оформляем платежные обязательства и в соответствующей форме при реестре предоставляем в сельхозбанк. Товарищ Важенин основательно проверяет наши бумаги и всю причитающуюся сумму оплачивает — вернее, зачисляет на наш расчетный счет, а за колхозами записывает, как выданные им ссуды. Разумеете?
— Немножко, — кивнул Илья.
— А что такое учет векселей? Знаете, молодой человек? — переходя на снисходительный и даже высокомерный тон, спросил Купоросный.
— Проходили, — сухо ответил Илья.
— И как же это вы поняли? — все тем же тоном экзаменовал Купоросный.
Каждый вопрос возмущал Илью все больше. Он знал не только про учет векселей, но хорошо усвоил и технику оформления обязательств, еще когда жил и работал в Петровке. А самое главное, запомнил на курсах, что в 1927—1928 годах на кредитование сельского хозяйства было отпущено колхозам и совхозам 76 миллионов рублей, в 1928—1929-м — 170, а в 1929—1930 годах намечалось отпустить 473 миллиона. Хотелось ответить дерзко, но он сдержался.
— Вексель, товарищ бухгалтер, может иметь тоже целевое назначение, подписывается бумага с гербом, скажем, на зарплату по смете… Банк его учитывает и оплачивает.
— Хоть и примитивно, но правильно.
— Что правильно по существу, не может быть примитивным, — сказал кто-то.
Илья оглянулся. За его спиной стоял человек — высокий, светловолосый, в защитном френче с накладными карманами, в армейских сапогах, в брюках кавалерийского образца, в пенсне с тонкой позолоченной оправой.
— Пополнение, Георгий Антонович! — кивая на Илью, сказал Купоросный.
— Догадываюсь. Блинов, главный бухгалтер. — Он протянул сухую, крепкую руку. Еще в Оренбурге Никифоров знал, что его будущий начальник — участник гражданской войны, командир бригады из бывших офицеров.
— Как устроились? — спросил он.
— Хорошо, спасибо.
— Мы вас ждали… — Нервными, тонкими пальцами Блинов размял длинную самодельную папиросу, закурил. — Работы у нас по горло. Посадим вас пока на сводки, если не возражаете… А вы, Гаврила Гаврилович, только на оформление обязательств переключитесь. Иначе труба!
Несколько дней Никифоров занимался сводками. Поначалу работа показалась интересной. Он знал, сколько в каком колхозе рабочего тягла: лошадей, волов, сельхозинвентаря, семян, разных культур, телег, бричек, водовозок. Сведения ежедневно менялись, потому что в колхоз вступали новые члены, прибавлялось скота и инвентаря. Писать и переписывать каждый день одно и то же скоро надоело. Захотелось настоящего дела — чему их учили на курсах и на практике. Мысленно он давно нарисовал себе радужную картину, как его сразу же пошлют в крупный колхоз, где слабо поставлен учет. Он проверит там инвентарные ведомости, поможет составить вступительный баланс, заведет главную и вспомогательные книги. Все, чему его научили на годичных курсах, передаст колхозному счетоводу и с благодарностью в кармане отправится в следующий колхоз. Опять новые люди, новые встречи, свежие впечатления, которые он аккуратно будет заносить в свой дневник. Для этого он давно приспособил старую бухгалтерскую книгу в красную линейку, с дебетом и кредитом на развернутом листе. Он уже успел записать туда встречи с Евгенией Артюшенко и с трактористом Савкой Булановым, запечатлел и его красочный рассказ об удивительной находке братьев Степановых.
Судьба этих простых незадачливых казаков не давала покоя Илье. Ему хотелось о них знать более подробно. Илья много думал об их поразительном фарте. Немало легенд о синешиханском золоте знал и кассир Союзколхозбанка Николай Завершинский. Он частенько приходил к Башмаковым, где поселился Илья, слушать игру на баяне. Его рассказы Илья подробно записал в дневник и хранил его на дне чемодана вместе с вырезками своих статей, опубликованных в разных газетах. О том, что он вел личные записи и печатался в газетах, он никому не рассказывал. Это была его тайна. Она возвышала его… Однако вскоре он убедился, что до его возвышенных чувств нет никому никакого дела.
Кроме сводок, он писал разные пустяковые бумажонки и носил их на подпись управляющему Андрею Лукьяновичу Лисину. Тот подписывал их и, возвращая, говорил одно только слово:
— Хорошо!
Илья жил в доме у стариков Башмаковых. Каждый вечер, возвращаясь с работы, он заставал Евсея Назаровича с зажатым меж колен небольшим, ловко сидящим на колодке сапогом, с концом дратвы в зубах и кривым шилом в руке. Жена его — тетка Елизавета — с утра до темной ночи возилась возле печки. Первые дни Никифоров кормился молоком, привезенными из дому черствыми кренделями и сухой копченой колбасой, купленной в городе.
— Поди, и не угрызешь… — говорил Евсей Назарович, когда он угощал его колбасой.
— И не пробовай со своими зубами, — замечала тетка Лизавета и наливала Илье в глиняную миску густых деревенских щей.
Сегодня Илья принес два куска говядины около пуда весом и столько же муки. Это был его месячный паек.
— И что ты будешь с этим добром делать? — присаживаясь возле кухонного стола на лавку, спросила хозяйка.
— Вы будете стряпать, а мы с Евсеем Назарычем есть…
— Какая из меня стряпуха…
— Для себя же стряпаете?
— То для себя… Чо не есть, оно и ладно. А для стороннего угожать надо…
— Да мне никаких разносолов не надо. Буду есть то, что и вы.
— Станешь ты по два дня кислые щи хлебать!
— Стану. Иногда, может, и лапшу сварите.
— Можно и лапшу. Только ее еще и месить надо.
— Тьфу, мышь тебе за голенище! — Евсей Назарыч сплюнул в угол и туда же швырнул сапог с колодкой и дратвой. — Руки у нее, вишь, отвалятся, ежели она замесит и раскатает сочень!
— А ты чево ерепенишься?
— А то, что будя-а-а!
— Гляди-ко, разбудякался…
— Мне уже в горло не лезут твои мужицкие шти! Из такого добра, что Иваныч принес, што хошь можно сварганить…
— Добро-то не твое, а евонное. Что кипятишься-то? — Ударив ладонями по крепким, мосластым коленям, тетка Лизавета, подмигнув Илье, продолжала: — Всю жись корит меня моим мужицким родством, а сам целый год приставал…
— Ладно, не подшпынивай… Я вон погляжу, возьму ярку твою да чиркну!..
— Ты вон по осени телку сдуру чиркнул… Коровушка была бы… — Тетка Лизавета вздохнула и пригорюнилась, подперев щеку ладонью.
— Опять занозу суешь в болячку…
Болячка эта была всеобщая, стихийная. Слух о том, что весь скот будет повально отобран, пронесся словно молния. Во всех дворах сквозь плетни тускло мерцал свет, мычал обреченный скот.
Евсей больше промышлял извозом то на прииске, то на станции, когда проложили железную дорогу. А когда организовали колхоз, на первом же собрании записался в него. Записывались казаки, ну и он свой голос подал. А когда на другой день выводил лошадь со двора, снег под ногами казался горячее огня… Места не находил весь день, в сарай даже заглянуть боялся, чтобы не видеть сиротливо висевшее на сусеке старое, видавшее виды казачье седло. После статьи в газете «Головокружение от успехов» Евсей осмелел, выписался из колхоза и коня назад увел. Шум вышел. Председатель пригрозил выслать, да приезжий комиссар в кожанке, Андрей Лисин, заступился…
— Одумается, сам придет, — сказал он председателю.
— Не одумались еще, Евсей Назарыч? — спрашивал Илья.
— А что ж тут, мышь те в голенище, думать-то? У нас ведь своя домашняя арихметика. Как я, скажем, жил и дочке даже образование учительское дать сумел…
— Это не ты, Евсей Назарыч, а Советская власть.
— Не скажи. Училась она не на советских харчах, а на моих, которые возил я ей в город. А сам в супряге с соседом пшеничку сеял, овес, просо. А когда извозничать начал, так того же Спирьку Лучевникова нанимал вспахать десятинку-другую. Вот так и жили. Нет мне резону быть в колхозе, с какого боку ни погляди!
— Ты, как ленивый бык, в один бок смотришь, — с усталостью в голосе заметила тетка Лизавета.
— Помолчала бы, заноза! — огрызнулся Евсей.
— Чево мне молчать? У нас равноправие…
— Видал, все права знает!
— И знаю. Я все знаю, и как ты извозил, как в станционном буфете прохлаждался, а потом с куцехвостыми потаскушками по степи раскатывал…
— Ты можешь теперче понять, Илья Иваныч, с какой корягой приходится казаку век вековать? Поедом ест и дуром в колхоз гонит. Сына-красноармейца и дочь к этому делу подключила. Мне от ихних причитаний за печку спрятаться хочется…
— Вот как пришлют тебе окладной лист за твой извоз, никуда, сударь, не спрячешься…
— Пришлют, язвить их в душу, што верно, то верно! — Евсей выругался.
— Не лайся. Кому охота слышать твои срамные слова? — Тетка Лизавета встала, загремела ухватом и заслонкой. Само собой, в вопросе о колхозе Илья целиком был на стороне хозяйки.
— Так хоть кого доконаете, Олешка-танкист, да еще вот дочка приедет в своем делегатском платочке… Но не такой казак Евсей Башмаков, чтобы его недоуздком взнуздали… А я вот сижу и обновку ковыряю по последнему шику… — Евсей поставил на колено небольшой, натянутый на колодку сапожок с поблескивающим голенищем и залюбовался им. — Один вопросик политический имею к тебе, Илья Иваныч.
— Пожалуйста. Отвечу, если смогу.
— Ответишь… Вы теперя, молодые-то, как хлыстиком настеганные… Вон и Олешка мой в кажном письме расписывает, что у него служба — сплошная масленица: в театры, цирки их водят, сами тоже концерты выкамаривают, кружки всякие… А когда же, дуй их ветер, они военным делом занимаются?
— По расписанию. Каждому делу свое время.
— Толкнуть бы Олешку в мое время, да на конюшню, со скребницей. Не до развлечениев было бы! Как налетит, бывало, вахмистр, растопырит усы, а ты коню под брюхо…
— Так то было ваше время, Евсей Назарыч!.. — Илья загляделся на сапог. Плохо слушая болтовню хозяина, вспоминал Волгу, учительницу с вишневыми глазами, для которой тоже сапожки где-то тачали… А где? Адреса не записал тогда. Весь год он прожил, как в тумане, — курсы, уроки, суд.
— Ты видел танк близко?
— Нет, не видел, — рассеянно ответил Илья.
— А мы видали такую механизацию… Под вашей Петровкой броневики Колчака завязли в речушке-грязнушке. Быками пришлось вытаскивать.
— Придет время, построим хорошие дороги.
— «Мы новый мир построим», как теперича поется… Улита едет, когда-то будет, а конь, он на четырех ногах, сам умеет выбирать дорожку!
— Я тоже за коня! Но одно другому не помешает.
— А мне конь люб по гроб жизни!
В отпуск приехал сын Алексей, служивший действительную в танковых частях где-то в Калуге.
— Вот он, гляди, Илья Иваныч, какой казак вымахал, а? И даже чуб не острижен! Да и обмундировочка, я тебе скажу! — Евсей не мог скрыть радости при встрече с сыном. Понравилась ему и форма, и треугольники на петлицах, фуражка с бархатным околышем. Но сам Алешка стал каким-то другим — даже отца с матерью стал называть на «вы», а девчонок станичных, подметавших цветными юбками снежок под окнами, величал как барынь. А за праздничным столом и вовсе удивил родителя.
Накануне Евсей отрубил двум курицам головы и на яловую ярочку замахнулся было, да Лизавета шум подняла. Вечером аппетитно щекотала ноздри пахучая казачья лапша. Евсей сноровисто ударил тяжелой ладонью по донышку бутылки и выбил пробку.
— Мне, тятя, не наливай, — отодвигая от себя рюмку, заявил Алексей.
— Это что за служивый! — Евсей держал бутылку над столом, как ошарашенный.
— Не положено, — пожал плечами сын.
— Маленько, поди, можно, — вмешалась мать. — Ты ведь у себя дома.
— И маленько, мама, нельзя. Я занимаюсь спортом.
Илья тоже от водки отказался.
— Да вы что, сговорились? — От желания выпить у Евсея Назарыча даже пересохло в горле — самый раз бы чокнуться, как заведено, а он — «не положено»…
— Квасу бы выпили, — поглядывая на обрадованную, повеселевшую мать, проговорил Алексей.
— Если бы знала, уж заквасила бы… Может, красненького? У меня уцелело церковное.
— Кагор? — спросил Алексей. — Для домашнего причастья, мамаша, хранила?.. — Алексей подмигнул Илье и толкнул его под столом коленом.
— Церковным не грех и причаститься, — согласился Илья.
— Тогда попробуем! — сказал Алексей матери.
Вино хранилось у тетки Елизаветы давно. Оно было густое, темное и напоминало Илье первое, далекое причастие.
Евсей чокнулся со всеми.
— Спасибо, сынок, что честно отслужил срок, долг перед Отечеством выполнил, — сказал отец. — Нам, родителям, радость, а тебе, красноармейцу бывшему, почет.
— Почему бывшему? — Тряхнув светлым чубом, Алексей поднял от стола порозовевшее лицо.
— Слава богу, по моему подсчету, даже лишку отслужил! Выпьем айдате, а потом ишо по одной дернем! — веселым, немного разомлевшим голосом произнес Евсей Назарович.
— Я не насовсем приехал.
— Как это не насовсем? — Отец отставил пустую рюмку, схватил ложку и зачерпнул густой лапши.
— Остался, тятя, на сверхсрочную.
Рука Евсея дрогнула, бульон плеснулся на стол.
— Сверх срока, значит? Так, так… Сам решил и отца не спросил?
— Ты когда из колхоза выписывался, меня тоже не спросил… Единолично распорядился.
— Яйца курицу не учат! — Расплескивая вино, отец наполнил свою рюмку.
— Ты, батя, не курица, а я не цыпленок. Если я вернусь домой, мы, что ж, вдвоем, что ли, ухватимся за хвост нашего Рыжка?
— Верно, Алеша! — вмешалась мать. — Лучше в Красной Армии послужить, чем вдвоем кататься на одной телеге… Кем будешь-то, сынок, какую должность дадут?
— Сначала старшиной в роте, а потом в училище пойду.
— А что такое старшина?
— Невелика должность… Вроде вахмистра в сотне. — Евсею хотелось видеть сына если не учителем, то, на худой конец, станичным фельдшером.
Обидно было отцу слышать упрек сына за колхоз. Знал бы он, какой вольготной жизни успел хватить его родитель, вольничая на прииске: «Хочу вожу, а нет — в ковыле лежу и жаворонков слушаю». Мог бы он и сына пристроить за милую душу. Глядишь, и огоревали бы вторую лошадь. «Все не в ихней артели чужие гужи рвать». Глубоким, укоренелым чутьем землепашца-собственника, наглухо отгороженного извечным казачьим плетнем, Евсей не только противился коллективизации, а страшился ее. Ему ли не знать своих однополчан-станичников. Трудно им будет шагать в артельной упряжке. Поставив ложку на попа, Евсей долго и тягостно молчал.
— Не знаю, Евсеюшка, как ты думаешь жить дальше, на отшибе ото всех… — Елизавета смахнула полотенцем набежавшие слезы.
— Не надо, мама! — Алексей обнял мать. — Обойдется…
— Обойдется!.. — Евсей словно ждал этого слова. — Ты о нас не пекись! Раз вы с сестрой вылетели из родного гнезда, мы с матерью здесь тоже не засидимся.
— Ишо чего надумал, старый?
— Домишко побоку, дуй его ветер, а сами айдате в мир новый. Нам сладкой жизни не надо. Проживем как-нибудь!..
— Как удумал жить? Опять извозничать? — спросила Елизавета.
— Чеботарить начну — кому подметки, кому набоечки. В городу тоже не босиком ходют…
— Ну и поезжай на здоровье. Тюкай молоточком. Только я никуда отсюда не поеду, — заявила жена.
— Оставайся. Уговаривать не стану. В колхоз запишись!
— И запишусь. Ни на кого не погляжу! Чем стращает… Была бы работа в полюшке!
— Видали такую ахтивистку? — Евсей поднялся и вышел из-за стола.
Илья невольно вспомнил Петровку и припрятанные Михаилом вожжи. Но родным легче было все объяснить. Устыдились тогда, поняли вроде. А к Евсею Назарычу пока и на козе не подъедешь…
12
Как-то к концу занятий, прежде чем уйти из конторы, Илья получил из рук уборщицы письмо, запечатанное в маленький, кокетливый конвертик.
«Милый попутчик, товарищ инструктор!
Почему вы меня забросили и не поинтересуетесь: жива ли я в этом медвежьем, забытом богом месте? Я изнываю от тоски. Приходите сегодня к больнице в 6 часов вечера. Я хочу вас видеть.
Е. А.»В назначенное время Илья шел по расчищенной от снега дорожке к длинному деревянному зданию больницы. Евгения сбежала по ступенькам и пошла ему навстречу.
— Вы, наверно, очень заняты? — сняв на ходу пуховую перчатку, Женя протянула ему руку. Рука была мягкая, теплая.
— Приступил к работе.
— Я тоже. Как вы устроились?
Илья рассказал про семью Башмаковых.
— А меня поместили к вдове Федосье Васильевне. Мне там хорошо, только скушно. Вечерами играем в дурачка. Она каждый день ворожит…
— И что же она вам наворожила?
— Глупости всякие! Говорит, что я скоро должна выйти замуж…
— А вы ей не верите?
— В этой дыре во что угодно поверишь… Возьмите меня под руку.
Дом, где поселилась Женя, стоял на берегу реки. За плетневой изгородью виднелись старые яблони, укрытые соломой. Илья приходил сюда почти каждый вечер. Ему нравилось у Жени: и светлая, чисто убранная комната, большая кровать, задернутая цветным ситцевым пологом, куда Женя заходила переодеваться и появлялась в зеленом, с золотистыми бабочками халатике, садилась на кушетку и курила.
— Хорошо, что ты пришел. А то тоска зеленая… Сейчас будем пить чай.
Они разговаривали, как давние знакомые.
— Я сегодня познакомилась с вашим Гаврилой Гавриловичем.
— Где же это?
— В больнице. Он пригласил меня играть в драмкружке.
— И вы согласились?
— Конечно! Купоросный очень элегантен и воспитан…
Тут Илья, конечно, проигрывал. Его внешний вид не выдерживал конкуренции. Что его толстовка против разутюженных костюмов и галстуков!
Последнее время Купоросный вел себя высокомерно. Он сидел за высокой конторкой, как фараон на троне, а представители, уполномоченные от колхозов, выстраивались перед ним чуть ли не по стойке «смирно» — каждому хотелось поскорее подписать бумаги, получить что надо и уехать засветло. Наступала весенняя распутица, раскисали дороги, бугрился на реках лед. Люди нервничали, а Гаврила Гаврилыч не спешил.
Председатели колхоза потели в полушубках, поглядывая в окна, нетерпеливо мяли в руках папахи, а выходя в коридор покурить, ругались.
— Неужели надо столько исчеркать бумаги, чтобы получить две сеялки да десяток борон «Зигзаг»?
— Долго что-то делит и множит длинноволосый…
Чуть ли не каждый день приезжал «банкир» Важенин проверять бумаги.
— Даже проценты не могут правильно начислить! — ругался он.
— Спешка, Захар Федорович, — оправдывался главный бухгалтер Блинов.
— Не скажи, Георгий Антоныч! При финансовом деле нужна не спешка, а башка…
Шлепая растоптанными валенками, Важенин уходил, искоса взглянув на Купоросного. Илья удивлялся, как умный и вдумчивый Блинов не замечал купоросовского лицемерия, позволял простейшему, самому обыкновенному делу придавать какое-то сверхособое значение.
Еще в Петровской, будучи членом ревизионной комиссии кредитного товарищества, Илья не раз помогал бухгалтеру оформлять точно такие же документы. Все тогда выглядело обыденным, привычным. Самое сложное заключалось в том, что сумму стоимости тех же сеялок и борон необходимо было разбить на равные части и в зависимости от срока платежа начислить проценты. Вот тут-то и пыхтел Купоросный, срывая зло на ни в чем не повинных колхозниках.
Однажды Илья предложил Гавриле Гавриловичу свою помощь.
— Видали? Финспец нашелся!.. — с презрением усмехнулся Купоросный.
Илья пошел к Блинову.
— А справитесь? — спросил Георгий Антонович.
— Ну, в крайнем случае испорчу пару бланков у вас на глазах…
— Хорошо. Приступайте, — сказал Блинов и одобрительно кивнул головой.
Заполняя бланк, Илья с нарочитым изяществом крупно написал название колхоза «Красный маяк». Стоявший у его стола председатель этого хозяйства, сдвинув на затылок папаху, не удержался от восторга.
Всю жизнь Илья старался писать четко и красиво. С годами почерк стал каллиграфическим. Красивый почерк создает хорошее настроение, приковывает к себе внимание, по нему даже определяют характер человека.
По всем правилам самым аккуратнейшим образом обязательство было заполнено и положено на стол Блинова.
Просмотрев бумагу, Блинов поглядел на Илью, затем с привычной ловкостью прикинул на счетах разбивку суммы по срокам, начисление процентов. Смахнув костяшки счетов в одну сторону, сказал с радостным на лице оживлением:
— Молодец! Значит, вы и это умеете?
— Выходит, могу…
— Поздравляю, Илья Иванович, и благословляю. Вы нас крепко выручаете, а то наш Гаврилыч совсем того…
Шелестя доверенностями и накладными, колхозные представители как-то сами по себе разобрались, и часть из них подстроилась к столу Никифорова. Работалось Илье хорошо. К концу дня все оформленные обязательства он занес в реестр и написал в Союзколхозбанк препроводительную. Все ему давалось легко и без особых усилий. Может быть, этот день и решил его судьбу на долгие годы. Дерзай, парень, есть на тебя виды…
13
…Дня через три в конторе, как обычно, появился Важенин. Папахой обмел у порожка снег с валенок и поглядел на всех пристальным, изучающим взглядом.
— Кто это у вас так над обязательствами старается?
Купоросный молча кивнул в сторону Никифорова. Он опять сидел на сводках и сочинял какую-то инструкцию по заданию Блинова.
— Значит, ты?
Илью обдало жаром. Он давно ожидал и боялся встречи с Важениным.
— Казнить пришли, Захар Федорович? — спросил он не своим голосом.
— Зачем же казнить? За такую работу не казнят, а поощряют. Приглашаю на подледный лов подуста. А потом подумаем и мобилизуем в наше ведомство.
— В банк? — вырвалось у Купоросного.
— А почему бы и нет? — Важенин вывел Илью в коридор. — Ты к нам почаще заходи, не робей. Провертывайте свои спектакли, какие посмешнее, а потом на рыбалку махнем все вместе. Под снегом уже ручейки побежали. А подуст, он, подлец, любит снежной водицей побаловаться… Ну а насчет работы подумай, и тоже на свежую голову. Дело серьезное. — Темное, обветренное лицо Важенина стало суровым. — Скажу прямо: парень ты сообразительный и учение на курсах, видно, пошло тебе впрок. Что тебя здесь ожидает в полеводе? Тут все пока временное — и люди, и методы. Идет поиск тропинок, по которым следует нам шагать дальше… Пока все временное, и я тоже временный… Постоянные будете вы, молодые. Наше дело подыскать замену и уступить место другим. Если этого мы не сделаем… — Захар Федорович надвинул на лоб мохнатую папаху… — Одним словом, в банк к нам заглядывай.
С Дмитрием и Виктором Важениными Илья познакомился недавно. Это были простые, душевные ребята, хорошие товарищи. Виктор был секретарем комсомольской ячейки и руководил драмкружком. Они собирались ставить спектакль, но не хватало актеров. Народ был занят. Наступала первая колхозная весна. Решили пригласить в кружок Купоросного и Женю.
Однажды, оставшись с Виктором наедине, Илья, ловко копируя Купоросного, смешно изобразил, как тот надевает галстук и приглаживает зачес. Это было так уморительно, что Виктор хохотал чуть ли не до слез.
— Послушай! А ты ведь можешь нам во многом помочь.
— Если ты мне разрешишь.
— Конечно! Пожалуйста!
— Спасибо за доверие.
— Но только не показывай того, чего сам не умеешь.
— Сейчас я тебе еще покажу кое-что… Смотри только повнимательней…
Они находились в одной из клубных комнат. Виктор сидел за столом. Илья стоял напротив. Неожиданно Илья надел шапку с кожаным верхом, разлохматил на виске чуб, расстегнул пальто так, что полы повисли, как два крыла, подошел к столу, взял газету и неторопливо ее разорвал. Не глядя на Виктора, стал вертеть цигарку.
— Папаша! Отец мой! — Виктор выскочил из-за стола. — Вот черт, а? Ну-ка, еще что-нибудь!
Илья изобразил подгулявшего гармониста. Потом прочитал несколько таких стишков, от которых Виктор давился от хохота.
— Давай, друг, пустим их в дело!
Они устроили модный по тем временам вечер декламации. Виктор и его брат прочитали несколько стихотворений из журнала «Безбожник». Прозвучали здесь и злободневные стихи Демьяна Бедного, и стихи из цикла: «Куда мы идем, куда заворачиваем», заимствованные у синеблузников.
Наизобретали сейчас ученые Миллионы пушек и митральез… Граждане, разве это культура? Разве это прогресс? Мы, люди, сами себе жизнь укорачиваем! Куда же мы идем, куда заворачиваем?Дальше в этом раешнике высмеивалась плохо пошитая одежда, обувь, столовые нарпита с невкусными обедами, медицинское обслуживание, спекуляция, пьянство. Говорилось там и о великих открытиях в области медицины, науки и техники. А конец был такой:
И так, летая и играя, Мы доберемся до рая. Проведем там полную реставрацию, Всему райскому населению Сделаем перерегистрацию. Проведем междупланетный Электрический трамвай. Ноя назначим инструктором, Авраама — кондуктором. Иисус Христос будет смазчиком, А Николай Угодник станет Заведовать собачьим ящиком. Вот когда начнем так наворачивать, Тогда уж некуда будет идти И некуда заворачивать…Молодежь хохотала от души. Илья видел, как смеялся Андрей Лукьянович. Редко и нехотя хлопала Женя. Когда они вместе с Ильей возвращались из клуба, Женя высмеивала организаторов этого вечера.
— Вы, товарищ Никифоров, взвились с этими виршами прямо до самых райских кущ… Уж не вы ли их сочинили?
— Нет, не я. Во все века рождались и рождаются на свет разные сочинители: сладкие, горькие и взъерошенные, как этот шуточный раешник. Народ всегда любил, понимал шутку и смеялся на досуге. А когда люди смеются — это уже хорошо!
— Глупый смех! Не выношу такого смеха! — Евгения в тот вечер была нетерпимой и беспощадной в своих суждениях и, чтобы смягчить их, спросила: — Вы, кажется, хотите пьесу ставить?
— Да. Думаем и вас, Женя, пригласить.
— А меня уже пригласил Гаврила Гаврилович…
— Рад вашей духовной общности, — пошутил Илья и распрощался.
14
Репетировали пьесу, по ходу которой Илье и Евгении приходилось целоваться. Было решено, что по-настоящему целоваться они будут на генеральной репетиции. И вот, когда репетиции подходили к концу, Женя вдруг заявляла:
— Я вообще не буду целоваться. А если будете настаивать, то вовсе играть не стану и на репетиции больше не приду…
И не пришла. Илья написал ей записку:
«Тов. Е. А. Артюшенковой.
Требую вашего прибытия, в порядке комсомольской дисциплины!
И. Никифоров».Записку отправил с мальчишкой, а вслед за ней и сам пошел. Женю он встретил в тихом, безлюдном переулке неподалеку от клуба.
— Как вы смели! — Голос ее дрожал.
— Посмел, как видишь…
— В порядке комсомольской дисциплины… Хм! А я не комсомолка, товарищ Никифоров.
— А разве совслужащие вне дисциплины?
— Какое ты имеешь право приказывать мне? — Она сердито топнула каблучком.
— Пожалейте каблук, не выдержит…
— «Требую… в порядке!» Тоже нашел чем пугать!
— Но если бы я развел интеллигентский кисель, ты бы ни за что не пришла…
— Нахал!
— Некультурно!
— Ну и пусть! Я дальше не пойду. — Она отвернулась и, спрятав подбородок в серый барашек воротника, прислонилась спиной к плетню.
Илья подошел к ней, обнял за шею и поцеловал так крепко, что она перестала дышать. Потом подхватил ее на руки и понес.
— Пусти!.. Пусти!.. — Протест был слабый, безвольный. — Как не стыдно! Увидят…
Ему не было стыдно. Он был счастлив.
— Ох и фрукт! Отдай варежку хоть… — Надевая варежку, она покачивала головой. — Ну и силища, — сказала она, когда Илья отпустил ее. — Погоди, я тебе еще припомню эту комсомольскую дисциплину…
— Еще тогда, на вокзале, на тракторе, когда мы ехали, я полюбил тебя, Женя…
Она показала ему язык и побежала к мерцающим в клубе огонькам.
Вечером у калитки все повторилось…
А на работе дела Ильи шли в гору. Как полноправное, доверенное лицо, он ежедневно приходил в банк и приносил новую пачку обязательств. Специальный счетовод по ссудам, Сергей Яковлевич Рукавишников, долго и тщательно пересчитывал суммы, сличал с реестром и выписывал авизо — уведомление, что сумма принята и зачислена на расчетный счет.
15
Контора Союзколхозбанка размещалась в двух комнатах: в одной сидели управляющий, старший бухгалтер и счетовод, другую, перегороженную дощатым барьером, занимал кассир Николай Завершинский — друг и приятель Захара Важенина еще по станичному казначейству. Здесь была строгая, торжественная тишина. Немногочисленные пока посетители пересчитывали упругие пачки денежных знаков, опоясанные крест-накрест ленточками из розоватой бумаги. Клиентов было еще немного: счета открыли только что созданные зерновые и животноводческие совхозы и колхозы. Самыми крупными клиентами были совхозы — они брали деньги на зарплату, командировочные расходы и приобретение инвентаря. Все расходы оплачивались наличными. Деньги доставлялись из областного Государственного банка специальными фельдъегерями.
Илье приятно было приходить в банк еще и потому, что Захар Федорович Важенин всякий раз встречал его веселой, приветливой шуткой. Он охотно знакомил его с тайнами банковских операций. Как-то он раскрыл перед ним огромную, совершенно новую главную книгу с незнакомым, пугающим названием балансовых счетов, таких, как «Клиенты-комитенты по комиссионно-банковским операциям». И пояснил, что это могут быть денежные документы, присланные для взыскания на комиссионных началах.
Обладая хорошей памятью, Илья запоминал все быстро. Он понял, что учет Захаром Федоровичем поставлен идеально. Главную книгу и лицевые счета по вспомогательному учету Важенин вел лично сам. Все цифры он выводил на редкость красивым почерком. Записи поражали краткостью и точностью. Было чему поучиться.
— Как тебе наша бухгалтерия? — не без гордости спросил как-то Важенин.
— Знатно, Захар Федорович, — не скрывая восторга, ответил Илья.
— У вас, поди, не так? — глаза Важенина улыбались с доброй лукавинкой.
— У нас совсем другое…
— Трудновато тебе приходится?
— Не в том дело… Больше стало заминок с обязательствами.
— С какими?
— Некоторые председатели не хотят подписывать старые, которые мы сейчас переоформляем.
— Тозовские, что ли?
— Да, бывших товариществ по совместной обработке земли.
— Почему же не хотят?
— Потому что машины и прочий сельскохозяйственный инвентарь, полученный в кредит, частью поломан, пришел в негодность.
— Какой же вывод?
— Такой, что иным хозяйствам досталось нездоровое наследство…
— Выходит, что мы вешаем на колхозы задолженность за имущество, которого уже нет?
— Выходит…
— С кого же, по-вашему, государство должно взыскивать эти суммы? — Важенин экзаменовал его с каким-то особым пристрастием.
— Юридически — с преемника, с того же колхоза, куда влилось бывшее товарищество. Государство тут ни при чем, — ответил Илья.
— Значит, взыскивать с колхозов? — спросил Важенин.
— Безусловно!
— Но инвентаря-то нет! А колхозы делают первые, не совсем уверенные шаги, и мы сразу же вешаем на них дутую задолженность, отягощаем их балансы?
— Государство отпустило в кредит машины, и за них надо платить. Бывшие члены товарищества теперь стали членами колхоза. Они несут ответственность. Так можно все растащить, исковеркать, — запальчиво ответил Илья.
— Ну что же, хорошо, что ты болеешь за государственный интерес. Это должно стать твоей священной обязанностью…
Этому разговору Илья не придал особого значения.
Как-то после занятий Важенин задержал его в своей конторе, усадил за стол и положил перед ним небольшую пачку денежных документов, раскрыл главную книгу и попросил сделать записи.
— Не спеши. Сначала, как полагается, изучи документ. Вспомни, как тебя учили на курсах.
— Помню, Захар Федорович, — Илья постарался сделать записи как можно лучше — красиво и четко.
Важенин все проверил и остался доволен.
— Теперь вполне спокойно ты можешь принять у меня дела.
— Какие дела?
— Как какие? Банковские, бухгалтерские!
— От вас? — Сердце забилось радостно и тревожно. Стать сразу старшим бухгалтером Союзколхозбанка!
— Тут произошли некоторые события. Меня обратно отзывают в исполком… А сюда я рекомендовал тебя. Товарищ Лисин тоже не против. Он назначен в наш банк управляющим.
В тот же день Илья принял дела. Листая банковские книги, не верил себе, боялся той высоты, на которую неожиданно вознесла его судьба в двадцать лет.
— Смотри, ни в коем случае не запускай записи, — напутствовал его Захар Федорович. — Не оставляй проводок на завтра. К концу дня бывает проверка кассовой наличности. На сейф должен ставить сургучную печать, а утром снимать ее. Без тебя никто не имеет права открывать сейф. В банковском деле должен быть строгий порядок и полный ажур в учете.
Илья вышел из конторы, словно в тумане. Желание поделиться с кем-нибудь своей радостью нарастало. Самым подходящим человеком для этого была Женя. Он увидел ее в дверях больницы. Помахав ему рукой, Женя сбежала по ступенькам крыльца.
— Ты знаешь, кого привезли к нам сегодня? — сказала она.
— Не знаю. Может, Купороса со слепой кишкой..
— Фи-и-и! Дался тебе Гаврила Гаврилович… — Евгения капризно выпятила губы, — Савелия. У него ожог руки второй степени. Лицо тоже задето, но, к счастью, не так сильно.
— Можно к нему?
— Конечно! Он спрашивал о тебе. Идем, я дам халат.
Савелий лежал в палате один, другие койки пустовали. Увидев Илью, он кивнул забинтованной головой и улыбнулся черными как угли глазами. Руки его были спрятаны под одеяло.
— Как ты, друг, ухитрился? — спросил Илья, присаживаясь на табуретку.
— А никакой хитрости! Жена попросила добавить в керосинку горючего. Я пошел в амбар, перепутал в темноте бутылки и вместо керосина заправил бензинчиком… Так полыхнуло, что едва успел зажмурить глаза… Пахать надо, а я вот сюда попал. А на баяне ты мне так и не сыграл.
— Ты же не заехал.
— Куда там! Знаешь, сколько груза разного прибывает. Одних машин новеньких, да таких, что сроду не видал! Понимаешь, все новое: и колхозы, и совхозы. И людей новых полно, и жизнь новая — суматошная, увлекательная. Дорогу развезло, а машина моя прет по этому киселю, сани тарахтят, скрипят на гальке. Ничего, выздоровлю, приеду на свадьбу. Уж там сыграешь!
— На какую свадьбу?
— Не притворяйся. Жениха за версту по глазам видно! — Савелий раскатисто засмеялся. От его смеха в палате вроде стало светлее. В широкое окно скользнул луч предвечернего солнца, упал на подушку. Глаза Савелия, несмотря на беду, блестели.
Вошла Женя.
— Евгения Андреевна, а жених-то отпирается!
— У меня не отопрется… — подхватив шутку, она подошла к постели и поправила одеяло.
— Такая парочка, орел и гагарочка! Ох, и гульнем же! Весь трактор увью цветами и прямо до загса!
Илья смотрел на Савелия с восторгом и в то же время сторожко наблюдал за Женей. Лицо ее напряженно вытянулось и казалось еще красивей.
Молодец, Савушка. Будто подслушал все их тайные задумки и сразу взял быка за рога…
16
Солнце давно уже скрылось за далекие степные шиханы. Дневной, угасающий свет теснили весенние сумерки. Держась за руки, Илья и Женя молча шли по переулку. Их лица ласкал горьковатый запах талой воды, смешанный с запахом лопнувших на вербе почек. Подогретый Савелием, Илья снова завел разговор о свадьбе.
— Зачем столько раз возвращаться к одному и тому же? Я ведь сказала тебе, что не могу без родителей решить этого вопроса. Ты не представляешь, что тогда будет…
— Выражаясь твоим медицинским языком, надеюсь, что не дойдет до летального исхода?
— Как ты можешь так шутить!
— Какие уж шутки! Сегодня получил новое назначение. Теперь я банкир…
— Что за банкир?
Он объяснил и сказал, что во время работы за каждой цифрой видит ее лицо, глаза и путает дебет с кредитом.
— Если и дальше так будет продолжаться, то я могу все банковские дела запустить, и меня прогонят со службы…
— Я же тебе объяснила, что мне надо побывать дома!
— Возьми отпуск и поезжай!
— С какими глазами я пойду к главному врачу просить отпуск? Двух месяцев еще не проработала…
— Поезжай за свой счет на два-три дня. Хочешь, я за тебя схожу к начальству?
— Еще чего! Вот подсохнет…
— Не могу, Женя! — Он стиснул ее ладонь.
— Не можешь — не надо! — Она резко выдернула руку.
Илья отступился. Отчужденные, они молча подошли к клубу. Там уже начались танцы. Илья пропустил Женю вперед, а сам повернулся и пошел куда глаза глядят. Долго бродил он по переулку, пытаясь успокоиться и погасить обиду.
На улице было пустынно. Скрипел под ногами последний снег, прихваченный легким апрельским морозцем. Не радовали наплывающий на станицу вечер и новое назначение.
Илья не помнил, как снова очутился возле клуба. Проваливаясь в сугроб, заглянул в окно и увидел, что Евгения с блаженной на лице улыбкой танцует с Гаврилой Купоросным.
Отпрянув от окошка, Илья выбрался из сугроба и, не разбирая дороги, быстрыми шагами пошел по темной улице домой. Ужинать не стал. Вытащил из чемодана дневник и перечитал последнюю, вчерашнюю запись. Сердце заныло. Захлестывала обида. Илья взял ручку с пером «рондо» и все перечеркнул… Лег не раздеваясь на постель. Душу разъедало противоречивое чувство — хотелось вскочить и побежать к Жене. Но вдруг там Купоросный? Нет, все надо забыть, все бросить!
Услужливая память потянула нить воспоминаний.
Как-то вечером, оставшись один и не находя себе места, Илья разглядывал висевшие на стене фотографии. Как и в любом станичном доме, они были пестры, многочисленны и слишком традиционны, чтобы привлечь его внимание. Но вдруг на одной фотографии в маленькой рамке он узнал девушку, с которой познакомился в доме отдыха. Илья долго рассматривал продолговатое, улыбчивое лицо, мерлушковую шапочку на голове. Улыбка Ольги показалась ему немножко грустной, укоряющей и будто совпадала с его душевным напряжением. Он решил взять у тетки Елизаветы адрес и написать Ольге письмо… Но, вспомнив о Евгении, тут же остыл…
А сейчас, когда Женя так предала его, хотелось думать о чем-то хорошем. Он вспомнил о днях, проведенных в доме отдыха, как о чем-то светлом и радостном, но сейчас уже далеком…
После размолвки с Женей Илья ходил молчаливый и грустный. Клуб забросил. Чтобы ни о чем не думать, он вставал чуть свет, вместо зарядки колол для хозяйки дрова. На работу приходил раньше всех, раскрывал главную книгу и погружался в дела.
— Ты уже тут? — удивленно говорил Андрей Лукьянович. — Идет дело?
— Идет понемногу, — не поднимая головы, отвечал он.
— Понемногу? — Андрей Лукьянович хитро сощурил узкие, монгольского типа глаза. — Понемногу не пойдет! Малое возьмешь и в руке не почувствуешь, проскользнет сквозь пальцы. Нас с тобой послали управлять новым финансовым хозяйством. Мы хозяева нового типа! Но люди вроде Гаврилы Гавриловича Купоросного говорят, что мы нечесаны, небриты и не знаем, что такое дебет, кредит. Ты-то знаешь, успел получиться. А из меня какой банкир? Но раз назначили, должен им стать. Большевиком стал, комиссаром был. Не сразу, конечно. Вот привез из Оренбурга полчемодана книг. Вечерами прошу у жены чистую рубашку, расчесываю бороду, как Рябушинский, и сажусь за стол постигать банковскую науку. Ответь мне: мы, что же, ведем нашу главную книгу по итальянской системе?
— Да. Этой системой пользуются везде.
— Значит, пока заимствуем?
— Пока да.
— А нельзя ли придумать нашу, советскую, систему?
— Разрабатывается принципиально новая, шахматная. Никаких главных книг, вместо вспомогательных — карточки будут.
— Есть еще какой-то учет — копировальный.
— Есть, и тоже в стадии эксперимента.
— Не слишком ли много экспериментов?
Андрей Лукьянович был личностью оригинальной и самобытной, он очень скоро понял, что такое дебет, кредит, хорошо стал разбираться в лицевых счетах, лично сам мог навести справку о задолженности кредитуемого хозяйства, постоянно был в курсе его платежеспособности. Если не уезжал в район уполномоченным райкома партии и райисполкома, то сидел за своим большим письменным столом и добросовестно изучал инструкции вышестоящих организаций, часто сердился, что в них было много туманных, непонятных слов. Илью допекал разными вопросами и уточнениями.
— Расшифруй мне, пожалуйста, что это у нас так взлетел счет убытков?
Илья открывал книгу и объяснял, из каких статей складывалась сумма убытков:
— Командировочные расходы по вашим поездкам в область по району…
— Неужели я столько истратил народных денег?
— Из колхозов-то вы не вылезаете…
Почти всю весну и лето Лисин был уполномоченным то во время сева, то в горячую пору уборки. Вот и сегодня приехал из района. Подписал баланс, похвалил за чистоту цифр и точность.
— Знаешь, Илья, Антоныч жалеет, что ты ушел. Не ладится у него с Гаврилкой. Меня поругивает, а больше — твоего предшественника.
— А Захара Федоровича за что?
— За то, что переманил…
— Но вы же сами дали согласие.
— Дал, потому что Купоросного нельзя было назначать сюда. Кстати, что ты о нем думаешь?
— В каком смысле?
— Как о работнике, о человеке.
Илья понимал, насколько может быть предвзятым его мнение, и тем не менее сказал то, что думал:
— Работник он никудышный, а человечишка еще хуже.
— Чем он плох?
Вопрос озадачил. Какие он мог привести примеры, кроме интуитивной, личной неприязни?
— Мне трудно ответить… — сказал Илья после небольшой паузы.
— То-то и оно, брат, — Андрей Лукьянович загадочно усмехнулся.
«Наверное, знает о нашей с Купоросом стычке? — подумал Илья. — В такой деревне, как станица Шиханская, тайны долго не держатся».
— Между прочим, замечаю я, что ты последние дни ходишь, как опоенная лошадь…
— Нездоровится…
— В твоем возрасте всякие недуги проходят быстро. — Андрей Лукьянович опять усмехнулся.
Прошло несколько дней. Илья по-прежнему тосковал и наконец не выдержал: напарился в бане, побрился, обрызгался одеколоном, надел все чистое, праздничное и отправился в больницу повидать Женю и объясниться с ней. Намерение не сбылось — после дежурства она ушла домой.
Вечером Илья несколько раз прошелся вдоль знакомого палисада, поглядывая на ее окна. Ему казалось, что, если он сейчас не войдет и не скажет все, что решил, — будет катастрофа…
Зная секреты запоров Федосьи Васильевны, он открыл сени и без стука вошел сначала в переднюю, а затем и в комнату Евгении. Она стояла у стола и гладила.
— Здравствуй, Женя!
— Здравствуй. Раздевайся и проходи. — Она встретила его так, будто между ними ничего не произошло.
— Ты извини, что я не постучался.
— А я ждала тебя…
— Ждала? — Илья подошел к ней, взял за руку. — Ты меня ждала?
— Представь себе… — Она закусила нижнюю губу и резко запрокинула голову. Он видел, как дрогнули ее ресницы.
— Женя!.. — Голос его звучал слабо, неуверенно. — Мне так хотелось тебя видеть. Почти каждый вечер я бродил вокруг твоего дома.
— Ну и зашел бы! — Она сжала его ладонь и поцеловала в щеку.
— Ты хоть думала обо мне немножко?
— Конечно.
— Что ты думала?
— Какой ты упрямый, настырный…
Кровь била ему в виски, щека горела.
— Такой уж уродился…
Обласканный ею, Илья решительно заговорил о женитьбе.
— Какой смысл мучить друг друга, Женя?
— Господи! Не знаю, кто кого мучает…
— Я не могу больше без тебя.
— Все так говорят…
— Этого я еще не говорил никому, тебе первой.
Илья рассказал ей о детстве, об Аннушке, не утаив ничего.
— Ты у нее только жил, и между вами ничего не было?
— Я же тебе сказал, что Аннушка, как сестра мне…
— Как сестра… — Женя поставила утюг на конфорку от самовара, села против Ильи на скамейку. — Я верю тебе, Илюша. Человек ты упрямый, знаю, что не отступишься. Значит, тому и быть. — Женя протянула ему мягкие, теплые руки…
Илья невольно вспомнил мать. Сейчас она порадовалась бы вместе с ним, сняла бы с Федосьиной божницы икону и по старому обычаю напутствовала бы словом своим. Пожалел, что не будет у них того торжества, на которое обычно приходило полстаницы.
Женя отнесла на кухню утюг и вернулась с тарелкой сдобных пряников.
— Это мама прислала. — Она поставила тарелку на стол. — У меня еще вино есть. Целая бутылка.
Пили из маленьких рюмочек, закусывали пряниками.
— Тебе придется перебираться ко мне. Я не люблю твою старуху.
— Что ты! Она очень добрая!
— Нет. У нее злые глаза…
— Ну хорошо. Завтра же я перееду.
Комната, где они сидели и пили кагор, была тускло освещена небольшой керосиновой лампой. На подоконниках стояли цветы. Знакомая кровать со свисающим цветным пологом, с острыми углами высоко взбитых подушек. Илье нравилось здесь.
Вдруг в передней что-то мягко шлепнулось об пол.
— Это кошка прыгнула с печи. Значит, хозяйка идет.
И правда, вскоре звякнула в сенцах щеколда, заскрипели половицы.
— Минутку… — Женя торопливо застегнула халат и скрылась за дверью. Она долго не возвращалась.
— Все хорошо, дорогой! — Женя пришла оживленная, нагнулась к нему и прижалась разгоряченной щекой. Никогда еще она не была такой нежной и ласковой.
— Налей рюмку вина, я угощу Федосью Васильевну.
Она снова ушла. Через перегородку слышался их приглушенный разговор, но слов нельзя было разобрать. Чуть позже в освещенном луной окне мелькнула закутанная в шаль женская тень.
— Ушла… — сказала Женя, подошла к столу и взяла с тарелки рассыпчатый пряник.
— О чем вы шептались? Ты ей все сказала?
— Да. Сказала, что выхожу замуж и что ты переедешь сюда.
— Ты чем-то расстроена?
— Сама не знаю… Это естественно…
Женя подошла к Илье, обняла за плечи.
— Поди погуляй во дворе минут пять. — От запаха ее волос закружилась голова. — Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко! — Она вдруг весело рассмеялась. — Ну иди, поздно уж…
Илья вышел на улицу. На него с завистью смотрели густо рассыпанные звезды. Он вдохнул полную грудь чистого студеного воздуха, вытащил из кобуры браунинг, нажал курок. Грянул выстрел. В хлеву беспокойно заметалась корова, всполошились на насесте сонные куры.
Когда он вошел в комнату, огня уже не было.
— Кто-то стрелял? — встревоженным голосом спросила Женя.
— Это я.
— Зачем?
— В честь нашей свадьбы…
В тот год рано наступила весна. Теплый ветер с востока разогнал сырые весенние туманы, апрель начисто съел остатки почерневших у плетней сугробов, и май потянул из благоухающей земли молодую, сочную травку.
…Первый раз за все время пребывания у Башмаковых Илья не ночевал дома.
— А мы уж и не знали, что думать, — ворчала тетя Лиза. — Евсей тоже с пашни вернулся поздно. Работал. Ужин в печке перепрел. Хлебал мой работничек один-одинешенек…
— Какая там работа! — Свесив ноги в белых чулках, Евсей сидел на печи, ругался: — Приехали мы с кумом, а моего поля и след простыл. Даже бобовник и тот с корнями перепахали…
— Так тебе же отвели загон в другом месте, — сказала жена.
— Отвели… Там залежь пятилетней давности. На своем Рыжке, да на кумовом Савраске разве поднимешь такую твердь?
— Вот и шел бы в артель…
— Ты меня, заноза, не трогай! Не тронь, говорю, казака! Рассуди ты нас, Илья Иваныч…
— Нашел судью! — усмехнулась хозяйка. — Наш Иваныч, поди, всю ночь у Фенькиной постоялки курятник стерег…
— Его дело молодое, где побывал, там и нету… Гонит она меня в артель! А пошла бы да послушала, как они в первой борозде матюгаются. Гужи лопаются, аль ярмо пополам — один орет: «Твое дерьмо!», а другой: «Нет твое!» Ждешь, говорит, такой-сякой, когда и колхоз, как твой гуж, лопнет?!
— Не лопнет! Четыреста пар быков объединили, да коней с молодняком в два раза больше. И ишо вот как машины получат… А ты сиди на печке и болтай ногами, десятины две выболтаешь…
— Не береди душу, баба, тут и так скребышит, мышь тебе в голенище! — Евсей помял в кисете табак и стал рвать газету для козьей ножки.
— Сегодня я ухожу к Федосье, — сказал Илья.
Тетя Лиза от неожиданности устало присела на скамью, стащила с головы платок, подержала его в руках, потом снова накинула.
— С законным браком, что ли?
— Да, тетя Лиза. — Илье почему-то было стыдно перед стариками. Он ушел в горницу и стал собирать вещи. Открыл чемодан, положил в футляр баян, взялся было за постель.
— Да не так! — Евсей отстранил его и принялся за дело сам. — Отвезу на Рыжке, раз такое дело.
Вошла тетя Лиза, но к вещам не притронулась, а влезла на табуретку и зажгла лампадку.
— Чего ты, мать? — спросил Евсей.
— Забыл, какой сегодня день?
— При таком кувыркании позабудешь не только день — имечко свое…
— Воскресный, и горка красная.
— Выходит, наш Илья Иваныч кстати обзавелся хозяйкой. Красивую ты, брат, заграбастал девку!
— Не с лица воду пить… — сказала тетка Елизавета.
Илья знал, что она недолюбливает Женю. «Форсу много, да и ребятишек принимает не больно ловко», — говорила она как-то, почерпнув эти новости из обычной деревенской болтовни.
— Не по себе ты, парень, ломоть отрезал.
— Не слушай ты ее! Она ведь у меня вроде степной вороны, вечно каркает…
— Зато ты больно хорош, орел… — не осталась она в долгу.
— Почему вы так считаете, Елизавета Тимофеевна? — Беспощадность тетки Елизаветы убивала Илью.
— Добрый ты, вон вроде нашего телка, незнамо куда тычешься мордой…
— Тебе бы, Лизка, колдуньей быть, мышь тебе за пазуху. Ну рази можно кусать так живого человека? Давно ли сама чуть не пылинки с него сдувала, шанежки помаслянее подкидывала, кокурки на сливочках… Аль уж тебе самой молоденький приглянулся? — Евсей подмигнул Илье и засмеялся.
— Ладно, мели, Емеля. — Хозяйка стояла на табуретке и протирала тряпкой темную от копоти икону божьей матери с младенцем.
— Чем корить парня, взяла бы да благословила иконкой заместо матери.
— Как его благословлять, когда он за всю зиму и лба не перекрестил…
— Мало ли что… Ты думаешь, я с большим усердием поклоны бью?
— Известно, всю жисть крестишься, как на балалайке тренькаешь…
Илья привык слышать эти перебранки, но сейчас злые слова хозяйки не давали ему покоя. Чем ей не показалась Евгения, которая стала для него дороже жизни? Она и заходила-то к нему всего два раза. Хозяйка приняла ее ревниво и неприветливо.
— Злая старуха и грязнуля к тому же, — уходя, сказала Женя.
Она была не права — дом Башмаковых был чистым, а хозяйка добра, справедлива, работяща. Без устали гнула она спину возле прокопченной печки, гремела то ухватами, то кочергой. Все хозяйство было на ней.
Не по душе тетке Елизавете был переезд Ильи. Он видел, как печально смотрит она на его сборы. Успели привыкнуть друг к другу и жили одной семьей.
Никто не заметил, как в дверях горницы появилась невысокая девушка в короткой, из зеленого плюша курточке, с желтым пузатым баульчиком в руках.
— Заядлым единоличникам наше с кисточкой! — звонко крикнула она с порога и помахала снятой с курчавой головы серой мужской кепкой с большим козырьком.
— Оля! Доченька! — Мать сунула икону в руки оторопелого отца и прижала голову дочери к груди.
— Видишь, и учительша наша пожаловала, — кивая на Олю, сказал Евсей Назарович. — Вот так завсегда: не ждешь, а она тут как тут…
Илья растерялся. Он не ждал этой встречи.
— Добралась-то как, Оленька? — спросил отец.
— Пешочком, батя! Хорошо по молодой травке босиком после дождичка! — Она ласково терлась лицом о заплаканную материнскую щеку.
— Видал, Иваныч! Опять же новое словечко — «батя»… Это только попов так величают…
— Не сердись, тятюня. Тех, кто из колхоза удрал, и в псаломщики не берут…
— Ладно, дочка. Ты-то хоть не дергай отца за старую веревочку…
— Не буду, отец Евсей, только не пей по всей, пей, чтобы сивухой не пахло, чтобы женушка не зачахла! — Она поставила баул на пол, кепчонку кинула на сундук, поцеловала отца, провела по его усам ладошкой и подошла к Илье. — Так это, значит, вы Иваныч? Здравствуйте! Выходит, не очень тесно в нашем тьмутараканьем царстве… — Она протянула ему маленькую руку. — Земля-то наша оказалась такой маленькой, сомкнулись тропиночки на башмаковском меридиане… Благодарите, Иваныч, всемогущего, молитесь всем троллям и эльфам. Ба, да вы куда-то собираетесь? Уж не в командировку ли? Мама так вас расхваливала, что я не утерпела, распустила своих озорников на каникулы — и сюда! Думаю, погляжу на Иваныча, который в двадцать лет тыщами в банке ворочает. У нас в Шиханске банк? Вот тебе и тьмутаракань!..
— Не слушай ты ее, Илья Иваныч. Она и маленькой была, не приведи бог, какой тараторкой! — Тетя Лиза смахнула передником набежавшую слезу, не скрывая грусти, продолжала: — Покидает нас Илюша…
— Как покидает? — Ольга смотрела то на Илью, то на мать.
— Переезжает от нас.
— Куда?
— Вроде бы к жене…
— К жене? А-а-а-а! — Лицо у Ольги вытянулось.
— Вот тебе и «а»! Вчерась еще был неженатый, а сегодня и ночевать не приходил… — Мать покачала головой, спрятала руки под бледно-синий заношенный передник и отвернулась. Она относилась к Илюшке как к сыну, были у нее свои тайные помыслы, да вот рухнули.
Состояние у Ильи было скверное. Будто в чем-то плохом разоблачили его.
«Приехала бы она днем раньше!» Эта мысль больно ужалила его. Илья почувствовал, что в жизни его произошло что-то непоправимое. Надо было скорее уходить. Он с мольбой посмотрел на Евсея. Тот понял его и пошел запрягать Рыжка.
Оля и Илья неловко молчали. Оба как будто споткнулись на этой неожиданной встрече. Илья наклонился и переставил с места на место футляр с баяном.
— Мама писала, что вы хорошо играете. Я так люблю музыку. Особенно скрипку и баян! — Брови ее сдвинулись. Она смотрела на него своими прекрасными вишневыми глазами жалостливо и преданно. Илья вдруг почувствовал в ней едва уловимое родство душ.
— И зачем вы женились? — еле слышно прошептала она, резко повернулась и исчезла за дверью, едва не сбив на пороге отца.
Евсей Назарович посмотрел вслед дочери с недоумением, взял вещи, проговорил:
— Ну, Иваныч, в добрый час.
Илья остался один. Растерянно оглядел комнату, нечаянно встретился с печальным, укоряющим взглядом только что протертой, поставленной на место иконы, которой отказалась благословить его тетка Елизавета.
После дождя снова ярко светило солнце и вся улица и дома были залиты его теплым светом. Рыжка медленно вез телегу, выворачивая копытами прибитую ночным ливнем пыль, скрипел усохшими, давно не мазанными гужами.
— Вроде и дела, как у попа после обедни, а гужи смазать все некогда, — тихо, вполголоса проговорил Евсей, хотя сказать ему хотелось вовсе не это… Он привык к постояльцу и увозил его с неохотой, сердце щемило, что оставил дома растерянную, чем-то опечаленную дочь…
— Но-о-о! Леший! Чего зыркаешь по чужим плетням, будто горшков не видал на колышках!..
Илья плохо слушал Евсея. Он ловил себя на том, что мысленно все время повторяет возглас Ольги: «И зачем вы женились?»
Башмаковский шарабан провожали стоявшие за плетнями казачки с приспущенными на лоб платками. В Шиханской, как в любой деревне, вместе с колхозными делами долго теперь будут обсуждать переезд Елизаветиного постояльца:
«Еще одна невеста прикатила под маменькино крылышко, а готовый жених в то же утро покидал монатки в телегу и марш к другой…»
Таков примерно свод простых станичных правил, хорошо знакомых Илье по Петровке.
Причмокивая языком, Евсей понукал лошадь вожжами.
— Что, Иваныч, притих? — взяв у него папироску, спросил Евсей Назарыч.
— Утро хорошее!
— После дождичка оно, конечно, дышится, а опосля… Аль не рад чему? — Евсей потянулся к Илье с зажатой в оттопыренных губах папироской. Илья зажег спичку и дал прикурить.
— Курите, дядя Евсей, курите!
— А ты что, моей Олюньке словцо какое сказал? Выскочила она из горенки и отца чуть с ног не сшибла…
— А мы с ней были раньше знакомы. — Илья рассказал о встрече в доме отдыха.
— Вон оно что-о! — Евсей резко натянул вожжи. — А чего же ты, парень, молчал?
— Не знал, что это ваша дочь, да и знакомство наше было коротким.
— Бывает и короткое, а запоминается надолго…
— Бывает… — Илья и виду не подал, что слова Евсея попали в цель.
На солнце наползла маленькая тучка, похожая на большой рваный клок дымчатого козьего пуха. Поперек улицы легла неровная полоса тени и уперлась в чьи-то ворота. Соблюдая правила воскресного дня, гармошка-двухрядка взвизгнула на высокой пронзительной ноте, и рассыпались по садам и задворкам ее заливистые, праздничные перепевы.
Женя и Федосья давно уже увидели скрипящую в конце улицы подводу, поджидали ее у открытых ворот.
17
Женя встретила Илью в светло-голубом платье, с тщательно расчесанными волосами, перехваченными розовой ленточкой. Она была свежа, эффектна и красива.
Впервые в жизни Илья ощутил прелести семейного счастья, любви и домашнего уюта. На службе он теперь не задерживался. После работы садился на купленный у счетовода Рукавишникова велосипед и катил к больнице, сажал на раму жену, и они ехали домой.
Прислонив велосипед к крыльцу, Илья шел в огород, срывал зелень молодого укропа, перистый лук и нес в комнату, где уже пахло свежим борщом или казачьей лапшой, а то пельменями.
От занавешенных окон и чистого, протертого влажной тряпкой пола в горнице было прохладно. Евгения садилась за стол и хозяйничала.
В дверях стояла Федосья и ждала, когда молодые похвалят ее стряпню. А тем что? Они могли расхвалить и пересоленные щи, и перепревшую лапшу — все им казалось съедобным и вкусным…
Широкое, лоснящееся от жары лицо Федосьи расплывалось в умиленной улыбке. В голодный год она потеряла детей, на войне убили мужа. Одиночество угнетало. Всю свою любовь и нерастраченную заботу она отдавала молодым. Старалась помочь им, услужить. Илья всеми силами поддерживал это доброе материнское чувство.
Иногда по вечерам Федосья надевала длинную, кремового цвета кофту с кружевами и оборками, садилась на скамейку и просила Илью сыграть ее любимые старинные песни. Илья играл, а она подпевала негромким, печальным голосом. Евгения не любила таких песен.
— Мне становится тягостно от вашего унылого завывания, — говорила она.
— А для меня эти песни — сама жизнь! Молода еще ты и в городу росла, не знаешь нашей деревенской маеты. Вырвут тебя из семьи, как молодую из камыша тростиночку, и почнут ломать: муженек, свекор, дети… Ну и клюнет которая с горя чужое, греховное зернышко…
— А грешили все-таки?
— Один бог без греха, — отвечала Федосья. — Не зря ить песни-то сложены…
И Федосья пела, будто колдовала с тоской в голосе…
Илья много работал над собой, читал и перечитывал работы Ленина. Пытался приохотить к чтению серьезной литературы и Женю, но она уклонялась. Ее интересовали только танцы, а из книг — любовные романы. Илья старался растолковать ей, что наступает новая жизнь, что Советская власть строит прекрасное, новое, невиданное в мире социалистическое государство, стремится сделать из нищей России цветущую, передовую страну.
— А ты ведешь себя… — Илья решил объясниться с женой начистоту.
— Как я себя веду?
— Тошно говорить… Один Купоросный с его ухмылочками… Чует мое сердце, не кончится это добром…
— Когда ты начинаешь говорить о Гавриле Гавриловиче, волосы у тебя топорщатся, как у злой собаки шерсть! — Евгения засмеялась.
— Ну зачем ты так, Женя? — Илья отвернулся.
— Ну прости, прости! Разве плохо, когда жене весело? До полуночи ты сидишь в своем банке, а домой придешь — нос в книгу! Даже под выходной день тащишь с собой конторские счета, как старый акцизный… А я хочу жить весело! Что в этом плохого?
— Кроме веселья, есть и другие заботы — служебные, общественные, наконец чувство долга. А тебя учили только нос пудрить… да книжки читать сомнительного содержания.
— Может, ты заставишь меня изучать итальянскую бухгалтерию? Боюсь, что от твоей науки я умру с тоски.
— А я люблю эту науку! — Илья посмотрел на жену грустными глазами.
— И люби, ради бога! Таблица умножения… цифири… Ой, какая проза!
Евгения отвернулась и присела к столику, где в образцовом порядке были расставлены ее коробочки и баночки.
— Для меня язык цифр — это живая жизнь, в которой есть и проза и поэзия. Не смейся! Когда я беру и начинаю читать баланс какого-нибудь хозяйства, сразу вижу, чем оно живет, как развивается, куда идет. Сухие, строгие цифры оживают и рассказывают мне все. — Он говорил горячо, убежденно.
— Ты меня все просвещаешь. Хочешь, чтобы я стала такой, как и ты, чтобы влюбилась в твой дебет и кредит…
— Я хочу, чтобы мои дела стали и твоими, нашими общими…
— А еще что ты хочешь? — Женя круто повернулась на табуретке к нему лицом.
— Ты знаешь, Женя.
— Ребенок?.. О нет! Я позабочусь, чтобы его не было…
— Ну почему? Почему?
— Все время одно и то же! Ты каждый день будешь об этом спрашивать?
Евгения взяла флакон с духами, протерла руки, лицо.
— Не знаю… — тихо ответил он.
— Не питай никаких иллюзий на этот счет. Хватит! Я хочу спать…
— Спи. Мешать не буду… — Илья посмотрел на жену недобрым взглядом, вышел в переднюю, снял с гвоздя старый овчинный тулуп. — Я, тетя Феня, на сеновале лягу.
Расстелив на сене тулуп, Илья долго лежал с открытыми глазами. С болью думал он, что близкий человек не разделяет его забот и чаяний. Спал тревожно. Проснулся от истошного петушиного крика. Захотелось поскорее увидеть Евгению и сказать ей еще какие-то слова.
Быстро вскочил, накинул на плечи тулуп. Осторожно, в одних носках, спустился по лестнице и вышел на крыльцо. Начало светать. Тихо он вошел в избу, повесил шубу рядом с плащом жены и на цыпочках прошел в горницу. Евгения спала. Она проснулась, когда он осторожно и ласково тронул ее за откинутую на подушку руку. Открыла глаза, прошептала недовольно:
— Набегался? Боже мой!
Желание говорить пропало…
Из больницы выписался Савелий Буланов и пришел в гости.
— Как живете, молодые? Пришел поздравить! — Забинтованной рукой он поставил на стол пузатую бутылку.
— Это вы зря, Савелий Архипович, — сказала Евгения и с неприязнью покосилась на Илью.
Савелий это заметил, но не подал виду.
— Ничего, Евгения Андреевна, эта жидкость ваша, медицинская. Родитель с прииска привез для лечебных надобностей. Но мы по такому случаю…
— Он идейный комсомолец, ему нельзя…
— Ну а я вовсе кандидат партии. Ничего, на мою ответственность. Я ведь не был на вашей свадьбе. Вы, поди, маленько выпили?
— Красное вино пили, — признался Илья и вздохнул.
— Уж лучше медицинское, чем поповское! Опрокинем за молодых и за мое новое назначение.
— Уезжаешь? — спросил Илья.
— Недалеко. Райком рекомендовал председателем сельпо. Ситчиком да пуговками торговать поеду. Какой, говорю, из меня председатель? Я же ШКМ[6] закончил, курсы механиков, а вы посылаете меня в бакалейщики… Ты, спрашивают, кто, большевик или нет? Тут уж баста!
Озабоченный новым назначением, Савелий посидел немного, послушал баян и ушел.
После трудного, засушливого года все ждали урожая — заколосится на безмежных полях золотая пшеница, значит, будут и калачи, и мясцо найдется на полевую похлебку.
К концу мая в банк неожиданно приехал Савелий. Он был в военной гимнастерке, в синих кавалерийских брюках — проходил военную службу здесь же, в переменном составе у Дудкина, — в больших, остроносых, киргизского образца яловичных сапогах. Подошел к Илье, как к старому знакомому, поздоровался, подняв черенком нагайки с запотевшего лба козырек военной фуражки, проговорил торопливо:
— Слушай, финансовый бог, мне нужны деньги. Много денег.
— Сколько?
— Чем больше, тем лучше, — усмехнулся он. — Дашь ссуду?
— Под какие дела?
— На заготовку скота. Райисполком обязал наше сельпо закупить у населения скот, особенно у степняков, и пустить до осени в нагул, нажировать его хорошенько, а потом отправить рабочему классу на мясо и колбасу. Есть такое решение Советской власти.
Илья все оформил. Теперь в конторе оставались счетовод и он. Илье пришлось исполнять обязанности не только главного бухгалтера, но и управляющего, и кассира, самостоятельно вести все дела. Андрей Лукьянович находился в районе, кассир Николай Завершинский, как командир запаса, был временно мобилизован военным комиссариатом для осмотра и перерегистрации лошадей, необходимых кавалерии.
Забот хватало. Составляя месячный баланс, Илья дотемна засиживался в конторе. Евгения работала в ночной смене. Нередко и ужинать приходилось одному.
— Этот долговязый кола хорошего дождется… — подавая ужин, заявила однажды Федосья Васильевна.
— Какой долговязый?
— Да Гаврила Гаврилыч, будто не знаете… Возле калитки стояли… Он все хихикал да изгибался, как сырая жердь. Первейший юбошник! И откудова только такие берутся? Говорят, Бочкареву девку сбедил по весне… В Зарецк к тетке отправили брюхатую… А в тот день, когда вы в конторе задержались, эскадронный Дудкин провожал ее. Тащился чуть ли не до самого порога…
Лицо Ильи горело, словно ему надавали пощечин. Кусок в горло не лез.
— Хватит об этом, тетя Феня, — встал из-за стола и вышел во двор. Хотел добежать до больницы, но с полдороги вернулся. Не зажигая огня, метался по комнате из угла в угол, не находя места. Открыл чемодан, вытащил браунинг, повертел в руках, отравляясь ядовитыми каплями ревности. Тяжело уснул, грея в руке рубчатую рукоятку. В таком виде и застала его возвратившаяся с дежурства Евгения.
— Ты что это, друг милый, вооружился? В кого стрелять собрался?
— Собрался…
— Не понимаю, что ты бормочешь. — Она подошла к зеркалу, встала бочком, поправляя вылезшую из голубой косынки каштановую прядь волос. И вдруг увидела в его глазах мутную, лютую ярость.
— Ты что, был пьян? Послушай, парень… — Она решила применить свой излюбленный метод: повернуть его голову, поворошить густую, жестковатую шевелюру, провести мягкой, пахнущей лекарством ладонью по щеке. Он любил ее ласковые руки, но сейчас он их ненавидел.
— Ну, знаешь, в конце концов!.. — Евгения не договорила. Стащив с головы косынку, швырнула на постель.
— Ты что, не доспал?
Он молчал. Старался погасить гнев.
— А может, ты и дома не ночевал?
— Отвечать тебе у меня не поворачивается язык.
— Объясни, наконец, в чем дело? Почему ты бесишься?
— А ты не знаешь?
— Нет. Вижу, что ты дуешься…
— Видишь? А вот если я сам увижу, что Купоросный будет тебя провожать и вихляться перед нашей калиткой…
— Ах, вот в чем дело! — Опустив руки, она плюхнулась на стул и засмеялась. — Так что же будет?
— Плохо будет, Женя, нам обоим будет плохо… — ответил он чуть слышно.
— Может быть, ты загонишь меня в курятник и запрешь на задвижку вместе с теленком, чтобы я никуда не ходила, ни на кого не смотрела? Поэтому, наверное, ты и хочешь ребенка…
— Женя! Женечка! Ты же сама… Ты же акушерка…
— Уйди! Я не могу жить с таким ревнивцем! — Евгения вскочила со стула, упала вниз лицом на кровать и заплакала.
18
…В контору Илья явился раньше всех, но делать ничего не мог — руки тряслись, перо не слушалось, костяшки счетов казались тяжелыми, как свинец. Едва он успел открыть ящик письменного стола, как с толстой папкой под мышкой в контору вошел Купоросный.
— Главному финансовому тузу привет! — крикнул он с порога.
— Здравствуй, — кратко и сухо ответил Илья, не умея скрыть в голосе неприязнь и неутихающее раздражение.
— Вы, ваше финансовое высочество, не в духе-с? Ну, что ж, понимаю! И у молодоженов бывают постные денечки…
Илья перехватил его пошленькую улыбочку.
— Гаврила Гаврилович, я на работе, и у меня много дела… А кроме всего прочего, даже в драматическом кружке, как вам известно, я не терплю ваших фамильярностей и очень прошу… — Илья умолк, словно подавился на последнем слове.
— Все понимаю и помню, Илья Иванович, — продолжал Купоросный. — Но ведь мы, холостяки, пошутить, позубоскалить любим… Ну согласитесь же! Евгения Андреевна обладает такой притягательной силой! Магическая женщина! Тут уж, голубчик, сердитесь не сердитесь… У нее сегодня, кажется, было ночное дежурство? — Сидя вразвалку на венском стуле, Купоросный самодовольно улыбался, выставив вперед длинные, в кавалерийских сапогах ноги.
Если бы на Илью в это время хоть чуть-чуть плеснуть воды, он бы зашипел, как раскаленный на каменке шкворень.
Они находились в конторе вдвоем. Счетовод Рукавишников отпросился отвести мать в больницу. Кассир Завершинский с вечера предупредил, что его вызывают в военкомат.
— Наши славные пролетарии быстро плодятся, и Евгения Андреевна, естественно, на дежурстве сильно утомляется, — разминая цепкими, костлявыми пальцами папироску, продолжал Гаврила.
— Не курите здесь! — У Ильи рябило в глазах — он бессмысленно перекидывал косточки на проволочках конторских счетов. Правила, как надо считать, мешались, путались в голове. Но Купоросный был уверен, что Илья проверяет принесенные им денежные документы, и дивился его выдержке… Он завидовал его молодости, новой должности, а особенно его красивой жене, которая симпатизировала ему.
— Женитьба, Илья Иванович, на такой красавице, как ваша Евгения Андреевна, беспокойное, хлопотливое дело… Таких жен надо любить и стеречь…
Хлопнув в ладоши, Гаврила вытянул шею. Он сидел близко возле бухгалтерского стола. Илья не выдержал и ударил его наотмашь. Удар был сильный, Купоросный отлетел к порогу. Защищая лицо рукой от повторного удара, он вдруг увидел в руках Ильи револьвер и по-собачьи, на четвереньках, выскочил в коридор.
Когда вошел Завершинский, Илья уже сидел на своем месте за столом и вытирал платком руки. Он был бледен, но спокоен.
— Что это Гаврила Гаврилович выскочил как угорелый? — спросил Николай Александрович.
— Выскочил?.. — Илья засмеялся.
— Вы смеетесь? Наверно, опять с обязательствами начудил?
— Еще как начудил! — Илья давно так не смеялся. Это была разрядка. Нисколько не осуждая себя за срыв, он радовался тому, что не спустил курок! Стараясь не думать о последствиях, Илья почему-то решил, что Купоросный жаловаться не станет — уж слишком мерзостно и трусливо он выглядел…
— Вам вот весело, а Гаврилыч даже не поздоровался. Он всегда казался мне таким импозантным, а тут мчится с растрепанными кудрями…
— Это у него сальдо — остаток былой импозантности.
— Почему былой?
— А черт его знает! Так мне, Николай Александрович, почудилось…
На душе было мерзко. Как защитить Женю от этой грязи? За ее судьбу и свою он испытывал не страх, а глубокую горечь. Несмотря ни на что потерять Евгению ему было бы нелегко.
Придя вечером на квартиру, он не застал Женю. Она снова взяла ночное дежурство. Сумерками он подошел к больнице, сел на лавочку в сторонке и стал наблюдать. Он видел, как Женя в белом халате высунулась из открытого окна. Облокотившись о подоконник, она на минутку задумалась, потом захлопнула окно и потушила в дежурке свет. Это немножко успокоило Илью.
Утром, не дождавшись жены, он ушел на работу.
— Она все время плакала, — сказала ему вечером Федосья. — Помирились бы, Илюша? Горько ей!..
Ему было тоже не очень-то сладко. На работу он пришел, будто с тяжелого похмелья. Выдавая представителям совхозов деньги, дважды просчитался. Хорошо, что люди оказались честные и вернули лишнее.
В середине дня приехал за ссудой Савелий.
— Ну как жизнь молодая? — спросил он весело.
Илья пожал плечами и ответил что-то невнятное.
— А ты, друг, с лица спал!.. Знаешь, какая у нас сейчас в полях красотища! Грачи по лугам важно шастают, на Урале сомы клюют пудовые, а у вас тут духота, пылища. Отдавай мне деньги и айда со мной на реку, переметик протянем крючков на полсотни. Бредешок найдется. Закатим такую уху!
Уехать сейчас было бы очень кстати. Дома обстановка была невыносима. Илья не мог уже видеть поджатые губы жены, вздохи и причитания хозяйки. Весь день он был рассеян, путал цифры, плохо вел записи в книгах, испачкал страницы главной.
Савелию причиталось 5000 рублей, и 4000 — по заявке райполеводколхозсоюза. Таких денег — после выдач совхозам — в сейфе не осталось, нужно было идти в сберегательную кассу за подкреплением. Попросив Савелия подождать, Илья отправился на почту. Знакомая пожилая кассирша отсчитала ему 10 пачек в плотной госбанковской упаковке — по 1000 рублей в каждой. Он сложил их в кожаную папку и обвязал веревочкой.
На улице было жарко. Прячась от солнца, он пошел по теневой стороне, вдоль высокого нового плетня.
Вдруг он увидел двух дерущихся мальчишек. Остервенело волтузя друг дружку, они сопели, пыхтели, хватали за вылезшие из штанов ситцевые, испачканные в пыли рубашки, падали, вскакивали и снова налетали, как молодые петушки. В ногах у них в пыльном подорожнике катался белый бараний череп с ощеренными зубами. Этот несчастный барашек, наверно, тоже когда-то бодался со своим собратом, а теперь валяется под плетнем и смеется над драчунами. Потешилась эта пустоглазая башка и над Ильей, когда тот, пытаясь разнять драчунов, уронил папку с деньгами. Подняв ее, долго стыдил мальчишек, читал им нотации. Косо поглядывая на него, шмыгая носами, они терли ушибленные места, препирались и буквально через несколько минут, обнявшись, шли по улице как ни в чем не бывало. Было чему позавидовать. Не то что у них с Евгенией: ели поврозь, спали в разных углах комнаты, не высыпаясь, шли на работу раздраженными, измученными и еще более непримиримыми.
Возвратившись из кассы, Илья выдал Савелию пять пачек по тысяче рублей, остальные небрежно вытряхнул из папки в сейф и, первый раз нарушив порядок, не проверил остатка, не сличил с кассовой книгой. Помешал Купоросный. Вслед за Савелием он подошел к столу и протянул чек. В глазах Ильи запрыгали четко выведенные Блиновым нули. Не глядя на Купоросного, он взял из сейфа четыре тугие, новенькие пачки и машинально бросил на стол.
— Считать или нет? — насмешливо спросил Гаврила.
— Дело хозяйское, — ответил Илья и сильно захлопнул дверцу сейфа.
— Так испугать можно… — рассовывая деньги по карманам, сказал Купоросный. — Кстати, как поживает Евгения Андреевна? — Голос у него был приглушенный, вкрадчивый.
Илья понимал, что над ним глумятся открыто и нагло.
— Почему вас не видно в клубе? Боитесь, что отобьют молодую жену? — Гаврила подмигнул Рукавишникову.
— Перестаньте, Купоросный, паясничать! — крикнул Илья.
— Ну конечно, боитесь, по глазам вижу! Меня боитесь? Правильно! Бойтесь, голубчик, бойтесь… А может быть, стрельнете, а? — От недавней оплеухи Гаврила терял самообладание и явно перебарщивал.
Илья был на грани вспышки. Никто и никогда еще не измывался над ним так бесстыдно и нагло. Даже Рукавишников не выдержал:
— Вы куда пришли, Купоросный? Что за цирк вы тут у нас в банке устраиваете? — Рукавишников швырнул ручку на стол и поднялся.
— Простите, любезнейший! — вмешательство счетовода отрезвило его. Нахлобучив на косматую голову черную кепку, Гаврила быстро вышел.
— Гадкий человечишка! Говорят, он за вашей женой пытался ухаживать?
Что мог ответить ему Илья?
— Как ни странно, а в жизни бывает, что вот такие хлыщи нравятся женщинам. Почему, Илья Иванович?
— Не знаю.
Чтобы прекратить этот обидный разговор, Илья запер стол и ушел из конторы. Домой он шел не по центральной улице, а глухими переулками — мимо старых амбаров с рыхлыми, замшелыми тесовыми крышами, вдоль скособоченных плетней. Пройдя берегом реки, перемахнул через невысокий, реденький плетешок и очутился в своем огороде. Евгению увидел издали — она стояла у калитки и смотрела на улицу, по которой он всегда возвращался.
Стараясь не наступать на огуречные плети, он медленно перешагивал через них, обдумывая, как начать нелегкий для них обоих разговор.
Увидев его, Евгения пошла навстречу, растерянно улыбаясь. Пряча руки под белым передником, заговорила сбивчиво:
— Я жду тебя… Давно уж… А ты огородами… Знаешь, я так больше не могу… — Она всхлипнула и закрыла лицо передником.
— А мне, думаешь, легко? — Сердце его тревожно забилось. Илья мог простить ей любую глупость, лишь бы она поняла, какое страдание причиняет ему ее «маленькое» кокетство.
— Знаю, милый, знаю… Прости. Я виновата… И больше об этом ни слова! Хорошо?
— Ах, Женя, Женя!
Она подошла и привычно положила теплые руки ему на плечи. Вдыхая запах укропа, исходивший от ее пальцев, смешанный с запахом знакомых духов, тонкого аромата пудры, чисто вымытой кожи, Илья размяк.
— Тети Фени сегодня нет дома. Я приготовила обед сама. Ты уж не сердись, если что не так. Ладно?
— Ладно! Разве я когда сердился за еду?
— Нет, конечно! Сама не знаю, что говорю… У соседки истоплена баня. Может, сходить…
— Спасибо, Женя. С удовольствием.
— Слушай, Илья… Сдал бы ты этот свой револьвер. Я боюсь.
— Чего ты боишься?
— Мне кажется, что с этой твоей штукой добром не кончится…
— Тебе что, жаловались?
— Нет. Просто чувствую… А, ладно. Пошли обедать.
Взяв его под руку, она повела Илью в дом. Радуясь примирению, Илья съел и подгоревший молочный суп, и недоваренное мясо, даже вытащил из компота и сжевал твердые, как резина, груши. Однако спал в ту ночь беспокойно. Мучили страшные сны: будто потерял пачку казенных денег. И лежит она, перехваченная красной дымящейся ленточкой, возле глазастого остова бараньей головы, в пламенеющем утреннем свете.
«Горят денежки…» — Голова хихикнула и оскалила мелкие ровные зубы.
Илья хотел броситься, схватить, но руки и все тело не повиновались.
«Пошипят, пошипят да взорвутся…» — снова хихикнула голова.
«Как можно доверить такому разине столько денег?» — спрашивает Витька Важенин.
Нет уже тихого переулка. Вместе с пыльным у плетня подорожником исчезла и голова. Илья стоит перед начальником милиции Кайгородовым и дает ответ, как растратчик казенных денег. Рядом с ним сидят Витька и Андрей Лукьянович.
«Недавно он пил вино и стрелял ночью. Человека собирается убить. Надо отобрать у него револьвер, — говорит Витька. Илья знает, что это от зависти. — Женился и драмкружок забросил», — продолжает Витька.
«Омещанился», — поддерживает его Андрей Лукьянович и добавляет, что оружие нужно отобрать, комсомольский билет тоже.
Илья вскрикнул и проснулся.
— Что с тобой? — Рядом с его кроватью стояла Евгения. — Ты так стонал. Мне даже жутко стало. Наверное, сон нехороший видел?
— Да!
— Мало ли снится всякой чепухи. Спи.
Она прилегла на свою постель, положила голову на подушку и закрыла глаза.
Но ему уже было не до сна — вспомнилась непростительная забывчивость.
Не пересчитал деньги, не сличил остатка по кассовой книге… Сердце запрыгало. Он поверил в сон, что в кассе и на самом деле недостает одной пачки. Он хорошо помнил, как выкинул на стол и пододвинул Купоросному несколько пачек, и даже обратил внимание, что в сейфе остались аккуратно сложенные накануне разрозненные купюры и ни одной пачки из принесенных с почты. Их же было десять! Пять выдал Савелию, а четыре… Четыре ли?
Он вскочил. Одеваясь, дрожал так, словно его только что вытащили из проруби.
— Ты куда собрался?
— Мне надо в контору…
— Так рано?
— Я вчера не проверил кассу…
— Ну так что?
— Могут быть неприятности…
— Неужели в сон поверил. Глупости!
— Нет! Не глупости!
— Ты прямо псих какой-то! Выпей хоть молока. И не кури, пожалуйста, натощак.
— Ты тоже не кури, — напомнил он.
Шел он по утренней улице, как в чаду, и дивился обыденному в домах спокойствию.
Шумно распахнув настежь тяжелую дверцу сейфа, он сразу же убедился: той десятой пачки, что приснилась ему, в кассе не было. Он вывалил все деньги на стол и с каким-то тупым отчаянием пересчитал раз, другой, разложил все знаки по их достоинствам, но от этого они не увеличились.
Недополучил на почте? Передал кому-то? А кому? Если Савелию, то он бы давно вернул, привез бы еще ночью. Оставался Гаврила Купоросный. Помнится, что ему он пододвинул к краю стола четыре пачки. Как бы там ни было, все равно придется идти в контору и объясняться с этим отвратным типом.
Он представил, как тот будет издеваться над ним. Даже думать об этом было противно. «Лучше полгода буду служить без жалованья. Если оставят на работе… А оставят ли?..»
Не уйти от разговоров с Андреем Лукьяновичем, Витькой Важениным. Как смотреть в глаза его отцу? А там из области нагрянут и ревизоры… От всех этих мыслей не хотелось не только на свет божий глядеть, но и жить. Сидеть одному в конторе стало невыносимо — потянуло с кем-нибудь поделиться своей бедой, посоветоваться. Но с кем?.. Конечно, с женой! Прежде чем запереть сейф, он еще раз проверил остаток, пересчитал на счетах приход и расход в кассовой книге — сальдо оказалось прежним.
Тихой знакомой улочкой он пошел в сторону больницы.
По заборам и крышам домов стелился золотистый, спокойный утренний свет. Просыпалась станица: кто-то звонко отбивал косу, во дворах гремели рукомойниками.
Дежурная сестра вызвала Евгению. Держась за перильца, она стояла на верхней ступеньке крыльца. Илье показалось, что за эти ночь и утро он как-то съежился, стал ниже ростом. Ни муж, ни банкир из него не вышли, а вот разиней он стал первосортным…
— Ну что? — спросила Женя и достала из нагрудного кармашка папироску.
— Сон, как говорят, в руку… — Илья протянул ей зажженную спичку.
— Не шути! — Она дунула и погасила спичку.
— Какие там шутки! Выть хочется…
— Погоди! Что за ерунда! — Она быстро сошла с крыльца и схватила его за руку. — Как это могло случиться?
— Так и случилось… Если бы вчера проверил кассу… — Он взял у нее из рук папиросу и затянулся, не чувствуя ни вкуса, ни запаха.
— Что бы тогда изменилось?
— Все-таки по горячим следам… — Жадно затянувшись, он вернул ей папиросу.
— Может, просчитался?
— Возможно…
— Ну что ты за мямля, господи! Ты же знаешь, кому выдавал деньги?
— Конечно, знаю. — Илья вспомнил, как взбесил его Купоросный, с какой злорадной, презрительной улыбочкой он клал в карманы пачки денег.
Оба долго и напряженно молчали.
— Ну что ты молчишь? — Она поднесла к губам папиросу. — А ведь все из-за твоей дурацкой ревности…
Не таких слов он ждал от нее.
— Погоди, не вешай голову! — желая поправить неловкость, сказала Женя.
Но Илья уже не слушал ее.
«Быстрее на почту! Деньги там… Конечно, он недополучил! Последние дни кассиры посмеивались над его рассеянностью, а вчера взяли да и подшутили…»
Предчувствие было настолько убедительным и сильным, что он ни на минуту не сомневался в благополучном исходе. С каждым шагом он внушал себе, что через несколько минут будет непременно держать деньги в руках.
— С полным встречаю! Здравствуйте!
Веселый, задорный голос Оли Башмаковой заставил вздрогнуть его.
— Здравствуйте, Ольга Евсеевна! — Обрадованный встречей, ответил он громко.
— Пусть Евсеевна… Когда вот так, первый раз назвали меня мои карапузы, я едва не прослезилась у всех на виду. Величают, как большую, а сейчас, озорники, Овсевной зовут… Я не обижаюсь. Хотела я стать возле плетешка и обрызгать вас водой, чтобы нос от нашего дома не отворачивали, чтобы не забывали. А вы изменились. Что с вами? Как живется у Фенюшки?
— Как живу? — Он хотел улыбнуться, но чувствовал, что улыбка получается жалкой. Нельзя было перед такими глазами ни лгать, ни лукавить. — Плохо живу, Оля…
— Плохо? Я ведь не из любопытства спрашиваю.
— Знаю. А у меня, понимаете, Оля… — Не сознавая, что делает, он вдруг рассказал ей о своей беде.
— Господи! — Она сняла с плеч коромысло и поставила ведра на землю.
Солнечный луч упал и окунулся в ведрах с водой, и она засияла радужным светом.
— И много денег?
— Тысяча.
— Тысяча! Это мое двухлетнее жалованье! — Оля быстро нагнулась, схватив кусок сухой глины, швырнула ею в кота. — Ух, злодей спиридоновский, совсем одичал без хозяина. Цыплят у матери таскает… Тыща! — Оля отряхнула руки. — Надо что-то придумать!
— Продам велосипед, баян, — сказал Илья.
— Баян? Баян продавать нельзя. Что вы! Лучше возьмите у меня все мои деньги. Нам, учителям, шкрабам, как нас называют, вперед заплатили за все лето. Правда, возьмите, Илья Иванович!
Она смотрела на него искренне и добро. От такого взгляда в горле защипало…
— А потом, знаете, что я еще думаю…
— Что?
— Найдутся ваши деньги.
— Почему вы так решили?
— Сердце подсказывает… А мы сегодня вас вспоминали, — не глядя на него, продолжала она.
— Добром или худом?
— Жалели…
— Не люблю, когда меня жалеют…
— Про вашу жену судачили… Только вы не сердитесь. Может, все это сплетни? Вы сами родились в станице, в нашем лампасном сословии, и знаете, какой у нас, у казачек, язык и телеграф беспроволочный… Как получите свою тыщу, заходите к нам с магарычом. Вместе с женой. И баян прихватите!
— С баяном можно, а вот жена…
— Мое дело пригласить. Прощайте!
Он хотел помочь ей нацепить на крючки ведра, но Оля сделала все сама, аккуратно и сноровисто.
«Как же я там, на Волге, не сумел разглядеть это чудесное жемчужное зернышко?»
С этой запоздалой мыслью и верой в удачу он вошел в помещение почты.
— Что вы, голубчик! — сказала кассирша, когда Илья изложил ей суть дела. Она посмотрела на него с искренним сожалением. — Вы же хорошо знаете, что ежедневно к концу дня мы сверяем все остатки, подсчитываем до единой копеечки!
Илья вышел. Как ни странно, после встречи с Олей Башмаковой он уже не чувствовал себя таким убитым — ее уверенность передалась и ему. Он все еще на что-то надеялся. Шел по переулку и с веселой в душе иронией подсчитывал свои сбережения, выручку от продажи баяна и велосипеда.
Переулок был глухой, безлюдный. Недаром мальчишки избрали его местом для поединка. Как и вчера, на покрытом пылью подорожнике вытянулась пестрая от плетня тень, по-прежнему из травы пустоглазо выглядывал остов бараньей головы. На листьях еще теплились капли утренней росы, тут же в ямке, вдавленной босой мальчишечьей ступней, лежала в розовой опояске, припорошенная пылью пачка денег. Когда Илья поднял ее, бумага еще хранила ночную прохладу.
19
Лето прошло незаметно, подоспела осень, оповещая свой приход каленым, пожелтевшим листом, скучно увядшей в огороде ботвой, тревожным грачиным криком и сухим, зловещим у плетней бурьяном.
…При элеваторе, на станции Шиханская, в расчетной кассе Союзколхозбанка сидел счетовод Изот Кандалов, бывший конторщик с золотого прииска, и вел расчеты за сданный крестьянами и колхозами хлеб. Порядок был установлен следующий: приемщик на элеваторе, взвесив зерно, определял пулькой кондицию, влажность, сортность и выписывал квитанцию. Хлебосдатчик шел с нею в расчетную кассу, получал наличными или же обменивал на другую, специального образца квитанцию, где указывалось, что сумма зачисляется в погашение ссуды. Районная контора банка все выплаченные суммы записывала на счет областной конторы, а те, в свою очередь, дебетовали Союзхлеб.
Такой централизованный расчет, связанный с выплатой крупных наличных сумм, был сложным, громоздким. В начале каждого месяца, а уж раз в квартал обязательно, Илья вынужден был выезжать в область для сверки взаимных расчетов. Нудная и никому не нужная была эта работа. Проще простого можно было обмениваться выписками из лицевых счетов, что и делалось впоследствии, когда бухгалтерский учет был переведен на карточную систему. Кроме поездки в область, нередко приходилось выезжать на места для проверки деятельности расчетных касс, находящихся в больших населенных пунктах обширного района.
Там сидели работники не очень грамотные, попадались и нечестные люди, чаще пьяницы из категории бывших купеческих приказчиков. Таким оказался Изот Кандалов.
Однажды Илья получил от Савелия телеграмму:
«Шиханская Сельхозбанк Никифорову.
Срочно выезжайте элеватор. Заболел Кандалов. Касса опечатана.
Буланов».Сельпо имело на станции свою торговую точку, где «отоваривали», а вернее, отпускали хлебосдатчикам имеющие большой спрос товары.
Выезжать надо было в тот же день, а на чем? Легковые машины тогда еще и во сне не снились. Лошади имелись в волисполкоме и в полеводсоюзе, но ими постоянно пользовались многочисленные уполномоченные. Пришлось обращаться к Евсею Башмакову. Илья застал его во дворе дома. Он в раздумье ходил вокруг старых, рассохшихся саней.
— К зиме, что ли, Евсей Назарович, готовитесь?
— Старую рухлядь пробую починить… Видно, уж отъездились мои раскатистые… Копылы расшатались, подреза истерлись. — Евсей пнул сапогом заскрипевший от ветхости полоз.
— У меня к вам просьба, Евсей Назарович. Не подвезете ли вы меня на станцию? — Илья объяснил причину своего визита.
— Мы, конешно, можем уважить. Нам это за милую душу… — Евсей попробовал пальцем острие топора, сдвинул на лоб в крупных морщинах облезлый, когда-то покрытый лаком козырек гвардейской фуражки и потянул из кармана старых, залатанных шаровар такой же старый на шнурке кисет.
— Нам-то што! — разминая на ладони корешки самосада, продолжал он. — Проехать на станцию для нас с Рыжкой одна радость, только вот есть одна маленькая загвоздочка…
— Какая же?
— Не в похвальбу вам скажу, Иваныч, ездить с тобой мне прямо-таки лафа! Подрядился бы и век тебя возил, хошь на Айдырлю, хошь в Таналык… Только времечко подошло такое… — Евсей с трудом подбирал слова. Никифоров знал, что он сейчас свернет на политику, торговлю и может затянуть разговор до бесконечности.
— Вы покороче, Евсей Назарович!
— Да ить коротко оно только до погоста… На днях, тоже накоротке, встрел меня приятель ваш по комсомолии, Витька Важенин. Уважительно так поздоровался, обличье такое сурьезное напустил на себя, вид сделал, будто не помнит, как я его маленького сек за набег на мою бахчу. Остановил и говорит: «Что ж, дядя Евсей, дырку, что ли, тебе в ноздре сделать да колечко вздеть, чтобы на веревочке в колхоз повести». На извоз мой намекнул частный. Я сказал ему, что отсталый я алимент и ничего со мной не поделаешь. «А мы, — говорит, — с тобой ничего делать и не будем, а пришлем окладной лист…» Вот она, не токмо загвоздка, а целый гвоздь! Ну, скажи на милость, какой из меня промышленник, коли на овес коню не могу промыслить. Окладным грозит… А дело вовсе и не в этом.
— А в чем же?
— Не может того случая забыть. Витька-то теперя в верховодах, собрания в клубе открывает, речи всякие произносит. А как меня увидит, так зачешется у него местечко, на котором в седле сидят… Даже и отец его другой раз говорит мне: «Мало, Евсей, ты ему тогда всыпал…» Нос воротить начинает. Хорошо ему так баить, сам окладные выписывает. А мне, кабы знать, я бы тогда и талинки не сломил. Хрен с ними и с дынями!
Пришлось заверить Евсея Назаровича, что не пришлют ему окладного листа, потому что доходы его самые малые и обложению не подлежат.
На элеватор прибыли вместе со счетоводом Рукавишниковым.
Опухшего, небритого Кандалова привела жена — худенькая, в помятой соломенной шляпе женщина с кроткими серыми глазами. Пока проверяли документы и кассу, Кандалов, не выпуская из волосатого рта потухшей папиросы, молчал, угрюмо следил за желтыми костяшками счетов, быстро мелькающими под пальцами Рукавишникова. Наконец после всех подсчетов утвердилась цифра в 24 рубля 68 копеек. Это была недостача, которую сейчас же и погасила жена Кандалова.
Илья вышел на улицу. Близился вечер, померк блеск тихого осеннего дня, потускнели домишки, и лишь на высокой четырехугольной трубе элеватора еще лепилось неяркое солнечное пятнышко. Над приземистыми хатенками с глинобитными крышами таинственно возвышались обветшалые постройки старой золотоносной, теперь заброшенной шахты, где когда-то работал отец Савелия Буланова. Не верилось, что здесь пудами брали жильное золото.
Савелий поджидал Илью в своей сельповской лавке.
— Проходи! Проходи! — крикнул он. Подсобка при магазине, где сидел за кухонным столиком Савелий, была совсем маленькой — вмещала, кроме стола, железную солдатскую кровать, накрытую желтым одеялом. Помещение это служило и конторкой и спальней заведующего.
— Ну, как расстался с Изоткой? — спросил Савелий.
— Мирно…
— Кто это у вас додумался доверить такому забулдыге казенные деньги?
— В анкете не сказано, что он забулдыга и пьяница…
— Надо было не в анкету заглядывать, а знающих людей спросить. Нам он давно уж известен. В свое время спиртом на прииске промышлял. А вообще, ну его к черту, этого пьяницу. Тут мы сами начинаем полыхать со своей потребиловкой…
— Что значит полыхать?
— Кооператор, сам понимаешь, должен быть не Федька с редькой, а с башкой на плечах… Есть она и у меня, кое-чему научился за лето. Как тебе известно, заготовили мы с весны, то есть купили на ваши банковские денежки, поболее пятисот голов рогатого скота и пустили его в горы на жировку. Трава там медовая, пчелки пудами нектар собирают. Благодать для любой заморенной за зиму коровенки. Несколько дней тому назад получаю от волисполкома и райпотребсоюза распоряжение: пригнать скот и передать представителям Союзмяса. Конечно, можно было бы еще не торопиться с передачей, попасти месячишко. Быки и коровы прибавили бы в весе, но приказ есть приказ. Скотину велено гнать своим ходом в Уртазым. Это километров за сорок. С гуртом послал своего заместителя Александра Спиридоновича Губина — человека знающего, башковитого. Он все закупки вел и за нагулом следил, выгоны присматривал, сговаривал пастухов. А раз он покупал и холил скотинку, ему и продавать. Отправил я Спиридоныча и вроде бы успокоился, хотя у самого душа болит, ругал себя, что сам не поехал. Мало ли что!.. Так оно и вышло. Прочитай, какую он прислал сегодня телеграмму.
«Айдырля. Буланову.
Представители Союзмяса приеме скота безобразничают, хотят на глазах нас облапошить, занижают упитанность, нечестно уменьшают вес. Моей прикидке такая ихняя махинация принесет нам агромадный убыток. Все летит прахом, денег своих такой ситуации не выберем. Телеграфьте как быть.
Губин».Я сначала всполошился, хотел седлать коня и айда туда сам. Но подумал и решил, что в таких случаях спешить не надо. Обидно — все лето скот привольно гулял, так нажировался, что на шерсти вода не держится. Мы с бухгалтером подсчитывали, какой примерно доход получим, а тут придется ссуду погашать паевыми взносами. Так не пойдет!
Савелий скомкал телеграмму.
В подсобку вошел губастый, длинноносый парень в белой, не первой свежести куртке, поставил на стол распечатанную банку консервов, достал с полки большой каравай ржаного хлеба и разрезал пополам.
— Ты, Иван, с этим не лезь, — кивая на закуску, сказал Савелий. — Я тебе сто раз говорил, вино не ставь. Сколько мне надо, я пью дома… и не по всякому бешеному случаю.
— Но у нас же гость!
— Гость приехал по делу и не к тебе. У вас тут с Изотом была сплошная масленица. Запомни, если еще раз узнаю, что стоял за прилавком выпивши, прощайся с должностью. Счетоводов и бухгалтеров маловато, а карамельки отвешивать и аршином махать пока есть кому… Ступай и занимайся, чем положено. Тут своих дел полон загашник…
Иван ушел.
— Посоветуй, Илья, что делать со скотиной?
— Не знаю, что и сказать…
— Вот видишь, а я-то на тебя рассчитывал… — с досадой проговорил Савелий.
— Лично я в убыток не стал бы сдавать.
— А как бы ты поступил?
— Велел бы Губину твоему потихоньку гнать скот обратно. Пусть жуликоватые представители являются следом и принимают здесь, на месте. Ты пригласишь понятых от сельского Совета, от колхоза. Подбери людей опытных, авторитетных, они-то уж мошенничать не дадут, да и сам ты будешь присутствовать.
— Правильно! И я думал об этом… Только вот потеря в весе! Сорок километров все-таки!
— А зачем гнать сломя голову? Пусть идут медленно, с остановками, пасутся на луговой отаве. А скотопромышленники разве на такое расстояние гоняли свои гурты?
— Верно! Ей-богу, верно! Я и сена возов пять не пожалею! Спасибо, Иваныч. Гора с плеч. Ты в самое яблочко угодил… Именно так я и замыслил, только посоветоваться не с кем было. Хорошо, что ты подвернулся. Спасибо. Помоги составить депешу Спиридонычу, чтобы позвончее, построже была.
Телеграмму отправили.
— Ну а теперь айда ко мне. Едем в Айдырлю. Не вздумай отказываться.
Трястись по кочкам более десятка верст Илье не улыбалось, да и Евгении обещал вечером быть дома.
— Сознаюсь тебе, как другу, — продолжал Савелий. — Я вдрызг разорил свою жену. Отнял у нее два пуховых платка, продал их вместе со старой гармонью, все жалованье вбухал и выписал из Москвы стобасовый баян. Ох и красота! День и ночь играл бы, если бы не эти калькуляции, расценки, сертификаты, столько всяких форсистых слов напридумали, что и порадоваться некогда! Едем, Иваныч, баста! Жену хоть маленько порадуем. Она ведь у меня беременная. Стесняется своей полноты. Больше дома сидит. А своей красавице записку пошли с бородачом, который тебя привез, что Савелий утащил к себе до послезавтра.
Приглашение Савелия было соблазнительным, но всякий раз, когда Илья отлучался из дому, его охватывали тревога и ревность.
Купоросный по-прежнему с откровенно-наглой настойчивостью преследовал Евгению, исподтишка провоцировал Илью. Он распространял о его семейной жизни всякие небылицы, расписывал Виктору Важенину деспотический характер Никифорова и намекнул, что жена его вполне закономерно отдает предпочтение другому…
Как-то Виктор сказал Илье:
— Жалко, что твоя жена не комсомолка… вертит она хвостом возле Гаврилы Купоросного… Поговорил бы ты с ней как следует… А может, вдвоем поговорим? Что она в нем нашла?
Виктор явно заблуждался насчет Купоросного. Прикрываясь добродушной улыбкой, Гаврила ненавидел комсомольцев, драмкружок, самодеятельные спектакли. На это у него были свои причины. Илье и в голову не приходило, что он ухаживает за его женой не потому, что любит…
«Нет, к Савелию я не поеду, лучше домой!» — решил Илья.
— Ладно, если не захочешь оставаться ночевать, запрягу Буланку и в один миг вечером домчу тебя до станицы. А сейчас пошли! Баста!
Спорить с Савелием трудно, да и обижать не хотелось. Любопытно было и новый баян подержать в руках. Илья написал записку и отправил с Евсеем, чтобы раньше понедельника его не ждали.
Чтобы засветло добраться, выехали пораньше. После полудня стало пасмурно. Степь была желтой, неприветливой, лишь сухая осенняя свежесть холодила лицо. Запряженный в легкий тарантас буланый конь Савелия бежал широкой, маховой рысью. Колеса, подпрыгивая на выбоинах, оставляли позади длинный шлейф пыли. Хоть и запылились немного, но доехали быстро.
Умылись и сели за стол. Выпив немного вина, Илья разомлел и стал корить себя за то, что опять поступил против своего желания: не надо было пить, а он выпил, вместо того чтобы ехать домой, очутился где-то в Айдырле.
Жена Савелия Тоня — славная голубоглазая женщина — от души угощала и жареной рыбой, и куриной лапшой, и чаем с ватрушками. После ужина Савелий взял в руки новый баян. Счастливый, довольный, в косоворотке из синего сатина, несмело прошелся по левой, басовой клавиатуре.
— Шутка сказать, сто басов! — Савелий заиграл что-то свое.
Тоня улыбнулась и нежно стала гладить ровно подстриженный затылок мужа. Все у них выходило ладно и просто.
«Вот бы и нам так», — подумал Илья. Ему вдруг стало невыносимо скучно. Потянуло домой.
Савелий поставил гостю на колени баян.
— А ну-ка попробуй!
Илья уже заранее внушил себе, что ничего у него сегодня не выйдет. Так и получилось. Новый, не обыгранный баян без привычки отягощал руки, отвечал туповато. Пальцы Ильи, плохо слушаясь, захватывали совсем не те клавиши. Чем больше он нервничал, тем хуже получалось.
— Сегодня, Иваныч, баян у тебя поет на манер нашего молодого петушка, — не умея лукавить, сказал Савелий.
— Илья Иванович устал с дороги, ему, наверное, отдохнуть надо, — заступилась за гостя Тоня.
— Спасибо за все. Отдыхать я буду дома. И все-таки я поеду.
— Да брось ты, друг, брось! Отдохнешь здесь, и все будет в порядке.
— Нет, Савелий, поеду. Надо.
— А если я не повезу?
— Пойду пешком.
— Ну и упрям же ты! Неужели соскучился? — насмешливо спросил Савелий.
— Соскучился…
— Приезжайте вместе с Женей, Илья Иванович. Я у нее, кстати, кое-что расспросила бы…
— Привезу их, непременно привезу! — пообещал Савелий.
Пока собрались ехать, на улице наступила ночь, да такая после комнатного света темная, что ничего не было видно.
— Выскочим на большак, а там месяц взойдет, — разбирая в темноте вожжи, сказал Савелий.
Оставив позади огни поселка, тарантас выкатился в степь. Редкие звезды светили тускло, холодно. Ехали хоть и не шибко, зато трясло отчаянно, в нос лезла пыль, смешанная с горьким полынным запахом. Скоро глаза привыкли к темноте, да и заметно посветлело — далеко за шиханами показался ущербный месяц, а когда он полностью завладел небосклоном, повиснув над верхушкой кургана Зор Баш[7] стало совсем светло. Ожила серая лента дороги, веселее побежал Буланка. Спугнутые лошадью, с дороги убегали тушканчики, с тревожным и жалостным свистом вспархивали куропатки. Савелий затянул песню про степь. Она навевала тоску, хотелось поскорей очутиться дома, почувствовать прелесть нагретой постели, прильнуть к теплому, полусонному лицу жены. Вот дорога стрелой взметнулась наизволок и уперлась далеким своим концом в замелькавшие впереди огни.
— Вот ты и дома! — крикнул Савелий.
Илья уговорил его не заезжать в станицу, не пугать злых казачьих собак, да и время было за полночь. Друзья простились у мостика, на окраине.
Знакомым пустынным переулком Илья дошел до своей калитки, но она почему-то оказалась запертой со двора на цепку. Оставив баул у входа, Илья перемахнул через невысокий забор, подбежал к темному окну и постучал. Никто не ответил, хотя хорошо было слышно, как заскрипел пружинный матрац.
«Крепко спит!..» — Он постучал еще раз, жадно прислушиваясь к малейшему шороху в горнице. Минуты, а может и секунды, тянулись мучительно долго. Сердце его колотилось, как у загнанной лошади.
— Кто там? — наконец услышал он голос Евгении.
В окне раздвинулась белая занавеска и показалось ее лицо.
— Ты? Так поздно!.. — простуженно сказала она.
— Прости, что разбудил. Открой!
— Сейчас! Подожди… Дай хоть одеться. — А сама не двигалась с места, перекидывая косы с одного плеча на другое.
— Ты все еще не проснулась?
— Ах, боже мой! — Лицо ее скрылось за занавеской.
Не такой встречи ждал Илья. В смятении он пошел к калитке, долго разъединял цепку и не сразу сообразил, почему так шумно и быстро распахнулась сенная дверь, да так и осталась распахнутой. Он поднял баул, вошел в калитку и, когда стал запирать ее, неожиданно услышал, как затрещали в огороде сухие будыли конопли. Купоросного он узнал по его длинной, неуклюже оседлавшей плетень фигуре, по косматой, без фуражки голове.
— Стой! Стой, гад! — заорал он и выхватил из кармана браунинг. Над старым, затрещавшим плетнем взметнулась белая тень с узлом в руках. Прыгая через грядки, Илья побежал к плетню, увидел освещенную месяцем спину и, не помня себя от ярости, дважды выстрелил. По речной луговине звучно прокатилось эхо.
В комнате тускло горела лампа. Кутаясь в одеяло, Евгения сидела на кровати, не спуская с мужа испуганных глаз, следила за каждым его движением. Видно было, как дрожали под одеялом ее руки.
Илья опустился на табуретку возле стола.
Чтобы как-то себя успокоить, он взял книгу, раскрыл и прочел на титуле: «Б. Савинков. «Конь вороной».
Личность автора Илье хорошо была известна по политзанятиям, о книге же он не имел ни малейшего представления. Полистал и наткнулся на лежащую между страницами справку:
«На основании законоположения о выборах в местные Советы Купоросного Гаврилу Гавриловича, как сына священника…»
— Чья это книга? — спросил он.
— Эта?
— Да.
— Библиотечная… Дай мне закурить!
— Можешь встать и взять сама.
— Я раздета… Боюсь я тебя… — Закрыв глаза ладонью, она всхлипнула.
— Не бойся, — он прикурил папиросу и дал ей. — Так, говоришь, библиотечная?
— Сказала же…
— Сейчас-то зачем лжешь? Таких книг в библиотеке не держат…
— Ну, наверное, подруга дала в больнице… Не все ли равно?
Она затянулась несколько раз подряд и разогнала ладонью дым.
— Опять неправда! Это книга Купоросного. Любовника твоего. Вот и справка… О нем!
— Боже мой! Лучше бы ты меня застрелил!
— Этого ты не дождешься…
Евгения громко и надсадно заплакала.
Илья устало присел к столу и сжал голову руками. Все было осквернено, изгажено и усложнено выстрелами. Ведь мог бы и не промахнуться. Пришлось бы отвечать… и конечно, еще придется.
С трудом Илья дождался, когда Женя успокоилась и заснула. Он торопливо собрал кое-какие вещи, взял баян и, стараясь не шуметь, вышел. Никогда еще не ощущал он такой жуткой, томительной опустошенности, которая в один миг решает дело всей жизни…
Он вышел на улицу. Степь полыхала розовой полоской зари. Шел мимо молчаливых домов с темными окнами.
Кроме Башмаковых, идти было некуда. Тетка Елизавета, когда он подходил к воротам, была во дворе, стояла возле сеней с хворостиной в руках. Узнав Илью, удивленно проговорила:
— Вот тебе на! А мой сказал, что ты укатил в Айдырлю. — Подозрительно посматривая на чемодан, она замолчала.
— Я, тетя Лиза, совсем к вам…
— К нам? Это что же такое?
— То самое, тетя Лиза…- — Илье трудно было дышать и еще труднее говорить, объяснять.
— Поругались, что ли?
— Хуже!
— Аль поколотил?
— Нет! Что вы!
— Теперь, говорят, чаще всего карахтерами не сходятся…
— Я вам потом все объясню, а сейчас поспать бы. — Илья едва стоял на ногах.
— Ладно. Ступай поспи. Постель чистая. Мы вчерась баню топили, если хочешь — ополоснись, вода еще горячая и парок есть вольный.
Он помылся и попарился, с наслаждением окатил себя колодезной водой и долго-долго сидел в прохладном предбаннике. Выпив парного молока, проспал почти сутки. Проснулся от сильнейшего во всем теле озноба, виски и затылок раскалывались от страшной головной боли.
«Будет даже хорошо, если похвораю немножко, подольше никого не увижу». Мучительно захотелось, чтобы, как в детстве, положили на голову ласковую, прохладную ладонь…
В понедельник утром в дверях горницы он увидел кассира Николая Завершинского.
— Я был у Федосьи. Она мне сказала, что супруга ваша вчера уехала в Зарецк к родителям, а вы будто бы снова сюда…
Гость пододвинул табуретку, сел, заложив пальцы за пояс коричневой вельветовой толстовки.
— Вас хотел бы видеть Андрей Лукьянович. Он обеспокоен.
— Чем?
— Запоем Кандалова. А потом, что за история вышла с гуртом скота? Вы, кажется, были у Буланова?
— Был.
— Так, значит, это вы посоветовали ему вернуть скот обратно?
— Да.
— Вы-то зачем вмешались?
— Потому что не хотел, чтобы какие-то нечестные люди обобрали сельпо.
— Пусть бы разобрались на месте…
— Некому там было разбираться.
— Ну и скотину гонять сорок верст туда и обратно тоже не дело!
Илья стал горячо доказывать, что если организовать перегон с умом, то ничего скоту не будет, да и жуликов нельзя поощрять.
— В этом вам с Булановым придется убеждать исполком. Туда поступила жалоба. Ее будет рассматривать президиум.
— Ну что ж, поправлюсь и пойду. — Илья попытался подняться, но не смог.
— Лежите, — сказал Завершинский участливо. — У нас еще одна новость есть. Из Полеводколхозсоюза исчез Гаврила Гаврилович!
«Исчез!» У Ильи все внутри задрожало. Скрылся. Но ведь он будет снова ходить по земле, пакостить всем, дурманить головы девчонкам… Илья закрыл глаза от беспомощности и обиды.
— Ладно, Илья Иванович, все перемелется… Поправляйтесь. Пришлем вам доктора.
Вместо врача неожиданно появился Андрей Лукьянович. Он был в своей потертой кожаной куртке. Помахав с порога рукой, спросил:
— Почему, голубь, тут лежишь, а не у себя дома?
— Переехал…
Илья любил Андрея Лукьяновича. Только он мог правильно понять все. Илья рассказал ему о Кандалове, об истории с гуртом, о поездке в Айдырлю, о ночном происшествии.
— Ну и наработал ты, парень! — Андрей Лукьянович озабоченно покачал головой. — Небось выпил?
— Да и выпил-то всего две-три рюмки красного. Пока доехали, все выветрилось. Голова была свежая… Все это назревало давно… — В порыве откровенности Илья выложил все, что так мучило его последнее время: и о неудавшейся семейной жизни, и о подлостях Купоросного, и о том, как собирался отомстить ему.
— Только этого не хватало, чтобы припаять тебе еще и преднамеренное покушение… Дело-то, сам знаешь, какое!
— Сейчас-то понимаю… Все время испытывал я к нему физическое отвращение. Меня лихорадило, когда он появлялся в конторе, кривил в улыбке губы, постоянно шантажировал, подкалывал… Это ведь такая поповская гнида!
— Поповская — это еще туда-сюда… — тихо, словно про себя, сказал Лисин.
— Исчез, говорят…
— Никуда он не исчезнет. Но даже и такой оборот не меняет дела… Где твой револьвер?
Илья с отчаянием сунул задрожавшую руку под подушку и нащупал кобуру.
— С оружием нужно уметь обращаться. — Андрей Лукьянович взял браунинг, обмотал ремень вокруг кобуры и сунул револьвер в портфель. — Так-то вот лучше будет… Выздоравливай, а потом уж будем разбираться…
20
Заседание президиума исполкома долго не начиналось: опаздывал главный виновник событий — Савелий. Вчера он допоздна передавал вернувшийся из Уртазыма скот.
За широким окном на осеннем ветру уныло раскачивались оголенные акации. Так же неприглядно и пусто было на душе у Ильи, когда он рассказывал об истории с гуртом.
Выслушав в предварительном порядке его объяснения, собравшиеся, обменявшись репликами, гадали, в каком все же состоянии по чернотропью вернулся из Уртазыма скот, во что такое путешествие обойдется потребительскому обществу, как и чем закончилась вчерашняя передача представителям Союзмяса.
Обсуждая создавшееся положение, на Илью перестали обращать внимание, и только Витька Важенин, примостившийся на подоконнике с толстым блокнотом в руках, въедливо закидывал его вопросами:
— Где была твоя комсомольская бдительность? — строго спрашивал он.
— Выпил вместе с кагором… — ответил Илья негромко.
— Посмотришь, что тебе всыпят на закуску…
— Ладно, рыжий, не заскакивай вперед и не терзай зря парня, — обращаясь к сыну, сказал Важенин. — Мы тут не судьи, а старшие товарищи.
— Верно, Захар Федорович, верно! — вступился Лисин. — Не так уж проста она, жизнь-то…
В коридоре послышался шум.
Стуча подошвами кованых сапог, в распахнувшуюся дверь стремительно вошел крупный черноусый мужчина в короткой, из желтой кожи, тужурке, подбитой серым мехом, в широком, круглом, с лисьей опушкой малахае. Следом за ним появился Савелий в измятом брезентовом плаще, с кистистым кнутом в руках.
— Прощения прошу за внезапное вторжение! — снимая с курчавой седеющей головы малахай, басовито проговорил вошедший.
— А-а-а! Архип Гордеевич! — Председатель Сазонов встал и шагнул ему навстречу.
— Был у своих дружков на шахте, ну и к сыну завернул по пути. Нечаянно врезался там в бычий табун. Забавно, товарищи, получается!
Буланов-старший обвел всех приветливым взглядом. Живо, умно поблескивали его темные, выразительные глаза — они особенно выделялись на смуглом, скуластом лице, подчеркивая характер — открытый, добрый, вместе с тем смелый и сильный.
По веселым, радостно оживившимся лицам присутствующих было заметно, что здесь все хорошо знали этого великана и уважали.
Еще раз извинившись, он расстегнул крючки тужурки и попросил слова.
— Узнал я, зачем вы тут собрались, потому и решил заглянуть… Не подумайте, что в стычке с уполномоченными Союзмяса я хочу покровительствовать своему сыну. Мы, шахтеры, тоже не прочь похлебать наваристых щей. Теперь ведь не времена Кешки Белозерова из компании «Ленаголдфилдс», когда он нас сначала потчевал кониной тухлой, а потом горячим свинцом угощал… Сейчас мы добываем желтых, волшебных таракашек не для Альфреда Гинзбурга и лондонских банкиров, а для всего трудового народа, чтобы можно было побольше тракторов купить и автомобилей. Рабочий народ мыслить должен по-государственному. А вот представители из Союзмяса — это какие-то торгаши, прасолы бывшие, с хищной нэпмановской закваской. На моих глазах они пытались обмануть кооператоров, погреть руки.
— Еще по осени они зазывали мужиков в горы вместе со скотом, торговались там, платили выше установленных заготовительных цен. Нам пришлось принять меры! — неожиданно вмешался начальник милиции.
— Видите, фирма-то государственная, а дела прасольские! — подхватил Архип Гордеевич. — Но эти молодцы забыли, что мы — Советская власть и народ свой в обиду не дадим. Не позволили обобрать пайщиков — и баста!
— Мы тут что-то недоработали… — заметил Сазонов. Он внимательно слушал энергичную речь знаменитого шахтера и революционера.
— А еще, товарищи исполкомовцы, зачем вы назначили сдачу гурта в Уртазымских горах? — спросил Буланов-старший. — Это же удобная для жуликов позиция! В лощине командный пункт — и никого от наших волостей… Почему там подвизается представитель полеводсоюза некто Купоросный, пишет ведомости, суетится чуть ли не возле каждого быка, а сам незаметно потворствует нечестным людям?
— Он уже не работает в полеводсоюзе, — сказал Андрей Лукьянович.
— Это уже известно… Я попросил знакомых ребят из ОГПУ прощупать этого молодца. А они смеются и говорят, что его и щупать нечего, это бывший петлюровский офицер! Видите, чем заканчиваются такие наши забавы…
…Позже, на заседании бюро комсомольской ячейки, разбирая дело Никифорова, Виктор Важенин выразился так:
— Скажи спасибо Архипу Гордеевичу, что он вовремя притушил твои гусарские похождения со стрельбой… Конечно, такому типу, как твой Купоросный, не грех было бы прострелить хотя бы ухо… Но закон есть закон. Если каждый начнет спускать курки, когда ему вздумается…
Виктор настоял, чтобы Илье записали строгий выговор.
21
Бабич прибыл в Шиханскую, когда улицы были засыпаны первыми осенними листьями. Знакомясь с делами района, несколько дней он ездил по колхозам и совхозам. Вернулся домой на свою холостяцкую квартиру поздно вечером, напарился в бане, а рано утром уже был в волкоме партии. Лисин застал друга за чтением какой-то книги.
— Ты еще находишь время читать?
— А ты знаешь, что я читаю?
— Наверно, то, что читал Кутузов перед Бородинским сражением, — пошутил Лисин.
— Не помню, что читал Кутузов перед Бородинским сражением, а я вот Ленина читаю и примеряю его высказывания к сегодняшнему дню. Уж больно он хороший собеседник! Только вчера, снова — в который раз! — перечитал статью «Головокружение от успехов» и вспомнил выступление Владимира Ильича на Восьмом съезде партии. Какое же умное, глубокое предостережение насчет середняков! Ты только послушай:
«Нам нужно было спешить во что бы то ни стало, путем отчаянного прыжка, выйти из империалистической войны, которая нас довела до краха, нужно было употребить самые отчаянные усилия, чтобы раздавить буржуазию и те силы, которые грозили раздавить нас. Все это было необходимо, без этого мы не могли бы победить. Но если подобным же образом действовать по отношению к среднему крестьянству, — это будет таким идиотизмом, таким тупоумием и такой гибелью дела, что сознательно так работать могут только провокаторы. Задача должна быть здесь поставлена совсем иначе. Тут речь идет не о том, чтобы сломить сопротивление заведомых эксплуататоров, победить их и низвергнуть, — задача, которую мы ставили раньше. Нет, по мере того, как мы эту главную задачу решили, на очередь становятся задачи более сложные. Тут насилием ничего не создашь. Насилие по отношению к среднему крестьянству представляет из себя величайший вред»[8].
Последнюю фразу Ленин подчеркнул. А мы взяли да и забыли об этом ленинском предостережении. В деревне стали появляться скоропалительные люди, которые порхнули туда из города, приехали, покалякали и разъехались. Вместо уважения они вызывали насмешку. Вот каким духом проникнут доклад Владимира Ильича о работе в деревне.
— Ох, как это верно. Завидую. А я последнее время обложился книгами о финансах — дебете, кредите — и не помню, когда держал в руках хорошую книгу. Только мало-мальски познакомился с финансовой наукой, а тут реорганизация — колхозные банки ликвидируются, полеводсоюзы тоже на ладан дышат… А мы снова вперед, вперед!..
— Об этом тоже хорошо пишет Владимир Ильич. Вот послушай:
«Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость»[9].
Жизнь всегда колеблется между двумя полюсами — теорией и практикой, потому она и есть жизнь с ее вечной борьбой… Выходит, поторопились с полеводсоюзами и колхозными банками, практика не подтвердила теории?.. А может быть, опыта набираемся? — спросил Бабич.
— Может быть… — задумчиво ответил Лисин. — Полагаю, что всякому молодому государству присущи ошибки, да еще такому новому, невиданному, социалистическому…
— А не многовато ли у нас очевидных грубейших ошибок! — продолжал Бабич. — У меня здесь на столе и дома целая стопа протоколов общих сельских собраний и куча самых хвастливых рапортов о создании коммун с решением обобществить все тришкины кафтаны… А ты, Андрюша, тоже как уполномоченный волкома свою ручку прикладывал.
— Не отрицаю. Была установка твоего предшественника…
— Установка… — Бабич покачал головой. — А сам ты как на это смотрел?
— Пробовал возражать, так он мне тут же пришил правый уклон и еще кое-что похлестче…
— А ты как член бюро волкома убоялся защищать правду? — Бабич перегнулся через стол.
— У тебя больше зрелости и опыта. Это я признаю… Но если бы я убоялся, то, поверь мне, ты бы еще не скоро сел в это кресло.
— Значит, дрался?
— Дошел до губкома.
— Верю и знаю!.. Молодец!
— Ладно, ты побольше меня ругай и поменьше хвали…
— Ты прав. — Бабич глубоко задумался. — Чем выше пост, тем суровее служение. Не помню, откуда вычитал… Слишком устремились вперед, оставив позади завоеванное пространство неосвоенным. Вместе с отсталостью, бескультурьем много говорим, разглагольствуем о пролетарской культуре, а нет, чтобы лишний раз заглянуть в статьи Ленина… Приехал я прошлой осенью в одну из станиц. Тут же ко мне является такой бравый, молодой казачок, называет себя председателем коммуны и говорит: «Нашло на нас, товарищ Бабич, пробуждение, не схотели мы возиться с какой-то там сельхозартелью и порешили махнуть прямо в коммуну…»
«А еще что вы порешили?» — спрашиваю я председателя.
«Мы создадим крупную, многоотраслевую коммуну… Объединим не только скот, инвентарь, но и все виды промыслов: рыбаков, кадочников, лодочников, пуховязальное товарищество, потребительскую кооперацию, ну и прочие всякие отрасли, какие найдутся».
Паренек явно почувствовал себя на высоком посту… Пришлось притормозить… Направили туда рабочего коммуниста с большим партийным и житейским опытом.
— А ты знаешь, Ефим, мне этот парнишка твой, коммунар, ей-богу, нравится.
— Это же Федор Петров, кандидат в члены партии, дружок твоего бухгалтера Никифорова. Как он тут?
— По-разному…
— Шибко разносторонний, что ли?
— Есть и это… Руководил драмкружком. Селькор. Посылаем учиться на высшие курсы финансовых работников.
— Почему, Андрей, ты все в общих чертах говоришь?..
— Понимаешь, дело семейное… Стрельнул в одного прохвоста… — Андрей Лукьянович рассказал, что знал.
— Ну а нашлись здесь люди, способные понять поступок твоего подчиненного?
— Почему же нет? Для такого поступка у него были все эмоциональные основания… Я, например, хорошо его понял, только пришлось отобрать револьвер…
— И где сейчас этот револьвер?
— Пока у меня.
— Принеси, пожалуйста, его мне.
— А что, у тебя нет личного оружия?
— Так вышло… — Бабич рассказал историю с браунингом. — Передай Никифорову, чтобы он сегодня же зашел ко мне.
— Хорошо, передам. — Лисин попрощался и вышел.
В коридоре он столкнулся с Ильей.
— Вот и кстати. Иди, тебя ждут. Да выше голову.
— Проходи, садись, банкир. — Ефим Павлович подал Илье руку.
— Кончилось мое банкирство… — Илья сел напротив.
Он удивился, как свежо и молодо выглядит Ефим Павлович в новой защитной гимнастерке с аккуратно подшитым подворотничком, с коротко остриженными волосами.
— Ты думаешь, что кончилось? — спросил Бабич.
— Вы же знаете, нас ликвидируют.
— Не ликвидируют, а сливают.
— Год с небольшим поработали и уже сливают… Почему?
— Союзколхозбанк провел большую организационную работу, переоформил все обязательства бывших товариществ по совместной обработке земли, единоличников, получивших машины в кредит, ставших членами колхоза. Государственный банк к такой работе был не готов. Теперь же он получает подготовительный аппарат работников и может безболезненно принять на себя кредитование сельского хозяйства.
— Сейчас все учреждения и промышленность переводятся на безналичные расчеты, — сказал Илья.
— Все это связано с хозяйственным расчетом и кредитной реформой. — Ефим Павлович взял со стола маленький складной нож и мягкими, плавными движениями стал подтачивать карандаш, который все время вертел в руках. — Говорят, Владимир Ильич любил зачинивать карандаши.
— Не знаю… — растерянно пожал Илья плечами. Он был в напряжении, как натянутый лук…
Бабич изучающе посмотрел на Илью.
— Значит, снова едешь учиться? — подравнивая кончик графита, спросил Бабич.
— Если пошлют…
— А если не пошлют?.. Есть причины не посылать?
— Я, Ефим Павлович, и так наказан. Знаю, вы имеете в виду… — он не договорил и опустил голову.
— Тебе отлично известно, что я имею в виду…
— Если надо, я готов еще раз исповедать свои грехи…
— Не хочу. Я не поп… Мне просто не по душе твоя дикость, — жестко сказал секретарь волкома. — Выстрел, какой бы он ни был, никого еще не делал счастливым…
— Какое там счастье!.. Я понимаю, что поздно оправдываться… Но неужели я не вправе был взбунтоваться?
— Ты хочешь, чтобы я подошел к тебе с другой стороны? Изволь. Обязан был уберечь жену. А если она оказалась дурочкой, разглядеть должен. Вот Анна Гавриловна всех разглядела, взбунтовалась и не думала ни о каких правах. По выдержке, силе воли, а может, и по уму она звездочка не последней величины… — Ефим Павлович встал и прошелся по кабинету легкой, невесомой походкой бывалого кавалериста.
Илья понял, что он видел Аннушку, а может быть, и побывал в Чебакле.
— Анну Гавриловну мы приняли в партию, и она будет заочно учиться в ветеринарном институте.
— Рад за Аннушку.
— Я тоже, — ответил Ефим Павлович и улыбнулся.
22
Уходя от Бабича, Илья уже не ощущал прежней тяжести.
По совету Андрея Лукьяновича, он запретил себе думать о случившемся. Все ушло в прошлое…
Передав дела новому хозяину — Государственному банку, Илья решил ехать в Зарецк и разыскать там Олю Башмакову.
Остановился он в гостинице — бывших номерах домовладельца Коробкова, — в люксе.
Школу, где работала Оля, он нашел быстро.
В ожидании конца урока Илья сел на школьном крыльце, недавно выкрашенном желтой краской. Широкая площадь с клочьями сена, старый собор с зелеными куполами, гостиница из красного кирпича озарялись теплыми осенними лучами.
Осколком отживающего нэпмановского времени по площади унылой трусцой проехал извозчик на пролетке с кожаным верхом. Ветерок замел следы резиновых шин и засыпал остатками звонкой осенней листвы.
Прозвенел звонок. Орава истошно галдящих наголо остриженных мальчишек шустро скатилась с крыльца и рассыпалась на плотно утоптанном школьном пятачке. Нелепо размахивая руками, они прыгали, садились друг на друга верхом.
Наконец на крыльцо вышла Оля. Зеленая куртка была небрежно накинута на плечи. Не виделись они почти год. Илье показалось, что она выросла и похорошела. От волнения и студеного воздуха лицо ее стало румяным.
— Милый шиханский банкир! Какими судьбами? — Она подхватила Илью под руку и повела вдоль решетчатой ограды школьного палисада. — Как хорошо, что ты зашел!
— Уезжаю. Вот и зашел попрощаться, — ответил он смущенно, потому что за спиной пронзительно орал мальчишка:
— Тили-тили тесто — жених и невеста!
Румянец еще сильнее обжег Олины щеки; повернув голову, она крикнула:
— Замолчи, Бирюков, и приготовь свои большие уши!
— Ура! Ура! — подхватили мальчишки. — Бирюку будут уши драть! Рвать! Драть! Напрочь оторвать!
— Вы и на самом деле треплете их за уши?
— Не всех… По выбору… — ответила она, глядя на Илью своими вишневыми глазами, и добавила: — Тех, кого шибко люблю…
— А работу свою любите?
— Еще как!
Она помолчала.
— Скажи, Илюша, тебе действительно хотелось видеть меня?
— Очень, Оля! — быстро ответил он, потому что это была правда. Сердце ликовало: Оля обращалась к нему, как к близкому человеку.
— Когда ты уезжаешь?
— Скоро… — неопределенно ответил он.
— Как скоро?
— Может быть, завтра…
— Завтра? — Оля сразу погрустнела. — Где мы встретимся? Говори скорей, а то я опоздаю на урок.
— У входа в гостиницу.
— Нет, это не совсем удобно. Лучше приходи сюда, к школе, посидим на крылечке. — Она помахала рукой и убежала.
Вечером Илья надел свой лучший костюм, легкое темно-синее пальто и пошел к школе.
Олю он увидел издалека. На ней была круглая шапка-кубанка из коричневой бараньей шкурки, короткий, из синего кастора полусак, отороченный такой же мерлушкой. На ногах модные по тому времени остроносые сапожки из желтого хрома, над которыми долго, на его глазах, трудился Евсей Назарович.
Илье хотелось броситься к ней навстречу и рассказать все начистоту о своей боли, которая еще не утихла. Только она могла понять его правильно.
Точно угадав его мысли, Оля сказала:
— О том, что с тобой случилось, мне написала подруга и мама. А что произошло с женитьбой, наверное, было неизбежным, что ли… — Повернувшись к нему, она не спускала с его лица пристального, изучающего взгляда.
Многое хотелось сказать ей, но Илья не смел. Одно знал твердо: что забыть эту девушку ему будет невозможно. Комкая в кармане носовой платок, Илья устало опустился на верхнюю ступеньку школьного крыльца. Оля села рядом.
Осенний вечер был тихим, светлым. В домах и на улице начинали вспыхивать редкие огни.
— Как там мои батя с мамой?
— Все по-прежнему.
Незаметно разговорились. Стали вспоминать о жизни в Шиханской, о доме отдыха.
— Ты тогда торопилась домой, сапожки вот эти хотелось примерить. А мне нужно было почитать тебе свои дневники… Так получилось, что и адреса твоего не успел записать… А там учеба, дела…
— Ты как будто оправдываешься… Ничего не поделаешь, меня всегда домой тянет. — Оля вздохнула. — Еще летом, когда ты потерял казенные деньги, я чувствовала, что в твоей женитьбе не все было искренним и чистым… Ты меня прости за этот разговор. Я всегда говорю, что думаю.
— Это хорошо, Оля! — От ее слов в душе у него что-то дрогнуло.
В казарме кавалерийского полка проиграл вечернюю зорьку трубач.
— Мне пора, Илья Иванович… Дома ворох непроверенных тетрадей. Если ты не уедешь, завтра заходи. Поговорим… — Она провела теплой, ласковой ладонью по его лицу и, легонько пожав ему руку, исчезла за школьной дверью.
…Из города Илья уехал ночным поездом. Он не мог позволить себе остаться даже на один день. То, что произошло за последнее время, пока не давало ему права на это. «И как было бы хорошо и чисто…» Боль от таких слов не утихала. Он с грустью отдался облегчающему чувству свободы и временного отдыха. Так было и в Петровке, когда они с братом засевали последнюю десятину, вытаскивали бороны на межу, складывали на телегу и ехали домой, где их ждала горячая баня, хрустящий березовый веник, улыбки родных и близких, сующих им в руки чистое белье и кусок мыла. Тогда он знал, что завтра не надо вставать рано, идти по холодной росной траве, искать в утреннем тумане посапывающих на пригорке быков и тащить за рога к ярму. Это был радостный отголосок светлых воспоминаний, которые еще нередко вспархивали в сознании, как под ногами степные перепела, покидающие весенние гнездовья. Уезжая, он надеялся на будущую встречу, а надежда — одно из самых прекрасных человеческих свойств.
Поезд мчался вперед, покачивался и потрескивал старенький вагон. В окно врывался знакомый горьковатый дымок, напоминающий родную уральскую степь.
Примечания
1
Восемь мер — восемь пудов.
(обратно)2
В. Ф. Воробьев. Оборона Оренбурга. М., Воениздат, 1938.
(обратно)3
Камгак — перекати-поле (местное, уральское).
(обратно)4
Бара берь — все равно (татар.).
(обратно)5
Матузок — веревка (укр.).
(обратно)6
Школа крестьянской молодежи.
(обратно)7
Зор Баш — большая голова (казах.).
(обратно)8
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, с. 199—200.
(обратно)9
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 390.
(обратно)





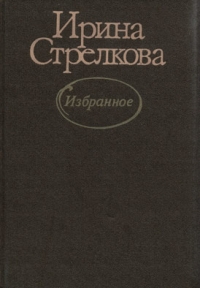

Комментарии к книге «Пробуждение», Павел Ильич Федоров
Всего 0 комментариев