Александр Яковлев МУЖИК[1]
Начались дни тяжелых переходов. Утром не знали, где будут в обед и где ночь сночуют. Города, люди, небо, полки, роты, перелески, обозы, мосты, пыль, храмы, выстрелы, орудия (или, как говорили солдаты, урудия), костры, крик, кровь, острый запах пота — все тучей изметнулось, давило мозг и казалось сном.
Голодали порой. Порой наедались до дурноты.
Пили воду прямо из ручьев: хороши они здесь, — ручьи-то, — светлые, как слезочка; с устатку пьешь — не напьешься.
Сражались мало, все больше ходили.
Солдаты к вечеру угрюмели от усталости, искали, на ком бы сорвать злобу.
— Попадись теперь австрияк, зубом бы заел!
Впрочем, это так, больше от истомы походной.
К утру отдохнут, подобреют, и опять шутки, смех, — на бронзовых лицах зубы словно огоньки мелькают.
— Пильщиков, а ну, расскажи, какой ты сон нынче видел?
И все, сколько их есть вокруг — вся полурота, — все посмотрели, улыбаючись, на Пилыцикова. А тот возился у костра — этакий здоровый, в зеленой рубашке без пояса, ворот расстегнут.
Возьмет сук в руку толщиной — р-раз! — и сломает о колено и в огонь: нет ему больше удовольствия, как костры разводить.
— Ныне, братцы, я в Шиханах был. Будто по своему двору с сыном ходил. А он на меня смотрит этак бочком, глаз-то у него синий да большой такой… К чему бы это?
Пильщиков помолчал и, сделав свирепое лицо, дунул в костер — искры столбом полетели.
— Беспременно опять получишь крест, — сказал насмешливо кто-то.
— Не. Такие сны я часто вижу. А когда крест получить, я будто женился…
— Хо-хо-хо! Вот он… От живой-то жены, да опять женился?
— Ей-богу. Я и сам удивился. «Я, говорю, женатый уж».
А мне говорят: «Не, ты еще раз женись. Одна жена хорошо, а две в беспример лучше». — «Не водится, говорю, у нас так. Мне и одной довольно. Я человек расейский, не татарин какой». Упираюсь так… А они все свое. Так и женили. Утром проснулся — сам смеюсь, думаю, к чему бы это. А потом вдруг ротный бумагу: Пилыцикову крест. А, будь ты неладна. Так оно все занятно.
Солдаты зубоскалят. И ни усталости, ни злобы…
А труба уже сбор играет:
— Готовься!
И опять поход, новые места, опять дороги, города, орудия, пыль, крики, выстрелы — усталость.
А Пильщиков… ему что, кряжу, делается. Он этакий ровный всегда, хозяйственный, ходит, пытливо посматривая по сторонам, на рощицы, на сады, на домики и нет-нет да свое любимое словцо протянет:
— Заня-ятно!..
Протянет вслух и ни к кому не обращаясь.
Или вдруг заговорит о том, что на душе у него, и нимало не заботясь, слушают его или нет.
— И вот, братцы, чуда какая. Гляди, и церкви наши, и народ по обличаю наш, только говорят, как в рот каши набрали — не поймешь сразу. Особливо церкви. Намедни я зашел в одну, все крестятся по-нашему, иконы наши, бог Салавоф в кунполе нарисован — наш, — этакий же седой да бородатый. «Иже херувима» и та наша. А вот воюем… Чудно!
И умолкал. Серыми пытливыми глазами смотрел кругом, задумывался, круто заквашенный, неповоротливый.
— Заня-ятно!
Раз отряд шел целый день, преследуя уходящего врага.
Враг, или, как говорят солдаты, «он», был где-то рядом. Еще не успевали дотлеть костры, зажженные им, еще четко виднелись в дорожной пыли следы кованых сапог, и чудилось порой, что в воздухе носится запах гари и пота, оставленный австрийцами.
— Вот-вот «он».
К вечеру стало известно, что «он» остановился, может быть готовый завтра дать бой.
И, как вода в запруде, стали собираться роты и полки и стеною растекаться по фронту.
Рота, где был Пильщиков, расположилась подле леска, огороженного деревянным забором с каменными белыми столбами. В стороне была чистенькая изба с высоким коньком — там поместился сам ротный. Усталые солдаты, радуясь отдыху, живо притащили соломы, сучьев из леса — на разжигу ломали забор, — зажгли огни. Где-то недалеко, вот будто за этим лесом, слышались выстрелы, но они были привычны, как писк комара для лесника, и никто не думал о них.
Пильщиков разогревал в котелке кашу.
В темнеющем молчаливом воздухе потянуло дымом, и четко слышался треск сучьев в рощице, куда солдаты ходили за дровами.
Над дальним лесом догорала зеленоватая заря, и небо было темно-бирюзовое, и на нем уже загорались робкие звезды. Только солдаты поужинали, вдруг из избы толстоусый фельдфебель, тот самый, которого в полку втихомолку звали сазаном:
— Ребята, кто нынче в разведку?
Так и обомлели все.
Вот тебе и отдых. Это после таких-то переходов идти в разведку? Избави, господи! Ноги же у всех подламываются.
Притаились все, съежились, и сразу угас смех.
Но понимают: надо же кому-нибудь идти.
И от этого сознания сердитый мороз побежал по коже.
А фельдфебель уже идет от одного костра к другому и все спрашивает:
— Ребята, кто в разведку?
— Вот Пильщиков, ему надо идти! — сказал кто-то, усмехаясь.
— Пильщиков? — переспросил фельдфебель. — А ну, где ты, Пильщиков?
— Пильщикову, Пильщикову надо идеи! — загалдели солдаты.
Обрадовались, что нашлось, на кого свалить.
Ну, что же, теперь хочешь не хочешь, надо идти.
— Пильщиков, где ты?
— Вот я.
— Ты идешь?
— Так точно…
— Ну, собирайся живо.
И часу не прошло, Пильщиков вышел за лесок, прошагал с полверсты полем за сторожевую цепь и попер в тьму, дальше.
Где-то вправо есть бугор, невидимый теперь во тьме, и ротный приказал узнать, занимает ли его неприятель, и ли нет.
Пильщиков не спеша отошел шагов триста от цепи и лег в траву около плетня, от которого пахло гнилью и дневным жаром. Смутно было у него в душе — разобраться надо. Ночь уже поползла настоящая — все закрыла черным мягким одеялом.
Лесок остался позади, и тревожно в нем гугукали незнакомые ночные птицы — не то совы, не то сарычи, перепуганные, должно быть, кострами и многолюдством.
Вправо, где-то далеко, стреляли. Там стояло зарево, красноватое, шапкой — пожар. Пильщиков потянул носом — пахло землей и травою, — знакомый запах: будто в ночное выехал, в родных Шиханах.
А впереди, вон там, за дальними холмами, бродили последние отсветы вечерней зари, там тихо и темно было. Там «они».
Может быть, далеко, а может быть, здесь вот, рядом, лежит вот так же, как Пильщиков, ждет встречи, готовый убить, притаившийся, злой.
— Смотри, если встренешься с ним, маху не давай, — наказывал ротный, дашь маху — и сам пропадешь, и нам плохо придется.
А Ники фор Пильщиков и сам знает — маху давать нельзя: или убей, или тебя убьют.
Где-то в стороне гукнула сова. И тьма будто гуще стала.
А сердце стучало тяжко дун, дун, дун…
Почти не дыша, пошел Пильщиков дальше. Вот плетень кончился, началась широкая дорога, и за дорогой хлеб стеной стоял.
Помял Пильщиков колос: «Пшеница».
Только в нее шагнул, а она как зашумит сердито, словно живая: «Не топчи меня» Аж страшно стало. Да и жалко: хлеб на корню мять — нет дела злее.
«Межой пойду», — решил Пильщиков и взял по дороге влево.
Ротный велел считать шаги. Пильщиков попробовал считать, но как дошел до семидесяти, так и сбился То ли оно дальше восемьдесят, то ли девяносто… Да нельзя зараз и шаги считать, и неприятеля выслеживать, и думать о нем. Шел просто, перегибаясь, слушая. Искал межу. Вдруг дорога пошла скатом в ложок, а по самому краю ложка тут и межа. Снизу потянуло сыростью, и трава здесь была мокрая от росы.
От сырости ли или от какой другой причины, только вдруг дрожь захватила Пилыцикова, по спине побежали колючие мурашки, а зубы ляскнули. И сердце сжалось, словно на него положили кусок льда. Пильщиков нутром почувствовал, что он теперь один. В целом мире один.
Один перед этим небом, усеянным звездами, перед этой тьмой. Убьют его, и никто об этом не узнает.
Страх поднял волосы на его затылке.
Тьма сразу стала жуткой, будто она была полна злых врагов, каждую минуту готовых броситься, растерзать.
В один момент Пильщиков обессилел.
С размаху, как подломленный, он сел в траву. А кругом было тихо, и тьма лежала- неподвижно. В лесу все кричали птицы, и вдали стояло зарево пожар. Успокоившись немного, Пильщиков встал на одно колено, снял картуз, начал слушать. Откуда-то издали шел смутный гул.
Пильщиков прилег ухом к земле.
Старая мужичья привычка.
Бывало, едешь один нвяью, послушаешь землю — сразу узнаешь, есть ли люди на дороге, далеко ли едут и сколько их…
Теперь земля гудела ровно и глухо.
Он долго слушал ее, и вдруг ему почудилось, что где-то вдалеке раздался вздох, похожий на заглушенный стон:
— у…у…у!..
Пильщиков встрепенулся и сильно прижался к земле.
Болтали солдаты, что земля каждую ночь плачет.
Уже давно ему хотелось послушать ее плач, но все не доводилось. Иьвот теперь, затаив дыхание, он слушал эти странные стоны. Что это было? Может быть, это был гул далекой канонады… Он не мог решить. Он просто верил, что земля на самом деле плачет. Да и как ей не плакать? Ведь в каждый бой тысячами гибнет крестьянский люд Земля — всем им родная… Каждого жалко…
— У…у…у!..
— Да, плачет.
Пильщиков привстал.
— Плачет матушка. Плачет землица.
Любовно он глянул в тьму, растроганный. Здесь она, земля-то. Не один он… Чего бояться? Вот кто его пожалеет. Вот кто с ним родной. Земля.
Он посмелел. Показалось — родное все кругом, как в Шиханах. И земля, и запах травы, и звезды на небе.
Сердце так забилось, что Пильщиков захотел придержать его рукой и… наткнулся на серую шинель, на пуговицы и на маленький крестик «Георгия», с которым он не расставался никогда с того самого дня, как получил его.
И смяк как-то. Лицо ротного выплыло из тьмы.
— Узнай, есть они на холме или нет.
И опять тьма стала злой, и опять Никифору показалось, что он одинокий и беспомощный. Он затаил дыхание и сжалсй и, помня приказ ротного, полез дальше. Страх капля за каплей опять начал падать в душу. Сжимая обеими руками винтовку, он пошел по меже, вниз, в лог, чтобы оттуда пробраться к холму. Он теперь знал, где наши и где враги. Пугало только, что тихо кругом. Так тихо, что слышно, как сердце стучит. А сапоги гремят, и трава шумит сердито. От усталости и напряжения в глазах у него порой вспыхивали золотистые искры.
Вдруг странный звук поразил его слух. Будто машина пыхтела где-то далеко. Пильщиков остановился и стал слушать.
Звук повторялся через равные промежутки. В нем было что-то знакомое, даже родное для Никифора, а что — он не мог понять.
Вслушиваясь, он осторожно полез дальше. Звук становился слышнее. Вот где-то здесь он начинается, будто в этой траве, растущей на склоне холма…
— Что такое? — думал Пильщиков, напряженно вслушиваясь.
Будто вот-вот знакомое, а не узнаешь…
И вдруг он присел от ужаса:
— Батюшки, да ведь это храпит кто-то!
Все внутри у него метнулось.
Бежать!
Но сдержался. Замер. Весь напрягся, слушая. Да, теперь ясно: храпит кто-то. Здорово так храпит, настоящим мужичьим храпом. Пильщиков, как зверь, весь насторожился, пригнулся и полез туда, откуда слышался храп. Ступнет раз и остановится. Ступнет другой и остановится. Крался и весь дрожал. Всякий момент он готов был и выстрелить, и ударить штыком.
Руки клещами вцепились в винтовку.
Неясное забелелось в темноте, и оттуда густо, трубой валил храп. Настоящий такой, вкусный, от которого самому спать хочется.
Пильщиков осмелел. Он уже прямо шел к спящему.
Вот «он». Весь тут. Вот-вот… Руки разбросал, голова запрокинулась. Но кто? Может быть, наш, русский? Пильщиков потянул носом незнакомый запах:
— Австрияк. Наши так не пахнут.
Он присел и стал щупать кругом.
Винтовка и ранец из кожи лежали сбоку- На винтовке штык — нож. Поблескивает в темноте. Пильщиков потянул винтовку к себе. Теперь враг был безоружен.
«Га. Спит. Заня-ятно!..» — подумал Пильщиков и пристально присмотрелся к спящему.
Здоровый австрияк. Болынемордый. Рот раскрыл, а в горле будто телега едет и тарахтит. И таким родным, страшно близким пахнуло на Пилыцикова от этого храпа, что он заулыбался.
— Умаялся. Тоже, поди, достается.
Он минуту посидел возле спящего на корточках, не зная, что делать, послушал, затаив дыхание. Кроме храпа и далеких выстрелов, ничего не было слышно.
Потом, не торопясь, он надел на себя ранец и взял в правую руку винтовку австрийца, а в левую — свою винтовку и осторожно пошел назад довольный, хитренько улыбающийся…
А тот все храпел, храпел…
Ног под собой не чувствовал Никифор, когда шел к ротному.
Эге!.. А может теперь другой крест дадут? Ведь это фокус — обокрасть австрийского часового.
Вот бы и не улыбался, да рот уголками к ушам тянется И все лицо блестит, как блин скоромный.
— Видел?
— Так точно, ваше бродь. Видел. Тот бугор-то, что вы мне показывали…
— Ну?
— Там на нем австрияк.
А у самого глазки хитренько поблескивают. Рассказал он все по порядку, как крался, как кричала сова, в каком месте встретил врага.
— Вот винтовку и ранец забрал.
Ротный взял винтовку, осмотрел со всех сторон. Исправна, заряжена.
— Молодец. А в ранце-то смотрел, что там есть?
— Никак нет, не спопашился.
Расстегнули ранец — белье, еда, книжка какая-то…
— Та-ак, — протянул ротный. — А самого-то австрийца нельзя было живьем привести?
— Никак нет. Голоса недалеко были слышны. Сумно, а слышно. Ежели бы я его разбудил да повел, он закричал бы.
— Так, это, положим, верно. Ты хорошо сообразил. Молодец.
— Рад стараться, ваше бродь.
— А чем же ты его?
— Ась?
— Опять ты ась говоришь, — поморщился офицер, — я спрашиваю, чем ты его, врата-то, прикончил?
— Вот ранец и винтовку взял у него.
— Ну да, это так А с самим-то с ним что ты сделал?
— А он там остался.
— Я знаю, что там остался. Но чем ты убил-то его?
Пильщиков широко открытыми, удивленными глазами посмотрел на офицера. Высокий, рябоватый, кряж настоящий.
И счастливое сияние на лице померкло. А рот чуть открылся.
— Ты же убил его?
— Никак нет.
— Как так? Ты его не тронул?
— Да он же спал, ваше бродь.
— Ну так что же, что спал, черт тебя побери! — вдруг закричал офицер, поднимаясь со стула. — Ты должен был убить его. Раз нельзя взять в плен, надо убить. Он кто тебе? Врат родной? Или отец твой?..
— Никак нет.
— Кто же он тебе? Враг?
— Так точно.
— Так почему же ты его не убил?
— Да я же говорю… Он же спал, ваше бродь.
Офицер злыми, потемневшими глазами посмотрел на Никифора.
— Ну, видали такого болвана? А? Я тебя под суд, негодяя, отдам.
Офицер протянул со стола бумажку, подержал ее, швырнул.
Сам красный весь. И показалось Пилыцикову, что офицер не все понял, объяснить надо.
— Ваше благородие, встрияк-то спал… храпел… умаялся должно. Ежели б не спал, я б его в полон взял аль бо поранил.
А то он спит и храпит. Здорово так храпит. Доведись вот мне.
Иной раз так умаешься, ног не чуешь под собой. Бывало, ребята в казармах будят иной раз: «Никишка, не храпи».
Офицер пристально посмотрел на Пилыцикова, а тот, знай, ест его глазами.
По уставу, как нужно.
Сероглазый кряж. Такой на вид исполнительный, а на груди белеет «Георгий». И вдруг поползла, поползла улыбка по губам офицера. Будто и не хочет, а смеется.
— Ах ты урод этакий! Балда! Какой ты воин? Ты мужик.
Пшел вон…
Повернулся Пильщиков налево кругом, вышел, полный недоумения. И, отойдя от избы, сказал вслух, по привычке, ни к кому не обращаясь:
— Главное дело, спал он. И притом же храпел…
1922Примечания
1
ЯКОВЛЕВ (Трифонов-Яковлев) Александр Степанович (1886–1953).
Мужик. Впервые опубликован в книге «Свиток», сб. 1. М… 1922. Печатается по изданию: Яковлев Александр. Октябрь. Повести и рассказы. М., Художественная литература, 1965.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



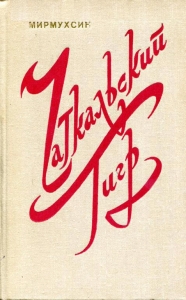
Комментарии к книге «Мужик», Александр Степанович Яковлев
Всего 0 комментариев