Сергей Сергеевич Заяицкий Судьбе загадка
От читателя
Что можно сказать, прочитав сочинение хорошего писателя: «Хороший писатель» – и более ничего. Но Сергей Сергеевич Заяицкий больше, чем хороший писатель, потому что мысли, возбуждаемые его прозой, дискретнее и длиннее. Вот о чем думаешь поначалу, читая его работы…
То, что мы бедны оттого, что уж очень богаты, – это уже трюизм. В значительной мере справедлив он и для нашей словесности; почему в сороковые – восьмидесятые годы в Советском Союзе было так много писателей и так мало литературы? – да потому что Перехват-Залихватские от социалистического способа производства отменили целую плеяду блестящих русских писателей, потому что порвалась связь времён, и сама собой, как говорят, опустилась планка, потому что в сороковые – восьмидесятые годы писателем мог стать каждый, кто только умел составить десять слов в одно внятное предложение. То есть у нас можно свободно уморить каждого второго писателя, и литература будет худо-бедно существовать.
Но вот на тридцать пятом году своей читательской жизни берёшься за рукопись Сергея Заяицкого и говоришь себе: «Боже, какое сильное дарование!», прочитаешь пару-другую глав и понимаешь, как тебя обокрали. Во-первых, тут налицо продолжение традиций русской литературы с художественной… то ли мыслью, то ли чувством во главе угла, смехом сквозь слезы и глубочайшим почтением перед самим именем – Человек, что повывели из нашей словесности во времена оголтелого социализма, как из дома выводят моль. Во-вторых, налицо народность, истинная народность; ведь народность в литературе разная бывает, случается, автор как бы раскалённым тавром метит каждую свою страницу, чтобы на ней прямо сияло определение – «народность», а человеку с понятием очевидно, что, кроме тавра, ничего и нет, что в действительности имеет, как говорится, место беллетризированный плач в связи с административным произволом и вредными проделками цыгано-синдикалистов, ну разве что у него герои одеты в ватники и разговаривают на суздальском диалекте. Иное дело народность, отражённая в прозе по достоевскому принципу «химического единства», как у Сергея Заяицкого, когда в каждой сколько-нибудь основательной сцене присутствует русская причудливая душа со всеми её свычаями и обычаями. Ну, а поскольку наш соотечественник есть равномерно дитя Саваофа и Люцифера, то, какую вещь у Заяицкого ни возьми, кругом у него страшные комедии и уморительные трагедии: там – самоотверженная любовь, сям – немотивированная жестокость, то – бесконечная преданность Отечеству, то – беспримерное разгильдяйство; вот у него Россия на краю бездны, а два патриота занимаются женой своего знакомого; немец прёт на западные губернии, а офицерство устраивает безобразный кутёж в гостинице с девицами, пленёнными на панели, а то влюблённый бандит закапывает в снег голого мещанина. Такой получается чёрный юмор, которому Заяицкий, вероятно, не родоначальник, но то, что он достойный продолжатель – уж это точно.
Наконец, с каждого авторского листа этой прозы, фигурально выражаясь, намываешь унцию самородков: тут тебе и аист, окольцованный белогвардейской кокардой, по кличке Деникин, и «О, счастливые любовники, обитающие в Советской Украинской Социалистической Республике!», и «Да как же это возможно, воскликнут иные скептики, чтоб на восьмой год рабочей власти подобная рубашка, как же не смел её вихрь революции! А вот не смел, и дело тут, очевидно, не в слабости вихря, а в прочности материи…», и «Не знаю как вы, а я большой сторонник личного бессмертия…», и «…она рванулась, и поцелуй скользнул как-то по всему телу – начавшись с губ, он кончился где-то возле коленки…», и «Нет, Степан Андреевич Кошелев настоящий русский гражданин и ещё сегодня в вагоне на вопрос кременчугского пассажира:
– Чи ви член профспилки?
Ответил спокойно:
– А як же».
В общем, сразу становится ясно, что Заяицкий из тех писателей от господа бога, которые чувствуют родное слово, как гипертоники – игру атмосферного давления, умеют мастерски его огранить, выставить во всем блеске, показать с неожиданной стороны. Это и вправду дар редкостный, которым во все времена располагало такое незначительное число литераторов, что в каждом поколении их можно было по пальцам пересчитать. А ведь это, наверное, и есть чисто литературный талант, когда понимаешь, так сказать, психику слова и можешь ей управлять, а в ином случае этой психике неукоснительно подчиняться.
Нет, конечно, более или менее квалифицированному читателю будет понятно, что Сергей Сергеевич Заяицкий это не Николай Васильевич Гоголь – с гениями история вообще ничего поделать не в состоянии, гений сильней истории – но читателю будет также понятно: он повстречался с талантом настолько крупным и самобытным, что укрыть его от читателя – а он до самого последнего времени был именно укрыт от читателя – значит совершить преступление против человечности, из тех, что проходили по Нюрнбергскому трибуналу. Ведь когорта таких писателей, как тот же Заяицкий, Слёзкин, Клочков, Романов, может составить честь и славу какой-нибудь просвещённой нации, и она будет веками поклоняться этому пантеону, а у нас нормальный читатель о них даже и не слыхал.
В. Пьецух
Жизнеописание Степана Александровича Лососинова
Вместо предисловия Кто такой Сергей Вакхович Кубический
Человек, написавший эту повесть, в настоящее время, по-видимому, мёртв. Странное произведение это в рукописном виде было найдено татарином в кармане брюк покойного и любезно возвращено вдове. Будучи близким другом Сергея Вакховича, считаю себя вправе обнародовать эту повесть, тем более что покойный (?) был человеком примечательным во многих отношениях.
К писательству он не имел особенной склонности, но то обстоятельство, что все его друзья и знакомые писали стихи так же хорошо, как Пушкин, навело его на мысль испытать и свои литературные способности. Решиться на это было ему не так-то легко, ибо с детства, по его словам, страх перед книгою носил у него болезненный характер. Читать чужие произведения можно было его заставить (и в зрелом возрасте) только силой.
Смерть Сергея Вакховича окутана некоторою таинственностью. Случилась она в то время, когда всякий слух мгновенно дробился, как ракета, а о смерти друзей и близких вообще мало думали. По одной версии погиб он, упав с крыши Народного комиссариата по просвещению, на которую взошёл, исполняя снежную повинность. По другой версии, он вовсе не умер, а, переехав границу в ящике из-под глюкозы, пропал без вести. Третья версия, которой придерживается вдова покойного, такова: садясь в поезд через окно, потерял он равновесие и вместо того, чтобы встать на ноги, встал на голову и, не будучи в состоянии вследствие тесноты перевернуться вокруг горизонтальной оси, провёл двое суток в столь неестественном положении.
Умирая, он будто бы ещё успел крикнуть: «Отношение моё к воинской повинности в правом кармане». Всего трагичнее во всей этой истории то, что поезд за эти двое суток так никуда и не сдвинулся.
Основною чертою творчества Сергея Вакховича является его страстная любовь к психологическим наблюдениям, а также удивительное свойство описывать все так, что получается смешно. Сам он вовсе не хотел никого смешить и недаром в начале второй части повести (Perfectum) он с горечью восклицает: «Смейтесь, ибо уж так устроены мы, что смешно нам то, что другим страшно или вдохновительно». И ещё: «В смешном прозревать страшное достойнее, чем в страшном смешное». Потому и сочинение своё он назвал «трагикомическим».
Заметим, что «Жизнеописание Лососинова» он сам тайком считал научным психологическим трактатом и даже пытался прочесть его однажды на заседании Московского психологического общества. Себя он любил называть «основателем учения о самозатруднении».
Так ли велики заслуги Сергея Вакховича перед наукою, предоставим судить учёным критикам.
Введение О психологии, о её методах и её пользе
Удивительно, до чего русский народ склонен к философии; так склонен, как никакой другой народ, хоть и принято, чтобы все знаменитые философы были немцы.
Писатели тоже. Впрочем, писатели были ещё в Англии. Но дело не в единицах, не, так сказать, в индивидах, а в массе. А где масса философична? В России. Например, генералы. Я в дачном поезде встречался с одним генералом. То есть более мудроточивых уст в смысле поучительной беседы я не нашёл бы ни у одного немецкого генерала, а говорят – немцы философы. Неправда. Кант немец, но философы русские. Помню мысли генерала о психологии. «Удивительная, говорит, вещь психология. Куда сложнее физиологии. В физиологии все, так сказать, доступно органам осязания, можно все потрогать со всех сторон, нос, например. При изучении можно даже резать и ковырять и под микроскопом до малейшей клеточки. Один физиолог говорил, что ему даже обидно, до чего ему все понятно: слишком рано все выучил – не рассчитал – к сорока годам – все! За новое приниматься не стоит, свою науку прикончил, а умирать рано. Остаток жизни провёл, предаваясь рыбной ловле. Совсем другое дело психология. Ничего не знают психологи. Что бы они ни толковали про интроспецию (генерал так и сказал: „интроспеция“, точно это какое-нибудь самое обыкновенное выражение, вроде: „молодцы-ребята“). Мельчайшего факта объяснить не умеют, и никакие им институты не помогут, т. е. институты, разумеется, психологические. Взять хотя бы писательство. Ну, в журналах за деньги с голодухи строчат, это понятно. Ну а богатые писатели или обеспеченные служебным окладом? Взять того же Пушкина. Много ли нажил? Гроши. Одни неприятности от высшего начальства, как явствует из биографии. Постоянный страх попасть на каторгу. Так для чего же он писал, спрашивается? Кажется, трудно ли было воздержаться? Перепрыгнуть через забор трудно, а не перепрыгнуть легко, так, кажется, просто: не прыгай и кончено. А он прыгал. Зачем? Выгод никаких, слава самая сомнительная при жизни, ну а после смерти что ещё с нами будет, неизвестно, а если встать на точку эгоцентризма, то и вовсе. Но он писал, т. е., иными словами, затруднял себя и, принимая во внимание толщину академического издания, затруднял основательно. Ведь самый процесс труден, особливо при неровном почерке».
Помню, слова генерала крайне на меня подействовали. С тех пор, как хочу написать что-нибудь, тотчас подумаю, что меня к этому побуждает, т. е. себя затруднять таким образом, и не пишу, а все думаю. Так мне генерал этот всегда в творчестве препятствовал, что трудно объяснить. Стал наблюдать за другими писателями из приятелей и, сознаюсь, необъяснимейшее явление: пишут все, а зачем пишут, – не знают, т. е. что их к этому побуждает. Психология – наука крайне щепетильная: спросить никак нельзя, зачем, мол, вы это писали, т. е. что побудило вас так затруднить себя, – неудобно. Приходится наблюдать. Наблюдение – один из методов. Я стал наблюдать. Наблюдал долго и вдруг понял – черту открыл в психологии. Формулировать могу так: «Человек (разумею: русский человек) имеет необычайную склонность к деятельности, направление и результаты коей ему безразличны». Например: Пушкин.
Итак: труд для человека (опять-таки русского) есть цель, а не средство.
Примечание: Один учёный историк литературы возражал мне:
1. что Пушкин – не пример, ибо он, в сущности, араб;
2. что, имея склонности к светской жизни, он постоянно нуждался в деньгах.
Возражу на этом:
1. Если считать Пушкина арабом, то надо идти до конца и называть его уже не величайшим русским, а величайшим арабским поэтом.
2. Если не убедителен Пушкин (с его светскостью), беру гр. Толстого в последний период. В деньгах граф не нуждался, славе своей мог только повредить. Очевидно, здесь мы имеем факт сознательного самозатруднения, в его, так сказать, первоначальной кристальности.
Эту же мысль доказать берусь с неопровержимостью на основании наблюдений, произведённых над близким приятелем моим (ныне погибшим) Степаном Александровичем Лососиновым. Для этого должен я изложить историю жизни моего друга вплоть до его гибели, выделив несколько замечательных событий из его биографии. Буду рад, если наблюдения мои окажутся полезны для процветания Московского психологического общества.
Часть первая Давнопрошедшее (Plusquamperfectum)
Глава I
В КОТОРОЙ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ В ГОЛОВЕ ОДНОГО ГЕНИАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ОДНОГО ГЕНИАЛЬНОГО ПЛАНА
На всех часах вдоль линий «А» и «Б», на всех часах, хором тикающих в часовых магазинах, на левых руках всех прилично одетых прохожих, словом всюду, где только было возможно, стрелка указывала четыре часа, когда Степан Александрович Лососинов проснулся. С первого же взгляда он заметил, что стены и потолок в его комнате стали гораздо светлее, чем были накануне, а взглянув в окно, понял и причину этого явления. Медленно и робко падали маленькие хлопья первого снега и устилали белою пеленою тротуары, тумбы, крыши… Степан Александрович откинулся было на подушке, дабы предаться размышлению об удивительном законе природы, меняющем ежегодно времена года, но тотчас же снова воспрянул и с изумлением оглядел комнату. Действительно, она представляла не совсем обычное зрелище.
Все предметы были сдвинуты в один угол и большая часть из них стояла вверх ногами. Громадное кожаное кресло возвышалось на письменном столе, а кисейные оконные занавески, подняв свои подолы, словно сидели на подоконнике. Ещё во сне Степана Александровича угнетал странный ритмический шум, казавшийся ему прибоем волн во время прилива. Теперь шум этот раздавался наяву в соседней комнате и от времени до времени кто-то стучал по самому низу двери… «Полотёры», – с ужасом понял Лососинов. Подобное печёному яблоку лицо старухи заглянуло в комнату.
– Встали, батюшка, – сказала она, – вот слава-то тебе, господи.
– Какого черта вы не разбудили меня раньше?
– Будила, батюшка, ей-богу будила. И шторку подняла. Ничего не получилось… Знать уши-то сном законопатило.
– Я свою комнату натирать не позволю!
– Нельзя, батюшка, пол совсем стал паршивый… Срам, а не пол.
Степан Александрович, не унизившись до возражений глупой бабе, встал с постели, запер дверь на ключ и глубоко задумался… Если бы в эту минуту посторонний наблюдатель мог следить за выражением его глаз, то он поразился бы, как все мудрее и проникновеннее становились эти глаза, немного, правда, опухшие от тринадцатичасового сна, но все же вдохновенные и прекрасные. В ночной рубашке, с ночной туфлею в руке, он напоминал какого-то античного бога, а внезапно поднявшаяся и устремившаяся в окно указующая рука завершила это сходство. В самое это мгновение стук, но уже не стук в самый низ двери, а европейское постукивание в её середину привлекло его внимание. «Entrez», – крикнул Аполлон. «Заперто», – отвечал голос, в котором Степан Александрович узнал голос закадычного друга своего, Пантюши Соврищева. Пластичным движением он подошёл к двери и повернул ключ, Пантюша Соврищев стоял на пороге, как всегда в визитке, украшенный хризантемою и причёсанный так гладко, что, глядя в его темя, можно было побрить себе физиономию.
– Здравствуй, – сказал Лососинов голосом, в котором слышалась торжественная вибрация, – садись и отвечай мне на вопрос: «Как ты себе представляешь возрождение?» Впрочем, нет, не так, поди сюда!
Он подвёл Соврищева к окну и указал на особняк апельсинового цвета с белыми колоннами, расположенный напротив. В окне был виден профиль, вероятно, хорошенькой горничной, что-то убиравшей.
– Она тебе нравится? – спросил Лососинов торжественно.
– Невредное бабцо, – отвечал Соврищев, – хотя всего не разглядишь.
Лососинов с досадой кинул ночную туфлю под кровать с такой силой, что под кроватью все зазвенело.
– Я не про то, – воскликнул он с раздражением, – я про колонну! Нравится тебе эта колонна?
– Нравится.
– И всегда будет нравиться?
– Вероятно, всегда, – отвечал Соврищев, заметно ошеломлённый таким оборотом беседы. Кстати, в это время горничная встала на подоконник и начала вытирать стекло тряпкой. Весьма уместно отметить удивительное свойство фартука. Генерал тоже неоднократно указывал, что фартук даже на магазинном манекене действует на него эротически.
– Да, – продолжал Лососинов, машинально почёсывая своё бедро, – это всегда будет нравиться. Теперь… знаешь, какая это колонна? Это колонна греческая.
С этими словами он посмотрел на приятеля своего с таким видом, с каким смотрит человек, объявляющий другому о полученном наследстве.
– Это значит, – произнёс он, – что вечная красота была раз навсегда открыта эллинами и возрождение есть, в сущности, возвращение к древности.
– Поразительно! – воскликнул Соврищев, – мне никогда это не приходило в голову.
К чести Лососинова нужно сказать, что он весьма снисходительно относился к чужой необразованности. Прекрасная черта эта, без сомнения, была наследственной, так как отец Степана Александровича был в своё время небезызвестным профессором.
Не сделав Соврищеву никакого обидного замечания, Лососинов накинул себе на плечи одеяло, очевидно продрогнув, и сказал, продолжая глядеть в окно:
– Профессор Зелинский разделяет мои убеждения. Теперь слушай: возрождение необходимо, ибо искусство попало в тупик… Следовательно, наша задача – произвести возрождение. Для этого нужно лишь внедрить в публику и в массу сознание необходимости изучения античного мира. Мужик гибок и способен к языкам. Надо обучить его греческому и латинскому… Я уже сделал кое-что, смотри.
Дрожащими от холода и волнения руками Лососинов взял со стола греко-латино-итальянский словарь со столь мелким шрифтом, что пользоваться книгою было невозможно, даже если бы она была написана на русском.
– А ты разве знаешь итальянский? – спросил Соврищев, тоже начиная ощущать волнение.
Итальянский ни при чём, – с раздражением воскликнул Лососинов. – Мы пожмём руку Цицерону и Сенеке через голову непросвещённых теноров и шарманщиков. – С этими словами, не попадая зубом на зуб, Лососинов быстро юркнул под одеяло и с четверть часа лежал молча, дрожа как в лихорадке. Удивительное действие производил этот человек на окружающих. Соврищев внезапно почувствовал прилив силы, который раздвинул для него пределы возможного. «Захочу, – подумал он, – и начну читать Аристотеля как газету». Одним словом, в этой слегка уже затуманенной ранними сумерками комнате, в сердцах двух необыкновенных людей создалось то великое настроение, которое так лапидарно, хотя и грубо характеризуется пословицею: пьяному море по колено.
– Ну, поедем к Сиу! – вдруг вскричал Лососинов. Он оделся с необыкновенной скоростью и через пять минут лихач с санями, украшенными Лососиновым и Соврищевым, мчался по занесённым снегом улицам. Оба молчали, только когда проносились они мимо какого-нибудь дома с колоннами, Лососинов трогал Соврищева за рукав, кивал на дом и говорил: «Нравится?» – «Да, – отвечал тот, глотая снежинки, – и всегда будет нравиться».
От Сиу они поехали в «Прагу», из «Праги» в Балет, потом опять в «Прагу». Далее Соврищев помнит лишь сплошную метель и какую-то яркую комнату, где была статуя Венеры, которая, впрочем, двигалась и даже пила водку. Проснулся он дома и когда начал одеваться, то с изумлением обнаружил, что один его чулок был ярко-зелёного цвета и, судя по длине, очевидно, дамский.
Глава II
СПОР С ДЯДЕЙ. ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА
Тихо все и бело стало в Москве… Уютно в домах, уютно на дворах, где примостились деревянные домики. Паркетные полы стали отливать лазурью, и кисейные занавесочки на окнах ещё посветлели.
Соврищев пришёл к Лососинову ровно в пять часов и застал его в состоянии крайней экзальтации, близкой к вдохновению поэтическому.
– Ты помнишь тот словарь, который я показывал вчера и к чтению которого думал сегодня приступить?
– Помню, – отвечал Соврищев.
– Ну, так этот словарь пропал, – крикнул Лососинов голосом величественным и радостным.
– Как пропал?
– Этот словарь украден.
– Кем?
Степан Александрович подошёл к Пантюше, положил ему на плечи прекрасные свои руки и произнёс с расстановкой:
– Полотёрами.
– Ах, мерзавцы!
– Не мерзавцы, – крикнул Лососинов раздражённо, – а книголюбцы! Изучения античной древности возжаждали и украли словарь… Вот тебе подтверждение того, как относится русский народ к древности, разумеется, классической… Да тут ничего нет удивительного. В Москве есть извозчики, говорящие по-латыни…
Заметим себе, что гениальный ум Лососинова иногда делал слишком смелые выводы, как например, в данном случае. Те индивиды, о которых шла речь, очевидно, сначала изучили латинский язык, а потом стали извозчиками, а не наоборот.
Да, что бы ни утверждали некоторые, время для филологизации России настало!
Под «некоторыми» Степан Александрович обычно разумел своего дядю, голос коего в это время явственно раздавался в столовой.
В нашем обществе распространено мнение, что все дяди глупы. Мнение это неосновательно по двум причинам:
1. почти всякий человек является в то же время дядею и, следовательно, глупыми приходится назвать почти всех людей;
2. дядя есть величина относительная, предполагающая племянника. Абсолютный дядя есть понятие мнимое или столь редкое, что не стоит говорить о нем. Таким образом, приведённое выше утверждение следует понимать так: всякий дядя глуп по отношению к племяннику и, по закону «действие равно противодействию», наоборот (Замечательно, что С. В. Кубический, высказывая это положение, разумеется, никоим образом не был знаком с теорией Эйнштейна (Примеч. автора)). В данном случае дядя был инженером. Лососинов и его друг не любили дядю за миросозерцание, а Степан Александрович, кроме того, почитал его бездельником. «Построил три железнодорожных моста и очень доволен, – говорил он обычно про этого дядю, – а спросите его, что такое conjugatio perifrastica, он и не знает». В этот раз дядя был особливо неуместен, ибо он никак бы не мог понять чувств, волновавших предприимчивых филологов, да и вообще к искусству был равнодушен.
Как раз мадам Лососинова, старушка в наколке, рассказала за супом про встреченного ею на Кузнецком мосту раскрашенного футуриста в полосатом халате и разговор таким образом коснулся литературы. «Драть их нужно», – сказал дядя, разумея футуристов. Следует заметить, что Степан Александрович, сам не будучи футуристом, защищал их как искателей новых путей.
– И романтиков считали сумасшедшими, – воскликнул он. – А дикие гении? Почитай-ка биографию Гёте!
– Читал двадцать раз. И тоже нужно было выдрать.
– Это Гёте выдрать?
– А хоть бы и Гёте, да заодно и Шиллера. Терпеть не могу.
– Уж выдрать тогда всех поэтов сразу.
– Да не мешало бы. Особенно теперешних. Раньше хоть прочтёшь, поймёшь, про что говорится. Иногда растрогает или развеселит. А теперь? Прочтёшь стихи и такое чувство, точно тебя дураком обругали.
– Да уж, поэты! – вздохнула мадам Лососинова. – На заборах иной раз мальчишка постесняется написать, что они в книгах печатают.
– Да уж это само собой, – обрадовался дядя, – это, видите ли, разрешение проклятого вопроса. И все к тому же пьяницы.
– И Пушкин был пьяница.
– Пушкин, может быть, пил здорово, да зато здорово писал. А теперь пьют здорово, а пишут скверно.
– Вам не нравится, а другим нравится.
– Уж не знаю, кому это нравится. А теперь ещё начали под греков подделываться. Куда ни сунешься, все козе на хвост наступишь.
Лососинов вспыхнул.
– Возрожденье только и возможно при таких условиях, – сказал он, – одни ослы этого не понимают.
– Ну что мне за интерес про какого-то пастуха читать? Ах, Дафнис, да на тебе козьего сыру, да пойдём в пахнущий мёдом грот.
– И все про голых пишут, – ввернула мадам Лососинова.
– Вы бы уж лучше не вмешивались, – обернулся к матери Лососинов, – скоро голыми ходить будут, когда возрождение наступит.
– Это по морозу-то, – уязвил дядя.
Не снисходя до возражений, Степан Александрович погрузился в утоление своего аппетита, пробормотав что-то про идиотов, не видящих из-под железнодорожного моста неба. Следует заметить, что очень часто у Степана Александровича резко менялась точка зрения и он вдруг начинал говорить о пользе авиации или о своём желании стать химиком. Но в том-то и дело, что от богатой русской души нельзя требовать той мещанской уравновешенности, которая давала возможность Канту всю жизнь торчать в Кенигсберге, жуя вещи в себе. Характерно, что Лососинов считал Канта философом посредственным.
Хорошая сигара помогла Лососинову рассеять тяжёлое впечатление от беседы с дядей, и, сев снова в своё кресло, он почувствовал себя господином своего настроения. Беседа лишь обострила его стремление.
– Нам нужно произвести нечто вроде революции, – сказал он. – Наши агенты должны исколесить всю Россию, внедряя в население любовь к античному миру. Вот план России. Нам необходимо иметь свои базы во всех крупных центрах… В провинции и в сёлах нужно организовать особые школы… Когда подготовка будет сделана, мы дадим знак из центра, и по всей России зазвучит стройная музыка гомеровского стиха… Подумай, Соврищев, какое величие… Старый дед, читающий внукам Одиссея в подлиннике…
В этот момент, между прочим, Лососинов нашёл словарь, который полагал украденным. Оказалось, что его подложили под книжный шкаф, дабы последний не качался. С негодованием вынув его и заменив сочинениями Данилевского, Степан Александрович продолжал: Пока же мы оснуём в Москве нечто вроде академии. Мы пригласим лекторов… Я лично уверен, что греческое искусство настолько божественно просто, что его поймёт самый серый крестьянин.
– Кого же ты думаешь пригласить в лекторы? – спросил Соврищев.
– Во-первых, Ансельмия Петрова, без него нельзя. А потом всех профессоров, разумеется. Начнём с Петрова. Завтра без пяти двенадцать заходи за мной, мы к нему поедем.
Решив так, Степан Александрович и Соврищев поехали в «Прагу». Оттуда они поехали в Оперу, потом опять в «Прагу». Когда Соврищев проснулся, было без пяти три, перед взором его лежала некая пелена, не вполне рассеянная и холодным умыванием. Одеваясь, он с изумлением нашёл у себя в кармане вместо платка кусок кружевного пеньюара.
Глава III
КАК СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОСОСИНОВ И ПАНТЮША СОВРИЩЕВ ПОСЕТИЛИ ЗНАМЕНИТОГО АНСЕЛЬМИЯ ПЕТРОВА. РАССКАЗ ИЗВОЗЧИКА О ТАИНСТВЕННОМ БАРИНЕ
По темнеющим улицам Москвы мчались санки, увенчанные необычайно толстым извозчиком и двумя борцами за греческое миросозерцание. Сами санки были до того узки, что, казалось, все сооружение лишь чудом или благодаря некоему незримому жироскопу сохраняет равновесие. Снег брызгал из-под полозьев, извозчик кричал «эй!» хриплым меццо-сопрано, а вокруг, у освещённых окон магазинов, кишела толпа, рябая от пурги. Соврищева укачивало мерное потряхивание саней, к тому же вчера он выпил большое количество Кипрского вина и благодаря этому до сих пор сохранял приятное отношение к жизни. Степан Александрович был, напротив, весьма мрачен. От свежего ли воздуха или от каких-либо других причин, с ним сделался припадок икоты, изрядно его беспокоивший. Несколько раз пробовал он задержать дыхание, но каждый раз после этого икота возобновлялась с удесятерённой силой. Между прочим, в первоначальный план было внесено некоторое изменение: решено было предварительно посетить известного знатока древнего мира и учёного, жившего как раз по дороге к знаменитому Ансельмию Петрову, так как посещение Ансельмия Петрова почему-то устрашало и Лососинова и его друга, и оба были рады оттянуть по возможности страшный миг. Приказав остановиться у двери знатока древнего мира, оба вылезли из саней, причём Лососинов, боясь припадка икоты, просил Соврищева беседовать с прислужниками.
Но у Пантюши Соврищева по совершенно неизвестной причине почему-то все время разъезжались ноги, так что извозчик даже принуждён был вылезти из саней и подпереть его в спину.
В течение десяти минут они тщетно ожидали у запертой двери, пока не выяснилось, что Соврищев вместо звонка давит в дощечку с фамилией знаменитого учёного. Недоразумение это, приведшее в глухую ярость Степана Александровича, почему-то сообщило неописуемо весёлое настроение менее талантливому его спутнику, так что, когда почтенный слуга в очках открыл дверь, Соврищев, хохоча, не мог выговорить ни одного слова. Строго поглядев на него, старик повернул своё почтенное лицо в сторону Лососинова, вид коего, безусловно, внушал несравненно больше доверие.
Только что, затаив перед тем дыхание, тот внезапно икнул с такой силой, что Пантюша Соврищев, потеряв равновесие, упал навзничь, подмяв под себя извозчика, а лошадь, подумав, что её понукают, помчалась, что есть силы, не управляемая никем, кроме чистейшего случая. К счастью, пробежав некоторую часть улицы, умное животное повернуло в ворота с синей вывеской «Трактир со двором для извозчиков», где остановилось, ржанием давая понять, что дальше идти не намерено. Здесь вскоре её настигла группа, состоявшая из извозчика, Степана Александровича Лососинова, глазами мечущего грозовые молнии, и Пантюши Соврищева, трясущегося от преступного при данных обстоятельствах хохота. Хохот этот, очевидно, привёл в бешенство Лососинова, ибо, садясь в санки, он больно пихнул локтем своего друга и крикнул слово «балда». После этого он поднял воротник шубы и погрузился в мрачное раздумье, в коем и пребывал, пока санки не остановились у двери огромного дома, в одном из освещённых этажей которого жил великий философ, поэт и искусствовед, Ансельмий Петров.
Дверь открыла очень толстая горничная, напоминающая бочку, одетую в фартук.
Мудрец, к счастью, оказался дома и на вопрос горничной: «По какому делу?» – Лососинов величественно ответил: «Переговорить». Горничная направилась в кабинет необыкновенного человека, причём, проходя мимо Пантюши Соврищева, она почему-то взвизгнула как от боли и ударила его по боку, словно защищаясь. Случай этот навёл на высокое чело Степана Александровича тяжёлые тучи.
– Если будешь дурить, убирайся к черту, – пробормотал он, но Соврищев в ответ недоумевающе пожал плечами, как бы удивляясь поведением горничной. «Пожалуйте», – сказала та, сторонясь от Соврищева.
Кабинет величайшего учёного и поэта, кабинет, где создавались величайшие творения последнего десятилетия и где на критических булавках сидели как бабочки все величайшие писатели мировой литературы, кабинет этот имел вид значительный и потрясающий. Две стены его были сплошь уставлены книгами, третья представляла огромное окно, ещё не задёрнутое шторою и трепещущее огнями города, а на четвертой висели картины знаменитых художников начала XX века, среди коих одна изображала нагую женщину, столь длиннорукую, что она могла бы, не сходя с места, смахивать пыль со всех предметов, находящихся в комнате. Посреди кабинета стоял стол непомерной величины, заваленный горами книг, бумаг, повесток и счетов. Бюст Гомера, приведший в волнение Лососинова, вперял свой слепой взор прямо в книжный шкаф, словно искал в нем собрание своих сочинений.
Возле стола стоял человек, наружность которого являлась странным конгломератом портретов великих людей всех времён и народов. Повернётся левой щекой – Гегель, правой – Гоголь, en face – Гёте, сзади вся немецкая школа романтиков. Это и был Ансельмий Петров, быть современником которого не казалось блаженством лишь непросвещённому кретину.
Ансельмий Петров встретил посетителей молча, молча оглядел их с ног до головы, поднял руку, но, когда Степан Александрович и Соврищев протянули свои, оказалось, что философ намеревался лишь почесать себе переносицу. После этого он засунул обе руки в карман и погрузился в кресло. Лососинов сел в другое кресло, стоявшее у боковой стенки письменного стола, так осторожно, точно садился на раскалённую жаровню; Соврищев же, не видя вблизи подходящей мебели, сел на пуф, стоявший в некотором отдалении.
Ансельмий Петров молча открыл ящик с папиросами, молча закурил одну, пустил облако дыма прямо в недоумевающе лицо Гомера и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза.
После минуты жуткого молчания Степан Александрович заговорил. Сначала он стал говорить о древнем искусстве вообще, упомянул о Гомере, Фидии, коснулся Сафо и выразил своё восхищение перед Алкеем. Потом заговорил он о благотворном влиянии древнего искусства на итальянское, сослался на Зелинского и присовокупил, что и Ансельмий Петров сыграл в области изучения древности великую и славную роль (при этих словах знаменитый писатель на секунду приоткрыл один глаз, но молчания и неподвижности не нарушил). Далее Лососинов заговорил о возрождении, указал на футуризм как на ложный путь, ехидно уколол Маринетти, упомянул о подражании древним и наконец заговорил об Академии по классическому искусству, причём от волнения сбился и вместо того, чтобы сказать: «Мы, основатели Академии классических наук» сказал: «Мы, основатели Академии наук». Далее, все больше и больше воодушевляясь, Степан Александрович заговорил о гибкости души русского человека. Смущения его как не бывало, он протянул даже руку к папиросному ящику, но Ансельмий Петров, чуть приоткрыв глаза, переставил его на самый отдалённый угол письменного стола. Наконец, заметно стало, что гениальный искатель высказал все, что больше объяснять нечего. Он ещё раз упомянул о Праксителе, о Пиндаре и наконец умолк, вопросительно глядя на сидевшую перед ним живую совокупность портретов великих людей всех времён и народов. Ансельмий Петров продолжал сидеть неподвижно с закрытыми глазами. Соврищев, тихонько встав с своего пуфа, подмигнул Лососинову, давая понять, что он подозревает, не заснул ли удивительный человек, и, выдернув из визитки конский волос, к ужасу Степана Александровича, возымел намерение пощекотать нос спящего. Но Ансельмий Петров открыл оба глаза и так внезапно, что Пантюша Соврищев сел мимо пуфа, а Степан Александрович икнул во все горло.
– А сколько вы будете платить за лекцию? – спросил мудрец резким голосом, который можно было принять за крик павлина.
Лососинов растерялся. Он не ожидал такого вопроса.
– А сколько вы пожелаете? – пробормотал он, машинально щупая карман.
– Двадцать пять рублей час, для цикловых лекций скидка десять процентов.
– Хорошо, мы согласны, – отвечал Степан Александрович, оправившись. – Адрес?
– Мы ещё точно не выяснили… Мы вам позвоним по телефону.
– Вы ведь нам продиктуете свой телефон? – спросил Соврищев, чтобы проявить своё участие в этом деле, но Лососинов строго поглядел на друга, благоразумию коего не доверял.
– А когда бы вы могли начать? – спросил он.
– Послезавтра от десяти до одиннадцати первая лекция. Но я беру вперёд за десять.
Лососинов сперва побледнел, потом покраснел, потом полез в карман.
– Боюсь, в данную минуту не найдётся такой суммы, – пробормотал он, – у тебя нет?
Вместе они набрали сто восемьдесят три рубля шестьдесят четыре копейки, каковую сумму и вручили поэту.
– Остальные шестьдесят шесть рублей тридцать шесть копеек можете прислать завтра утром, – сказал тот, пощёлкав на счетах.
– А какую тему вы намерены… использовать? – уже совсем робко спросил Лососинов, вставая так осторожно, словно он опасался, не прилип ли он к креслу.
– Альфред де Виньи и его влияние на современное ему общество.
Великий писатель подошёл к двери своего кабинета, распахнул её и молча посмотрел на стену сквозь своих посетителей.
Крадучись, стараясь не шуметь, словно боясь спугнуть невидимую музу, вышли они из обители вдохновения и мудрости. Только попав в переднюю, Степан Александрович настолько оправился, что смог посмотреть на себя в зеркало. Лицо его было бледно и глаза блестели как две звезды. Когда он выходил на лестницу, сзади него раздался звук, который производят в отверстии ванны последние капли спускаемой воды. Мгновенно вслед за этим послышался глухой удар, как бы при выколачивании мебели, и Соврищев так стремительно вылетел из двери, что оба они едва не скатились с лестницы.
– Что же мы предпримем теперь? – спросил Соврищев с некоторой робостью в голосе, когда они снова очутились в узких санках, лишь чудом сохраняющих равновесие. Степан Александрович ничего не ответил, и его вновь возобновившаяся икота на этот раз звучала подобно грому, не предвещавшему ничего доброго.
– Может быть, съездить ещё к какому-нибудь профессору, – продолжал Соврищев, стараясь придать тону глубину и проникновенность, – вот только денег у нас не осталось.
В этот момент извозчик внезапно обернул своё извозчичье лицо к седокам, посмотрел на них с интересом и вдруг спросил:
– А что, барин, чёрт есть?
Вопрос этот был совершенно неожидан и поставил в тупик обоих филологов, не сильных к тому же в вопросах умозрительных.
– Чёрт, говорю, есть? – снова повторил извозчик.
– Как когда, – заметил Соврищев.
Лососинов вдруг опустил поднятый до этого времени воротник шубы, движением руки заставил умолкнуть своего спутника и сказал взволнованно:
– Черта нет… А есть бессмертные боги.
Извозчик с любопытством обернулся к нему.
– Какие же такие, барин, боги?
– Зевс олимпийский, громовержец, его же иногда называют Дий. Феб, или Аполлон, бог солнца и поэзии, Афродита, богиня любви, она же Киприда…
– Киприда? – переспросил извозчик. – Баба, значит?
– Да… женщина… Она не одна… Есть ещё Гера, Гея, Гекуба… т. е. не Гекуба, нет, впрочем, Гекуба…
– Гм. Мудрено что-то… – извозчик был как будто не вполне удовлетворён. – Чёрт-то есть али нет? – спросил он снова.
– Черта, собственно говоря, нет, но есть боги, благожелательные к человеку, а есть неблагожелательные.
– Нет, это ты, барин, все не то говоришь, – после некоторого раздумья произнёс извозчик, – чёрт есть… это я тебе откровенно говорю.
Он обернулся совсем к своим седокам.
– Я его, черта-то, вчерась катал, не к ночи будь помянут. – Сказав так, извозчик внезапно встал, хлестнул раза три лошадь по животу и по обоим бокам, затем сел и, не обращая на неё больше никакого внимания, повернувшись к Степану Александровичу, начал рассказывать.
– Нанял меня вчера на Покровке барин, такой из себя ласковый, в шапочке… «Вы, говорит, извозчик, свободны?» – «Свободен, говорю, пожалуйте». – «Сколько вы, говорит, с меня возьмёте на Плющиху?..» Я-то вежливых господ не больно обожаю… коли вежлив, стало быть, денег мало, куражиться не с чего… Только этот, вижу, не из таких… «Пожалуйте, говорю, ваше сиятельство, чай, не обидите бедного человека». «Нет, уж вы, говорит, лучше скажите…» – «Целковый, говорю, дадите и ладно». Сел, хуч бы что… Я ему полость застегнуть хотел… «Не беспокойтесь, говорит, извозчик, я сам…» Ну, сам так сам… «Вы, говорит, и так трудитесь в поте лица, а я, говорит, у родителей на иждивении… Мне, говорит, вам помогать надо… Вы, говорит, рабочий, а я буржуаз…» Я ухо востро… Коли про рабочих заговорил – шабаш, не заплатит… Много я таких перевозил… Я ему эдак осторожно говорю: «Ежели, говорю, барин, есть у вас деньги и слава богу… Побольше на извозчиках катайтесь…» – «Я и то, говорит, катаюсь», – а у самого на глазах слезы… «Мы, говорит, с вами, извозчик, оба люди, значит, равны, говорит, а вот вы бедный, а я богатый… И так это мне, говорит, обидно…» Вижу, малый лапшистый. «Чего, говорю, обижаться… Прибавьте двугривенный да и ладно…» – «Я вам, говорит, извозчик, тридцать копеек прибавлю…» – «Спасибо, говорю, ваше сиятельство, наградили бедного человека…» Помолчал он да вдруг и говорит. «Вы, говорит, извозчик, меня сиятельством не называйте… Я, говорит, за революцию стою и мне это очень неприятно…» Неприятно, не надо. Моё дело сторона… Только едем это мы мимо большущего дома на Арбате… «Остановитесь, говорит, тут на минутку, мне, говорит, тут к товарищу зайти надо… Я вам, говорит, за это ещё прибавлю…» Подождём… Авось, думаю, через зады не сиганёшь… Время вечерне, холодное… Метёт вовсю… Глаза залепляет. Не заснуть бы только, думаю… И вдруг грезится мне родитель покойный… Подходит будто ко мне так со скорбью. «Не знал, говорит, Митрий, что ты черту душу продал…» – «Не продавал, говорю, души, это, говорю, вы, батюшка, меня напрасно…» А тот все головой качает… Только вот, слышу, сел мой барин в санки… Тронул я лошадь, подъезжаем к Смоленскому, я, значит, на Плющиху ловчусь, а он вдруг как крикнет: «Нешто я тебя на Плющиху нанимал, шут гороховый? Пошёл по Сенной… Сволочь…» Я оглянулся – темень… Я и говорю: «Как же, говорю, вы, сударь, за революцию стоите, а так лаетесь», а он вдруг как гаркнет: «Это я-то за революцию стою», да как меня по уху раз… Обернулся я, а тут как раз к фонарю подъехали, – батюшки… Усища в три аршина… глазища выпучил… «Я, говорит, тебя за такие речи в каторгу закатаю…» Тут-то я и смекнул, кто меня на Покровке-то нанимал…
– Кто же? – спросил Лососинов.
– Известно кто – неумытый…
В это время оба собеседника посмотрели по сторонам и замерли от удивления… Кругом, тая во мраке, расстилалась Необъятная снежная равнина… Луна насмешливо улыбалась темной земле. Москвы как не бывало.
– Ишь ты, – пробормотал извозчик, – никак мы за Дорогомиловскую заставу выехали… Господи, твоя воля… Наваждение дьявольское.
– Чего ж ты смотрел?! – воскликнул Лососинов, приходя в крайне раздражение. – Куда ты нас завёз?..
Он посмотрел на своего спутника. Тот мирно спал, придав телу почти горизонтальное положение, и Степан Александрович с негодованием заметил, что шапки на нем не было.
Глава IV
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ. ЛЕГЕНДА О ЖЕСТОКОМ РЫЦАРЕ. ДАМА В ПЕНСНЕ И БАРЫШНЯ БЕЗ ПЕНСНЕ
Как странно, как удивительно странно создана душа человеческая… То, перед чем она сегодня преклонялась с елейным благоговением, завтра мнится ей чёрною суетой дьявольской, то, что любила – ненавидит, что чтила – презирает… Как изучить душу? Как уместить великий её простор в тесные границы переплёта?.. Стократ прав был генерал, почитая психологию за науку труднейшую.
После всех приключений прошлого дня почувствовал Соврищев в душе некоторую тоску, которую вполне мог бы он назвать мукою неспокойной совести… «Вот он, – думал он про Лососинова, – он печётся о науках и искусствах. Неустанно тревожим он заботами о распространении на Руси великого классического знания… А я? Что я перед ним?» И, руководимый подобными мыслями, Соврищев поплёлся на Моховую, к знакомому букинисту, обладавшему удивительной способностью покупать и продавать книги, читать каковые никому никогда не приходило в голову. В этот раз Соврищеву особенно повезло, ибо букинист только что откопал в груде старых книг, наполовину съеденных мышами, греко-персидский словарь XVI века, напечатанный весьма мелким и витиеватым шрифтом, кое-где истёртым рукою времени. Полагая, что такая книжка окажется весьма ценной для процветания академии и радуясь подобной благоразумной выходкой загладить вчерашнее неблагоразумие, Соврищев купил словарь в долг и быстро направился к Лососинову.
Но, о душа, непостижимы твои глубины! Степан Александрович осмотрел книгу с каким-то отвращением…
– Что это за рухлядь ты притащил? – спросил он презрительно. И тут только Соврищев заметил, что весь письменный стол Степана Александровича был завален автомобильными каталогами. Один из них, с огромною шиной в виде восходящего солнца, был подпёрт широким лбом Сенеки.
– Любишь ли ты, Соврищев, – произнёс мечтательно Лососинов, – стук мотора, когда белая дорога извивается перед тобой среди виноградников, а хорошенькие торговки, спешащие в город, сторонятся со смехом от рокочущего чудовища?
– Люблю, – ответил Пантюша Соврищев, вдруг вспомнив, какие ножки встречаются иногда в низших слоях населения.
– Подумать, – продолжал Лососинов, и глубокую скорбь изобразило величественное лицо его, – что у нас в России нет приличного завода для производства двигателей внутреннего сгорания!
Тут, сев в кресло, прочёл он целую лекцию о бензине, с презрением отзываясь о паровых машинах, и отнёсся с сомнением к будущему царству электричества. Вынул из кармана зажигалку и зажёг в доказательство того, что бензин горюч. Изображая поршень, проткнул тросточкою обивку дивана, наконец вызвал из ближайшего гаража автомобиль, велел возить себя и Соврищева по городу и с ласковой улыбкой прислушивался к стуку мотора. Чувствовалось, что если подобное умонастроение Степана Александровича не получит внезапного уклонения, то существованию классической академии, а следовательно, и всему Государству Российскому будет нанесён великий ущерб.
– В одной старой книжке читал я однажды легенду. В некоем замке, стоящем над бездною, на весьма крутой и неудобной для пешеходов скале, жил барон, отличавшийся неимоверною злобою, которую срывал он не только на своих слугах и родственниках, но и на беззащитных животных… Не бывало случая, чтобы, встретив на дороге корову, рыцарь отказал себе в удовольствии засунуть шпагу ей в бок или чтобы, поймав кошку, не привязал он её за хвост к длинной бечёвке и не начал бы раскачивать в таком виде над бездною. Оторвать голову курице или цесарке было для барона забавой почти ежеминутной… Молва о жестокости феодала расползалась по долинам вместе с ужами и медянками, и люди избегали попадаться на глаза рыцарю, не желая послужить ему случайным предметом для развлечения.
Годы шли, и родные барона тщетно ломали себе голову, стараясь уяснить себе причину подобного его умонастроения. Приглашённые мудрецы ничего не смогли дать им, кроме совета держать ухо востро и не попадаться слишком часто на глаза ожесточившемуся рыцарю, что они, конечно, и без того делали… Однажды гулял рыцарь со своим пажом по берегу реки столь же бурливой, сколь узкой, и обмахивал себя широкой шляпой с пером, так как день был жаркий. Перед этим он только что отхватил голову овце, пасшейся на лужайке, и жестокость его теперь изыскивала себе нового применения. Вдруг глаза его уставились в одну точку, приняли выражение глубочайшего удивления, граничащего с ужасом, и, вперив в ту же самую точку указательный перст правой руки, закричал он:
– Что это такое?
Паж глянул по указанному направлению и обомлел: прекрасная дама, стоя на берегу, делала все попытки искупаться в реке, причём золочёная карета её со стыдливо отвернувшимся возницей стояла тут же на зелёном холме.
– Что это? – повторил барон, не опуская перста.
– Это дама, о благородный барон, – отвечал паж, дрожа от страха за несчастную, а кстати и за себя.
– Да, но что же это такое? – продолжал восклицать рыцарь. Он подошёл ближе к незнакомке, которая в это время уничтожила последнюю преграду между собою и солнечными лучами, внезапно упал на колени и, будто ослеплённый сиянием, закрылся епанчою. Когда он встал, лицо его было светло и умильно. Подойдя к красавице, которая между тем с перепугу влезла в воду, он любезно пригласил её обедать в свой замок и предлагал ей немедленно перестать купаться, не понимая, что заставляет её сидеть в воде столь долгое время. Красавице с трудом удалось убедить его обождать в карете, что он наконец и сделал, дав ей таким образом возможность одеться, не нарушая требований целомудрия. Возвращаясь в свой замок в карете, барон слегка обнимал стан дамы и все время умолял кучера не стегать бедных лошадей, а при встрече со стадом не только не сделал попытки проткнуть корову шпагой, но, протянув из окна руку, ласково потрепал ближайших животных. Такова, заканчивает легенда, удивительная сила женского влияния. Вследствие странного стечения обстоятельств барон с детства не только не видел женщин, но даже не подозревал об их существовании, что было совершенно упущено из вида его родственниками. Первая же встреча с женщиной превратила кровожадного льва в ласкового телёнка.
Весьма возможно, что мятежный гений Степана Александровича так бы навсегда и променял сладкозвучную музыку гекзаметра на однообразное постукивание машины, если бы на свете не царствовал случай и слугами его не были две женщины, равно прелестные, отличавшиеся друг от друга лишь цветом волос и посторонним признаком в виде пенсне, которым носик одной был украшен. Впрочем, кроме различия физического между ними было различие и духовное: одна была дамой, другая барышней. Дама в пенсне была брюнеткой и звалась Ниной Петровной, а барышня без пенсне была блондинкой и звалась Лиля (несколько вольное сокращение полного имени Зинаида).
Две феи эти стояли на углу Арбата и площади и, размахивая руками, приглашали остановить автомобиль, в котором ехали Лососинов и Соврищев. Оба немедленно отпустили бездушную машину и пошли по Арбату, слегка поддерживая скользящих женщин. – Степан Александрович, – воскликнула Нина Петровна, тщетно управляя ботиками, – какой вы злой… вы совсем, совсем злой и противный, и я вас больше не люблю… Я и своему Пете вчера сказала: ты знаешь, Петя, я больше совсем не люблю Степана Александровича – он злой и нехороший. Он основал какую-то латинскую академию и нам ни слова… А Петя так чудно знает латинский… Он очень обиделся… Когда он начинает болтать по-латыни, прямо ничего не поймёшь… Омус, гомус, мендум, прендум… Ах!
Она замерла и, многозначительно приложив палец к губам, кивнула Лиле на бельевую витрину, ярко освещённую среди мрака зимних сумерек.
– Не смотрите, это не для вас, – крикнула она обоим мужчинам, – вы всегда рады смотреть на то, что вам не полагается… Значит, латинская академия… Я хочу обязательно записаться… Какая плата? Танцы будут?.. Это будет чудно!.. Ко мне ужасно идёт туника…
– Не туника идёт к вам, а вы идёте к тунике, – возразил Степан Александрович, вежливость которого в обращении с женщинами не знала пределов.
– Какой скверный лгун… я такая некрасивая… Ах, как я завидую Лиле… она такая хорошенькая… Когда же бал в Академии?
Степан Александрович, понимая, что поэтический ум его дамы не способен будет оценить по достоинству двигатели внутреннего сгорания или истолкует этот термин в желательном для себя романтическом смысле, внезапно опять был охвачен прежней своей идеи и с таким жаром стал объяснять преимущества древнего мира, что проходивший мимо пёс, думая, что его дразнят, из осторожности залаял на Степана Александровича.
Муж Нины Петровны был добродушным человеком, занимавшимся собиранием слонов. Десятки фарфоровых, металлических, стеклянных, замшевых слонов, больших и маленьких, стояли всюду, услаждая взор своего хозяина, который не находил лучшего удовольствия, как целый день переставлять их с места на место. Другим ценным качеством этого человека было полное отсутствие ревности, доходившее до того, что, когда он заставал свою супругу в чьих-нибудь объятиях, он говорил обычно: «Я ведь сейчас опять уйду». И действительно уходил, из деликатности переставив с места на место какого-нибудь слона. Идея Академии ему весьма понравилась. Он предложил взять эмблемою слона, держащего в хоботе книгу с надписью «Илиада» или что-нибудь в этом роде. Лососинов с ним согласился, указав, что слоны упоминаются у Плутарха и у Тита Ливия…
Накрытый и блистающий серебром стол, нежный аромат, исходящий, очевидно, от волос Нины Петровны, и полное отсутствие ревности у её супруга привели Степана Александровича в состояние экзальтированное, чему способствовало и отсутствие Соврищева, который, кстати сказать, исчез с Лилей ещё по дороге…
Было решено, с согласия мужа, что Нина Петровна примет участие в филологизации народных масс, для каковой цели ею были испрошены у супруга средства на костюм музы, обдуманный тут же за обедом и долженствовавший быть одинаково привлекательным и для изысканного взора филолога и для подслеповатого великорусского пахаря.
Таким образом, инициативная группа по филологизации определилась из председателя – Степана Александровича Лососинова, секретаря – Пантюши Соврищева и действительных членов – Нины Петровны и Лили. Согласие Лили было предусмотрено заранее, ибо до сего времени не было случая, чтобы симпатичная девушка эта от чего-либо отказалась. Муж Мины Петровны в эту группу не вошёл, но в виде компенсации ему было предложено приобрести большого слона, который стоял бы постоянно на столе президиума. Тут же было написано письмо Ансельмию.
Петрову, приглашавшее его прочесть первую лекцию на следующий день в десять часов утра в доме Нины Петровны. Правда, это был ранний час, но Нина Петровна решила немедленно начать вести спартанский образ жизни и весьма удивила повара, приказав ему отныне готовить к обеду и к завтраку одну чечевицу.
Глава V
СТОП МАШИНА! ПРОБЕЛ В РУКОПИСИ. НЕОЖИДАННОЕ СОБЫТИЕ
Если читатель ждёт, что на следующий день ровно в десять часов состоялась первая лекция великого поэта, мыслителя и искусствоведа Ансельмия Петрова, что Нина Петровна с наслаждением скушала свою чечевицу, а Степан Александрович в сотрудничестве с Соврищевым приступил к составлению академического устава, то, смею сказать словами генерала, читатель этот никогда не изучал психологии. В том-то и дело, что здесь мы сталкиваемся с наиболее тонким в области переживаний души явлением, которое генерал предлагал называть не совсем удачно «стоп машина» и которое является естественным следствием из первоначального положения: труд для русского человека есть цель, а не средство.
Во-первых, письмо по каким-то совершенно непонятным причинам так и не было доставлено Ансельмию Петрову, во-вторых, даже если бы оно было доставлено, ничего бы не вышло, так как в десять часов все ещё мирно спали в доме Нины Петровны. Повар, вместо чечевицы, приготовил опять-таки по неизвестным соображениям паровую осетрину, за что не получил никакого замечания, а Степан Александрович Лососинов, заехав часов в пять к Нине Петровне на чашку чая, ни словом не обмолвился о вчерашних планах, говорить о которых не собиралась, видимо, и Нина Петровна. Пантюша Соврищев и Лиля вообще временно исчезли с горизонта, избирая для своих прогулок отдалённейшие переулки Замоскворечья, и только муж Нины Петровны купил-таки огромного фаянсового слона с клыками в виде электрических лампочек. Бестактный поступок этот, несомненно, указывал на нетонкость душевной организации этого человека, и к его покупке отнеслись весьма сдержанно.
Здесь, к сожалению, в рукописи покойного Кубического наступает значительный пробел. По некоторым отрывкам можно догадаться, что мятежный ум Степана Александровича после направлял свою пытливость во всевозможные направления, до выделывания картонных коробочек включительно. К мысли об основании Академии классических наук возвращается он спустя лишь несколько месяцев, уже среди лета, когда, приехав из деревни на несколько дней в Москву, он случайно встретил на Петровке Пантюшу Соврищева. Почему возникла вновь в его голосе забытая было идея, сказать трудно, хотя, вероятно, покойный Кубический не оставил без объяснения этого важного в психологическом отношении факта. Ясно одно, что прежние стремления охватили его с такой силой, что, пишет Кубический, «идя по Кузнецкому, он, к изумлению прохожих, выкрикивал целые стихи из „Энеиды“».
Весь день Степан Александрович провёл в пустой своей квартире, работая над составлением устава, который Пантюша Соврищев писал под его диктовку, во время пауз весьма ловко прокалывая пером мух. Странно было возобновлять мечты, порождённые зимними сумерками в этой, погруженной в летний сон, комнате. Майские газеты покрывали столы и зеркала, сухой стебель фиалки сох в безводной вазочке, люстры в белых мешках напоминали средневековых висельников. Но мысль, что теперь, летом, можно непосредственно приступить к распространению среди крестьян любви к античному миру, так вдохновляла Степана Александровича, что уже ничто не могло остановить его мыслей, извергавшихся из головы подобно лаве. Вечером, дабы несколько рассеяться и не сойти с ума от чрезмерного напряжения мысли, филологи поехали к Зону, где спустились в так называемый «ад», причём Лососинов тонко сравнил себя с Вергилием, а Соврищева с Данте. Они выпили большое количество вина, а ровно в полночь какой-то высокий мужчина подошёл к ним с бутылкой ликёра в руках, вылил её содержимое Пантюше Соврищеву за воротник, а пустою бутылкою ударил Степана Александровича по голове с такой силой, что тот потерял сознание.
Проснувшись на другое утро, Лососинов услыхал странный шум, который сперва объяснил признаками субъективного свойства. Однако, прислушавшись, он с несомненностью понял, что шум этот доносился извне, а подойдя к окну, увидал на улице странное волнение. Не одеваясь, так как в квартире никого не было, кроме одной старухи, он приотворил дверь на лестницу и спросил швейцара о причине шума и волнения.
Швейцар сообщил ему, что Германия объявила войну России.
Часть вторая Прошедшее совершенное (Perfectum)
Глава I
ВЕЛИКАЯ СУМАТОХА
Я не психолог в образованном смысле этого слова, Да, по правде говоря (на это я и в первой части указывал), – не особенно об этом сожалею. Учёные психологи по большей части ничего объяснить не умеют (т. е. в области своей науки, разумеется). Утверждают, например, что цвета у нас в глазу, на какой-то там Радужной оболочке (не слишком ли вы сами радужно настроены, господа психологи)? Ну, предположим, что в глазу. Вот когда случилась революция, я и спросил одного профессора: «Чего вы, – говорю, – собственно, красных флагов боитесь, ведь они у вас в глазу». Смутился и сам покраснел вроде флага. То-то и оно- то. Впрочем, забегаю… Но если трудно объяснить психологию, так сказать, индивидуальную, то что же сказать о психологии масс… Почему, например, накануне объявления нам Германией мировой войны можно было без всякого затруднения сесть в трамвай, ну, скажем, номер четвёртый, и проехать – сидя проехать, как следует, от самых Сокольников до Дорогомиловского вокзала, и почему через какие-нибудь двадцать четыре часа после вручения нашему послу каких-то там заграничных паспортов в тот же трамвай номер четвёртый сесть не было уже никакой физической возможности? Скажут, при чем тут психология? Люди, мол, бежали, спасали детей и имущество. Извините! На трамвае имущества не спасёшь, да и не было причин жителю Сокольников спасаться в Дорогомилове. Ну-ка, господа психологи! Вот вам маленький фактик, так сказать, в пределах городских железных дорог. Объясните-ка! Не можете? А генерал сразу объяснил. «Это, – говорит, – мобилизация духа». Скушали?!
О, если проживу я подобно патриарху Библии до тысячи лет, то и тогда не забуду тех великих дней, когда опустели вдруг все дома и все миллионное население Москвы бросилось куда-то сломя голову и когда все, как один человек, от старого знаменитого мужа, убелённого мудростью, до какого-нибудь оборванного мальчишки, прицепившегося к извозчичьей пролётке, говорили себе: «Славянские ль ручьи сольются в русском море. Оно ль иссякнет? Вот вопрос».
Я видел старушку, нёсшую куда-то жертвовать древние рубли времён первого Николая, я видел, как безрукий старик с Георгиевским крестом на груди останавливал на улице генералов и говорил: «Ваше превосходительство, когда прикажете выступать» – и генералы обнимали его и плакали. Смейтесь, ибо, может быть, это в самом деле смешно, смейтесь, ибо уж так устроены мы, что смешно нам то, что другим страшно или вдохновительно. Смейтесь теперь, когда обрушились на нас Карпатские горы и по всему миру разлетелась на куски разорванная Россия и когда каждый кусок ползёт как живой, чтоб снова сложилась – из кусков сложилась – красная свитка… Но довольно! Плотиною преграждаю поток патетической речи и вновь перехожу на тон обычный, ибо в смешном видеть страшное достойнее, чем в страшном смешное…
Степан Александрович Лососинов, узнав от швейцара о происшедшей в мире катастрофе, начал немедленно одеваться, причём, как он впоследствии рассказывал, так волновался, что всунул левую ногу в правую штанину и едва в таком виде не вышел на улицу. Завязывая галстух, он услышал торжественные звуки. Прислушавшись, он понял, что это во всех квартирах, сверху, снизу, сбоку, исполняется на рояле русский гимн.
Тогда он выбежал на улицу и замер, потрясённый. Трёхцветные знамёна плескались в ясной лазури золотого июльского дня. Люди брели сплошною стеною, причём на лицах их было такое счастливое выражение, что, казалось, каждый из них только что выиграл Двести тысяч и теперь гуляет, размышляя, как лучше использовать деньги. Пользуясь добродушием взрослых, дети невыносимо шалили. Они прикалывали прохожим к спинам бумажные ленты, рисовали на каретах автомобилях Вильгельма, неистово трубили и свистели в дудки.
Всякий человек, имевший на себе хоть какой-нибудь признак формы, хоть какую-нибудь форменную пуговицу или кокардочку, мгновенно делался предметом восторженного поклонения. Молодые люди из хороших семей, накануне ещё считавшие особым шиком трясти головою и волочить ногу, как паралитики, теперь, напротив, шли, выпятив грудь и подняв плечи до уровня ушей, и имели такой вид, как будто в первый раз в жизни надели пиджак. Здороваясь, они говорили: «Здравия желаю», прощаясь: «Честь имею кланяться», а в разговор ввёртывали фразы: «Фу, чёрт, штатский ногу отдавил» или: «Вон идёт драгун его величества, хорроший полк!»
Степан Александрович вдруг почувствовал, что соломенная шляпа как-то не помещается у него на голове. Она сползала то на затылок, то набок, то наползала чуть ли не на брови, то вдруг грозила улететь и броситься прямо под трамвай, то сдавливала голову железными тисками. В то же время Степан Александрович почувствовал, что ноги его сами собою пошли в такт, и в то же время вблизи грянул марш. Но заметьте, он ясно помнит, что не ноги пошли за маршем, а марш за ногами. Не будучи в силах выдержать, он зашёл в шляпный магазин. Все приказчики стояли в дверях, глядя на приближающийся полк, никто и не подумал о том, чтобы заняться с покупателем. Полк прошёл, гремя и блистая трубами, и – ах, как прекрасен и героичен был ехавший впереди юный безусый офицер. Букетик васильков просинел в воздухе и повис у него на груди, зацепившись случайно за позумент. Это был как бы материальный знак охватившего толпу восторга. Не успел офицер опомниться, как такие же букетики повисли у него на шпорах, на пуговицах рукавов, на хвосте его коня. Торговка не успевала получать гривенники, да многие и забывали платить ей. Какой-то старик, прижатый к стене, кричал: «Бельгию! Бельгию!» Никто не понял, что хотел он этим сказать, но многие тоже закричали «Бельгию!». И это так понравилось, что скоро уже все кричали «Бельгию!». И Степан Александрович, когда пришёл в себя, понял вдруг, что он вот уже пять минут тоже кричит «Бельгию!».
– У вас есть солдатская фуражка? – спросил он подошедшего к нему хозяина магазина.
– Извольте-с… Заговорённые… Берут вас?
– Нет, я иду добровольно!
И тут заметил Степан Александрович, что карман его вырезан и все его содержимое исчезло безвозвратно.
– Не беспокойтесь, – сказал хозяин, – мы с патриотов денег не берём.
И Степан Александрович ушёл в фуражке, подарив ему на память соломенную шляпу. Теперь голова его обрела своё спокойствие, словно кончилась злая мигрень под благотворным действием некоего пирамидона.
Соврищев жил в тихом переулке. Горничная, открывшая дверь, имела вид заспанный.
– Барин дома? – спросил Лососинов, без надежды получить утвердительный ответ. Горничная бессмысленно посмотрела на него и удалилась, ничего не отвечая, словно сомнамбула.
«Что за чёрт? – подумал Лососинов. – Или она с ума сошла от войны?»
Степан Александрович вошёл в комнату Соврищева, дабы оставить ему записку, и замер от Удивления. В комнате царил уютный полумрак, было душно и пахло давно и крепко спящим человеком; вывороченный пиджак валялся на полу, смешно взмахнув пустым рукавом, белье лежало на письменном столе, один носок был завязан на свечке неуклюжим бантиком. Сам обитатель этой комнаты спал, раскинувшись наподобие мальтийского креста на широкой кровати, причём одеяло и простыня валялись рядом на полу, и по лицу спящего было видно, что он намеревался проспать ещё по крайней мере сутки.
Лососинов рванул штору так, что едва не оторвал карниза, и бешено крикнул: «Соврищев!»
Ответа не последовало.
Тогда Лососинов подошёл к Пантюше и стал трясти его за плечи, повторяя: «Соврищев!»
Спящий слегка засопел, но не проснулся.
Тогда Степан Александрович вне себя от ярости вырвал из-под него подушку и подушкой этой изо всех сил хватил его по животу.
Спящий как-то странно хрюкнул, заёрзал на кровати и, вдруг повернувшись на бок, захрапел во все горло.
Тогда Степан Александрович, дрожа от бешенства, вышел в коридор.
– Скажите, пожалуйста, – крикнул он, – как вы его будите?
Ответа не было. Он заглянул в кухню. Горничная спала на сундуке, положив на себя все имевшиеся на кухне мягкие предметы.
– Эй! – крикнул он и ткнул её кочергой: – Вставайте!
Горничная вдруг вскочила, выпучила страшно глаза, крикнула: «Караул, жулики» – и, повалившись на сундук в другом направлении, заснула как убитая.
Тогда Лососинов пришёл в ярость. Подойдя к роялю, сыграл подряд все гимны дружественных держав, причём от злобы сломал педаль.
Затем он стащил Соврищева на простыне с кровати и, окунув палец в чернильницу, написал у него на лбу «Немец». Потеряв надежду разбудить, он решил как- нибудь проучить его, взял галстуки, сунул их в вазу из-под цветов, пошвырял на пол все, что висело в платяном шкафу, укрепил посреди гостиной найденную в кухне половую щётку, а на неё надел кастрюлю вместо головы и приладил пальто с растопыренными рукавами. Наконец, он стал ходить по всей квартире, хлопая дверьми, колотя кочергой по кастрюлькам и сковородкам и крича: «война, война, война».
Соврищев наконец проснулся и сел на кровати.
– Разве приехали? – пробормотал он. – Носильщик! Эй! Носильщик!
– Дурак! – прошипел Лососинов.
– А! – сказал Соврищев, потягиваясь. – Это ты, Лососинов. Тьфу… Во рту сукно какое-то…
– Идиот! Мерзавец… Война объявила Германию России. Понимаешь? Немцы подходят к Москве. Понимаешь? Тебя сейчас повесят. Понимаешь? Взорвут снарядом. Понимаешь? Сонная свинья! Баран!
Соврищев начал одеваться, стуча зубами и дрожа, как дрожат люди, которым не дали выспаться и сразу заставили вставать и одеваться. Но он все ещё, видимо, ничего не понимал.
– Ну, скорей! – кричал Лососинов, сам вдохновляясь своей ложью и швыряя ему штаны: надевай!., без белья можешь одеваться, не замёрзнешь… Я не ручаюсь, что немцы уже не заняли предместий… Слышишь гул орудий?
Соврищев машинально надел брюки.
Лососинов напялил на него пиджак, затянул на голой шее галстук с такой силой, что Соврищев захрипел и чуть не задохся, и потащил его к выходу…
– А умыться… а кофе, – бормотал тот, с ужасом сторонясь от чучела.
– Дурак! Видишь, я в военной фуражке… Кофе. Вот убьют тебя немцы, тогда узнаешь кофе… живо!..
И, наслаждаясь местью, он чуть не спустил его с лестницы.
На улице Соврищев немного опомнился и, зевая, пошёл, куда его вёл Лососинов.
– Видишь толпы людей, – говорил тот, – слышишь, как они кричат и поют… А ты, байбак, баба, нюня!..
– В самом деле война? – спросил Соврищев. – Я думал, что ты вола вертишь.
Лососинов начал придумывать новое обидное прозвище, когда часть толпы хлынула вдруг в переулок и едва не сбила их с ног. Все попадавшиеся навстречу с изумлением глядели на Соврищева, а некоторые так и застывали, не успев допеть гимна.
– Чего они на меня глаза таращат, – пробормотал тот. – Говорил, без шляпы неудобно.
Лососинов поглядел на него и ахнул. На лбу у Соврищева крупными лиловыми буквами написано было: «Немец».
Глава II
ПАЛКИ В КОЛЁСА
Пришлось вернуться.
Теперь праздник был, так сказать, на улице Соврищева, а Лососинов имел вид слегка смущённый.
– Свинья! – говорил Соврищев, стоя перед зеркалом и растирая лоб наслюнявленным пальцем: – Хам! Вот и не оттирается.
– Ну ерунда, ерунда. Как так не оттирается…
– Да… ерунда. Небось японские чернила-то!
– А ты мылом…
– Чтобы глаза защипало.
– Ну разбуди горничную и вели подать горячей воды!
– Разбуди-ка, попробуй!..
– Да ведь у тебя две прислуги… Где кухарка? Да чёрт её знает… Одна спит целый день, а другой никогда дома нет…
– Так ты бы прогнал их. Других бы нанял.
– Да это и есть другие… я каждый месяц прогоняю…
– Я не понимаю! – вскричал Лососинов. – Что это за люди?..
– И потом, – продолжал Соврищев, – пиджаки пошвырял, устроил в гостиной какое-то чучело… Разбирай теперь сам… я не желаю… Ведь прийти кто-нибудь может… Свинья!
– Ну, сегодня все на улице… никто не придёт…
– Дураки на улице, а умные люди дома сидят… Поднял ни свет ни заря…
– Болван! Шестой час.
– Ну и что ж… я, может быть, всю ночь не спал… от мигрени страдал…
– Ну, ну, мойся!..
– И ничего нет, главное дело, – продолжал Соврищев, растирая лоб намыленной зубной щёткой. – Немцы, оказывается, ещё и Варшавы не взяли…
– А ты бы хотел, чтоб взяли?.. Хорош русский! Действительно немец.
– Сам ты немец… иди-ка разбирай чучело… Лососинов пожал плечами и пошёл в гостиную. «Чёрт знает, – думал он, снимая кастрюльку со щётки, – чем приходится заниматься в этот исторический день… Да… трудно воевать с таким народом».
Он понёс в кухню кастрюлю. Горничная проснулась и теперь сидела около окна, подперев щеку рукою и глядя на крышу, на которой кошка старалась поймать голубя.
– Где у вас горячая вода? – спросил Лососинов, в пику ей решив все сделать сам.
– А где же ей быть, – отвечала та с сонной и добродушной улыбкой, – в коробке.
– Я вас серьёзно спрашиваю, – крикнул Лососинов, покраснев от злости, – Где вода?
– В коробке вода.
Лососинов вернулся в комнату Соврищева. Тот продолжал с тоской тереть лоб, перелистывая от скуки «Всю Москву».
– Она к тому же и грубиянка! – воскликнул он. – Издевается. Говорит вода – в коробке.
Соврищев вздохнул, и оба они пошли в кухню. Горничная снова спала на сундуке, с головой укрывшись какими-то юбками.
– Ну вот, – сказал Соврищев, – дурак… Она не спала, надо было пользоваться, а ты даже не потрудился узнать, в какой коробке.
– Да ведь это же нелепость!.. Сам посуди, ну как вода может быть в коробке?.. Просто ты их распустил… Они привыкли, что ты с ними амуришься.
– И неостроумно, – пробормотал Соврищев, – вон коробка какая-то из-под «Эйнема».
– Нет там воды никакой, – сказал Лососинов, заглянув в коробку. – Разбудить её, что ли?
Соврищев безнадёжно покачал головой и опять отправился к зеркалу.
– Пойдём, – предложил ему Степан Александрович, – почти незаметно.
– Спасибо.
– Ей-богу… Если кто не знает, ни за что не разглядит. Хочешь мою фуражку с козырьком?
– Что я, дурак, что ли?
– Имей в виду, Соврищев, – крикнул Степан Александрович, – что эту фуражку носят не дураки, а русские солдаты! Те самые солдаты, которые там на кровавых нивах защищают идиотов вроде тебя.
Соврищев долго смотрел в зеркало и наконец проговорил:
– Ну, пойдём!..
Они вышли на улицу.
– Поесть бы, – сказал Соврищев, – у меня маковой росинки во рту не было.
– Да, – пробормотал Лососинов, – в штаб теперь, разумеется, поздно.
Он был зол и недоволен тем, что его менее одарённый друг возымел над ним некоторую как бы власть и превосходство.
У входа в ресторан они столкнулись с двумя прекрасно одетыми джентльменами.
– Немцы уже идут на уступки, – проговорил один, ткнув пальцем в вечернюю газетку.
– Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes[1], – улыбаясь, возразил другой; – ручку Анне Сергеевне.
И они разошлись в разные стороны.
Глава III
МОЛНИЯ В МОЗГУ
Муж Нины Петровны сразу получил высокий пост в Красном Кресте. Враги и завистники утверждали, что его с кем-то спутали, что будто он выдвинулся тем, что запел однажды канарейкой в присутствии высокой особы, одним словом, говорили все, что при этом говорить полагается. Сам он, получив пост, немедленно привлёк к себе на службу всех знакомых, и Нина Петровна была очень мила в белом фартуке и белой косынке. Лососинов и Соврищев посещали Нину Петровну, которую и заставали всегда в некоторой ажитации. Нина Петровна хотя и жила на даче, но в такие Дни считала нужным быть в Москве. Генерал неоднократно говорил, что если бы все дамы и барышни в те дни продолжали жить на даче и не считали нужным быть в Москве, то мобилизация прошла бы ещё лучше. Впрочем, это мелочь.
Весть о том, что Степан Александрович собирается на войну, изумила – больше – потрясла всех его знакомых. От матери скрывали. Не было барышни или дамы, которая бы не связала ему тёплого исподнего платья, так что Степан Александрович, если бы захотел, мог бы открыть лавочку трикотажных изделий. Какая-то из барышень даже подарила ему перевязочный комплект, но уж это ни к чему. Человека, едущего навстречу такой опасности, надо всемерно ободрять, а не напоминать ему о бренности его тела. Один знакомый композитор написал даже марш «Mit Bewunderung Lososinoff gewidmet»[2] Дальний родственник – разбитый параличом севастопольский герой – прислал Степану Александровичу кисет, на котором бисером вышито было «Пли!». Словом, ликование было полнейшее, и можно сказать, что ореол героизма уже вспыхнул вокруг головы Степана Александровича. Ходили слухи, что он уже уехал, что его видели на вокзале в полном вооружении, кто-то утверждал даже, что он уже убит. Однако все это никак не соответствовало действительному ходу событий, ибо Степан Александрович продолжал жить в Москве. Неизвестно, что его задерживало. По одной версии он никак не мог разузнать точно, где принимается запись добровольцев, по другой – он был забракован врачебной комиссией вследствие отсутствия какого-то очень важного органа, чуть ли не селезёнки. Последняя версия, разумеется, неверна, ибо отсутствие какого-нибудь органа не может служить препятствием. Наоборот. Чем меньше у воина органов, тем воин, так сказать, неуязвимее. Но факт остаётся фактом. Степан Александрович продолжал жить в Москве. Ближайшие друзья стали к тому же замечать в его поведении нечто весьма странное и даже загадочное. Вот что говорил по этому поводу его закадычный друг Пантюша Соврищев.
«Сидим это мы однажды в ресторане „Пассаж“, едим, как сейчас помню, селёдку с гарнирчиком и слушаем гимны. И вдруг, можете себе представить, Лососинов забирает всю селёдку в кулак, отворачивается и шварк её мне прямо в морду. Такая сволочь! И ведь пьян, заметьте, не был. Я, конечно, разозлился, как налим, хотел его тут же при всех изувечить. Вытираю лицо салфеткой, а он поглядывает на меня не то с любовью, не то с сожалением. „Прости меня, – говорит, – Пантюша, но когда-нибудь ты поймёшь, для чего это я сделал, и не только не будешь на меня сердиться, а может быть, скажешь, что и жить-то тебе на свете стоило лишь для того, чтоб Лососинов запустил в тебя селёдкой“. Я с ним потом целую неделю не разговаривал. Ни за что бы не помирился, если бы он мне Пумку свою не уступил. Помните, была такая у Мюра продавщица – почти без юбки и глаза задёрнуты пеленою сладострастия. Только на ней и помирились».
Другая странность в поведении Степана Александровича состояла в том, что он, идя по улице или сидя дома, внезапно оборачивался назад с такой стремительностью, что однажды чуть не свернул себе шею. Он же однажды, закрыв глаза, хотел броситься под велосипед, как бы желая покончить с собой. К счастью, его удержали.
…Как все матери, госпожа Лососинова ничего не замечала. Война её не так уже заботила, ибо Степан Александрович пользовался отсрочкой, а к тому же сахарный завод, коего пайщицей состояла госпожа Лососинова, как-то с войной заработал резвее и дал вместо десяти годовых двенадцать.
Было это ранней весной тысяча девятьсот шестнадцатого года – «года самого скверного», как все полагали. Так думали потому, что тогда ещё не пережиты были года последующие. И все-таки хромый был год.
Госпожа Лососинова сидела однажды вечером в своей комнате, размышляя, отчего бы могла погаснуть неугасимая лампада: кошка ли дверью хлопнула, святой ли в обиде на неё за нерадение? А как радеть, когда столько хлопотливых сует и слухи такие ходят, что каждый слух – лишний седой волос. И спичек-де не будет, и перцем запасайтесь. А солдаты будто сказали: «Кончим с немцами воевать – ружей не сложим». Неужто опять, как в девятьсот пятом, Москву из пулемёта горошить? И вот – постель в комнате полуторная из дуба с пятью подушками – верхняя словно для булавок – а интереса к уюту нет. Кажется, прежде в такой дождливый вечерок пораньше спать лечь, снов дождичком нагонять, а теперь и не до сна. И все же решила госпожа Лососинова, приняв лакрицы, лечь.
Едва успела она облечься в пеньюар, как донеслись до её слуха из гостиной странные звуки. Словно забрался туда медведь или тяжёлый человек – и резвится. Тихо все, а потом вдруг, бум-бум, словно кто с потолка на пол летит…
«Господи, – подумала госпожа Лососинова, – уже не начинается ли что?.. И Стёпа дома ли? Словно кто в дом ворвался».
И от страха вне себя отправилась она заглянуть в полу растворенную дверь гостиной, в которой горел свет.
Тут же и замерла она в удивлении и недоумении.
Степан Александрович стоял посреди гостиной в пальто, галошах и шапке. Веревкою к его талии прикручена была, наподобие шашки, трость. В одной руке у него был чемодан, в другой большая постельная подушка.
Уже самый наряд этот мог показаться удивительным. Каков же был испуг госпожи Лососиновой, когда Степан Александрович вдруг разбежался и прыгнул со всего размаху на рояль, сорвался, выпустил чемодан и ударился головой об инструмент, от чего последний загудел.
Госпожа Лососинова не выдержала и вошла в комнату.
– Это все у тебя, Степан, от холостой жизни, – сказала она, – губишь ты себя. Вон Брусницына Наташа, чем не барышня?
Степан Александрович вид имел действительно крайне возбуждённый. Он поставил чемодан на пол и сел на него, потирая ушибленную часть головы.
– Мама, – сказал он глухим голосом, – видите вы меня?
– Да что ты, Степан, конечно, вижу, и что ты на себя напялил. Галоши грязные, смотри, как наследил!
Лососинов взволнованно прошёлся по комнате.
– Смотри, все кругом женаты… один Соврищев только… ну уж это я даже и не знаю, что это такое… человек он или ещё что… Наташа Брусницына очень в тебя влюблена.
– Я – принципиальный аскет…
– Я Наташу Брусницыну в бане видела – Венера… и не вертлява.
– Ну и обнимайтесь с ней на здоровье… Жениться! Как глупо!
– А на фортепьяны прыгать, скажешь, умно?
– Не ваше дело.
И Степан Александрович, уйдя к себе в комнату, дважды повернул ключ.
Госпожа Лососинова привела в порядок мебель, погасила свет и ушла к себе.
«Нужно будет, – подумала она, – ему в суп александрийского листу подмешать».
Глава IV
РУБИКОН ПЕРЕЙДЁН
– За каким дьяволом мы сюда приехали? – спросил Соврищев, когда извозчик по распоряжению Степана Александровича подъехал к дверям одного из кремлёвских дворцов.
– А вот увидишь, – сурово отвечал Лососинов, входя в роскошный вестибюль.
Бритые швейцары, похожие на фотографии знаменитых артистов, сидели на дубовых стульях и хрипло над чем-то смеялись.
– Мне князя Почкина, – сказал Степан Александрович, приготовляясь снять пальто и в то же время боясь унизиться, если снимет его сам.
Швейцары, сидевшие поодаль, молча отвернулись, а у ближайшего сделался страшный припадок зевоты, в который ушла вся энергия его организма.
Степан Александрович сам повесил пальто на один из бронзовых крючков.
Швейцар между тем с треском сомкнул челюсти и хотел что-то сказать, когда новый припадок зевоты помешал ему в этом. Он махнул рукой, как бы приглашая прибывших подняться по лестнице, и, по-видимому, тотчас же забыл про их существование.
– Посмотрим, будет ли он через год зевать в моем присутствии, – пробормотал Лососинов, взбираясь по лестнице, – мопс!
Поднявшись и войдя в первый зал, Соврищев чуть не вскрикнул от удивления. По всем возможным направлениям стояли столы, а за этими столами девушки в белых, как морская пена, одеяниях и ручками, напоминавшими по нежности эйнемовские безе, скатывали бинты.
У Соврищева разбежались глаза, закружилась голова, и он едва не упал на зеркальный паркет.
– Имей в виду, – прошептал Степан Александрович, что это всё – аристократки… Я не поручусь, что среди них нет какой-нибудь великой княжны. Поэтому брось свои штучки.
В следующей зале их ожидало не менее внушительное зрелище. Уже не барышни, а седые дамы торжественно сидели за швейными машинками и шили с мечтательным выражением лица.
– Графиня, – сказала одна из них, обращаясь к соседке, – я не понимаю, к чему такие длинные кальсоны? По-моему, таких ног у людей не бывает.
– Я сама удивляюсь, но ничего не поделаешь. Надо шить, как сказано. Те, кто давал размеры, лучше нас с вами знали, какие бывают у людей ноги.
Пантюша Соврищев инстинктивно боялся важных дам. Он как-то весь съёжился и вздохнул свободнее, когда следом за Степаном Александровичем вошёл в роскошный салон, превращённый в канцелярию.
Молодой человек с необычайно гладким пробором и с бледным лицом сидел за одним из письменных столов и созерцал висевший напротив портрет Кутузова.
– Экая прорва орденов, – говорил он более взрослому джентльмену с прекрасными черными усами, – ведь вы смотрите… Все звезды имел. А… Алябьев. Здорово. А? А мы с тобой Станиславу рады. А?
– Ну Андрея Первозванного у него нет, – задумчиво произнёс тот, глядя на портрет.
– Как так? А это?
– Это Александр Невский.
– Чепуха!
– Хотите пари?
– На сколько?..
Усатый джентльмен наклонился к уху молодого человека и шепнул что-то, отчего тот раскис от смеха.
– Подлец вы, Алябьев! – пробормотал он. – Ну ладно, согласен! А как проверим?
– Спросим Почкина, он все ордена знает, как отче наш.
– Я могу видеть князя Почкина? – спросил в это время Степан Александрович.
– А по какому делу?
– Скажите просто – Лососинов. Он знает.
– Как?
– Лососинов.
– Гм… Хорошо… сядьте, – прибавил он, хотя сесть было совершенно негде.
Молодой человек между тем что-то крупно писал, слегка высунув язык, очевидно, для облегчения процесса писания.
– Ну, конечно, Александр Невский, – сказал, возвратившись, усатый джентльмен.
– Честное слово?
– Ну вот. Спросите сами… Да, – прибавил он, – обращаясь к Степану Александровичу, – вас просят.
Соврищев, ожидавший, что их выставят со скандалом, чрезвычайно изумился. «Молодец Степан, – подумал он, – не подкачал».
В большом кабинете сидел со скучающим видом почтенный человек с седою бородою, расчёсанною врозь, чтобы не скрывать висящего под воротничком Владимира.
Рядом сидел рыжий господин и таинственно что-то рассказывал.
– Я и говорю, – бормотал он, – ваше высочество, ведь дважды восемь – шестнадцать. Нет, говорит, восемнадцать. Сосчитала на пальцах. Ну да, говорит, я и говорила шестнадцать, а вы всегда скажете…
– Не понимаю, – заметил князь Почкин, кивая на угол комнаты, – откуда во дворце могут быть кошки? Смотрите – кошка.
Он медленно перевёл глаза на Лососинова.
– Чем могу служить? – произнёс он, вежливо проглатывая зевок.
«Что они все раззевались?» – с досадою подумал Соврищев.
– Моя фамилия Лососинов, – произнёс Степан Александрович довольно-таки гордо, – я надеюсь, князь, что моё дело уже рассмотрено?
– Да, ваше дело рассмотрено, т. е., кажется, рассмотрено… Смотрите, – воскликнул князь вдруг с удивлением, – опять кошка.
– Это та же самая, князь.
– Да нет же. Ту я заметил. У той на лбу белое пятно, а у этой нет. Так ваше дело рассмотрено… Ведь, рассмотрено дело э… э… простите…
– Лососинова.
– Да, вот именно.
– Рассмотрено.
– И…
– Постановлено отправить с пополнением на фронт.
– Я очень вам признателен, князь, – заговорил Степан Александрович, – но позвольте вам рекомендовать и друга моего Соврищева. Он, как и я, одержим жаждою принести себя на алтарь отечества.
– Ага… Ну пусть заполнит анкету… Нам нужна молодёжь энергичная и… ну да, энергичная…
Соврищев, выпучив глаза, глядел на Лососинова.
– Послушай, – пробормотал он, – а там не опасно?
Но Степан Александрович сделал вид, что не заметил, а рыжий господин, медово поглядев на Соврищева, произнёс:
– Анкету вы спросите в соседней комнате у такого юноши с пробором – он секретарь… Впрочем, позвольте, я провожу вас, а то он знаете, новый человек… Что называется, ещё не вошёл в курс…
– Возможно, что тут есть крысы. Посмотрите, князь, вон ещё кошка, – заметил Степан Александрович, начавший чувствовать себя как дома.
Князь вдруг нахмурился:
– То есть что вы этим хотите сказать?
– Я думал, этим объясняется обилие кошек.
– Если бы это объяснялось только этим, то нечего было бы и удивляться… Впрочем, извините, я занят… Я занят… Видите, у меня бумаги. Я не могу отрываться ежеминутно из-за пустяков. Артемий Львович, пожалуйста, больше никого… Я не принимаю… у меня доклад в Марфо-Мариинской…
Соврищев, заполняя анкету, украдкою оглядывался по сторонам. Со стен на него насмешливо глядели узкие бритые лица александровских генералов. Степан Александрович нарочно не подходил к нему, а в стороне беседовал с усатым джентльменом по поводу формы.
– Вы закажите себе френч, знаете, такой, с карманами, – говорил джентльмен, – ну, конечно, сапоги и галифе… Разумеется, шинель… ну шапка… В штатском не советую… Там, знаете, в прифронтовой полосе в штатском ходят только жиды… Морду могут набить.
Когда Лососинов и Соврищев вышли из дворца и Соврищев собирался было уже накинуться на Степана Александровича со всевозможными упрёками, тот вдруг с необычайной стремительностью обернулся назад. Соврищев, шедший позади и не ожидавший манёвра, налетел на него, и они крепко стукнулись лбами.
– Что ты, ходить не умеешь, – воскликнул с досадой Пантюша, потирая ушибленное место, – и не поеду я ни на какой фронт… И война-то, говорят, кончается.
– Не поезжай, но помни, что над твоей трусостью будет смеяться весь дворец.
Соврищев плюнул в кремлёвский сад и решил покориться своей участи.
Глава V
ЗА ЧЕМ ЛОСОСИНОВ ПРЫГАЛ НА ФОРТЕПЬЯНО
Ночь 25 апреля 1916 года навсегда врезалась в память Пантюши Соврищева.
Бесконечно длинные ряды товарных вагонов, мелкий тёплый дождик, какие-то фонари, мерцающие на стрелках.
Пантюша Соврищев с детства безумно боялся паровозных свистков. А тут, как нарочно, приходилось идти мимо каких-то огромных паровозов, шипящих словно самовары, предназначенные для чаепития циклопов.
– Чего ты за меня цепляешься? – сердито спрашивал Лососинов, который сам поминутно спотыкался на свою шашку.
– Я боюсь, что меня обдаст паром, – отвечал Соврищев, а сам думал: «Пусть обдаст, лишь бы не засвистел, проклятый».
Огромные товарные составы по временам начинали медленно двигаться неизвестно куда, мрачно постукивая цепями.
Санитар, шедший впереди, начал вдруг озираться по сторонам с недоумением.
– Ваше благородие, – сказал он наконец, – та ж они вагоны передвинули. Где наши, не бачу!
– Ну, а что же теперь делать!
– Выртаться до комендатуры. Нехай ваше благородие коменданту голову взмое, за яким бисом наши вагоны переторкнул.
Степан Александрович безнадёжно оглянулся на чёрный коридор между вагонами. Дождь в это время на секунду прекратился и затем вдруг хлынул по-настоящему.
– Сволочь, – бормотал Соврищев, – сидел бы сейчас у себя в кабинете, а то бы поехал куда-нибудь… а теперь извольте по этой грязи таскаться да ещё того гляди раздавит тебя как муху.
– Садись на извозчика и поезжай домой, если ты такой подлец.
– Как же? Тут и извозчиков-то нету.
– Ну и молчи!
– Экое дило, – говорил между тем санитар, – все три вагона уздесь були… Словно бис их слопав.
Товарный состав вдруг остановился, зловеще тряхнул цепями и потащился обратно.
– Ты не расстраивайся, Соврищев, – вдруг сказал Степан Александрович, к удивлению Пантюши, совершенно спокойно, – тебе осталось немного мучиться. Как только мы сядем в вагон, я тебе открою одну тайну, и тогда ты станешь так же бодр и весел, как я… Видишь, идёт дождь, дует холодный ветер, вагоны со всех сторон грозят раздавить нас, а я смеюсь…
– Какая там ещё тайна, – недовольно пробормотал Пантюша, – уж не хочешь ли ты мне двести тысяч подарить?
– Ничтожный человек! Ты кроме денег не знаешь никаких радостей.
В это время санитар, бродивший взад и вперёд, вдруг испустил радостный крик.
– Прыгай, ваше благородие, прыгай, наши вагоны, прыгай живенько!
Товарный состав между тем начал двигаться все быстрее и быстрее.
В дверях одного из вагонов стоял другой санитар и махал руками.
– Сюды, сюды, ваше благородие!
К ужасу и удивлению Соврищева, Лососинов, подобрав шашку, довольно ловко вскочил в вагон.
– Ну же, прыгай, – кричал он теперь в свою очередь.
Я не могу, слишком высоко, – кричал вне себя от ужаса Соврищев, стараясь не отстать от поезда, – я лучше умру…
Но он почувствовал, как его со всех сторон ухватили чьи-то руки, и он шлёпнулся на вагонный пол, как пойманная рыба.
В то же время состав пошёл медленней и через минуту остановился.
– Конечно, с непривычки трудно прыгнуть в товарный вагон, – презрительно заметил Степан Александрович.
– А у тебя-то откуда привычка?
– Я упражнялся, прыгая на рояль. Человек должен подчинять себе своё тело.
– Чтоб я ещё раз куда-нибудь за тобой увязался!..
Вагоны снова тронулись.
– Сейчас, очевидно, нас будут передавать с Казанского вокзала на Брянский, – заметил Степан Александрович.
– Комендант сказал, ваше благородие, что заутра к полдню на Брянский прибудем.
– Как, только завтра?..
– Это значит, мы будем всю ночь вокруг Москвы колесить.
Пантюшу Соврищева, несмотря на его крайне раздражение, все же разбирало любопытство.
– А что за тайну ты хотел мне открыть? – произнёс он, стараясь говорить безразличным тоном.
Степан Александрович колебался секунду.
– Завтра, – сказал он, – когда мы отъедем от Москвы, я открою тебе эту тайну.
– Вероятно, боишься, что я удеру? Должно быть, очень хороша тайна, – ядовито заметил Пантюша.
Степан Александрович не унизился до ответа, а, расстелив на полу плед и подушку, лёг. Пантюша Соврищев вспомнил вдруг голубой бархат международных вагонов и золотые галуны на коричневом проводнике.
Он посмотрел на груду тюков, лежавших по обе стороны вагона, и злоба закипела в нем.
– Идиот, – пробормотал с таким расчётом, чтоб Лососинов слышал. Но тот величественно спал, а если и не спал, то, во всяком случае, всякая брань отскакивала от него, подобно дроби, бросаемой в гранитную стену.
Глава VI
ТАЙНА ЛОСОСИНОВА
Мокрые весенние поля медленно плыли мимо товарного поезда. В одном из буро-красных вагонов на тюках гигроскопической ваты сидели Степан Александрович и Пантюша Соврищев.
Перед ними стоял жестяной чайник и две кружки, в одной из которых Степан Александрович заваривал универсальной ложкою чай. Поодаль сидели и тоже занимались чаепитием санитары.
Товарный вагон от времени до времени, должно быть на стрелках, с силою сотрясался и тогда едущие подскакивали на тюках и пребольно прикусывали языки.
Хотя Пантюшу Соврищева и разбирало любопытство, но он упорно молчал, считая себя – и не без оснований – пострадавшим вследствие чудовищного самомнения Лососинова.
Внезапно Степан Александрович откашлялся, выплеснул содержимое кружки за дверь и спросил торжественно:
– Послушай, Соврищев, что ты думаешь о Беркли?
Пантюша Соврищев почувствовал себя несколько смущённо. Из самолюбия он не хотел проявить перед Степаном Александровичем своего неведения в каком бы то ни было вопросе; с другой стороны, он решительно не знал, что такое Беркли.
– Да не мешает иногда перед обедом рюмашеночек, – пробормотал он наконец и осёкся, так грозно нахмурился его более просвещённый спутник.
– Я тебя серьёзно спрашиваю, – воскликнул тот, – не ерунди!
Внезапно Соврищева осенило: очевидно дело шло о каком-то союзном генерале.
– Я предпочитаю Френча, – произнёс он нерешительно.
Степан Александрович, к его удивлению, недобро расхохотался.
– Ха, ха, ха! Я узнаю вас, господа империалисты. От Канта к Крупу это уже старо. Теперь от Беркли к Френчу… Но в самом деле. Что ты думаешь о философии Беркли?
Словно повязка спала с очей Пантюши Соврищева.
Дело, стало быть, идёт о какой-то философской доктрине. И тут он почувствовал прилив того особенного вдохновения, которое снисходит на интеллигентного русского человека лишь в тех случаях, когда приходится ему говорить о предмете, ему вовсе не знакомом.
У Пантюши Соврищева засверкали глаза, а руки стали эластичны, как пружины, и приготовились к жестикуляции.
Сперва тихо и медленно, как бы собираясь с мыслями, заговорил он о халдействе и буддизме и отнёсся с большим недоверием к учению Конфуция. Для начала выбрал он форму отрицательную, т. е. говоря, всё время говорил: я не буду говорить. Покончив с Востоком, перешёл он прямо к греческой философии, подверг сомнению факт существования Сократа, причём как-то незаметно на время перескочил и на проблему о Шекспире. Говоря о Риме, он только презрительно усмехнулся и назвал Цицерона балаболкой. Средневековье назвал изобретением учёных и только презрительно рассмеялся, когда Степан Александрович попробовал напомнить ему о Фоме Кемпийском.
Новая философия? Да, Пантюша Соврищев не отрицает значения Канта, хотя он мог бы быть, по его мнению, и посообразительнее. Гегель и Шеллинг. Ну да… Ну и что же? Гегель и Гегель. И ничего особенного. Фихте гораздо бы лучше сделал, если бы вместо того, чтобы заниматься философией, открыл колбасную.
– Ну а Беркли? – взволнованно прервал его Степан Александрович. – Что скажешь ты о Беркли?
Пантюша Соврищев, видя, что отступать уже поздно и что надо наконец заговорить о Беркли, собрался было сделать это очертя голову, как неожиданно вагон так тряхнул, что он прикусил себе язык.
– Прости, – пробормотал он, плюя кровью, – ты видишь, я уже не могу говорить.
– Тогда я буду говорить, – произнёс Степан Александрович, поудобнее устраиваясь на мешке. – Слушай, Соврищев! Как тебе известно, Беркли является основателем так называемого гносеологического идеализма.
Пантюша Соврищев презрительно пожал плечами как человек, принуждённый выслушать трюизмы.
– Иными словами, – продолжал Степан Александрович, – Беркли учит, что ты, например, как и все вообще, есть лишь сумма моих восприятий. Камень, лежащий в пустыне и не воспринимаемый никем, не существует. Понимаешь?.. Теперь слушай… (Степан Александрович заговорил шёпотом.) Человек, усвоивший это миросозерцание, уже ничего не боится. – Какого черта бояться, например, летящего снаряда, если ты знаешь, что это лишь сумма твоих восприятий?.. Так вот… если внушить это миросозерцание всей русской армии, то… ты понимаешь… солдат перестанет бояться чего бы то ни было… Помнишь, как я, отвернувшись, запустил в тебя селёдкой? Это я сделал спокойно, ибо знал, что, поскольку я отвернулся, ты уже перестал существовать.
– Вот в другой раз я запущу в тебя, тогда будешь знать, существую я или нет.
– Все равно ты меня не убедишь в факте своего существования, поскольку я тебя не воспринимаю… Но не в том дело. Для популяризации учения Беркли я написал брошюрку, доступную для солдата… Вот…
Степан Александрович вынул из чемодана рукопись.
– Называется «Куда делся кошелёк, когда Яков уснул». И видишь – простой народный язык: «Шибко любил Яков Богатов деньги, ох, как шибко. Много душ погубил из-за них, проклятых…» – ну, одним словом, идея такая, что, когда Яков засыпает, его любимый кошелёк исчезает, ибо некому его воспринимать. Понимаешь? Вот я и хочу добиться свидания с главнокомандующим, пока хотя бы юго- западного фронта, и постараться увлечь его своей идеи. А тогда мы напечатаем книгу в миллионе экземпляров и разбросаем её по всему фронту… И ты увидишь, что мы создадим новых солдат – солдат- гносеологических идеалистов, которые смеясь будут идти навстречу смерти…
Пантюша Соврищев покачал головой.
Степан Александрович, почувствовав, что его собеседник сомневается в справедливости его идеи, ужасно разозлился.
– Конечно, кретины и пошляки не поймут меня, – проговорил он, швыряя рукопись в чемодан и с треском его захлопывая.
– А тебе, Соврищев, – продолжал он, немного помолчав, – советую впитать в себя эту идею. Ты увидишь, как легко будет тебе жить, когда ты уверишься, что все есть лишь твоё восприятие.
– Если я лишь твоё восприятие, то за каким дьяволом ты ко мне пристал? – спросил Пантюша Соврищев.
Степан Александрович нахмурился.
– Я так и знал, что ты это скажешь, потому что ты дурак, – сказал он.
Больше они в этот день не разговаривали.
Глава VII
УДИВИТЕЛЬНАЯ ДАМА
Вещевой склад «лилового креста» помещался в офицерских казармах военного городка при городе Лукомиры Подольской губернии.
О, трижды благословенная, зеленокудрая, Южным Бугом перерезанная Подолия! Помню и я твои томлением исполненные, благоуханные летние ночи, древние каменные ограды костела и немножко подальше синагоги, кривые узкие улицы, где так сладостно раздаётся топот каблучков запоздавшей красавицы. И так отзывчивы, так безотказно добры лукомирские красавицы, что диву даётся заезжий иногородец. «Ну вот эта, наверное, пошлёт к чёртовой бабушке», – думает он, в узком переулке столкнувшись с воскресшей Суламифью. Но воскресшая Суламифь останавливается тотчас же по его трепетному знаку, улыбается так, что у бедняги сердце начинает вертеться волчком, и, подумавши, говорит: «Пойдём, миленький пан, до „Золотого Якоря“, только прошу выдать едну трёшницу». И, спрятав зелёненькую бумажку в оранжевый чулок (жест, от коего не может не вспениться мозг у самого хладнокровного), прибавляет: «А там хозяйка з вас ещё едну трёшницу возьмёт. Миленький пан, вы дусик!»
И так всегда, ибо воздух в Лукомирах насыщен любовью.
После десятидневного путешествия в товарном вагоне являли приятели вид, страшный для стороннего наблюдателя.
Небритые, облепленные грязью, обезумевшие от постоянных споров со станционными комендантами, они мало походили на своё московское обличье.
Но мысль, что война есть война, а не благотворительный бал, придавала им гордости. Вернее, гордился этим лишь Лососинов. Более слабый Соврищев предпочитал войне благотворительные балы.
– А что, – спросил Степан Александрович у извозчика, – в тихую погоду артиллерия слышна?
Извозчик, должно быть, не понял, ибо ничего не ответил.
Они объехали город по унылой и грязной окраине и выехали на плац военного городка, где солдаты занимались прокалыванием и избиением прикладом соломенного чучела. Два мрачных прапорщика стояли поодаль и то одобрительно, то неодобрительно качали головами.
– Они не подозревают, что я везу им душевное спокойствие, – заметил Степан Александрович.
Здание склада было двухэтажное, кирпичное и весьма чистенькое на вид.
Санитар встретил приятелей на крыльце и молча провёл их в большую комнату, где стояли, как в дортуаре четыре кровати подряд.
Странное зрелище поразило в этой комнате вновь приехавших.
На стуле сидел господин в белоснежной сорочке, синих галифе и божественных сапогах кавалерийского образца.
Он, очевидно, только что побрился, ибо слой пудры покрывал его полное благообразное лицо. Теперь он был занят расчёсыванием пробора двумя маленькими жёсткими щётками. Стоявший перед ним солдат дер. жал в руках зеркало, как в крестных ходах держат икону. Господин, причёсывавший себе волосы, пел:
Et tout cela pour un rien Qui nous charme qui nous tient Et qu’on appele l’amour[3]Худой молодой человек в полосатой пижаме шмыгал вокруг комнаты, изображая катание на роликах, и едва не налетел на Лососинова.
Приятный запах английского табаку и духов Coty был сразу отравлен вонью, исходившей от сапог Степана Александровича и Пантюши. Лососинов в припадке спартанской воинственности нарочно купил самые грубые сапоги.
И худой молодой человек, и тот господин, который совершал туалет, изобразили на лицах разочарование и недовольство.
– Разве нет других комнат? – воскликнул худой. – Здесь все занято.
– Две койки свободны, ваше сиятельство, – возразил с некоторой робостью санитар.
– Кой чёрт свободны!.. А в третьей комнате?
– Там Герасим Петрович с супругою…
– А…
– Князь, не волнуйтесь, – сказал полный, стирая пудру с лица, – вы простите, господа, что я при вас одеваюсь…
– Это мы извиняемся за наше внезапное вторжение Позвольте представиться: Лососинов.
– Соврищев, – сказал Соврищев.
Те пробормотали что-то неопределённо-среднее между фамилией и телефонным номером.
– Вам не родственник камергер Соврищев? – спросил старший.
– Он мне дядя, – ответил Пантюша и покраснел от наслаждения.
– Очень почтенный человек, но, извините меня, в денежных делах жох… именно жох… прекрасное русское выражение: жох! Иначе не скажешь: жох… жох!
С этими словами господин в галифе надел с помощью солдата великолепный коричневый френч с золотыми погонами и каким-то внушительным значком.
Степан Александрович нахмурился. Дело в том, что, внезапно обернувшись, он заметил, что юноша в пижаме показывал ему язык.
Тот, впрочем, не смутился, разделся догола и затем принялся одеваться с помощью того же солдата.
Степан Александрович и Соврищев открыли чемоданы и тоже начали раздеваться.
– А вы знаете, князь, Лутындин вчера на пари Марии Николаевне загадку загадал про «птицу Философ».
– Нет. Ей-богу?
– Клянусь!.. Мы все прямо лопнули.
– Молодчина… ну и она?..
– Не велела подавать ему сладкого.
– Значит, догадалась.
– Ну да… и показала, что догадалась.
– Ведь это карьера. А?
– Карьера. Ну, are you ready – Yes! Alle hopp![4]
Князь перепрыгнул через постель, и они пошли по коридору, напевая:
Mais enfin la petite Tranquillement vous quitte[5]Степан Александрович умывался, мрачно фыркая и отдуваясь. Такое начало ему, видимо, не понравилось.
Соврищев, наоборот, несколько ожил и, вытащив из чемодана башмаки и краги, энергично чистил их щёткой.
– Я знаю эту шансонетку, – заметил он, – её постоянно распевала Бобка Павловская…
Степан Александрович смотрел в окно на грязный плац, где солдаты продолжали избивать соломенное чучело.
Внезапно в коридоре послышались женские голоса и громкий стук в дверь.
– Нельзя, нельзя, – закричал Степан Александрович, – здесь нагие люди.
– Ну хорошо… Когда оденетесь, приходите наверх.
И голоса удалились.
Но Соврищев уже плясал в одном белье, от восторга обнимая Степана Александровича.
– Да ведь это же Нина Петровна и Лиля! – кричал он. – Неужели ты не узнал, идиот!
Оба почувствовали вдруг, как пропасть, отделявшая мировую войну от благотворительного бала, сузилась вдруг до пределов небольшой канавки. Лососинов раздражённо, а Соврищев радостно сказал: «Чёрт возьми!»
Одевшись и побрившись, они пошли наверх по широкой каменной лестнице.
В большой столовой у окна в плетёных креслах сидели две белоснежные сестры милосердия – Нина Петровна и Лиля. Перед ними стояли только что одевшиеся джентльмены и, постукивая папиросами о крышки портсигаров, громко смеялись.
– А, – закричала Нина Петровна, прерывая свой рассказ, – вот и они. Господа, прошу любить и жаловать. Наши московские друзья. Знакомьтесь. Это Лососинов, это Соврищев, это Грензен, а это князь Кувашев.
– Простите за не совсем любезную встречу, – сказал любезно Грензен, – но, вы знаете, мы и тут не гарантированы от хамья. (Лицо его вдруг стало меланхоличным.) На днях, например, приехал с пополнением грузин… или армянин… и с места в карьер такую штуку устроил… я при дамах не могу… перед завтраком очень неаппетитно…
– Не рассказывайте… я догадалась.
– Нина Петровна, вы не можете догадаться.
– А я вам говорю, что догадалась.
– Студенты тоже… ехали бы в земский союз… Один за столом вдруг гаркнул: «В Москве все переворота ждут!» А Мария Николаевна, вы знаете, близка с царской фамилией…
– Ну да она же его и срезала… и тонко…
– Да… да… Говорит: в Англии есть хороший обычай за столом не разговаривать… А?
– Но вас узнать нельзя в форме.
– А к вам так идут косынки.
– Поздно, поздно, надо было с этого начать…
Нина Петровна и Лиля закатились было, но вдруг умолкли. В комнату вошла очень красивая и очень почтенная дама в белой косынке и чёрном платье, украшенном на груди красным крестом.
Позади неё усатый кривоногий солдат с лоснящимися щёками нёс на блюдечке какие-то пилюли.
Грензен и Кувашев подошли к ручке.
Нина Петровна опять сказала, но очень почтительно:
– Это наши друзья: Лососинов и Соврищев.
Дама испытующе посмотрела на них и протянула руку.
– Очень рада, – сказала она и, обернувшись к солдату: – Кидай сюда!
Солдат присел на корточки и кинул в щель возле двери три пилюли.
– Ну как, помогает? – спросил Грензен почтительно, но игриво.
– Через три дня все подохнут, – отвечала спокойно дама и пошла к следующей щели возле окна.
– Et nous aussi? (И мы также?) – прошептал князь.
– Cessez!..(Перестаньте)
Дама и солдат прошли в соседнюю комнату. Соврищев вдруг почувствовал себя в своей тарелке. Он в припадке восторга слегка пожал Лиле руку между плечом и локтем.
А Степан Александрович снова угрюмо поглядел в окно.
На грязном плацу продолжалось избиение чучела. Внизу зазвонил колокольчик.
– А не вредно сейчас позавтракать, – заметил Грензен.
Соврищев войну представлял себе иначе.
С Грензеном и князем Соврищев тотчас же подружился.
Степан Александрович был охвачен каким-то непонятным раздражением, хмурился и старался не сосредоточивать своих мыслей на формах Нины Петровны, что плохо ему удавалось.
Весь день прошёл в болтовне о московских знакомых, и под конец Степан Александрович стал серьёзно сомневаться, что война на самом деле происходит.
Когда наступил вечер и все разошлись по своим комнатам, Соврищев сказал Степану Александровичу, кивая на Грензена и князя:
– Поедем с ними.
– Куда?
– К одной здешней жительнице.
Степан Александрович ничего не ответил, с раздражением разделся, лёг и отвернулся от своих трёх сожителей.
– Пойдёмте, в самом деле, Лососинов, какого черта? – сказал князь, надевая куртку из солдатского сукна.
– Вы, вероятно, устали с дороги? – вежливо заметил Грензен и возвёл очи к потолку. – Ах, я вас вполне понимаю. Мне стоит проехать в поезде один день, и я пропащий человек.
– Пойдём, балда! – прибавил Соврищев, обнаглевший за этот день до неузнаваемости.
– Я не за этим приехал на войну, – сказал Степан Александрович, – девочки есть и в Москве.
– Таких, как здесь, нет! – воскликнул князь.
– А вы знаете, он прав, – все так же вежливо произнёс Грензен, – здешние девочки совершенно исключительны!.. Бог их знает, как они ухитряются сохранять духовную невинность, с ними можно даже разговаривать на отвлечённые темы… Нет, серьёзно… Вот Юзя… она историю искусств Любке читала…
– Какой Любке? Которая ушами двигает?
– Ну, Любке… такой учёный…
– А!.. Любке…
– Пойдём, ты с ними о философии поговоришь…
– Птица, философ… Ха, ха!..
Соврищев и князь расхохотались, а Грензен вежливо и укоризненно качал головой.
– Good night (Спокойной ночи), – сказал он, после чего все трое весьма ловко вылезли в форточку и скрылись во мгле,
Лососинов задёрнул штору и не успел даже собраться с мыслями, как дверь отворилась и в комнату вошла Марья Николаевна.
Степан Александрович в ужасе кинулся под одеяло и, как нарочно, никак не мог укрыться. Одеяло как-то завернулось, и он, бормоча несвязные извинения, болтал голыми ногами.
– Пожалуйста, не нервничайте, – сказала Марья Николаевна, – я вам в бабушки гожусь.
И, поправив одеяло, она села на край постели.
– Я все слышала, – проговорила она тихо и торжественно, – вы благородный юноша.
Лососинов смущённо глядел в её прекрасные черные глаза и не знал, что отвечать.
– Вы честно и порядочно поступили, не пойдя с ними, – продолжала она, – и я уверена, что вы хорошо можете повлиять на князя. Бедный князь погибает в сетях одной шлюхи… Родители шлют мне телеграмму за телеграммой, а что я могу поделать с этим сорванцом? Не могу же я его драть. Повлияйте на него… вы сделаете святое дело!
Степан Александрович почувствовал гордость и умилился от сознания своей добродетели.
– Я сделаю все, от меня зависящее, – прошептал он, – бедный молодой человек!
– Она, конечно, хочет женить его на себе. Этой потаскушке лестно стать княгиней, но положение родителей… И я очень сердита на Грензена… он-то не маленький. А что, ваш приятель тоже шалопай?
– Ах, Марья Николаевна, вы знаете современных молодых людей!
– Да, да… это несчастье… Он женат?
– Нет.
– Вот они все не женаты… а потом вдруг женятся на какой-нибудь passez-moi le mot[6] – проститутке…
– Разумеется…
– Я бы вас очень просила просто не пускать князя никуда по вечерам… Смотрите на него как на младенца… и в случае чего сообщите мне о всех его эскападах… Повторяю, вы сделаете святое дело…
Степан Александрович вдруг вдохновился. Он с чувством поцеловал протянутую ему руку и сказал взволнованно:
– Клянусь сделать все, от меня зависящее!..
– Итак – союзники… Вы знаете, ваша фраза просто умилила меня. «Я не за этим приехал на войну!» Правильно!
– Да… я приехал… с другой целью… (Степан Александрович даже вздрогнул от неожиданно осенившей его мысли.) Марья Николаевна, вы, кажется, хорошо знакомы с главнокомандующим?
– А что?..
– Мария Николаевна… у меня есть проект спасения России!..
– Говорите.
Путаясь и заикаясь, начал Степан Александрович излагать философию Беркли и, постепенно загораясь, перешёл к великому её значению при настоящих условиях.
Прекрасные черные глаза, не мигая, смотрели на него и никак нельзя было понять, проходят ли сквозь пламенные мысли Степана Александровича или отражаются вместе с пламенем свечки.
Как бы там ни было, но Мария Николаевна вдруг встала, перекрестила Лососинова, поцеловала его в лоб и сказала:
– Господь да хранит вас! А письмо в Бердичев дам вам завтра.
И ушла из комнаты, грустно оглядев три пустые постели.
Оставшись один, Степан Александрович, по крайней мере, ещё целый час восхищался своей добродетелью… Мысль, что теперь он наконец близок к осуществлению великой идеи, приводила его в восторг.
Наконец он задремал, и тут ему вдруг приснилась Нина Петровна в совершенно раздетом виде и так ему улыбнулась, что он проснулся, задыхаясь, с сильным сердцебиением.
Он знал, что Нина Петровна помещается одна в комнате второго этажа, знал он и то, что Нина Петровна ещё в Москве неоднократно выказывала ему своё благоволение. И вот, плохо даже соображая, что делает, он накинул шинель, надел носки, чтоб не простудиться на каменном полу, и пошёл ощупью по направлению к лестнице. Осторожно поднявшись, он секунду соображал и затем двинулся по тёмному коридору, держась за стену и стараясь угадать желанную дверь. Разгорячённому его воображению за каждой дверью слышалось горячее дыхание Нины Петровны, но возле одной он остановился решительно. Здесь пахло «её» духами. Он тихо стал поворачивать дверную ручку, но в этот миг яркий свет прорезал мрак позади него.
Мария Николаевна стояла со свечкой в руке на пороге своей комнаты и беззвучно смеялась.
– Пойдёмте, я вас провожу, – прошептала она наконец и пошла вперёд с деловым видом, наклонив голову.
Степан Александрович шёл за нею, кутаясь в шинель и в полном остолбенении.
Она свернула в какой-то коридорчик и вдруг остановилась перед маленькой дверью.
– Вот, – сказала она, смеясь. – Нате свечку.
Степан Александрович вошёл в дверь и вне себя от конфуза заперся.
Все было тихо. Он просидел десять минут, двадцать, полчаса, наконец, решив, что все угомонилось, задул свечу и осторожно отворил дверь.
– Зачем же вы свечку-то потушили? – послышался в темноте недовольный голос. – У меня спичек нет. Ну, пойдёмте, я вас доведу до лестницы.
И, взяв его крепко за руку, повела на площадку.
– Идите осторожно, не оступитесь, – произнесла она, когда Степан Александрович стал спускаться. – И как можно в одних носках? У вас нет ночных туфель? Я вам пришлю завтра солдатские. Покойной ночи. Счастливый человек! Будете спать! А я уже пять лет не сплю по ночам. Пожалуй, буду сейчас писать для вас письмо…
И, зевнув, она исчезла во мраке.
Глава VIII
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
Город Бердичев во времена дикого царизма и кровожадного юдофобства был обычно синонимом ярко выраженных сторон еврейской нации. Говорили, например: «У нас в доме шесть зубных врачей. Просто не дом, а сплошной Бердичев». Или: «Я думал по виду, что он коренной русак, а заговорил: Бердичев».
И тем не менее штаб главнокомандующего юго- западного фронта помещался именно в Бердичеве.
Поэтому вагоны поездов, направлявшихся в этот город, были обычно переполнены офицерами всех родов оружия.
Тут были и прапорщики из интеллигентов, размякшие от жары, с расстёгнутыми воротами гимнастёрок. Были гвардейцы, шикарно расхлябанные и державшие мундштуки необыкновенно длинными аристократическими пальцами. Были бравые армейские поручики, спорившие на тему, что лучше потерять: руки или ноги, были генералы, важные и неважные, кстати, очень любопытный факт: кажется, все у генералов одинаковое: и погоны, и знаки отличия, и лета. А вот у одного есть, а другого нет самого этого генеральства – изюминки этой нет, не имеющей названия на человеческом языке. Перед одним генералом прапорщик грудь выкатывает колесом и распластывается от чести, а другому еле козырнёт одним пальцем – и генерал ничего. Сам чует, что его бог чем-то обидел, а чем и сам не знает, но терпит!
Впрочем, Соврищев одинаково боялся всякого генерала.
Не желая объяснять это просто трусостью, он утверждал, что сознание чужой власти подавляет его психику и не даёт нормально развиваться его индивидуальности. Поэтому он обычно старался не попадаться генералам на глаза.
Но чем ближе подъезжали друзья к Бердичеву, тем мучительнее становилось количество и качество генералов. Лезли они в вагоны десятками и были все с тою самою изюминкой, так что Соврищев под конец все время стоял, вытянувшись, не куря и не мигая глазами, накапливая в малоталантливом сердце своём лютейший гнев на гениального неоценённого им друга.
На подъездных путях к станции Бердичев потянулись синие, как спелые сливы, пульмановские вагоны с огромными завешанными шторами окнами.
У их входов стояли неподвижные часовые, при входе генерала лихо отводившие в сторону ружья. В одном из незавешанных окон мелькнула такая важная седая голова, что у Соврищева от почтения как-то дурно стало во рту, словно он раскусил одуванчик.
Наконец остановился поезд, и генералы хлынули из вагонов, словно ещё поважневшие от близкого присутствия штаба.
Соврищев отдохнул и даже нашёл в себе силы в давке слегка притиснуть ехавшую в поезде полную и грустную еврейку, на что та сказала: «ой, как же вы меня пожали, молодой офицер».
Сев на извозчика, Степан Александрович сразу скомандовал:
– В штаб главнокомандующего! – к великому негодованию Пантюши, считавшего, что прежде необходимо позавтракать.
Но Степан Александрович, чувствуя, что близится миг его торжества, естественно, волновался, и всякое промедление причиняло ему невыносимые моральные страдания.
– У меня письмо к его высокопревосходительству от её превосходительства Марии Николаевны Перчаевой, – сказал Степан Александрович дежурному офицеру, очень элегантному офицеру с аксельбантами и с выражением ума и любезности на бритом лице.
– Я могу передать.
– Нет, господин капитан, это лишь рекомендательное письмо, но мне надо главнокомандующего по личному, т. е. не по личному, а наоборот… т. е. я должен сам переговорить с его высокопревосходительством.
– Вам надлежало заранее записаться… Сейчас приём. Гм! Перчаева? Это та самая Перчаева?
– Та самая.
– Я доложу. Хотя… (он удалился, пожимая плечами и вертя в руке письмо).
Расхаживая по широкому коридору, Степан Александрович живо вспомнил те времена, когда он держал в гимназии выпускные экзамены.
– Пройдите, – сказал, вернувшись, капитан, – но в другой раз имейте в виду, что у нас непременная запись. Ну, знаете, просто нельзя без записи – весь фронт лезет, а главнокомандующий фантастически занят… сверх головы ещё вот столько (капитан показал на пол-аршина выше своей головы). У него железные нервы, но и он не выдерживает… ответственность неимоверная.
Туго пришлось Соврищеву, совсем плохо пришлось от кучи генералов, сновавших взад и вперёд. В особенности пугал один худой генерал с очень подвижными плечами и странным тиком. Он все время тёрся ухом о плечо и в то же время пытался лизнуть языком кончик носа. «А что если остановится и распечёт, – думал Соврищев. – Тогда одно средство – умереть!»
Но их ввели в обширную приёмную главнокомандующего.
Полукругом стояли посетители: дамы, штатские, старики, военные.
Седобородый генерал, похожий лицом на царя Додона, окружённого кучею генералов, обходил их и тихо спрашивал, словно исповедовал. И просители бормотали, что-то всхлипывая или просто откашливаясь, смущённые величием лица, к ним обращавшегося, и сознанием важности минуты.
Главнокомандующий в руках мял письмо Марии Николаевны.
– Это вы – Лососев? – спросил генерал.
– Лососинов, ваше высокопревосходительство, так точно, я, имею честь явиться.
– Здесь пишут, что вы придумали что-то для спасения нации?
– Так точно, ваше превосходительство!
– В чем же дело? – недоуменно спросил главнокомандующий, и все генералы затихли, тоже недоуменно хлипнув носами.
В этот миг Пантюша оперся лицом в спину Лососинова и дрожа пробормотал: «Поедем в Москву!»
– Дело в том, ваше высокопревосходительство, что это не я, а английский философ Беркли, я только являюсь передаточной инстанцией.
– Англичане наши союзники. Ну?
– Совершенно верно. И вот видите ли… надо внедрить солдату идеалистическое миросозерцание, ваше превосходительство.
– То есть? Потрудитесь объяснить.
– Внушить ему философию Беркли… т. е. что все есть наше представление, ваше превосходительство, т. е. что ничего не существует, ваше высокопревосходительство, вне воспринимающего субъекта.
– Я вас не понимаю.
– О, это очень просто, ваше высокопревосходительство, – с живостью забормотал Степан Александрович, в то время как кругом воцарилась мёртвая тишина. – Ну вот, например, снаряды… их нет на самом деле.
– Т. е. что вы этим хотите сказать? У кого это нет снарядов?
– Ни у кого. Снаряд – это комплекс восприятий… Или ещё проще… вот вы, ваше высокопревосходительство, стоите передо мной. Теперь вот я закрываю глаза, и вы, ваше превосходительство… не изволите существовать. (Степан Александрович хотел сказать «не существуете», но решил, что это будет непочтительно по отношению к генералу.)
И, сказав так, он закрыл и вновь открыл глаза.
О, лучше бы он никогда не открывал их, ибо страшно было то, что он увидел.
Он увидел, как понемногу начал багроветь генерал. Краска стала заливать его лицо, начиная снизу и кончая лысиной, причём на генеральском лице сменилась в течение двух-трёх секунд вся гамма красных тонов, начиная от розового тона флорентийского заката и кончая темным цветом старого бургундского.
– Что же это такое, господа? – проговорил генерал, обращаясь не то к своей свите, не то вообще ко всем присутствовавшим. – Я командую десятью вверенными мне моим государем армиями, я не сплю ночей, я изнемогаю от трудов, и вдруг я не буду существовать, когда какой-то неизвестный уполномоченный закрывает глаза? Как вы смеете приходить ко мне с подобными проектами! Как вы осмелились оторвать меня от служения моей родине!.. Мальчишка! Молокосос! Очень мне нужны ваши глаза! Я вас прикажу арестовать, господин уполномоченный, за оскорбление главнокомандующего. Вы у меня тридцать суток просидите… Наглость какая… Господа! Ну что же это такое? Куда мы идём?
И вдруг более спокойным тоном генерал произнёс:
– А Марии Николаевне скажите, чтоб таких дураков она ко мне больше не присылала!
И пошёл к следующему просителю.
Степан Александрович опомнился, только дойдя до конца коридора.
– Я сам, знаете, не чужд философии, – говорил вежливо капитан, провожая его, – иной раз, знаете, приходит в голову мыслишка. И я вас отчасти понял… но, по-моему, вы делаете одну ошибку… ну по отношению к нижним чинам… и даже к обер-офицерам ваша теория, может быть, и справедлива… Возможно, что когда вы закрываете глаза, они действительно смываются… но к штаб-офицерам и к генералам это неприменимо. Слишком, знаете, ответственные должности… Ну как же возможно, чтоб главнокомандующий и вдруг перестал существовать хотя бы на пять минут? Ему ведь и отпуска не полагается. Весь штаб моментально разлезется… все пойдёт к чёртовой матери… А он, вы заметили, вспылил. Нервы. Железные, не отрицаю, но нервы. У него больное место, что ему не доверяют и за ним следят, а вышло, что вы как бы намекнули… что за ним нужен глаз да глаз…
Степан Александрович тут вспомнил о своём спутнике.
Бледный, как полотно, стоял, странно приплясывая, позади него Пантюша и, щелкая зубами, бормотал:
– Где тут оправляются?
Глава IX
ЕЩЁ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
По возвращении из Бердичева наши друзья нашли склад в сильном волнении. Утром приехал из Киева особоуполномоченный и привёз какую-то новость, которую сообщил только Марии Николаевне, но почему-то все вдруг поняли, что новость эта важности чрезвычайной, и каждый стал делать вид, что он отлично знает, в чем дело, но не говорит, ибо поклялся свято соблюдать тайну.
Озабоченность Марии Николаевны избавила Степана Александровича от неприятного рассказа о поездке. Она только спросила:
– Ну, как главнокомандующий?
На что Степан Александрович ответил:
– Спасибо, очень заинтересовался.
Хотя особоуполномоченный, вследствие зубной боли, весь день не выходил из своих комнат и секретаря принимал в спальне, тем не менее все откуда-то узнали, что через два дня склад посетит государь, государыня и августейшие дети.
Секретарь отправил в этот день с десяток шифрованных телеграмм, чтоб вызвать в Лукомиры всех заведующих поездами-складами. По углам шушукались, говорили, что ни одно царское посещение не обходится без наград – орденов или ценных подарков – портсигаров, часов и т. п.
Князь и Грензен спорили всю ночь о том, будут ли давать ордена с мечами и с бантом, с одними мечами или без мечей и без банта. В конце концов, князь назвал Грензена неприличным словом, тот обиделся и оба уснули.
Тогда Степан Александрович тихо сказал Пантюше, поворачивая к нему своё похудевшее от волнения лицо.
– Ты знаешь, что я сделаю? Когда государь вылезет из автомобиля, я паду к ногам его величества и доложу ему все. Государь, конечно, ухватится за мою идею, и старому идиоту нагорит так, что он будет помнить.
Соврищев только вздохнул и заказал себе сон: благотворительный бал в Охотничьем клубе. И действительно приснился ему клуб, но вместо барышень сидели все полные генералы, и все они чесали себе ухо погоном и пытались лизнуть кончик своего носа.
Только за два часа до назначенного срока особоуполномоченный счёл возможным оповестить сослуживцев о выпавшем на их долю счастье.
Особоуполномоченный был худой, невысокий человек, умный и проницательный, очень образованный и очень хитрый, один из тех, которые при случае делаются Наполеонами и Августами.
Но, конечно, все были готовы задолго.
Нина Петровна и Лиля казались настоящими снегурочками (по меткому сравнению Соврищева).
– Вы – снегурочки, – сказал он, – но не вы таете, а я таю, глядя на вас.
Всем служащим было приказано сидеть на своих местах и работать как ни в чем не бывало.
Все уполномоченные должны были выстроиться перед зданием склада. Мария Николаевна и особоуполномоченный поехали на вокзал.
В тот самый час, когда царский поезд должен был прибыть в Лукомиры, разразилась ужасающая гроза, продолжавшаяся всего десять минут, но успевшая превратить дорогу в грязное чёрное месиво.
Это несколько задержало приезд их величеств и ещё больше усилило волнение ожидавших.
Но в Подолии грозы, не в пример нашей полосе, не сопровождаются трёхнедельным ненастьем.
Выступило солнце, и скоро на дороге к складу показался первый автомобиль – темно-синий автомобиль, блестящий как зеркало.
Из автомобиля торчали военные фуражки.
За первым показался второй, за вторым – третий.
Тут надо рассказать одно происшествие.
В городе Лукомирах была команда идиотов.
В деревнях во время мобилизации их забрали как глуповатых парней, но они оказались просто идиотами, а потому их решили утилизировать для простейших работ: копания выгребных ям и таскания грузов.
И вот подольский губернатор почему-то выстроил команду идиотов на вокзальной площади, а когда царь вышел на крыльцо и, удивлённый несколько странным видом солдат, спросил, кто это такие, губернатор ответил: Это идиоты, ваше императорское величество!
Государь усмехнулся.
Когда подъезжали к складу, он увидал по обе стороны двери полукругом выстроенных уполномоченных. Наклонившись к губернатору, царь спросил тихо: Это тоже… идиоты? И получил странный ответ:
– Уполномоченные, ваше императорское величество!
Когда царь вылезал из автомобиля, Соврищев должен был ущипнуть себя, чтобы убедиться, что он не сидит в кино или не рассматривает номер «Искр» – воскресного приложения к «Русскому слову».
Государыня шла рядом с особоуполномоченным, а позади двигалась блестящая толпа: граф Фредерикс, Воейков и прочие, кто обычно сопровождал высоких особ в подобных случаях.
К удивлению и к невыразимой радости Пантюши,
Степан Александрович не кинулся к ногам монарха по причине не высохшей ещё почвы, а только почтительно наклонился, как и все прочие.
Государь милостиво подал всем руки, а наследник, вдруг подбежав к одному из представлявшихся, спросил: «Вы аэропланов боитесь?» На что тот ответил:
– Привык, ваше императорское высочество.
Государыня всем дала поцеловать свою руку.
О целовании её руки накануне было целое совещание. Грензен, бывавший при дворе, разъяснил, что, во-первых: руку нельзя поднимать, а целовать на той высоте, на которой её государыня подала; во-вторых, руку нельзя брать, а лишь поддержать, сложив четыре пальца и оттопырив кверху большой.
Пантюша так и сделал, но, к его ужасу, в тот самый миг, когда он целовал государыне руку, та о чем-то спросила его, но так тихо, что он от волнения не расслышал. Пантюша, однако, нашёлся и пробормотал что-то тоже совершенно неразборчиво.
Затем все проследовали дальше.
В самом складе не обошлось без приключениий. Бухгалтер, растерявшись, не поцеловал руку царице, а лишь потряс её. Писарь, которому было приказано писать, как обычно, привлёк внимание наследника своим почерком.
– Как он красиво пишет! – воскликнул цесаревич. Напишите мне что-нибудь.
И писарь написал ему удостоверение: «Дано сие Его Императорскому Высочеству в том, что он действительно состоит наследником цесаревичем. Все начальствующие лица и общественные учреждения благоволят ему оказывать полное содействие».
Над столом писаря висел календарь с изображением царской фамилии. Фредерикс указал на него государю. Наследник и дочери обступили календарь и старались узнать себя.
Из генералов в особенности подействовал на Соврищева Воейков, имевший тогда особенно важный вид в связи с открытием в его имении водного источника «Куваки». О нем писал тогда Мятлев:
И я воды твоей, Воейков, Источник чистый признаю.Наверху был сервирован чай, за которым присутствовали кроме высоких гостей Мария Николаевна, особоуполномоченный и заведующие поездами.
Среди заведующих поездами были петербуржцы из высшего общества, и они ловко сумели занять великих княжен, перемывая косточки разным придворным старушкам. В особенности отличался один худой дипломат, изобразивший, как старуха Хвалынская ссорится с попугаем.
Степан Александрович смотрел на все это, и ему вдруг вспомнилось, как во всех исторических романах описывались великие карьеры, сделанные именно в такие моменты.
Итак, например, как стал фаворитом маркиз де-ла- Кордон-вер?
Во время парадного обеда у короля он по выражению лица последнего понял, что королю необходимо отлучиться на пять минут. Де-ла-Кордон-вер, громко захрипев, сделал вид, что он смертельно подавился костью. А когда все обедавшие, обступив его, били его по спине и дёргали за нос, король успел сбегать и вернулся в превосходном расположении.
А герцог де-Кавардак, изумительно ловко на балу вправивший обратно выхлестнувшийся из корсажа стан Марии Медичи?
И вот Степан Александрович решил встать, обратиться к царю и произнести по-французски:
– Sir! Le salue de la nation est dans ma tete! Permetez-moi de parler![7]
Кровь застучала у него в висках, а сердце захолонуло, словно он собирался войти ночью в спальню малознакомой дамы.
Но в тот миг, когда он уже почти встал, раздался крик.
Пантюша опрокинул себе на колени стакан чая и, подпрыгнув от неожиданности, вышиб головою из рук санитара поднос с пирожными.
На секунду воцарилась мёртвая тишина, а затем раздался оглушительный взрыв хохота. Пантюша стоял красный как рак, облепленный кремом, а все обтирали его салфетками и хохотали, хохотали…
– Но вы ничего себе не сварили? – спросил дипломат.
– Коленку немножко, – отвечал Соврищев, – но это совершенные пустяки.
А государь, улыбнувшись, сказал:
– Это к благополучию. Жаль только, что стакан не разбился.
И – подлец Пантюша – создал исторический анекдот: взял и хватил стакан об пол. Вдребезги.
– Браво, – воскликнул царь, – вот это люблю!
И тогда все зааплодировали.
Даже Мария Николаевна впервые ласково поглядела на Соврищева.
Грязь у подъезда и разлитый чай погубили Россию.
На вокзал поехали провожать все.
Роскошный поезд литера «А», тот самый, на котором вскоре должен был разъезжать Керенский вкупе с бабушкой русской революции, стоял у перрона.
Говорят, царь, приехав, приказал поставить поезд на запасный путь, чтоб не задерживать пассажирского движения, но начальник станции, сказав «слушаюсь», оставил его, однако, тут и задержал все движение, дабы в случае чего не задержать государя. Мечтая об ордене, вылил свой ушат на мельницу революции, ибо крепко ругали царя задержанные на соседней станции на пять часов пассажиры.
Освещённые окна были задёрнуты занавесками. Иногда государь или государыня, подойдя к окну, приподнимали занавеску, и тогда все военные и все уполномоченные, стоявшие на перроне, прикладывали руку к козырьку, вытягивались и замирали. Когда дан был третий звонок, государь отдёрнул занавеску и сел у широкого окна, посадив себе на колени цесаревича. Георгиевский крест белел у него на груди.
Беззвучно, не дрогнув, сдвинулся поезд и поплыл мимо станции.
И широкое яркое окно медленно уплыло во мрак, и уже последний пульман-гарраж прокатил мимо, а провожавшие все стояли, вытянувшись и приложив руку к козырьку.
А где-то на московских дворах играли в бабки те мальчишки, которые через два года должны были кричать, бегая по Театральной площади:
– Экстренная телеграмма! Расстрел Николая Романова! Царям не завидуйте!
Освещённый квадрат исчез за поворотом.
Руки опустились, все вздохнули облегчённо.
– Господа, – тихо сказал Грензен, беря под руки Лососинова и Соврищева. – Отсюда все в «Континенталь», но Марии Николаевне ни гу-гу.
– Это дело, – сказал Соврищев и окончательно примирился с мировой войной.
Князь подошёл к ним бледный и расстроенный.
– Мария Николаевна, – сказал он, – от кого-то пронюхала и зовёт меня играть с ней в домино. Какой лысый дьявол ей разболтал?
– Наверное, Прокофьев.
– А ему зачем сказали?
– Что же вы будете делать?
– Прямо не знаю, что делать… А ну её к дьяволу!
– Князь! – раздался из темноты голос камергерши.
Но князь, вдруг пригнувшись, бросился между грудами лежавших на станции тюков и исчез во мраке.
– Бегите все! – вежливо произнёс Грензен.
И все побежали.
Отель «Континенталь» составлял славу и гордость Лукомир.
И в самом деле, это был настоящий пятиэтажный отель с лифтами и портье, словно перенесённый сюда в готовом виде из Парижа или Берлина.
Остальные лукомирские гостиницы рядом с «Континенталем» казались убогими, да и были такими на самом деле.
Теперь в «Континентале» много номеров было занято участниками встречи монарха. Тут остановились заведующие поездами-складами и какие-то ещё неизвестные люди из Петербурга, ловко приехавшие именно в этот самый день для того, чтобы начать свою службу в складах. Не быть при встрече значило не получить ордена. Поэтому были все, кто только мог.
Веселиться предполагали в большом номере, занятом камергером Штромбе.
Камергер Штромбе был человек компанейский и не лишённый поэтического чувства.
Ещё утром, отдавая распоряжение о предполагавшемся ужине, он сказал метрдотелю:
– Белого вина, холодного, как снега Московии, и красного вина, тёплого, как вода генисаретская, шестьсот жён и девиц без числа.
При виде хорошо сервированного и ярко освещённого стола у человека всегда делается восторженное настроение. Нельзя подойти к такому столу, не потирая рук, не испытывая сладостного содрогания и не сказав: «Что ж, начнём, пожалуй», или «Недурно закручено», или что-нибудь в этом роде.
Теперь все были в нарочито восторженном настроении, ибо ладонь у каждого словно ещё как бы чесалась от прикосновения монаршей руки, а Штромбе утверждал ещё, что ордена будут с мечами и бантом. Если такой орден приятно получить, побывав в сражении, то насколько приятнее получить его, не побывав в оном. Поэтому радость уполномоченных была понятна и естественна.
На всех кувертах лежали записочки с фамилиями, но почему-то лежали они через один куверт, остававшийся безымянным.
– В чем дело, Штромбе? – спросил граф Хлынов, когда все уселись.
– Пока ещё это тайна, – ответил Штромбе и провозгласил тост за здоровье государя.
Ответом ему было громовое ура. Все головы откинулись назад, и пустые рюмки со звоном полетели в угол, где стоял уже на этот случай лакей со щёткой.
Рюмка водки и салат оливье были той каплей, которая переполнила чашу восторженности. У многих на глазах показались слезы умиления.
Пантюша уже пил на брудершафт с князем и Грензеном.
Один только человек был мрачен и уныл, ибо в человеке этом дух настолько доминировал над телом, что никакое чревоугодие не могло заглушить в нем любимой идеи. Говорят, Гракхи за едою сочиняли свои речи. Пока один брат сочинял, другой совал ему в рот пищу.
Да, один человек только равнодушно глядел на стоявшие кругом яства, и глубокую грусть изображали его проницательные глаза.
«Неужели отказаться от любимой идеи?» – думал он, равнодушно выпивая рюмку за рюмкой и словно по обязанности закусывая то балычком, то рыжичком, то икоркой. «Лучше умереть, чем превратиться в одну из этих машин, переваривающих пищу и мечтающих о мечах и бантах. Нет, я не откажусь от своей идеи!»
И, облизнувшись после провансаля, он почти вслух добавил: «То, что не удалось сверху, удастся снизу!»
И когда он сказал себе это, его вдруг охватило новое вдохновение, и ему захотелось выпить по-настоящему самому с собою. Он выпил, закусил омаром и только теперь обратил внимание на своих собутыльников.
Все они уже разговаривали во все горло, перебивая друг друга и вставляя в разговор крепкие словечки. Камергер Штромбе расстегнул свой китель, украшенный на плечах двумя золотыми орлами, и, видимо, готовился к некоему coup d’Etat[8]
– Господа, – кричал какой-то полный с удивительно приятным лицом петербуржец, – кто сказал, что мы проиграем войну? Покажите мне эту сволочь, и честное слово, я превращу его морду в салат…
– Это увеличит количество закусок.
– Господа! – кричал уже совершенно пьяный уполномоченный из сенатских секретарей. – Башкиров утверждает, что все шейные ордена можно носить всегда… Скажите ему, что он кретин…
– Кто говорит об орденах? Я знаю наизусть статуты всех орденов. Что? Станислав третьей степени даёт право пробовать пищу в казённых заведениях, но не высказывать своего мнения… Анна даёт право пробовать пищу и высказывать своё мнение… а, например, Владимир третьей степени даёт право посещать женские бани…
– Но не высказывать своего мнения.
– Хо-хо. C’est bien dit![9]
Внезапно Штромбе встал и принялся из всех сил стучать вилкой по бокалу.
– Господа! – заорал он, перекрикивая всех. – Когда римлянам не хватило женщин, они, как известно, похитили сабинянок и поступили вполне резонно… Видите: рядом с каждым из вас есть свободное место, надо, чтоб оно не пустовало… иначе мы не мужчины… не римляне… Каждому даётся полчаса времени на заполнение соседнего места… Кто за это время не найдёт себе дамы – вечный позор ему.
– Правильно! Здорово! Великолепная мысль!
– Ура!
– Сейчас ровно десять часов… Чтоб к половине одиннадцатого все свободные места были заняты дамами, независимо от возраста и общественного положения.
– Ура!..
Все ринулись из номера.
Сабинянок найти оказалось не так уж трудно, ибо они сами собрались у дверей «Континенталя», очевидно, предчувствуя неизбежное похищение.
Наиболее ловким удалось найти сабинянок и в пределах гостиницы.
Некий Бабахов, знаменитый своими победами, похитил из какого-то номера вполне приличную даму, остановившуюся в гостинице проездом в Одессу и скучавшую за чтением какого-то романа.
Пантюша поймал в ванной прехорошенькую горничную, Степан Александрович успел в течение получаса влюбиться, познакомиться и уговорить принять участие в пиршестве скромную белошвейку, возвращавшуюся с работы.
– Я клянусь вам, что вам ничто не угрожает, – сказал он, поражённый ясностью её невинных глаз, – вы прекрасны! Дайте мне возможность полюбоваться вами.
Скромная девушка, краснея, согласилась последовать за ним и застенчиво села за освещённый стол, потупив глаза и дрожащею рукой оправляя своё полудетское платьице.
– Я на ней женюсь! – прошептал Степан Александрович, стараясь не свалиться со стула, ибо вино внезапно бросилось ему в голову.
Присутствие дам внесло большое оживление.
Сабинянки резво занялись утолением голода и жажды, а затем принялись оказывать кавалерам конкретные знаки абстрактного благоволения.
Уже у Грензена оказался на шее розовый чулок, завязанный бантом, а князь натянул на голову лиловую подвязку, утверждая, что это орден подвязки.
Приличная дама, похищенная Бабаховым, оказалась замечательной танцовщицей. Под аккомпанемент Грензена она протанцевала на столе танец Саломеи, задев и опрокинув всего четыре бутылки и только два раза попав ногою в майонез.
Крик и шум разрастались ежесекундно.
Штромбе демонстрировал окружающим различные виды поцелуев.
Уже там и сям мелькали в воздухе похищенные у дам части туалета.
Степан Александрович нахмурился, увидав, что Пантюша пляшет в кружевных панталонах.
Но хуже всех повёл себя один мало до сих пор проявлявший себя уполномоченный.
Он встал, жестами обратил на себя общее внимание и со словами: «Отрыгну сердце моё и виждь яко блюю» – извергнул съеденное на окружающих.
Раздался визг дам и брань кавалеров.
Соседка Степана Александровича к его великому ужасу вдруг сняла с себя платье, оставшись в одних чулках, ибо белья на ней не было.
– Что вы делаете, – вскричал он, под общий хохот накидывая на неё салфетку.
– Чтоб платье не испортили. Мужчины не крепкие, – резонно ответила девушка и пошла повесить платье на вешалку, застенчиво увёртываясь от тянувшихся к ней рук, причём её атласное смуглое тело составляло красивый контраст с ярко-зелёными чулками.
Тогда Штромбе, уже совершенно пьяный, тоже разделся и в таком виде вышел в коридор, решив вдруг взять холодную ванну.
Там он столкнулся нос с носом с какими-то военными, из которых один почтенный седой генерал имел крайне недовольный вид.
– Будьте любезны прекратить дебош, – произнёс он, – я подольский губернатор.
Тогда Штромбе вернулся в номер, накинул на свои голые плечи френч с камергерскими погонами и, выйдя снова в коридор, сказал:
– Начихать мне на губернатора!
А из двери в это время с визгом выскочили две тоже голые девушки и побежали по коридору, преследуемые двумя уполномоченными, из коих один был во френче без галифе, а другой в галифе, но без френча. Все общество скрылось за дверью с надписью: «Для дам».
Губернатор постоял в раздумье, махнул рукой и отдал странное распоряжение. Оцепить гостиницу полицией, никого не впускать и никого не выпускать, а сам уехал.
– Грензен, он меня обидел, – плакал сенатский секретарь, утирая слезы чьим-то подолом. – Грензен, он утверждает, что нам дадут мечи без банта. Грензен… у меня нет сил… но я вас очень прошу… дайте ему по морде… от моего имени… вы тут будете ни при чем… Грензен… если вы это сделаете… я вам завещаю своё тверское имение.
Но вежливый Грензен мог уже только улыбаться. Глаза его глядели внутрь, а язык лишь шевелился, но ничего не произносил. Наконец он встал на четвереньки и, стараясь никому не мешать, пошёл в угол, где и заснул, положив лицо в песочную плевательницу.
А Пантюша с князем между тем придумали неописуемое и в высшей степени непристойное petit-jeu[10], вызывавшее визг и хохот всех принимавших в нем участие дам.
Степан Александрович вдруг страшно рассердился на Пантюшу. Он подошёл к нему и произнёс:
– Если ты хочешь быть со мною в хороших отношениях, то ты сейчас же наденешь белье…
Но усилия, которые Степан Александрович затратил на произнесение этой фразы, были так велики, что он как подкошенный сел на пол и с удивлением заметил что комната начала вращаться вокруг горизонтальной оси.
Он осторожно пополз к выходу и вдруг почувствовал у себя на затылке живительную свежесть. Кто-то пустил струю сифона мимо стакана и окатил Степана Александровича. Это сразу оживило его.
Он вышел в коридор и, побродив немного, зашёл в какую-то комнатушку, нечто вроде буфетной, где санитар пил чай. Санитар этот был молодой парень – лакей Грензена.
Степан Александрович, в припадке необъяснимого вдохновения и вспомнив свою идею («то, что не удалось сверху, удастся снизу»), стал объяснять ему вкратце теорию Беркли, в чем ему сильно препятствовала начавшаяся вдруг икота. Однако он довёл своё объяснение до конца и в заключение изложил содержание своей брошюры. Когда Иван Богатов заснул у себя в избе, он, по обыкновению, положил кошелёк на ночной столик. Но едва он закрыл глаза, как кошелёк исчез, ибо перестал быть воспринимаем.
Санитар выслушал все очень внимательно, кивая головой и говоря от времени до времени: «Ну уж это конечно». Или: «Оченно даже слободно».
В буфетной лежали на полу два тюфяка. На один из них лёг Степан Александрович.
Он почти засыпал, однако, услыхав голоса, открыл глаза.
В буфетную вошли ещё два санитара и принялись пить чай, оглушительно раскусывая сахар.
– Ну что? Все кутят?
– Самое пошло оживление. Ещё семерых девок привели. Одна ровно слон.
– Вот барин рассказывал, – сказал грензенский лакей, кивая на Степана Александровича, – какой случай был. Заснул так один, а кошелёк рядом положил.
– Ну и что ж?
– Украли.
– Много денег?
– Не сказывал. Полагать надо, порядочно.
– Я деньги завсегда в сапог. Самое для них тихое место.
Степан Александрович вздохнул и потерял сознание.
Часть третья Прошедшее несовершенное (Imperfectum)
Глава I
ОЧКИ УНИЖЕНИЯ
Когда произошла Февральская революция, муж Нины Петровны был назначен товарищем министра и отбыл в Петроград, облив слезами свою коллекцию слонов. Так как Нина Петровна не выносила Петроградского климата, то она осталась в Москве, а так как после революции ей одной жить в особняке стало страшно, то она уговорила Степана Александровича переехать к ней, на что тот из джентльменства согласился. Ему была отведена комната, непосредственно примыкавшая к спальне Нины Петровны, так что, в случае нападения на дом толпы санкюлотов он мог одним прыжком очутиться рядом с охраняемой дамой. Для большей безопасности Нина Петровна никогда не запирала дверь со своей стороны, а полы устлала толстым ковром, дабы доблестный защитник её мог появиться неслышно и внезапно, подобно карающему ангелу.
Из окон особняка, стоявшего в глубине двора, была видна радостная революционная толпа, ходившая взад и вперёд с красными флагами, не без основания полагая, что подобное хождение в светлый весенний день много приятнее всякого другого занятия. И все сочувствовали этой милой толпе. Даже больные в больницах, брошенные персоналом по случаю манифестаций и умиравшие вследствие отсутствия ухода, умирали радостно, сознавая, ради какого великого дела они покинуты. Родзянко и Гучков изнемогали под бременем популярности. В гостиных ругали Чхеидзе. Тогда же в одной из этих гостиных один грустный человек спросил хозяйку: «Что думаете вы о Ленине?» И получил в ответ: «По-моему, Максимов лучше». Ибо разумели тогда под Лениным обычно актёра Малого театра.
Степан Александрович революцию в общем принял. Он читал Нине Петровне вслух «Графиню Шарни» Дюма, а также Ипполита Тэна. Нина Петровна так нервничала от этих чтений, что Степану Александровичу приходилось проводить с нею круглые сутки, не покидая её даже в ванной, так как, узнав историю Марата, Нина Петровна была убеждена, что её убьют именно в ванне.
Да и нужно сказать, что прислуга большую часть времени проводила на митингах.
Вообще Степан Александрович отстал от общественной жизни, все время ходил в халате, очень пополнел и как-то потерял себя. Внутренний огонь, пожиравший его всю жизнь, вдруг угас, и у него незаметно стал вырастать второй подбородок, а в раздетом виде он стал походить уже не на одухотворённого факира, как прежде, а на моржа. В то время как вся Россия горела и возрождалась, гениальный человек, наоборот, брюзг и как бы впадал в ничтожество. Но кремень всегда кремень. Стоит ударить по нему другим кремнём и блеснёт искра. И вот этим вторым кремнём явился неожиданно никто другой, как Пантюша Соврищев.
Пантюша Соврищев с самого начала революции исчез.
Появился он внезапно у особняка Нины Петровны в конце октября 1917 года в 9 часов вечера. Шёл дождь. Тщетно прозвонив и простучав у парадного хода минут десять, он отправился на чёрное крыльцо, а по дороге заглянул в освещённую кухню. Он увидал зрелище, заставившее его слегка вскрикнуть от удивления: Степан Александрович находился один в кухне и, видимо, пытался поставить самовар. Подобрав полы халата, он безнадёжно перебирал уголь, наложенный в ведро, потом взял ведро воды и вылил его в самоварную трубу, так что вода хлынула из поддувала и подмыла ему подошвы. Тогда Степан Александрович погрозил кулаком в пространство.
Соврищев не смотрел дальше, а через незапертый чёрный ход прошёл в дом и прошёл прямо в комнату Нины Петровны. Та лежала на постели навзничь в батистовой рубашечке с розовым бантиком на груди и, когда Пантюша вошёл, раздражённо крикнула: «Готова вода?» Нина Петровна была без пенсне.
– Вы меня не узнаете, Нина Петровна? – сказал Пантюша, подходя к кровати.
Нина Петровна, вскрикнув «ах!», накинула на себя голубое одеяло и простонала:
– Недобрый. Разве можно так врываться?
– Я почему-то думал, что ваша спальня дальше а потому и не постучался. Что с вами?
– Страшные боли в животе… Мне необходима грелка, а Степан Александрович возится с самоваром. Прислуга разбежалась по собраниям.
– Нина Петровна, разрешите все же поцеловать вам ручку.
И Пантюша взял протянутую ему из-под одеяла душистую ручку.
– Какие у вас горячие руки, – вскричала Нина Петровна.
– Это моё свойство… Они могут вполне заменить грелку.
– Не смейте так говорить! Нехороший, нехороший…
– Скажите, Нина Петровна, у вас боли здесь?
– Здесь.
– Ну так вам нужен лёгкий массаж… я ведь когда- то готовился в медики…
– Врёте?
– Ну, вот… я никогда не вру… Я прошёл даже курсы пассивного норвежского массажа…
– Правда?.. А то меня все обманывают…
Но Пантюша уже разглаживал атласную кожу Нины Петровны.
– В самом деле мне уже лучше, – говорила она, но вы правда медик?
– Вы же видите.
– Куда? Куда? Здесь у меня не болит.
– Сегодня не болит, заболит завтра…
Но внезапно раздавшиеся шаги прервали курс лечения. Пантюша стремительно отскочил в амбразуру окна, а Нина Петровна натянула до подбородка съехавшее было на пол одеяло.
Степан Александрович вошёл не один, а с некоей госпожой Толстиной, дамой, не способной молчать ни при каких обстоятельствах.
Вошедшие не заметили Пантюшу.
– Душечка, – кричала Толстина, – вы знаете какой ужас? У Анны Дмитриевны повар оказался большевик и держит в кухне пулемёт… На бедняжке Анне Дмитриевне лица нет… За одни сутки cette belle femme, рагсе qu’elle est vraiment belle[11], превратилась в мощи… И прогнать нельзя, он лидер. Но вы больны? Что с вами? Чем вам помочь?..
– Воды нет горячей, – мрачно заметил Степан Александрович. В это время, обернувшись, он увидал своего друга.
– А, ты здесь? – произнёс он с удивлением, но без особой радости.
– У меня уже все прошло, – заметила Нина Петровна, пока Пантюша целовал Толстиной руку.
– Не верьте! Не верьте этим внезапным улучшениям. Помните, как бедный Семён Павлович за пять минут до смерти почувствовал себя настолько хорошо, что по телефону вызвал цыган. В результате цыгане попали на панихиду. Но вы лежите дома? Без мужа?
– Нина Петровна сделала мне честь экстренно вызвать меня, – сказал Лососинов смущённо.
– Но вы разве врач?
– Мы все на фронте стали немного врачами.
– А в халате теперь ведь можно ходить по улицам, глуповато заметил Соврищев, – тебя могли принять за бухара, за хи… хи… хивинца… вообще национальное меньшинство.
– Да, я так торопился, что не успел переодеться, – побагровев, произнёс Степан Александрович и, заклявшись, вышел из комнаты. Пантюшка последовал за ним.
– Терпеть не могу этой дуры, – пробормотал Степан Александрович, разумея Толстину. – А тебя что принесло?
Пантюша Соврищев дерзко посмотрел на него.
– Я приехал за тобой, Лососинов, – сказал он, – твоё поведение мне не нравится.
Степан Александрович вздрогнул и нахмурился.
– То есть? – глупо спросил он.
– Смотри, во что ты превратился, – нахально продолжал Пантюша, – я сам, голубчик, люблю женщин, но нельзя же ради них пренебрегать общественным долгом. Я лично дал себе слово не прикасаться руками ни к одной женщине, пока династия не будет восстановлена.
Степан Александрович даже весь задрожал от негодования.
– Ты будешь читать мне нотации! – презрительно сказал он.
– Да, я! Поскольку я сейчас укрепляю российский трон, а ты только…
И Соврищев неприлично обозначил основное занятие Степана Александровича.
– Я прошу тебя не вторгаться в мою личную жизнь.
– Я не вторгаюсь, а говорю… Посмотри на себя в зеркало, на кого ты похож? Не то Фамусов какой-то, не то Аксаков. Российский император в плену у хамов, а ты…
– Дурак! Я, может быть, больше тебя страдаю…
– Докажи на деле.
– И докажу…
Пантюша дерзко хихикнул.
– В этом халате? Ну, прощай, меня ждут мои единомышленники. Я хотел тебя привлечь, но если тебе важнее баба…
– Идиот! Воображаю, что это за компания.
– Во всяком случае, самоваров мы не ставим для дамских животов. Прощай!
– Подожди, в чем дело…
– Поедем, увидишь.
– Сейчас… я переоденусь… Хотя я уверен, что от тебя нельзя ждать ничего путного.
Пантюша ничего не ответил, но молча отогнул обшлаг пиджака.
Там был вышит крошечный двуглавый орёл, но не общипанный, а как следует: орёл с короной, державой и скипетром.
Степан Александрович побледнел от зависти, но нашёл в себе силы недоверчиво усмехнуться. Затем он пошёл одеваться.
На улицах было уже темно. Откуда-то доносились звуки Марсельезы и глухой грохот грузовиков, летящих во весь опор. Какая-то женщина пела во мраке:
Он бесстыдник, он срамник. Все целует в личико, Мой любезный большевик, А я меньшевичка.Степана Александровича слегка мучила совесть, ибо он ушёл, ничего не сказав Нине Петровне, – она бы его не отпустила, боясь пролетариата. Правда, он сильно рассчитывал, что Толстина просидит ещё часа три.
Они шли по тёмным переулкам между Арбатом
Пречистенкой. Внезапно Соврищев остановился и, вынув из кармана большие синие очки, как у слепых, сказал:
– Надень!
– Какого черта?
– Надень, говорю тебе!
– Я в них ничего не вижу.
– Это и требуется. Изображай слепого. Видишь, это конспиративная квартира, а мы ещё не имеем? основания доверять тебе.
– Дурак, я иду домой!
– Прощай!
– Постой!.. Ты хочешь скрыть от меня адрес?
– Да.
Степан Александрович с ужасом чувствовал, как Соврищев неуклонно берёт над ним власть. Он мысленно проклял Нину Петровну.
– Я могу дать тебе слово…
– Милый мой, я действую по инструкции целой организации.
– Ну, чёрт с тобой!
Степан Александрович надел очки. Стекла с внутренней стороны были заклеены чем-то, так что решительно ничего не было видно.
Пантюша взял его под руку и энергично поволок.
Степан Александрович слышал, как сказала какая-то женщина:
– Господи! Сколько людей покалечили. Кто без глаз, кто без носа.
Они вдруг повернули направо и пошли по мягкой земле, – очевидно, по двору.
Глава II
МНОГОГОЛОВАЯ ГИДРА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
На особенный троекратный стук отворилась дверь, и торжественный радостный голос произнёс, сильно картавя:
– Здравствуй, дорогой друг!
Степан Александрович снял очки. Они стояли в ярко освещённой передней, где по стенам висели гравюры и книжные полки. Человек небольшого роста в офицерской форме и с моноклем в глазу стоял с таинственной улыбкой на полном бритом лице, опираясь на костыль.
– Лососинов, – сказал Пантюша.
Тогда военный, ковыляя, подошёл к Степану Александровичу, взял его руку так, словно хотел прижать к сердцу, и сказал, все также грассируя «р» и картавя:
– Добро пожаловать, брат мой… Брат, ибо у нас одна мать – Россия!
И он заковылял на костыле, указывая дорогу.
Они прошли через уютную гостиную, тоже сплошь увешанную гравюрами и уставленную старинной мебелью.
Александр Первый таинственно улыбался со стены.
Военный привёл их в кабинет, такой же старинный, где Степан Александрович, к своему удивлению, увидал Грензена и князя. Ещё какой-то юноша с лицом, как у лягушки, сидел в углу с гитарой и перебирал струны.
Грензен и князь приветствовали вновь прибывших.
Лягушкообразный юноша отложил гитару и шаркнул ногой, одновременно наклонив голову под прямым углом.
Лев Сергеевич Безельский, – сказал Соврищев, указывая на хозяина.
– Как, – вскричал тот, – и ты не сказал, куда ты ведёшь своего друга и нашего брата! О, Талейран! О, хитрейший из дипломатов!
И он вновь поднёс руку Степана Александровича к своему сердцу.
Затем все сели на диваны, причём Безельский подвинул вынул гостям ящик сигар, а сам взял длинную до полу трубку.
– Филька! – крикнул он и стукнул костылём об пол.
Мальчик в серой куртке с позументами вошёл в комнату и, улыбаясь, помог барину раскурить трубку.
– Чему ты рад, дурень? – спросил тот печально и торжественно. – Ты жид или русский?
– Русский.
– Ну, так рыдай, а не смейся!
Мальчик ушёл, фыркнув.
Безельский положил больную ногу на бархатную подушку и пустил целое облако ароматного дыма.
Et bien (Итак), – сказал он. – Baron! Des nouvelles (Новости).
– Я неделю тому назад вернулся из Санкт-Петербурга, – заговорил юноша, кривя лягушачий рот, – церкви полны народом, и все ненавидят Временное правительство. Керенский явно сошёл с ума. Мой дядя – барон Гофф – он его знает – и он тоже говорит, что он сумасшедший. Недавно он хотел прогнать своего шофёра, а тот оказался большевиком, и Керенский струсил и извинялся. Дядя говорит, что он вообще трус и подлец.
– Грензен, – сказал Безельский, обращаясь к Грензену, – тебе не трудно выдвинуть тот ящик… первый от тебя… Что ты там видишь?
– Верёвку, – сказал Грензен вежливо и удивлённо.
– Достань её.
Грензен достал из ящика довольно длинную верёвку, вроде той, которой увязывают дорожные корзины. На одном конце верёвки была сделана мёртвая петля.
– Это мой подарок Керенскому, – сказал Безельский, – пока спрячь!
Все умолкли, а Пантюша украдкой с торжеством поглядел на Степана Александровича. Но в глазах у того уже горел внезапно вспыхнувший с новою силой огонь, и чуял Пантюша, что недолго ему властвовать. Ибо, по счастливому выражению, гений лишь на секунду может быть рабом.
Когда часа через два они вышли от Безельского, получив каждый инструкцию, как действовать, если что-нибудь случится и если ничего не случится, Степан Александрович, к удивлению Соврищева, пошёл по направлению к своему месту жительства, т. е. в сторону, противоположную той, где жила опекаемая им особа. Прощаясь, Лососинов пожал руку Пантюше, на что тот сказал:
– Я ж тебе говорил, что общественная деятельность лучше всего этого дамья.
Они расстались. Была дождливая осенняя ночь. Люди притаились, и на улицах было пусто. Издали, со стороны Кремля, донёсся вдруг выстрел. Пантюша невольно ускорил шаг, вернее даже побежал, и побежал он к Нине Петровне, отчасти потому, что это было ближе, но главным образом потому, что его мучила совесть: как-никак это он отбил у Нины Петровны её защитника. Второй выстрел, раздавшийся в сырой мгле, как бы подтвердил правильность принятого им решения. Через полчаса, расстелив перед камином стёганое ватное одеяло, Пантюша и Нина Петровна играли в «пляж». Иллюзию несколько нарушало отсутствие на них купальных костюмов, но это было легко дополнить воображением.
Вдруг у самой двери послышались шаги. Пантюша бросился в гардероб, а Нина Петровна едва успела запихать под кровать части его одеяния.
Степан Александрович, движимый также укорами совести, решил вернуться к несчастной аристократке.
– В Москве стреляют, – мрачно сказал он, покосившись на одеяло у камина и на лежащую на нем, так сказать, Венеру.
– А, это хорошая идея! – продолжал он. – На дворе сыро и холодно.
С этими словами он медленно разделся, закурил папиросу и с суровым видом растянулся на одеяле.
– Нина Петровна, – сказал он, – я вступил в боевую монархическую организацию, с минуты на минуту я могу кого-нибудь убить, но и меня также могут убить с минуты на минуту; сейчас я принадлежу истории, я обречён, такие люди не должны иметь привязанности, поэтому между нами не может быть прежних отношений.
Сказав так, он покосился на Нину Петровну, но она лежала совершенно спокойно и почти спала. Она промычала что-то неопределённое, что крайне не соответствовало её обычно бурному темпераменту.
– Ну, я очень рад, что вы так к этому относитесь, – с некоторой досадой пробормотал Степан Александрович, и вдруг оба вскочили. По залу опять раздались поспешные шаги и направлялись к дверям спальни.
– Муж! – воскликнула Нина Петровна и принялась швырять под кровать части одеяния Степана Александровича, который с быстротой молнии устремился к гардеробу и исчез в его недрах.
– Ты каким образом? – встретила Нина Петровна своего мужа. – Только не трогай меня холодными руками.
– Прости, что я не известил тебя о своём приезде, – произнёс тот, сдувая пыль со стоявшего на камине слона, – но у нас в Петербурге бог знает что сделалось. Совет рабочих депутатов захватил власть, Керенский, говорят, бежал, переодевшись кормилицей. Ленин! Мы все подумали и разбежались. В Москве тоже что-то неладное творится. Впрочем, подожди, я сейчас переоденусь и умоюсь, а то я в вагоне рядом с такими двумя солдатами сидел, что просто дышать было нечем.
Он начал раздеваться.
Услыхав подобные политические новости, Нина Петровна забыла все на свете, бросилась на постель, положила голову между двумя подушками и принялась дрожать всем своим соблазнительным телом, и уже как бы чувствовала у себя на шее нож гильотины и видела свою голову, носимую на пике впереди толпы большевиков, поющих «Саа ira».
Супруг её между тем, раздевшись, пошёл достать себе из гардероба халат. И тут увидал он двух друзей, сидевших там наподобие сиамских близнецов в утробе матери.
– А, добрый вечер, – сказал он смущённо, – а я… вот прямо из Петербурга… Чайку не угодно ли?
Друзья вышли из гардероба, и комната стала весьма походить на предбанник.
Они молча пожали друг другу руки.
– Вы меня извините, – пробормотал муж Нины Петровны, – я прямо с дороги, я только умоюсь.
И, накинув халат, он направился в ванную. А друзья между тем ринулись доставать из-под кровати платье и с лихорадочной поспешностью принялись разбирать свой скарб.
Когда муж Нины Петровны, умывшись, вернулся, они уже ничем не отличались от обычных гостей, только у Пантюши оба башмака были на левую ногу, а у Степана Александровича оба – на правую.
– Вы извините, что я в халате, – произнёс муж Нины Петровны, – но, знаете ли, сейчас ездить по железным дорогам – это кошмар, и при этом такие ужасные события.
– И вы думаете, что все это будет иметь серьёзные следствия? – спросил Степан Александрович, покосившись на тёмное окно.
И все тоже покосились, и в тот же миг где-то уже неподалёку треснул выстрел и за ним вскоре второй.
От мысли, что придётся сейчас выходить в эту тёмную страшную ночь, у Пантюши как-то нехорошо стало на сердце, а потому он очень обрадовался, когда хозяин сказал: Вы уж ночуйте у нас, в кабинете как раз два дивана. В таких случаях не следует разбиваться. Один ум хорошо, а два и даже три всегда лучше.
На следующее утро кто-то жарил вдоль улицы из пулемёта, а вскоре по соседству заухала пушка. Выйти из дома не было никакой возможности. И всю великую неделю, в течение которой, так сказать, в муках рождалась рабочая власть, Степан Александрович, к своей великой досаде, принуждён был бездеятельно просидеть в доме Нины Петровны. Чтобы побороть эту досаду и ещё какое-то неприятное ощущение под ложечкой (иди речь о другом человеке, мы бы назвали это страхом), он целые дни играл в «кабалу» с мужем Нины Петровны.
Глава III
МНОГОГОЛОВАЯ ГИДРА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Выписка из протокола О.В.С.Д. и У.К.С.
(По-видимому, Общество Восстановления Самодержавия и Дворянства и Уничтожения Красной Сволочи)
Слушали: Доклад Безельского о необходимости отрезать Москву от снабжающего её Юга.
Постановили: Поручить С. Лососинову и П. Соврищеву взорвать мост через реку Оку близ Серпухова по Курской ж. д. для чего сговориться с проживающим в Серпухове отставным полковником Глуховым.
– Здесь живёт пол… пардон, гражданин Глухов? – спросил Степан Александрович у полной женщины, открывшей дверь.
– А вам его на что? – спросила подозрительно женщина, слегка отступая, ибо в тёплые сени мгновенно ворвалась холодная январская вьюга.
– Нас направил к нему его друг Лев Сергеевич Безельский.
– А ну-ка подождите, я спрошу, какой такой друг.
Она захлопнула дверь, предоставив снегу заметать друзей.
– Никакого Безельского нету, – сказала женщина, снова отворив дверь- Да вы скажите, по какому делу?
Степан Александрович обиделся.
– Дело это настолько важно, – произнёс он внушительно, – что о нем я могу говорить только лично с господином Глуховым.
– Да, да, – подтвердил Пантюша. И по комплекции женщины судя об её политических убеждениях, смело добавил: – Да вы не беспокойтесь, мы не большевики какие-нибудь.
Тогда их впустили в маленький домик с темной передней, откуда, раздевшись, они прошли в уютную с крашеным полом гостиную, освещённую керосиновой лампой. За столом, покрытым скатертью, сидел в кресле старичок и раскладывал пасьянс, а против него сидел кто-то вроде Льва Толстого в период написания «Чем люди живы». Он пил чай из блюдечка, с треском прикусывая сахар.
– Вот к тебе пришли, – сказала женщина, – не знаю, кто такие.
Посетители назвали себя, и на испуганно-удивлённый взгляд полковника Степан Александрович произнёс:
– Нам бы хотелось с вами поговорить конфиденциально.
– А я вам, собственно, на что-с? – спросил полковник.
– Очень важное дело, Лев Сергеевич Безельский полагал…
– Да я не знаю никакого Безельского! Впрочем, позвольте, был такой Сергей Петрович Безельский ещё он пушку поднял и надорвался.
– Ну, а это его сын, – уверенно заявил Пантюша.
– Так, так, здоровый был человек, но пушка его все-таки осилила. Ну и что же?
– Мы не можем при свидетелях, – сказал Степан Александрович, хмуро поглядев на толстую женщину и старика, который в это время перекувырнул чашку, положил на неё огрызок сахару и произнёс:
– Так, стало быть, замётано?
– Ты, Бумочка, с Данилычем выйди в кабинет, я вот с ними поговорю, а потом опять с Данилычем.
– Только ты без меня ничего не предпринимай, – сказала женщина и удалилась с Данилычем.
– Дело, собственно говоря, идёт о взрыве моста через Оку, – сказал Степан Александрович, умно и проницательно глядя на полковника.
– Виноват…
Лев Сергеевич надеется, что вы поможете нам своим многолетним опытом и знанием укажете, как всего быстрее и безопаснее взорвать мост, то есть в том смысле, чтобы никто не мог заподозрить о нашем участии в этом деле.
В это время полковник внезапно откинулся на спинку кресла. Лицо его исказилось, глаза налились кровью и почти вылезли из орбит, и он несколько раз с выражением невыразимого страдания шмыгнул носом. Затем лицо его вдруг приняло обычное выражение.
– С утра сегодня хочется чихнуть, – сказал он, – и никак не могу. У нас в полку был поручик, так он, бывало, когда ему также вот чихнуть хочется, схватится, бывало, за нос и бегает.
Старичок посмеялся:
– А вы, господа, в самом деле, зачем приехали?
И тут, к великому недоумению Степана Александровича, Пантюша вдруг сказал:
– А что, этот старик Данилыч случайно не огородник?
– Огородник.
– А бриллиантов он не покупает?
– Покупает.
– Может он купить у меня вот эту вещь, это одна дама знакомая просила продать.
И, к негодованию Степана Александровича, Пантюша вынул из кармана футлярчик с брошкою Нины Петровны.
– Пумочка, – крикнул полковник, – поди-кась сюда!
Степан Александрович встал, сверкая глазами.
– Я не буду вам мешать, – произнёс он с тонким сарказмом в голосе и вышел в переднюю, а оттуда, одевшись, на улицу.
По широкой улице неслась метель, залепляя желтеющие огоньками ставенные щели. Степан Александрович думал об огромном, ужасно длинном и тяжёлом мосте, ледяными арками нависшем над застывшей рекой.
«Взорвать этот мост, – думал он, – и большевики слетят, а человек, считающий себя отставным полковником, быть может, даже гордящийся своим чином, нисколько не загорается этой идеей, а интересуется больше какой-то брошкой. А между тем стоило ему только захотеть, и мост разлетелся бы на мелкие куски. Почему я не сапёр, господи боже мой, почему я не сапёр».
Дверь отворилась, и вместе с полоской света на улицу выскочил Пантюша. Он, по-видимому, не в силах был скрывать свою радость, напевал и приплясывал.
– По полторы тысячи за карат, – произнёс он, – и просил ещё привозить, завтра же начну всех своих тётушек перетряхивать. Этак, пожалуй, при большевиках заживём ещё лучше, чем при царе.
Через час они уже стояли в телячьем вагоне, ныне приобретшем права пассажирского, и слушали удивительный разговор других пассажиров, сплошь состоявший из одного излюбленного российского ругательства, повторяемого то с бесшабашной жизнерадостностью, то с глубокой грустью, то с философическим глубокомыслием.
Степан Александрович ехал, погруженный в глубокую задумчивость. «Злится, что я у Нины Петровны брошку перехватил, – думал Соврищев, – чёрт с ним, не зевай в другой раз».
Но Пантюша ошибся. Он не знал, он не мог понять микроскопическим своим мыслительным аппаратом, что в душе Степана Александровича происходил душевный переворот, столь же великий, как переворот Октябрьский. И когда поезд доплёлся наконец до Курского вокзала, то в потоке матерщины на перрон вылетел из телятника не прежний Степан Александрович Лососинов. Прощаясь, он не подал Пантюше руку. Идя по глубокому снегу на родную Пречистенку, встретил он отряд людей в серых шинелях, громко певших: «Вставай, проклятьем заклеймённый» – и вдруг почувствовал, что на спине у него выросли крылья.
– Не будь на мне ботиков, – говорил он впоследствии, – я бы, наверное, улетел в тот миг в счастливое царство грядущего. Моё сердце забилось вдруг, так сказать, в унисон с сердцем Советского правительства, и я понял вдруг, какое в этом великое заключается счастье!
В этот вечер старушка М-м Лососинова сидела, по обыкновению, в своей комнате, а перед ней стояла на столе кубышка с сахаром, и она размышляла, куда бы убрать эту кубышку, чтобы её не могли найти при обыске.
Степан Александрович вошёл в комнату бодро и торжественно.
– Мама, – сказал он, – вы человек старый и отсталый в духовном отношении, я же человек молодой, живой, мне принадлежит будущее.
«Жениться хочет, – задрожав от радости, подумала госпожа Лососинова, – лишь бы не на какой-нибудь финтифлюшке».
– Я знаю ваше отношение к партии, вы, конечно, будете возражать, бранить меня.
– Да что ты, Стёпа, – перебила старушка, – если хорошая партия, за что же я бранить буду. Девица?
– Какая девица?
– Ну, невеста твоя – девица?
Степан Александрович нахмурился было, но слишком радостно было у него на душе и злиться не хотелось.
– Да, мама, – вскричал он, – это могучая девица, от поступи которой дрожит земля и рушатся темницы!
«Наверное, Соня Почкина, – подумала госпожа Лососинова, – она верно: когда ходит, весь дом дрожит».
– Она умеет быть ласковой и доброй, умеет погладить по голове мягкою как бархат рукою.
«Или Таня Щипцова», – подумала госпожа Лососинова.
– Но она умеет мгновенно превращаться в львицу и, оскалив зубы, готова вцепиться в горло всякому непокорному.
«Господи, на Мане Ножницыной хочет, на злючке этой».
– Да как же её зовут? – не в силах больше терпеть, спросила старушка.
– Её зовут… – произнёс Степан Александрович, – пролетарская революция!
Глава IV
СУДЬБА-ИНДЕЙКА
У нас имеется черновик любопытного документа. Вот он:
В народный Комиссариат по Просвещению от гражданина Степана Александровича Лососинова
ЗАЯВЛЕНИЕ
Октябрьская революция есть событие беспримерной важности, оценить которое по достоинству вполне смогут лишь наши далёкие потомки. Мы – современники – подобны песчинкам или окуркам, крутящимся в её вихре, но если песчинки и окурки лежат бессмысленно, не зная, как и что, то дело нас, сознательных граждан, если не понять на самом деле, то хотя бы попытаться понять происходящее. Наше дело закрепить всеми возможными способами завоевание революции – оружием, словом печатным и непечатным. Что есть агитация? – Агитация есть воздействие на массы, и чем проще агитация, тем она действеннее, отсюда необходимость в революционной песне, в революционной частушке, в революционной шутке, но это не все. Если прислушаться к живой народной речи, то прежде всего нас поразит необыкновенное обилие всякой брани с уклоном в непристойность, иногда поистине художественную. Замечено, что интенсивность брани возросла после революции, что и естественно, ибо революция обострила чувства, обострила и их выражения. Недаром в народе слово «выражаться» равнозначаще слову «ругаться». Но печально, что, увеличившись количественно, народная брань не изменилась качественно, и крайне огорчителен тот факт, что товарищи красные комиссары ругаются совершенно так же, как ругались в старину кровожадные урядники и становые. А между тем, если бросить в массы новые, так сказать, революционные ругательства, брань могла бы стать могучим орудием пропаганды.
Для лёгкости усвоения можно было бы построить их по формуле старых. Например, вместо «Едят тебя мухи с комарами» предлагают «Едят тебя эсеры с меньшевиками». Например, вместо «собачий сын» – «помещичий сын» и т. п.
Для того чтобы придать всему этому начинанию характер планомерный и научный, предлагаю основать Государственный институт брани (Гиб), куда привлечь виднейших знатоков словесности, партийных товарищей и представителей от трудящихся масс. Сам я с удовольствием отдал бы все свои силы на организацию такого учреждения.
Степан Лососинов.
К сожалению, неизвестно, каков был ответ Наркомпроса на это в высшей степени интересное заявление. Но из того, что Степан Александрович вскоре как-то разочаровался в коммунизме и не записался в партию, можно вывести заключение, что ответ был отрицательный, а может быть, бумага просто затерялась в делопроизводстве; это иногда тоже разочаровывает и охлаждает.
Степан Александрович избегал встречаться с Пантюшей Соврищевым. Дело в том, что он чувствовал, как после революции Пантюша возымел над ним какое-то преимущество. До сих пор, выражаясь фигурально, Степан Александрович был кучером, а Пантюша выездным лакеем, но теперь судьба мощною рукою вырвала вожжи из рук Лососинова и передала их Соврищеву.
Степан Александрович, зная, что он даровитее своего друга, был уязвлён этой шуткой судьбы, но однажды ему до зарезу понадобилось продать дюжину серебряных ложек, и он, скрепя сердце, отправился к Пантюше, ковыляя по сугробам неосвещённой и голодной Москвы.
У Пантюши в комнате было страшно жарко от раскалённой печурки. Пантюша без пиджака лежал на большом гардеробе, где у него была устроена постель, а внизу в кресле сидел тоже без пиджака человек с окладистой рыжей бородой со средневековыми усами и бровями. Человек этот на безмене вешал какие-то серебряные предметы, а Пантюша с интересом наблюдал за ним.
– Входи, входи, – с высоты своего величия крикнул Пантюша, – если ты дело принёс, можно устроить.
Степан Александрович угрюмо вынул ложки. Рыжий человек молча положил их на весы.
– Что же, – сказал он, – две косых.
– Меня не считайте, – благородно заметил Соврищев.
– Ну, значит, две с половиной, замётано!
Степан Александрович, чтоб не унижаться, согласился.
Рыжий человек встал, с необыкновенной быстротой и ловкостью завернул в бумагу все вещи, запихал их в мешок с сеном, мешок сунул в баул, после чего, к удивлению Степана Александровича, расстегнул и опустил до колен брюки. Сделал он это, как оказалось, чтобы достать из какого-то внутреннего кармана деньги. Две с половиной тысячи дал он Степану Александровичу и большую пачку тысяч протянул Пантюше. Затем он застегнул штаны, сделал рукою приветственный жест, надел пиджак, шубу, шапку, забрал баул и вышел посвистывая.
– Гениальный человек, – сказал Пантюша, – удивительно умеет гнать монету, у него в комнате двадцать шесть градусов, он пьёт спирт и ест оладьи. И, разумеется, на коровьем масле.
– Посадят, – пробормотал Степан Александрович, не расположенный восхищаться рыжим гением.
– А за что же его сажать? У него бумажка, служит по охране памятников.
– Ну, тебя посадят.
Пантюша презрительно усмехнулся.
Он пошарил у себя в жилетном кармане и протянул Степану Александровичу какое-то удостоверение.
Лососинов недоверчиво развернул его.
«Дано сие в том, что предъявитель сего товарищ Соврищев состоит преподавателем русского языка N-й трудовой школы».
Степан Александрович побледнел. Нужно сознаться, что в этот миг он унизился до зависти.
– Это даёт мне официальное положение, – продолжал нахально Пантюша, – жалование, конечно, ерундовое, ну да, слава богу, пока на свете существуют тётки, я с голоду не помру. Ты знаешь, я недавно шёлковую юбку продавал, ей-богу.
Сказав так, Пантюша весьма ловко спрыгнул с гардероба и, к удивлению Степана Александровича, вынул визитный костюм, в который, по-видимому, и решил облечься. При этом он вдруг спросил Степана Александровича:
– Ты сегодня вечером никуда не собирался?
– Нет.
– У нас сегодня в гимназии вечеринка, хочешь, поедем. Угощение будет тюрлюрлю. Все из белой муки. Я тебя познакомлю с преподавателями, и, чем чёрт не шутит, может быть, и ты нырнёшь в педагогику.
– Видишь ли, я не настолько нагл, чтобы преподавать то, чего я не знаю.
– Чудак, ты будешь преподавать то, что ты знаешь. Дело в том, что у нас там историк какой-то подозрительный, все его побаиваются и хотят выпереть. У него что-то с носом неблагополучно, все меньше становится, вот тебя на его место.
Степан Александрович как-то упустил момент для величественного отказа.
– А это далеко? – спросил он, когда они вышли в метель.
– На Земляной вал.
– Такая даль, я не пойду.
– Тебя никто и не просит идти, – нагло отвечал Пантюша. И с некоторой опаской, оглядевшись по сторонам, крикнул: – Извозчик!
Извозчик подкатил с удвоенной лихостью. Они помчались по пустынным улицам. Ехать было удобно и свободно, ибо с тех пор, как трамвайные пути занесло снегом, улицы стали вдвое шире.
Они подъехали к ярко освещённому высокому дому. И когда вошли в подъезд, Степан Александрович на миг как-то утратил ощущение времени. На ярко освещённой лестнице толпились барышни в белых и пёстрых платьях с бантами и при виде Пантюши разразились громом аплодисментов.
– Пантелеймон Николаевич приехал! – закричали звонкие голоса. Кто-то кинулся вверх, вниз, и вообще произошло необыкновенное волнение.
– Вот я привёз вам своего приятеля, – сказал Пантюша голосом доброго наставника.
– Просим, милости просим, – закричали барышни, извиваясь от удовольствия.
Степан Александрович и Пантюша разделись в какой-то каморке, на двери которой висел огромный замок, и затем их повели вверх по лестнице – под звуки доносившегося откуда-то вальса.
В помещении было тепло, светло и по-весёлому шумно.
– А как звали Татьяну по батюшке? – спрашивал идя Пантюша.
– Дмитриевна, Дмитриевна, – закричали все, – мы догадались:
…Дмитрий Ларин, Господень раб и бригадир, Под камнем сим вкушает мир.– А как звали садовника у Лариных?
– Как? Как? Мы не знаем, скажите, скажите!
– Гименей.
– Почему, почему?
– А как же, там сказано:
Судите же какие розы нам заготовил Гименей.На миг наступило недоуменное молчание, но затем раздался такой взрыв хохота, что у Степана Александровича зачесалась барабанная перепонка.
«Сволочь, ведь это он из „Сатирикона“ вычитал», – подумал Лососинов с негодованием.
Но позади себя он слышал шёпот:
– Какой весёлый этот Пантелеймон Николаевич, какой душка!
Они поднялись на площадку, с которой был вход в зал, где кружились танцующие и гремел рояль.
– Здравствуйте, многоуважаемая Марья Петровна, – сказал Пантюша, целуя руку полной даме в золотых очках, – позвольте вам представить моего друга и коллегу по университету, известного историка Степана Александровича Лососинова.
– Очень, очень рада, – сказала дама, – в наш век учёные люди особенно дороги, пожалуйста, Проходите в зал посмотреть, как веселится наша молодёжь.
Здесь же у двери жались какие-то парни в валенках и подстриженные в скобку.
– Это ученики мещанского училища, с которыми нас соединили, – шепнул Соврищев, – они более для трудовых процессов употребляются.
– Ну-с, – сказал он опять наставническим тоном, – как вы учитесь, я знаю, посмотрю, как вы умеете веселиться.
К нему подбежала очаровательная девица с вызывающими глазками и сказала, волнуясь от радости:
– Можно вас пригласить на вальс?
Другая девица, блондинка, в голубом платье, обратилась с тем же к Степану Александровичу.
Он обнял мягкую голубую материю и, покачавшись, закружился со своей дамой (танцующая девица почитается дамой). Вальс из графа Люксембурга раскатывался по большому двусветному залу. Шуршали ноги, раздавался смех, весёлые возгласы.
Степан Александрович как-то слегка обалдел и не обретал себя.
– Вы какой предмет больше всего любите? – спросил он блондинку, чтобы начать разговор, и почувствовал себя гимназистом.
– Русский язык, – без колебания отвечала блондинка, – мы все обожаем русский язык, потому что его преподаёт Пантелеймон Николаевич, а он такой умный и такой симпатичный, что просто не дождёмся его урока.
Степан Александрович проглотил эту пилюлю.
– Ну, а историю вы любите?
– Ведь вы историк? – вопросом ответила блондинка.
– Да, – пробормотал Степан Александрович, хотя далеко не был в этом уверен.
– Вот если бы вы у нас преподавали историю, я бы её любила, – деликатно ответила девушка, – а сейчас у нас историк очень бестолковый, вон он стоит.
Историк стоял у стены, нахмурившись и опершись указательным пальцем себе в нос.
Степан Александрович вспомнил рассказ Соврищева, но ничего особенного в носе историка не усмотрел.
Вальс замедлился и умолк.
Все окружили немку пианистку, выражая ей свою признательность. А затем все девушки сразу надвинулись на Степана Александровича и сказали: «Пожалуйте чай пить!»
– Нет, нет, – донёсся голос Пантюши, – вы, Марья Петровна, не правы, по-моему, «Слово о полку Игореве» проходить необходимо, но, конечно, если Наркомпрос…
«В этом Наркомпросе все твоё спасение, дурова голова», – подумал Степан Александрович и тут же почувствовал, что ему страшно хочется стать преподавателем в этой тёплой и светлой школе.
«Чёрт его дери, – думал он, – глядя на историка, – пожалуй, он меня самого оставит с носом».
Они пошли в один из классов, где был сервирован чай для учителей, роскошный чай, действительно с белыми печеньями и булками, с мёдом и вареньем и с огромными бутербродами из чёрного хлеба с превосходной паюсной икрой.
У Степана Александровича забила слюна, и он невольно принял участие в расхватывании бутербродов, которым занимались, между прочим, только преподаватели. Девушки забыли о себе, поглощённые величием минуты. (Учитель и вдруг ест бутерброд!) За чаем Степан Александрович имел случай познакомиться со своими будущими товарищами.
Здесь был седой естественник, с лицом древнего мученика, француз, похожий на породистую лошадь, математик печального вида в сюртуке поверх лыжной фуфайки, седая немка, несколько каких-то педагогического вида дам, составлявших свиту начальницы. То была, так сказать, педагогическая аристократия – все старые преподаватели этой гимназии. Отдельной группой держались учителя, присоединённые вместе с мещанским училищем. Среди них был и историк с носом.
Пантюша чувствовал себя как дома. Он, очевидно, усвоил тон любимца начальницы (которая, хотя юридически была уже только учительницей, но фактически вершила всем), весельчака и страшно при этом учёного.
– Да, – говорил он, кушая булочку, – нам, московским филологам, есть что вспомнить. Например, Босилевский – грек. Ка-ак резал! Я просто рот разинул, когда он мне с первого раза «весьма» поставил.
Степана Александровича передёрнуло. Он знал точно, что Соврищев двенадцать раз проваливался у Босилевского и что «у», полученное им наконец, было результатом слёзной мольбы и долгих унижений.
– Положим, я работал, – продолжал Пантюша. – Я бог знает как работал.
– Вы остались при университете? – спросил естественник.
Пантюша усмехнулся:
– У меня с оставлением вышла история. Меня сразу оставили четыре профессора! Пришлось отказаться вообще, чтоб никого не обидеть. И вот вообразите – начал уже писать диссертацию – трах, революция – одна, другая… Крест на учёной карьере. Но ничего…
– А у вас много печатных трудов?
– Трудов много, но… ненапечатанных. Где же я могу печатать?
– Положим.
– Я недавно разбирал свои рукописи, так под конец даже расхохотался. Вот такие груды… О чем только я не писал. О Египте, о Вавилоне, о Мольере, об Альфреде де Виньи, о Пушкине, о Ломоносове, о Руссо…
– А что, – спросил Лососинов, – «Юрий Милославский» не твоё сочинение?
Все удивлённо поглядели на него.
– Это же Загоскина! – сказала Марья Петровна.
Степан Александрович покраснел:
– Я пошутил.
– Да, – продолжал Пантюша, обращаясь к девушкам, – вот, дети мои, берите пример. Учитесь, работайте, обогащайте свой умственный багаж!
– Ничто так не возвышает человека, как наука! – сказал естественник.
– Науки юношей питают.
– Век живи, век учись! – вставила немка.
На секунду все умолкли, как бы из уважения к науке, и были слышны лишь дружное чавканье и жевание. Из зала доносились возня и крики – это парни из мещанского училища играли в футбол, сделав из газет мяч.
– Главное, не надо падать духом, – продолжал Пантюша, – сколько раз, сидя над книгою бессонною ночью, я начинал чувствовать, что мне никогда не одолеть всю полноту науки. Но я тотчас же уличал себя в малодушии, встряхивал головою и через секунду с новыми силами уже плыл по океану мудрости.
– Как Пантелеймон Николаевич хорошо говорит, – пролаяла одна из свиты начальницы, – у меня тоже всегда так, как я читаю что-нибудь научное… вдруг как-то страшно станет, а потом так и поплывёшь…
– И мне знакомо это чувство, – заметил естественник.
– Разум есть ладья на океане знания, – сказал математик.
– Ученье свет, а неученье тьма! – произнесла немка.
Опять все умолкли, а девушки скромно потупились, кроме двух или трёх, все время пожиравших Пантюшу страстным взглядом. Он вдруг сказал:
– Впрочем, сейчас мы здесь, чтоб веселиться. Вальс, силь ву пле! – и, схватив под руку самую хорошенькую девицу, побежал с нею в зал. Все поднялись.
– Приятно, когда учёность соединяется с весёлостью, – заметила ещё одна из свиты.
– Но это бывает лишь в исключительных случаях, – строго сказала начальница, поглядев на учениц.
Она отвела в сторону Лососинова.
– Я хотела поговорить с вами… дело в том, что наш историк совершенно нетерпим… Это неуч и вдобавок, pardon, вы заметили, какой у него нос? Я уже подготовила почву в Моно. Вы бы согласились его заменить?
– О, конечно, с удовольствием!
– Вас рекомендует Пантелеймон Николаевич, этим сказано все. Я, конечно, теперь не играю никакой роли, я просто преподавательница… Все, конечно, зависит от школьного совета. Но… Сейчас у нас председателем вон тот старичок Кавасов, но мы хотим избрать Пантелеймона Николаевича… Вот, действительно, его нам бог послал. Я поражаюсь, как он успел в такие молодые годы достичь таких степеней… И о вас он тоже очень тепло отзывается…
Через неделю Степан Александрович стал преподавателем истории N-й трудовой школы и секретарём школьного совета.
Председателем единогласно был избран Пантюша Соврищев.
Глава V
СТРАШНЫЙ ИНСТРУКТОР
Чтоб попасть в школу к девяти, надо было из дому выйти в восемь. Степан Александрович проснулся в это утро с нехорошим каким-то чувством. Было страшно, и тоска мешала вздохнуть всей грудью. Казалось, если бы можно было угадать причину тоски, стало бы легче. Была причина – приснившийся под утро сон: в морозное утро серые дымки над белыми крышами. Почему-то сон был страшен и вызвал тоску. Но чувствовалось, что и для этого сна была тоже какая-то причина, а её он не мог угадать и потому нервничал. Хотел было лечь и опять уснуть на весь день, но потом одолела слабость. Да и не хотелось больше видеть снов. Уже три ночи снилось что-то страшное и непонятное. Оно забывалось, но на сердце было неспокойно весь день.
Степан Александрович вышел из дому. Еле-еле лиловел зимний рассвет. Люди шли посреди улицы, уступая дорогу автомобилям, худые, в странных одеяниях – в леопардовых шубах, в ковровых валенках, в телячьих куртках, в белых шапках с ушами ниже пояса. Почти все имели посторонний придаток – санки. Если санки сцеплялись, люди останавливались и, не спеша, смачно обкладывали друг друга нехорошими словами. Иногда из форточки вылетал и падал ужасный свёрток. Уборные не действовали. Зияли пустые витрины магазинов.
Иногда громко на всю Москву кто-то от голода и холода щелкал зубами. То трещал пулемёт. Обучались стрельбе разные особые отряды. На перекрёстке валялись издыхающие лошади.
В школе было сравнительно тепло. Ученицы всегда были веселы и приветливы. Казалось, прилетали они каждый раз на каких-то чудесных коврах-самолётах из сказочных стран, где текут в кисельных берегах молочные реки. В учительской преподаватели обсуждали газету.
– Мы опять отступили.
– То есть кто это «мы»?
– Ну, красные.
– А, красные, да, отступили.
– У меня в квартире ноль градусов. Сплошной кошмар!
– Я вчера первый раз конину ел. И, вы знаете, ничего.
– В первый раз? Я уже давно ем.
– А вот Пантелеймон Николаевич!
Пантюша вошёл с видом ласкового и гуманного начальника. В дверях тотчас начали мелькать девичьи лица.
– Господа, не толпитесь у дверей.
– Пантелеймон Николаевич, спросите меня сегодня!
– Господа, я спрашиваю тех, кого нахожу нужным спросить, а не тех, кто меня об этом просит.
Пришёл француз и тотчас стал шептать всем на ухо:
– Могу достать сахар по две тысячи фунт, масло сливочное тоже две тысячи… вологодское… А вот не нужно ли кому золотое пенсне?
Немка сказала:
– А я сама сделала термос. Из двух шляпных картонок. Прекрасно сохраняет теплоту пищи.
Естественник поглядел на Степана Александровича и спросил:
– Вы не больны?
У того вдруг стало тесно в груди:
– А что?
– У вас утомлённый вид.
– Да… впрочем, сейчас все утомлены.
– Ах, не говорите… Это сплошная каторга!
– А знаете, говорят, Ленин сказал: мы уйдём, но мы так хлопнем дверью…
Раздался звонок.
Степан Александрович шёл в класс всегда с некоторой опаской. Боялся неожиданных вопросов. История подобна морю, в котором события – суть капли. Разве все упомнишь? Особенно не любил он средневековье. Гогенштауфены по ночам снились. «Хорошо ему, – думал он со злобой про Пантюшу, – Евгений Онегин да Тарас Бульба. А не угодно ли войну Алой и Белой розы запомнить или про Гвельфов и Гибеллинов!»
Класс разделялся по составу на девушек с резко выраженным буржуазным происхождением и на юношей со столь же резко выраженным происхождением пролетарским. Эти две группы относились одна к другой как-то равнодушно. Юноши вообще предпочитали заниматься уборкой снега. В особенности был один очень милый, но суровый парень, отличавшийся большой физической силой, по фамилии Груздев.
Однажды Степан Александрович спросил его, что такое римский папа. Подумав, тот ответил: антихрист. И был осмеян девицами.
После урока он подошёл к Степану Александровичу и сказал угрюмо, но добродушно:
– Вы уж меня лучше не спрашивайте, я этой науки все равно не выучу. Я лучше вот с крыши пойду снег сбрасывать…
В это ясное зимнее утро начался, как обычно, урок.
– Назарова!
Очаровательная девушка, в стиле двадцатых годов прошлого столетия, встала, опираясь о парту, и сразу начала:
– Мария-Терезия никак не могла забыть потери Силезии…
Степан Александрович слушал, глядя одним глазом в учебник.
– Она была умная и добрая государыня и отлично понимала… и отлично понимала…
Назарова замерла.
– Ну-с… что же она понимала?..
– Мария-Терезия понимала, что ей никак нельзя забыть потери Силезии…
В это время весь класс устремил глаза на дверь.
Степан Александрович тоже поглядел и вздрогнул.
За стеклом двери стояли: Марья Петровна, Пантюша Соврищев и ещё какой-то человек с большою чёрною бородою, но старый, похожий слегка на Пугачёва.
В тот миг, когда Степан Александрович оглянулся на дверь, она приотворилась, и неприятная троица вошла в класс.
Ученицы встали, а некоторые даже присели начальнице, причём Пугачёв усмехнулся и стал утюжить себе бороду. Вошедшие сели на стулья возле доски.
Лососинов понял – ревизия.
– Концова, – произнёс он, густо багровея.
– Мария-Терезия не могла забыть потери Силезии, – затараторила откуда-то сзади худенькая девчоночка, – ибо она понимала, что ей… извиняюсь… кх… (она сделала паузу). Мария-Терезия не могла забыть потери Силезии…
Наступило жуткое молчание. Степан Александрович принял вид величавого неудовольствия. Он вспомнил свои гимназические годы, как важно держался у них историк, и постарался подражать ему.
– Мы уж это слышали.
Молчание.
– Больше вы ничего не имеете сказать?
Молчание.
– Садитесь. Пантамбаева!
Стройная армянка, бледная, с огромными глазами, медленно поднялась.
– Мария – Терэзия нэ могла забыть патэри Сылезии…
– Позвольте! – раздался вдруг за спиной Степана Александровича корявый насмешливый голос, – вы мне вот что скажите, зачем вам знать нужно про эту самую Марию-Терезию и про её эту Силезию? А?
Класс замер, а Степан Александрович чувствовал, что сваривается заживо в собственном соку.
– На кой чёрт вам знать про эту самую Марию – Терезию? А?
– Она королева была, – послышался чей-то звонкий голос.
– Ну и плевать, что королева… Мне какое дело?.. Зачем же про неё учить-то?
– Так нужно, – сердито закричали ученицы, чуя, что вот это-то и начинаются обещанные школьные новшества. Решили постоять за старую школу.
– Так нужно, – передразнил бородач, – а может быть, не нужно.
– Нет, нужно!..
– А вдруг не нужно? А вот вы, красавица, громче всех кричите… А скажите мне на милость, вы самовар ставить умеете?
– Умею.
– А ну-ка посмотрим… Расскажите, как вы его ставить будете…
– Налью воды… Наложу углей… лучину возьму…
– Сразу воду нальёте?
– Да.
– Ну и неправильно. Вытрясти его сначала надо- c… Вот-с… И это вам знать важнее-с, чем про эту самую Силезию.
– Мы не кухарки, – крикнул кто-то.
– Нет, кухарки. Кухарки, портнихи, судомойки…
– А Марию-Терезию вы свою пока забудьте… Да-с! И всяких этих своих королей да королевичей…
Раздался звонок.
Класс недовольно шумел.
Страшный бородач совершенно спокойно, как будто он и не чуял поднятого им неудовольствия, шёл в учительскую, утюжа бороду.
– Иконкам всё молитесь, – ткнул он в угол коридора.
Пантюша внезапно шепнул на ухо Степану Александровичу:
– Это новый инструктор объединения, я сказал, что ты марксист.
В учительской панически молчали преподаватели.
– Садитесь, пожалуйста, – говорил Пантюша, – вот это все наши школьные работники.
– Так, государи мои, нельзя-с, – произнёс инструктор, садясь в кресло, – вы все по старинке «от сих до сих», «в прошлый раз мы говорили», да «к будущему разу возьмите». Это все нужно теперь забыть-с! К чертям-с! Вот оторвалась у вас подошва – вы её взяли да по поводу неё об обуви в различные времена и у разных народов… А сапожника инструктора вызовите, чтоб тут же показал, как подмётки ставить. Вот – это урок… А эти фигли-мигли вы бросьте!.. Все эти ваши Виноградовы да Платоновы… Тьфу!
И он плюнул огромным плевком прямо посредине учительской.
– Я, знаете, предупреждаю… я, кстати сказать, не коммунист, так что вы на меня волками не глядите, я предупреждаю, что, ежели ещё подобное увижу… учебники, да «от сих до сих», я церемониться не буду. – В два счета в отставку… Чтоб все было построено на трудовых процессах… пример я вам привёл насчёт подошвы… (он вышел к столпившимся у дверей ученикам). А вам, красавицам, мой совет старух столетних из себя не корчить. Вам нужно носиками вашими к духу времени принюхиваться. А это и оставить можно.
И он сделал иронический реверанс.
Некоторые засмеялись, но другие сердито зашипели.
– Все равно учебниками вам пользоваться не позволят и уроков зазубривать тоже… Довольно-с!.. Ручки ваши, может быть, от этого и пострадают, зато сами же потом благодарить будете… Прислуг-то теперь держать не придётся… Надо теперь все самим-с… Извольте сами классы подметать и все прочее. До нужника включительно. Да-с!..
– Мы не для этого в школу поступали.
– Извините-с. Именно для этого. Ну-с, до свидания! Заседания объединения будут по вторникам в три. Стало быть, сегодня. Чтоб были представители и от учащих и от учащихся.
И, кивнув головой, он ушёл.
Нечто вроде немой сцены из «Ревизора» произошло после его ухода в учительской.
Естественник стоял в позе мученика, только что подвергшегося заушению. Математик растопырил руки и тупо глядел на Марью Петровну, которая, в свою очередь, замерла, уставившись на Пантюшу.
За дверью шумело девичье море.
Три девушки – члены школьного совета – вошли в учительскую, красные и взволнованные.
– Мы хотим учиться по-старому, – заявили они робко, но настойчиво.
– Успокойтесь, – строго и спокойно сказал Соврищев, – учиться вы будете так, как это нужно…
– Нужно, как прежде…
– Ступайте и не волнуйтесь.
И Пантюша, затворив за девушками дверь, преспокойно закурил папиросу.
– Что же это такое? – пробормотал естественник. – Ведь это ужас… Я преподаю двадцать восемь лет… Никто не говорит, что не надо трудиться.
– Честь и слава всем трудам! – сказал математик грустно.
– Терпение и труд все перетрут, – заметила немка.
– II faut travailler[12] – произнёс француз, перекладывая из одного кармана в другой коробку с сахариновыми порошками.
– Да, но все это говорилось в другом смысле.
Степану Александровичу вдруг пришла в голову шалая мысль, а ну как его заберут за то, что он учил не так, как надо, да ещё про королеву. Ему стало не по себе.
– Господа, – сказал Пантюша, – я не понимаю, что вас так смущает? (Он понизил голос.) – Ясно, что мы будем преподавать так, как умеем и как мы считаем нужным… Слава богу, у нас у всех есть педагогические принципы, тщательно нами продуманные и проверенные на более или менее продолжительном опыте… Я думаю, что мы свои принципы не будем менять, как перчатки… Ну, а когда он будет приходить на уроки, я думаю, что это будет не так часто, – можно для виду… ну заставить всех дрова пилить и в это время говорить что-нибудь по этому поводу… Вы, например (отнёсся он к естественнику), говорите что-нибудь о древесине… вообще о лесе…
– Это, конечно, можно, – произнёс мученик, слегка улыбнувшись.
– Вы, например, как математик, можете что-нибудь об окружности…
– Мы проходим стереометрию… Могу рассказать о цилиндрических телах…
– Ну вот великолепно… Степан Александрович расскажет в связи с пилкою дров… например, об аутодафе или Иоганне Гусе… Я могу что-нибудь про Некрасова… у него постоянно мужички за дровами ездят…
– А ведь это в самом деле! – сказал математик.
Все переглянулись и усмехнулись.
Марья Петровна протянула Пантюше руку.
– Золотая голова, – сказала она.
– Ну что вы! – ответствовал тот, целуя протянутую руку. – Просто я болею душою за школу и за родное просвещение.
Степан Александрович, поддавшись на миг общему настроению, чуть-чуть было не спросил: «А как ты думаешь, нас за сегодняшние уроки не посадят?» – но удержался, вспомнив, кто перед ним. И, однако, он это ясно чувствовал, на Пантюшу была теперь вся надежда.
Но судьба готовила в этот страшный день педагогам новое испытание.
Отворилась дверь, и в учительскую вошли три паренька в валенках (из присоединённых). То были Шустров, Прядов и Микиткин. Они держали в руках бумагу вроде прошения или заявления, написанного крупным почерком по ново-старому правописанию. «Заявление», например, написано было через «ять», так же, как и «требуем». А «хлеб» через «е».
На мгновение повторилась немая сцена.
Пантюша не совсем уверенно взял бумагу.
– Хорошо, – сказал он, прочтя её с полным спокойствием, – мы сейчас это обсудим. Ступайте!
Но те не ушли.
– И мы будем обсуждать, – сказал, глядя в пол, Микиткин.
– Пожалуйста… Я тогда оглашу бумагу: «Заявление».
«Настоящим мы требуем:
Первым-наперво: организовать при школе комячейку.
Вторым-наперво: чтоб учиться, как сказано.
Третьим-наперво: иконы снять.
Четвертым-наперво: хлеб делить самим, а не экономке. Такой есть тоже закон.
И вообще чтоб в школьном совете состоять, как прочие члены».
Пантюша смолк.
Наступило гробовое молчание.
– Ну что ж, – сказал он, – это все требования справедливые. Мы не возражаем. Не правда ли?
Все молчали, потупившись.
Парни молча повернулись и вышли.
Марья Петровна не выдержала и погрозила им вслед своим пухлым дамским кулачком.
– Марья Петровна, не волнуйтесь, – сказал тихо Пантюша, ловя и целуя этот кулачок, – пусть делают… Не будем обострять отношений.
– Да, но ведь это же разрушит всю школу… наши традиции…
– Марья Петровна, милые и дорогие коллеги… не будем падать духом.
И, доведя свой голос до трагического шёпота, Пантюша прошипел:
– У меня есть точнейшие сведения из вполне достоверных источников, что через две недели все кончится… все подмосковные мосты уже минированы, Кремль также… Ну пусть повеселятся две недели…
На мгновение все лица просветлели.
– Па-ни-маю! – сказал математик.
– И я тоже слышала, – подтвердила немка, – про мосты я не слыхала, а что через две недели…
– Да иначе и быть не может, – сказал естественник, – иначе это было бы неестественно…
Раздался звонок.
– Завтракать! – заорал кто-то в коридоре, и сотня ног затопала мгновенно по лестнице.
Преподаватели все как-то тоже рванулись, но тотчас овладели собою и пошли чинно.
– Но что бы мы делали без Пантелеймона Николаевича? – услышал Степан Александрович позади себя голос Марьи Петровны.
– Об этом даже страшно подумать! – отвечал естественник.
А Пантюша шёл, улыбаясь, по лестнице, и со всех сторон пищали тоненькие голоса девочек из школы первой ступени, помещавшейся в одном этаже со столовой.
– Здравствуйте, Пантелеймон Николаевич! Пантелеймон Николаевич, я у вас на будущий год учиться буду! Пантелеймон Николаевич!
А Пантюша шёл, гладя девочек по головкам, трепля их за щёчки.
– Тише, дети мои, тише!
Француз, опередивший всех, имел восторженный вид:
– Господа, сегодня мясной пшённый суп!
То был счастливый миг.
Из мисок шёл пар, нарезанный четвёрками хлеб лежал чудесной грудой на подносе, и вдруг стало уютно и весело, как будто сидели не у окна в казённой гимназической столовой за простым деревянным столом, а в светлом зале былой «Праги», и не пшённый с чёрным хлебом суп ели, а уху из стерлядей с вязиговым из калашного теста растегаем.
Француз вынул из кармана пузырёк и вылил что-то в суп.
– Это что? – удивилась немка.
– Жидкое магги. Сообщает пище здоровую пикантность. Если хотите, могу достать. Такой вот пузырёк – пятьсот рублей. Это мне с моей родины посылают.
– А вы где родились?
– Я родился в Гренобле, но уехал оттуда, когда мне был год. Родиной я считаю Торжок.
– Интересно, когда-нибудь найдут способ жить без еды? – спросила немка у естественника.
– Не думаю, – отвечал тот, и видно было, что мысль эта ему в данный момент неприятна, – к чему лишать человека вкусовых ощущений?
– Чтоб избежать порока жадности, – отвечала немка.
– Есть пороки гораздо более страшные.
– Например?
– Ну, пьянство.
– Ах, это такой ужас!
– Вы знаете, – сказал естественник, – я дожил до шестидесяти лет и не знаю вкуса водки.
Пантюша улыбнулся.
– А я, – сказал он, – должен сознаться, один раз выпил маленькую рюмочку на именинах у тёти. И то не водки, а наливки.
– Алкоголь есть яд! – сказал математик.
– Вино затемняет человеку ум! – подтвердила немка.
– От него все качества, – вздохнула дама из свиты.
Степан Александрович вдруг ясно представил себе запотевшую от холодной водки рюмку. Но в этот день было тяжело даже это чудное видение и как-то сами собой и очень просто выползли у него изо рта слова.
– Для чего люди одурманиваются?
– Есть один ещё более страшный порок, – взволнованно пролаяла старая девица из свиты, – это прелюбодеяние!
– Тише, пожалуйста, – строго сказала Марья Петровна.
– Щёки почтенной девицы, напоминавшие обычно лимон, вдруг стали приближаться к цвету апельсина.
Все потупились, а Пантюша наставительно сказал:
– Апостол Павел советует и не говорить христианам о сих мерзостях!
– Вот это верно, – сказала Марья Петровна, и все поднялись, ибо миски были дочиста вылизаны, а блюдо опустошено.
Поднимаясь по лестнице, Марья Петровна сказала Лососинову:
– Меня просто тронуло, как хорошо Пантелеймон Николаевич знает катехизис.
Степан Александрович что-то промычал. Он, разумеется, не мог сказать ей, что Пантюша из всего катехизиса знал в гимназии наизусть лишь главу о седьмой заповеди, вычеркнутую батюшкой. Это был единственный случай, когда он что-то выучил из интереса к предмету, а не из боязни кола.
В это время Соврищев прошептал ему на ухо:
– Смотри скорей наверх!
Лососинов посмотрел. Хорошенькая ученица Курочкина зачем-то наклонилась, и на её стройных ножках над самыми коленками на миг пролиловели подвязки.
Но зрелище это нисколько не умилило и не растрогало Степана Александровича. Вообще, вследствие ли испуга, причинённого инструктором, или ещё отчего-то, но чувствовал он себя как-то странно.
Сев на окне в учительской, он с некоторым удивлением глядел на преподавателей, продолжавших обсуждать событие… Какая-то мысль, ещё не совсем ясная, медленно созревала в нем… Раздался звонок. Учителя, ёжась от холода и позёвывая после завтрака, пошли на уроки.
Пантюша обычно уходил последним. Почему-то ему казалось, что начальник вообще должен делать все несколько позже подчинённых (по ассоциации с капитаном судна, который спасается последним). Когда они остались вдвоём, Степан Александрович вдруг сказал:
– Пантюша! А ведь это подлость, что мы с тобой делаем.
– То есть? – удивился тот.
– Эти люди относятся к нам серьёзно, эти барышни нам доверяют, думают, что мы можем их чему-то научить, а ведь мы на самом деле только втираем очки. Мы ведь ничего не знаем… Мы не имеем никаких педагогических взглядов, мы не умеем преподавать, ни по-старому, ни по-новому… морально мы представляем из себя чёрт знает что… Человек, который соприкасается с детьми, должен быть чист душою… Это азбука.
– Чушь какая!.. Мне вот недавно рассказывали… Был один педагог старый, которого в округе прозвали даже святым… А когда он умер, у него в столе нашли такие открыточки…
– Ну и гадость! – вскричал Степан Александрович. – Нет, ты, пожалуйста, пойми меня… Весь урок я только думаю о том, как бы увильнуть получше от неожиданного вопроса…
– Велика штука! Я всегда говорю в этих случаях: это не вы меня должны спрашивать, а я вас… И кончено.
– И это гнусно. Ведь их все это в самом деле интересует… Они доверяют мне, я чувствую, что они уважают меня… А я играю перед ними подлейшую комедию.
– Слушай, голубчик, – с некоторым раздражением возразил Пантюша, – да ведь ты всю жизнь играл комедию… Ну для чего ты тогда потащился на фронт?
– Неужели действительно из-за того, что тебе захотелось спасать Россию и облегчать участь солдат? Просто думал прославиться на этом деле… Все равно, кроме своей персоны, ты никогда ничем не интересовался. Отрицал даже одно время существование других людей. Помнишь – селёдкой в меня запустил?.. И все мы так… Ну, сидишь сейчас в школе, имеешь бумажку, завтрак, ну и довольно с тебя…
Степан Александрович был бледен.
– Да, – сказал он, – ты прав. Я всю жизнь играл комедию… Но теперь это пора кончить. Нельзя так жить. Это подло!
Соврищев с презрением поглядел на него.
– Не выдержала интеллигентская душа, – произнёс он, – впрочем, чёрт с тобой!
И ушёл из учительской.
В учительской было довольно холодно.
Степан Александрович дрожал мелкою дрожью… Он пошёл в переднюю и надел шубу. В кармане он нашёл два куска хлеба, завёрнутых в бумажку, – ученицы положили. Эта находка его ещё больше расстроила. В шубе стало немного теплее, и, потираясь щеками о мягкий котиковый воротник, постарался он, хотя бы ради этих двух кусков хлеба, ясно представить себе, в чем задача педагогики. Но ничего не мог себе представить, кроме двухсветного гимназического зала, по которому он бегал некогда весёлый в серой курточке, и ещё швейцара, стоящего со звонком в ожидании надзирателя. Милое детство!
«Вот сегодня будет заседание объединения, – думал он, – может быть, что-нибудь и выяснится из обмена мнений».
Заседание было назначено в три часа и происходило в зале бывшего реального училища, почти рядом.
Соврищев и Лососинов должны были присутствовать как председатель и секретарь.
В ожидании трёх часов они сидели у себя в учительской, но не разговаривали. Школа опустела. Во всем здании было тихо.
Пришла экономка интерната и принесла им по тарелке винегрета. Роскошное блюдо по тому времени.
Но Степан Александрович почти не притронулся к своей тарелке. Ему был как-то даже противен вид этого красивого кушанья. Поэтому Пантюша съел обе порции. Затем они пошли заседать.
Реальное училище вовсе не отапливалось, в зале заседания стоял холодный сырой туман. За длинным столом усаживались педагоги и представители от учащихся. Страшный инструктор ввалился вдруг, стуча ботиками и утюжа на ходу бороду. Интересно было знать, улыбался ли когда-нибудь этот человек? Но улыбка на этом лице была бы очень странным и жутким явлением.
– Ну-с, товарищи граждане, – произнёс он, садясь и оглядывая бородатые тусклые физиономии, – извиняюсь, что опоздал, задержал сам, изволите ли видеть, Луначарский… Сами понимаете, от министра не удерёшь, как Подколесин от невесты… Так вот сегодня у нас вопрос о новых методах… По поводу последнего циркуляра. Кому угодно высказаться?
Он умолк, и все молчали, переглядываясь исподлобья. Некоторые перешёптывались. Инструктор стал выражать нетерпение. Он заёрзал на стуле, и взгляд его стал саркастичен и злобен. Но в тот миг, когда он собирался, по-видимому, отпустить какое-то ядовитое замечание, самый поблёкший и самый унылый на вид педагог неожиданно сказал:
– Я бы попросил…
– Пожалуйста.
Однако молчание долгое время ещё не нарушалось.
Наконец, педагог откинулся на спинку стула, плечами поднял воротник шубы до уровня ушей и начал говорить глухо и равномерно, без интонаций и даже не считаясь со знаками препинания.
– Помню давно-давно, ещё будучи ребёнком и живя с родителями на хуторе у своих родных в Курской губернии… Сам я москвич, но со стороны матери у меня есть родные-малороссы… Так вот, живя на хуторе, имел я, подобно многим другим детям, обыкновение гоняться в поле за бабочками… У меня был сачок и зелёная коробка, которой я очень гордился. Коробка эта сохранилась у меня до сих пор. Вот Евгений Петрович знает довольно хорошо эту коробку.
– Жалко, что не принесли, – пробурчал инструктор, становясь все мрачнее.
– Ну, она не так уже замечательна. Мне-то она дорога по воспоминаниям. И вот в ясные солнечные дни бегал я по полям, ловя бабочек, этих красивых представителей органического мира… Мир представлялся мне тогда таким прекрасным… И вот однажды, когда коробка моя была почти полна, увидал я бабочку из семейства подалириев, привлёкшую меня своею удивительною раскраскою… я кинулся за ней и бегал до полного изнеможения… И помню, как судьба наказала меня за мою жадность… Я споткнулся, упал, коробка моя раскрылась, и все мои бабочки разлетелись во все стороны… Так, не поймав этой новой бабочки, я потерял и прежних…
Педагог умолк и долго молчал.
– Бывает-с! – иронически вздохнул инструктор. – Когда падали, коленку не ссадили ли?
– Нет… Так вот я и хочу сказать. Школьная реформа напоминает мне эту бабочку. Как бы мы, гоняясь за ней, не остались вообще ни при чем, как я тогда в детстве…
– Ну-с, а какой же выход вы предлагаете?
– Да никакого… Я только высказываю свои сомнения.
– Так-с… Ещё кому угодно…
– Позвольте, я ещё не кончил… Вот я и говорю, что, гоняясь за новым, мы можем утратить старое и, не поймав одного подалирия, потерять десять махаонов…
– Теперь все?
– Да… все…
Педагог закрыл глаза и затих.
– Ещё кому угодно?
– По-моему, – начал нервного вида человек, издали похожий на зубного врача, – надо немедленно закрыть все школы. Это безобразие заставлять детей учиться при нуле градусов! Надо сначала позаботиться о дровах, а потом вводить реформы…
– Об этом толковать нечего, ибо школы закрыты не будут…
– Все равно, я протестую… Я не могу требовать знаний от ребёнка, который мёрзнет и голодает. Это нонсенс!
– Совершенно верно! – раздались голоса.
– Об этом, государи мои, повторяю, нечего рассуждать. Школ не закроют… Прошу высказываться по существу дела.
– Позвольте мне, – сказал подслеповатый старичок, слегка картавя. – Я полагаю, что всегда можно найти компромисс… Мы все знаем недостатки прежней постановки дела… Ну, и будем постепенно отметать всё, что нам кажется ненужным… а незаметно вводить новое.
– Да что новое?
– Ну вот… этот циркуляр. Я, например, с детства любил физический труд, у меня дома есть даже верстачок… Пусть за уроками все что-нибудь клеют или шьют… Можно даже к партам приспособлять тисочки…
– Где вы их достанете?
– Ну, в это я входить не могу…
Наступило молчание.
– Ещё кому угодно?
– Позвольте мне, – вдруг тихо, но твёрдо сказал Степан Александрович.
– Он откашлялся и, не глядя ни на кого, страшно волнуясь, начал:
– Я полагаю, что самое главное во всех этих вопросах – это честное отношение к своему делу. Прежде чем рассуждать, какая школа лучше, старая или новая, мы должны прямо задать себе вопрос: зачем мы преподаём? Затем ли, что нас увлекает дело просвещения, затем ли, что мы хотим действительно работать на пользу нового поколения, или нас просто привлекает бумажка, спасающая от домового комитета, и те деньги, которые нам платят? Я знаю, что многие сейчас стоят на точке зрения «чем хуже, тем лучше»… Пусть, мол, все скорей разрушится и тогда скорей опять все восстановится… Ну пусть так говорят те, кто имеет дело, я не знаю, ну с транспортом, с продовольствием… Но ведь мы-то имеем дело с детьми, господа… Они-то не виноваты в том, что кому-то нравятся, а кому-то не нравятся большевики… То есть я хочу всем этим сказать, что, если мы подойдём к школьной реформе чисто формально и начнём её проводить без всякой критики, то мы поступим нечестно… И напротив, если мы будем из упрямства противиться ей и сознательно, нарочно разрушать школу, то мы поступим тоже нечестно… Если мы любим своё дело, хотим ради него бороться, давайте это делать… Если же нет, перейдёте служить в какую-нибудь канцелярию, где мы получим те же деньги, не вступая в компромисс со своей совестью. – Он умолк.
Все молчали, удивлённо и насмешливо глядя на него.
– Лицо у инструктора расплылось вдруг в добродушную улыбку. Оказалось, что ради улыбки перестраивалась на особый лад вся его физиономия, и из Пугачёва превращался он в картинку при стихотворении «Ну тащися, Сивка».
Молчание не нарушалось, но до слуха Степана Александровича вдруг донеслось еле слышно: «Карьеру делает!»
Он не вздрогнул, ибо и так дрожал все время мелкою дрожью, а только повёл плечом.
– Я вот задаю себе сейчас такой вопрос… Имею ли право я оставаться здесь и обсуждать реформу?.. И смело отвечаю: «нет!»
И среди мёртвой тишины он вышел из зала.
Глава VI
СЕРЫЙ ДЫМОК
Уже совершенно стемнело. Было холодно, и начиналась метель. Снег ещё не шёл, но края крыш уже курились снежными смерчами. Люди с санками шли угрюмо и сосредоточенно, глядя под ноги, с завистью посматривая на тех счастливцев, которые входили в подъезды домов. «Уже дошёл. А мне ещё сколько идти?»
Шли красноармейцы и пели песню, которую заглушал крепчавший ветер.
Степан Александрович шёл и удивлялся тому, что ему вовсе не хочется домой. Ему бы, наоборот, хотелось брести так очень долго, ибо внутри у него горело, а холодный ветер так хорошо освежал. На бульваре он сел на скамейку и сидел часа два, пока наконец не явились какие-то люди и не сказали: «А ну-ка, встаньте товарищ!» Люди взяли скамейку и понесли её на грузовик, где лежали другие скамейки. Грузовик уехал, увозя скамейки. Степану Александровичу вдруг стало совсем жутко. Он подумал о том завтрашнем дне, который неминуемо придёт. Так-таки и тащиться изо дня в день.
«А ведь правильно сказал Соврищев, – подумал он, – я ведь действительно все делал всегда только ради себя».
И ему представился вдруг тот призрак его самого, который некогда создал он своей мечтою: знаменитый, богатый, уважаемый и признанный всем миром.
Ему неожиданно стало весело. Он засмеялся, чем обратил на себя внимание двух женщин.
Вон ещё иные смеются…
Он пошёл по каким-то неизвестным переулкам, где было пустынно и мрачно.
Ноги уже сильно заплетались, но домой не тянуло.
Вдруг в большом подъезде с колоннами увидал он женщину, сидевшую в углу с младенцем на руках. Младенец пронзительно кричал, а женщина шипела и укачивала его, утирая глаза свободною рукою.
– Отчего он так плачет? – спросил Степан Александрович.
– Видите, замерзает! – сердито отвечала та.
Степан Александрович вгляделся и увидел, что ребёнок был действительно покрыт только жалким тряпьём.
Он снял с себя шубу и подал её женщине.
– В кармане есть два куска хлеба, – прибавил он, наслаждаясь прохладою, его окутавшей.
– А вы-то как же?., господин…
– Мне и так жарко.
Пройдя ещё несколько пустынных переулков, он сел на случайно ещё не сожжённую дворницкую скамейку. Перед ним был ярко освещённый особняк, Если бы сейчас шёл тринадцатый год, можно было бы подумать, что в особняке бал, фрукты, барышни, цветы. Тогда-то зародился призрак и был он так близок, так действителен.
Из ворот особняка вышел человек с портфелем.
Он поскользнулся и упал.
– Ушиблись? – учтиво спросил его Степан Александрович, поднимая ему портфель.
Нет, ничего. Спасибо.
Человек удивлённо глядел на Лососинова.
– Лососинов?
– Да.
– Не узнаешь? Не узнаете? Мешков… С бородой меня, правда, трудно узнать…
– Мешков. Ну, как же! Отлично помню. Мешков – первый ученик!
– Да вы что? Ограбили вас, что ли?
– Нет… Я просто так… Мне тепло. Так вы Мешков?
– Какое к черту тепло. Морозище и ветер к тому же. Вы бы домой шли.
– Дома мне делать нечего… Я вот тут сижу… Давайте вспоминать.
– Послушайте, – сказал Мешков, взяв его за руку, – вы больны?
– Нет, нисколько.
– Конечно, больны! Где вы живете?
– Где-то там… Наплевать в общем, где я живу… Помните, как мы любили за столбами ходить для карты.
– Ну ещё бы… только… право… Нельзя в таком виде по улицам бродить, ведь вы же замёрзнете… Скажите ваш адрес!..
– Арбат, Спасо-Щегловский… восемь…
– Далеко… Вы вот что… зайдёте ко мне… я вам дам… куртку, что ли… потом пришлю за ней. Так невозможно. Я вон тут рядом живу. В большом доме.
– Ну что ж, я пойду… Если это, конечно, удобно.
– Удобно… я холостяк… Только вам надо немедленно врача… Уж идёте скорее. На вас лица нету.
Они поднялись по тёмной лестнице.
– Вот куртка, – сказал человек, когда они вошли в маленькую комнату с диваном и двумя стульями возле кривого стола. – Она довольно тёплая, из телёнка. Это нам выдали. Скажите, у вас тифа не было?
– Нет.
– Гм… Дайте адрес… или лучше уж я вас доведу… Вы идти-то можете?..
Степан Александрович сел на мягкий диван и вдруг сам для себя неожиданно лёг.
– Могу, – прошептал он, сладко потягиваясь.
– Вы отдохните…
– Заметьте это, – вдруг перебил его Степан Александрович, – а ведь если бы все люди были абсолютно честные и думали только о справедливости, то прекрасна была бы людская жизнь… Но только как сделать так, чтобы все стали честными?
– Чудак, чего захотели. Да из-за этого в мире спокон века весь кавардак происходит. Попали пальцем в небо.
– А по-моему, можно это сделать… Надо только все время думать… Я вот всю жизнь думал о разных вещах… а о важном… о самом важном не думал… А теперь я буду думать и придумаю…
– Уж вы лежите… Слушайте… Я сейчас схожу в соседнюю квартиру… там живёт врач… Все-таки посоветует, что и как.
Мешков вышел из комнаты.
Степан Александрович лежал на мягком диване и говорил, пощёлкивая себя по виску:
– Вот я отдал женщине пальто, вы даёте мне куртку, это вот справедливость… Понять это очень просто, но нужно, чтобы все поняли. А за сим, как говорил физик, приступим к рассуждению на тему смерти. Я, предположим, умру, а ребёнок, которому я дал шубу, будет жить. По существу, не все ли равно, жизнь или смерть? Ведь если взять все кладбища и все гробницы во всем мире, то покойников окажется в миллион раз больше, чем живых. Вы знаете, что мне пришло в голову: живые это интернациональное меньшинство.
– У вас что болит? – спросил чей-то незнакомый голос.
Лососинов с трудом открыл глаза.
Лысый человек в очках был похож немного на Анатэму.
– Мне очень приятно лежать.
– Гм… Голова у вас болит?
Но Степана Александровича не интересовал этот разговор. Он снова закрыл глаза.
– Нехорошо только, что мёртвых зарывают в землю, – сказал он, – сжигать гораздо лучше.
И вдруг сама собою объяснилась причина утренней тоски. Ему представилась Москва в ясное морозное утро. Над снежными крышами неподвижные серые дымки… Хорошо и вовсе не страшно стать таким тоже дымом и в морозное утро застыть под самым небом… Может быть, там встретится тот счастливый призрак… Он, вероятно, будет сиять, как огонь, и на него больно будет смотреть… Вот он близится. И уже в глазах в самом деле горят золотые и зелёные огни.
Он открыл глаза.
В комнате было темно, но какие-то светлые тени пролетали по потолку.
– Что это, – спросил Степан Александрович, – на потолке?
– Лежите смирно, – отвечал голос, – это автомобиль в переулок заворачивает… Я потушил свет, чтоб вам было спокойнее. Сейчас приедут за вами.
– Хоронить?
– Ну зачем хоронить! Поправитесь великолепным образом. Только уж молчите!
Но Степану Александровичу хотелось говорить.
– Я, знаете, – сказал он, – только сейчас понял смысл жизни.
– Да уж вижу – вы лучший русский человек… Горе с вами…
– Смысл жизни в том, чтобы делать своё хотя бы самое маленькое дело… Но делать честно.
– Открыл Америку!
– Что ж, если для меня она не была ещё открыта. И надо быть обыкновенным человеком… Знаете, совсем простым… без всяких запросов… без всяких Наркомпросов…
– Лежите вы, а поправитесь, будете это своё маленькое дело делать… Ладно!
– Да, да. Ты будешь ко мне по вечерам приходить чай пить… Я женюсь на простой девушке… т. е. все-таки пусть она будет со средним образованием, но, понимаешь… без штук… И будут приходить друзья… тоже совсем обыкновенные и честные… и шутки будут такие простые, но смешные… Скажи… что ты мне положил на грудь? Мне трудно говорить.
– Ничего не положил. Помолчи!
Он опять закрыл глаза и опять увидал дымки над московскими снежными крышами. Один маленький дымок был особенно мил и уютен. И что-то было в нем даже родное и знакомое. Чтоб не терять из виду этот дымок, Степан Александрович не открывал больше глаз. Он не открыл их даже тогда, когда его подняли и понесли, приятно раскачивая.
«Меня везут в больницу, – подумал он, – это очень хорошо. Мешков молодец. Вообще все очень хорошо».
Почувствовав свежий морозный воздух, он на миг открыл глаза и увидел прямо над собой яркие зимние звезды.
«Значит, метель кончилась и идти домой будет легко, – подумал он. – Какие яркие звезды. Вот… вот в чем дело. Я же говорил, что это очень просто».
Он с трудом приподнялся.
– Тебе чего? – спросил, наклоняясь над ним, Мешков.
– На звезды надо смотреть. Чаще смотреть на звезды!
И прошептав это, он с удовольствием лёг, а дымок все разрастался и вот уж чёрной тучею окутал вселенную…
Возвращаясь из больницы, Мешков долго стоял на углу своего переулка и смотрел на ясное ночное небо.
– Гм! – сказал он. – Если поправится, нужно будет в самом деле зайти к нему как-нибудь вечерком.
На этом обрывается рукопись.
Конец
Баклажаны
I. Судьба на верёвочке
Разве не говорили все и разве не утверждали, что украинские ночи сотворены для любовных восторгов?
Разве Гоголь не восклицал патетически: «Знаете ли вы украинскую ночь?» – и разве не отвечал он сам, видя, что язык отнялся у заробевшего читателя: «О, вы не знаете украинской ночи».
И разве Куинджи кусок этой ночи, втиснутый в золотую раму, не передвигал по всем губернским городам Российской империи, пока не пригвоздил его гвоздем вечности к стене Третьяковского прибежища?
Да. Пленительна и сластолюбива украинская ночь. Но в сто, в тысячу, в миллион раз пленительнее и сластолюбивее знойный украинский полдень.
Беззвучно и тихо скользит хрустальная река. Где-то вдали, словно чье-то бестревожное сердце, постукивает мельница, огромный, как майн-ридовский кондор, аист-лелека мерно пролетает над водою.
О, счастливые любовники, обитающие в Советской Украинской Социалистической Республике! Усталые, раскинулись вы среди лоз, разросшихся на песке, и перебираете пальцами золотую солнечную сетку и грезите о тех временах, когда у человека отец был уже человек, но дедушка еще шимпанзе.
Да. Прекрасен украинский полдень, и не угнаться за ним, никогда не угнаться куинджевской ночи.
* * *
Двадцатого июля тысяча девятьсот, кажется, двадцать пятого года на белом пляже у реки Ворсклы грелись и отдыхали после, купанья три голые – вполне можно сказать – красавицы, с телами не светлее той медной посуды, которую продают у нас цыгане, и волосами такими же черными, как цыганские бороды. Три красавицы эти были на три различных вкуса, и появись сейчас среди них древний Парис, он, пожалуй, опять затруднился бы, которой вручить свое историческое яблоко, вернее, предложил бы каждой по очереди отведать понемножечку.
Одна была очень пышна и очень тяжела и лежала между своими подругами, как массивная библия с рисунками Дорэ лежит между непереплетенными брошюрами.
Другая была стройна, как кедр ливанский, обращенный к востоку. Похожая на Суламифь, она посыпала горячим песком свое смуглое бедро и презрительно жевала стебель.
Третья была вертлява и костлява, она совсем не лежала спокойно, но то падала ничком, словно плавала но песку, то, раскинувшись, распластывалась на спине, отдаваясь солнцу, то садилась на корточки, опираясь руками о землю, как кенгуру, готовый прыгнуть.
Вокруг красавиц валялись белые рубашки и пестрые платья, туфли и еще ханки – пустые высохшие тыквы, заменяющие украинским Веверлеям пузыри.
Красавицы уныло пели на мотив известного танца баядерки:
Омоложенье – это радость, мечта. Вернется юность и красота. Исчезнет рад морщен, Исчезнет ряд седин, И буду к опять пленять мужчин.– Соломон вчера опять приходил и искал моей руки, – сказала Суламифь, – он до того в меня влюблен, что мне даже стыдно, тем более, что замуж я за него никогда не выйду.
– Почему же ты никогда за него не выйдешь, Рая? – спросила самая полная, переворачиваясь осторожно, чтобы не перекувырнуть вселенную.
– Потому что у него характера не больше, чем у половой тряпки. А я люблю жестких мужчин. И потом у него смешная фамилия: Поднос.
– Но если ты не выйдешь за Соломона, то за кого же ты выйдешь?
– А зачем мне вообще выходить?
– Не говори так. Когда я вышла замуж, я в первый же год прибавила на восемнадцать кило. А ты видела Мышкику. Когда она вчера купалась, на нее было симпатично смотреть. У нее все тело словно перевязано ниточками.
– Мышкина не от замужества потолстела. Я же знаю: она пьет пиво с медом, с маслицем и с желтками.
Красавицы умолкли и потом опять запели:
Омоложенье – это радость, мечта…– Я сегодня была на базаре, – заговорила порывисто и страстно та, которой не лежалось спокойно, – и видела, как в фаэтоне проехал такой интересный человек. Он ехал со станции, потому что у него в ногах лежал чемодан.
– Это приехал к Кошелевым их родственник из Москвы. Кошелева вчера приходила к нам в магазин и спрашивала, когда приходит поезд. Мы ей сказали.
– Он приехал жениться на Вере Кошелевой? – спросила Рая.
– Пш… Разве он дурак или душевнобольной? Такой мужчина может жениться на богатой и совсем молоденькой девушке. Он как принц.
– Ты, Зоя, готова влюбиться в простой пень. Разве ты не сказала, что новый провизор самый красивый человек в мире?
– При чем тут я? Это говорят все.
Полная в это время села и стала натягивать на могучие ноги длинные палевые чулки.
– Я ухожу, – сказала она. – Лева скоро придет домой. Ай, какой он смешной в своей любви ко мне. Он каждый день мерит меня сантиметром. Ему все хочется, чтоб я была совсем толстушкой.
– Молодой Кошелев гладко выбрит и похож на артиста, – сказала Зоя, расправляя и надевая на шею рубашку. – Таких мужчин приятно целовать в губы.
Они стали одеваться и скоро ярко запестрели на фоне зеленых холмов.
А на зеленых холмах в полуденной дымке застыли Баклажаны – город белых одноэтажных домиков и голубых деревянных церквей, родной брат Хороля и Кобеляк, племянник Миргорода, город акаций, фруктовых садов и пирамидальных тополей, маленький город с единственной мощеной улицей и кирпичными тротуарами. Из его кудрявого зеленого букета торчала, словно палка из цветочного горшка, худая мачта-антенна на крыше единственного сознательного товарища.
По тропинке, спускающейся к берегу, в это самое время шли два человека, один высокий, весь в белом, без шляпы, другой низкий, сутулый, какой-то серый, едва поспевавший за белым.
– Вот он, – прошептала Рая, – это с ним идет Бороновский – я его боюсь. Папаша сказал, что от него можно заразиться чахоткой. Посмотри, какое желтое у него лицо, как лимон.
Полная одернула сзади платье, чтоб кверху подтянуть декольте.
Они, потупившись, прошли мимо Кошелева и Бороновского и не оглянулись, только полная теперь одернула декольте вниз, чтобы побольше закрыть спину.
Они обернулись к Зое, которая шла сзади, но ее не было.
– Где же она? – удивленно спросили обе друг друга и воспользовались случаем внимательно оглядеть белую спину, исчезавшую в зелени.
– Она верно пошла другою дорогою, она всегда боится тех, в кого влюблена: она глупа.
– А он, правда, красив, – прошептала пышнейшая из пышных.
– Мужская красота – фикция, – презрительно отвечала Рая, – у всех русских плоские лица.
Ну, конечно, Кошелев не был красавцем в том смысле, как рисуют на картинках, да и в самом деле не фикция ли мужская красота? Но уж он вовсе не был похож на баклажанских мужчин и выделялся среди них, как в столице нашей выделяется заезжий англичанин. Все на англичанине не такое, и портфель у него с машинкой, и башмаки невообразимо острые, и пальто зеленое нескладностью своею складное, и шляпа аппетитная, как шоколадный торт, и очки черепаховые огромные, не для человеческих глаз, и ни разу локтем в толпе даму наотмашь не саданет. Клином врезалась в революционную столицу буржуазная штука. И таким же клином в Баклажаны вонзился Кошелев. Баклажанские мужчины бреются редко, а то и вовсе не бреются, а он через день, у баклажанских мужчин брюки гармошкой болтаются, а у него складка впереди сверху донизу, и рубашка прозрачная особой спортивной выработки – от блаженной памяти – Альшванга. Да как же это возможно, воскликнут иные скептики, чтоб на восьмой год рабочей власти подобная рубашка, как же не смел ее вихрь революции! А вот не смел, и дело тут, очевидно, не в слабости вихря, а в прочности материи; да что ж вы рубашке удивляетесь, если и сам Кошелев – носитель ее – уцелел. Уцелел и в Баклажаны приехал поездом прямого сообщения.
Кошелев и Бороновский вышли между тем на берег.
Река ослепительно сверкала на солнце.
Таким миром и такою тишиною полно было все кругом, что Кошелев замер, исполненный восторженного благоговения. А Боронований, страшно запыхавшийся, схватился руками за грудь и стоял, бессмысленно выпучив глаза и глотая воздух, словно выброшенная на песок рыба.
– Какая благодать, – воскликнул Кошелев, – какая красота! Я понимаю, что Карамзин иногда падал ниц и восторженно целовал землю. Стоит поцеловать. Вы знаете, когда я сейчас шел по городу, у меня было впечатление, что я перенесся на машине времени в мирные гоголевские дни.
– Подобно фантастическому рассказу Уэльса, – проговорил Бороновский, несколько отдышавшись.
– Да. И как было чудно на одном домике, в котором по всем правилам следовало бы жить Ивану Ивановичу или Ивану Никифоровичу, увидать серп в молот. Я даже в первый момент не мог сообразить, что это такое.
– А… это вы очевидно имеете в виду нашу почту.
– Как, вероятно, уютно жить в этих маленьких домиках. Всюду ставни, огороды… На некоторых крышах я видал даже аистов. Стоят себе на одной ноге, как сто лет назад, и наплевать им на сдвиги, происшедшие в человеческом миросозерцании.
Бороновский тихо рассмеялся.
– Вы это очень остроумно выразились, – произнес он, – а уж если мы заговорили об аистах, так у нас тут есть один замечательный аист. Ему добровольцы приладили к ноге офицерскую кокарду. И вообразите, аист прилетает до сих нор все с кокардой. Его тут так и прозвали: Деникин.
–. Забавно. Да. Я смотрю и удивляюсь. Ведь это же прямо картина Пимоненко или Кондратенко под названием «Полдень в Малороссии». А что это там белеет?
– Хутор.
– Поселиться бы на этом хуторе с какою-нибудь Оксаною и есть галушки.
Легкое облачко набежало на солнце, и все сразу кругом поблекло и потускнело. Так тускнеет прима-балерина, когда тушит старый Вальц – театральный волшебник – озаряющий ее прожектор и зажигает обычную рампу.
– Удивительно, – сказал Бороновский, – до чего явления природы иногда совпадают с мыслями. Смотрите, как все потемнело. Степь словно нахмурилась под наплывом неприятных воспоминаний. А я как раз хотел вам рассказать, до чего не повезло хозяину того хутора. Его во время гражданской войны ночью раздели, облили керосином и подожгли. Мы все видели, что огонек по степи бегает, но не донимали, в чем дело, потому что крики относило ветром в другую сторону.
Кошелев сочувственно покачал головою. Но странный рассказ как-то легко прошел сквозь его уши и улетел вместе с белым облачком.
– А женщины, – опять заговорил он, – у нас в Москве они словно сработаны по ватерпасу. А здесь, я нарочно обратил внимание, – какие груди, даже у интеллигентных.
Бороновский конфузливо улыбнулся.
– А вы, Степан Андреевич, – сказал он, – должно быть, крупный Дон-Жуан.
– Да ведь правда. Ну, возьмите хоть мою двоюродную сестрицу. Разве плоха?
Бороновский вдруг оживился, он не стал менее бледным, ибо румянец, повидимому, навсегда покинул его лицо, но глаза его блеснули восторженно.
– Вера Александровна божественно красива, – сказал он, – и блистает умом. Вы попробуйте поговорить с нею о литературе; вы будете поражены ее начитанностью.
– Не понимаю, как она до сих пор не выскочила замуж.
– Она чужда мирских интересов и к тому же крайне независима. В прежнее время за ней ухаживало много молодежи, но она никому не подарила своего внимания.
– Ну, теперь-то, я думаю, она бы подарила. Ведь ей скоро тридцать стукнет. С этим не шутят.
Бороновский встал.
– Я извиняюсь, – сказал он, – мне вредно быть на солнце.
– Ну, а я посижу еще немножко. Уж очень тут здорово.
– Да, – сказал Бороновский, – находясь здесь, лишний раз убеждаешься, как прекрасна жизнь. Вы обратили внимание, как всякий человек уверен, что он не умрет, а если умрет, то очень не скоро. Я раньше удивлялся, как это, например, восьмидесятилетние старики могут думать и говорить о чем-нибудь другом, кроме смерти… И еще меня всегда поражал факт погребения… Теперь у меня и в том и в другом есть, некоторый опыт…
– То есть как? Ведь вам же не восемьдесят лет, и погребены вы, вероятно, никогда не были…
– Совершенно верно, мне не восемьдесят лет… но доктора предсказывают мне смерть очень скоро.
Степан Андреевич смутился.
– Ну, доктора постоянно ошибаются, – сказал он, – один мой родственник тоже вот так был приговорен к смерти, а между тем жив до сих пор…
Кошелев с ловкостью благовоспитанного человека соврал про родственника и потому несколько сконфузился, увидав, как радостно вздрогнул и сделал к нему шаг Бороновский.
– И давно это ему предсказали?..
– Да лет… десять тому назад.
– И он в Давос не ездил?
– Да нет… само прошло.
– Вот и я думаю, что тут леченье не поможет, тут судьба. А еще мне кажется, что если очень хотеть жить, то можно и смерть преодолеть. Не знаю, как вы, а я большой сторонник личного бессмертия.
– Правильно, – воскликнул Кошелев. – К черту смерть!
Он закрыл глаза, закинул ногу за ногу, а руки заломил под голову.
Бороновский долго смотрел на него, словно любовался этим удивительным человеком в белом костюме, который так ловко перескочил через грозное восьмилетие, даже не замарав своих пикейных брюк.
– Не сожгите с непривычки кожу, – сказал он, медленно удаляясь, – впрочем, от ожогов помогает холодная сметана.
Кошелев лежал неподвижно и чувствовал, как пришивают его к земле горячие лучи солнца. Он в это время ни о чем не думал, вернее, думал о том, что ни о чем не думал и предавался пороку праздности, бездельем наслаждался.
Поодаль бухнула вода. Кто-то купался за кудрявым мысом. Степану Андреевичу тоже захотелось влезть в серебристую воду. Он снял три предмета, из которых состояла его одежда: рубашку, брюки и сандалии. Снял, не оборачиваясь по сторонам, со спокойствием и уверенностью, ибо очень любил и уважал свое тело. Это было хорошее мужское тело, в меру мохнатое и в меру мускулистое, от природы немножко смуглое, первобытною наготою хорошо сочетавшееся с бритым лицом и гладким пробором. Солнце, между тем, с добросовестностью банщика поливало зноем голую спину. Кошелев встал во весь рост и еще раз оглядел зеленые берега. И в этот самый миг громкий зов пронесся над рекою.
– Спасите! – кричал женский голос.
– Те, те, те, – взволнованно тараторило эхо.
– Тону!
– Ну, ну, ну!
Степан Андреевич умел плавать и любил плавать, но он никак не мог сообразить, откуда несется крик. На всякий случай он побежал по берегу вправо.
Тут на траве увидал он полотняное голубое платье, две желтые туфельки и белую, как снег, рубашку. Серые деми-шелк длинные чулки висели на сухой ветке куста.
С реки явственно доносился крик. Кошелев увидал что-то золотое, что исчезало и вновь появлялось на поверхности. В стороне по течению медленно и самодовольно уплывали, очевидно, оторвавшиеся ханки.
– Держитесь! – крикнул Кошелев и бросился в воду.
С воды река казалась очень широкой и в самом деле страшной. Утопающая, очевидно, умела плавать, но, растерявшись, она бессмысленно бухала но воде, забывая об архимедовом законе, рекомендующем при плавании погружать в воду все, кроме носа. Она, напротив, выскакивала, чтобы громче крикнуть, и после крика немедленно погружалась и опять выскакивала.
– Оэ! – крикнул Кошелев, отплевываясь от реки.
Два больших глаза с жадностью уставились на него. В календаре Степан Андреевич читал, что при спасании на водах нужно прежде всего утопающего оглушить ударом кулака по лбу, чтоб он не мешал барахтанием, а затем тащить его непременно за волосы. Но такой способ по отношению к даме Степан Андреевич справедливо почитал грубым и неприличны. Поэтому он ограничился тем, что обнял (не без удовольствия) мягкий стан и поплыл к берегу, задыхаясь немного с непривычки от этого плаванья с препятствиями. Нащупав ногами дно, Кошелев поднял на руки блондинку – которая била не то что в обмороке, а как-то обомлела с перепугу и не шевелилась, и посадил ее на песок.
Да, эта была сработана не по ватерпасу. Золотые волосы – было их по крайней мере на четыре головы – растрепалась и рассыпались. Брови были темны и гениально очерчены, должно быть, природа в припадке вдохновения создала это свое творение и не поскупилась на лучший материал. Modele dе luxe. Блондинка, между тем, спешно протирала глаза, затопленные водою. Потом она с ужасом уставилась на голого человека, загораживавшего своим мокрым телом весь зелено-голубой мир. Голый человек наклонился и хотел довольно-таки смело поцеловать ее в губы. Но она рванулась, и поцелуй скользнул как-то по всему телу – начавшись с губ, он кончился где-то возле коленки. Блондинка с большой для нее силою ударила спасителя кулаком в грудь и кинулась за кусты, где была разбросана ее одежда, но не остановилась, а, схватив ее, побежала дальше, в гору, на бегу напяливая одежду, как невиданная сирена: наполовину женщина, наполовину платье. Впрочем, напрасно так спасалась блондинка, ибо Степан Андреевич и не думал ее преследовать. Нахохотавшись, дошел он к своему платью и тут по дороге увидал забытые на кусте серые деми-шелк чулочки. Он снял их с веточки, свернул, а когда оделся, положил. в карман.
Он почувствовал в себе вдруг не больше одного золотника весу.
Откуда-то вдали из зелени вдруг, словно дразнящий язык, высунулся и пропал красный флаг на здании исполкома.
И Степан Андреевич тотчас же в ответ показал ему язык и пошел в гору, приплясывая и напевая:
J'aime les beaux dimanches, Dimanches de Paris, quand les femmes sont blanches Et que les hommes sont gris.[13]И вообразите, гражданин, – шестнадцатого какого-то века парижская песня национальным гимном прозвучала в этот миг в Баклажанах.
II. Ее величество королева баклажанская
Но кто же он, этот таинственный герой в пикейных брюках и в революционной рубашке, подмигивающий небу и показывающий язык самому красному знамени? Не в состоянии ли анабиоза, замороженный по способу профессора Бахметьева, пролежал он все эти годы в погребе какой-нибудь биологической лаборатории и теперь вдруг оттаял на удивление миру, не гражданин ли это России номер два, открыто перешедший в американское подданство и теперь лишь в Баклажанах прикинувшийся русским? Нет, Степан Андреевич Кошелев настоящий русский гражданин и еще сегодня в вагоне на вопрос кременчугского пассажира:
– Чі ві член профспілки?
Ответил спокойно:
– А як же.
Мало того, с шестнадцатого года никуда не уезжал он из Москвы после того, как вернулся из Одессы, куда ездил добровольцем (в Красный Крест). Ну, так, значат, он партийный работник или сочувствующий, с самого семнадцатого года вскочивший на платформу и покативший на ней, выражаясь аллегорически, по рельсам успеха и деятельности? И не партийный и не сочувствующий. Целых два месяца после переворота носил перстень с двуглавым орлом и даже состоял в так называемой голубой гвардии, имея целью довести страну до учредительного собрания. Но потом как-то случилось (он сам не помнят, как, был как бы в затмении), что поступил он на службу в какое-то Bycoco и получил к первой годовщине два фунта масла, сливочного масла, – один фунт на себя, другой на умершую, но еще не выписанную из этого мира тетушку.
И вот случилось, что после двух фунтов масла – вкусно было оно, если помазать им на углях печурки поджаренный хлебец – из Степана Андреевича совершенно, ну, вот совершенно выветрились убеждения, и старая мораль вдруг как-то выскочила и покатилась, как колобок в известной сказке. А кто-то там – лиса, кажется, «ам» – и сожрала колобок. Вместе с тем на что-то всё время ужасно злился Степан Андреевич и, сам того не замечая, усвоил дурную манеру вздыхать, говоря при этом тихо: «Ах, сволочи, сволочи!» Будучи и в мирное время подающим надежды художником, нарисовал он как-то интервенцию с подбитым глазом и вспухшей щекой и получил гонорар. Не будучи корыстен от природы, он тем не менее полагал, что деньги необходимы для жизни, и принял гонорар, философски пожав хотя при этом плечами.
Разумеется, великое значение революции – и именно (да, да) Октябрьской революции – Степан Андреевич сознавал и часто высказывал это, особенно в беседе с коммунистами, ибо был человек вежливый и не хотел обижать высказыванием подобных мнений каких-нибудь старых или пpocтo старого закала людей. Но почему-то после подобных бесед чувствовал Степан Андреевич какую-то злобу и даже физическую тошноту. Бог знает, не завалялось ли у него на дне души какое-нибудь крохотное убежденьице, маленький червячок, не околевший в свое время от сорного пшена. Хотелось иногда пойти на площадь и заорать: «Вы думаете, я ваш? К черту! Ничего подобного!» И даже намечено было место для крика: возле обелиска – лицом к бывшей гауптвахте. После крика кончилось бы благополучие. Крик откладывался: вот завтра закричу.
Однажды даже решился, так сказать, прорепетировать крик и заявил редактору:
– Вы знаете, рисовал я это со скрежетом зубовным.
– Мы вам, – ответил тот, – не за скрежет платим, а за рисунки, а рисунки ваши подходящие.
Степан Андреевич в конце концов даже стал проявлять признаки нервной болезни, выражавшейся в какой-то прилипчивости к креслу и в ненависти к сожителям по квартире. И вот тут-то пришло письмо от баклажанской тетушки Екатерины Сергеевны, которую он почитал давно умершей.
«Господь милостив, – писала тетушка, – и пути Его неисповедимы. Дядя твой умер в самом начале Петлюры, а мы пережили всякие ужасы, но вот живы, хотя и с трудом перебиваемся. Вера шьет платья и зарабатывает, а то бы мы вероятно умерли. Вот бы собрался к нам на лето, уж и не знаю, как были бы рады. Мясо у нас пять копеек фунт, курица сорок копеек, масло тридцать. А как у вас?»
Степану Андреевичу очень понравился тон письма, и еще было в нем нечто, придававшее ему какую-то солидность, он сначала не понял, что. Потом догадался: яти и еры, аго и яго и его (про бога) с большой буквы. У Степана Андреевича на летний отдых отложены были ресурсы. Он отряхнул прах (хотя захватил две неспешные рукописи на предмет снабжения их иллюстрациями) и поехал в Баклажаны.
* * *
От реки зелеными уступами кверху шел сад кошелевской усадьбы, обнесенный забором с дырами, вернее, дырами с забором, кудрявый фруктовый сад, где еще и теперь на деревьях висели давно заржавевшие бляхи с номерами и названиями, которых никто уже никогда не читал.
Обрубленные ветки, в разрезе закрашенные белою краскою, среди зелени круглились белыми пятнами, словно видимое отражение невидимого хозяйского глаза. Но гений и вдохновитель этой зеленой сени, Александр Петрович Кошелев, давно покоился на тихом баклажанском кладбище.
Степан Андреевич сорвал и съел сочный оранжевый абрикос. Подходя к террасе, услыхал он голоса и остановился под прикрытием величественной двухствольной груши.
Он сразу узнал голос Бороновского, хриплый щекочущий гортань голос, словно говоривший не догадывался прокашляться. Но говорил он восторженно:
– Посмотрите, Вера Александровна, как то облако, вон то беленькое, похоже на корабль. Сесть бы на этот корабль и все плыть и плыть и смотреть на голубое море. Солнце сияет, ветер такой, знаете, благоприятный, и все так нежно. А потом бы пристать к какой-нибудь тихой гавани, где на берегу много зелени. Я из деревьев больше всего люблю вербу. Сесть на траве под вербой у самого моря и смотреть, как парят над волнами чайки и альбатросы. Помните, как чудесно ответил Пушкину митрополит Филарет: «Не напрасно, не случайно…» А-а-а…
Какой-то страшный звук исторгся из горла, словно железные клещи вдруг сомкнулись на самой гортани. Степан Андреевич даже вздрогнул было, подумав, не затеяла ли Вера удушить разболтавшегося влюбленного, но тут же понял, что это просто кашель, страшный кашель, с мукой исторгаемый из самых недр существа.
– Вам вредно так много говорить, – сказала Вера спокойно и деловито. Она должно быть шила.
– Ничего… а-а-а… ничего…
Он долго молчал.
– Улететь бы, – заговорил он вдруг, только гораздо тише, – все бы страны осмотреть, со всяким человеком побеседовать. И почему нельзя этого?
– Кто же вам мешает.
– Один я никуда не улечу, Вера Александровна, а с вами хоть в подземное царство Плутона… Хоть на край света.
– А зачем мне идти на край света?
– Сели бы мы там на травку. Вы бы шили, а я бы на вас любовался.
– Я и здесь шить могу. Для этого не нужно отправляться на край света. Ну, а смотреть на меня вам бы скоро наскучило.
– Не наскучило бы, Вера Александровна, за это я могу вам поручиться. Ведь когда я о вас думаю только, у меня сердце так и замирает, словно с горы качусь. Удивительная вещь – любовь. Я где-то читал интересное объяснение. В старину были люди о двух головах, о четырех руках и о четырех ногах… И вот, представьте, что какой-то злой гигант разрубил их всех на две половинки и половинки эти расшвырял по всему миру… С тех пор одна половинка ищет свою другую и когда находит, томится любовью… Вы согласны, что в этом сказочном толковании есть кое-что справедливое?
– Что ж, по-вашему, я ваша половинка?
– Вера Александровна, разве я бы… посмел… а-а-а-а-кха.
– Вам помолчать надо.
– Да ведь нужно же мне сказать вам про любовь мою.
– Совсем не нужно.
– У мена тогда, Вера- Александровна, грудь лопнет.
– Ничего у вас не лопнет. Все это глупости…
– Жестокая! Вы, вероятно, никогда не знали любви.
– Знала или не знала, а болтать об этом во всяком случае считаю лишним.
– Да ведь тяжело это, Вера Александровна, в себе таить. Поэты в таких случаях стихи пишут, и им после, говорят, легчает. Увы, муза меня не посещает, и таланта к стихотворству у меня нет, хотя в гимназии я недурно писал сочинения даже на отвлеченную тему. Ну, улыбнитесь, Вера Александровна, ну, скажите, ведь я не вовсе противен вам? Вам мена по морде бить не хочется?
– Ну, что вы говорите, Петр Павлович! Я никогда еще никого по морде не била.
– Куда же вы?
– За нитками.
На террасе стало тихо.
Степан Андреевич подошел к лесенке и остановился, удивленный. Стоя на коленях, Бороновский целовал пол, и – так казалось Степану Андреевичу – слезы падали из-под его бровей.
Степан Андреевич пошумел ветками жасмина, и Бороновский быстро, хоть с трудом, поднялся.
– А я, знаете… двугривенный потерял, – пробормотал он смущенно, – очень жалко, хоть деньги и ничтожные.
Степан Андреевич сел в плетеное кресло и замер в блаженном безделии. Давно еще Лукреций сказал, что ничего не может быть приятнее, как смотреть с тихого берега на тонущий в бурю корабль, или, сидя у спокойного очага, слушать повести о войне. И Степан Андреевич ощущал, что для полноты блаженства ему нужно поговорить с этим человеком, нужно выслушать от него какое-нибудь жуткое признание.
– А вы, по-видимому, неважно себя чувствуете? – спросил он, и сам испугался слишком уж явной лицемерности своего тона.
– Да… по правде сказать, неважно. Болезнь уж очень разрушительная, хотя вот вы сами говорили, что один ваш знакомый поправился. Впрочем, когда-нибудь, выражаясь словами поэта, «мы все сойдем под вечны своды». А какие они, эти вечные своды, вот этого уж не откроет ни один литератор. Я, вы знаете, вообще очень интересуюсь этим вопросом. Смерть – поразительное явление. Взять, например, такого человека, как ваш дядюшка покойный, Александр Петрович. Какая это была энергичная личность… И как его все уважали у нас в Баклажанах… Вот уж, действительно, был судья нелицеприятный, и судиться у него любили самые закоренелые преступники.
– Он какую должность здесь занимал?
– Он был председатель съезда мировых судей. Большая должность – второе лицо в городе. А при этом он успевал я сад поддерживать, да как… Каждое деревцо смотрело именинником. Дорожки была все посыпаны песком, на всех склонах был посажен виноград, и он отлично вызревал и был не хуже крымского. С пяти часов летом он возился в саду, подстригал деревья, окапывал, прививки делал. А зимой работал на токарном станке. Вера Александровна тогда маленькой была, так он ей делал игрушки из дерева. Ну, просто поразительно, как в магазине. А сколько он читал, особенно про путешествия. Читает и непременно на карту смотрит, чтоб знать, где это. И он бывало говорил: «Я вполне доволен своею жизнью в Баклажанах, но мне приятно сознавать, что где-то есть, например, Нью-Йорк или Пекин». И вы знаете, он искренне расстраивался, когда какой-нибудь город, благодаря землетрясению, исчезал с лица земли. Такие города он всегда отмечал черным флажком. А как уютно было у них в доме, как он обо всем заботился! Когда Вера Александровна родилась, он в тот же день поставил в подвал ведерную бутыль вишневки и написал на ней: дочь Вера родилась тогда-то. Эту вишневку нужно было выпить в день ее бракосочетания.
– Ну, а где же теперь эта вишневка?
– Добровольцы выпили. Да. И хорошо, что он не дожил до всего этого. Ведь при Петлюре в этом саду стоял кавалерийский отряд в двести человек, и лошади деревья объедали. Один раз ворона сюда человеческий палец занесла. Поверьте, у мена сердце переворачивалось. Да… И вот такой человек вдруг умер, то есть перестал существовать, и его, словно вещь, закопали в землю. Прекрасно сказал на его похоронах наш владыко: «Вы зарыли только его плоть, но сам он остался среди вас, и если будет какая опасность, он вас предупредит». И был же какой случай: когда становилось здесь уже тревожно, Вера Александровна сидела и шила вечером в своей комнате. Окно в сад было открыто… И вот Вера Александровна услыхала, что кто-то позвал ее из соседней комнаты, и знаете, так настойчиво позвал. Она очень удивилась, потому что никого в той комнате не было, но все-таки пошла. А в это время позади нее вдребезги разлетелась хрустальная ваза. Кто-то выстрелил в окно из ружья, и пуля пролетела как раз там, где сидела Вера Александровна.
Бороковский умолк, очевидно, взволнованный рассказом.
Степан Андреевич почувствовал, что сердце у него вдруг сжалось от давно неиспытанного, настоящего дореволюционного мистического страха. Так, бывало, замирало оно, когда заглядывал он еще ребенком в детской за платяной шкаф. Ощущение этого страха было так неожиданно и так приятно, что Степан Андреевич пожалел, что на террасе вдруг появилась его тетушка.
Это была маленькая, сухонькая, совершенно беззубая старушка с лицом, на котором застыло выражение восторженного умиления. Она была такая хрупкая, что Степан Андреевич, разговаривая с нею, всегда опасался свалить ее громким словом. Между тем, говорить проходилось громко, ибо Екатерина Сергеевна была уже туговата на ухо.
– Ну, вот, – сказала она, – сейчас будем чай пить.
Лицо ее изобразило вдруг безграничный, но восторженный ужас.
– Степа, – сказала она торжественно, беря Степана Андреевича за руку и подводя его к перилам, – я хочу тебя предупредить. Видишь, там в саду хлопец дерево трусит. Так знай, это Ромашко Дьячко, а это такой жулик, каких еще не было. Дьячки – наши соседи, мы им сад сдали за то, чтобы половину фруктов нам. Сейчас он с матерью, поэтому не бойся, но когда он один, знай, что он непременно все украдет. Ну, вот воронье крыло – дверь маслом смазывать, так он и крыло стащил. И отец его бьет, и мать, и дедушка. Будь с ним очень осторожен. Вон он ходит.
Степан Андреевич увидал небольшого кудрявого хлопца, тащившего по саду ведро с абрикосами. За ним шла печального вида женщина в синем платке на голове, тоже с ведром.
– А еще, Степа, я должна тебе сказать: ты видел нашу Марью, которая на кухне готовит… Ну, так не верь ей… Что бы она ни сказала, знай – она лжет. Ну, вот сейчас утверждает, что я не говорила ей поставить самовар… А я ей повторила несколько раз… И так во всем… Я прямо говорю: Марья наш бич. Но мы не можем без нее. Она прожила у нас все эти годы, и к тому же в двадцатом году ее казак обидел, а ей лет уже немало… и потом мы ей ничего не платим…
Екатерина Сергеевна повернулась, споткнулась о кучку небольших булыжничков, сложенных возле перил, вроде тех булыжников, которыми мостят шоссе, и со стоном полетела на пол.
Степан Андреевич даже глаза на миг закрыл, ибо был уверен, что тетушка рассыплется на составные элементы. Но, не слыша звона осколков, он кинулся вместе с Бороновским ее поднимать.
– Вот глупые булыжники, – сказал он, – и зачем они тут валяются!
Он сделал было движение – пошвырять их в cад, но тетушка со страхом остановила его.
– Это Верины камни, – сказала она тихо, – надо их сложить.
– А вы не расшиблись, Екатерина Сергеевна? – спрашивал Бороновский.
– Нет, нет… коленку немножко, так от этого деревянное масло… Только камни надо подобрать.
– Да зачем Вере эти камни понадобились? – удивлялся Степан Андреевич, помогая складывать кучку у перил террасы.
Тетушка приложила палец к губам, ибо сама Вера Александровна появилась на террасе.
Нет не Вера, не Вера Александровна Кошелева вошла в этот миг на террасу, – то вошла шекспировская королева из самой торжественной и никем еще не читанной хроники, та самая, которая по прихоти какого-нибудь Генриха в наказанье появилась перед народом в веревочных туфлях и в платье из старой ситцевой шторы, но при этом так гордо закинула голову, что сам архиепископ кентерберийский устыдился своей шелковой рясы, а прочие разодетые дамы так и вовсе плакали навзрыд и громко каялись в постыдном своем кокетстве. Королева надменно несла свою величественную грудь, и сам Дон-Жуан при виде этой груди спрятал бы за спину цепкие свои руки.
– Самовара, конечно, еще нет? – спросила она насмешливо и прибавила, – бедный Степа… вы скоро раскаетесь, что заехали к нам… Вы будете погибать от голоду, но никто вас не накормит, вы будете умирать от жажды, но вам не дадут чаю… Вы теперь зависите от Марьи, бедненький Степа, а для Марьи не существует время.
– Вера, Верочка, – сказала Екатерина Сергеевна, – ведь ты же знаешь, что это наш крест…
– А то еще, Степа, ждите и того, что вам утром нечем будет умыться… Это, если Марьи не заблагорассудится налить с вечера воды в умывальник… Такой случай был с нами на прошлой неделе…
– Верочка, не надо… ты только себя мучишь.
– Нисколько я себя не мучу, – вдруг резко крикнула Вера, сверкнув глазами, – это ваше воображение, мама, что я могу из-за этого мучиться… Мне жалко вас и жалко Степу, который доверчиво принял наше гостеприимство. Сама я проживу на хлебе и на воде…
– Вы-то уж известная постница, – ласково сказал Вороновский.
– За известностью я не гонюсь, Петр Павлович, поэтому я не понимаю, о чем вы говорите.
Степан Андреевич быстро посмотрел на Вороновского и тотчас отвернулся, так ужасно задергалось и запрыгало его лицо. Словно дернули его за невидимую веревочку.
– Вы мене не поняли, Вера Александровна.
– Hy, что ж, если такая дура, что не понимаю простых слов, то лучше не говорите со мною… Xа, ха, ха…
Она именно просто сказала: «ха, ха, ха», – при чем в глазах ее вспыхивали и потухали зарницы.
В это время дверь с шумом распахнулась, и на террасу ввалилась с самоваром в руках старуха с лицом средневековой ведьмы, в страшно грязном платье, так что, казалось, вылезла она прямо из помойки. Самовар шипя влек ее за собой; и, наклонившись вперед под углом в сорок пять градусов, она шла вопреки всем физическим законам о центре тяжести. Она с треском поставила самовар на стол, поправила конфорку, вытерла нос пальцами, а пальцы о подол юбки, все это при полном и торжественном молчании окружающих, и затем, добродушно перекосив лицо в улыбку, прохрипела басом:
– Самовар поспев, можно чай пити.
Затем она подошла к лестнице, поглядела с интересом в сад, опять вытерла нос, потом попробовала, прочно ли стоит самовар, и наконец ушла, подняв с полу какую-то соринку.
Зловещее молчание проводило ее.
– Мне больше всего нравится, – проговорила Вера, – что Марья даже не раскаивается в своей лжи… Соврать для нее все равно, что для другого чихнуть… Совесть ее нисколько не мучит… Ей, например, и в голову никогда не придет попросить прощения… По-моему, мама, она просто не верует в бога.
– Ну, что ты, Верочка…
– Христиане, мама, не лгут, а если и лгут, то потом каются…
– И она раскается…
– Ну, полно об этом… Вы, Степа, лучше расскажи те про Москву.
Степан Андреевич рассмеялся.
– Подождите, дайте опомниться… Я чувствую себя здесь, ей-богу, марсианином… Последнее мое воспоминание о Москве, это пионеры, идущие с барабаном по улице. А когда я сегодня утром вылез из вагона, первое, что я увидел, это платок бабушки Анны Ефимовны.
– А ты узнал платок. Это я тебе прислала, чтоб тебя в степи не продуло. Тебе его передал Быковский… Он хотя и еврей, но отличный ямщик.
– Как же не узнать этого платка! Когда мне было еще семь лет, я, бывало, садился у кресла бабушки и делал из бахромы косички… Одна косичка так и осталась на платке, я ее сегодня нашел, когда ехал…
– А в степи не холодно было? Ведь ты ехал очень рано…
– Ну, что вы! Жара страшная.
– А фаэтон у Быковского тебе понравился?
– Отличный фаэтон!.. Вот едем мы, едем, и вдруг этот самый Быковский сворачивает с дороги и срывает фуражку. И навстречу нам в шарабане мчится какой-то монах с белой бородой и вот в эдаком клобуке… Красавец такой…
– А, это владыко, – сказала Вера, зарумянившись от удовольствия, – он, верно, к Демьянову поехал… святить мельницу.
– Да, мне Быковский сказал, что это владыко… У нас в Москве тоже есть всякие архиереи, но они стараются проскользнуть как-нибудь незаметно, а этот едет, и видно, что он тут первое лицо… Один посох чего стоит…
– Да, наш владыко строгий и очень чтимый…
– Отличный владыко… Да. Все, все здесь совершенно не похоже на Москву… Ну, взять хоть ваш дом… Какие комнаты. Все на своем месте, старинное, крепкое. Я люблю основательные вещи. Уж если старик, так чтоб лет ста, если кресло, чтоб свернуться в нем калачиком, выспаться, отлежаться… Например, вот эта комната… Да таких комнат в Москве просто нет… Их давно перегородили на десять частей, и в каждом закутке поселили семью в пять человек… Честное слово!
Он в припадке восторга встал и зашел в комнату. Это была в самом деле очень большая и уютная гостиная с трельяжами и мебелью красного дерева. В углу стоял старый палисандровый рояль. Стены были увешаны портретами и гравюрами, – наследие бабушки Анны Ефимовны. В самом темном углу мерцала лампадка, и золотые ризы бледно сверкали. Маленький огонек напрасно силился затмить яркий день, напиравший из окон и дверей, а святые с неудовольствием, казалось, прятали в золоте свои черные лица.
– А во что превратились люди, – продолжал Степан Андреевич, выхода на террасу, – до чего все изоврались.
– Ну, враньем вы нас, Степа; не удивите… Так, как лжет Марья, никто не может лгать.
– Ну, Марья – простой, необразованный человек, а у нас врут профессора… А женщины? Как себя ведут женщины! Вы читали Нана? Ну, так Нана перед ними святая… Хоть мощи, открывайте… Пьют, целуются с кем ни попало.
Говоря так, Степан Андреевич как-то невольно и нечаянно облизнулся и смутился, и тотчас продолжал с нарочитым негодованием. Он увлекся своей моральной, в этот миг, высотой:
– Молодых девушек в обществе иногда рвет.
– От отвращения? – спросила Вера.
– Какое от отвращения! От вина. Я, например, Вера, смотрю на вас и восхищаюсь. Вы ведете свою линию от тех русских женщин, которых воспевали старые поэты. У вас есть костяк.
– Да, Вера худеет, – сказала со вздохом Екатерина Сергеевна, разливавшая чай, – прежде ты бы у нее ни одной косточки не прощупал.
– Мама, вы уж дайте Степе рассказывать, замечания ваши не всегда бывают удачны.
– А семья? У нас нет семьи… Женщины не рожают детей, чтоб иметь возможность пить вино и кривляться в театральных студиях. Какая-нибудь девчонка, научившаяся произносить монолог, стоя на голове, уже считает себя второй Саррой Бернар… Одна мне сказала: «Я не могу иметь семьи – семья, это тенета на крыльях гения». Понимаете, никто не живет первыми интересами. Пошлейшая клоака… Потом, вот вы недовольны вашей Марьей. А знаете, какая у нас в Москве прислуга? Отработала свои восемь часов, и в кино или на какое-нибудь заседание. Честное слово! Хозяйка за ней, как за барыней, убирает.
– Я бы такую прислугу сразу вон выгнала, – сказала Вера, сверкнув глазами, – глупые хозяйки.
– Боятся. Профсоюз. Чуть что – в суд. Ну, просто безобразие! Вот вам: «мы наш, мы новый мир построим».
– Осторожнее при Петре Павловиче, – сказала Вера, – он спит и видит стать большевиком.
– Вера Александровна, уж это нехорошо.
– Конечно, вы вчера еще кричали: искусство устарело… Не надо нам ни Сурикова, ни Айвазовского, подавай нам футуристов.
– Вера Александровна, а не то говорил. Я говорил только, что когда я в четырнадцатом году был в Москве, то у Маяковского был талант и какая-то искорка.
– Петр Павлович и в бога не верует.
– Вера Александровна, вы на меня клевещете… Я пантеист вроде Спинозы…
– Ну, уж не знаю, в роде Спинозы или не в роде, а постов вы не соблюдаете.
– Я не моту по состоянию здоровья.
– Крепко же вы веруете… Ну, скажите, Степа, как у вас в Mоскве относятся к Петру?
– К какому Петру?
– К блюстителю патриаршего престола.
– А к нему… прекрасно относятся.
Наступило молчанье.
Степан Андреевич впервые услыхал, что Петр блюдет патриарший престол. Ему представился этот престол в виде огромного золотого с бархатом кресла, и как нарочно лезло в голову дурацкое: ходит вокруг кресла их бывший швейцар Петр в золотой рясе и ловит моль – блюдет престол патриарший…
Небо между тем становилось бледнее и на земле сгущалась зеленая тень – к шести часам шло дело.
– А что еще очень забавно после Москвы, так это украинский язык. Во-первых, от «и с точкой» я за эти семь лет вовсе отвык.
– Почему отвыкли?
– Да ведь теперь его не пишут…
– Не знаю, как другие, а я пишу.
– У нас нельзя… Все перешли на новое правописание, даже ученые. И это ведь, знаете, еще Мануйлов вводил. Но украинский язык пресмешной. На вокзале в Харькове, например, театральная афиша: «Ехидство и коханье». Как вы думаете, что это такое?
– «Коварство и любовь», – сказала Вера, даже не улыбнувшись, – если язык наш для вас смешон, так это потому, что вы его не знаете. А для украинцев смешон русский.
– Вы говорите «ваш», разве вы украинка?
– Я родилась в Украине и всю жизнь в ней прожила… И я знаю одно, Степа, – большевики к нам из Москвы пришли, заметьте это.
– Вера Александровна великая самостийница, – вставил, улыбаясь, Бороновский, – при Петлюре она все флаги вышивала – голубые с желтым.
– Да, конечно, если разобраться, то язык, как язык… но…
– Но заметьте, Вера Александровна, – проговорил ласково Бороновский, – что, например, богослужение на украинском языке не прививается. Вот моя соседка хуторянка прямо говорит: «Не гоже на храме, як на базаре, калякати».
– Это какая хуторянка? Дарья Дыменко?
– Ну да.
– Так она же дура. Вы, Петр Павлович, удивительно умеете хорошо подбирать примеры… Вы, должно быть…
И вдруг Вера умолкла и напряженно стала прислушиваться.
Словно шел кто-то по саду, бормоча, или хрюкая, или даже напевая тихо в нос.
– А ведь это Лукерья идет, – сказала Вера, изменившись в лице.
Екатерина Сергеевна вся как-то задрожала и поставила на стол недомытую чашку.
И тут все увидали у террасы медленно передвигавшуюся уродицу с перекошенным лицом – казалось, запихала она за щеку целое яблоко. Глаза смотрели бессмысленно, за плечами болтался баул. При каждом шаге нищенка опиралась на посох, который словно втыкала в землю, а потом подтягивалась. Сквозь изодранное платье желтели куски немытого тела. Уродица остановилась, вкопав в землю посох, и затянула гнусаво: «Подайте, мамуся, подайте, татуся».
Степан Андреевич не успел опомниться. В следующий миг Вера кинулась к куче камней и принялась швырять их в нищенку, отбиваясь от Петра Павловича, который хватал ее за руки, а уродица мчалась по саду быстро, как газель, размахивая посохом и подобрав юбку на пол-аршина выше колен. Один камень таки угодил ей в мешок.
– Пустите, я убью ее! – крикнула Вера и так рванулась от Петра Павловича, что тот налетел на стол, и самовар заплясал на нем вместе с чашками.
Екатерина Сергеевна стояла, сложив молитвенно руки. Степан Андреевич не знал, что делать.
Вера вдруг поглядела на него, и лицо ее покрылось пятнами.
– У меня с этой подлой счеты, – сказала она и захохотала и хохоча выкрикивала: – Вы видели, как она бежала, как бежала… Как бежала…
И все хохотала, и слезы градом текли у нее по щекам, и, наконец, вскочив с кресла, кинулась она в комнаты, а за нею Екатерина Сергеевна, споткнувшаяся о порог и подпрыгнувшая при этом чуть не на целый аршин.
– Что такое? – пробормотал Степан Андреевич. – Она с ума спятила!
Бороновский, бледный, как воск, хотел улыбнуться, но подбородок у него вместо этого запрыгал во все стороны и челюсть застучала, как при ознобе.
– Эту нищенку в прошлый раз Вера Александровна прогнала, а та ей издали показала дулю… Ну и вот… Вера Александровна очень вспыльчивый и самолюбивый человек.
– Что же, она эти камни для этого и припасла?
Бороновский ничего не ответил, а запахнулся в пиджак и все стучал челюстью.
– Простите, – сказан он, – я домой пойду… Мне что-то холодно… У меня к этому времени жар повышается… Немножко я пересидел свое время…
Он ушел на цыпочках, беспокойно оглядев окна белого домика. Степан Андреевич тоже ушел с террасы.
«Странные люди, – думал он, – какие-то бешеные темпераменты».
И опять ощупал в кармане чулочки.
На дворе, между двумя пустыми ведрами, сидел хорошенький хлопец и забавлялся тем, что засовывал себе в нос стебелек. При этом он чихал и хохотал от удовольствия. Перед ним стояла старая Марья, словно, аист, на одной ноге и скребла рукою пятку другой ноги, обутой в грязь и мозоли. Два пса вертелись тут же и валялись в траве, рыча от восторга.
У хлопца были очень славные курчавые волосы.
Степан Андреевич подошел и хотел потрепать его по голове, но тот отскочил вдруг и схватился за уши.
– А вже ж вы его не бейте, – сказала Марья добродушным басом, – це хлопец добрий…
– Да я его не собираюсь бить… Хотел по голове потрепать… Больно кудрявый…
Хлопец улыбнулся и зарделся.
– Вот что, – сказал Степан Андреевич, – на тебе полтинник, сбегай за папиросами, тут на углу лавка… А то я что-то себе сандалией ногу стер… На пятачок можешь себе конфет купить, а остальное принеси.
– О, спасибо, – сказал хлопец, и у него даже видно дух захватило. Он побежал.
Марья между тем переменила ногу и принялась скрести другую пятку.
Степан Андреевич пошел в отведенную ему комнату.
Это была чистая, большая, выбеленная, с крашеными полами комната. Окна выходили прямо в сад, мебели было немного: кровать, кресло, стол и зеркало в простенке между окнами. Все это было прочное, старое, без обмана. Еще на стене висела странного содержания большая картина: дохлая крыса на талом снегу, придавленная кирпичом.
У Степана Андреевича вдруг сказалось дорожное утомление. Мысли спутались. Он скинул сандалии, лег на постель и заснул так сразу, словно провалился в какую-то яму.
III. Экстренная неудача
Он проснулся, не понимая, где находится.
Кто-то тихо тыкался вокруг него в темноте на фоне двух больших зеркал, где отражались какие-то серебряные снега.
– Проснулся, Степа, – послышался голос Екатерины Сергеевны, – неужто я таки тебя разбудила?
– Помилуйте… серого сна вполне довольно, – пробормотал Степан Андреевич, еще не вполне очухавшись. Слово «серый» резнуло его своею нелепостью, и он сразу проснулся. Он увидал, что за зеркала он принял окна, за которыми застыл облитый лунным сиянием сад.
Он зажег свечу и надел сандалии.
– А у нас сидит Пелагея Ивановна, – умиленно говорила Екатерина Сергеевна. – Ну и заспался же ты… Я ко всенощной ходила и уже вернулась… Завтра ведь Казанская.
– Да, да… правда.
– Пойдем ужинать… Пелагее Ивановне интересно будет с тобой познакомиться. У нее в Москве есть знакомая…
– А кто это Пелагея Ивановна?
– Матушка… нашего приходского батюшки, отца Владимира, жена.
– А что Вера успокоилась? – спросил Степан Андреевич, зевнув и равнодушно приглаживая рукою пробор.
– Помолилась и успокоилась. Господь ее не покидает… А то с ее нравом просто беда была бы… Но молитва сохраняет… Ты ей только уж не напоминай про Лукерью. И ведь какие наши собаки подлые. На заказчиц Вериных лают, а на нищих хоть бы разочек тявкнули, ну, словно пропали – не лают, и все тут.
Они вышли в сад и пошли к светлому пятну террасы, желтевшему среди лунного серебра. Где-то на реке пел громкий и стройный хор, словно в опере «Черевички». Подходя к террасе и еще не вступая в полосу ее света, Степан Андреевич в изумлении остановился.
– Кто это? – спросил он тихо, кивая на внезапно явившееся, озаренное лампой виденье.
– А это и есть Пелагея Ивановна, – сказала тетушка, – ты погляди на нее, она очень миленькая.
Попадья что-то говорила, наставительно подняв пальчик. Вера, склонившись над работой, молча слушала и усмехалась. Степан Андреевич с нарочитым эффектом внезапно появился в полосе света. К его изумлению, увидав его, матушка мало проявила удивления. Она слегка поджала губки, протягивая ему свою прекрасную с родинками руку, словно хотела сказать: «За спасение благодарю, а целоваться было довольно нахально».
– Вот позвольте вас познакомить, это мой племянник Степан Андреевич, покойного Андрея Петровича сын… А вот это Пелагея Ивановна Горлинская, отца Владимира супруга… Вы ведь, кажется, Пелагея Ивановна, интересовались про свою подругу узнать, ну, так расспросите… Степа, я думаю, не откажется сообщить вам все, что знает…
– Боюсь, что я обману в данном случае ваши ожидания, – любезно проговорил Степан Андреевич, чувствуя, как слабеют его коленки от красоты попадьи. – Москва так велика и обширна, а порядка в ней нет.
– Моя подруга живет на Таганке, Дровяной переулок, двадцать второй дом.
– Дровяной переулок… гм. Я живу на Плющихе.
– Ее фамилия Свистулька… Татьяна Романовна.
– Свистулька? – переспросил Степан Андреевич.
Должно быть, Вера усмотрела в его тоне что-либо обидное, ибо, подняв голову, спокойно сказала:
– Покойный Свистулька, ее отец, был большой друг папы и здешний земский начальник. Мы его очень любили и уважали.
– Ну, я же не сомневаюсь, – поспешил сказать Степан Андреевич, ибо начинал Веры побаиваться, – к сожалению, – обратился он к Пелагее Ивановне, – я ничего не могу сказать про вашу свистульку.
Ну, конечно, Степан Андреевич хотел сказать «подругу». Язык, как говорится, подковырнул скверный оборотец, но тут помогла неожиданно тетушка.
– Наши здешние фамилии и впрямь странные, – сказала она, – ну, вот хоть пекарь здешний, огромный дядько, с эту дверь, а фамилия его Фимочка. Я раз зашла к водовозу насчет воды, а жена водовоза мне и говорит: он, говорит, на сеновале с Фимочкой.
– Мама, – сказала Вера, – я уже говорила вам, что ваши рассказы не всегда бывают удачны.
– Таганка очень далеко от Плющихи, – сказал Степан Андреевич, – да и потом в Москве столько народу. Разве всех можно знать… Вы в Москве изволили бывать?
– Нет, не приходилось. А в Харькове я бывала.
– Вы коренная баклажанка?
– Мы с Пелагеей Ивановной в Баклажанах родились, – сказала Вера, – и в Баклажанах умрем… Я, по крайней мере, непременно умру в Баклажанах.
– Верочка, ну, к чему это… на ночь.
– Да ведь я, мама, не вечный жид. Когда-нибудь умру. Вы, Cтепа, как относитесь к смерти?
– Не люблю. Сегодня на берегу реки…
– До свидания, – сказала вдруг Пелагея Ивановна, – я вспомнила про одно дело.
– Да полноте, дайте рассказать Степе, – с удивлением вскричала Вера, – какое у вас дело?
Пелагея Ивановна молча села, но глазки ее стали строги.
– Сегодня на берегу реки мы беседовали об этом с вашим приятелем и решили, что – да здравствует жизнь, но, конечно, жить надо умеючи. Между прочим, у вас тут русалки не водятся? У вас ведь тут Полтавщина… Русалочье гнездо. Сам Днепр недалеко.
Степан Андреевич вдруг почувствовал, что пьянеет, так сказать, на глазах у почтеннейшей публики, и хоть глупо было пьянеть без вина, и он это сознавал, а все признаки опьянения были налицо, и хотелось выкинуть что-нибудь и болтать без конца умиленную чепуху, хотя бы и при неодобрительном молчании собеседников.
– А скажите, – воскликнул он вдруг, неожиданно даже для себя громко, – у вас тут в Баклажанах фокстрот процветает?
– Фокстрот, – произнесла Вера удивленно, – это что такое?..
– Как, вы не знаете? Ну, я же говорил, что вы женщина, воспетая Некрасовым или Тургеневым… А вы, Пелагея Ивановна, тоже не знаете?
– Это танец такой, – конфузливо прошептала та.
– Ага! Вы таки знаете! Да, это танец… Но это не простой танец вроде какого-нибудь там па-де-труа или венгерки… О, это знаменитый танец… Этот танец танцует сейчас весь мир, его танцуют миллиардеры на крышах нью-йоркских небоскребов, танцуют до того, что валятся с небоскреба прямо на улицу и, не долетев вследствие высоты, разлетаются в порошок, которым потом пудрятся все их родные по женской линии… Думаете, преувеличиваю? Ей-богу… его танцуют убийцы в притонах Сан-Франциско, его танцуют парижские модистки и английские леди – правнучки Марии Стюарт… Это Danse macabre[14] великой европейской культуры, это грозный танец, его боятся даже те большевики, которые ничего не боятся… У нас в Москве танцующий фокстрот считается контрреволюционером.
– А какое в нем па? – спросила Екатерина Сергеевна. Ей, должно быть, при этом вспомнился институт, где когда-то стучала она ножкой, откидывая докучливую пелеринку, может быть, вспомнился и какой-нибудь старичок танцмейстер, который большую часть урока проводил, сидя на полу, рукою переставляя непокорные каблучки и восклицая: «Эх, дите, вам бы две телячьих ноги с боку привесить».
– О, па самое простое и в то же время очень трудное.
– А как держатся?..
– Я вам сейчас нарисую…
И он быстро набросал на Вериной папиросной бумаге пару, танцующую фокстрот, явив при этом всю свою рисовальную технику. По привычке даже поставил две буквы С. и К. Пожалел, что никто не уплатит гонорара… А может быть, и будет оплачен рисунок особой валютой?
– Да ведь они лежат? – сказала удивленно Екатерина Сергеевна.
– Нет, вы, тетя, смотрите сбоку… Вот отсюда надо смотреть на рисунок…
На секунду умолкли все, а Степан Андреевич пытливо смотрел на склоненную золотую головку. А там, в саду, совершалось загадочное таинство украинской ночи, и, должно быть, это она так пьянила.
– И красивая музыка? – спросила Вера, отстраняя рисунок.
– Хотите, сыграю…
– Сыграйте… Вот хорошо иметь двоюродного брата – и художника и музыканта… По крайней мере, просветит нас.
– Я еще и член общества спасанья на водах! – брякнул Степан Андреевич, идя в комнату.
Степан Андреевич прошел в гостиную, где теперь без всякой уже конкуренции мерцала неугасимая. И лики святых были спокойны, ибо молитва – ночное дело. Свет падал на клавиатуру рояля. Террасы отсюда не было видно, но Степан Андреевич сквозь стену чуял – насторожилась. Он, все еще пьяный, тронул клавиши… У большого святого был поднят палец, словно святой приготовился слушать и просил не мешать. Степан Андреевич подмигнул ему. Печальными и мерными синкопическими скачками помчались на террасу звуки, и должны они были по заданию поглощаться сердцем блондинки и таять на этом сердце, как снежинки на горячей ладони. А перед Степаном Андреевичем, вдохновленным и пьяным, развернулся огромный ночной мир, и казалось ему, что сидит он в какой-то таинственной калифорнийской таверне, где прислуживают нагие красавицы и улыбаются пунцовыми губами, а он плачет, отшвырнув в сторону соломинку и разлив пунш, плачет, как гимназист, о тихом баклажанском саде, о нежной блондинке, на любовь ему не ответившей. И уж слезы туманили его глаза, а он все играл, и уж сердце его замирало от тоски и непонятных желаний, а он все играл, и внимательно слушал его, подняв черный палец, святой в золотой ризе.
И, бросив в ночь три громоподобных аккорда, которыми полагал добить робкое баклажанское сердце, кинулся он на террасу.
И что же он увидал? На том стуле, где он только что сидел, теперь сидел худой священник с острым, как бритва, лицом, с большим шрамом над правой бровью и жидкой мефистофельской бородкой.
Атрибуты священства – соломенный полуцилиндр и длинная палка – лежали на столе. Священник говорил, а три женщины внимательно его слушали.
– Степа, познакомьтесь, это отец Владимир, – сказала Вера, – вы только послушайте, что он рассказывает.
Священник встал и низко, но с достоинством поклонился, протягивая руку. Потом сел и продолжал прерванный рассказ:
– Тогда все…
– Простите, отец Владимир, – перебила Вера, – Степе будет интересно услыхать сначала… Не правда ли, Степа, да и мы выслушаем с удовольствием второй раз.
Степа. молча и робко кивнул головой.
– Дело в том, что завелся тут у нас обновленческий епископ, некий Павсихий, быстро и с украинским акцентом заговорил священник, – человек беспринципный и пронырливый. У него и брат коммунист, и в Москве связи. И он пожелал отслужить в прошлое воскресенье литургию в Щевельщине… у нас тут монастырь такой – Щевельщинский… Женский монастырь. Монахини встретили его с большим неудовольствием, но игуменья по слабости литургию ему служить разрешила, а сама, отговорившись болезнью, в храм не пошла. Однако щевельщинский благочинный, человек старый, прямой – спину не гнет ни перед кем – служить с ним не стал и храм покинул демонстративным образом. И весь народ тогда вышел за ним и все монахини, и Павсихий служил в пустом храме, а когда вышел из храма, то многие женщины принялись кидать в него молодой картошкой и даже сшибли с него клобук.
Вера радостно сверкала глазами, Пелагея Ивановна улыбалась довольно, Екатерина Сергеевна умиленно захватила губою губу – и все молчали. А в саду все совершалось и совершалось таинство ночи.
– Ну, Пелагея Ивановна, пойдем домой, – сказал священник. – Завтра большой храм.
– Владыко у вас служить будет?
– А як же. Дал свое согласие по примеру прошлых лет. Мое почтенье.
Степан Андреевич простился, но поцеловать руку Пелагее Ивановне не решился. Вообще он чувствовал себя так, словно учинил некое безобразие, о котором все по вежливости умалчивают.
Вера пошла проводить до ворот, а Екатерина Сергеевна сказала тихо:
– Отец Владимир хоть и молодой человек, а не уступит иному старому: он после двенадцати евангелий до самой светлой заутрени ничего не вкушает… Постом Великим на него смотреть страшно… Говорят, на страстной седмице вериги носит…
Она смяла фокстротный рисунок и принялась им стирать со стола крошки.
Степан Андреевич машинально полез в карман за папиросами, но, нащупав чулки, отдернул руку. Тут он вспомнил:
– Что же хлопец-то мне папиросы не принес? – сказал он.
– Какой хлопец?
– Тут я дал одному мальчишке на дворе… который абрикосы собирал.
Екатерина Сергеевна молитвенно сложила руки.
– Да ведь это ж сам Ромашко Дьячко, – воскликнула она, – ну, я же тебя предупреждала… Украл он. Украл твой полтинник.
– Что такое? – спросила Вера, поднимаясь на террасу.
– Вообрази, Степа дал полтинник Ромашке Дьячко.
– Я послал его за папиросами.
– Ну, что же, Степа, одним полтинником будет у вас меньше.
– Нет, Степа, ты не беспокойся. Я это завтра же выясню…
– Да я не беспокоюсь; я думаю, что он еще принесет папиросы…
– Он?
Вера тихо рассмеялась.
– Ваша доверчивость, Степа, достойна похвалы, а полтинника вы все-таки не увидите.
– Ну, как-нибудь обойдусь.
– Вы, мама, должно быть, не предупредили Степу?
– Предупредила, Верочка, предупредила.
– Я спать пойду, – сказал Степан Андреевич, ибо надо было как-нибудь кончить беседу. – Покойной ночи.
– Покойной ночи… Не плачьте о полтиннике, а в другой раз будьте осторожнее… и еще Марье не верьте… Марье у нас только мама верит.
– Верочка! И не грех тебе? Ну, когда же я Марье верю?
Неподвижен был сад, весь серебряный, с черными тенями, а луна, яркая, как солнце, разогнала на самый край неба бледные звезды и, казалось, обижена была, что ей предпочитают полтинник.
Степан Андреевич после фокстрота испытывал жуть, знакомую музыканту, который соврал в самом важном месте на многолюдном концерте, или писателю, который в уже напечатанной книге обнаружил непоправимую нелепицу: герой, все время называвшийся жгучим брюнетом, под конец дарит возлюбленной свой золотистый локон. И ведь бывают, и ведь бывают такие случаи.
Не найдя свечи, он разделся в темноте и лег спать с открытым окном. Лежа, он задумался, но мысли, его обуревавшие, не были привычными московскими мыслями. Он был в каком-то странном недоумении и никак не мог соотнести себя со всеми этими людьми. Конечно, думал он, это должно случиться со всяким, кто попадает в совершенно новую обстановку. Что бы было с ним, если бы он вдруг попал, скажем, в Париж? Париж и Баклажаны. Гм… И однако, было какое-то легкое и очень глухое раздражение, такое смутное и неопределенное, что Степан Андреевич отнес его к не совсем удобной кровати. Он поэтому даже встал и перебил сенник, заменявший матрац. Какого черта притащился этот поп! Впрочем, Степан Андреевич тут же сам на себя нахмурился за эту мысль. Это человек идейный и достойный уважения. Таких надо ценить и беречь. Да-с. Да-с.
– Ты еще не спишь, Степа? – проговорил тетушкин голос в окно. – А я нашла способ, как твой полтинник у Ромашки выудить. И Вера мой способ одобрила. Ну, спи. Христос с тобой. Но какой же это мошенник!
Она ушла, и теперь была за окном только та самая украинская ночь. Самая первая и самая непримиримая самостийница.
IV. Дьявольские штуки
– Ту-ту-ту-ту-ту-ту…
Словно швейная машина быстро работала за стеною.
Кто-то шил на машинке и при этом хныкал и ревел во весь голос:
– Ту-ту-ту-ту-ы-ы-ы-хнык, хнык, хнык…
Степан Андреевич открыл глаза.
Янтарем ясного солнца залита была вся комната. Ослепительно зеленел за окном сад. Даже дохлая крыса на картине, казалось, улыбалась из-под своего кирпича.
– Ту-ту-ту… ы-ы-ы…
Это вовсе не швейная машина стучала, это бормотали что-то приглушенные стеною голоса, а среди них кто-то действительно хныкал и ревел иногда тихо, иногда во весь голос.
Лицо тетушки в кружевной наколке заглянуло в окно и скрылось.
– Когда оденешься, зайди в кухню, – произнес из-за окна голос.
Степан Андреевич умылся с наслаждением холодной водою и надел, кроме трех предметов, которые составляли его туалет, на этот раз и пикейный пиджак. Затем тщательно причесался перед зеркалом. На столике он нашел коробку папирос и несколько медяков. Медяки он оставил на столе, а папиросы сунул в карман. «Ну вот, а тетушка волновалась», – подумал он.
Затем он пошел в кухню.
Кухня в доме Кошелевых была столь же необыкновенна, как и все в этой стране солнечных и лунных фантазий. Белая и чистая как снег, она сияла крашеным полом и хорошенькою кафельного плитою. Стены были сплошь увешаны глянцевитыми женскими головками, вырезанными из немецких журналов. Красавица кормила голубя зернышками изо рта, другая прикладывала пальчик к губам, сделав из ротика малюсенький бутончик, третья играла на арфе, а амурчик сидел у нее на плече и давал ей нюхать розу.
Перед кухнею на дворе – на зеленом, поросшем травою дворе – стояло целое общество.
Тут была тетушка Екатерина Сергеевна в белом праздничном чесучовом платье и с кружевом на голове. Тут была Марья, грязная как черт, но как будто менее грязная, чем вчера: очевидно, она по случаю праздника не окунулась в помойку. Еще стоял какой-то дядько с седыми усами, как у Тараса Бульбы, в пиджаке и блестящих сапогах, какая-то женщина, слегка кривобокая, но довольно красивая, одетая по-праздничному в красную юбку, голубую кофту и белую косынку, словно царский флаг, решивший назло всем прогуляться по Советскому государству. А еще стоял Ромашко Дьячко, тоже одетый по-праздничному, но не по-праздничному хныкавший и причитавший. Седой дядько от времени до времени дергал его за ухо, и тогда Ромашко принимался реветь во весь голос и вырывался, однако осторожно, чтобы не измять своего праздничного наряда.
Увидав Степана Андреевича, и Тарас Бульба и трехцветная женщина поклонились ему почтительно, а Екатерина Сергеевна сказала торжественно:
– Послушай, Степа, что только говорит этот мошенник. Будто он к тебе в комнату вчера отнес папиросы и сдачу.
– Верно, – сказал Степан Андреевич и показал папиросы.
Все недоуменно переглянулись между собою, словно увидали фокус, и все лица изобразили немое разочарование. Только Марья выразила удовольствие:
– Я ж говорила, що понапрасну хлопца трусили…
– Ну, все равно, Степа, ты ж ему не доверяй… А ты сдачу-то пересчитал ли?
– Пересчитал.
– Так-таки ничего не украли?.. И в комнате все цело? Полотенце цело ли?
– Все на месте…
– Ну, ступай, Ромашко, – сказала тетушка со вздохом, – но смотри, в другой раз не кради… Бог все видит, вон он на нас смотрит.
Екатерина Сергеевна указала пальцем на небо. Все поглядели. Чистое, голубое было небо, только одно облачко белело высоко, высоко. Может быть, и в самом деле была то седая борода Саваофа, внимательно наблюдающего за земными жуликами.
Чинно поклонившись, удалилось семейство Дьячко, а из дому между тем в белом кисейном платье вышла Вера.
В церкви уже звонили, и звон был очень странный. Казалось, что молотком бьет по сковороде нервный человек.
* * *
Храм Казанской божьей матери в Баклажанах был синеглавый, голубой деревянный храм, чистенький, и уютный, и легкий, как елочный картонаж. Стоял он очень красиво среди огородов и баштанов, и перед ним была большая зеленая лужайка.
На этой лужайке теперь толпился народ, словно на ярмарке. Разряженные сивые волы мерно пережевывали свою жвачку и вид имели при этом очень важный, словно профессора, читаюшие в сотый раз одну и ту же лекцию. Возле арб сидели и возились загорелые ребятишки. Там и сям горел, как крыло жар-птицы, оранжевый рукав иной черноокой жинки. Но где вы, куда вы исчезли, знаменитые хохлы в вышитых свитках и в синих, с Черное море шириною, шароварах? Спокойно и важно расхаживали между дивчатами парубки в защитных френчах и в галифе с флюсом, а на кудрявых их головах не красовались уже серые смушки, а велосипедные картузики, заломленные назад по системе парижских апашей.
Перед храмом стояли длинные столы, в стороне на кострах, в огромных котлах, бабы варили что-то и мешали ложками. Горой лежали хлебы и пироги, румяные и поджаристые.
– Это будут после обедни угощать духовенство и нищих, – сказала Екатерина Сергеевна, – впрочем, всякий может поесть, кто проголодается. Ведь сюда за много верст съехались и с хуторов и из поселков. Вон Роман Дымба приехал, а ему уже сто двадцать лет. Помнит он бунт декабристов, он тогда в Петербурге служил солдатом, только все он путает, говорят, что у Николая Первого была длинная рыжая борода и сам был он будто маленький и толстый.
Роман Дымба, слепой и седой как сыч, сидел согнувшись в тени двух огромных волов и что-то строгал ржавым ножом.
– Это он праправнуку дудку точит… А вон и Петр Павлович.
Бороновский был в белой полотняной куртке, заштопанной местами, но чистой, и в руках держал соломенную шляпу.
– Часы кончаются, – сказал он тихо, благоговейно глядя на Веру, – сейчас начнется.
Степан Андреевич давно не был в церкви у обедни. Бывал только с барышнями на пасхальной заутрене, но и тогда вместо молитв предавался он романтическим мечтаниям о невозвратимом детстве и о том, как, бывало, в старину разговлялись. Ему вдруг чрезвычайно захотелось проникнуться общею торжественностью. Он вошел в церковь почтительно и постарался оробеть, как робел, бывало, в детстве. Впрочем, робости настоящей не вышло, только шея скривилась.
Стали все Кошелевы на почетном месте справа, на когда-то очень пестром коврике. В голубом тумане, прорезанном косыми лучистыми колоннами, обозначались изображения святых. Палач взмахивал мечом над головою склонившегося Крестителя.
Однако благоговенья все как-то не получалось, и когда дьякон, выйдя из алтаря, поднял орарь и возгласил: «Благослови, владыко» – Степан Андреевич вспомнил, что забыл дома мелочь.
«Наверное, пойдут с тарелкой, – подумал он, – скандал какой».
Огляделся и замер.
Блондинка стояла впереди, немного наискосок. Она была в белом платье, сшитом не совсем по-модному, но не слишком длинном. На ней были белые чулки и белые туфельки на высоких каблучках, которые имели, впрочем, тут, в храме, весьма смиренный вид, так что было даже удивительно – простой каблук, а понимает. Блондинка крестилась, склоняя лебединую шейку. Степан Андреевич возвел очи и попытался помолиться. Ему при этом вспомнилась его старая няня, имевшая обыкновение молиться так: «Господи, помилуй, денег дай». Потом пришел в голову глупый каламбур, что молиться истово можно, молясь в то же время неистово. Он встряхнул головою и оглянулся на происходивший в середине храма торжественный обряд. Четыре священника облачали владыку, а он стоял, высокий и величественный, – Шаляпин в роли Годунова.
Екатерина Сергеевна молилась истово. Качая головою скорбно и умиленно, она сначала долго придавливала ко лбу щепотку, а затем переносила ее медленно к животу и плечам, шепча что-то убедительно беззубым ртом. Видно было, что все эти нарисованные на стене святые – ее близкие друзья и вполне реальные знакомцы и что она отлично знает, к кому, зачем и как обратиться.
Вера стояла почти все время на коленях, и лицо ее было какое-то просветленное, какого ни разу еще не видал у нее Степан Андреевич.
Бороновский держался в стороне, Он совсем не крестился, он был напряженно задумчив и иногда, прищурившись, словно выискивал что-то в туманном куполе.
Дядьки и жинки молились с чувством и деловито. Еще были в храме какие-то дамы, одетые по моде семидесятых годов, имевшие весьма жалкий вид. Они все тихонько здоровались с Екатериной Сергеевной.
Владыко служил, словно некий опытный и хорошо знающий свое дело чародей. Видно было, что он свой человек среди этих золотых риз и огромных свечей. Он не то чтобы очень торопился, но и не очень медлил, казалось, служение богу стало для него своего рода мастерством, которым он и занимался с уверенностью и спокойствием профессионала.
– Мир всем.
– И духови твоему.
– Помело, помело, помело, – набрав воздуха, затараторил хромой псаломщик.
Отец Владимир вышел из алтаря, бледный и строгий, и на него даже слегка покосился владыко.
Степан Андреевич, увидав, что тетушка комочком рухнула в земной поклон, балансируя, и сам стал на одно колено.
Величественным куполом возвышалась перед ним склонившаяся Вера, а там, немного наискось, и блондинка до полу склонила золотые локоны.
Степан Андреевич отвернулся и постарался вспомнить что-нибудь очень трогательное – и, как нарочно, лезла в голову действительно трогательная история, как он, обняв блондинку, плывет по реке и потом несет ее на руках на горячий песок.
Тогда Степан Андреевич начал молиться.
– Господи! Если ты существуешь, – говорил он, – яви чудо, какое-нибудь самое простое доказательство своего бытия, ну, пускай, например, вдруг угаснет вон та лампадка, никто на это не обратит внимания, припишут сквозняку, а я буду знать, что ты существуешь… и тогда…
Тут он осекся… Что тогда? Тогда, очевидно, придется в корне переменить всю жизнь, потому что ведь если наверное знать, что бог существует, то ведь нельзя не думать о нем неустанно, нельзя же не стать святым. Но тогда, значит, навсегда отказаться от этой, например, блондинки, от всех блондинок, от всех брюнеток, от всех шатенок, отказаться от вина, от вкусной еды, от издательских гонораров (но это уж дурацкая мысль). Степан Андреевич с некоторым страхом поглядел на лампадку. Горит. «Стало быть, – подумал он тут же, – мне приятнее думать, что бога нет… А вдруг есть? Тогда скандал».
Философские размышления эти были прерваны неожиданно и конфузно.
Хромой псаломщик вышел из алтаря, неся на тарелочке две просфоры. Он направился к тому месту, где стояли Кошелевы, ногами как бы выбивая «рубль двадцать» (известно, что нехромые люди походкою как бы говорят: «рубль», «рубль», а хромые: «рубль двадцать, рубль двадцать»). Одну просфору поднес он Екатерине Сергеевне, которую та и приняла, перекрестившись и положив на тарелочку двугривенный. Другую просфору он поднес Степану Андреевичу. Тот принял ее, смущенно пробормотав: «Спасибо, кошелек дома забыл», – и постарался принять самый независимый и молитвенный вид. «Оскандалился московский гость, – подумал он, – ну, в другой раз дам полтинник, только пожалуй, в другой раз не дадут просвирки».
Повалили к кресту. Толпа сама притиснула Степана Андреевича к белой попадье, и он шепнул: «Мне нужно нечто передать вам». Она быстро оглянулась строго и недовольно.
В это время в толпе послышался глухой стон. Степан Андреевич увидал среди голов белое лицо Бороновского, ставшее вдруг лицом трупа. Он нырнул куда-то вниз. Произошло движение, Бороновского выносили, «Дурно стало, – сказал какой-то дядько, – больной человек».
Вера сурово оглянулась назад и покачала головой. Степан Андреевич больно ударился носом о холодный золотой крест и сошел с амвона.
Народ не расходился из храма: отец Владимир готовился говорить проповедь. Степан Андреевич из приличия тоже остался, хотя не мог понять ничего, ибо отец Владимир говорил по-украински и очень быстро. Но Степана Андреевича заинтересовало не что он говорил, а как он говорил. Это не была умиленная проповедь, слегка в нос, слушая которую старушки с первых же слов начинают плакать навзрыд. Это была резкая, с напором, митинговая речь, уверенная и строгая, где о боге говорилось так, словно это какое-то совершенно реальное лицо, замешкавшееся в алтаре, но которое каждую минуту может выйти и распорядиться с каждым тут же на месте по делам его. Дядьки слушали, разинув рты и выпучив глаза, а жинки в страхе и трепете крестились, прижимая к себе младенцев. Заканчивая проповедь, священник строго погрозил пальцем всей пастве, и вся паства потупилась.
Потом, как бы смилостивившись, он благословил всех и пошел в алтарь.
Все двинулись к выходу.
Степан Андреевич посмотрел на Пелагею Ивановну. Лицо ее было умиленно строго, и шла она потупившись, с видом наисмиреннейшей христианки.
На лужайке перед храмом, он, улучив момент, подошел к ней:
– Я должен передать вам ваши чулочки.
Ее лицо так все и подпрыгнуло от радости.
– Вы их нашли? Господи! А я-то думала, что их дивчата украли.
– Но они у меня дома, – сказал Степан Андреевич, слегка раздражаясь на проявленную радость (он-то ожидал смущения). – Я вам при случае отдам.
К ним подошла Вера.
– Вы поняли проповедь, Степа? – спросила она.
– Признаться, нет.
– Отец Владимир говорил об обновленческой церкви… Он говорил, что лучше в язычество перейти или иудейство, чем христианам отойти от истинного православия… И заметьте, как все его слушали.
– А вы тоже не любите обновленцев? – спросил Степан Андреевич у Пелагеи Ивановны.
– Разве можно их любить? Довольно странно было бы.
Духовенство между тем двигалось in соrроrе[15] к столам, уже уставленным яствами. Отец Владимир издалека поманил свою супругу.
Бороновский сидел в стороне на каком-то камне, опустив голову на руки. Он словно никого не видал.
– Он очень болен, – заметил Степан Андреевич, глядя, как усаживалась Пелагея Ивановна среди белых и черных бород и чесучовых ряс.
– Да, – вздохнула Екатерина Сергеевна, – и ведь был совсем здоровый человек. Это у него после пытки.
Екатерина Сергеевна вдруг, сказав так, покраснела до слез, и он заметил, как сверкнули при этом глаза у Веры.
Степану Андреевичу при слове «пытка» представился темный готический зал, где за красным столом сидят судьи в черных мантиях. Бороновский, до пояса обнаженный, стоит перед ними, а палач в стороне раздувает жаровню.
Разговор оборвался, словно ничего особенного не было сказано, и все молча пошли домой.
По лазурному небу мирно и спокойно плыл аист и, сверкая на солнце бело-черными перьями, должно быть, вспоминал, как припекало его это самое солнце, когда в Африке пролетал он с приятелями над синими водами Танганьики.
А пыльные ребятишки кричали ему вслед:
– Лелека, лелека! Где твой батько? Далеко!
V. Мистика
Следующая неделя прошла все в том же блаженном, солнцем нашпигованном безделье. Степан Андреевич рылся в старой кошелевской библиотеке и среди пыли десятилетий находил неожиданные сокровища: романы графа Салиаса, самые что ни на есть исторические романы про «донских гишпанцев», про «московскую чуму», про «орлов екатерининских». Сочинения графа Салиаса, издание Поповича – вот уж действительно все несозвучно. Взять и прочесть. Романы знаменитого Дюма – милые и дорогие с отроческих лет.
А вот еще чудо: журнал «Искра», приложение к «Русскому слову», переплетенный по годам. Десять огромных книг, и в них все недавнее прошлое Российской империи.
Степан Андреевич поволок эти жуткие «Искры» в густой кустарник, разросшийся в нижней части сада. Там было уютно и спокойно лежать и не так знойно даже в самый полдень, ибо издалека кидала тень огромная шелковица. Раскрыв первую «Искру», Степан Андреевич умилился. Генерал-адъютант Алексеев – новый наш наместник на Дальнем Востоке. Сколько звезд и сколько лент, и как может грудь человеческая не лопнуть от чувства «лестности», ибо и со стороны лестно было смотреть на генерала. А потом уже сплошь все генералы и архиереи, и вид озера Байкал, и четырехтрубный крейсер «Варяг», наклоненный на один бок, и адмирал. Макаров с прекрасными бакенбардами, и художник Верещагин в шубе и бобровой шапке…
Да. Степан Андреевич на секунду откинулся на спину. Печальные страницы. Он тогда был еще маленьким гимназистиком и собирал в классе полтинники на усиление флота. Приготовишки пищали «Боже, царя», а либерального вида надзиратель из юристов делал гримасу, словно принимал касторку, и «просил», именно «просил» «не шуметь». Оживился надзиратель, когда через год те же приготовишки, но перешедшие уже в первый класс, загнусили марсельезу, французскую песенку на русский лад.
Вот и второй том: полковник – черт побери! – Мищенко – лихой полковник, с усами, и сухопутный адмирал Дубасов, отдубасивший основательно первую московскую революцию. Сожжение баррикады на Новинском бульваре, жертва освободительного движения – кухарка, убитая случайно на Большой Пресне. Степан Андреевич жил тогда в Кудрине и помнил, как к его отцу приходил в гости знаменитый Маклаков и говорил с негодованием о бестактности правительства: его свергают, а оно не хочет.
Вдали ухали пушки. Опасались каких-то золоторотцев и еще союзников (тогда союзники были не то, что потом), союзниками были черносотенцы и громили жидов и студентов. Могли разгромить и адвоката, – отец Степана Андреевича был адвокат, – хотя в семье очень все надеялись на фамилию: Кошелев – русская фамилия. Кроме того, знакомый драпировщик, осенью вешавший, а весною снимавший шторы, был союзник и обещал не трогать. «Мы, – говорил, – понимаем, что вы хоть и адвокат, а православный, а бьем мы только жидов, потому что это уж так от бога. Еще будем Плеваку бить, но уж это он знает, за что».
Плевако в газете тогда написал, будто один батюшка во время литургии деньги собирал на покупку себе коровы.
Потом несколько томов так называемого мирного времени; это вот когда все было, как в мирное время. И странное дело, и в мирное время через каждые пять страниц на шестой обязательно трупы: трупы казаков, замученных на персидской границе, трупы зверски убитых албанцев, трупы армян, зарезанных турками в окрестностях Эривани, и генералы, только уже не на первой странице.
На первой странице иеромонах Илиодор, Шаляпин, лепящий свой бюст, и Качалов в виде Анатэмы. Гимназистка, бросившаяся. с Ивана Великого на почве непонимания цели жизни. Провалившийся в Государственной думе потолок. Уцелевшее место деп. Пуришкевича. Французские гости в Москве: банкет. Английские гости в Москве: банкет. Итальянские гости в Москве: банкет. А затем: эрцгерцог Франц-Фердинанд, убитый в Сараеве Принципом.
Дальше Степан Андреевич не стал смотреть. Дальше уж ничего хорошего. Он повернулся на спину и устремил взор в ясное небо. Жалко Россию… И опять начал раздражаться, ибо вот и жалко, а не особенно. А по-настоящему должен он был сейчас пасть ниц и реветь, как еврей на реках вавилонских, и бить себя в сосцы и поститься сорок дней и сорок ночей.
Не успев в чувстве или т. е. в эмоции, обратился он к своему логическому разуму. Если верить сочинениям Карамзина, думал он, любовь к отечеству бывает физическая, нравственная и политическая.
Физическая любовь – это когда лапландец любит ледяную плешь, на которой живет, и хлещет рыбий жир с таким же удовольствием, как русский – казенное очищенное вино.
Нравственная любовь – это любовь к согражданам, т. е. это то, что, по словам Карамзина, заставляет двух русских, встретившихся на берегу Фирвальдштедтского озера, кидаться друг другу в объятия и лить на взаимные жилеты слезы умиления. Между прочим, очевидно, во времена Карамзина было по-другому, чем после, Степан Андреевич помнил, как, бывало, за границею содрогался его отец, заслышав русскую речь, и как быстро шептал он сыну: «Русские идут, parle francaais[16]».
Наконец, политическая любовь – это гордое сознание могущества своего отечества и его географических размеров.
Теперь, если разобраться, то разве только физическая любовь и осталась. Любовь к согражданам теперь дело еще более сомнительное, чем прежде, ибо каких-таких сограждан любить? Мужичков любить как-то уж странно, да и не нуждаются они больше в любви образованного класса; представителей так называемой интеллигенции или буржуазии, можно, конечно, любить, но все так заняты, что уж никому не до любви.
Третий сорт любви, т. е. гордое сознание могущества своего отечества, конечно, может быть и теперь, ибо как не гордиться страной, которая, разоренная и расхищенная, однако, преспокойно берет под свое покровительство огромный Китай со всякими там Кантонами и Сингапурами. Но тогда нужно уж стоять на платформе.
Одним словом, из-под русского патриота выдернули Россию, как выдергивают теплый платок из-под разоспавшегося кота. Кот недоуменно озирается. Был, дескать, платок, и удобно на нем было лежать, а теперь нет его. И, подумав, кот ложится на то же место, но без платка и через миг уже мурлычет с удовольствием. Дескать, ничего, думал, что хуже будет.
В это время на грудь Степану Андреевичу шлепнулся листик, он смахнул его и продолжал размышлять. Но не удивительно ли, что еще одиннадцать лет тому назад, двадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, все ходили по Москве, грозя кулаком Феррейну и Густаву Листу, а молодые люди покупали солдатские фуражки, объясняя приказчикам, что сегодня они еще погуляют, а завтра пойдут записываться в добровольцы, И ведь не фантазия же Кузьма Крючков! Хороша фантазия – одиннадцать немцев одним взмахом шашки!
Очевидно, было, было что-то, что вдруг утратилось, и почему утратилось – никто не знает. Психология масс. И опять-таки не столько психология, сколько физиология – трудность добывания продуктов и боязнь потерять жизнь. А на что же тогда существует героизм? Какую-нибудь Жанну д'Арк или Ивана Сусанина не сманили бы пудом пшена или дополнительной карточкой широкого потребления.
Степан Андреевич несколько повернулся на бок… и удивленно уставился в траву. То, что он принял за листик, было на самом деле бумажкою, сложенною на манер аспириновых порошков. Он быстро развернул ее и прочел карандашом нацарапанные слова: «Сегодня в десять часов приходите в захарченскую клуню. Вас будут ждать».
Он вскочил в одно мгновение. Никого, конечно, уже кругом не было.
– Клюнула-таки! – крикнул он неприлично громко. И тут же пришло ему в голову, что, может быть, не им, а чулками главным образом интересуется написавшая эти строки.
* * *
Между прочим, в состоянии погоды произошло резкое изменение. В воздухе стало томительно и душно, небо заволакивалось тучами, а Екатерина Сергеевна вздыхала, глядя на барометр.
– Давеча упал на мизинец, – говорила она, – а теперь еще на указательный палец. Самая уборка сейчас, и непременно смочит. А недавно сохло все, молились о дожде – не послал.
– Что такое захарченская клуня? – спросил Степан Андреевич за вечерним чаем у Веры.
И Вера вдруг насторожилась, словно даже уши у нее как-то острее стали. Екатерина Сергеевна задрыгала чашкой и скривила рот, но замерла тотчас же.
– А почему вы интересуетесь захарченской клуней? – не подымая глаз от шитья, спросила Вера,
– Кто-то тут говорил…
– Это такой сарай разрушенный на берегу реки. Захарченко был раньше богатый мельник, но потом сошел с ума, когда дочь его стала бог знает чем. Она была довольно интересна и хорошо кончила гимназию. А потом во время гражданской войны влюбилась в одного бандитского атамана Степана Купалова. Этот Купалов был такой подлец, но красивый, разбойник. Он и взял себе в жены захарченскую дочку и бил ее, если она ему не доставала водки. Она приходила к нашим соседям и на последнюю юбку выменивала у них самогону. Просто юбку снимала, а бутылку брала. Потом он ее совсем прогнал и спутался с другой женщиной, а когда она все-таки пришла к нему, он привязал ее к хвосту лошади за косу и так таскал по всем Баклажанам… Лошадь гнал в карьер, а на углах останавливался и читал по бумаге, в чем она провинилась. Пьяный был. Ногу ей сломал, челюсть и почти все зубы… Тогда же Захарченко рехнулся и в этой самой клуне повесился… Говорят, ночью иногда там ходит.
– А дочь его жива осталась?
– Да вот нищая сюда приходила – Лукерья. Это ж она и есть. И теперь такая же мерзавка, хоть совсем идиотка.
Вдали проворчал гром. Словно сердился, что люди ругаются в такую тревожную для природы минуту.
– Ну, а бандит этот? Куда он делся?
Вера вдруг уколола до крови себе палец. Она встала и ушла в свою комнату.
Екатерина Сергеевна вздохнула глубоко, потом подошла и еще раз стукнула по барометру.
– Ну, смотри, пожалуйста. Еще на пол ногтя.
Она даже перекрестилась.
– Будет гроза. Лишь бы не град. Спаси бог.
К десяти часам наступила непроглядная тьма, и Степан Андреевич, ощупью добравшись до дыры в заборе, вылез на дорогу к реке.
Молнии пробегали вдали, и гром уже подрокатывал, но было еще очень тихо и дождем не пахло. Только темно было, как в берлоге, и один раз с размаху налетел Степан Андреевич на дерево.
«Глупее всего будет, если она не придет, – думал он, пробираясь по берегу, – наверное, не придет. Вернусь обратно».
И, однако, тут же вспомнилось ему замечательное тело, лежавшее перед ним на траве, облизнувшись, почувствовал он на губах пряный вкус попадьи и – уж так был создан – что пошел, спотыкаясь во мраке, к захарченской клуне. При отблеске далекой молнии увидел он и самую клуню, черный полуразрушенный сарай. «Глупо, – подумал он, – ее, наверное, нет», – и все-таки подошел к сараю и принялся ощупывать стену, ища входа. Из мрака маленькая рука схватила его и повлекла внутрь сарая.
– Ну, вы, однако, храбрая женщина, – проговорил он тихо. Страх его от присутствия другого живого существа, – да еще какого существа, – мгновенно рассеялся. – Но позвольте начать с возвращения вам вашей частной собственности. Вот ваши чулочки.
Он протянул их в темноте и в то же время получил теми же чулками несколько хлестких ударов по щеке, а потом слышно было, как слегка плеснула вода от чего-то, упавшего в нее.
Тень отпрыгнула от него и притаилась во мраке, только два глаза на миг сверкнули, как у кошки.
Внезапно лиловый, фантастический день на секунду блеснул в ночи – то молния с грохотом перепрыгнула с тучи на тучу.
На одном колене, и как-то по-балетному простирая вперед руки, явилась на секунду та самая тень.
Степан Андреевич вздрогнул и вдавился в черную стену клуни.
«Не она», – подумал он и вдруг защелкал зубами.
Нелепейшая мысль так и врезалась клином между обоими мозговыми полушариями. А тень медленно подвигалась к нему, протянув вперед руки.
Там где-то сейчас бегут себе к заставам красноглазые трамвайчики, там человек в круглых очках и с синим карандашом, там на календаре с Ильичем тысяча девятьсот двадцать пятый год. А в этой мгле разве разберешь, какой теперь век, и человек ли, оборотень ли крадется из мглы с простертыми руками?..
Изо всех сил вдавился в стену Степан Андреевич и… перекрестился. С глухим стоном впилась ведьма зубами себе в руку и, сорвавшись с места, в один миг растаяла, растворилась во мраке, и гром с неистовой силой грянул оземь, и тысячи молний заметались по небу. Дождь, вихрь, вой, и при свете молний вся природа наклонилась на один бок под хлеставшим ее ураганом.
Скользя в грязи, не бежал, а летел домой Степан Андреевич, падая, вставая, опять падая, в безумном ужасе закрывая голову, чтоб не пробили ее хлесткие градинки. Он влетел на кухонное крыльцо и чуть не сшиб с ног Марью, преспокойно курившую злейшую махорку.
– Пан? – сказала та удивленным басом. – Дюже мокрый. А вы уже не говорите господам, що я курила. Ну их к бicy.
Сказав так, она отшвырнула окурок и с двумя ведрами храбро пошла под дождь набирать воды из-под желоба.
Степан Андреевич прошел в свою комнату, зажег свечу и с радостью увидал, что все ставни заперты.
Сняв платье и накинув мохнатый халат, он, однако, все еще был как-то плохо уверен в себе, одним словом, был в том состоянии, когда к человеку стоит подойти тихонько сзади и щелкнуть слегка по затылку, чтоб с человеком сделался жесточайший родимчик.
«Что за идиотство, – думал он, – что за идиотство. Подлые нервы».
И вдруг – о, человек в круглых очках и с синим карандашом, видел ли ты это? А если видел, неужели не подпрыгнул от удовольствия на своем обсиженном стуле?
Степан Андреевич подошел к чемодану и вынул одну из тех самых на всякий случай захваченных рукописей. Он внимательно прочел две страницы, а потом сел, взял альбом и, оглядываясь на дверь, стал рисовать.
И при этом воображал он себе знакомые улицы, трамвайную суету у Второго Дома Советов, рекламы американской пароходной компании, деловой спор с подозрительно настроенным редактором и червонцы, милые, белые червонцы на маленьком окошечке стеклянной кассы. И когда вообразил он себе все это отчетливо и ясно, то стало постепенно замедлять размахи расходившееся сердце. Пионеришка на рисунке смотрел храбро и успокоительно поднимал красное знамя.
* * *
Странная ночь выдалась в этот раз в Баклажанах. Много удивительного видела молния, заглядывая в щели старых баклажанских ставней.
Два старых еврея сидели в комнате, увешанной библейскими картинками, совсем сблизив лбы и отставив на край стола огарок, чтоб не опалить себе бороды. Один из них все время опасливо поглядывал на перегородку, но другой успокоительно махал рукой, словно говорил: «Никого нет там». Но он ошибался. За перегородкой, прижавшись к ней ухом, стояла только что вернувшаяся с прогулки, вся мокрая и грязная, бессонная его дочь. Она влезла в окно и теперь слушала, и черные брови ее совсем сдвинулись. Шелест червонцев долетел до нее, и она зажала уши и бросилась на кровать, кусая подушку, чтоб не слышно было рыданий. Какой же такой товар продал старый потомок Израиля, что так слезообильно заплакала его дочка?
Еще видела молния молодую блондинку, мечтавшую в бессоннице. Но о чем она мечтала, молнии, конечно, известно не было.
Перед лампадою молилась в своей опочивальне шекспировская королева. Иногда подходила она к двери и говорила с раздражением: «Да не храпите же, мама, я молиться не могу». И тогда маленькая старушка садилась на постели и, вздохнув, пальцами поддерживала слипающиеся веки.
И еще видела молния такое же бледное, как и у нее, лицо, с тоскою из окна озиравшее небо. Словно странник собирался в дорогу. Полумертвое лицо. На такие лица лучше не смотреть в темные ночи.
VI. Львович
Степан Андреевич заснул только тогда, когда обрисовались розовыми полосками щели ставней. Поэтому и проснулся он довольно поздно.
День был снова чудесный, настоящий летний, ненастье не зарядило по-северному на две недели.
При свете этого дня ужасно смешны и постыдно глупы были ночные страхи. Оставалось, правда, непонятным все. Но в конце концов некоторая таинственность даже приятна на нашем реалистическом, так сказать, фоне. Степан Андреевич посмотрел на пионера, который был наполовину готов, и швырнул его в чемодан за ненадобностью. Потом он пошел пить кофе.
На террасе стояла Екатерина Сергеевна и сомнительно поглядывала то в сад, то на свои веревочные туфли.
– Мокро, – говорила она, – мокро и грязно. Господи, помилуй.
– Да, мокро, – согласился Степан Андреевич, жуя словно из ваты испеченный хлеб. Хлеб этот мялся и не разгрызался и назывался тут калачом. Какая насмешка над Великороссией!.
– Да ведь дождь-то какой вчера был. Заступница! Ну как я пройду?
– А вы куда собрались?
– Жидовке одной платье отнести. Вера сама не ходит к заказчицам, ей самолюбие, конечно, не позволяет… Но она это платье просрочила… Меня посылает…
– Так давайте я отнесу. У меня галоши.
– Степа, да ты не найдешь.
– Ну, вот еще… Вы объясните, как пройти…
– Спаси тебя Христос… Ты Ларек знаешь?..
– Знаю.
– Ну, вот – от Ларька направо и будет Полтавская улица. Пятый дом направо, с голубым крыльцом, спроси Зою Борисовну Львович. Она жидовка. Скажи, что от Веры, мол, Александровны Кошелевой. Сегодня суббота, она будет дома.
– Есть.
Ведь вот и маленький город (город – полюбуйся, урбанист!), – а делится на три части резко и несомненно.
Первая, главная, торговая, единственная мощеная улица, освещаемая даже электричеством, мощеная огромным с добрый кавун булыжником – Степная по названию, вечером даже с уклоном в падение нравов – ибо – это факт – существует кокотка Баклажанская – хохлушка могучая, одетая по-московски – и еще еврейка волоокая с пристальным исподлобья взглядом – обе очень и очень. На этой улице Санитария и Гигиена, Державная Аптека и всякая москательщина и бакалейщина – плакаты: «жінки, тікайте до спілки».
Вторая часть – как бы переходная часть – реально, даже материально осуществленная смычка города с деревней. Появись в Баклажанах двуликий Янус – был бы он в этой части одним лицом к городу, другим – к деревне. Домики грязно-белые, но все же улицы ни на что другое, кроме улиц, не похожи. Тротуар горбом из бурого кирпича, кое-где от старости выпали кирпичи – тротуар обеззубел, – но пройти и в грязь физически возможно. Белые акации придают этим улицам нарядную живописность. В этой части жил Львович и, должно быть, все его родные – детишками кишели улицы.
Третья часть, самая аристократическая и самая демократическая – усадьбы и хутора – Кошелевы жили там все сорок лет – фруктовые сады, пустыри с навозом и огороды. Грядки с залихватскими усиками – грядущими тыквами. Подсолнухи желтеют ослепительно, – а кое-где кровью разбрызгались маки. Овцы, вылепленные из грязи, пасутся у заборов. В этой части после дождя хлюп-хлюпанье и чертыханье – галоши и обувь лучше прямо оставить дома.
Но кое-как все-таки перебрался Степан Андреевич из третьей части во вторую – солнце уж больно сушило – грязь твердела, как воск на потушенной свече, – и благополучно дошел до Ларька. Ларек этот был единственною лавкою на огромной, совершенно пустой площади, до того грязной, что Степан Андреевич даже содрогнулся, подумав: «А что же бывает тут поздней осенью!» Вообще площадь наводила уныние. Однако был у нее булыжный хребет, и по нему, перейдя ее, Степан Андреевич вышел на Полтавскую улицу и увидал невдалеке голубое крыльцо. Из всех окон на него смотрели с любопытством женские и детские головы. На голубом крыльце стоял примечательного вида человек, – был бы он раньше Ной или Авраам, – в широкополой шляпе и допотопном сюртуке, с грязной, белой, пророческого вида бородой, которую он ловко накручивал на палец и опять раскручивал. На ногах у него были надеты огромные сапоги, а вот брюк как будто вовсе не было, по крайней мере, когда распахивался сюртук, то видно было грязное dessous[17], весьма даже во многих местах продырявленное.
– Не здесь ли живет гражданка Зоя Борисовна Львович? – спросил Кошелев.
– Здравствуйте, молодой человек. Она живет здесь… вот в этом доме живет она…
– Вера Александровна Кошелева прислала ей платье.
– Мерси, молодой человек, ну, так что же мы стоим тут в грязи, идемте в дом.
Они вошли в совсем темные сени, где пахло многим, и прошли в довольно просторную комнату, уставленную старою кожаною мебелью. Кожа на креслах и на диване стала совсем шершавой и словно заржавела от времени. На стенах висели картины библейского содержания, тоже очень старые, и множество пожелтелых фотографий каких-то огромных семейств.
Никого в комнате не было.
– Садитесь, молодой человек, на этом кресле… Ну, как же вы дошли по такой грязи?.. Ай, какая грязь, и это после одного дождя… Зоя, ну, иди же сюда. Тебе принесли платье.
В ответ из-за перегородки послышалось какое-то утвердительное междометие, но никто не вышел.
– Она дичится, – сказал Львович. – Ну, Зоя, скажи мерси молодому человеку, он не побоялся идти в такую грязь… Вы с Москвы приехали, молодой человек?
– Да, из Москвы. Далеко, не правда ли?
– Что значит – далеко, молодой человек? Наш сосед Келлербах – ну, так он ездит в Москву каждую среду.
– Каждую среду? Ведь это с ума можно сойти…
– Келлербах не сошел с ума… У него двенадцать деток… они просят кушать… Келлербах кормит своих детей. Он – мануфактурист.
– Надо заплатить три рубля, – сказали из-за перегородки.
– Если надо заплатить три рубля, то мы заплатим три рубля. Молодой человек, когда шел сюда, уже знал, что Львович не мошенник. А хорошо жить в Москве, молодой человек?
– Как кому.
– В Москве всякому лучше жить, молодой человек, потому что в Москве вся публика и все для Москвы.
– Зато в эти тяжелые годы мы едва не умерли от голоду. О вашей Украине мы мечтали, как о царствии небесном.
– Плохое же это было, молодой человек, небесное царствие… правда, была у нас мучица, и крупица, и курятина… а сколько у нас было красных, и белых, и бандитов… И как те бандиты резали публику… Старых евреев прибивали к полу большими гвоздями через глаза и оставляли так гнить… Молодых девушек обижали на глазах у отцов, так что они умирали… А нехай лучше были бы мы голодные!
– Ну, зато теперь все это кончилось…
– Да, слава богу, молодой человек, теперь жить стало хорошо.
– Стало быть, вы довольны Советской властью?
– А как я могу быть доволен или недоволен… Я маленькая сошка, и я не политик… Нехай будет всякая власть, только чтобы не мучили людей и торговали всяким товаром.
– А у вас только одна дочь?
– Нет, слава богу, у меня много детей и внуков. Но один сын мой живет в Минске, другой в Житомире, а старшие дочери замужем и живут в Кременчуге. Их мужья честные торговцы и крепко любят жен. У меня на той неделе родился шестнадцатый внук.
– Теперь очередь за Зоей Борисовной?
– Она молода и еще подождет… Она опора моей старости.
– Папа, отдайте три рубля.
– Да не убегут твои три рубля… А вы, молодой человек, племянник мадам Кошелевой?
– Да.
– Им не так теперь легко жить. Ох, ох, ох… А прежде, ой, как они жили! У них был домик – игрушечка… Ой, какой был пан дотошный… Настоящий был пан и никогда не обижал бедных людей. Такому пану нужно поставить каменный памятник на площади и на золотой дощечке написать его имя. Три рубля… ты сказала, три рубля?
– Да…
– Ну, так, стало быть, три, а не два… Львович когда-то учился арифметике и еще не разучился считать.
Он медленно пошел в соседнюю комнату.
Степан Андреевич случайно взглянул на стол.
Там лежал список белья – простой список белья, должно быть, предназначенного в стирку. Тот самый почерк.
Степан Андреевич вздрогнул, и на один миг как-то снова по-ночному туманно стало у него в мозгу.
– Вот три рубля, молодой человек, – сказал старый еврей, – мерси и кланяйтесь многоуважаемой Екатерине Сергеевне и многоуважаемой Вере Александровне. Ай, какая она красавица! Я ведь помню ее еще вовсе деточкой. Она была совсем как ангел… Такая симпатичная барышня. Опора матери… Ой, чтоб делала мадам Кошелева, если б не дочь. Она была бы вовсе нищей… А вы, молодой человек, адвокат или доктор?
– Нет, я художник.
– Художник… Вы рисуете картины?
– Да.
– И за них плотят деньги?
– Платят…
– Дай же вам бог, молодой человек, нарисовать очень много картин. А вы женаты?
– Нет.
– Хорошей жены и много, много маленьких деток…
– Подождите… еще надо найти невесту.
– А в Москве разве нет хороших невест?.. Там много девушек, и они все охотно пойдут за такого красавца… И надарят ему детей, сколько он захочет…
– Скажите, это вы писали?
– Нет, это писала Зоя. А почему вам это хочется знать?
– Красивый почерк…
– Для прачки надо писать красиво, молодой человек, а то она не поймет и потеряет белье. Необразованному человеку трудно читать.
– До свидания.
– До свидания, молодой человек, дай бог вам благополучно перейти площадь… Зоя, скажи – до свидания. Выше подверните брюки и ступайте краем…
Львович стоял на крыльце и, когда оборачивался Кошелев, ласково кивал ему патриархальною своею головой. Но Степан Андреевич совсем не для этого оборачивался.
«Да, – думал с самодовольством Степан Андреевич, – я могу еще кое-кому вскружить голову. Но уж очень у них там чем-то пахнет. Нет. Надо на попадью направить главный удар и не разбрасываться».
VII. Хвостатые буржуи
– Степа, – сказала тетушка, – у меня к тебе большая просьба: живет у нас тут через три дома одна дама, бывшая здешняя помещица, урожденная графиня Шилова. Муж имел подлость ее бросить в трудные годы… Мерзавец уехал в Аргентину и теперь отлично там устроился. А она, бедная, положительно бедствует… Знаешь, ты бы прошелся к ней со мной… Сейчас уж просохло! Она очень хочет про Москву тебя расспросить. Сама она не может выйти из дома.
– Что ж. Я с удовольствием.
– Ну, так пойдем… Марья! О, дурная баба… Я ж вам велела остатки печенки собрать.
– Це они, ваши остатки. Пудавитесь!
– Дура! Не смейте так говорить.
Марья хотела что-то ответить, но вместо того вдруг плюнула черным плевком и повернула в кухню.
Екатерина Сергеевна взяла сверток с печенкой и. вздохнув, засеменила к воротам.
В ворота в этот миг вошел Бороновский. Он был по обыкновению, зелен, но глаза его изображали удовольствие.
– Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, – сказал он, – здравствуйте, Степан Андреевич! Поглядите, как после вчерашнею дождя расцвела природа… Деревья совсем от сухости истомились… А вот попили – и смотрите, какими козырями стоят… Уже я за них вчера радовался. Вера Александровна дома?
– Дома-то она, дома.
– А что?
– Нервы у нее… Ох, уж эти мне нервы!.. И кто это их открыл! В мое время не было нервов.
– То есть быть-то они были… Да на них внимания не обращали.
– Уж не знаю… Всю ночь молилась… ну, конечно, не выспалась.
– А вы бы ей сказали, что, мол, вредно себя утруждать.
– К ней во время молитвы разве подойдешь?.. Она, когда молится, часы останавливает, чтобы не били..: говорит, отвлекают.
– Ну, я пока по саду поброжу. Может быть, Вера Александровна на террасу выйдет.
Анна Петровна Кобылина, урожденная графиня Шилова, обитала в доме бывшего баклажанского мещанина Зверчука.
В темной прихожей на вошедших навалилась острая вонь, похожая на ту, которая бывает в зоологическом саду зимою в обезьяньем доме.
Екатерина Сергеевна постучала в дверь.
– Кто там? – сказал за дверью настоящий дамский голос.
– Здравствуйте, Анна Петровна. Помилуй бог, или не признали?
– Екатерина Сергеевна? Дорогая моя, входите осторожнее. Мурс спит и видит удрать… Постойте… Муре! Я тебе задам, усатый! Пошел! Ну, входите, моя радость, но быстро.
Светлая полоска ударила по глазам. Екатерина Сергеевна вошла, а за нею двинулся и Степан Андреевич. Анна Петровна, в близоруком полумраке не видя его, хотела захлопнуть дверь, но та ударилась о его плечо, а в это время под ногами с быстротой молнии прокатился темный шар.
– Муре, Муре! – закричала Анна Петровна отчаянно и кинулась опрометью в сени, отпихнув неловкого гостя. – Дверь затворите! – крикнула она через плечо.
Степан Андреевич смущенно прошел в комнату, взяв дверь на тяжелую щеколду.
– Как же это ты, Степа, замешкался? – проговорила Екатерина Сергеевна, покачав головою: – Ведь если Мурс не вернется, Анна Петровна может прямо с ума сойти.
– Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, – послышался знакомый голос из-за шкафа.
Пелагея Ивановна появилась, красотою своею насыщая тесные пределы комнаты, и даже вонь стала как-то приятна и не рвала ноздри.
– А, и вы тут, – сказала тетушка.
– Я с рынка зашла… Принесла кой-что Анне Петровне.
Комната Анны Петровны перемешала в себе в странной смеси все степени житейского благополучия. Возле стены стояла прогнувшаяся ржавая железная кровать с тюфяком без матраца. Тюфяк был полосатый, красный, без простыни и без подушки. Рядом с кроватью этой возвышалось огромное кресло: белые ручки с золотыми грифонами, спинка и сиденье, обитые голубым штофом – огромное кресло, присутствовавшее в комнате, как генерал на свадьбе у бедных родственников. Еще был простой, из немореного дерева стол и стулья, развинченные и расклеенные, готовые ежесекундно развалиться от первой же горячей жестикуляции сидящего на них. В углу стояла старая горка с посудой, но не с пестрым фарфором и не с сазиковским серебром, как бывает, а с примусом и двумя алюминиевыми кастрюльками. Окно было затянуто ржавою железною сеткою. В сетке этой застревала терпкая вонь.
Была одна в комнате деталь, которая не в первый миг выявилась, но когда выявилась, то решительно завладела вниманием – живая деталь: котищи, коты, кошки, кошечки, котята, котеночки, – всюду – на постели, под постелью, на столе, под столом, на горке, пол горкой, на кресле, под креслом, рыжие, черные, пестрые, серые, белые, клубком, сфинксиком, умываючись, всячески, в безмерном довольстве, в роскошной праздности, презрительные к миру.
– Как вы думаете, Мурс вернется? – спросила с озабоченностью Екатерина Сергеевна.
– Вернется, Анна Петровна напрасно волнуется… Беда, что они вовсе не приучены гулять.
Из-под стула, на котором сидел Степан Андреевич, в это время вылез большой серый кот и, страшно выгнув спину, начал с хрустом потягиваться.
Затем он прыгнул на кровать, где спали кошки, и – с видом султана в гареме – принялся их лениво осматривать. Апельсиновый кот на горке, еще не проявляя особого оживления, тем не менее уставил на него тяжелый взгляд. Серый кот поглядел наверх и выпучил зеленые глаза с восклицательным знаком зрачка.
– Что вы поделываете, Пелагея Ивановна? – спросил развязно и по-светскому Степан Андреевич. – Как поживает отец Владимир?
– Он занят очень. Столько у него хлопот с церковными делами: на днях поедет с владыкою в Харьков.
– В самом деле? И надолго?
Взгляд у рыжего кота становился все пристальнее, а позиция все сосредоточеннее. Серый кот насторожился.
– Да дня на три.
– Поскучать вам придется.
– Сейчас скоро варенье варить.
Коты теперь так и кололи друг друга глазами.
– Вот, вероятно, вкусное будет варенье.
– Почему же?.. Обыкновенное будет варенье.
– Ау-уа! – раздался дикий кошачий вопль.
Рыжий кот лавиной рухнул на серого, и они с воем покатились на пол. Кошки шипя выгнули спины, котята, котеночки, котешоночки посыпались, как горох, и исчезли под горкой. Черный кот с белыми усами взвыл и метнулся на воюющих.
– Разнимите их, они съедят друг друга! – кричала Екатерина Сергеевна.
Пелагея Ивановна схватила рыжего кота и тотчас, вскрикнув, выпустила. На ее белой руке от локтя сразу протянулись три кровавых полоски.
– Ах, негодяи! – воскликнул Степан Андреевич и с рыцарским бесстрашием ногой хватил по сражающимся.
Коты перекувыркнулись, и разлетелись по углам. Степан Андреевич вынул из кармана чистый платок и разорвал его.
– Степа! Что ты! – с жалостью вскричала Екатерина Сергеевна: – Батистовый-то.
– Бог с ним. Пелагея Ивановна, позвольте вашу ручку: я опытный хирург и прекрасно перевязываю раны… Ах, подлые коты… Не туго?
– Ничего. Платок только жалко.
Без эффекта прошла перевязка.
В дверь постучали.
– Пелагея Ивановна, – послышался голос Анны Петровны, – у меня к вам, душечка, просьба. Отворите дверь и сразу захлопните, боюсь, как бы не удрал Макдональд.
Анна Петровна просочилась в комнату сквозь почти незримую щелку. На руках у нее уже спал толстый полосатый кот.
– Вот он, злодей, – говорила Анна Петровна, улыбаясь счастливо, – вот он, разбойник. Кот! Кот! Мы гулятиньки захотели… нам надоело дома сидюшеньки. Кот! Кот!
Это была не старая еще женщина, очень худая и бледная, слегка похожая на Данте, в черном шелковом платье с бархатными заплатами и в широких мокасинах из рогожи.
– Вот это мой племянник, – сказала Екатерина Сергеевна, – Напрасно вы волновались… Мурс никогда не пропадет.
– Ах, не говорите, Екатерина Сергеевна, – очень приятно познакомиться, милости прошу садиться, – он иной раз на соседний двор бегает к одичавшим кошкам… Ну, помилуй бог, – обидят его мальчишки или собаки задерут… А мы ведь драчуны… Ох, мы какие драчуны!
Полосатый кот вдруг подпрыгнул и, вырвав из рук Екатерины Сергеевны сверток, разбросал печенку.
Тучей бросились из всех углов котики, коты, кошки, кошечки, котята, котеночки.
– Ах, обжоры, ну, посмотрите! Ведь только что их накормила. Гур, не мешай же кушать Гризетке… А этот-то… этот гуляка за обе щеки так-таки и уплетает… Ах, вы, мои глупышоночки!
Коты, чавкая и журча, жрали печенку, узорами растаскивая по полу сало.
У Степана Андреевича сквозь череп слегка стал просачиваться острый смрад. Мозгу тесно стало.
– А без вас тут драка была… Макдональд с Васькой… Пелагее Ивановне вон как руку починили.
– О, они починят… Мне раз до кости палец прокусили. Мы, скажите, зубастые… у нас когти острые, зубы крепкие… Мы, скажите, драчуны, шалуны… Кот! Кот! Да не мешай же кушать Гризетке!.. и за едой ловеласничает.
Но тут уже все гости сконфузились и сделали вид, что кошек и нет вовсе в комнате. Только Анна Петровна легонько шлепнула Мурса по жирному полосатому заду:
– Брысь, ловелас!.. Стыдно!.. И ты, Гризетка, не срамись. Под стол ступайте, под стол… Подумаешь, какие! Ромео и Джульетта.
– Степа прямо из Москвы приехал, – вздохнув, заговорила Екатерина Сергеевна, в то время как Пелагея Ивановна усиленно скребла ноготочком на столе какие-то пятна.
– Каково мне это слышать, моя золотая! Ведь я-то сама коренная москвичка. Всегда с рождения жила в Москве, в Сивцевом Вражке, у теток там был дом… И вот теперь… гнию в Баклажанах… Без копейки денег. А прежде тратила на платья по четыреста рублей за фасон… Я в Париж ездила специально шить платья у Пуарэ… Ламанова ко мне за советом обращалась. Макдональд… не увлекайтесь печенкой… помните, мой друг, что у вас некрепкий желудок… Я проклинаю тот день, когда я покинула Москву и по увещанию мужа поселилась в нашей здешней экономии. Я так скучала… Правда, зимой я ездила в Париж… Но летом… вместо Биаррица или Остенде – вообразите – Баклажаны… Я привыкла к пляжу, к казино… приличная публика. А тут самые дикие нравы… И отсутствие природы. Степь. Муж меня прямо носил на руках, но мне от этого было не легче… А потом еще эта революция… Мы переехали в город, потому что в деревне прямо было страшно жить… Васька… ведь ты же знаешь, что песочек за шкафом… Нечего мурлыкать…
Очень стыдно. А при Скоропадском муж мне предложил бежать за границу. А я – я подошла к своим гардеробам и думаю: как же я оставлю платья… Багажа нельзя было брать… И потом еще мебель. Я отказалась ехать. А он – странный, обиделся, что я предпочла ему платья, и уехал один. Теперь я давно все продала… и так трудно жить… Я писала мужу, что теперь я согласна… но он не отвечает… Ах, это такой эгоистичный человек… Помните Наталку Переперченко? Она ведь теперь также где-то в Бразилии, и я еще кое-что подозреваю… Но скажите… когда же все это кончится?
– То есть что?
– Большевики. Ведь это же ужасно… Нами правят хамы… Я – графиня – хожу в этом тряпье, а моя бывшая судомойка шьет себе каждый месяц новое платье.
– Ее муж хорошо зарабатывает, – заметила Екатерина Сергеевна.
– Да, но кто она такая?.. Ведь это же надо, мое счастье, принимать в расчет… Я вовсе не крепостничка, и я никогда на прислугу не кричала, но за стол я с собою кухарку не посажу… Il у a quelque chose…[18] что воздвигает между нами стену… И они это понимают…
– Советская власть, к сожалению, очень прочна, – почему-то обиженно сказал Степан Андреевич, – у нас в Москве о контрреволюции все и думать-то забыли.
– Но заграница не будет же терпеть большевиков… Гинденбург, например, очень порядочный человек… Он не допустит, чтобы людей грабили безнаказанно у него на глазах. Ведь нас же всех ограбили… Ну, а чем живут у вас в Москве люди нашего круга?
– Служат, работают…
– Но где же служат?
– На советской службе…
– Ну, я не думаю, чтоб порядочный человек служил большевикам.
– Отлично служат и очень довольны.
– Мой племянник, я знаю, торгует папиросами, но служить он не идет… Он чтит память своего отца. Впрочем, были ведь и среди аристократов подлецы. Лучшие люди сейчас, разумеется, за границей.
Степана Андреевича засосал червячок. Но засосал как-то не по-московски. Должно быть, не к тому месту присосался.
– Не знаю, что делают за границей эти лучшие люди… Иностранцы, кажется, их не очень поощряют. Говорят, в Париже если скандал – обязательно замешаны русские эмигранты…
– Не думаю, чтоб мои, например, родные вели себя в Париже недостойно. Они не захотят пятнать фамилию Шиловых. Но в Москве, говорят, такой ужас. В квартирах теснота… Все загромождено…
– Мы привыкли…
– А женщины, говорят, совершенно потеряли мораль… Они пьют вино хуже мужчин… Да позвольте, ведь это вы же мне рассказывали, Екатерина Сергеевна…
– Мне Степа говорил…
Степан Андреевич подавился неродившимся словом.
– Ну, конечно, – сказал он, – катастрофическое время не могло пройти без последствий… Но все-таки нельзя отрицать, что революция принесла и много пользы.
Наступило нескладное молчание. Комната урчала мурлыканьем дремлющих котов. Мурлыканье это текло из всех углов, из-под стола, из-под кровати, с горки, отовсюду. Оно было разнообразно и напоминало хаотическое тиканье часов в часовом магазине.
Анна Петровна недоуменно молчала, моргая глазами, а Екатерина Сергеевна с некоторым испугом поглядывала на Степана Андреевича. Пелагея Ивановна встала.
– Пойду домой, – сказала она и подняла с полу громадный баул с провизией.
Степан Андреевич вскочил.
– Я вам донесу его до дому. Разве можно вам, да еще раненой, носить такие тяжести!
– Вы, право, напрасно беспокоитесь.
– Нет, нет. Мои рыцарские чувства вопиют,
И он отнял у нее баул.
– Но вы «все-таки» еще навестите меня… Я в эти часы всегда дома…
Екатерина Сергеевна тоже поднялась.
– И я пойду. Надо за Марьей последить. Сегодня у нас молочный кисель. Как бы она молока не отхлебнула… Она на это способна. А потом на кошку солжет… А зверя не спросишь.
VIII. Баклажанский столп и утверждение
Степан Андреевич был плохой спорщик. При всяком споре прежде всего замирало у него сердце и нервически невпопад подергивалась физиономия. Такая уж была у него натура. Обижался при этом он страшно на чужое мнение и долго не отходил. В данном случае обиделся он и рассердился неизвестно на что, а вернее, бессознательно на себя самого, ибо противница говорила, как выяснилось, его же слова. И почему бы ему было оскорбляться на большевиков? Дух противоречия или дурацкая ошибка вышеописанного червячка. Во всяком случае, идя с Пелагеей Ивановной по усаженным акациями улицами, он сказал сердито:
– Я вполне понимаю ее мужа. И я бы уехал. Глупость какая: не могла оставить платья. И потом эти кошки.
– Во время мужа у нее кошек не было, – сказала Пелагея Ивановна.
– И нельзя же огулом отрицать всю революцию. Неужели уж все до революции было так хорошо? Не знаю…
Они молча шли некоторое время.
На Пелагее Ивановне было платье, немножко напоминающее старинные платья, как их рисуют на миниатюрах. Декольте, пышные коротенькие рукава и очень в талью.
– Я не знал, что вы будете у Анны Петровны… Но чулочки ваши целы…
При этом ему представилось илистое дно Ворсклы. Бедные чулочки!
Она промолчала.
– А батюшка вас не спрашивал, где ваши чулочки?
– Он знает.
– Разве вы ему рассказали, как я вас спас?
– Конечно.
– Во всех подробностях?
Добился. Как густые сливки, налитые в стакан кофе, падают на дно и потом клубами заполняют постепенно стакан, так откуда-то из-под декольте пополз румянец.
Степан Андреевич ощутил ликование во всем теле.
– Но вы на меня не сердитесь, – проговорил он тихо и виновато, – право, я тогда совсем потерял голову, а вы были так прелестны… Это был поцелуй, преисполненный прежде всего восхищения… Я потом рвал на себе волосы, сообразив, что вы могли истолковать это как-либо иначе.
При этом Степан Андреевич до того увлекся, что даже пригладил свой пробор.
– Успокойте меня. Скажите, что вы не думаете обо мне дурно.
– Это было очень нескромно с вашей стороны… Но уж все мужчины так поступают…
– Вас уже, значит, и прежде спасали из реки?
– Нет, что вы!
– Почему же вы говорите про всех мужчин?
– Потому что мужчины не уважают женщин…
– И ваш супруг тоже?
Она вдруг сказала строго:
– Он священник.
– Ну да, конечно, он не в счет. Стало быть, по-вашему, если человек не священник, то уж он и женщину уважать не может?
– Я, право, ничего не знаю…
– Вы, однако, сказали… Ну, а если я, предположим, вас люблю?
– Вы меня любить не можете.
– Почему?
– Не знаете вы меня.
– Разве для любви нужно знать? Разве не влюбляются с первого взгляда?
– Это любовь пустая.
– Ну, а ваш супруг вас полюбил, когда хорошо узнал?
– Он меня знал ребенком еще.
– Нет, я признаю только внезапную любовь.
– Признавайте или не признавайте, все равно она при вас останется.
– Наверное?
– Наверное. А вот мы и пришли… Спасибо за помощь.
На крыльцо вышел отец Владимир. Он любезно улыбался и пощипывал бородку.
– Доброго здравия, – сказал он, кругообразно протягивая руку, – зайдите, милости просим, в наши кельи.
– Я спешу…
– Ну, что за спех у нас в Баклажанах… Это ведь не Харьков, где на трамвай, глядишь, не поспеешь, или еще что… У нас тихо… К воловьему шагу приспособляем жизнь… А я ведь еще и не поблагодарил вас: мою нимфу от смерти спасли… спасибо вам, спасибо… Она у меня как до воды дорвется – все забывает… Просто, русалка. Ну, так зайдите, чайку выпьем, потолкуем.
Степан Андреевич зашел.
Чистенько и уютно было в домике. Если бы не ряса и не соломенный полуцилиндр, висевший на стене, никак нельзя было бы догадаться, что живет тут лицо духовное. На стене висели картинки, больше пейзажики и натюрморты. Все гладенькие и бесхитростные, откуда хочешь смотри, не надует картина. Иоанн Кронштадтский висел над письменным столиком, а под ним портретик самой нимфы – отличная фотография, похожая очень.
– Замучили нас обновленцы, – сказал отец Владимир, усаживая гостя возле окна, – дался им наш владыко… Отслужи да отслужи с ними совместно… А владыко наш крепок, как дуб… Не гнется… Ну, вот и вызывают они его на всякие совещания… По два раза в неделю в Полтаву, а теперь еще в Харьков. Ну, как можно так человека мучить?
– И вы, я слышал, едете.
– И я еду на сей только раз. Голос мой, разумеется, слаб, но владыке одному трудно… Стар он становится, и подобная езда в переполненных вагонах гибельно отражается на его здоровье. Дня через два едем.
– Что ж, я вам завидую. Вы тверды в вере и за нее стоите. Я бы хотел быть на вашем месте.
– А вы разве не веруете?
Степан Андреевич считал невежливым сказать священнику, что он не верует в бога – все равно, как сказать писателю, что не читает книг.
– Я, знаете, может быть и верю… но как-то иногда… Какая уж теперь в Москве вера… Тяжкое время пришло для церкви, – любезно прибавил он.
Отец Владимир улыбнулся, и глаза у него вдруг заблистали.
– Именно теперь-то и вера, – сказал он спокойно. – И вовсе не тяжкое время для церкви, а хорошее время. От похвал да от поощрения жиреет земная церковь, буржуйкой делается и о небесном женихе своем забывает… Что крыши теперь в храмах не крашены да протекают, это так. Ну, конечно, священнослужители в бедственном состоянии и многие голодают и терпят гонения… так ведь на то они и священнослужители… Они-то уж помнить должны, что не о хлебе едином. Разрушается видимость, оболочка и мишура, а пламя-то церковное, когда задуть хотят его, тем ярче пылает. Нет, милостивый государь, не имею удовольствия знать имени и отчества…
– Степан Андреевич.
– Нет, Степан Андреевич, неправда это, что сейчас дурное время для церкви. Воистину нужное ей подошло страдание, ибо не в том церковь, что архиереев министры обедами угощают и для них концерты в благородном собрании устраивают… Не в том ее сила, и благополучие внешнее – лютейший ее враг, приспешник дьявола. Из крестных мук родилась она, и ими живет, и ими жива будет вовеки.
– К сожалению, не все священники так рассуждают.
– По слабости, ибо сильна плоть, и, конечно, раньше жилось лучше и за требы платили больше и не подвергали карам за веру. Так не с этих слабых пример брать.
Пелагея Ивановна принесла в это время чайник, достала из шкафа чашки и блюдца.
Степан Андреевич посмотрел на нее и тут же отвернулся, словно сделал что-то нехорошее.
– А все-таки русский народ, по существу, не религиозен, – сказал он, – «Безбожника» у нас все мужики читают.
– Насчет «Безбожника» недавно смешно тут у нас один дядько с членом исполкома поспорил. «Ты же говоришь, нет бога, а як же він тут намалеван». – «Так ведь это, – тот отвечает, – насмешка». – «Так это надо мной смеются?» – «Не над тобой, а над богом». А тот махнул рукой и говорит: «Плевав господь на твою дулю».
– Вообще этот дядько Перченко очень остроумный, – оживившись, сказала Пелагея Ивановна. – Помнишь, как он полтавскому коммунисту ответил…
– Да, да… Сюда, знаете, приезжал такой коммунист из Полтавы… Вот ему и стали все жаловаться: плохо, мол, живется. А он и отвечает: «Ну, что ж, это известное дело, там хорошо, где нас нет». А Перченко и говорит: «Это верно, говорит, где вас нет, там очень хорошо» – т. е. где коммунистов нет… Ха, ха!
Странно, удивительно странно устроено сердце человеческое. А может быть, и не вообще человеческое сердце, а в частности сердце Степана Андреевича Кошелева. Теперь обиделся он вдруг на мораль и на вечную истину, на (тьфу! тьфу!) категорический императив обиделся. Вдруг почувствовал он, что совестно ему вожделеть к замужней женщине, да еще при духовном муже, стыдно посягать на семейный уют. Это уж что такое, и в каком веке мы живем, и откуда такие мысли?..
– Мне пора, – сказал он, – надо еще поработать.
– А какая у вас работа?
– Я – художник.
– Зарисовываете наши окрестности?
– Да… понемножку. Спасибо за угощение.
– Вам вечное спасибо. Поистине господь внушил вам о ту пору искупаться… Благ он и милостив во всем, а мы не замечаем и все приписываем случаю…
– Во всяком случае, я тоже очень рад, что спас Пелагею Ивановну.
– Спасибо вам…
Степан Андреевич поспешил завернуть за угол. В воротах кошелевской усадьбы столкнулся он опять с Бороновским.
– Что с вами? – вскричал он, пораженный выражением его лица.
– Нездоровится… Знобит и вообще… плохо. Ну, я поспешу.
Степан Андреевич поглядел ему вслед, отвернулся и вдруг весь затрепетал от какого-то романтического восторга. Молодостью захлебнулся.
Он пошел бродить по зеленому саду и, отплевывая косточки мягких сладких абрикосов, напевал из «Риголетто»:
– «Та иль эта, мне все равно, мне все равно, Красотою все они блещут…»
IX. Девушка из Калькутты
– Владыко с отцом Владимиром в Харьков уехал, – сказала Екатерина Сергеевна, – Клавдия Петровна уж молебен служила о плавающих и путешествующих. Она все боится, что владыко под поезд попадет. В самом деле, страшно. Старый человек и притом в рясе.
Степан Андреевич быстро обдумал план.
Прежде всего он отправился на Степную улицу и зашел в трикотажную лавку, где на подоконнике, по-столичному, стояла деревянная дамская нога в чулке цвета раздавленной ягоды.
Лавка была очень тесная и насквозь пропахла чесноком.
– У вас есть серые дамские полушелковые чулки? – спросил Степан Андреевич, изнемогая от количества эпитетов.
– Как же у нас не быть чулкам? Есть чулки. Какой размер?
– Обыкновенный.
– Необыкновенных номеров нет… точеные ножки или пухленькие?
– Средние… вот как на окне нога…
– О… такие шикарные ножки! Вот чулки… Такие чулки, что жалко продавать: первый сорт.
– Сколько я вам должен?
– Вы мне ничего не должны, а стоят они два рубля… и это так себе, даром.
Чем ближе подходил Степан Андреевич к дому отца Владимира, тем беспокойнее становилось у него на сердце.
Какой-то страх неожиданно заставил его умерить шаг. Что за ерунда!
В конце концов, если он даже и зайдет в гости к Пелагее Ивановне, в этом не будет ничего особенного, да и ни одна женщина никогда не может серьезно рассердиться, если человек влюблен в нее или даже таковым прикидывается. Он дошел до угла, с которого был виден священный приют. Старуха пошла за водой, взвалив на плечо коромысло с зелеными ведрами. Что-то белое промелькнуло между деревьями садика: она дома. Степан Андреевич почувствовал приятное волнение, но какая-то робость еще удерживала его.
Вероятно, в следующий миг Степан Андреевич решился бы и пошел делать непрошеный свой визит, если бы одно незначительное происшествие не разрешило самым грубым и неприятным образом все сомнения и психологические колебания.
Домик отца Владимира находился на окраине Степной улицы, переходившей затем в станционное шоссе. И вот по этой улице послышался вдруг грохот едущего фаэтона и цоканье подков. Степан Андреевич обернулся. Очевидно, со станции трясся пыльный фаэтон, управляемый усатым извозчиком с корзиною в ногах, а в фаэтоне сидели: молодой еще господин в инженерской фуражке и три особы женского пола, молодые, загорелые, в белых шляпах и плохоньких, но городских костюмах. Молодые особы эти, видимо, раскисли от хохота и так вертелись, что поминутно грозили вылететь из фаэтона. Картонки и свертки горой лежали у них на коленях.
Веселое общество это с хохотом прокатило мимо Степана Андреевича, фаэтон вдруг повернул к дому Пелагеи Ивановны и… остановился. Самая прекрасная обитательница выбежала на крыльцо, где моментально образовалась целующаяся группа из пяти человек, где четыре целовали одну, тискали, с хохотом передавали друг другу, крича и визжа на все Баклажаны. Компания эта вместе с картонками и свертками вонзилась в дом, а извозчик внес туда и корзину, как бы подтвердив ее тяжестью совершившийся страшный факт. Степан Андреевич, проходя мимо домика, искоса поглядел в окна. Во всех комнатах теперь вертелись и помирали от хохоту веселые грации; инженер, размахивая руками, по-видимому, рассказывал дорожные анекдоты, и кто-то лихо отделывал уже на рояли «Осенний сон».
Вечером от тетушки услыхал Степан Андреевич разъяснение: к Пелагее Ивановне приехал из Киева ее брат с женой и двумя сестрами жены. Инженера звали Петр Иванович, его супругу София, а девиц Надежда и Любовь, по отчеству Андреевны. Приехали они, по всей вероятности, на месяц.
Если, выражаясь по-старому, господь бог, вняв молитвам самой ли попадьи, ее ли праведного супруга, воздвиг вокруг ее целомудрия прочную и притом весьма смешливую живую стену, то не дремал, опять-таки по-старому выражаясь, и дьявол.
Дьявол этот не стал брать напрокат из адской костюмерной одеяния Мефистофеля, не стал нашептывать на ухо белокурой красавице по ночам соблазнительные речи. Дьявол отлично понял, что подобная всякая бутафория отнюдь не будет созвучна нашей эпохе и не принесет, следовательно, желательных результатов. Придумал он поэтому способ, может быть, более сложный, но зато и более действительный и несравненно более, по-нынешнему, романтический. А именно – он явился однажды к кинематографическому антрепренеру, гражданину Якову Бизону, Харьков, улица Шевченко, – номер черт знал, – а, выбрав удачную бессонницу, пробормотал невзначай над самым ухом: «Если бы „Девушку из Калькутты“ пустить по глухим городам, то, пожалуй, был бы хороший гешефт. В Баклажанах, например, есть театр и городской сад, где давали даже „Заговор императрицы“. Театр больше похож на сарай, а следовательно, на кинематограф. Отличная идея!»
Бизон был из тех, про энергию которых ходят анекдоты. Через пять дней в Баклажанах уже были расклеены афиши: «„Девушка из Калькутты“ с участием сестры знаменитой Мэри Пикфорд. Лучшая фильма XX века. Трогательная история индийской девушки, отказавшейся продать свою честь капиталисту за миллион фунтов стерлингов. Участвуют живые тигры, слоны и крокодилы. Красноармейцы платят половину».
Случилось, – и это не без дьявола, – что вся веселая компания вместе с Пелагеей Ивановной привалила к Кошелевым пить чай. Нахохотавшись до слез, попытались заговорить – и опять расхохотались до полного расслабления.
Девицы были крепкие, красивые, кровь с молоком, распространяли одуряющий запах сильных духов, разбавленных в известной пропорции телесными испарениями. Одним словом, были девицы, по-немецки выражаясь, zum fressen[19]. Жена инженера Софья Андреевна хоть и не была девицей, но им не уступала в здоровой живости, показывала фокусы из хлебных шариков, колотила мужа по щекам, если тот фривольно острил, а когда хохотала, открывала огромную пасть, в которую сестры и муж моментально что-нибудь швыряли, либо бумажку от конфеты, либо окурок, либо хлебные шарики. Когда говорили Екатерина Сергеевна или Степан Андреевич, девицы конфузливо умолкали и старались не смотреть друг на друга, прикусив губы. Но стоило кончить им говорить, как они снова лопались и хохотали до седьмого поту, приводя в оправдание, что вспомнили что-то смешное.
Вера, как только привалила, по выражению инженера, «компашка», ушла в комнаты.
– Тише! – крикнул вдруг инженер. – Спокойствия! Спокойствия, милостивые государи и плешивые секретари!
Уж не хохот, а целый пушечный залп покрыл эти слова, девицы тряслись, размахивая грудью и расчесывая икры, кусаемые мухами.
– Петька, не смей! Петька, уморил! – кричала Софья, икнув от хохота.
– Спокойствия! Знаете ли вы, что сегодня в городском саду первый сеанс «Калькутты из девушки», виноват – наоборот?
Девицы вскочили и умчались в сад, чтоб откататься в траве. Сидеть они больше не могли. Екатерина Сергеевна била кулаком по спине подавившуюся Софью. Степан Андреевич тоже смеялся, хотя в душе он злился на всю эту компанию, как он полагал, идиотов.
– Вот я и предлагаю in соrроrе, по-русски – всем телом, пойти на эту Калькутту.
Девицы услыхали предложение. Они в это время поднимались на террасу.
– Ура! – закричали они. – Даешь Калькутту!
И вдруг все замерли, как школьники при появлении строгого директора: Вера стояла в дверях террасы.
– Пойдите и вы, Степа, – сказала она насмешливо, – развлекитесь, не все дома сидеть.
– Меня не приглашают, – произнес он тоже почему-то смущенно.
Но девицы услыхали это и уже висели на инженере, что-то шепча ему.
– Надеюсь, вы не откажетесь пойти с нами? – сказал он, стряхивая девиц.
– Благодарю вас, с удовольствием. А вы, Вера, пойдете?
– Нет, что вы! У меня есть дела поважнее кино.
– Вера Александровна! На коленях молим вас.
– Нет, нет!
– Ну, не смеем настаивать.
Так как было почти восемь часов, то решили немедленно двигаться.
* * *
Городской сад и театр в Баклажанах ничем не отличались от подобных же мест во всех других городах союзной провинции.
Глухой забор отделял сад от главной улицы, а за забором весь день погромыхивал кегельбан. Спектакли начинались, когда соберется публика, часов в десять вечера, и продолжались, особенно оперы, до рассвета. Во время длительных антрактов публика гуляла в саду, пила воды и пиво. Барышни ходили, обнявшись по пяти, по шести штук, и отлузгивались семечками от кудрявых ловеласов во френчах.
На этот раз в саду было особенно большое оживление, ибо кинематограф стал редким гостем в Баклажанах. Гражданин Яков Бизон, пробегая по саду, языком прищелкивал от удовольствия.
Самое здание театра было мрачно и действительно напоминало больше сарай. Экран, впрочем, натянули очень хорошо, только полотно было с протенъю, так что все картины шли как бы под непрерывным дождем. Гражданин Яков Бизон был не просто кинематографическим предпринимателем, но и сознательно относился к своей работе,
Каждой фильме он непременно предпосылал предисловьишко, за что поощрялся начальством. Конечно, если демонстрировалась драма «Подвиг красноармейца Беднякова» или «Когда стучит молот», так тут уже гражданин Бизон ничего не говорил. Тут и без слов все было ясно. Но такие фильмы почему-то избегал ставить гражданин Яков Бизон не то чтоб из убеждений, а так как-то… Лучше уж с предисловием (о предисловии в афише ничего не говорилось, чтобы публика не опаздывала).
Степан Андреевич и его спутники вошли и заняли первые, – то есть иначе последние, у стены, места как раз, когда гражданин Яков Бизон вышел на авансцену перед экраном.
– Товарищи, – сказал он, – в наши дни краха буржуазии и торжества пролетариата. Когда исторический материализм стал азбукой каждого человека, который мыслит здорово, и когда не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание, то, приняв в соображение все это, товарищи, я и спрашиваю себя, нужна ли нам «Девушка из Калькутты»? Да, нужна, товарищи! Мы должны вскрывать язвы капитализма, должны определенно сказать себе: нет, этого-таки не должно быть, то есть чего не должно быть, товарищи? Чтоб девушка была в зависимости от эксплуататоров, хотя бы она и жила в далекой Индии. Пусть хмурятся брови рабочих, смотрящих в эту фильму, и пусть громче стучит по наковальне бодрый молот, А теперь, товарищи, приступим с глубоким чувством негодования к рассмотрению язв разлагающегося капитализма.
Послышалось знакомое с гимназических лет шипение, и на экране появилось сначала заглавие драмы, а затем портрет сестры Мэри Пикфорд под проливным дождем, которая, поворачивая лицо справа налево, посередине показала публике огромные с кулак зубы.
– Вот так клавиатура, – пробормотал инженер.
Девицы фыркнули и затряслись от безнадежного хохота.
Задребезжал из мрака рояль: «Пошел купаться Веверлей, осталась дома Доротея».
На секунду появился толстый человек, сидящий в роскошном кабинете и пишущий что-то со сказочной быстротой.
Тотчас же явилось и письмо: «Любезный друг, у меня выдался досуг. Хочу съездить к тебе в Калькутту. Меня там никогда не было. Твой граф Антон». На секунду опять явился граф, языком заклеивающий письмо. Затем лакей сразу захлопнул дверцу автомобиля. «Ямщик, не гони лошадей» – заиграл аккомпаниатор.
«На пароходе „Феникс“ ездила только самая нарядная публика».
– Дывись, дывись, якій парнище! – крикнул кто-то в первом ряду, но публика зашикала.
Пароход торжественно отходил от пристани. Степан Андреевич сел рядом с Пелагеей Ивановной. Он как-то сразу не вник в картину и плохо понимал. Искоса поглядывал на ее освещенный экраном носик. Она так и впилась в картину.
«Граф Антон не обращал на разодетых дам никакого внимания».
Степану Андреевичу вспомнились далекие годы, годы выпускных гимназических экзаменов, когда, бывало, сплавив навсегда с плеч всю историю мира, бежал он в Художественный электротеатр, чтобы якобы случайно встретиться там с. кокетливой гимназисточкой, только что навеки расквитавшейся с законом божьим. И тогда он сидел так же и косился на белый носик и слышал сзади бормотню такого же, как он: «Чуть-чуть не подпортил. Забыл, кто разбил кружку при Суассоне. Сказал – Карл, а оказывается – Оттон. Потом пала такой есть Гильдебраид, а я сказал Гальберштадт…» – «Это что, – шептал носик, – а я гонения все перепутала, хорошо – архиерей добрый. Не прицепился». И тогда так же плыли пароходы, носились чайки, мчались автомобили… Да было ли это когда-нибудь? Не было ли это просто шуткою того самого сознания, которому потом на орехи досталось от октябрьских пулеметов?
«Друг графа Эдуард жил безбедно, предаваясь порокам».
Человек в белом костюме опрокинул себе в горло бокал шампанского и под бешеную руладу бросился на шею графу.
«Друзья не видались семь с половиною лет».
Индианка вся в белом вдруг появилась в перспективе пальмовой аллеи. Граф, пораженный, поглядел ей вслед. Мгновенно расплылась по всему экрану его громадная физиономия с выпученными глазами и перекошенным почти до уха ртом.
– Втюрился Антоша, – сказал инженер, сам зажимая девицам рот.
«Увы, сомненья нет, влюблен я», – раскатывался пианист.
Степан Андреевич сидел и нервничал. Он не любил вспоминать далекое прошлое, а тут оно лезло с каждого квадратного миллиметра грязноватого экрана. Из всей тьмы кинематографической перло. И к тому же Пелагея Ивановна не подавала никаких признаков. Ей было просто любопытно смотреть и больше ничего. Сосед ее, по-видимому, и не интересовал вовсе.
Но был миг и некоторого удивления, когда вдруг действие моментально перенеслось в джунгли и прямо на публику помчался остервенелый тигр. Девицы завизжали, кто-то крикнул: «Xi6a так можно!» – а Пелагея Ивановна вдруг схватила за руку Степана Андреевича. Правда, она тут же сказала: pardon. Но дальше пошло лучше.
«Молодой моряк Джон любил после бури выпить пива».
В оживленной таверне бражничали моряки.
– «Коперник целый век трудился, – гремел рояль, – чтоб доказать земли вращенье».
Но затем сразу явилась та самая девушка, мечтающая у ручья.
«Грезы Аталии были далеки».
– «Дурак, зачем он не напился, тогда бы не было сомненья».
Но, спохватившись, нырнул последний аккорд в грустную «Ave Maria».
А моряки снова уже бражничали и швырялись бутылками, растерявшиеся звуки запрыгали в крамбамбули и, спотыкнувшись, раскатились «Не плачь дитёй», потому что толстомордый моряк хлопнул по плечу Джона и выплюнул надпись:
«Джон, ты что-то грустен сегодня».
И опять девушка у ручья, тигр в джунглях, и вдруг:
«Чтобы увидаться с Аталией наедине, Джон выбрал лунную ночь».
И вот тут-то, и вот тут-то… Степан Андреевич почувствовал, как вздрогнула его соседка. Да, это был он. Тот самый фокстрот, проглоченный тогда черною рясой. О, каким прекрасным казался Джон на фоне лунной джунгли!.. Как огромны были глаза у Аталии… Еще миг, и она перестанет отталкивать его. Уже… Перестала. И сразу разлетелась индийская ночь в пошлейшую электрификацию, и тускло просветлела надпись: «Конец первой части».
Но уже флюиды, флюиды незримые кружились по воздуху, и перестал острить инженер.
О, бедный, разбитый баклажанский рояль, зачем исторг ты из помещичьих недр своих греховные звуки, и разве не могла ну хоть под дюрановский вальс целоваться с Джоном Аталия? Да, конечно, могла, но ведь в этот миг не бывший полтавский «вундеркинд», а сам маэстро с хвостом и рогами разбрасывал по клавиатуре синкопы; но никто не видел этого маэстро, ибо темно было в зале, а если кто и видел, то побоялся бы сказать по соображениям цензурного свойства!
Много было еще частей, и много тигров, и много крокодилов. Под марш Буланже швырнула Аталия в океан миллион фунтов стерлингов, и в ярости умчался на расфранченном слоне посрамленный капиталист. А флюиды все множились и плодились, и плечо льнуло к плечу, и локоны щекотали щеку.
«Граф Антон разочарованный вернулся в Лондон». «О, жестокая Аталия! Ты сидишь у камина». И вдруг полный мрак и затем под последние аккорды – надпись: «Уci пролетарскі покупці купляють крам у Ларці».
Электричество зажглось.
Мигая глазами, смущенно улыбались растроганные девицы.
– Вот-с! Берите пример, – говорил инженер. – Миллион в море швырнула. Да, будь я девушка…
– Петька, не дури. Я что-то даже расстроилась.
Пелагея Ивановна шла, опустив голову, глазки ее блестели, а руки дрожали.
– Удивительно сильная фильма, – говорила Софья. – Я такую что-то в первый раз вижу.
– Ну, что ты. А «Леди Гамильтон»?
– Ну, там старина… В старину мало ли что было.
Пошли домой. Степан Андреевич пошел провожать «компашку». Идя, Пелагея Ивановна один раз украдкой поглядела на него. Нет, это не Пелагея Ивановна, скромная кисейная попадья, поглядела на художника, члена Всерабиса Кошелева, – это Аталия, сестра Мэри Пикфорд, под вой тигров посмотрела на Джона…
Степан Андреевич-Джон поймал этот взгляд и в глухой тени акаций обнял и поцеловал красавицу прямо в горячие губы, и губы ответили ему так, что голова закружилась.
И радостный черт, услыхав поцелуй, взмыл по вертикали.
X. Баклажанские огороды
Степан Андреевич проснулся в настроении боевом, В прекрасном настроении проснулся Степан Андреевич. Он весело перемигнулся с голубым миром и особенно тщательно пригладил пробор.
«После вчерашнего поцелуя ничего, если даже она догадается, что чулки другие, – думал он, погружая палец в зеленый липкий бриолин, – скажу, что те потерял, только вот как отвадить всю эту компанию?»
Однако он тут же решил, что можно и просто прийти в гости, а там уже видно будет.
Дорогу выбрал он кратчайшую, по задворкам через огороды.
Но тут упустил он из виду одно замечательное свойство Баклажан. Дело в том, что Баклажаны, при всей их кажущейся простоте и наивности, в средней своей части построены, однако, по строжайшему плану на манер Петербурга, иначе говоря, все улицы там идут параллельно и перпендикулярно друг другу, и сходство домов делает их почти неразличимыми для неопытного кацапского глаза. Степан Андреевич ткнулся на один огород, потом на другой, спугнул кролика, который, как мячик, вылетел у него из-под ног, наткнулся на какой-то плетень, которого, по его мнению, никогда раньше не было, т. е. когда они по этим огородам ходили в церковь. Наконец он решил выйти на улицу и повернул на какую-то тропинку.
Внезапные крики послышались между двумя белыми амбарами. Он увидал пыльных черномазых ребятишек, которые показывали дули Лукерье, ковылявшей по огородам со своею клюкою. Они что-то кричали ей по-украински. Среди непонятных слов Степан Андреевич различил, однако, припев: «Крашеные губки, драные юбки». Один из мальчиков подбежал к Лукерье сзади и сильно дернул ее за подол. Послышался треск, и кусок гнилых лохмотьев остался у него в руках. Лукерья вдруг обернулась и клюкою ударила мальчика прямо по зубам. Крик негодования раздался кругом… Мальчик, которого ударила убогая, ринулся вдруг, как звереныш, сшиб ее с ног и что-то закричал другим мальчикам. Они мгновенно распластали Лукерью лицом в грядку и, задрав ей лохмотья, принялись хлестать крапивой, громко выкрикивая непристойное слово, которое в переводе на язык пристойности означает женщину легкого поведения.
Степан Андреевич был подвержен приступам благородного негодования и давал волю этому негодованию главным образом в тех случаях, когда мог сделать это без особого для себя ущерба. Он сразу учел силы свои и силы мальчиков и, кинувшись на гнусную группу, расшвырял ее, как котят, и помог встать Лукерье… Поднял ей клюку, мешок и оторванный кусок подола. Правда, сделал он это все с осторожностью, ибо уж очень грязна была его protegee. Мальчики хохотали, выглядывая из-за угла. Лукерья плакала навзрыд, но тихо, страшно кривя свою свихнутую челюсть. Степан Андреевич вдруг ясно представил себе, как хрустела эта челюсть, зацепляясь за баклажанские булыжники… и (странно) отошел с некоторым отвращением.
– Они вас больше не тронут, – сказал Степан Андреевич уверенно. – Но идите лучше на улицу.
Лукерья, плача, кивнула головой, и в этом кивке было что-то женственное, жалкое, робкое… должно быть, так кивала она, когда страшный любовник приказывал ей достать самогону. Она встала затем и покорно пошла, нескладно волоча одну ногу.
Степан Андреевич грозно посмотрел на хохочущих мальчишек, и все рожи мгновенно исчезли. Он стряхнул с коленки пыль и пошел дальше по тропинке. Шел, шел и опять уперся в плетень.
Тут уже он остановился в полном недоумении, наконец решил повернуть обратно.
– Сюды. сюды, – послышался голос, – сюды, пан.
Девчонка в пестром платьице, запыхавшись, взволнованно, бежала за ним.
– От сюды, сюды, пан…
Она указывала пальчиком на какой-то белый домик, из трубы которого клубами валил черный дым.
Степан Андреевич поглядел на окно домика и вдруг испытал чувство человека, увидевшего под ногами змею. Мурашки пробежали у него по спине. Из окна пристально глядел на него… труп Бороновского. Впрочем, труп этот вдруг пошевелился и исчез внезапно, как Мефистофель в тумане.
– Сюды, сюды, – бормотала настойчиво девочка, – сюды, пан.
Степан Андреевич с некоторым удивлением последовал за ней.
Он вошел в светлые сени.
– Це живет пан Бороновский, – сказала девочка, приотворяя дверь.
– Да, да, – послышался хриплый голос.
В большом кресле, обложенный подушками, сидел Бороновский, пытаясь любезно улыбнуться и как-то странно, словно с жадностью, смотря на гостя. Он дрожал, как в лихорадке, поминутно утирая платочком лоб.
– Меня действительно трудно найти, – сказал он, – я увидал, как вы стоите и озираетесь… Хорошо, что была тут Галька… я уж ее послал… А сам я даже крикнуть не способен… Подошел бы к окну и… упал… Ужасная слабость…
– Да, здесь такая путаница в этих закоулках, – сказал Степан Андреевич, не совсем уясняя себе, в чем дело.
– Спасибо вам… спасибо вам, что навестили… Сейчас зайдет еще Андрей Петрович… это наш доктор, старинный баклажанец… Фамилия его Шторов, отличный врач и человек в высшей степени гуманный… Он имеет доброту меня сейчас пользовать, что при моих малых средствах является истинным благодеянием с его стороны… Хотя я стараюсь оплатить ему книгами… У меня все, что осталось, – это книги… Вон там в углу шкапчик… Есть очень хорошие сочинения, не говоря уже о классиках, которые представлены полностью… У Шеллера-Михайлова только не хватает пятого тома, зачитал один агроном… и не по своей вине… убит он был очень зверским образом… А доктор наш – большой любитель чтения… Есть еще по-немецки Гете и Шиллер… Гейне я продал… он слишком насмешлив… Всегда начинается у него так высоко, а в конце обязательно осмеет все… чувство… и так это тяжело… Есть Золя и Гюи де Мопассан… их многие считают неприличными писателями, а, по-моему, они очень верно пишут… Иногда фривольно… но это уж французская черточка… Еще вот Альфонс Додэ… «Письма с мельни…»
Бороновский вдруг ухватился за ручки кресла и странно хрюкнул.
– Вы не так много говорите, – посоветовал Степан Андреевич.
Тот кивнул головой и выдавил улыбку.
– Лучше вы говорите, – прошептал он, – скажите, вы сами обо мне вспомнили, или… Вера Александровна была так добра, что просила вас?
Он остановился и затрясся, ожидая ответа.
– Вера Александровна тоже говорила…
– Что же она говорила?
– Она удивлялась, что вы к нам не заходите…
Бороновский выразил при этом какое-то радостное недоумение.
– Она удивлялась? Как же она удивлялась?
– Говорила: «Что-то Петр Павлович к нам давно не заходил».
– В самом деле!..
– Серьезно…
«Если она этого и не говорила, – подумал при этом Степан Андреевич, – то могла ведь сказать».
– Вы передайте ей от меня привет и скажите, чтоб она на меня не сердилась… дело в том, что у нее могут быть причины на меня сердиться.
Дверь в комнату вдруг распахнулась. Вошел небольшого роста плотный и уже пожилой человек в люстриновом потертом пиджаке и в соломенной фуражке. Он был красен красным загаром, оттенявшим его седые усы.
– Вот, – проговорил Бороновский с некоторым страхом, – это доктор Андрей Петрович, а это… Кошелев, Степан Андреевич… племянник Екатерины Сергеевны.
– Очень приятно-с…
Доктор хмуро оглядел комнату, потом подошел к Бороновскому и, глядя в пол, принялся щупать его пульс…
– Гробовщика в гости позовите, чайку попить… чтоб гроб получше сделал, – грубо сказал он вдруг.
Бороновский смущенно поглядел на Степана Андреевича, словно хотел сказать: «Ведь вот – он всегда так, а между тем гуманнейший человек».
– Небось вставали сегодня? Сознайтесь, вставали?
– Только к окну… Вот их…
– Ну, и подыхайте, мне наплевать!..
– Андрей Петрович, голубчик…
– Сами лечиться хотите, извольте-с… Мне хлопот меньше… Сволочь вы эдакая, ведь вам же нельзя двигаться… и разговаривать нельзя…
– Я разве разговариваю?
– Гостей принимаете… Вы бы салон открыли… Подумаешь… мадам Рекамье.
– Я просто так зашел, – пробормотал Степан Андреевич,
– Да, вот вы просто так заходите, а человек из-за этого может околеть тут же, на месте… Нельзя ему говорить, понимаете, нельзя… Вы должны, если, конечно, добра ему хотите, кулак вот так держать у него перед пастью… Скажет слово – по зубам…
– Андрей Пет…
– Цыц!.. Ей-богу, ударю… Скотина какая!.. Одного легкого совсем нет, от другого осталась дыра с каемочкой, а он все философствует… Душа, мол… бессмертье… Галиматью-то свою разводит… Лопух, лопух вырастет, – и на том скажите спасибо матушке-природе. А я тот лопух сорву и буду от мух отмахиваться… Понимаете?.. А я умру – другой будет моим лопухом. Вот тебе и мировая эволюция… Ну, дыхните-ка…
Он приложил ухо к груди Бороновского.
Степан Андреевич кивнул головой и на цыпочках направился к двери.
Бороновский тоже кивнул.
– Не болтай головой… Еще вздохни… Скажи: раз, два, три…
Степан Андреевич вышел во двор.
Теперь уже прямо по улице направился он к дому священника.
И – странно. Опять у дома стоял фаэтон Быковского, но на этот раз выносили из дома корзину!
«Неужели уезжают, – подумал он. – О, счастье!»
Ему уже ясно представилось мелодраматическое объяснение в светленькой, чистенькой комнатке. Вероятно, будут сопротивления, а потом и слезы, но в середине произойдет нечто, что заставит забыть и сопротивления и примирит со слезами. О, счастье!
Опять на крыльце четверо целовали одну, но поразило то, что эта одна была в шляпке и в пальто, а остальные все в самом домашнем: инженер в толстовке, Софья и девицы в шитых рубахах.
Ах!
Фаэтон с дребезгом покатил по булыжнику. Попадья покатила. Куда?
Степана Андреевича провожавшие (только провожавшие) заметили. Надо было идти по намеченному направлению, то есть к ним. Девицы кусали губы и медленно багровели. Софья щурилась и улыбалась. Инженер кроил идиотскую харю.
– Здравствуйте! – сказал нарочито развязно Степан Андреевич. – Куда это Пелагея Ивановна поехала?
– В Харьков, можете вообразить, – отвечала Софья.
– Тоска по мужу, – подтвердил инженер.
Девицы взвизгнули и, теряя веревочные туфли, ринулись в дом. Слышно было, как там они вопили от хохота.
Степан Андреевич против воли покраснел.
– Заходите, – сказала Софья, – вы в трилистник играете?
– Спасибо… Я, собственно, гуляю…
– Не пойти ли купануться… а, Софи? Фи готофи?
Степан Андреевич вышел в степь.
Вдали над черной дорогой стояло легкое облачко черной пыли.
Небо было ясное, синее.
Он оглядел весь этот чудесный пьянящий мир и со вкусом сказал:
– Дура!
XI. Дон Кихот номер первый
Дни потекли опять однообразно, и каждый день разбивался так: утром купание с инженером, потом завтрак, потом спать, потом обедать, потом рассказывать про Москву и слушать рассказы про петлюровщину, махновщину и добровольщину. В тишине августовского вечера однозвучно лилась тетушкина речь.
– … и тогда они ему кожу всю состругали рубанками и он, конечно, через три дня от гангрены умер. А еще был у нас картузник Засыпка, так ему живот разрезали и кишками к дереву привязали. Ну, он, конечно, и часу не прожил… А картузы делал такие, что гвардейцы ему из Петербурга заказы присылали…
Вера в это время уже не шила. Было темно. Розовый сумрак тихо надвигался на дом и на сад. Тускнели деревья.
– А я вчера в комнате тарантула убила, – сказала Вера.
– Да что ты? Знаешь, Степа, что это значит?
– Нет. Понятия не имею.
– А это значит, что лето кончается… Тарантул в доме тепла ищет. И чувствуешь, уже свежо становится к вечеру.
Стемнело довольно рано, и Степан Андреевич пошел спать. Делать было решительно нечего.
Перед сном, однако, он прошелся по саду и внизу возле самого забора увидал вдруг темную человеческую фигуру. Он вздрогнул по привычке, привык за революционное время бояться незнакомых. Однако тотчас узнал доктора Шторова.
– Мое почтение, – сказал тот не слишком как-то любезно, – очень рад, что на вас наткнулся. Я-то именно к вам… Дело вот в чем. Бороновскому этому каюк пришел. Подыхает.
– Да что вы говорите?
– А вот – то самое, что говорю. Да-с. И он, понимаете, на стену лезет… Желает знать, не передаст ли ему чего… эта ст… сестра ваша двоюродная… Жить ему остался кошкин хвост. Я бы не пошел такие сантименты разводить. Да жаль его… чтоб его черт подрал. Скажите ей, что, мол, он умрет вот сейчас… Больше ничего…
– А вы сами…
– Н-нет… я с ней не разговариваю… Извините… Только надо торопиться.
Степан Андреевич заробел (таких людей опасался) и пошел наверх, к дому.
– Вера, вы не легли? – спросил он, подойдя к ее окну.
Ответ был дан не сразу.
Из соседнего окна высунулось искаженное ужасом лицо тетушки.
– Тсс… они, – шипела она. – Вера молится.
Но Вера вдруг резко подошла к окну:
– Не суйтесь, мама, не в свое дело! Вы меня, Степа?
– Да… дело в том, что Бороновский умирает…
– А…
Она сказала «а» совершенно равнодушно.
– Почему вы знаете?
– Там… доктор Шторой…
– Жаль… да ведь этого надо было ожидать…
– Я сейчас к нему пойду… вам… ничего не надо передать ему?
– Что же передать… поклон умирающему неудобно передавать.
И она беззвучно, сделав злые глаза, расхохоталась.
– Верочка, – робко раздалось в глубине комнаты, – ты бы сходила к нему.
Но Вера даже не удостоила ответом.
– Лучше всего скажите ему, что я уже спала, и вы меня не видали…
– Хорошо.
Степан Андреевич сошел вниз, спотыкаясь на бугры и рытвины.
– Ну? – окликнул доктор из мрака.
– Ничего не велела передать.
– Ничего? Ах…
После этого крепкого изъяснения наступила тишина.
– Слушайте, – вдруг тихим голосом заговорил доктор, – если вы не такой же, как эта ваша бісова родственница, сделайте великое дело. Пойдите к нему… обманите его… скажите, что она ему велела… ну, хоть, я не знаю, вот этот цветок передать… Нельзя же так… Ведь человек же в самом деле…
Степан Андреевич нерешительно взял цветочек.
– Пойдемте… Я боюсь только… что…
– Она не узнает, а он все равно через час сдохнет… Да последние-то секунды зачем человеку отравлять? Нельзя же, господа, ведь человек все-таки… Собаку и то жаль… Ах, стерва! Подлая стерва!
Сквозь разрушенный забор они вышли на дорогу и пошли мимо левады темных пирамидальных тополей.
– Мы вот сейчас тут через Зверчука, – бормотал доктор, – о, черт бы подрал эту гору!.. Одышка…
Но они, не останавливаясь, прошли темными дворами и как-то сразу очутились у крыльца Бороновского.
Галька сидела на пороге и глядела на звезды.
– Жив пан? – спросил доктор сердито.
– А як же, – отвечала та с глуповатой улыбкой, – нехай жив буде.
Они вошли в темные сени и потом в совершенно темную комнату, где правильно и ритмично работала какая-то пила:
– Хыпь, хыпь…
Степан Андреевич не сразу понял, что это хрипел умирающий.
– А, бісова дітина, – сказал доктор, – и огня не могла зажечь.
Он чиркнул спичкой и зажег маленькую горелку – фитиль, втиснутый в пузырек с керосином.
Степан Андреевич не приготовился к ожидавшему его зрелищу лица умирающего, а потому затрепетал.
– Хорош? – спросил доктор, криво усмехаясь. – Уж и не философствует.
Он взял полумертвеца за руку.
Открылись медленно страшные глаза. Молча.
Доктор обернулся на Степана Андреевича.
– Ну, вы, говорите.
Степан Андреевич не знал, есть ли у него сейчас в горле голос. Он только кашлянул.
– Вот это, – пробормотал он, протягивая цветок, – Вера Александровна… велела прислать вам.
– Кладите на грудь, – шепнул доктор.
С трудом опустились глаза, неподвижно уставились на цветок, и – странно было это видеть – счастливая улыбка передернула губы, и все лицо медленно переделалось из страшного в радостное, в спокойное, в умиленное. И теперь уже не страшно, а приятно было глядеть на него.
Но, должно быть, слишком тяжел оказался маленький цветочек для этой жалкой груди, ибо под ним перестало биться сердце.
В комнате стало вдруг совсем тихо, и тишина эта не прерывалась очень долго, и за окном тоже молчал весь ночной мир.
– Есть! – наконец прохрипел доктор. – Го… го…
Он, должно быть, хотел сказать «готов», но куда-то внутрь провалился конец слова.
– Галька! – вдруг гаркнул он. – Ты куды провалилась… Ходи… Пан твой помер.
Но уже какие-то молодицы и старухи молча толпились в сенях и на крыльце.
– Идемте, – сказал доктор, – тут им займутся.
Охотников много снаряжать покойников на тот свет…
Душно здесь…
Он с минуту поколебался, потом взял с груди мертвеца цветок и выбросил его в окно.
Они пошли по темной улице.
Они не сговаривались идти вместе, однако оба пошли по одному и тому же направлению, оба пересекли базарную площадь, прошли мимо собора, вышли в степь и взобрались на высокий обрыв, где оба сели и молча стали созерцать огромный торжественный небосвод. Звезды сверкали неподвижно, и только время от времени какая-нибудь звезда огненной змейкой прорезала пространство.
– Да, – сказал доктор, – умер наш Дон Кихот баклажанский.
Они помолчали.
– Вы что, сестрицу свою очень любите?
– Да я ее плохо знаю… Всю жизнь провели в разных городах. Я в Москве, она то здесь, то в Киеве.
– Ага… Так, так… Гнуснейшая, простите меня, тварь. То есть это, конечно, с моей субъективной точки зрения. Жестокая девушка. Разве это не гнусность?
– А вы ее хорошо знаете?
– Еще бы. Ведь я почти всю жизнь в этой помойке жил…
Он кивнул на спящие Баклажаны.
– Я помню, как покойный Александр Петрович сюда приехал еще безусеньким таким следователишкой. И Екатерину Сергеевну сюда привез… Я ее тогда мысленно так прозвал: ангел в нужнике. Ведь Баклажаны есть не что иное, как гигантских размеров нужник… О, проклятые!.. Екатерина Сергеевна была, знаете ли, женщина очень тихая и кроткая и дочери своей, Вере вот этой самой, все отдала… Дочь теперь в благодарность ее но щекам бьет, когда та ей молиться мешает… Ну, да уж я знаю, не протестуйте… Врать не буду. Александр Петрович был человек простой, но честный и умный… по-своему умный, конечно. Мечтал он, знаете, об уюте эдаком семейном, чтоб в долгие осенние вечера в своем этом домике за самоварчиком посиживать и дочку на коленке качать. Вы знаете, ему место предлагали в столице. Один родственник о нем с министром Муравьевым говорил, и Муравьев его телеграммой вызвал и предложил место в сенате. А тот, знаете, что ответил: «Ваше превосходительство, у меня там садик… уж позвольте мне в Баклажанах остаться». Министр, конечно, только, очевидно, плечами пожал… Что тут ответишь?
А он себе идеал жизни составил – не собьешь. И нашпарился он, доложу я вам, на этом идеале. Дочка ему с пяти лет истерики стала закатывать, да какие… Чуть что ей наперекор, она хвать об пол всю посуду и орет на все Баклажаны: «Папка, черт, поросенок!» Это пятилетний-то ангелочек! Мило? Можете себе представить, что стало годам эдак к шестнадцати. Девка здоровая, прет из нее сила, девать ее некуда, – так что она тут разделывала. Отцу один раз лицо в кровь расколотила, а уж мать… Екатерина Сергеевна просто мученица – в буквальном смысле этого слова… Я удивляюсь, как она жива до сих пор…
Да… Конечно, сестрице вашей следовало бы замуж выйти, да ее тут все женихи наши как огня боялись… молодежь у нас была смирная. А она только ходит, фыркает; этот дурак, тот болван, третий пошляк. Срамила их при всем обществе. Молодой человек к ней с чувствами (ею многие увлекались), а она ему цитату из Гете там или из Байрона. А тот их и не читал никогда… А она его на смех… Сама никого не любила… Постепенно все поклонники от нее отстали, кроме вот этого самого Бороновского. Он уж ей и стихи писал, и книги дарил, и на коленях руки ее выпрашивал. Она, конечно, наотрез. Идиотом его, правда, не ругала, а поклонение его принимала вполне равнодушно.
Александр Петрович, слава богу, до главного безобразия не дожил. Умер он еще при Скоропадском. Последнее время страшно жалко было на него смотреть. Несчастненький такой ходил. Все идеалы жизненные пошли псу под хвост. Шутка ли… После его смерти начался кавардак. Петлюра, Махно… пошла потеха. Появился тогда тут некий атаман Степан Купалов… Кто он был, черт его знает… Бандит, конечно, форменный. Гарцевал тут на белом коне и жидов нагайкой постегивал. Увидал он Веру на базаре и ей воздушный поцелуй послал. И она, можете себе представить, в дьявола этого втюрилась. То есть, конечно, виду она не показывала, а все заметили, как восторженно она про него отзывалась. И красавец, и храбрец, и все что хотите.
Вот раз в самый разгар махновщины, зимой, крепкий был мороз, вкатывается на двор к Кошелевым пьяная казачья ватага. Вера была тогда на дворе и в сарай спряталась. Случился тут и Бороновский. Казаки к нему… а впереди всех Степан Купалов. «Где дивчина?» – «Не знаю». – «Брешешь. Я за ней приехал. Говори, где». Тот: «Не знаю и не знаю…» – «А, не знаешь…» Моментально раздели его догола и к колодцу. Градусов было тогда пятнадцать морозу. И давай они его из ведра окачивать. Окачивают и нагайками лупят. «Говори, где!» Не сказал. А тут кругом пальба. Мешкать было нельзя. Закопали они его голого в снег и ускакали. Ну, конечно, гнойный плеврит с двух сторон… Ребра ему вырезали… И с тех пор зачах… А она, изволите ли видеть, на него злобу затаила. Сама она, конечно, выйти к бандитам не решилась из гордости, а если бы он на ее засаду указал, так, видно, была бы она этому очень рада. А потом Степан Купалов этот с Лукерьей спутался… Тут есть такая нищенка. Тогда-то она была, положим, не нищенка… резвая была бабенка… уж он ее шпынял… Ну, да не о ней речь… Так вот Вера эта, сестра ваша, на своего защитника лютейшую злобу затаила и ту злобу никак открыто проявить не могла… Ну, уж зато она его помучила… Один раз только ему всю прайду выложила… он мне признался… Отпалила и в истерику… А он, Дон Кихот, вместо того, чтоб плюнуть ей в харю, на коленях за ней ползал, подол ей целовал. Тьфу! Мразь какая! Верите, иной раз говоришь с ним, а кулаки так и чешутся и сами к морде его подбираются… Слюнтяй!.. И поделом она его мучила. Так ему, размазне, и нужно. Эх, жалею даже, что ему этот бенефис напоследок устроил с подношением цветов. Надо было бы его до конца довести. Всю ее мерзость ему доказать. Стерва! Стерва!
Доктор отчаянно махнул рукой на Баклажаны.
– И зачем все это существует? – воскликнул он чуть не со слезами в голосе. – Какого черта свинячьего?
Они помолчали. Потом оба вместе поднялись и пошли домой.
Степан Андреевич не мог да и не хотел как-то спать.
Восемь лет, с самого того момента, как пшено заменило собою почти всякую другую снедь, не думал Степан Андреевич на отвлеченные темы, никаких философских проблем не разрешал, ни о какой стройности в своем миросозерцании не заботился. И теперь все такие мысли вдруг, как сорвавшись с цепи, ринулись в его голову и мгновенно завладели обоими полушариями, не заботясь о том, что голова при этом основательно затрещала. Степан Андреевич постарался представить себя умирающим… Не хотел бы он посмотреть на себя в гробу. А на Бороновского мертвого смотреть было просто приятно. Он опять разозлился на Баклажаны. Какой, подумаешь, рассадник Дон Кихотов и Абеляров. И, схватившись за голову, заставил он себя ясно вспомнить московскую жизнь, кутежи с поцелуями, ни к чему не обязывающими, рисование, требующее только одной техники, получение гонорара, требующее лишь терпения… Может быть, в этом истинная мудрость? Но опять вспомнилось счастливое мертвое лицо. И пришла в голову пошлая мысль: а, может быть, такое лицо будет и у него, если… положат ему перед смертью на грудь новенькую, не вскрытую пачку червонцев – сто штук.
И мысль эта заставила его улыбнуться. Приятно было, в самом деле, представлять себе такую пачку… Он уснул.
XII. Дон Кихот номер второй
В день похорон Бороновского было прохладно и шел мелкий дождик. Очевидно, тарантул угадал правильно, переменив квартиру. Что на новой квартире его убьют, он, разумеется, не мог предвидеть. Тарантул рассуждал теоретически.
Хотя Бороновский был человек бедный, почти нищий, хоронили его торжественно. Заупокойную служил сам владыко, соборне, и среди других священников был и отец Владимир. Значит, вернулся. Интересно, вернулась ли попадья.
Софья и ее сестры стояли в церкви, красные, с заплаканными глазами, обильно проливая слезы и кланяясь в землю. Инженер был как-то смущен и робок с виду. Вера молилась, по обыкновению, самозабвенно, иногда лишь с неудовольствием оглядываясь на мать, которую мучил жесточайший сухой кашель.
Кладбище в Баклажанах было неуютное, степное, всего с четырьмя деревьями (белыми акациями) по углам. Идти туда приходилось по раскисшей черноземной горе, скользкой и утомительно крутой.
Степан Андреевич слышал, как спросила Екатерина Сергеевна отца Владимира: «А где же Пелагея Ивановна?» На что тот ответил: «Осталась в Харькове, у Анны Павлиновны».
Дома молча завтракали.
Екатерина Сергеевна словно боялась говорить об умершем и только поглядывала на Веру.
Степан Андреевич тоже не заговаривал. Он с некоторым страхом поглядывал на величественную красавицу. Должно быть, в самом деле хорош был Степан Купалов.
Марья, подавая кабачки, шмыгала носом. На ее лице слезы оставили грязные полосы.
– Добрый пан бул, – сказала она, – дюже жалко пана. О-ох!
– Марья, – сказала Вера, – вы бы не могли как-нибудь хоть для смеха руки помыть?
– Та я ж мыла…
– Врете, Марья.
– «Врете, врете». А ну вас совсем!
Вера вскочила, бледная как смерть, кинулась и страшно толкнула старуху в спину.
Та, хрюкнув, прыгнула вперед и упала лицом на угол стола.
Она так и осталась стоять на коленях, опираясь о стол лицом, и вся затряслась от рыданий.
У Степана Андреевича вдруг странным образом перевернулось сердце, и вся кровь отхлынула от лица.
– Вы не смеете ее бить, – заорал он, – это подло! Это хамство какое-то!.. Еще называется культурная женщина!
Он умолк, ибо задыхался, и ноги у него почти отнялись.
– Мама, – спокойно сказала Вера, – налейте Степе воды… и еще лучше. накапайте валерьяновки.
Но Екатерина Сергеевна не могла ничего сказать, не могла ничего сделать. Она рыдала, рыдала, безутешно рыдала, положив на руки свою седенькую маленькую головку.
Степан Андреевич встал и, махнув рукой, вышел.
«Вот еще идиотская история», – подумал он. И он вспомнил тот крик, который так долго обдумывал и которым должен был разразиться под обелиском, став лицом к бывшей гауптвахте. И он понял, что того крика никогда не будет, ибо и теперь уже было ему до физической боли чего-то страшно. «Ну их всех к дьяволу», – думал он и пошел неизвестно куда… просто вдоль по улице.
О странных вещах мечтал он.
«Хорошо бы, если бы все это произошло в Москве, и Марья пожаловалась бы в профсоюз. Пожалуй, посидела бы с полгодика эта чертова кукла. Сволочь эдакая! Несчастная тетушка! Вот уж действительно мученица. Нет, я вполне понимаю и сочувствую доктору. Гнусность какая».
– Господин Кошелев, – окликнул его кто-то.
Он вздрогнул.
Отец Владимир стоял на пороге своего дома и любезно предлагал зайти.
– Мне с вами… кхе, кхе, переговорить хотелось…
Степан Андреевич с легкой дрожью вошел в дом.
Дом был пуст.
– Они все у Змогинских, а Пелагея в Харькове… Милости прошу. Вот сюды.
Степан Андреевич сел в кресло. Замер, только смутно предполагая, о чем будет речь.
– Я, знаете, – произнес отец Владимир, – человек простой и бесхитростный. Я прямо подойду… Пелагея мне… все объявила…
Он отвернулся, чтобы не видеть смущения гостя.
– Я… проспите… я опять так сразу. Вы человек образованный, стало быть, честный… Вы мне прямо скажите… Коли любите ее, я…
Он помолчал.
– Она вас словно бы и любит… Да, так вот. Коли вы ее любите, берите ее с собою в Москву… Она молодой цветок, весенний, ей не след в Баклажанах себя хоронить… да и я ей малая утеха… Сами знаете, либо богу служить, либо жене… ну, уж я богу служу… И сан мой меня к тому обязывает… Я смотрю широко… Смеяться надо мною тут будут, так ведь это мне не помеха… чтобы ее счастье сделать… и ваше… простите, не упомню имени вашего и отчества.
– Степан Андреевич.
– Степан Андреевич… Я уже ошибку сделал тогда по молодости лет, на ней женясь, и бог нашего брака не благословил. Детишек нам не дал… Будь, конечно, детки, я бы вас просто, как благородного человека, просил уехать отсюда, покоя ее не смущать… А теперь… хоть и связаны мы перед алтарем… ну, да я ее грех замолю… Да… вот-с… А она-то вас как бы очень любит, и любовь-то эта ее больше всего и страшит… Я сказал ей: дурочка, чего трепещешь… Коли он тебя любит, а человек он образованный, стало быть, честный, ну, поедешь с ним в Москву… там кипучую жизнь познаешь… А мне в Баклажанах самая лучшая жизнь… Тише здесь. Голос-то божий тут слышнее… Я и говорю…
Он снова повторил все сказанное, очевидно, стараясь оттянуть от гостя тягостную минуту ответа… Но наконец он сказал все; пришлось умолкнуть.
– Батюшка, – проговорил Степан Андреевич, быстро вставая, – простите меня. Я низкий негодяй перед вами… Я уеду на днях в Москву… Это все результат моей московской распущенности… Простите.
Он быстро вышел из дома, и никто его не остановил.
И он был страшно зол, ибо давно еще философ сказал, что неприятно человеку чувствовать себя побитой собакой.
«Нет, к черту! Дура! Из-за одного поцелуя заплести такую ахинею. Да пустить бы ее на любой московский вечер с водкой… ей бы показали, как целуются при дворе шаха персидского… А он-то… что он, ребенок, что ли, пятилетний… Неужели он воображает, что без любви и потискать нельзя его попадью? К черту!»
Подходя к дому, он оробел, ибо вспомнил, что, очевидно, предстоит объяснение с Верой. Но все равно. Не шататься же сутки по паршивому этому городишке.
Посреди двора, сложив на животе ручки, стояла и, должно быть, его ждала тетушка Екатерина Сергеевна, и вид она имела самый умиленный и успокоительный.
– Ничего, – сказала она тихо, – Вера помолилась, а Марья у нее прощенья попросила… и Вера ничего.
– То есть не Марья у Веры, а Вера у Марьи.
– Именно Марья у Веры, – с легкой досадой отвечала тетушка, – какой ты, Степа, странный… Ведь Марья же наврала. Она ж рук не помыла. Нельзя же всякое вранье терпеть.
Степан Андреевич уже не возражал. К вечернему чаю Вера вышла, как всегда, величавая, улыбаясь слегка насмешливо.
– А вы, Степа, в самом деле большевик, – сказала она, садясь за стол. – Вот попробуйте кавуна.
Степан Андреевич ел кавун и молчал. Он решительно не ощущал себя, потерял, так сказать, точку касания с миром, иначе говоря: утратил вдруг совершенно классовое самосознание.
XIII. Шутка Амура. Страх
Степан Андреевич решил уезжать в Москву.
Он сидел на террасе с тетушкой Екатериной Сергеевной и лениво пережевывал разговор о поездах.
– Дьякон уверяет, – говорила тетушка, – что поезда ходят по средам и по пятницам, а Марьи Ниловны племянница говорила, что по вторникам и субботам… А Розенбах сказал вчера, будто по воскресеньям и четвергам.
– А Быковский что говорит?
– Быковскому все равно, он тебя хоть сейчас повезет.
– Ну, а расписания разве нет?
– Откуда же расписание. На станцию ехать, так это двенадцать верст.
– Как-нибудь уеду.
В это время через террасу прошла, слегка поклонившись Екатерине Сергеевне, маленькая, худенькая, очень хорошенькая евреечка.
– Это кто же такая? – спросил Степан Андреевич, проводив ее любопытным взглядом.
– Верина заказчица – жидовка. Помнишь, ты ей платье носил…
– А…
Степан Андреевич вздрогнул. «Вот она какая».
– Знаете, – сказал он вдруг, – я сейчас, только за папиросами сбегаю.
– Много куришь. Вредно. Никотин.
– Ничего.
Он быстро сбежал в сад, вышел за ворота и погнался за еврейкой.
Она медленно шла по кирпичному тротуару, и издали уже можно было заметить, какие стройные у нее ножки.
Услыхав быстрые шаги преследователя, она оглянулась, сразу смущенно съежилась и продолжала идти, но уже с таким видом, словно ожидала пули в спину.
– Мы, кажется, с вами немножко знакомы, – приветливо и даже сладко сказал Степан Андреевич. – Или я, быть может, ошибаюсь?
Она исподлобья поглядела на него пудовым взглядом.
– Нет, вы не ошибаетесь.
– Это вы мне писали?
– Да… это я вам писала.
– Я был бы очень счастлив возобновить с вами знакомство.
Еврейка покачала головой.
– Когда я вам писала, я была как газель. Я только скакала и прыгала и влюблялась в интересных людей…
– Вы и теперь очень похожи на газель.
– Нет, я теперь мертвая. Когда у человека несчастье, он не может любить.
– Какое же у вас несчастье?..
– Это вам не надо вовсе знать.
– А по-моему, в несчастье-то и любить… Любовь утешает…
Еврейка ничего не ответила и продолжала идти. Степан Андреевич почувствовал в себе приятное закипание страсти.
– Мы бы с вами сумели забыть всякое несчастье.
– Мое несчастье нельзя забыть.
– Во всяком случае, – вкрадчиво и настойчиво сказал Степан Андреевич, – я вас буду ждать сегодня вечером в нижней части сада. Часов в одиннадцать. Хорошо?
Она еще больше съежилась и пошла торопливо. Степан Андреевич поклонился и повернул обратно. «Эта стоит попадьи, – думал он. – Да. Я еще молод. Поживем. Поживем».
* * *
Вечер выдался ясный, но очень холодный, и Степан Андреевич, стоя во мраке у забора, мерз, хотя был в пальто, накинутом прямо на рубашку.
Его пробирала мелкая дрожь, он зевал от холода и злился, полагая, что пришел напрасно. Он боялся простудиться.
Однако хрустнули ветки, и темная тень приблизилась к нему.
– О, какое счастье, что вы пришли! – пробормотал он, трясясь, как в лихорадке.
Она взяла его за руки и его поразило, до чего ее руки были горячи.
– Это позор, – прошептала она и, прислонившись лбом к яблоне, тихо заплакала.
– Полно! Полно! – бормотал он. – Разве можно плакать в такие мгновения!
– О, зачем я пришла? У меня такое горе, а я пришла. Я должна плакать, всегда плакать и бежать от тех, кого мне хочется любить. Но у меня нет сил. Ой, какая я одинокая! Ой, какая я одинокая!
– Теперь вы не одиноки…
Но она вдруг перестала плакать и сказала неожиданно:
– Милый, я хочу, чтоб ты раздел пальто.
Отказать женщине в такой просьбе, да еще на любовном свидании, было немыслимо. Поэтому он с ужасом снял пальто и сразу почувствовал, как ночной холод впился в его тело тысячью холодных булавок.
Она расстегнула ему рубашку и горячей рукой погладила его грудь. И тотчас со стоном ринулась на него, впилась зубами ему в шею, обвила его руками, ногами, так что он, не удержавшись, полетел прямо на холодную мокрую траву.
– Владей мною. Милый, владей мною, – шептала она, терзая его и, как вампир, впиваясь ему в губы.
– Сейчас, сию минуту, – бормотал он, щелкая зубами, а сам думал: «Ну, воспаление легких обеспечено».
– Скорей, скорей! – стонала она.
– Сейчас… зачем торопиться? Ожидание… бу… бу… бу… всего слаще.
– Я не могу ждать. Бери меня.
Он молчал, корчась от озноба.
Еврейка вдруг встала и отошла в сторону.
– Если вы бессильный, – произнесла она с презрением, – зачем вы меня звали?
– Уверяю вас… бу-бу-бу…
– Что мне ваши уверения… Я не совсем дура.
Он смущенно подбирался к пальто и надел его.
– Дорогая моя! Сокровище мое!
Он обнял ее с чувством прадедушки, обнимающего правнучку…
Она с некоторой надеждой страстно прильнула к нему.
Он старался вспомнить что-нибудь очень пикантное из своей жизни, но и воображение его застыло.
Еврейка с дикой злобой вдруг оттолкнула его и исчезла во мраке.
Степан Андреевич побежал к себе в комнату. Там было очень тепло, даже душно. «Обязательно простужусь», – думал он.
За стеною Марья еще возилась с посудой. Он пошел к ней.
– Марья, чайку горячего нету? – спросил он, задыхаясь от злющей махорки.
– Остыв чай.
– Гулял я сейчас, очень холодно.
Марья лукаво и добродушно улыбнулась.
Затем она полезла под кровать и вытащила какую-то чудную восьмигранную бутыль. Из нее она налила в чашку какой-то прозрачной жидкости,
– Це добже чаю, – сказала она. – Пивайте.
Степан Андреевич выпил.
Глаза у него вылезли на лоб, дух захватило, но по жилам мгновенно разлилась приятная теплота.
А Марья, любуясь произведенным эффектом, сказала басом:
– Самогон.
И опять тщательно спрятала бутылку.
Степан Андреевич пошел к себе. Но прежде чем закрыть последнюю ставню, он еще раз выглянул в темную, уже осеннюю ночь. Никакого не было сожаления о неудавшемся свидании. Неужели старость?
Где-то над рекою снова пел хор. Мирно тявкали на дворах неисчислимые баклажанские псы.
И вдруг – трах.
Выстрел. Недалекий выстрел.
И тотчас: трах, трах!
Второй и третий.
Мгновенно оборвалось пение. Бешено, надрываясь, залаяли теперь псы, во мраке почуявшие что-то знакомое. Басом загудели на кошелевском дворе старые собаки.
Степан Андреевич испугался и, томясь от одиночества, пошел опять в кухню.
Там на крыльце стояла уже тетушка, Вера и Марья. Все они прислушивались, наклонившись вперед, и Степану Андреевичу сделали предостерегающий жест. И он тоже замер, со страхом глядя на Екатерину Сергеевну. Но у той (странно!) лицо не выражало ни ужаса, ни удивления, она с загадочной улыбкою поглядывала на Степана Андреевича, словно говорила: «Подожди, Степа, то ли еще будет. Узнаешь, какие наши Баклажаны».
И вот вдали послышался бешеный лошадиный галоп. Страшно цокали по мостовой подковы в карьер несущегося коня.
– А ведь это по главной улице! – прошептала Вера.
И в то же время где-то уже близко раздался человеческий и в то же время нечеловеческий визг, пронзительный и страшный.
– Что это? – пробормотал Степан Андреевич.
– Это Лукерья, – спокойно сказала Вера. – Она где-нибудь здесь под забором ночевала. У нее бывают по ночам такие припадки, она же идиотка…
– Услыхала выстрелы и вспомнила… – начала было Екатерина Сергеевна, но осеклась.
Галоп между тем затих вдали.
– Знаешь что, Марья, – сказала Екатерина Сергеевна, надо бы ворота запереть, как «тогда» запирали.
Степана Андреевича больно резануло это «тогда». И Марья молча, как бы сознавая всю важность этого распоряжения, пошла к воротам.
– Но что это может означать? – спросил Степан Андреевич с чувством неопытного путешественника, ищущего поддержки у знающих все местных жителей.
– Кто ж знает! – сказала Екатерина Сергеевна. – Дело ночное. Ишь, собаки-то! Вспомнили!
И опять какая-то загадочно-умиленная улыбка осветила ее доброе старческое личико.
– Заперла, – серьезно сказала Марья, – дюже крепко.
И все молча разошлись.
Степан Андреевич тщательно запер ставни. Он лег, но не мог спать. То ли он в самом деле заболевал воспалением легких, но какой-то кошмар навалился на него и свинцовым крылом придавил ему сердце.
Все те ужасы, о которых ему рассказывали и которые легкомысленно воспринимал он как некое полусказочное прошлое, вдруг ожили и предстали перед ним в отвратительной действительности. Визг Лукерьи еще звучал в ушах. Он только сейчас ясно осознал, что испытала она, когда вот под такой же звонкий галоп билась о камни баклажанской мостовой.
Не думать! Нельзя думать!
Наступило ясное, свежее утро, но что-то навсегда утратилось в этой красоте зеленого и голубого.
На дворе шел оживленный разговор.
Зашел Зверчук, еще кто-то, какие-то две жінки.
– Вот видишь, Степа, – сказала Екатерина Сергеевна, улыбаясь, – оказывается, вчера ограбили и ранили нашего мельника Розенмана… Знали, что у него были деньги… Приехали верхом в масках. Он тревогу поднял, а они моментально за револьверы.
– У одного ружье было, – ввернул со смаком Зверчук.
– Уж, конечно, и ружья и револьверы. Ранили его в живот и деньги забрали.
– А милиция?
– Какая у нас милиция!
– Но их же, наверное, будут… стараться арестовать?
– Неизвестно, какая у них банда!
И все загадочно покосились на черневшую вдали степь.
Зверчук махнул рукой.
– Та не банда! Та просто грабилы!
– Ничего не известно.
Все с каким-то даже упреком поглядели на Зверчука, словно он разрушал какие-то приятные иллюзии.
– Вы думаете, просто воры? – с надеждою спросил Степан Андреевич, не в силах проникнуться прелестью этой романтики,
– А як же!
Степан Андреевич пошел на базар. Он хотел рассеяться. На улицах было, по обыкновению, пусто, но на базарной площади толпился народ среди желтых горшков, зеленых кавунов и красных баклажанов.
И все передавали друг другу свои впечатления и что испытали они, услыхав ночью стрельбу. И на всех лицах было то же самое загадочное выражение, словно никто не верил, да и не хотел верить, что это просто так себе.
Еще неделю назад тому, бродя по этому базару, Степан Андреевич воображал себя на Сорочинской ярмарке и думал: «Вот прошло сто лет. Какая разница? Теперь даже еще как-то спокойнее: тогда были свиные рыла и красная свитка». Но теперь он понял. Не свиные рыла, но что-то неизмеримо более страшное почуял он вдруг, и ясно представилась ему эта площадь с брошенными можарами и лотками, по которой скачут всадники в мохнатых шапках, и для этих всадников смерть человека есть лишь привычный взмах отточенной сабли. И страстно потянуло в милую Москву, где уже давно отжили все эти страхи, опять захотелось трамваев, автобусов, знакомой сутолоки.
Группы каких-то хуторян шептались между собою, но, когда подходил Степан Андреевич, умолкали. Москвич – надо опасаться. Степан Андреевич твердо решил: уезжать как можно скорее. Но он боялся проявить трусость и за завтраком сказал дипломатично:
– Такие у вас интересные события, а мне приходится ехать.
– Что ты, Степа, – воскликнула Екатерина Сергеевна, – да разве теперь можно ехать. Они ж будут теперь по дорогам грабить.
И Вера сказала:
– Да, ехать сейчас не советую.
Степан Андреевич почувствовал глубокую жуть. Оставаться в Баклажанах, с этими средневековыми людьми, кающимися из-за одного поцелуя и ненавидящими горемычных, имевших несчастье любить их – любить в самом деле больше жизни?
– Неужели нельзя ехать, – пробормотал он, – да у меня и деньги кончаются.
– Ну, с голоду не умрете, – сказала Вера, – а повременить надо. Неизвестно еще, во что это выльется.
После завтрака случилось чудо. Вера надела шляпу, пыльник и куда-то пошла. Этого ни разу не было еще при Степане Андреевиче. Ходила она только в церковь.
– Куда это Вера пошла?
Екатерина Сергеевна долго словно размышляла, сказать или нет. Но, должно быть, почувствовала, что, если скажет, ей будет легче.
– Вера пошла к Розенманам, – прошептала она, – узнать, какой из себя был этот бандит… Да что она узнает, ведь он же был в маске!..
Степан Андреевич понял.
За обедом он искоса поглядел на Веру, но она была спокойна, по обыкновению.
А слухи все росли и росли.
Каждый из соседей, приходивший на кухню за утюгом ли, за мясорубкой, непременно рассказывал что-нибудь новое. И все как-то стеснялись Степана Андреевича и при нем говорили:
– А пустяки! Жулики простые!
Но глаза их говорили совсем другое.
И ему было страшно.
К ночи все как-то притаились и чего-то ждали.
Хора не было слышно над рекою.
Только псы заливались тревожно и грозно, и, казалось, они чуяли.
Перед сном все опять собрались на крыльце и опять долго и томительно прислушивались.
– Что-то сейчас в степи! – сказала Екатерина Сергеевна, и видно было, что так привыкла говорить она по ночам в те страшные дни.
Марья хлопотала. Запирала ворота, вытащила из подвала какую-то болванку и завалила дверь. У нее был вид ремесленника, долго бывшего безработным или занимавшегося не своим делом. И вдруг посулили ему «его» работу, и он радуется и сознает, что хорошо ее исполнит, и только боится, что не всерьез ему посулили…
Ночь началась спокойно. Только все тот же кошмар давил.
Уехать! Лишь бы уехать!
Внезапно был разбужен Степан Андреевич стуком в дверь.
Рассвета еще не видно было в щелях ставней.
– Кто там? – робко спросил он.
– Это я. – произнес голос Екатерины Сергеевны. – Степа, послушай. Как будто у нас в саду мужские голоса.
Степан Андреевич с тоскою накинул пальто и зажег свечку.
Тетушка вошла, и по-прежнему на лице ее не видно было страха.
Скорее опять какое-то странное торжество.
Прислушались.
– Я ничего не слышу, – сказал Степан Андреевич.
– Ну, должно быть, мне показалось… А все-таки выйдем. Задуй свечу. Нехорошо быть в свету.
Она храбро растворила дверь.
Было тихо. Ущербный месяц всходил над тополями.
Должно быть, его встречая, провыла собака.
И вдруг опять резкий вопль прорезал уши. Залаяли псы.
– Лукерья визжит, – сказала Екатерина Сергеевна, – как часто стали с ней припадки делаться.
– Ее бы хоть в больницу отвезли, – проговорил Степан Андреевич с раздражением, – ведь это всем должно на нервы действовать.
– Никому не охота с этой идиоткой возиться.
Степан Андреевич вздрогнул, ибо не заметил, как подошла Вера.
– Ну, идемте спать, – добавила она, – напрасно вы, мама, Степу подняли. Так сразу никогда не начинается.
– А помнишь Лещинский? Постреляли вот так же, а на другой день и пошло. Тогда, помню, шла я утром к Змогинским. Гляжу, что-то черное на дороге, не разберешь что. Только я подошла… Господи!.. Вороны так тучей и поднялись… и каркают… а на дороге труп лежит, и кто-то его обобрал… Ну, покойной ночи…
Степан Андреевич опять не спал. Мысли! Откуда их вообще принесло – мысли!
Утром он вышел с головною болью и вновь увидал на дворе маленькое общество. И все качали головами.
– Случилось что-нибудь? – спросил он робко.
– Вообрази, Степа, – отвечала тетушка, – Лукерья ночью в захарченской клуне удавилась. Это она, стало быть, перед этим так визжала. Вера пошла смотреть.
В это время из сада тяжело вышла Марья, должно быть, тоже ходившая смотреть. Она шла, охая, и лицо ее изображало отвращение. Рукой отмерила она что-то у себя под подбородком. И все поняли: так был высунут язык у повесившейся.
– А больше никаких событий не было, – сказала тетушка, – должно быть, и вправду были жулики.
– Вот видите, стало быть, мне можно ехать.
– Конечно, можно! – воскликнул Зверчук и прибавил неожиданно: – Поезда еще ходят!
В это время вернулась Вера.
– Ну, Степа, – сказала она спокойно, – больше Лукерья не будет вам нервов тревожить. Вообразите, мама, повесилась на той самой балке, где и сам Захарченко. Ну, ее не жалко. Идемте кофе пить.
XIV. Своя тарелка
Несмотря на ранний час отъезда (поезд, как выяснилось, отходил в пятницу в семь утра), провожать Степана Андреевича встали и тетушка и Вера. Быковский укладывал в фаэтон вещи. Тут же стояло и семейство Дьячко, так как Ромашко должен был сопровождать Степана Андреевича на станцию.
Поэтому тетушка, целуя Степана Андреевича, сквозь слезы шепнула ему: «Наблюдай за Ромашкой».
Вера простилась спокойно, но дружелюбно.
Фаэтон покатил.
В степи было свежо и ясно. Далеко где-то стучала паровая молотилка. Мягко катился фаэтон по накатанной черной дороге. Проезжая мимо какого-то хутора, Быковский задержал лошадей и указал кнутовищем на красивую, ровную, как шар, дикую грушу.
– На этой груше, – сказал он, – батько Махно четырех комиссаров повесил.
Ничего кругом не было страшного. Но вот на дороге показалась неподвижная группа: два милиционера возле распластанного в пыли трупа.
– Чі? – спросил Быковский, задерживая лошадей.
Но милиционеры сердито крикнули:
– Тікай!
И только вслед послали с гордостью:
– Главного бандита убили. Воробей.
– Какой Воробей? – со страхом спросил Степан Андреевич у Быковского. Но тот почему-то ничего не ответил.
Станция была маленькая, степная. На белом доме черными буквами написано было: «Баклажаны».
Оживленно толковали пассажиры.
Степан Андреевич спросил дежурного по станции:
– Кого это убили?
– А вот Воробья – бандита. Он тут в Баклажанах мельника ограбил и ранил даже. Ну, у того денег много, он всю кременчугскую милицию поднял.
– А этот Воробей не Купалов?
Дежурный усмехнулся.
– Купалов в Екатеринославе служит в спілке приемщиком.
– Да что вы? Почему же мне никто об этом не говорил? Про него много рассказывали, а о том, что он служит… Где вы сказали?
– Спілка. Ну, кооператив. Да они все не верят. Им обидно, как это герой эдакий и вдруг – приемщиком… Ну, да будет время – покажет он свои приемы.
– А вы думаете, будет такое время?
– А як же!
Вдали рокотал поезд. Грозно шипя, надвинулся паровоз и подтянулись пульмана, скрипя тормозами. И надписи: «Ростов – Москва», «Екатеринослав – Москва».
Москва! О, радость!
С юга ехало в Москву много всякого народу.
Степан Андреевич прислушивался к разговорам.
– Я продал им «Красноармейца Огурцова» еще в двадцать третьем году весною. А потом нарочно не напоминал. Год прошел, а они только печатать собрались. Извините, договор истек. И вторично весь гонорар получил.
– Я лучше сделал… шу, шу, ту… Шепота нельзя было расслышать.
– Ха, ха, ха. Ха, ха, ха. Вот небось рожу скорчили!
– А вы сейчас что пишете?
– Так, повесть одну. Из жизни углекопов.
– Под аванс?
– Ну, понятное дело.
* * *
– Гражданочка, коленки не застудите.
– Петька, по носу…
– Такое дивное существо – и вдруг такие угрозы…
– Ой, скорей, скорей!
– Что?
– Почешите лопатку… выше, левее…
* * *
– Уверяю вас, что, если бы не было Станиславского, не было бы и Мейерхольда. Я вам могу по пальцам перечислить всю эволюцию от «Чайки» к «Земле дыбом».
– Я не спорю… Я вообще не люблю режиссеров… Но интересно, сколько Станиславский получает…
* * *
Степан Андреевич лежал на верхнем месте, слушал, отдыхал душою и думал о том, какой странный сон ему приснился: Баклажаны.
Эпилог
Была поздняя осень.
Степан Андреевич получил из Госиздата повестку: «Явиться для получения денег».
Когда он выходил из дому, швейцар подал ему письмо со штемпелем: «Баклажаны». Он сунул письмо в карман и бодро побежал по гудящим и звенящим улицам.
В Госиздате, став у кассы в очередь, он прочел письмо.
«Ну, как ты живешь, Степа, – писала тетушка, – а мы тебя тут все вспоминаем. Слава богу, кое-как перебиваемся, хотя работы у Веры сейчас меньше. Заказчицам трудно добраться к нам по грязи. У нас тут были разные случаи. Помнишь еврея Львовича? Еще ты носил его дочери платье. Оказывается, он летом продал одному мануфактуристу Келлербаху все свои добрые дела. То есть, значит, если он совершил доброе дело, то зачтется оно не ему, а Келлербаху. Продал за большие деньги, чуть ли не за сто рублей. Это открылось, а вышел ужасный скандал. А дочь его Зоя от стыда исчезла. Вообрази, каково ей было в самом деле! Жаль ее, хоть она и жидовка. Напиши, как ты».
На миг ощутил Степан Андреевич в голове знакомую баклажанскую неразбериху, но как раз подошла его очередь, и он принял от кассира тридцать белых бумажек – новеньких, с хрустом. То был миг счастья.
* * *
И что же? Подобно Гоголю воскликнуть: скучно жить на этом свете, господа?
Отнюдь. Ибо наряду с Баклажанами существуют: Волховстрой, Нью-Йорк, Донбасс, Кантон.
Баклажаны – крупинка.
Кошелев – одна миллионная человечества.
Сложно жить на этом свете, граждане!
Трагикомические рассказы
Судьбе загадка
Нет такого мгновенья в жизни, когда человек имел бы право покончить с собой.
НаполеонI. Внезапный спутник
«Пятнадцать лет тому назад, товарищи, в этот самый день царские палачи и акулы мирового капитала расстреляли русский пролетариат. Теперь сами, однако, рабочие и крестьяне взяли в свои руки кормило…»
Далее не слышно стало по причине вьюги. Красные флаги наклонились все разом и опять распрямились, рябые от снежной ряби.
– Кормило взяли! Это что же такое?
– Кормить тебя будут, дяденька, шоколадными конфетами!
И пошли все, и какая-то худая дама в пенсне, как посуда, задребезжала: «Вы жертвою пали» – а за нею и все затянули, отплевываясь от вьюги.
– Эх ты, мурло! Люди жертвою пали, а он марсельезу!
– Да марсельеза громче!
– Ну, ори, черт с тобой!
* * *
– Вот я и говорю – сказал гражданин Артенев, наклоняясь к самому уху собеседника, – вы философ, вы меня поймете.
– Пожалуйста, не называйте меня философом, – возразил владелец уха, – в науке этой я вполне разочаровался. Я бы очень хотел, чтобы Гегель встал из гроба да повисел на трамвайной подножке или чтобы Фихте в очереди постоял за мануфактурой.
– Вот я и говорю, – продолжал гражданин Артенев, оглянувшись робко на красные флаги, ибо уж так был воспитан, – ну, зачем я живу?
– Я это всегда говорил, – пробормотал бывший философ, – то есть не про вас, разумеется, а про себя.
Синие сумерки поползли из подворотни, они покружились недолго под ногами и поползли кверху.
– Ну, зачем я живу? Я получил, – это не хвастовство с моей стороны, уверяю вас, – блестящее образование. Я люблю книги, уединение. Бывало, я проводил целые дни, лежа на диване в шелковом халате, читая песни провансальских трубадуров. У меня была бумага, шелковистая и гладкая, как выхоленная кожа. Я писал на ней золотыми чернилами изысканные сонеты.
Он умолк и поморщился. Очень уж громко вопил кто-то, стоя на грузовике, выплывшем из сумерек:
Граждане, кричать перестаньте! Слушайте мое воззвание к Антанте! Мистер Ллойд-Джордж, что за скверная манера У вас воевать против Ресефесера. Все равно и в Европе и в Азии Каюк пришел буржуазия! Господин Клемансо, поворачивай дышло, Из Деникина с Колчаком ни черта не вышло. Наши красноармейцы храбрая публика. Да здравствует Советская Социалистическая Республика!И с грохотом поэт на грузовике провалился во мраке.
– Да, – продолжал гражданин Артенев, взяв за локоть своего спутника, – я писал изысканные сонеты. Когда мне становилось скучно в Москве, я садился в коричневый вагон с золотыми львами – помните «Compagnie Internationale»?[20]- и через два дня меня овевал морской ветерок и вдали в темную воду вонзались огни Венеции… Вы скажете, что я должен был быть дьявольски счастлив. В том-то и дело, что нет. Когда я просыпался утром, у меня почти всегда на груди лежал какой-то гнет, какая-то тоскливая расслабленность мешала мне оторваться от подушек! Я путешествовал только потому, что это было так легко… Я выбирал те страны, где, я знал, были комиссионеры с галунами на фуражках, которые за небольшую плату давали напрокат свои ноги и руки. Главная радость жизни – любовь – не была для меня доступна, ибо родители той девушки, которую я любил… впрочем, вы, вероятно, помните эту историю! Девушки, которую я любил, которую и теперь люблю, нет в Москве, ибо ее родители еще при Керенском… впрочем, повторяю, вы, вероятно, помните эту историю. Я ей написал недавно письмо с одной подвернувшейся тайной оказией, но ответа не получил… Самому ехать куда-нибудь у меня, разумеется, нет так называемой энергии… Я совершенно не знаю, зачем я брожу по улицам, ношу тяжести и вообще что-то делаю. У этих людей, которые сейчас ходили с флагами, на лицах какая-то гнусная жизнерадостность. Как я завидую этим людям и как я хочу умереть!
– Справедливо изволите рассуждать, совершенно справедливо. Под размышлениями вашими обеими руками подписываюсь и душевно радуюсь, что обрел единомышленника.
Голос, прозвучавший во мраке, был незнаком. Человек, у которого была козлиная борода, шел рядом с Артеневым, и это его придерживал он за локоть. Бывший философ исчез, очевидно, оттертый толпой.
– Простите, – пробормотал в страхе гражданин Артенев, – я думал, что говорю с одним знакомым.
– Это я извиняюсь, – возразил человек, у которого была козлиная борода; – т. е. извините. За извиняюсь у нас в гимназии ставили единицу. Всякая ошибка возможна в толпе, ибо в ней, по словам поэта, уничтожается личность… Errare humanum est![21] А кроме того, мнение ваше для меня как бы сладчайшая музыка.
– Я очень тороплюсь, – сказал гр. Артенев робко, но вежливо, ибо уже так был воспитан.
– А я с некоторых пор никуда не тороплюсь. Раньше я тоже торопился, потому что приятно было, знаете, после метели домой прийти! Тепло… жена, знаете ли, дети… А теперь не тороплюсь. Жена моя поездом была перерезана ровнехонько пополам: мешочники столкнули. Один сын у белых погиб, другой у красных. Из-за одного меня в Вечека посадили, из-за другого выпустили. Каково семейное равновесие? Так что, видите, никаких причин особенно дорожить земным бытием у меня не имеется. И если бы вы…
Тут с внезапным ужасом задергалась козлобородая голова, словно какая-то мысль больно забилась в мозгу.
– Впрочем, в самом деле, не дерзко ли вас так при торопливости вашей задерживать… Я-то возле своего чертога стою, а вам еще по такой погоде идти, когда можно сказать: и человек, и зверь, и птица… Помните у Гоголя – средства изобразительности?
Он не то поклонился, не то опять дернул головой и скрылся за калиткой маленького деревянного домика, одного из тех, в которых, по словам старушек, и доныне в полночь собираются призраки надворных и титулярных советников и, расстегнув вицмундиры, играют в стуколку.
Гражданин Артенев быстро пошел домой, чувствуя некий (ибо уже так был воспитан) мистический страх и часто оглядываясь. Но каждый раз, когда он оборачивался, метель швыряла ему в лицо горсть холодных иголок, а ветер начинал выть еще в десять раз сильнее и яростнее.
II. Счастливые англичане
Комната, как сказано было в одной грамоте, «населяемая» гражданином Артеневым, напоминала кулису или бутафорскую маленького провинциального театра. Рядом с великолепным, верно помнившим светлейшего Кутузова креслом, – дырявые валенки, на столе красного дерева хрустальный кубок с золотым «Е», и на том же столе пшеном наполненная кастрюля. Неудивительно было бы здесь, как и в бутафорской, встретить короля рядом с чертом или бродягою. Гражданин Артенев после недавней встречи ощущал некоторое беспокойство и неловкость, которую испытывает певец после неудачного выступления или писатель, изруганный в газетах. Кому выболтал он сокровенные свои помыслы? Дабы разогнать никчемную тоску, погрузился он в чтение романа, написанного на языке всемирного бандита Ллойд Джорджа:
«Артур Грехем в своем кабриолете уже подкатил к дому № 160а на Бекер стрите, кинул вожжи груму и через секунду уже пожимал руку юной Мэбель, долженствовавшей скоро стать его любимой, любящей и законной женой»…
Гражданин Артенев опустил книгу на колени. Забытый мир ковров, лиловых абажуров, хрустальных ваз с фруктами и недозволенных ласковых слов возник перед ним. Явился величественный царедворец с седыми усами и без всякой шеи: «Мое почтение, – говорил он так, что как раз никакого почтения-то и не получалось, – много стихов барышням в альбом сочинили? В мое время и стихи сочиняли, и царю служили, и ни морфием, ни кокаином себя не подхлестывали», – и уезжал играть в винт к губернатору.
Гражданин Артенев снова открыл книжку.
«Мать Мэбель, мистрис Соути, встретила Артура радостно: „Мэбель чуть не осталась без глаз, – сказала она, – так пристально смотрела она на улицу“. И с этими словами старушка ушла под каким-то предлогом. Ей хотелось оставить молодых людей одних».
Гражданин Артенев вспомнил строгую и всегда слегка обиженную старушку, игравшую в хальму со всяким молодым человеком, который, по ее мнению, мог соблазнить зеленоглазую Лели. А если отлучалась она на секунду из комнаты, то кривобокая madame Chevalier входила и говорила: «Voyons, Lely, fais de la musique, mon enfant!»[22] И наконец самый ужас – маленькая записка: «Забудьте обо мне, мама и папа никогда не согласятся». Гражданин Артенев отшвырнул книжку. Знакомая тоска, возникнув где-то под сердцем, усталостью разлилась по всему телу. Да еще у соседей начиналась обычная сцена:
– Я прихожу домой усталый, а мне даже кашу не сварили. Так подыхайте вы все с голоду! Завтра же со службы уйду, черт вас побери!
– И подохнем лучше, чем с тобой жить.
– А, нехорош стал? Так не желаю больше от вас никаких одолжений.
И пошли хлопать все двери.
Гражданин Артенев знал, что если остаться сидеть в этой комнате, то, не зная удержа, подберется тоска к самому горлу и зажмет мертвой хваткой. Поэтому прибег он к способу, давно испытанному. Он вышел из комнаты, спустился по темной многоэтажной лестнице и отправился бродить по улицам, засыпанным промчавшейся метелью. Он решил навестить потерянного в толпе философа. При этом он вспомнил, что путь к нему лежал мимо деревянного домика с козлобородым обитателем, и чуть не повернул обратно, а потом все-таки пошел прямо. Луна раскидала лохмотья облаков. Гражданин Артенев вздрогнул. Из форточки оконца высовывалась бледная голова с козлиной бородой.
– Слышите? – прошептала она. – Мертвые-то не очень рады, что их без гробов хоронят.
Над отдыхающей после бури Москвой носились печальные далекие стоны.
– Это свистят паровозы, – сказал гражданин Артенев.
– Да, да, паровозы, – пробормотал тот, – мне-то уж поверьте, я-то своего сына по голосу узнаю. Впрочем, это не предмет для светского разговора, да и обстановка мало напоминает салон. Не угодно ли зайти выпить чашку шоколаду с бисквитом? Правда, шоколад изготовлен из ячменя, а бисквит странно похож на холодную картошку, но ведь в жизни все иллюзорно и символично.
Он тихо прибавил:
– Если не изволили за это время изменить своих взглядов на прекрасный дар богов, то смею утверждать: небезынтересно и небесплодно будет наше собеседование.
Так как гражданину Артеневу было все равно куда идти, то, несмотря на страх, внушаемый ему трупоподобным лицом, он согласился и даже вежливо коснулся шапки, ибо уж так был воспитан.
III. Перстень Екатерины Медичи
– Мой камердинер ленив, – сказал козлобородый человек, – дворецкий тоже не отличается прилежанием. Не рекомендую дотрагиваться до книг, если не любите пыли… Вы простите, что я все головой дергаю – явление чисто нервное.
На столе стояла никогда, по-видимому, не мывшаяся посуда, облепленная наслоениями, роясь в которых можно было, как при раскопках Трои, открыть несколько периодов культуры. Неубранная постель с измятой серой простыней была холодна и отвратительна. Книги, пыльные и изуродованные, лежали, сваленные в груду.
– С тех пор как душа запрещена законом, я книги больше для тела употребляю: питаюсь и отапливаюсь. Дров-то ведь нет! Кроме, разумеется, классиков. Под классиками разумею тех, которых давали в приложение к «Ниве». У новейших авторов бумага толстая и вполне заменяет лучину. Встречаются такие перлы:
Почитал я Гоголя, Вышел прогуляться… Людям нужно много ли? Вырвало от счастья.– Неплохо? Впрочем, я позвал вас шоколад пить, а не навозну кучу разбирать.
Он дрожащей рукой взял кофейник и поставил его на печурку. Потом вдруг наклонился совсем близко к гражданину Артеневу и молвил тихо:
– У меня к вам разговор есть на тему о смерти.
Гражданин Артенев вздрогнул.
– Это очень интересно, – пробормотал он вежливо, а сам подумал: «Сумасшедший».
– Интересно? – обрадовался тот. – Еще бы. Ведь умереть-то до смерти хочется. Да… забыл вам представиться: Иванов, Иван Иванович… Имя самое обыкновенное, отчество тоже и фамилия… А все вместе получается необыкновенно. А знаете, кто я по социальному положению? Самоубийца. Да, да. Я так и в анкете анонимной написал: ваше любимое занятие – кончать жизнь самоубийством. Я и с веревкой на шее всю ночь на ночном столике простоял, а толкнуть не посмел, я и на рельсах два часа пролежал, а перед самым паровозом отполз. Ничего не получается.
Смерти боюсь смертельно. Я вообще-то в комнате один не люблю. Я после гибели жены нищих к себе ночевать приводил. Друзья все при различных обстоятельствах погибли, да и были ли у меня друзья, вопрос, требующий ближайшего рассмотрения. Не могу один и смерти боюсь именно в одиночестве. Одному в темноте на крюке висеть! Как вы скажете?
– Конечно, неприятно, – вежливо отвечал гражданин Артенев.
– Так вот-с… мысли, высказанные вами случайно в толпе… Одним словом, полагаю, что меня поймете и отговорок напрасных приводить не будете. Вот-с…
Он выдвинул из столика ящик, вынул оттуда большой темный перстень с причудливым гербом, который от нажатия пружинки откинулся, обнаружив маленькое золотое углубление и в нем темное зернышко, гладкое и блестящее. Иван Иванович Иванов из того же ящика вынул от времени пожелтевшую, мелкоисписанную бумагу и протянул гражданину Артеневу.
– Полюбопытствуйте, – сказал он.
«Сие черное семя, добываемое эфиопусами в их отечестве, быв растворено в каждом свене молока питье, оному ни цвета, ни вкуса мерзостного не причиняя, в кровь невидимо некий яд вводит, оный же к сердцу нечуемо подползая сильнее аспида язвит. А живут послед испития то один час, то два с дородностью телосложения в соответствии, а привезено семя во французское королевство для славной Катерины Медичис, коя многих вельмож знатных оным, коварства своего ради, извела».
– Один американец, – сказал Иванов от волнения хриплым голосом, – такой опыт сделал. Он два револьвера одинаковых взял, один зарядил, другой нет, потом перемешал да из одного в висок и выстрелил… И жив остался… Каково испытание для судьбы? Револьвер для гражданина Эрэсэфэсэр вещь недоступная… Вот я и хочу… два стакана взять, в один положить зернышко да на удачу и выпить… Я давно хотел, но один не могу… Другое дело при сочувствии зрителя… А может быть, вы бы сами другой-то стаканчик… Я вас еще сегодня после встречи к себе затащить хотел… Но испугался… Так как же?..
Гражданин Артенев молчал. Ему почудилось, что в углу явился вдруг некий в шитом серебром плаще красавец и мигнул ему, пригубив золотой кубок, и тотчас стал скелетом и рассыпался неслышно. Иван Иванович Иванов долго и со страхом смотрел ему в глаза, потом вдруг словно угадал тайные помыслы, засуетился.
– Вот стаканы, – сказал он торопливо. – Есть кипяченая вода… Сырой опасаюсь по причине желудка. Ведь, может быть, придется еще живым остаться… Так неудобно новую-то жизнь начинать с гастрического заболевания.
Он вышел из комнаты, вернулся с кувшином, наполнил водою два стакана и в один из них бросил зернышко. Бросив, закрыл глаза и переставил стаканы несколько раз. И когда он переставлял, гражданин Артенев тоже закрыл глаза, хоть и страшно ему было.
– Иван Иванович, – послышался печальный голос, – это вы мою водичку взяли?
Печальное лицо с очками на кончике носа просунулось в дверь.
– Так, голубчик, нельзя-с… У моей жены мигрень, и она эту воду, как манну, бережет, а вы пьете… Да еще гостей угощаете…
Печальный человек взял кувшин и ушел, укоризненно поглядев на гражданина Артенева.
– Домашние трения, – усмехнулся Иванов, – не дурно для финала жизни.
Он начал ходить из угла в угол, будто разговаривая сам с собой, потом взял со стола какие-то фотографии, бросил в огонь и с любопытством смотрел, как вспыхнуло с новой силой подкормленное пламя.
– Жена и два сына, – пробормотал он.
И тут, схватив один из стаканов, выпил его залпом. Гр. Артенев видел перед собой только другой оставшийся на столе стакан. Он почувствовал у себя в руке холодное, гладкое стекло и, ни о чем не думая, спокойно, как некогда пил шампанское, выпил воду. И тотчас ему показалось, что стены комнаты сдавили ему грудь, и от козлобородого призрака пахнуло тленом. Задыхаясь, кинулся он к двери, с бешенством вырвал рукав свой из цепких пальцев и через секунду бежал по пустой улице. А сзади него из форточки несся крик:
– Куда же вы? Куда же вы?
IV. Одно из завоеваний революции
Гражданин Артенев бежал, и ему чудилось, что кто-то преследует его по пятам, и не хватает только, чтоб поиздеваться и помучить. Но это была только черная его тень, мчавшаяся следом за ним по серебролунным стенам домов, успевавшая еще по дороге нырнуть во все дворы, во все впадины и подвалы недостроенных зданий и катившаяся по снегу, когда владелец ее перебегал улицу или переулок. Добежав до своего дома, гражданин Артенев вдруг остановился, а за ним на каких-то развалинах развалилась его тень.
Морозная звездная ночь была мудра и величественна. Куда он бежал? Он оглядел огромный дом, в котором жил, и вздрогнул. Его окно, одно во всем доме, было озарено живым, изнутри блещущим светом. Что это? Обыск? Или сама смерть пришла и ждет его, свернувшись на кутузовском кресле?
Он начал подниматься по темной лестнице, будя недовольное разбуженное эхо. Здесь где-то жил врач. Не к нему ли сначала постучаться? Но врач, верно, сердит после дневных смертей, и ему не втолкуешь про Екатерину Медичи. Гражданин Артенев поскрежетал английским ключом, прошел по темному, заставленному шкафами коридору и распахнул дверь своей комнаты. Комната была ярко освещена. Вместо обычного холода на него пахнуло теплом и запахом кипящего кофе. На кутузовском кресле в самом деле сидела, свернувшись, какая-то неведомая гостья, закутавшаяся в платок… Но вместо острой косы, подобающей смерти, с ней рядом лежал чемодан. Когда дверь внезапно отворилась, сидевшая в кресле, видимо, перед этим дремавшая, вскочила с некоторым испугом.
– Вы простите, что я приехала прямо к вам, – сказала она, – и что я распоряжаюсь у вас… Но я получила ваше письмо и думала…
Гражданин Артенев в ужасе оглянулся на дверь. Он подумал, что сейчас войдет кривобокая madame Chevalier и скажет: «Voyons, Lely, fa is de la musique, mon enfant!»
Но никто не вошел.
– А ваши родители? – спросил гражданин Артенев, хотя сам устыдился, ибо уверен был, что беседует с призраком.
– Они уехали за границу.
– А вы?
– Я приехала в Москву.
– К кому?
– К вам, – ответила девушка и, сказав, немного смутилась.
– Ко мне? – переспросил он, все еще не веря.
– Ну да, ведь вы писали, что любите меня. Или вы солгали?
– Но как вы могли?
– Что?
– Ваши родители?
– Господи! Дались вам мои родители. Вы еще спросите, не приехала ли со мною madame Chevalier! Вы все еще думаете, что я робкая девушка в белом, которая «так сидит» за фортепьяно и разучивает шопеновский вальс. Или что вы думаете?
– Я думаю, что вы призрак.
– Хорош призрак, которому, чтоб добраться до Москвы, пришлось просидеть два месяца в товарном вагоне… Видите… Мне пришлось переодеться с ног до головы… Между прочим, я здесь сказала, что я ваша сестра.
– Вы восхищаете меня, – сказал тупо гражданин Артенев и поцеловал пальчики ее руки, ибо так был воспитан.
Она изумленно взглянула на него.
– Вы говорите, как на five o'clock'e, – сказала она. За эти два месяца я привыкла к другим выражениям… Madame Chevalier умерла бы от любого из них, но мои уши и глаза оказались очень выносливыми. Мне так хотелось вас видеть… Но, вы знаете, папа чуть не увез меня. Я с пароходной пристани удрала… Продала серьги и поехала…
– Но вас могли убить по дороге.
– Конечно, могли. Однако не убили. Я мимо самого батьки Махно проехала… В Ростове было так скучно. Меня злили французы… Они часто приходили к нам. «Et bien, mademoiselle, il faut se marier! Hein?»[23] А я решила уже, если выходить замуж, то за вас. Но скажите, вы рады, что я приехала?
Гражданин Артенев вдруг понял, что теперь он уже не будет сидеть в долгие зимние вечера перед тлеющей печуркой, придавленной к дивану привычной и ленивой тоской, что теперь смешны, а не страшны будут пшенные трапезы. И он радостно обнял свою возлюбленную. И тут почудилось ему, что в углу явился некий в шитом серебром плаще красавец и мигнул ему, пригубив золотой кубок, и тотчас стал скелетом и рассыпался неслышно. Его руки разжались, и трепеща всем телом, с ужасом оглядел он комнату.
– Что такое? – с беспокойством спросила Лели.
Но, испуганно глядя на нее, он молча отступал к двери, и через секунду снова над ним рокотало недовольное разбуженное эхо, а голос, полный тоски и недоумения, кричал во мраке: «Куда же вы? Куда же вы?»
V. Слепой фатум
Опять неслась через город вьюга и опять кидала она в лицо пригоршни холодных иголок. Но гражданин Артенев бежал, наступая прямо на свирепых белых змей, которые со свистом обвивали ему ноги, бежал, проваливаясь в сугробы, бежал так жутко, что какой-то запоздалый обыватель, оглянувшись на него, тоже побежал и юркнул в темные ворота. Добежав до дома, куда заманила его козлобородая смерть, припал он к окну. Но ничего не было видно за занавеской, хотя искорками просвечивал местами огонь, и будто чья-то тень двигалась… Гражданин Артенев стукнул в окно, занавеска приоткрылась, и все-таки ничего нельзя было разобрать сквозь замерзшие стекла. Гражданин Артенев кинулся во двор. Дверь приотворилась на цепочке.
– Кто? – спросил печальный голос.
– Гражданина Иванова… я хочу видеть…
– А, это вы-с… Пожалуйте. Может быть, вы разъясните это происшествие.
У двери роковой комнаты толпилось несколько испуганных мужчин в шубах, накинутых поверх рубашек. Откуда-то доносились истерические вопли женщины.
– Что это? – спросил гражданин Артенев, и, как бомба, взорвалась в нем дикая радость.
– Полюбуйтесь, – сказал печальный человек.
Иван Иванович Иванов лежал на столе верхней частью туловища, расставив ноги, словно рассматривал он какую-то красную материю, лежавшую на столе.
– И никто за милицией не идет, – сказал печальный человек, – по причине уличных грабежей. Все равно, конечно, помер… Но уж очень крови много течет.
– Крови? – спросил гражданин Артенев, сжимая грудь, чтоб не взорвался в ней теперь ужас.
– Ну да… Поднял крик на весь дом… С час назад это было, как вас проводил… Мы сбежались, думали – воры, а он бритвой трах себя по горлу. И вот результат… Бессонная ночь… А завтра всем на службу к десяти часам, а иным и к девяти. Жена вон моя в истерике… А весь день от мигрени страдала… Конечно, страшно… Может быть, участь всех нас… Сходили бы хоть вы за милицией.
Гражданин Артенев вышел на улицу. Ему почудилось, что снег уже не кружится вокруг него, а проникает во все поры его тела, и что сотни холодных как лед аспидов ползут по его жилам и вот-вот вопьются в сердце. Он понимал, что стоит на коленях в снегу, но зачем стоит, не понимал. «Только бы, – думал он про аспидов, – не кинулись, не растерзали сердце». И тут возникла вдруг среди ночи маленькая, ярко освещенная комната, и он кинулся было к той, сидящей в кресле, но кто-то – не madame ли Chevalier? – захлопнул дверь, а земля, крутясь, вырвалась из-под ног и понеслась в звездные дали.
* * *
Снова кончилась вьюга, и морозная заря, как огромное красное знамя, поднялась над Москвой.
Ругаясь, что не избег на сей раз повинности, нахлестывал ломовой лошаденку, а на розвальнях, зевая с холоду, сидел милиционер, и лежали под дырявой рогожей два трупа. А позади бежали неизвестно откуда в ранний час взявшиеся мальчишки и пели:
Вечная память! Больше не встанет! И не попьет! И не пожрет!А солнце всходило все выше и выше, и, казалось, чудовище с огненной головой, пробудившееся от сна, шагает по миру и смотрит вдаль и не видит, что там, где ступали его лапы, корчатся в муках раздавленные букашки.
Женитьба Мечтателева
Глава 1
Отбрось убеждение, и ты спасен. Но кто может помешать тебе его отбросить?
Марк АврелийО, милые мои, дорогие потомки, о, грядущие литераторы и быта историки, о, книголюбы двадцать первого века!
Вижу, вижу, как сидите вы на холодном полу плесенью пахнущего архива, как роетесь вы в толстых – не в подъем тяжелых – словарях-энциклопедиях!
Слышу, слышу, как один книголюб с изумлением спрашивает другого:
– Как понять: «зловонным отплевываясь дымом, из-за поворота показался Максим»?
– Максим? – говорит другой, потирая лоб. – Гм! Это христианское имя! Некий Максим шел и курил скверный табак!
– Нет, – возражает первый, – дальше сказано: «он был набит людьми, ноги их в дырявых валенках торчали из окон».
– Вспомнил, – перебивает второй, – это был кафешантан. Мне недавно еще попалась песенка:
На это есть Максим, Давно знаком я с ним!– Почему же из кафешантана торчали ноги в дырявых валенках?
– А что же? У писателей той эпохи – впрочем, посмотрите в словаре!
И в каком-нибудь десятом томе, на пятисотой странице, найдет наконец любопытный разгадку:
«Максим – поезд эпохи великих гражданских войн. Назван в честь писателя Максима Горького». Босяк-поезд в честь босяка-писателя!
Но что будет для вас этот третий по значению Максим, для вас, перелетающих с места на место быстрее воображения с помощью какой-нибудь машинки, умещающейся наподобие портсигара в жилетном кармане!
Да, трудно будет вам понять, как десять, двадцать часов, кашляя и громыхая ржавыми цепями, завязая в снегу, полз этот Максим, поистине горький, и как в январскую вьюжную ночь на полустанке ждали его люди, трепеща до боли в сердце, и как завыли они все разом, когда в снежной пучине, среди мириад снежинок, завертелись вдруг мириады алых искр.
По выпученным глазам людей видно было, что эта минута и есть в их жизни самая главная, и если когда-то раньше припадали они к материнской груди, воровали, зубрили, мечтали, то все это они делали лишь ради того, чтобы в эту снежную ночь осаждать стонущий от непосильной тяжести поезд и в восторженном озлоблении царапать, щипать друг друга, пихать локтями, ругаться во все горло вдохновенно и бессмысленно. С отчаянием кричал кто-то:
– Продвиньтесь, гражданин, дайте прицепиться! Будьте настолько сознательны!
Гроздь человеческих тел повисла было, но от сильного толчка вдруг рассыпалась, вагоны поползли с нежданною быстротою, и только один счастливец остался-таки во мраке площадки, сел на свой мешок, буграстый от картошки, и погладил ушибленную ногу. При этом он обнаружил, что он упирается ею в чье-то бородатое и неподвижное лицо.
– Pardon, – сказал он и отдернул ногу.
Кто-то рассмеялся над ним во мраке.
– Monsieur est trop aimable![24] Или вы думаете, что под влиянием борьбы с безграмотностью мужички научились недурно калякать по-французски, «Eh bien, Климыч, etez-vous heureux аvес votre Агафья?»[25] Думаю, что заблуждаетесь! Видите, он и не пошевелился. А скажите вы ему – моя соседка разрешит мне так выразиться – ты чего разлегся, сукин сын? – услышит и подвинется.
Но лежащий, видимо, крепко спал, ибо и тут не пошевелился. Гражданин Мечтателев, разумеется, ничего не мог увидать в темноте, но упоминание о соседке приятно взволновало его в этом ползущем среди первобытного хаоса поезде.
– Лучший способ узнать человека, – продолжал голос, – это наблюдать его при посадке в поезд или в трамвай. Иной добродушнейший и компанейский малый над случайно раздавленным червем плачет и рассуждает о микрокосме, а когда садится в поезд – звереет, лица человеческого на нем нет, и дайте вы ему в этот миг нож, воткнет он его вам в спину и еще будет поворачивать его там наподобие штопора… Что на это скажет наша очаровательная соседка?
Гражданин Мечтателев с интересом ждал ответа, но его не последовало, словно и не было никого во мраке.
– Впрочем, в самом деле, ведь ночь, – пробормотал голос с некоторою как будто досадою, – а по ночам принято спать… Так, по крайней мере, гласит кодекс пансионов для благородных девиц! Вы в Москву изволите ехать?
– Да, в Москву!
– И я! Тянет! Все мы кричим вроде Чацкого: вон из Москвы, карету мне, карету… А как подадут карету… впрочем, я и вам мешаю спать своею болтовнею…
Он умолк. Гражданин Мечтателев ясно представил себе одинокую путешественницу, уставшую и томную, ему вдруг почудилось, что он сидит в экспрессе, медленно ползущем к сенготардскому перевалу, и что завтра утром, открыв глаза, он увидит внизу голубую страну – madonna mia! – кусок неба, упавший на землю, а рядом зевнет после сна и улыбнется ему одинокая путешественница…
Под равномерное постукивание вагона сквозь окоченевшие мозги поплыли сонные, бессвязные, сотни раз продуманные мысли – воспоминания, воспоминания, воспоминания – и уж ничего нельзя было понять, сон ли это был или действительность.
* * *
Когда говорилось «жизнь», то представлялось: море, огромное лазурное море – океан, при тропическом солнце блещущий, гладкая, как паркет, палуба, музыка, белые на фоне синего простора девушки… Целоваться хочешь – выбирай любую! А там вдали, словно облако, неведомая страна, у деревьев листья, как слоновые уши, цветы с лепестками, каждым из которых можно прикрыть отдыхающую в полдень возлюбленную… Когда заходит солнце, сразу вспыхивают все звезды, словно миллионы ракет вдруг рассыпаются по небу. Яркая, как солнце, луна выглядывает из-за леса. Голый раб бьет в серебряный гонг. «Господин! Великий Тотемака да простит мне мою дерзость, но время объятий наступило!» И возлюбленный лениво встает и скидывает лепесток с тела возлюбленной. А три рабыни садятся поодаль и поют заунывно:
Вы. безглазые духи ночи, облетайте эту поляну, здесь обнимаются влюбленные… Ветер, лучше лети в морс! Там ты нужен далеким кораблям, а здесь ты треплешь кудри той, чей возлюбленный ревнив, как пума. Луна, уходи в темные ущелья! Там ты нужна одиноким путникам, а здесь твои лучи смущают ту, которая…– Петр Алексеевич, – говорил старческий голос, – кушать пожалуйте! Тетушка из себя изволили выйти! Рвут и мечут!
Петр Алексеевич Мечтателев вздрагивал, поднимал съехавшую с колен книгу, взглядывал в зеркало на свои горящие глаза и шел в столовую, где рвала и метала сухонькая, уютная старушка (на рояле училась играть у Дюбюка).
– Петя, – говорила она, – суп в третий раз подают… И как тебе самому не обидно! В другой раз я, право, рассержусь – будешь все холодное кушать!
И тут же, глядя на его блуждающие глаза, думала: «Так вот, вероятно, и Шиллер, когда сочинял „Орлеанскую деву“. Похудеет он от этого писательства! Уж лучше бы таланта не имел, да был потолще!»
В гостиных, когда зажигались во всех углах кружевные абажуры и озаряли фотографии камергеров, говорил глубокомысленный ценитель прекрасного, держа в одной руке чашку, в другой печенье и перекладывая подбородок с одного острия воротничка на другой:
– Талантливый человек! Одарен всесторонне и несомненно принадлежит к числу мятущихся натур!
И девушки вторили по углам:
– Ах, какая мятущаяся натура!
А завистливые юнцы спрашивали саркастически: «Как можно метаться, сидя в кресле?»
Говорят, одна девица, придя навестить ту самую старушку-тетку и не застав ее дома – предлог это был наиочевиднейший, – решила подождать и, зайдя, задыхаясь от ужаса, в пустой кабинет Петра Алексеевича, прочла в раскрытом на столе дневнике:
«17 февраля. Жизнь моя будет необыкновенна, ибо чую в себе великие силы. Лучше быть великим и несчастным, чем счастливым и невеликим (зачеркнуто), малым (зачеркнуто), ничтожным (подчеркнуто).
18 февраля. Посетил передвижную выставку. Слышал, как стоявший рядом со мной чиновник сказал жене, указывая на „Владимира Маковского“: „Хорошо этак с гитаркой посумерничать. На столе самоварчик! Тепло! Тихо этак… Красота!“ Он счастлив по-своему. Ему нетесно в мансарде, а мне тесно во вселенной!»
Тут, говорят, девица случайно взглянула в олимпийские глаза великого Гете, взвизгнула и опрометью побежала домой, так что лакей, догнав ее уже на улице, не без борьбы надел на нее шубу и шапочку.
И такие случаи, говорят, повторялись.
Княгиня Олелегова горевала, что ее сын материалист, и советовалась с той же тетушкой, как быть, но тетушка качала головою.
– Ведь мой Петя не пример, – говорила она, – у него кровь! Ведь моя бабушка – рожденная герцогиня Монпарнас, троюродная сестра Шатобриана.
И княгиня Олелегова ехала домой, расстроенная, и в своей роскошной передней натыкалась на трех взъерошенных, которые, принимая из рук презрительного швейцара дырявые пальто, спорили о каком-то капитале, словно наследство делили.
Любопытная девица была болтлива, и слухи о дневнике дошли, говорят, до самой madame Vie, которая в это время в платье, усыпанном блестками, исчезавшем совсем, когда она сидела, пила шампанское и наблюдала аргентинское танго. А докладывавший ей об этом остробородый черт во фраке с орхидеей прибавил, лизнув ее в напудренное плечо:
– Чемодан уложил! В кругосветное путешествие едет! Всем европейским «кукам» телеграммы посланы!
– А, так?! – И тут же на ресторанном меню резолюцию наложила.
Черт прочитал и такое от радости антраша выкинул, что туфля лакированная с ноги сорвалась, румыну-скрипачу смычок пополам!
Хохоту! Хохоту!
А на другой день! О-ге-ге! Экстренная телеграмма! Германия объявила…
И по всем улицам все гимны, гимны, гимны!
Что, уложил чемоданчик? То-то, голубчик!
* * *
Был такой день, когда Петр Алексеевич робко вошел в свой кабинет, покинув ванную комнату, в которой просидел он целую неделю. Из огромного окна видна была «златоглавая», а в стекле чернела дыра и вокруг нее паутина трещин, как на карте узловая станция. Издали казалось – не стекло, а сама Москва растрескалась. Кинулся к зеркалу: деревянная гладь и на полу осколки, а за стеной тетушка с горничной что-то разбирает.
– Барыня, дворник приходил – он теперь важный – самоварчик один не продадите ли?
– Нет, нет, самоварчик нельзя продавать! Он еще Пете пригодиться может!
И вот тут-то лопнул от хохоту остробородый черт, и запахло серой по всему миру.>
* * *
Что-то тускло синело в дверных окнах, Это был морозный рассвет, нудный и длительный. Гражданин Мечтателев, открыв глаза, сразу посмотрел в угол. Там на фоне синевы вырисовывалась женщина, вся спрятавшаяся в шубу, так что нельзя было определить, спит она или не спит, молода или стара, красива или безобразна. Но он был твердо уверен: не спит, молода и красива.
Мысль поразить ее и обрадовать тою культурою, которой не ждет она, верно, встретить на грязном «Максиме», приятно взволновала его. Бородач на полу по-прежнему спал, спал и говоривший вчера человек, съежившись на чемодане.
Это был небольшого роста худой человек с бледным, бритым лицом, на котором жутко, будто впадины черепа, синели огромные круглые очки. Что-то жеманное и наглое, было во всей его фигуре, а гражданину Мечтателеву вдруг вспомнилась глупая картинка, выставленная некогда у Дациаро: девушка, вся обнаженная, лежит со связанными руками на ковре, а над нею склоняется некий с гладким, как зеркало, пробором и с непонятной улыбкой на бритом лице. А сзади скелет держит светильник. Гражданин Мечтателев почувствовал вдруг холодную жуть и, не в силах переносить долее молчание, тихо, чтоб никого не разбудить, спросил:
– Вы, вероятно, направляетесь в Москву?
– Да, – ответила она к его радости тоже тихо, – а вы?
– О, конечно! Я москвич! Я просто сделал маленькую вылазку за так называемыми предметами первой необходимости, но
J'entrevois mon destin: ces recherches cruelles Ne me decouvriront que des horreurs nouvelles![26]– А вы тоже москвичка?
– Нет, я из Керчи.
Он слегка смутился. Керчь? Могла ли элегантная женщина родиться в Керчи?
– Но у меня, – продолжала та, – тетушка живет в Москве, на Плющихе (она назвала переулок), в доме номер 5. Не знаете?
Гражданину Мечтателеву показалось, что при этих словах пошевелил головою человек в синих очках, словно быстро взглянул на девушку. Но, должно быть, он просто поправил во сне усталую голову.
– Если что-нибудь понадобится вам в Москве, – сказал гражданин Мечтателев (после Керчи уже с меньшим волнением), – я живу (он назвал адрес).
– Как же я к вам приду, – возразила девушка, – мне будет довольно неудобно прийти к мужчине.
– Отчего же неудобно? У меня лестница сравнительно удобная.
– Я вовсе не про то… Мне к вам прийти будет неприлично.
– Это другое дело! Я не знаю керченских правил приличия!
Он сердито спрятал лицо в воротник. Кончился лес- сразу посветлело, и при свете дня он увидал большие голубые глаза, смотревшие на него с кротким недоумением. На ее голове был мягкий шерстяной платок, а огромный лисий воротник обрамлял розовое личико.
Внезапно заговорил человек в синих очках:
– А вы знаете, почему этот товарищ вчера на сукина сына не откликнулся? Мертвый! Это вы покойнику вчера «pardon» сказать изволили!
Гражданин Мечтателев испуганно отдернул ногу и слышал, как девушка сказала, перекрестившись:
– Царица небесная! Какая жалость!
Бородач лежал навзничь, и абсолютная неподвижность его – неподвижность вещи – выдавала тайну.
«Максим» подполз к полустанку. Человек в синих очках лениво встал с чемодана и приотворил тяжелую дверь.
– Тут человек умер, взять надо!
– В Москве пост, – отвечал сонный голос, – там и жалуйтесь!
– Да я не жалуюсь, я заявляю!
– Ну, там и заявляйте!
Но другой голос спросил:
– А он, покойник-то, в сапогах?
– В новешеньких!
Подошли два сторожа и, зевая, вытащили труп.
– Не шевелитесь, – крикнул человек в синих очках. – Какая гадость!
Он несколько раз с силою топнул ногой по тому месту, где лежал труп. Петр Алексеевич в ужасе зажмурил глаза. «Максим» снова тряхнул цепями, вдали в сером небе уже висел огромный золотой купол. Как по воде круги, расползлись блестящие рельсы. У Петра Алексеевича был странный миг, словно потерял он на минуту сознание, а когда огляделся кругом, то увидал уже вокзальную сутолоку.
Девушка аккуратно поднимала какие-то мешочки, очевидно, гостинцы тетушке, а человек в синих очках схватил свой чемодан, обклеенный квитанциями всего мира.
– Arividerci! – крикнул он и помахал рукою с фамильярной театральностью.
Какой-то лохмач загородил вдруг вселенную своим пятипудовым мешком, а за ним другой, а за ним третий. А когда, с волнением толкаясь и крича «виноват», пробился гражданин Мечтателев сквозь толпу, то никаких голубых глаз, разумеется, уже не было…
«И черт с ними», – подумал он.
Исчез и человек в синих очках.
Глава 2
Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust.
Faust[27]Каждый день проходил по судьбою составленному расписанию, и было оно – смешно и сравнивать – не в пример точнее железнодорожного. Только иногда почему-то шумело в ушах, и тогда казалось, что все еще сидишь на мешке в холодном вагоне, по спине тогда пробегал озноб, как от внезапно залетевших за воротник снежинок, и огромные синие очки расплывались тогда круглыми мраками. Но это продолжалось секунду. Иногда еще ночью казалось, что кто-то стоит в темноте и дышит над самым ухом; но и это на одну секунду. А в общем расписание не нарушалось. Было восемь часов вечера, и Петр Алексеевич знал, что сейчас войдет сосед Иван Данилович и скажет: «А Павелецкая-то дорога стала». А если не Павелецкая, то Курская. Он даже загадал: если Павелецкая стала – хорошо ему будет, если Курская – плохо.
Иван Данилович вошел. Сначала вошел, а потом постучал по двери.
– Извиняюсь, – сказал, – не постучал! Ну – да ведь вы не дама! Да и дама-то теперь при столь низкой температуре вряд ли будет голышом сидеть.
Вид он имел необычайно таинственный.
– Помните, – проговорил, он садясь в кресло, – я вам вчера про шайку бандитов рассказывал? Они еще бриллианты похитили (Иван Данилович огляделся), которые за границу отправить хотели? Ну, так вот: всю шайку нашли, кроме самых главарей, и все бриллианты тоже, кроме самого главного! Не то спрятали больно ловко, не то потеряли… Вся Москва теперь ищет! Ничего не слыхали?
– Не слыхал!
– Обыски, говорят, идут повальные! Зубы даже осматривают; у Анны Григорьевны знакомого дантиста мобилизовали… Не слыхали?
– Ничего не слыхал! Вероятно, вранье!
– Ну, как же так вранье! Вся Москва не соврет… А недурно этакий бриллиантище найти! Тогда можно, пожалуй, и колотым побаловаться! А?
– А не слыхали, какая дорога стала. Курская или Павелецкая?
– Вернее, что обе! Мне инженер один объяснил! Ну, еще, говорит, с горы паровоз без дров как-нибудь съедет! А в гору? Да-с! То-то и оно-то! Так если искать пойдете, на Ильинке не ищите! Там на три аршина под землею все обыскано… И на Арбате не ищите! На Арбате я ищу…
Я, собственно, за этим и зашел. Утаить бы мог, да не в моем характере! Ну, как ближнего не выручить? Найдете, ну, тогда с вас могарыч!
Оставшись один, Петр Алексеевич задумался.
«Ведь вот, – подумал, – наверное, есть такой счастливец, который найдет бриллиант!.. Уедет черт знает куда, будет в лунные ночи кататься по венецианской лагуне с какой-нибудь… А, черт!..»
Он от злости ударил кулаком по столу. Тут случайно взглянул он на бумагу – отрывок книги – в которую было завернуто выданное на службе мыло, и слово «алмаз» удивило его. Это были стихи неизвестного поэта. Средняя часть стихотворения была залита чернилами, но начало и конец можно было прочесть:
У меня в руке сверкают два алмаза драгоценных, Два алмаза драгоценных у меня блестят в руке! Я нашел их у потока возле вод шумливо-пенных, Я их поднял у потока на сверкающем песке! Я хочу теперь проверить, настоящие ли оба, Оба ль равно драгоценны, я теперь узнать хочу…и далее после пятна:
Я проверю, взявши камни, брошу их в костер горящий. Брошу их в огонь палящий, и огонь ответит мне! Но, увы, золою черной станет камень настоящий, Лишь поддельный так же ярко засверкает и в огне!Он подумал, что это было странное совпадение. Ему вдруг ясно почудилось (и это было впервые при свете), что сзади стоит кто-то, и не кто-то, а ясно – «он», в синих очках, – и вот-вот тронет за плечо, и тогда-то уж нельзя будет не сойти с ума от ужаса. Кровь застучала в висках, и, пересилив себя, он оглянулся: никого, конечно, не было позади. Однако оставаться в комнате стало страшно. И, задрожав вдруг мелкою дрожью, он надел шапку (шубу он дома не снимал) и пошел по лестнице, ведущей на улицу.
Так нарушилось расписание.
* * *
Шел крупный снег. Выйдя на улицу, он долго размышлял, куда идти и наконец пошел – куда глаза глядят, а поглядели они в сторону Плющихи. Стыдясь самого себя, он глядел себе под ноги, так просто глядел, а втайне думал: «Вот бы найти!» Он перешел пустой Смоленский, пошел по Плющихе и вдруг на углу какого-то переулка увидал женщину. Она была одета в шубу с волнующим изломом контуров, на голове у нее была шапочка, обшитая квадратиками, но лица ее нельзя было разглядеть, ибо высокий меховой воротник скрывал его. В руках женщина держала чемодан, облепленный снегом, как вся она. Она стояла задумчиво, будто прислушиваясь к чему-то. Когда гражданин Мечтателев прошел мимо нее, его овеял легкий аромат духов, и, сам не зная зачем, он свернул в переулок и, пройдя шагов десять, взволнованно оглянулся. Ничего нельзя было различить в снежной пелене. Красавица исчезла. Тогда он подумал, куда идет, и вдруг вспомнил: этот переулок был тот самый, названный голубоглазой дурочкой. Оглянувшись еще раз и никого не видя, он начал считать номера домов:
Первый.
Третий.
Седьмой.
Что за вздор? – Пошел назад.
Седьмой.
Третий.
Первый.
Между третьим и седьмым низенькие каменные арки с зияющими ямами, витая лестница, идущая в небо, груда кирпичей. Откуда-то вдруг возник один из недавно в Москве появившихся, вечно довольных людей в верблюжьей куртке, с великолепными рукавицами за поясом, в превосходных валенках и в белой с ушами до колен шапке.
– Не знаете, – спросил его Петр Алексеевич, – где тут дом номер пятый?
– А вот он… дом… только от него один номер остался!
– Тут старушка жила, не знаете, куда она делась?
Довольный миром человек свистнул.
– Эк, – сказал он, – не повезло старушке! Пока жива была – никто! Померла – то один, то другой! Намедни вот тоже барышня: где старушка? Узнала – так и покатилась. Я ей говорю: вы, гражданка, чем убиваться, лучше в милицию пойдите, вам там разъяснят, где ее могилка. Плачет: на что, говорит, мне могилка. Ну, говорю, ваших убеждений мы, конечно, не знаем, а только панихидку бы отслужили… Сами знаете, какой теперь похоронный процесс… Хоп, хоп да и в гроб, тяп-ляп и назад! Спиртиком не торгуете?
Гражданин Мечтателев машинально ответил:
– К сожалению, не торгую.
Довольный миром человек надел рукавицы и исчез, посвистывая.
Петр Алексеевич все ходил по переулку, но уже ничего не искал, и в сердце у него стало пусто, как в проткнутом шалуном мячике. Что-то ткнуло его сзади в ногу. Худая ободранная собака неслышно шла за ним, а еще две другие такие же сидели возле развалин, словно ждали чего-то. Петр Алексеевич, задрожав, отскочил, и, тоже задрожав, отскочила собака. Где-то близко грохнул выстрел. Он побежал.
Глава 3
Это какая-то чертова неразбериха.
(Резолюция на одной бумаге)Он подбегал уже к самому своему дому, как из-за угла врезался в ночь желтый день, и, переваливаясь на снежных буграх, выплыл большой черный автомобиль. Два солнца, рябые от падающего снега, уставились вдруг в Мечтателева.
– Эй, товарищ, – крикнул голос, – женщину с чемоданом не видали?
– Товарищ, – пробормотал Петр Алексеевич, – я иду со сверхурочной работы и никакой женщины не видал!
– Ой ли?
– Клянусь вам своей революционной совестью.
Автомобиль вдруг взвыл и, взяв снежную преграду, помчался куда-то.
Петр Алексеевич отдохнул от страха и по темной лестнице стал добираться до своего жилища. Странное дело! Внизу лестницы пахло только дымом, но чем выше он шел, тем явственнее к этому запаху примешивался какой-то неуловимый аромат тонких духов. Около его двери аромат этот овеял его дурманящим облаком, и, когда, дрожащею рукою потыкав ключом, он отпер дверь, показалось ему, – конечно, это был вздор, – что кто-то юркнул из мрака следом за ним, и даже мягко задела его пола шубы. Когда, зажмурив глаза, хотел он повернуть в своей комнате выключатель, кто-то взял его за руку и шепнул еле слышно: «Не зажигайте». Наступила таинственная тишина, и только где-то над головой или под ногами раздавались переливы шопеновского вальса. И опять кто-то шепнул чуть слышно: «Спрячьте меня!.. Скажите… вы не видали на улице человека в синих очках?»
При этих словах захотелось ему закричать от страха, но он понял, что если начнет кричать, то уже не остановится и тогда-то уже наверное сойдет с ума.
А она говорила: «Ступайте посмотрите, не ходит ли он возле дома… ступайте… а меня спрячьте где-нибудь».
Он провел ее в темноте за занавеску, за которой висело его платье, и вдруг понял, что спит, но как ни хотел – не мог проснуться. Он покорно вышел из комнаты и пошел по темной лестнице, шаря мрак и боясь наткнуться на гладкое стекло круглых очков. Снег, недавно падавший тихо и отвесно, теперь мчался куда-то с бешеной быстротою. Он притаился в. нише некогда роскошного подъезда, и когда из белого мрака появился человек, тоже весь белый, Петр Алексеевич протянул в ужасе обе руки, защищаясь. Человек быстро снял шубу, кинул ее гражданину Мечтателеву и крикнул:
– Товарищ! Не убивайте! Жена, дети!
Голос был знаком.
– Иван Данилович?
– Как? Что? Фу! Ну и напугали же! Давайте скорей шубу! Озябну!
– Скажите, – начал Петр Алексеевич, – он хотел спросить: не проходил ли тут человек в синих очках, но ему тотчас стало неловко, как бывает после сна, когда спрашиваешь и тут же вспоминаешь, что это только снилось. (Но когда же он проснулся?) – Скажите… как ваши поиски?..
– Ни черта! А, где-нибудь валяется! Фу! До сих пор сердце бьется!.. Кстати, вам в домовый комитет не нужно? А то я иду. Такой декрет откопал! Умоются!
Он побежал в соседний подъезд.
Петр Алексеевич на всякий случай оглядел переулок и, никого не увидав поблизости, пошел снова наверх. Ему вдруг жалко стало, что все это было лишь сон! Вздохнув и ясно сознавая, что не спит более, он вошел в свою комнату и зажег свет.
Человек в синих очках сидел за столом и смотрел на него насмешливо. Гражданин Мечтателей ахнул и прислонился к стене.
– Pardon, – сказал гость, – я испугал вас… В эпоху керосина не было неожиданных переходов от мрака к свету, и поэтому люди были спокойнее. Я пришел к вам за маленькой справочкой… Дело в том, что одна особа похитила мой чемодан… Так вот я подозреваю, что она скрывается у вас! Да вы не думайте отмолчаться. Потому что, видите ли, mon lres cher[28], у меня есть данные (он понюхал воздух). Во-первых, этот запах, а во-вторых…
Он указал в угол комнаты.
Там стоял чемодан, обклеенный квитанциями всего мира, а под ним чернела лужа растаявшего снега.
Человек в синих очках взял чемодан, подошел к Петру Алексеевичу, хлопнул его по плечу и сказал:
– Надо быть хитрее!
Он ушел. Скоро внизу хлопнула входная дверь, словно выпалили из пушки. Гражданин Мечтателев, все еще дрожа, глядел на ситцевую занавеску. Она не шевелилась. Не умерла ли притаившаяся за ней таинственная воровка? Он тихо подошел и приподнял ситец.
За занавеской никого не было.
Глава 4
В это время глаза кормчего не стали являть ему ничего истинного; все небо двигалось по новым законам; самая земля изменилась.
Фенелон. Странствования ТелемакаБыло утро, и кто-то стучал в дверь все громче и громче. Гражданин Мечтателев приподнялся с ковра, на котором вчера не то уснул, не то упал, потеряв память, и при свете дня уже не так робко крикнул:
– Кто там?
Это был Иван Данилович. Он вошел, потирая руки, и вид имел торжествующий.
– Вчера, – сказал он, – прихожу в домовый комитет…
– В домовый комитет? – воскликнул с ужасом Петр Алексеевич, а сам подумал: «Или я и теперь еще сплю, или я с ума сошел!»
– Ну, да, – повторил Иван Данилович, – помните, после того, как вы у меня еще шубу того… хе-хе… А ведь я, вы знаете, чуть не умер со страху! Боюсь, не прохватило ли!.. Да-с… Так вот-с, прихожу я, а на меня секретарь: на каком основании у вас площадь, да не такая кубатура и черт его знает что… Я молчу, словно эдак подавлен… Потрудитесь, говорит, уплотниться! Я бы, говорю, сам рад уплотниться… мне, говорю, скучно даже одному жить, да по декрету не могу. «По какому декрету?» А вот извольте-с… «Лица, признанные врачебным осмотром психически ненормальными, но не опасными для окружающих» и т. д. Тот на дыбы! «Да вы нешто ненормальный?» Ненормальный, но не опасен для окружающих! А у меня свидетельство (он с гордостью развернул бумажку), в Екатеринославе выдали… Там меня в участок забрали… А я не знал, что за ночь власть переменилась, да и говорю: «Помилуйте, ваше превосходительство, служил верой и правдой царю и отечеству». Те посмотрели: «А старичок-то, говорят, рехнулся»… И выдали мне бумажку. С тех пор и живу по безумному виду!
Петр Алексеевич посмотрел на него и повторил машинально:
– По безумному виду?
– Да-с… А что это вы какой-то странный?.. Уж вы, батенька, вчера не хлебнули ли грешным делом?.. И пахнет у вас как-то подозрительно…
– Почему?
– Да там… духами какими-то… одеколоном!..
Когда он ушел, Петр Алексеевич долго стоял, прижавшись головою к стеклу, и смотрел на московские белые крыши. Бывают страшные, нехорошие сны, в которых как бы случается нечто таинственное: приходит и рассказывает о своей смерти недавно умерший друг, сама собою бесшумно растворяется и, никого не впустив, затворяется дверь. После таких снов на сердце остается тоска – тоска по нарушенным законам жизни. Все, что произошло вчера, было необъяснимо, связь вещей имела пробел, словно на световой рекламе не вспыхнули почему-то некоторые буквы, и никак нельзя прочесть слова. Петр Алексеевич оглядел комнату. Все стояло на своем месте. Стол, шкафчик с посудою, постель, фикус. А все что-то не то. Уходя на службу, он едва не скатился с лестницы, так слабы стали его ноги.
* * *
Уже стемнело, когда покинул он роскошный особняк, волею судеб превращенный в гигантскую канцелярию. Он шел задумчиво по снежным улицам, и какая-то боль сверлила его мозг так, что иногда хотелось вырвать из него что-то нудное, словно ноющий зуб. На одном перекрестке он остановился, не зная, куда дальше идти, и вдруг увидал, что стоит он на углу Плющихи и того переулка, как будто со вчерашнего дня он и не уходил отсюда вовсе.
Первый.
Третий.
Он остановился возле развалин с лестницей, ведущей в пустоту, и поглядел на черные ямы подвала. Про такие подвалы ходила по Москве страшная молва. В них таились воры-призраки в белых саванах, с лицами, дышащими огнем. Здесь находили в мешках голые трупы с непристойными словами, вырезанными и выжженными на коже. Находили девушек, нашедших смерть от того, о чем мечтали они в летние ночи, как о счастье. Казалось, что эта усыпанная кирпичами пропасть и есть та бездна, заглянув в которую или умирают тут же со страха, или молча всю жизнь таинственно качают вмиг поседевшей головою. Петр Алексеевич подошел совсем близко к черной дыре. Кирпичи вдруг мягко осыпались под ним, и он сполз в темную глубь, где тихо было, как в могиле.
– Что за черт? – произнес недалеко грубоватый голос, который был как будто знаком.
– Собака, – отвечал другой шепотом.
– Хорошо, ежели собака, – пробормотал первый. – Собака и есть!
Последние слова произнес он, когда во мраке в самом деле раздался грустный и протяжный вой пса, забредшего сюда в поисках смрадной пищи.
– Кш! – крикнул кто-то и кинул во мрак кирпичом.
– Так ты мне скажешь, куда ты его сунул?
– У тебя карман есть?
– Есть!
– Ну, так держи его шире!
– Сволочь!
– Не ругайся!
Наступила тишина.
– А здесь, – спросил опять второй все так же хриплый шепотом, – ничего не пропало?
Послышалось, словно разрывали кирпичи:
– Так не скажешь?
– Говорю, держи карман шире!
– Ладно, ладно, голубчик, мы с тобой еще потолкуем…
– Что ж, я не прочь с хорошим человеком потолковать! Тьфу! Простудился… горло перехватило!
– Ладно, ладно…
Первый умолк, и чувствовалось, что ярость вскипает в нем.
– До дому! – сказал он грубо.
Зашумели кирпичи, посыпался песок, и опять тихо стало, как в могиле.
Гражданин Мечтателев сидел, все еще боясь пошевельнуться. Кто-то тихо крался к нему из мрака… все ближе, ближе… Вот замер над ним кто-то, и дыхание, как во сне, коснулось его щеки. Он вскочил и опрометью бросился из подвала, а сзади него шарахнулся в страхе и заворчал обманутый пес. Улица вся была испещрена вспыхивающими и тающими звездами, как будто зажгли сотни и тысячи римских свечей. Снег был тоже какой-то пестрый. Ноги вязли в нем и словно прилипали к чему-то…
«Эй!» – кричал он, но вместо крика получался беззвучный шепот. Широкая Плющиха забелела вдруг, и рядом с собою увидал он лисий воротник и шерстяной платочек.
– Не хочу Керчи! – хотел он крикнуть, но Плющиха вдруг повернулась, как гигантское колесо, а голова лопнула со звоном, из нее, как языки пламени, вырвались на мгновенье и погасли спутанные в огненный клубок мысли.
Глава 5
Ее рогов златосиянный бред
Лежит на мне…
Л. ОстроумовОн стоял на палубе огромного парохода и глядел кругом, а кругом была только ослепительная чешуя океана, и солнце пекло так, что лучи, как раскаленные иголки, пронзали череп. А вокруг него вся палуба полна была людьми, и все эти люди были друзья или знакомые, или те, с кем он хоть раз встретился в жизни.
И вдруг тоскливый ужас охватил его. Он обернулся и увидал на черной трубе надпись белыми огромными буквами:
«ТИТАНИК»
О чем же все они думали, когда садились на это проклятое судно? Он хотел предупредить всех, но кругом вдруг не оказалось никого, огромная палуба, а небо быстро, как в театре, темнело. Он побежал вниз, но все каюты были пусты. Он опять выбежал на палубу.
Море было гладко, как черное зеркало, облака замерли неподвижно, а между тем вдали навстречу мчался на полных парусах странный старомодный корабль, окутанный легким туманом. Человек в синих очках вдруг появился рядом. Он указал на странный корабль и проговорил спокойно:
– Летучий голландец.
«Что же это значит?» – хотел спросить, но только подумал Петр Алексеевич и, предчувствуя ответ, оцепенел от страха.
– Это значит, – ответил тот, – что, пожалуй, придется прибегнуть к физиологическому раствору.
Тогда Петр Алексеевич приподнялся на измятой простыне и проговорил умоляюще:
– Вы понимаете, я не могу жить так, как все! Я задыхаюсь в рамках повседневности (т. е. это я, конечно, банально выразился)… Ведь я бы мог быть вторым Фаустом… нет… я хотел сказать – вторым Гете… Любви я хочу тоже особенной… За последнее время меня преследует одна красавица… Да слушайте же меня, черт вас побери!
И опять рядом никого! Он лежит навзничь на горячем песке бесконечной пустыни, и, куда ни двинется, все глубже и глубже его засасывает песок… Вот уж и руки, и ноги, и тело до половины в горячем, мягком, как бархат, песке.
– Имейте в виду, – говорит человек в синих очках, – под вами слой песка глубиною в сто верст. Вы будете погружаться в течение многих веков! Давно умрут все, знавшие вас, а вы все будете медленно погружаться, пока не достигнете дна!
– Но сознавать-то этого я не буду! – кричит в ужасе Петр Алексеевич.
– Вы, главное, не вертитесь!
Правда, соображает он, чем больше вертишься, тем скорее погрузишься. Вот уже в рот попал проклятый песок.
– Запивайте, запивайте, – говорит кто-то, – ну, глотайте!
Он глотает песок и давится. Проклятый песок! В углу комнаты стоит окутанная газетой лампа, тени на стенах большие и причудливые. Кто-то тихо, бесшумно начинает отворять дверь. Входит довольный миром человек в шапке с ушами до колен и о чем-то шепотом говорит с одною из теней. Тень машет рукой. Тогда он вдруг хватает фикус, но тень кричит, кричит и Петр Алексеевич, кричит и с головой погружается в песок. И слышит, как словно в темноте подвала кто-то говорит: «Ладно, ладно» – а когда на секунду опять высовывает голову, то видит, как все та же тень о чем-то шепчется с Иваном Даниловичем. Петр Алексеевич хочет спросить его про железную дорогу и не может, ибо вся грудь забита песком. Тогда он, зажмурив глаза, быстро начинает погружаться в песок, а в углу все горит окутанная газетой лампа, и одна из теней, сойдя со стены, медленно крадется к его постели. Натянув на голову одеяло, он уже не погружается, а стремглав летит в пропасть, а перед глазами расплываются в темноте всех цветов, как в павлиньем хвосте, пятна.
Когда однажды Петр Алексеевич открыл глаза, в его комнате было тускло, как бывает в сумерки в конце зимы. Розовый луч покрывал стену паутиной… У стола сидела девушка с голубыми глазами и, казалось, дремала.
– Пить! – хотел крикнуть и вместо этого прошептал Петр Алексеевич.
Девушка встрепенулась.
– Уж вы молчите, – сказала она, – вам говорить нехорошо. Пить хотите? Я сейчас принесу, вода у меня в кухне за окошком стынет.
Когда она вернулась, гражданин Мечтателев спал так мирно, что ей даже показалось, не умер ли он. Но всезнающий Иван Данилович, войдя в комнату, прислушался и объявил, что тот, кто дышит, не может быть мертвым. Уходя, он заметил:
– Это он не иначе, как на «Максиме» подцепил!
Ох-ох-ох! Ну, да ничего! Говорят, через две недели все кончится!
Глава 6
Всего осмотрели, особых примет
На теле и роже, как кажется, нет.
(Из старого водевиля)Ясно было утро того дня, когда окончательно и бесповоротно проснулся гражданин Мечтателев. В окно видно было синее небо с весенними облаками и мелькали на его фоне алмазные, со стуком на подоконник падавшие капли. Ему казалось, что беспредельно раздвинулись стенки его черепа, и мысли, ясные, как огромные облака, свободно парили от одного лазурного края до другого. Он заметил, как чисто и аккуратно было все кругом прибрано, увидал, что ситцевая занавеска теперь отделяла угол комнаты, и необыкновенно спокойно стало у него на душе. Когда прошло много дней и он уж мог сидеть, опираясь на подушки, он спросил, как она нашла его.
– Вы упали почти рядом со мной на улице, – ответила она, – прямо в снег… Хорошо, что вы еще не расшиблись…
Он вспомнил, Из черной бездны протянулись кривые рога бреда, и потемнело весеннее небо. Сердце забилось вдруг при воспоминании о «той» и опять страшно стало от необъяснимых тайн, словно не в уютной комнате, а в глубине темного подвала сидел он, слушая непонятные речи. Он с мольбой посмотрел в голубые глаза. Сказать или нет? А может быть, все это был только бред?
– Я ужасно беспокоилась, – сказала девушка, – боялась, чтоб не умерли вы…
– Ну, а если бы я умер?
– Мне бы вас было жалко!
– А помните, вы сказали, что неудобно к мужчине девушке приходить?
– Вы больной! Поправитесь, я и уйду!
– Куда же вы уйдете? – Он вспомнил дом, от которого остался один номер.
– Куда-нибудь!
– Лучше уж давайте жить вместе!..
Она покраснела и насупилась.
– Ну, куда же вы пойдете?..
– Куда-нибудь!
– Вас первый же встречный обидит…
– Не обидит… у меня тут батюшка знакомый – керченский!
– Есть сельди такие – керченские.
– Это совсем другое!
– В вас влюбится злой человек и обидит.
– Злой не может влюбиться!
– Ну, просто так, поиграть захочет!
– Я не игрушка…
– С такими глазками жить опасно! Ах, какие глазки!
– Да, все говорят, очень большие…
А он смотрел на нее и старался не вспоминать о той, с душистыми волосами…
В огромных, голубых от неба лужах отражались церковные вербы, Гражданин Мечтателев в первый раз вышел пройтись один, оставив девушку предаваться предпраздничной уборке.
– Вот приберу все, – сказала она, – вымету, кулич вам испеку, разговеюсь с вами и уйду, потому что со здоровым человеком девушке в одной комнате жить стыдно.
Он шел по весенним, в тени еще морозным переулкам, слушал пение петухов, и так задумался о чем-то непонятном, но радостном, что не заметил, как дошел до того переулка. Из него вдруг с воем выкатился и брызнул во все стороны водою большой, черный, совсем нестрашный при весеннем солнце автомобиль.
В нем между двумя витязями в остроконечных шлемах сидел человек в белой шапке с ушами до колен, но он глядел хмуро и не был на этот раз доволен миром. Автомобиль выпрямил ход и быстро, весело помчался по рельсам. Какое-то воспоминание больно сдавило грудь. Гражданин Мечтателев огляделся. Здесь впервые увидал он «ту» сквозь пелену тихо падающего снега. Ему почудилось, что он снова вдыхает тонкий аромат, и голова его – верно, от слабости – закружилась… У развалин дома стояла толпа народу. Все смотрели в сырые дыры подвала, откуда выходили и снова входили в них милицейские.
– В чем дело, товарищ? – робко спросил Петр Алексеевич.
Солидный мужик, видно из бывших охотнорядцев, сурово поглядел на него.
– Труп найден мертвый… Тело…
Тогда он увидал: из-под дырявой рогожи торчали в снегу изъеденные собаками и словно изрезанные ножом ноги. Они были крепко связаны веревкой.
– Должно быть, пытали его, – заметил один из тех, которые все понимают. – Сначала муку причинили, а уж потом и порешили.
– Это у них в моде!
– Ребята, а ребята! А кого ж это на втомобиле поволокли?
– Убивца!.. На чердаке его словили, на том вон дворе.
– И врешь, и не на том, а в шестом номере!
Милиционер вышел из подвала и положил на рогожу синие очки… Другой вынес чемодан, обклеенный квитанциями всего мира.
– Пустой? – спросил некто начальнического вида с записной книжкой в руках. – Да расходитесь вы, граждане!..
Из чемодана вынули смятую женскую шубу, кудрявый парик, шапку, обшитую пестрыми квадратиками…
Как на световой рекламе, вспыхивая, заполняют буквы ночной мрак, так внезапно заполнились почти все пробелы.
Это, стало быть, был просто водевиль с переодеваньем, но с трагической развязкой. Добрые старые законы жизни утвердились, и явились во всей своей незыблемости, как туман, разлетелся по ветру бред. Одна буква не вспыхивала. Зачем нужно было это таинственное ночное посещение? Он шел и радовался тому, что может безбоязненно рассказать ей все это. Как хорошо! Словно после долгой, долгой дороги подходил он к родимому дому. Все мечты, все океаны и все смуглые, как бронза, любовницы остались там, по ту сторону бреда.
Так просто, оказывается, и хорошо жить на свете! И так прекрасен и волнующ этот с голубыми лужами и с черными грачами переулок. Когда он вошел в комнату, девушка в переднике и с волосами, повязанными желтым платочком, мыла фикус. Он вдруг вспомнил.
– А что, – спросил он, – приходил тут, когда я был болен, человек в такой белой шапке?
– А как же!.. Я рассказать вам забыла. Такой дерзкий. Пришел по ошибке мебель, покупать. А мебель над нами, у Нарышкиных продается… и пристал… продай ему фикус… Невесте подарок. А разве я могу? Вещь не моя… Продашь, а вы после ругаться будете…
В дверь постучал Иван Данилович.
– Самовар ваш вскипел, – сказал он, и девушка побежала в кухню.
Тогда Петр Алексеевич быстро подошел к фикусу. Он запустил пальцы в сырую землю и вынул маленький, твердый комочек земли. Он поколупал его на ладони. Да! Здесь таится и синева океана, и жаркие ночи, и смуглые, как бронза, любовницы. Неужели опять стремиться куда-то, метаться, презирать эти так чисто вымытые стены и двери! И вдруг ему вспомнилось: «Но, увы, золою черной станет камень настоящий». Послышались шаги. Это девушка несла самовар. В комнате стало совсем темно, но гражданин Мечтателев сказал ей:
– Не зажигайте огня.
– Вот уж не понимаю, что за радость в темноте сидеть!
Но подчинилась как больному. Самовар тихо шипел и добродушно скалил оранжевые зубы. Он подошел к девушке и спросил ее:
– Хотите быть моей женой?
Та молчала, что-то обдумывая.
– Ну, что ж, – ответила наконец, – вы интересный и серьезный!
Он хотел обнять ее.
– Подождите, чашки разобьете!
Пока она ставила на стол чашки, он быстро приотворил печную заслонку и кинул на горячие угли комочек. Он глядел, как тлели в красном поле соблазны, преступленья, прекрасные, ах, какие прекрасные возможности! А она в это время уже подошла к нему и спросила тихо:
– А вы меня не обманываете?
Слышно было, как за стеною сам с собою рассуждал Иван Данилович:
– Ну, вот, покушали кашки да и на боковую!
Он хотел сказать этим:
– «Господин! Великий Тотемака да простит мне мою дерзость, но время объятий наступило!»
И когда Петр Алексеевич обнял девушку, она не сопротивлялась, а только спрятала голову на его груди.
А за окном, через которое отныне предстояло ему созерцать великий мир, вспыхивали одна за другою весенние, морозные звезды.
Письмо
Вернувшись со службы, я нашёл на двери своей комнаты приколотую записочку:
«Милый друг! Очень бы хотел повидать тебя. Заходи. Мой адрес: Анастасьинский, девять.
Твой Баранов».
Я не знал никакого Баранова.
– Послушайте, – сказал я соседу, – может быть, это к вам записка от Баранова?
– От Козлова, может быть?
Он тоже не знал Баранова.
Но Баранов мог ошибиться домом, квартирой, улицей.
Чёрт его знает, чем мог ещё ошибиться Баранов!
Пушкин сказал однажды, что все русские ленивы и не любопытны. Но я русский только наполовину, моя мать была полька. Поэтому я ленив, но любопытен.
Таинственный Баранов жил в маленьком одноэтажном домике. Я хотел было уже стучать как дверь вдруг сама растворилась, и какая-то женщина, закутанная в ковровый леопардовый мех прошла мимо меня, поглядев на меня удивительно знакомыми глазами.
– Гражданин Баранов дома? – спросил я.
Она молча кивнула и пошла, наклонив голову и кутаясь в пятнистую шкуру. И походка её была тоже удивительно знакома.
Очутившись в темных сенях, пахнущих капустой, я громко сказал:
– Гражданин Баранов.
Послышались поспешные шаги, и, безусловно, знакомый человек появился на пороге. Но кто?
– Как хорошо, – вскричал он, – что вы пришли! Я так боялся, что наши добрые отношения не возобновятся. Мне тяжело было думать, что в дни величайшего моего счастья кто-то чуждается меня и избегает встреч со мною.
– Неужели вы могли так думать! – воскликнул я, пожимая ему руку, а сам думал: «Где, чёрт возьми, я его видел?»
Комната была мала, но опрятна, шкафами были отгорожены две непарные постели.
– Итак, – сказал он, – я теперь женат.
– Что вы говорите? На ком? – воскликнул я, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.
– На ней!
– Ага!
– На Сонечке! На Софье Александровне!
Словно вспышкою магния озарилось вдруг прошлое.
Я вспомнил зимние (мирного времени) дни, санки, лиловые цветы и девушку с глазами… которые только что смотрели на меня из леопардовой шкуры. Вспомнил я и Баранова. Он уже и тогда считался её женихом, но почему-то свадьба все расстраивалась. Я вспомнил даже няню девушки, которая говорила: нынче жених хитёр да лих, ему про венец, а он про ларец!
– Вы знаете, – кричал Баранов, беспрестанно вскакивая и снова садясь, – все эти годы я жил, как все жили! Я скитался по всей России, болел тифом… потом… Хотите, я вам расскажу все подробно?
– Конечно!
– Я в Сонечку влюблён с одиннадцатого года… Всякие эти прогулочки по переулочкам, балы да театры. Любил ужасно. Можете себе представить – я – химик – к гадалке ходил. Ревность. Ко всем ревновал. К вам тоже. Ведь вы тогда молодец были…
– Ну, уж ко мне…
– Был, говорю, в исступлении! Наконец сделал ей предложение. Отказ, причём сама чуть не в обморок… А тут война, а тут революция – одна, другая. А потом всех москвичей разогнали по всему миру. Пора, кажется, было бы образумиться, так нет. Еду, бывало, в теплушке и о ней мечтаю. А где она? Найди-ка! Ну, вот. Иду я раз вечером – дождь был, снег мокрый, – вижу, какая-то женщина к стене записочку приклеила. А тут издали автомобиль всю улицу осветил. Оглянулась – Сонечка! Можете себе представить, что я испытал! Меня не видала! Ей фонари прямо в глаза. Когда автомобиль проехал, её уже не было. Я подошёл к записке, зажёг зажигалку и прочёл:
Продаётся: самовар, шкаф, бюро красного дерева (старинное).
А как раз у этого бюро происходило наше решительное объяснение. Чудесное бюро. Я, конечно, всю ночь не спал. И жила-то она (адрес был указан) совсем близко! Должен сказать, что убожество её наряда поразило меня. Сам я, дурак, не пошёл – из гордости. Все-таки… после отказа… (Тут Баранов понизил голос.) Сосед мой, спекулянт, покупает всякие предметы и со мною советуется как с бывшим человеком. Ну, я и посоветовал ему купить бюро. Надо было поддержать её… Вечером возвращаюсь домой – на санках у подъезда – оно самое! Сердце у меня так и запрыгало. Очень я взволновался. Спекулянт в восторге. По дороге три человека продать просили, и какой-то бывший князь похвалил. Звал смотреть. Я сказал, что зайду после… неприятно все-таки, знаете… У него всякие сомнительные дамы бывают, а тут это бюро! Вдруг сам он ко мне стучится. «Смотрите, говорит, что я в бюро нашёл». Вижу – её рука… Читаю… Да вот оно… Выпросил в награду за рекомендацию хорошей вещи. Прочтите-ка.
Я прочёл:
«Не знаю, решусь ли послать это письмо. Люблю вас, но когда вижу вас, говорю совсем не то. Вчера я сказала вам „нет“. Не верьте… Не судите. С».
Баранов весь дрожал от волнения.
Вообразите, что со мной сделалось! Она, значит, тогда, глупенькая, мне по скромности девичьей отказала, а я, идиот, чем постепенно её к этой мысли приучить, обиделся и порвал! Ну, думаю, надо исправлять… Пошёл по адресу… и видите… (он счастливо рассмеялся) исправил…
– Я сейчас встретил в дверях Софью Александровну и, признаться, не узнал!
– Переменилась? Ну, ещё бы! Ведь что, бедняжка, перенесла! Она вас помнит… Что-то не идёт…
Ему было, очевидно, приятно беспокоиться о жене.
– Хотите, – сказал он вдруг, – бюро посмотреть? Сосед сейчас дома. Старину вспомните!
Чтоб сделать ему удовольствие, я согласился.
Но в тот миг, когда мы постучали в дверь к соседу, на «парадном» звякнул колокольчик.
Маленький толстяк отворил дверь на стук, а Баранов побежал отпирать жене, крикнув: «Познакомьтесь: Трохимов, Громов».
– Стариной увлекаетесь? – спросил Громов, подводя меня к бюро. – Как не увлечься. Вы смотрите, как они, сукины дети, умели фанеру обделывать. Да теперешний столяр десять раз, извините, в уборную сбегает, а такого лаку не наведёт. А ящиков сколько. Сегодня весь хлам из них выгреб.
Я вздрогнул. На одном конверте увидал я своё имя и фамилию: «Алексею Павловичу Трохимову».
– Откуда этот конверт?
– А это тут было письмо… Я его отдал господину Баранову… Какое-то послание любовное. А вот, взгляните – вазочка. Китай!
Я сунул конверт в карман, сказав:
– Позвольте взять на память о знакомстве!
– Идём чай пить, – сказал Баранов, – Соня пришла. У нас есть глюкоза. Зайдёте?
– Нет, – сказал Громов, – у меня делишки.
– Все делишки.
– А как же! Детишкам на молочишко.
Сонечка очень приветливо отнеслась ко мне. Я с любопытством на неё поглядывал, но решительно не замечал в ней даже никакого смущения. Уютно было сидеть за столом со счастливыми людьми и вспоминать счастливое прошлое.
В тот день я возненавидел свою комнату.
«А счастье было так возможно!»
Через несколько дней я опять пошёл к ним. Та же история – чай и счастье. И в ней никакого сожаления
– Дура! Ну, почему, почему тогда не послала письма?
– Кстати, – сказал Баранов, – сосед говорил, что ты взял конверт от того письма…
– Да, я взял, хотел тебе передать и забыл…
– А где же он?
– Потерял.
– Ну, вот. Но он-то, дуралей, не прочёл, что ли, фамилии?
– Там было много всяких бумажонок.
– Да оно и лучше. Я от него историю эту скрываю. Не для его мозгов.
Мне показалось, что Сонечка чуть-чуть покраснела. Я поглядел ей в глаза, желая пробудить между нами хоть романтическую близость. Но она повела носиком и с таким самодовольным обожанием поглядела на мужа, на глюкозу, на самовар, что я почувствовал злую зависть.
– Жалко, что нет конверта!
– А вот пустой конверт. Уж если тебе так хочется ещё раз убедиться в своём счастье, попроси Софью Александровну написать на нем обращение.
– Что ж! А, Сонечка, напиши.
И он довольно рассмеялся, когда Сонечка, решительно и неодобрительно поглядев на меня, написала:
«Ивану Петровичу Баранову».
Он смачно поцеловал её. Она отстранилась, покраснев, но не потому, чтоб ей неприятен был поцелуи, а стесняясь меня. О, лишь бы я ушёл! Уж они нацелуются! Во мне закипело.
Когда мы простились и он уже хотел запереть за мною дверь, я вдруг сказал:
– А! Вот! Я нашёл и оригинал конверта.
Я вынул из кармана конверт, сунул ему в руку и ушёл, не оборачиваясь. Больше я с ними не виделся.
Любопытные сюжетцы
Так как все кругом было занято, он попросил разрешения сесть за мой столик и в благодарность решил угостить меня пивом.
– Тройное золотое! Расплавленные червонцы! Золото внизу остается, а бумага всплывает в виде пены! Эмблема для Госбанка! Гениально!
Он оглядел пивную.
– Мало интеллигентных лиц! Все больше первый и второй убийца! Вы, вероятно, служить изволите по просвещению?
– Я – литератор.
– Скажите! И так мило одеты! А у меня с детства литература в воображении сочетается с заплатами… Впрочем, о, tempore, о, mores[29], или, как у нас один на экзамене перевел: «Что город, то норов». Сюда ходите, вероятно, на предмет вдохновения?
– Да нет, знаете, просто приятно в жару бутылочку…
– О, разумеется. И учтите, что нынче в пивных гущина быта. А если подойти к иному да расспросить… Гофман, Эдгар По! Романтика такая, что беги домой, успевай записывать!
– А вы тоже писатель?
– Ни в какой степени. Вдохновения хватает только на поэму такого рода: «В ответ на отношение ваше за номером… от числа… настоящим сообщаю»… Но наблюдать обожаю и любопытен, как любимая жена шаха персидского. Вот, например, сидит в углу парочка. Она – порождение времени. Обратите внимание на юбку. Вопреки закону тяготения ползет вверх без посторонней помощи. На один миллиметр в секунду. Зато чулки, сами видите, не из мочалы. Но она – это чепуха! Героиня водевиля: «Легковерный муж, или Жена зарабатывает…» Но он… Вы и не угадаете никогда. В Рогожско-Симоновском районе нищий есть, весь в дырах, головой трясет, как известного рода игрушечные слоники. На груди чашечка и надпись: «Подайте никогда не видавшему солнца». Недурно? Так вот это и есть «никогда не видавший солнца». Удивлены? Еще бы… Пиво и то от удивления вспенилось.
Тут, видите ли, тонкая психологическая штука. Весь год нищенствует, в ночлежке спит, из мусорной ямы добывает себе пропитание. Ничего не имеет, кроме некоего таинственного запертого ящика. Триста шестьдесят четыре дня унижается и головой трясет. На триста шестьдесят пятый день из таинственного ящика достает самый этот дымчатый костюм, шляпу, ботинки, галстух – одним словом, человеческий облик – и на накопленные деньги в течение суток царствует… Веселье, любовь, во всяком случае, все, что при любви полагается. Даже нищим, можете себе представить, подает! В этом районе никто его не знает! А завтра опять: подайте никогда не видавшему солнца! Целый год в один день втискивает! Махровая затея! Когда-то, говорят, был художник, т. е. не то что художник, а ценитель всего прекрасного!
Человек в углу пощелкал по бокалу, положил и разгладил на скатерти серенькую бумажку, сдачу не взял, вместе с дамой растаял во мгле двери. Оркестр румын послал им вслед несколько чувствительных вздохов. Собутыльник мой задумчиво озирал пивную.
– Но если угодно вам прослушать поистине удивительную историю… гражданин человек! Еще пару пива!.. Извините, это мое дело, я угощаю. Так вот! Сплошной Альфонс Доде! Изволите видеть этого красавца, который на эстраде сейчас изображает всякие штуки? Все представляет, начиная от гудения примуса и кончая голосом любого из публики! Ничего не поделаешь. Жена, дети! Подрабатывает. Так с ним случилось недавно необычайное происшествие. Вы, может быть, недовольны, что я похищаю у вас время, а следовательно, деньги?
– Пожалуйста, наоборот, очень приятно!..
– Даже приятно? Тем лучше! Правда, сюжетцы прелюбопытные.
После сеанса, когда пивная почти уже опустела, подходит к нему некий человек такого княжеского вида и предлагает пива… очень, говорит, высоко ценю ваше искусство. Сели. Выпили. Вдруг этот самый князь и говорит: «Хотите, – говорит, – заработать сто золотых монет? Не бумажных, а настоящих, с изображением Николая Кровавого?» Еще бы не хотеть! Мой артист еще из ума не выжил. Князь ему говорит: главное, иметь желание заработать. Желание есть? Отлично. Дело, говорит, в следующем: у меня есть отец, впавший в слабоумие на почве потери горячо любимого сына. Убит на деникинском фронте – белый офицер. Отец после смерти моего брата не ест и не пьет, все ждет переворота, Уверен, что тогда и сын его вернется.
Артист в недоумении: «Я-то тут при чем?»
– При очень даже многом! Перед самой революцией отец в нашей усадьбе бывшей зарыл в землю ящик и в нем три тысячи небезызвестных каждому желтых кругляков. Знаем, что зарыл около одной липы, но лип там до пятидесяти с каждой стороны аллеи… Парк не вспашешь! Колхоз засел. Старик же никому сказать не хочет. Это, говорит, для Пети, Петя вернется после переворота и все получит. Вы, говорит, предатели, вы, говорит, из моей подкладки бантиков понаделали (мой отец генерал отставной), а Петя голову хотел сложить за монархическую идею! Теперь взгляните на эту карточку.
Мой артист посмотрел – он сам! Только усы длинные и гусарская форма.
– Понимаете, в чем дело? Мы вас оденем в гусарскую старую форму, подгримируем, и вы явитесь к отцу… А мы подготовим почву относительно переворота, чтобы старик не слишком потрясся. Врите что угодно! А потом намекните относительно денег. Нужны, мол, для поддержания престола и отечества. Он скажет, где, что, мы и откопаем. От Москвы двадцать верст… Управляющий знаком.
Артист, конечно, взволновался. Заманчиво. Сто золотых при растущей дороговизне и падении знаков! Поразмыслил – как будто подлость! Попросил двести. Сошлись на полутораста.
Артист всю ночь не спал. С женой полтораста золотых переводил и на фунты, и на доллары, и на дензнаки. Всю бумагу исписали в доме. На другой день является по указанному адресу (между прочим, князь оказался князем только с виду, но все-таки обстановочка старинная, кресла с завиточками и всякая фарфоровая дребедень)… Встречают его с волнением. Вчерашний соблазнитель и супруга. Переодели в гусарскую форму; от волнения забыли, что при даме переодеваться неприлично. Орден нацепили с мечами и с бантом. Усы подклеили, пробор пригладили. Живой портрет.
– Голос, – говорит, – у брата был совсем, как мой. Изобразить можете?
– Еще бы! Любого из публики изображаем.
Оказывается, старику уже вчера вечером намекнули на события. Объявили, что в Москве неспокойно. Он всю ночь не раздевался – молился. Утром позвал сына и невестку и рассказывал, как Плевну брал. С балкона на Кремль смотрел, нет ли штандарта. Артиста оставили в соседней комнате, а сын пошел к отцу. За стеной слышно:
– Ну, папа! Не знаю, как тебе и сказать.
– Ну, ну!..
– Уж очень хорошо…
– Говори, говори…
– Власть переменилась…
– А…
– Только ты не волнуйся… Петя…
Тут, по словам моего артиста, в соседней комнате раздался такой вопль радости, что от стыда у него все лицо покрылось холодным потом. Старик, стуча клюкой, бегал по комнате.
– Где он? Где он?
И тут невестка втолкнула гусара прямо в комнату. Маленький старикашка, плюгавый, жалкий, кинулся было к нему, потом остановился вдруг и крикнул:
– Дети, творца возблагодарим!
На колени стал и за ним все. Прочел «Отче наш», начал было еще что-то – не выдержал, обнимать кинулся.
– Петичка вернулся, Петичка, и с орденом… Смотрите, Владимир с мечами!..
А Петины косточки небось где-нибудь в степи, в обшей могиле. Спрашивает, а отвечать не дает. Мой артист молчит, будто от радости. А сын за спиной у отца подмигивает: про деньги, мол, спроси. Язык не поворачивается… Наконец собрался с духом.
– Папочка, – говорит, – бедна Россия, нужны деньги для поддержания престола.
Старик просиял:
– Есть у меня деньги, есть!
У сына и у невестки от волнения красные пятна по лицу.
– Где же они, папочка?
– Помнишь наши «Листвяны»?.. Ну, так слушай…
И я этот миг вдруг за окном оркестр военный как грянет – «Интернационал»!..
Старик замер, затрясся… Невестка кинулась дверь балконную затворять. Оттолкнул, кинулся сам. А по улице шапки остроконечные, красные звезды:
«Мы наш, мы новый мир построим…»
Старик перегнулся через перила, вскрикнул, вдруг перевесился как-то странно, будто кукла, – и с пятого этажа на мостовую.
У красных офицеров кони шарахнулись…
– Да-с! Так вот, у каждого из людей за спиной такая фантастика, что, говорю, беги домой, успевай записывать… Извиняюсь… Я выйду на улицу на одно мгновение. Плохое сердце… От духоты головокружение… За шляпой моей последите… Читали, что в газетах пишут по поводу выставки?
Он вышел. Я не стал читать газету. Румыны заиграли отрывочный танец. Мне вспомнились бесконечные ночные степи… Пивной хмель плавал над головами людей серыми дымными змеями. Он не возвращался. Я поднял газету. Моей шляпы не было. Я полез в карман. Бумажника не было. Я полез в другой – часов не было.
Он отнял у меня и время и деньги. Новую шляпу заменил старой.
Шесть пустых бутылок ожидали расчета.
Фантастика!
Через два дня по почте пришли документы.
Деньги же были удержаны.
За любопытные сюжетцы.
Жуткое отгулье
Ивану Вавиловичу Пробочкину было необыкновенно приятно. Небо синее, море синее, дорога меж виноградниками белая, жаркая, вдоль дороги кипарисы, пылью напудренные, а из-за каменных оград деревья, будто кровью, черешней обрызганные. Благодать! Благодать!
Иван Вавилович Пробочкин глядел, глядел и вдруг духом умилился, дышать стал всей грудью. Глаз даже сразу слезу источил. Посмотрел на супругу свою – пышная вся, в белом – руки голые, шея голая от солнца лупится.
– Ты дыши, Машенька!
– Я и то дышу. Воздух уж очень хороший.
– Нет! А горы-то? Высотища? А море-то? Я думаю, что нет такого пловца, чтоб море переплыл.
– Еще бы человеку море переплыть! Ты уж скажешь!
– А что, ежели на ту вон верхушку взобраться и сесть? А? Машенька? Я думаю, с нее Крым как на блюдечке. Пожалуй, еще Турцию видно.
– Ты уже выдумаешь! В такую жару на гору лезть!
– А мне что жара? Сниму рубашку, да и полезу! Кто меня тут осудит!
– Сопреешь!
– Сопрею – высохну! А, Машенька? Полезем?
– Нет уж… Я лучше соснуть пойду… Мне после шашлыка что-то… нудно!
– Хороший шашлык был! Шашлык был что надо!
– Ты полезай, коли охота… Я, ты знаешь, Веревьюнчик, тебя не хочу стеснять. А я пойду соды выпью, да и сосну…
Иван Вавилович с умилением обнял пышный стан, будто погрузился в жаркую, умело взбитую перину. Подождал, пока скрылось за поворотом кисейное платье, еще раз оглядел все – благодать! – и полез по узенькой тропочке. «К обеду не опоздай», – послышалось снизу.
* * *
Иван Вавилович умилялся уже целую неделю; с того мига, когда носильщик, приняв с извозчика подушки, спросил, как показалось, почтительно: «На скорый?»
Тут-то и умилился Иван Вавилович и подмигнул супруге:
– Два года назад меня на этом самом вокзале, как собаку паршивую, шугали – куда прешь, а теперь? Чистота-то… Господи! Смотри, смотри! «Вам на скорый?» Дожили до времечка!
Поезд был блестящий и гладенький, вагоны зеленые, как огурчики, желтые, как апельсины, на всех аншлаги: «Москва – Севастополь», а у ступенек проводники важные, в серых куртках, с серебряными пуговицами. Когда прожужжал третий звонок, вынул Иван Вавилович часы и головой покачал с улыбкой изумленного удовлетворения:
– Чок в чок! А раньше? «Когда поезд?» «А мы почем знаем! Хочешь ехать, ступай дрова грузить!» А теперь? Н-да! Вот вам и большевики! Я всегда говорил!
– Ну, уж и говорил! Забыл, как мешки таскал?
– Ну, таскал! Мировые перевороты без эксцессов протекать не могут. Почитай-ка, как французы друг дружке головы рубили… Нет, ей-богу, молодцы… Жалею, что на вокзале бухаринскую книжечку не купил!
Но до слез умилился Иван Вавилович в вагоне-ресторане. За окном степь, вблизи зеленая, вдали синяя, еще дальше лиловая. Вокруг станций ветками в небо тополя, хаты белые, словно мукой вымазаны.
– Ведь вот раньше на этой самой дороге – солдатье, теплушки, мешочники… Корку сухую вынул из кармана, жуй, буржуй, угоднику своему молись… Соль, помню, в кошельке вез. А теперь… Шницель по-венски… Легюм из свежих овощей… Соль «серебос» какая-то, черт ее знает! Нет, молодцы… К нам иногда в магазин коммунист один ходит за башмаками… Надо будет поговорить… Я ведь тоже человек идейный… Я не вошь какая-нибудь на общественном теле.
– Фу, Веревьюнчик, за обедом такие гадости.
– А что же? Разве неправда?
* * *
Иван Вавилович вспомнил все это на крутой тропочке. Море с этой высоты казалось застывшим. Он снял рубашку и, почуя, как горячие пальцы солнца ощупали его плечи и руки, опять умилился.
– Хорошо! – молвил он вслух и выше полез и даже пальцами защелкал от восторга.
Кончился виноградник, и тропинка устремилась вдруг под темно-зеленую сень старого лиственного леса. Где-то внизу журчала вода, одна мысль о которой в жару была усладительна.
«Да, – подумал Иван Вавилович, – дождались времечка… В Крым на лето! Ах ты, сукин сын! А как в очереди за спичками стоял, помнишь? А как доски на чердаке крал, помнишь? История, брат, ничего не пропишешь! Все по марксистскому закону! Помучились и довольно».
Тут неожиданно очутился Иван Вавилович на уступе, поросшем травой, и ахнул. Внизу, утыканный кипарисами, тянулся южный берег, отделенный от синевы моря белою полоской. Где-то в лазури, словно в воздухе, застыл пароход, и дым от него, тоже застывший, тянулся по всему небу. Отведя от моря восхищенные свои взоры, увидал Иван Вавилович, что не один он находится на поросшем травой уступе. Некий человек, обнаженный, как и Иван Вавилович, до пояса, с кожей, темной от загара, как у индейца, сидел, свесив ноги в пропасть, и жевал серые, будто из пыли испеченные лепешки.
– Тоже природой любуетесь? – спросил Иван Вавилович с некоторой почему-то робостью.
Человек не спеша прожевал лепешку и пожал плечами презрительно.
– Чего ею любоваться-то! – пробормотал он. – Море как море! Ничего в нем такого нету, чтобы им любоваться.
– Ну, что вы… Синева-то какая!
– Ну и что же, что синева?.. Мало ли на свете синего… Вон и небо синее…
– И небо хорошо!
– А было бы желтое, хуже было бы?
Иван Вавилович опешил на мгновение.
– Уж мы так созданы, чтобы любить голубое небо.
Темно-коричневый человек плюнул в пропасть и ничего не ответил.
– Вы здешний житель? – спросил Иван Вавилович.
– Теперь здешний, а был тамошний.
– Давно в Крыму?
– Да четвертый год.
– И при Врангеле были?
– Был и при Врангеле.
– Хорошо тут было при Врангеле?
– А чего хорошего? Порядок был! А теперь нет его, что ли?
– Теперь порядок замечательный… Я и то говорю, молодцы большевики.
Темно-коричневый человек опять плюнул в пропасть.
– Были когда-то молодцами! – пробормотал он. – Вы из отдыхающих, что ли?
– Да… приезжий…
– Вот то-то, больно отдыхать стали много…
– Нельзя, знаете… зимой в труде… А вы сами откуда?
– Где был, там и след простыл! Деревенский я… Из орловских! Село Карачево знаете под Мценском?.. Ну, вот оттуда я… В Мценске на заводе работал, а как пошла мобилизация, расплевался.
– Не скучаете по родине?
– Некогда было скучать… Теперь, конечно, безобразие – скука. Спервоначалу с немцами воевал… Я кавалерист… в разведке больше работал. Только это, конечно, была война не настоящая.
– Как не настоящая?
– А так! Порядок был! Все тебе предуказано и предписано. Едешь и знаешь, куда едешь… Туда не моги, сюда не суйся. Разойтись негде было… При Керенском только настоящее дело пошло. Каша пошла тебе такая, что только ешь, похваливай… Все соответствовало… Иначе как на крыше и не ездили. Ветерок, прохладно… Иной встанет, не подумавши, ему бац! – голову мостом и снимет. А то в купе ходили масло из буржуев жать. Барышень тискали. Ну, потом в октябре Москву полировали. Только это уж не то… Я человек степной, вольный… У меня рука длинная – мне в городе тесно… Тошнит. Ну, мы опять с ребятами на крышу… Кати куда глаза глядят. Одного буржуя к себе выволокли – посадили. Был у нас парень – Никитой звали – шалавый человек – гранатой его потом пополам разорвало – так он наставил на буржуя тесак: прыгай, говорит, на другой вагон, а не то столкну… Тот ему деньги… А ему что деньги? Харкнул на них – буржую ко лбу прилепил. Прыгай! Прыгнул… А Никита за ним! Прыгай дальше… Так до последнего вагона… А там взял да тесаком в бок.
– И что же? – спросил Иван Ваввлович, и страшно ему стало.
– Ничего… свалился! Нешто устоишь? Крыша крутая, скользкая… опять-таки, качает.
Человек с коричневой кожей грустно задумался.
– А тут опять война пошла… Красные, белые… Тьфу! Ты за кого? А я сам за себя… Мне беспорядку надо! Я степной человек – перекати-поле. Нет во мне никакой дисциплины. На кой она мне… Взяли мы, да и пошли с ребятами по степи гулять. В балках ночевали… хорошо, вольно! Раз идем ночью… Стой, кто такие? Смотрим, народ твердый, с ружьями… Ах, ёшь твою двадцать!.. Ну, думаем, влопались. Красные или белые? – спрашивают… Ни те, ни другие… Стало быть, – зеленые? Выходит, что, пожалуй, зеленые. Приняли нас и объяснили, что ни за кого не идут, а просто бродят… Повстанцы… Большевик попадается – большевика режут, офицер – офицера… Просто так… для суматохи…
Глаза его из-под выцветших бровей блеснули.
– Хорошо было в зеленых, – сказал он, – я потом в Крым перебрался… В горах оно способнее. Автомобиль, бывало, едет: стой! Предъявляй документы… Иной раз пропустим, а иной раз к ногтю… Большевики!.. Были и они молодцами, когда Москву горошком посыпали… А теперь? Туда не ходи, здесь не сиди… С крыши снимают… Вот тебе и революция.
– Что же вы и людей убивали? – спросил Иван Вавилович с опаскаю.
– А как же не убивать-то? Обязательно убивал. Еще два года назад, как Врангель ушел, убивал… Вот в этом самом лесу убивал.
Он вдруг встал с торжественным и вдохновенным лицом.
– Хотите, покажу, где жил? – спросил он.
Иван Вавилович боялся свою трусливость проявить (не подумал бы, что при деньгах) и потому согласился. «Все равно, захочет убить, так и здесь убьет! Черт меня на эту гору понес. Сидел бы сейчас у себя на балкончике, припеваючи, мороженое бы ел». Они пошли по еле видимой, заросшей травою тропе. Камни, встревоженные их ногами, с шумом катились в крутую бездну, и чем выше они поднимались, тем дичее и величественнее становился лес. Темные заросли скрыли внезапно даль, и от горных впадин пахнуло гнилью и сыростью. Человек с коричневой кожей раздвинул кусты. Обнаружился узкий черный лаз, ведущий в пещеру.
– Вот где жил! Хорош домик? Давно уж не был тут! Засыпало… может, еще пригодится…
И он начал швырять вниз желтые, дождями смытые со склонов камни. Один, круглый и блестящий, осмотрел он со вниманием, поколупал и кинул к ногам Ивана Вавиловича, в страхе отпрянувшего. Изъеденный червями череп задел носки его башмаков и покатился в пропасть.
– Офицер врангелевский, – пояснил человек с коричневой кожей, – все равно ему бы при красных не прожить… А мне о ту пору обувь была нужна… Обносился… Да, было времечко. А теперь куда я пойду? Я человек вольный. Мне воевать нужно. Мне закон вреден… Он мне – как заноза.
Он перестал разбирать камки, подошел к обрыву и долго смотрел вниз.
– И там должны кости быть, – пробормотал он. И вдруг, вложив в рот два пальца, издал пронзительный и по ушам хлыстом хлестнувший свист. Пошел свист по всем горам, словно обрадовалося соскучившееся отгулье и захотело залихватски тряхнуть стариною. И тогда вдруг человек с коричневой кожей подошел вплотную к Ивану Вавиловичу и прижал его к шершавой скале.
– Ты кто такой есть? – крикнул он яростно. – Документы предъяви! Живо! Уши обрежу!
Иван Вавилович, глотая слюну и выпучив глаза так, словно уж впилась ему коричневая рука в горло, вынул из кармана бумажник. Коричневый человек долго и с удовольствием рассматривал какое-то удостоверение. Потом он пересчитал деньги, сунул бумажник в свой сальный и рваный карман, возвратил документы Ивану Вавиловичу и крикнул ему зычно:
– Катись!
Иван Вавилович и в самом деле покатился; он бежал, как только мог быстро, по узкой тропочке и думал: вот, сунет нож прямо в желобок промеж лопаток.
Он бежал до роковой площадки, поросшей травою. Все так же висел вдали застывший пароход… Иван Вавилович остановился – перевести дух. Сзади покатились вдруг камни, послышались шаги, и опять мелькнула между деревьями страшная коричневая кожа.
– Нате, – уныло сказал обладатель этой кожи, протягивая Ивану Вавиловичу бумажник с деньгами, – духу того нету. Извиняюсь за беспокойство… Хотел стариною тряхнуть… Застопорило.
Он с отвращением взглянул на южный берег и исчез в зарослях.
Человек без площади
Посвящается В. М-у
Кто он, откуда, как решить,
Небесный он или земной?
Ф. ТютчевI
Финансовый инспектор Семён Петрович Слизин имел обыкновение, воротясь со службы, вздремнуть часок на диване, и это время он по справедливости почитал приятнейшим в своей жизни. Обычно ему спать никто не мешал, ибо супруга его Анна Яковлевна в это время ходила по модным магазинам, примеряя самые дорогие костюмы. Примерив и полюбовавшись собою в тройное зеркало, говорила она: «Нет, этот фасон мне что-то не нравится» – и шла в другой магазин.
Семён Петрович блаженно вытянулся на диване и оглядел комнату. Оглядел он её с довольною улыбкой, даже несколько любовно, ибо больше всего на свете ценил тот именно факт, что есть у него вообще комната. Она к тому же лишь на два аршина превышала установленную норму. Этою осенью он побелил потолок, стены оклеил обоями, розовыми с зелёными огурцами. Над столом смастерил голубой абажур, и комната получилась очень уютная, даже с налётом буржуазного самодовольствия, но не настолько, чтобы могли идеологически прицепиться. Картинки на стенах висели тоже самые лояльные: «Приятный фант», «Лунная ночь в Азербайджане» и ещё какой-то писатель, с виду похожий даже на трудящегося.
Семён Петрович закрыл глаза и приготовился к блаженству. Уже закружились перед его воображением толстые приходо-расходные книги, уже выскочил и пропал художник Колбасов – ловкач по части укрывания доходов – как вдруг некий реальный звук разогнал все эти тени, предвещавшие счастье. А именно – с треском распахнулась дверь, и вошла Анна Яковлевна.
– Спишь? – спросила она, скидывая шубку на цветной подкладке и соблазнительным движением подтягивая розовый чулок. – Спи, спи, я тебе не буду мешать, я только завьюсь… У нас сегодня… впрочем, спи, спи, я тебе потом расскажу.
Семён Петрович со вздохом закрыл глаза.
А супруга его между тем побежала в кухню и через минуту внесла в комнату громко гудящий примус.
– Я только завьюсь, – говорила она, – ты, пожалуйста, спи… Ну, чего ты глаза таращишь? А потом будут попрёки: не дают ему отдохнуть.
С этими словами она скинула платье, подошла к комоду и взяла шипцы.
Семён Петрович, пожалуй, все-таки бы заснул, ибо гул примуса действовал на него даже усыпляюще, но фраза, начатая и неоконченная супругою, не давала ему покоя: «У нас сегодня», – сказала Анна Яковлевна.
«Неужто гости?» – с ужасом подумал Семён Петрович.
Дело в том, что Семён Петрович вовсе не был букою и необщительным человеком. Наоборот, у него были приятели, с которыми он очень любил распить бутылочку, посидеть и поболтать. Но как раз супруга его и не любила этих приятелей, считая их людьми нехорошего круга, и всегда после их ухода демонстративно распахивала форточку. Даже словесные термины для его гостей Анна Яковлевна употребляла иные, чем для своих. Её гости «приходили», а его гостей «приносило», её гости «садились», а его гости «плюхались», её гости «засиживались», а его – «торчали до второго пришествия», её гости самовар «выпивали», а его – «выхлёстывали».
Зато и он очень не любил её гостей: двух артисток студии, танцора и некоего Стахевича – человека без определённых занятий, которого фининспектору и принимать-то было, в сущности, неудобно.
Но как-то уж так с самого начала завелось, что гостями считались именно гости Анны Яковлевны, и для них надо было всегда покупать конфеты, колбасу, а иногда даже вино и пиво.
Отогнав жуткие мысли, Семён Петрович начал было дремать, но в это время Анна Яковлевна вдруг пронзительно взвизгнула и затопала ногами, должно быть обожглась, а на его испуганный вопрос раздражённо крикнула: «Да спи, пожалуйста. Чего вскочил?»
Но он уже не лёг, а печально закурил папиросу.
– Выспался? – спросила она, закругляя над головой голые руки. – А у нас сегодня, Сенька, будут спириты.
– Как спириты?..
– Так. Стахевич, Гура, Мура и Сергей Андреевич… Гура, представь себе, чудный медиум… Вчера у них пианино по комнате плясало, и кто-то под столом Муре всю коленку изодрал… С нею чуть обморок не сделался…
– Это же, Аня, у нас устраивать неудобно.
– Почему?
– Во-первых… жильцы могут пронюхать, я все- таки официальное лицо… а во-вторых…
– Говори, говори…
– Да у нас и пианино нет.
– Стол будет плясать, стул, мало ли что. А на жильцов мне наплевать. Они вон по ночам на головах ходят, это ничего?
– И не ходят они на головах вовсе.
– Нет, ходят. Ты не знаешь, так молчи. Ты спишь как сурок, а у меня чуткий сон. Вчера часов до трёх на головах ходили. И тебе, кроме того, будет интересно. Ты погряз в свои эти налоги, а тут связь с посторонним миром.
– Мне этот Стахевич, по правде сказать, не нравится.
– Дураку умные люди никогда не нравятся.
* * *
Через час Семён Петрович, отфыркиваясь от весеннего дождичка, шёл в магазин Моссельпрома, а ещё часа через два началось то самое необычайное происшествие, которое впоследствии Семён Петрович не без основания почитал в своей жизни роковым.
* * *
Все сели вокруг стола, не исключая и Семёна Петровича, который, впрочем, сел скрепя сердце.
Но надо сказать несколько слов о внешнем виде собравшихся гостей.
Стахевич был высокий человек с чрезвычайно энергичным выражением лица, бритый, гладкий; при разговоре с мужчинами он обычно крутил у них пуговицу, а говоря с дамой, поглаживал её по руке между плечом и локтем.
Гура и Мура были совсем на одно лицо, но одна была блондинка, а другая брюнетка, обе полные, крепкие, с пунцовыми губами и ужас до чего короткими юбками.
Сергей Андреевич, как танцор, был изящен и делал все время плавные движения. Лицом он был похож на масона, а потому носил на руке браслет с черепом.
Гура, оказавшаяся медиумом, имела на этот раз несколько томный вид.
– Я, знаете, – говорил Стахевич, – спиритизмом занимался ещё будучи в Англии. Там, чёрт возьми, это дело разработано. Точная наука. Вызывают кого угодно и такие получают сведения о загробном мире, что дальше ехать некуда. Вот эдакие книги изданы. Сплошь разговоры с духами. Говорят, Ллойд-Джордж никогда в парламенте не выступает, не посоветовавшись с духом одного епископа, который к нему благоволит… А у нас, конечно, прежде всего идут надувательства…
– Ограниченный горизонт, – заметил Сергей Андреевич.
– Просто обычное невежество… То, что для европейца стало истиной, для нас ещё какие-то шуточки… Ну, как вы?
Последний вопрос относился к Гуре, которая при этом как-то странно раза два глотнула воздух.
– При свете? – спросила тихо Анна Яковлевна, сурово поглядев на мужа, который, удерживаясь от зевоты, неприлично щёлкнул зубами.
– Нет, сегодня лучше потушить… Господа, сегодня мы сделаем попытку добиться полной материализации… Только если кто боится, пусть скажет заранее… иначе может получиться чёрт знает что.
Все вопросительно поглядели на Семёна Петровича, но он постарался принять вид самый хладнокровный.
– Итак, господа, я тушу свет.
– А почему же в темноте? – робко заметил Семён Петрович.
– Потому, что так надо, – с презрением отвечал Стахевич, – а скажите, в коридоре у вас темно?
– А что?
– Бывает, что духи распахивают дверь.
– Так её можно запереть.
– Нельзя!
– Почему?
– Потому что никогда нельзя двери запирать во время сеанса.
– Ты уж, Сеня, не говори о том, чего не знаешь.
Стахевич потушил лампу.
Произошла какая-то лёгкая возня, но затем все уселись по местам, только кто-то ткнул слегка Семёна Петровича в грудь, но сейчас же отдёрнул руку.
Наступила тишина.
Слышно было, как за стеной рассказывала какая-то женщина:
– Иду я, милая девушка, по улице и несу сумочку в руке. Тридцать рублей стоит сумочка, и в ней зеркальце ещё. Очень хорошая вещь. И вдруг мальчишка – рванул её, милая девушка, и как словно его и не было. Я к милиционеру. А он: вы, говорит, гражданка, халатно по улицам ходите.
Семён Петрович заметил, что стол, на котором лежали руки, вдруг начал проявлять признаки жизни. Он как-то затрясся и, слегка наклонившись, топнул ножкой.
Во мраке плыли перед глазами красные и зелёные круги.
Слышно было, как тяжело дышали дамы. Атмосфера становилась беспокойной.
Семён Петрович подумал о своём служебном столе, заваленном книгами, возле окна, из которого как на ладонке видна была площадь Революции. Уж тот стол, наверное, не стал бы вытворять таких штук.
Но в это время какое-то уже довольно энергичное потряхивание стола разогнало отрадные мысли.
Положительно жутко становилось во мраке.
Что-то щёлкнуло в углу. Вдруг ни с того, ни с сего хлопнула дверь, с треском упала со стены картинка.
Было такое чувство, словно в комнату вползла огромной величины собака.
Семён Петрович ощущал, как весь он покрывается мелким цыганским потом. «Соседи коммунисты, – думал он, – вдруг пронюхают? Хоть бы духи эти тишину соблюдали».
– Внимание, – прошептал Стахевич, – цепь не разорвите…
Мрак стальным обручем сковал череп. А в углу определённо происходила какая-то возня, словно собака никак не могла найти место, чтобы улечься.
Стол вдруг затрясся, как в лихорадке.
– Яичницу с ветчиной и стакан бургундского! – послышался из угла резкий голос, – гром и молния – поторапливайся, моя пулярдочка!
Пронзительно вскрикнула Гура, ибо Семён Петрович, внезапно вскочив, разорвал цепь.
– Свету, свету, – кричал кто-то.
– По местам, – шипел Стахевич, – вы погубите медиума.
Но Семён Петрович зажёг электричество.
Все сидели во всевозможных позах, выражающих ужас, а медиум, вдобавок, поправляла свою золотистую, сбитую на бок причёску.
Но то, что увидал Семён Петрович в углу комнаты, заставило его задрожать с головы до ног и побледнеть так, как он никогда ещё не бледнел в своей жизни.
– Я жалею, – говорил он мне впоследствии, – что у меня в то мгновенье не лопнуло сердце, тем более что все к этому шло. Я тогда, впрочем, не учитывал всех последствий, и только этим и можно объяснить, что я не умер внезапно и, следовательно, остался жив. Но разве по заказу умрёшь?
И, от души сочувствуя бедному Семёну Петровичу, сознаюсь, с трудом находил я для него слова утешения.
II
Управдом Агатов относился к жильцам мягко и как-то даже по-отечески, ворчал, шумел, но в общем никого зря не обижал и плату брал нормально. И жильцы правильно рассуждали: пусть ругает, лишь бы не обкладывал.
А в особенности любили и ценили его дамы… любили именно потому, что он поистине был их покровителем и при разводах и при других зависящих от него обстоятельствах. Был управдом джентльмен.
Теперь он сидел у себя в квартире перед только что раскупоренной бутылкою русского хлебного вина и размышлял, выпить ли всю бутылку сразу или половину выпить, а половину оставить на завтра.
Поэтому, услыхав стук в дверь, он недовольно крикнул: «Ну» – и, увидав Слизина, сказал: «Какого черта, граждане, вы ко мне на квартиру ломитесь ещё и в воскресенье… Есть для этого контора».
Но при этом, случайно вглядевшись в лицо Семёна Петровича, прибавил он несколько мягче:
– Ну, что там? Налоги, что ли, все отменили?
Семён Петрович действительно имел вид, до крайности ошалелый.
– Я бы не решился, если бы не такое дело… Просто такое дело…
– Ну, что?
– Вы себе вообразить не можете… только я очень попрошу, чтобы все это между нами… щекотливое дело.
Как ни силился управдом, а лицо его так и распухло от любопытства. «Наверное, с бабами что-нибудь», – подумал он.
– Да вы говорите, тут никто не подслушает. Эти в церкви, а те на собрании.
И он кивнул сначала на одну стену, потом на другую.
– Видите ли, – начал Семён Петрович тихим и взволнованным голосом, – вчера вечером собрались у меня гостишки и стали баловаться.
– Канализацию, что ли, повредили?
– Да нет… стол вертели, знаете… спиритизм.
– Так.
– Я, конечно, был против, но не гнать же мне их… и начали, можете себе представить, вызывать… духа.
– Духа?
– И, вообразите, вызвали…
– Гм! Скажите на милость!
– Только дух-то возьми и воплотись… Одним словом, сидит он теперь у нас да и все тут.
– Как сидит?
– Просто вот так, обыкновенно сидит на стуле.
– А гости?
– Гости вчера ещё разошлись.
– Гм… А он кто же такой?
– В том то и дело… только это уж между нами… Я вас очень прошу, дорогой товарищ.
– Ладно, сказал ведь!
– Французский король… не теперешний, а прежний… Генрих Четвёртый.
– Что за история!..
– Шляпа, знаете, с пером и плащ… прямо на белье… Я уж ему свой пиджак дал… Ежели кто придёт, скажу – знакомый.
Управдом вдруг рассердился.
– Как же это вы, граждане, такие пули отливаете. Ведь есть же правило… Без прописки нельзя ночевать ни одной ночи.
– Да ведь, товарищ, разве это человек… дух ведь это.
– А с виду-то он какой? С глазами, с носом?
– Всё как следует…
– Не то чтоб скелет?
– Да нет…
– Ну, стало быть, вы его обязаны прописать. А не то – вон его.
– Не идёт… Скандалит… пулярдок каких-то требует… Кофе «Чаеуправления» не пьёт: подавай ему «имени товарища Бабаева».
– Да как же он по-русски-то?
– Духи на всех языках могут.
– Что-то это чудно. Придётся в милицию вам сбегать.
– Да ведь, товарищ, родной, как же я в милиции заявлю-то? Советское лицо, фининспектор и вдруг спиритизмом занимается… Говорят, не разрешается это.
– Конечно, по головке за это не погладят… Экие вы какие, граждане. И чего вам только нужно? Ну, живёте себе и слава богу, а тут приспичило вам духов каких-то вызывать.
– С юрисконсультом, что ли, каким посоветоваться. У меня есть один знакомый!
Управдом задумался.
– Советоваться вы, конечно, можете, а все-таки я обязан на него посмотреть.
– Только уж, ради создателя, никому…
– Ну, это там видно будет…
Управдом запер водку в буфет, и они пошли по так называемой чёрной лестнице, ногами распихивая ободранных кошек, ибо твари эти пренеуютно спали на самой средине ступенек.
Войдя в квартиру, они, чтобы не вспугнуть духа, к двери приблизились на цыпочках.
Управдом присел на корточки, закрыл один глаз ладонью, а другой приложил к замочной скважине.
Просидев так минуты три, он выпрямился и сказал как-то чудно:
– М-да…
Затем оба пошли в кухню.
– А все-таки прописать вы его обязаны, – произнёс он, – он ведь не бесплотный… дух-то…
– Товарищ дорогой, ну, а документы?..
– Граждане, это уж ваше дело за своими жильцами смотреть.
– Да ведь он же не жилец!..
– Однако живёт…
Семён Петрович с отчаянием развёл руками.
– Вся надежда на юрисконсульта, – сказал он, – схожу к нему… главное, тема такая, язык не поворачивается…
Управдом махнул рукой и вышел, оставив Семёна Петровича в обществе семи блестящих примусов.
III
Юрисконсульт был после товарищеского юбилея и зевал так, что челюсти трещали на всю квартиру.
– Генрих Четвёртый? – спросил он, закуривая и размахивая спичкой, – это тот, что ли, который в Каноссу ходил? Или… а-у-а (он зевнул)… французский?
– Французский… А впрочем, кто его знает.
– Положим, это не важно… Будем рассуждать сначала de facto, а затем de jure. Вы извините, что я все зеваю. Что мы имеем de facto? Наличность в вашей комнате какого-то постороннего гражданина. Обстоятельства его въезда нас пока не интересуют. Гм… вы имеете что-либо против его пребывания у вас?
– А как же не иметь. Нормальная площадь для двоих, потом, ведь я женат. Знаете, бывают интимные положения.
– Это нас пока не интересует. Так. Стало быть, вы желаете, чтоб он выехал?
– Очень желаю.
– Подайте в суд.
– Да ведь, Александр Александрович, неловко мне при моем служебном положении о спиритизме заикаться.
– Тогда примиритесь. Ну, пусть живёт… Ведь это, так сказать, вроде миража.
– Да у него документов нет, у подлеца такого.
– Объявите в газете, мол, утеряли документы какого-нибудь там Черта Ивановича Вельзевулова…
– Гм… Но ведь стеснит он нас ужасно.
– Да… особенно если это французский Генрих… Больше всего опасайтесь его насчёт… вот этой штучки.
Юрисконсульт сделал непередаваемый жест.
Семён Петрович побледнел.
– Ну, что вы, король-то! – сказал он несколько неуверенно.
– Ого! Почитайте-ка «Королеву Марго»… Хотите, дам?..
– Да, любопытно ознакомиться… Господи! Вот ведь незадача. Убить его, что ли?.. Как это по закону? За убийство духа?..
– Гм… Если бы вы были уверены, что тело его вполне астральное. Он как в смысле человеческих потребностей?
– Это вы в смысле уборной? Пользуется.
– Вот видите. А вдруг он после смерти не испарится? Куда вы с трупом денетесь?.. Впрочем, я могу одного медика спросить…
Юрисконсульт подошёл к телефону.
– Три четырнадцать восемь… благодарю вас… Иван Петрович?.. Здравствуйте!.. Нет, спасибо, она ничего… Вчера вырвали под кокаином… Вы извините, тут такой случай… дух материализовался на спиритическом сеансе… дух… ду-ух… да… да… И не уходит из квартиры… Что будет, если попробовать его убить?.. Что? Вчера? Да, на юбилее был… Сильно… И вино и водка… Ну, это я не считал… Ну, штук двадцать… Так не знаете?.. Извините… Дарье Ниловне ручку.
Юрисконсульт положил трубку и как-то смущённо пощупал себе лоб.
– Убивать рискованно, – сказал он.
– Ну, а что же делать?..
– Выправьте ему документы, пропишите, а потом осторожно поднимите дело. Вы не спрашивали, как у него с профсоюзом?
– Наверное, плохо.
– У вас все основания его выселить, тем более что теперь с духом особенно не будут церемониться. А может быть, он понемножку и сам как-нибудь… испарится. Вы сквозняк почаще устраивайте.
Семён Петрович вздохнул.
Он вышел на улицу.
Был тёплый майский день, сады зеленели, высоко над улицей визжали стрижи.
Семёну Петровичу вдруг пришла в голову просто шальная мысль: а ну, как все это сон, а ну, как никакого Генриха нет, а ну, как сейчас придёт он в свою комнату, растянется на диване и соснёт крепко, с хорошими снами…
Подходя к дому, он тревожно поглядел на своё окно, блестевшее на солнце высоко, под самою крышею пятиэтажного дома.
Даже шаг задержал, чтобы продлить удовольствие испытываемой надежды.
Но из подъезда вышел Стахевич в каком-то полосатом пальто и шляпе, столь необыкновенной, что, конечно, сразу возникала мысль о нетрудовом элементе. Башмаки же малиновые, с острыми-острыми носами.
– Был сейчас у ваших, – сказал он, хватая Семёна Петровича за пуговицу, – все-таки это случай замечательный (он понизил голос)… живи мы в Англии, вам бы сейчас журналисты покою не дали, мы бы уже все знаменитостями были, а тут… молчок… А явление-то между тем мирового порядка. Вот она вам, рабоче-то крестьянская.
И он пошёл, напевая:
Прекрасная Анета, Люблю тебя…Семён Петрович остался стоять в полной прострации.
«Пойду-ка к Красновидову, – решил он, – и все ему выложу. Была не была. Либо пан, либо пропал».
И, решив так, пошёл, хотя и захолонуло сердце от вполне понятного трепета.
* * *
Но здесь приходится сделать как бы маленький психологический экскурс, дабы избежать ложного представления о самой личности Семёна Петровича, для меня весьма дорогой.
Семён Петрович был храбр, как храбр всякий русский человек, то есть не боялся ничего, кроме стрельбы на сцене и начальствующих лиц. Такова уж удивительная черта. Я знавал храбрецов, с улыбкой входивших в клетку со львами и спокойно пивших чай во время пожара в доме, которые, однако, с первых же слов Ленского: «Куда, куда вы удалились» – начинали трястись как в лихорадке, а на Онегина старались не смотреть, словно боясь раздразнить его раньше времени. Я знал героев, совершавших на войне чудеса, которых приходилось силой удерживать от опаснейших подвигов и которые, служа впоследствии в канцелярии, никогда не входили в кабинет начальника, не сказав при этом (даже и при Советской уже власти): «помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его».
Если принять во внимание, что Семён Петрович был чистокровный русский человек, а Красновидов жил в Доме Советов и имел автомобиль с розовою бумажкой на переднем стекле, то будет понятно, что, сильно робея, вошёл Семён Петрович в парадное антре бывшей гостиницы и спросил, как пройти к Красновидову. Ему, впрочем, указали равнодушно.
Он шёл по широкому, устланному ковром коридору и, подходя к указанной двери, все более замедлял шаги.
Перед дверью он остановился.
Он услыхал весёлый детский смех, собачий лай и однообразное дудение на какой-то, видимо, игрушечной, трубе.
На нерешительный стук его крикнули: «Входите».
Он вошёл и с удивлением увидел самого Красновидова, сидящего на полу в громадной каске, сделанной из «Вечерней Москвы». Два карапуза плясали вокруг него, уморительно гримасничая и смеясь во все горло.
Тут же прыгал пудель.
В руках Красновидов держал дудочку.
– В чем дело? – спросил он весьма благодушно.
– Извиняюсь, я имею удовольствие быть вашим служащим по фининспекции… Я – Слизин…
– Ага… Ну и что же?..
– Я бы не решился беспокоить в неурочное время, если бы не обстоятельства, принудившие меня… просто я даже затрудняюсь выразить… Одним словом, я очень извиняюсь…
– Не больше десяти минут, знаете. Ребят возьмите. Керзон, тубо.
Какая-то женщина вошла в комнату и, недовольно поглядев на Семёна Петровича, увела огорчённых детишек.
Четыре телефона (из них один был какой-то чудной), стоявшие на столе, жутко подействовали на Семёна Петровича. «Уж один-то, наверное, зазвонит во время разговора, – подумал он, – помешают, дьяволы». И, сев на предложенное место, он начал, косясь на телефоны:
– Я только должен предупредить… Я тут не виновен… сумасбродство жены… легкомыслие молодой женщины… устроила сеанс со спиритизмом, несмотря на моё горячее сопротивление… и вызвала духа… И даже не она вызывала… а гости, и явился Генрих Четвёртый, французский король… и теперь не уходит… уплотнил самым наглым образом… Я потому вам, многоуважаемый товарищ, все это смело высказываю, потому что знаю вашу гуманную точку зрения.
И вот тут-то зазвонил телефон.
Красновидов взял трубку.
– У телефона… Да… я… Ну, здравствуйте…
Он стал слушать, и Семён Петрович видел, как сползало с его лица выражение благодушия и как наползало выражение, такое выражение, которого именно всегда боялся Семён Петрович на лице начальства. Казалось, тень не от набежавшей тучи, а от целого ненастья наползла на цветущую луговину.
– Товарищ, я прошу вас бросить подобные слова… Что значит «торчал на заседании»? Какого дьявола, в самом деле!.. А я вам говорю… Что? Это у вас в Саратове разгильдяйство!.. Моя физиономия тут ни при чем, свою поберегите!.. Шляпа куриная!
И, сказав так, Красновидов швырнул трубку.
Глаза его метали молнии, и бородка заострилась вдруг, как у Мефистофеля. С секунду он бессмысленно смотрел на Семёна Петровича.
– Что же это за безобразие! – крикнул он вдруг. – Вы, ответственное лицо, занимаете должность, а хуже всякой бабы… Мракобесие какое-то разводите. Зачем же мы с вас политграмоту требуем? Государство тратит огромные деньги, чтоб доказать материализм, а вы нам тут каких-то духов подвёртываете… Да вы понимаете, что ваши действия являются социально опасными… Сегодня вы духа вызвали, завтра другой… Мы кричим о разгрузке, изживаем жилищный кризис, а тут какие-то короли, едят их мухи с комарами, будут себе помещения требовать!.. Какое же при таких условиях возможно строительство?
– Я пошутил, – пробормотал Семён Петрович, бледный, как смерть, трясясь и конвульсивно улыбаясь, – ничего подобного не было.
– Как не было?..
– Так… я это… нарочно рассказал… для смеху.
– Да вы что, пьяны, что ли?
Семён Петрович, чувствуя, что голоса у него нет, молча утвердительно кивнул головою.
Красновидов немного успокоился:
– Где же это вы с утра налакались?
Семён Петрович нашёл в себе силы прошептать:
– В госпивной…
– Ну, положим, сегодня праздник… Только в другой раз вы, пожалуйста, когда напьётесь, дома, что ли, сидите… Как не стыдно – семейный человек…
Семён Петрович вышел, чувствуя, что земля уходит у него из-под ног.
– Приведите ребят, – донеслось из-за закрывшейся двери. – Керзон, иси!
IV
Как некий лунатик или сомнамбула – хуже, как тень самого себя, дошёл Семён Петрович до дому и поднялся по лестнице.
Счастье, что по случаю весны жильцы все с утра ещё уехали за город, и покуда в квартире разговоры ещё не поднялись. А может быть, в самом деле это все обман, мираж, игра расстроенного воображения?
Он хотел отворить дверь своей комнаты, но она не поддавалась.
– Кто там? – послышался испуганный голос Анны Яковлевны.
– Я.
– Сейчас, Сеничка.
Анна Яковлевна не сразу отворила дверь.
– Я переодевалась, – сказала она шёпотом.
– А он где же?
– А вон он.
Генрих Четвёртый сидел на балконе и курил папироску.
Это был человек с плохо выбритыми щёками и с каким-то пренебрежительно-мрачным выражением лица. Пиджак Семёна Петровича был ему, по-видимому, узковат, ибо он поминутно расправлял руки и недовольно ёрзал спиною.
– Зачем он на балконе сидит? – шёпотом сказал Семён Петрович. – Увидеть могут.
– Он только что вышел.
– А как же ты при нём переодевалась?
– Ну, что ж такого?.. Духа ещё стесняться…
– Говорят, он бабник ужасный.
– Да что ты?..
– Я не хочу, чтоб ты с ним наедине оставалась.
– Что ж, ты меня ещё к призраку ревновать будешь?
– И вообще он жить у нас оставаться не может…
– Генрих Четвёртый, очевидно, слышал последнюю фразу, ибо он вдруг встал и вошёл в комнату. Мужчина он был с виду весьма рослый.
– Кто это не может оставаться жить?.. – спросил он.
Семён Петрович проглотил слюну.
– Вы не можете…
– Во-первых, не «вы», а «ваше величество» или «сир», а во-вторых, как это не могу?
– У вас… какие документы?
– Вот один документ, а вот другой…
С этими словами король показал сначала один кулак, а потом другой.
– Это мои документы и аргументы…
Семён Петрович вспотел и мокрой рукой погладил себе щеку.
– Короли себя так не держат, – пробормотал он.
– А ты почём знаешь, как себя короли держат… Кровь и мщение! Не будь здесь дамы, я бы сделал из тебя фрикассе.
– Теперь власть трудящихся…
Король свистнул:
– Ну и трудись себе на здоровье.
– Я с вами не шутки шучу. И управдом то же говорит, и юрисконсульт… И товарищ Красновидов весьма недоволен…
– Чем же он, собственно, недоволен?
– Во-первых, что вы король… а кроме того, дух… это теперь изживается…
Генрих посмотрел вопросительно на Анну Яковлевну.
– Вы разрешите, сударыня, сделать из него фрикассе?
– Я за тебя краснею, Сеня, – сказала Анна Яковлевна, – ты пойми, это же как бы наш гость.
– Я его в гости не звал.
– Ну, другие звали.
– А это меня не касается… Потрудитесь очистить площадь… Сию же минуту… Чтоб духу вашего тут не было… Нахал…
Генрих побагровел.
– При даме? – пробормотал он и вдруг, схватив Семёна Петровича за шиворот, вышиб его за дверь, которую мгновенно захлопнул и запер.
– Я сейчас в милицию иду!..
– Кланяйтесь там…
Семён Петрович, ещё дрожа от волнения, сбежал с лестницы. Но внизу столкнулся с управдомом.
– Я обдумал все, – сказал тот, – и вы, конечно, обязаны его прописать. Сделайте публикацию в газете об утере документов от имени воображаемого лица… Фамилию я выдумал: Арбузов… Имя можно… ну, хоть Иван Иванович… Тогда он станет как бы легальным лицом, и можно на него в суд подать и всякая такая вещь. А за спиритизм, я справлялся, может вам влететь, особенно принимая во внимание вашу высокую сознательность, как фининспектора.
– А где ж я жить буду?
– Теперь дело к лету. На дачу поезжайте… а к осени как-нибудь…
– Да ведь, товарищ дорогой, я эдак площади могу лишиться.
– Вот вы всегда так, граждане. Натворите невесть чего, а потом «ах, ох» – а комната-то тю-тю.
Семён Петрович машинально пошёл по улице.
На углу попался ему Стахевич с изрядным чемоданом.
– Несу кое-чего вашему Генриху, – сказал он, – надо входить в положение… Человек триста лет витал где-то в эфире и вдруг – бац… естественно, что ему не во что переодеться… А я все-таки думаю рассказать все это одному знакомому англичанину, пусть напишет в Лондон. Там это воспримут культурно.
* * *
Я очень люблю осень, именно ту её пору, когда уж зима, притаившаяся где-то в сибирских равнинах, забирает себе в лёгкие побольше воздуха и замирает, готовясь сразу выдохнуть его на черные поля, на золотые леса и рощи.
Поэтому, выбрав в середине октября ясный день (было воскресенье), поехал я в одну деревню верстах в двадцати от Москвы, где когда-то счастливо прожил целое лето.
Гуляя по опустевшему березняку, я увидал вдруг человека, грустно сидящего на пне и словно погруженного в задумчивость.
– Семён Петрович! – воскликнул я с изумлением.
Он тоже узнал меня и пошёл мне навстречу.
Боже мой! До чего может измениться человек в течение каких-нибудь четырёх месяцев! Передо мною стоял призрак былого Семёна Петровича, стоял и жалко улыбался.
– Готовлюсь к зимовке, – сказал он, – очень, знаете, утомительно каждый день в Москву ездить… но приходится… Впрочем, я на днях начинаю процесс…
– У Арбузова ведь не может быть никаких данных. Юристы говорят, что закон на моей стороне.
– Ну, а супруга как? – спросил я и покраснел, поняв неуместность моего вопроса.
– Мерси… Её тоже незавидное положение… в одной комнате с неизвестным человеком… да и страшно ей… она с детства привидений боялась… только вот разве что к Москве она очень привязана, ни за что уезжать не хочет… Она ширмочкой… вы простите, у меня насморк… отгородилась.
И он долго сморкался, немного отвернувшись.
Кругом было тихо.
Иногда только жёлтый листик срывался с ветки и шурша падал на землю.
Вдали печально, словно плача об ушедшем лете, просвистел поезд. Темнело.
Пора было возвращаться в Москву.
Мы расстались.
Человек без площади снова уселся на пень и опять погрузился в задумчивость.
А я быстро шёл к полустанку и, сознаюсь, с нехорошею радостью думал о своей маленькой, но неоспоримой комнатке с исконным видом на Замоскворечье и с такою мягкою широкою кроватью.
И немного это – шестнадцать квадратных аршин, но радуйтесь обладающие ими, и плачьте их утратившие.
* * *
В начале зимы, простудившись в поезде, умер Слизин.
Стахевич и Арбузов в настоящее время успешно содержат интимное кабаре.
Анна Яковлевна ещё похорошела, но, пожалуй слишком полна.
* * *
Граждане, не общайтесь с загробным миром.
Выходные данные
СУДЬБЕ ЗАГАДКА
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Заведующая редакцией Л. Сурова
Редактор С. Бессонова
Художник Е. Трофимова
Художественный редактор А. Данилин
Технические редакторы Н. Калиничева, М. Гречнева
Корректоры З. Кулемина, Т. Старченкова
Сдано в набор 23.04.90. Подписано к печати 07.09.90.
Формат 70 х 108 1/32 Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Уел. печ. л. 16,80. Усл. кр. отт. 17, 15. Уч. изд. л. 16,60.
Тираж 50000 экз. Заказ 822. Цена 2 р. 90 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий»,
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16
Примечания
1
Что бы это ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих (лат.)
(обратно)2
«С восторгом Лососинову посвящается» (нем.)
(обратно)3
И все это ради пустяка,
который нас чарует и не отпускает
и который зовётся любовью (фр.)
(обратно)4
Прыгай! (англ.)
(обратно)5
Наконец девочка
Спокойно вас покидает (фр.)
(обратно)6
Извините за выражение (фр.)
(обратно)7
Государь! Я знаю, как спасти нацию! Разрешите мне говорить! (фр.)
(обратно)8
Перевороту (фр.)
(обратно)9
Это хорошо сказано! (фр.)
(обратно)10
игру (фр.)
(обратно)11
Эта прекрасная женщина, а она действительно прекрасная (фр.)
(обратно)12
Надо работать (фр.)
(обратно)13
Я люблю погожие воскресенья,
Парижские воскресенья,
Когда женщины одеты в белое,
А мужчины в серое (фр.).
(обратно)14
Пляска смерти (фр.)
(обратно)15
«Всей корпорацией», в полном составе (лат.)
(обратно)16
Говори по-французски (фр.)
(обратно)17
Белье (фр.)
(обратно)18
Есть нечто… (фр.)
(обратно)19
Чертовски милы (нем.)
(обратно)20
«Интернациональная компания» (фр.).
(обратно)21
Человеку свойственно ошибаться (лат.)
(обратно)22
Ну, Лели, сыграй, дитя мое (фр.)
(обратно)23
«Ну что, мадемуазель, не пора ли замуж?» (фр.)
(обратно)24
Господин слишком любезен! (фр.).
(обратно)25
Итак, Климыч, вы счастливы со своей Агафьей? (фр.).
(обратно)26
«Я предчувствую, что эти трудные поиски мне не принесут ничего, кроме новых несчастий» (фр.).
(обратно)27
Но две души живут во мне. Фауст. (нем.).
(обратно)28
Мой дорогой друг (фр.)
(обратно)29
О, времена, о, нравы (лат.)
(обратно)


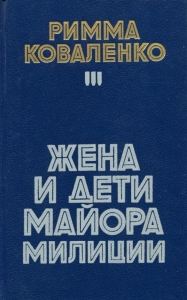
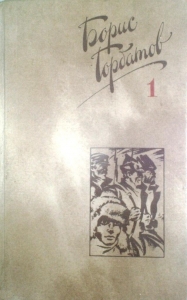


Комментарии к книге «Судьбе загадка», Сергей Сергеевич Заяицкий
Всего 0 комментариев