Старая дорога
ПОВЕСТИ
ТУРГАН-ПТИЦА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
…У камышового колка мелькнула тень. Матерая волчица, остановившись на крутояре, осмотрела плес, потянула воздух напряженными, влажными и нервно подрагивающими ноздрями: знакомые и опостылевшие запахи снега, камыша да чернотала. Волчица клацнула зубами и коротко взвыла. Из парной пасти вызвался злой и голодный рык. Скованно, всем телом повернувшись на яру, она метнулась в камыши и одной ей знакомыми тропами затрусила к селению.
Ближе к полуночи у крутояра, где стояла волчица и где санная дорога прижималась к берегу, показался одинокий путник. Увязая в снегу, отворачиваясь от встречного ветра, он устало сутулился под тяжестью ноши.
На человеке черный полушубок со множеством пестрых заплат. Мешок, закинутый за плечо, обледенел, смерзся с полушубком. Снег забросал его, отчего и путник и его ноша превратились в большой белый ком, медленно и неуклюже двигающийся по дороге.
Временами путник останавливался, не снимая рукавицу, приподнимал с уха шапку и, обернувшись, всматривался и вслушивался в ночь. У развилки дороги он остановился (уже в который раз!), и вдруг сердце его забилось часто и громко, будто заколотилось изнутри о ребра. Путник заторопился в сторону от дороги, вскарабкался на яр и, втиснувшись в гущу камыша, затих.
Вскоре с низового конца плеса донесся скрип полозьев. Кто-то ехал следом на двух высоких, старательно прикрытых парусиной возах. Впереди трусила собачонка. Сильные, откормленные кони, не убавляя бега, с ходу пластали сугробы. Сидевший на переднем возу натянул вожжи, крикнул что-то второму, и подводы остановились. Потом оба, откинув высокие мохнатые отвороты тулупов, соскочили с возов.
Человек, схоронившийся в камышах, узнал их: «Крепкожилины, гады… У Красавчика, знать, только для отвода глаз сети-то выбили, а потрошили зимовальные запретные ямы», — беззвучно прошептал он. Но услышал разговор и насторожился.
— Не иначе, чужаки сблудили, маячненские, поди-ка. Яшка, проверь-ка супони. Чересседельник тоже… Не набить бы холки. Тяжелые возы-то. Да поживей, можа, настигнем.
— Если наши — должны догнать. Другой дороги нет, — ответил Яков, поправляя конскую сбрую.
— Прорубь еле-еле затянулась. Ах ты, курва! Новенькие сети сблудил… паскудник.
— Ладно, тять, расстраиваться. Мы тоже не в пролове. Загоним рыбу повыгодней — и сети будут, и хаир останется немалый…
— Деньга бежит, так пусть крадут? Да я за каждую сеть башку оторву любому, мать его… — последовало грязное ругательство. — Под лед загоню стервеца, только попадись он мне.
— Трогаемся, тять, может, и вправду словим.
Тот, о ком говорили Крепкожилины, вспотел от ярости и бессилия: «В прорубь, стало быть, меня. Вас, душегубов, сунуть под лед следовало бы. Сами сблудить заставили, а теперь… Да мне, может, подохнуть проще, чем чужое брать… А детишки куда? Прасковья одна как с ними?..» Он неосторожно дернулся и тут же пожалел об этом. Собачонка, пока хозяева занимались лошадьми да справляли нужду, устало лежала у возов. Заслышав шорохи, она, захлебываясь лаем, покатилась к камышам.
— Че еще там? — спросил старик и сквозь заиндевелые ресницы посмотрел на яр.
— Лиса, должно быть, — равнодушно ответил Яков. — Или серый.
— Лошади бы учуяли. А ну-ка, глянь…
Яков сорвал с воза увесистую граненую пешню. Почуяв подмогу, собачонка залилась пуще прежнего, подступила к зарослям.
Затравленным зверем сквозь сетку камышовых стеблей человек впился глазами в приближающегося Якова, а сам осторожно, чтоб окончательно не выказать себя, потянул из-за пояса топор.
— Цыц, пустобрех, — Яков зло пнул ногой псину, нерешительно помялся у кромки, но войти в камыш не отважился. Постоял, сбежал с яра к подводе.
— Лиса… не иначе.
— Поехали. Мороз-то какой. Аж лицо узлом стягиват.
Лошади с места тронулись рысью. Под тяжелыми возами зажалобился снег.
Когда Крепкожилины скрылись за излучиной, человек вышел из укрытия. Разминая отекшие ноги, он потоптался у колка, поправил мешок и, унимая дрожь в теле, спешливо зашагал по еле приметному санному следу.
2
Гривастый пегий конь в передней упряжке тяжело дышал. Из широко раздутых, вздрагивающих ноздрей валил пар, изо рта с удил — падали хлопья пены. В гриву набивался снег, таял на разгоряченном теле и стекал, намерзая у груди гребешком сосулек. Когда конь сбивался с рыси, старик Крепкожилин нетерпеливо трогал вожжи, понукал:
— Но-но, Пегаш. Нажми, родной. До дома рукой подать.
Вдали замелькали редкие тусклые огоньки, и кони, почуяв дом, перешли на крупную рысь.
У въезда на яр Пегаш не сумел взять крутизну откоса. Воз остановился, попятился. Конь напрягся, но хомут снизу сдавил ему шею. Пегаш всхрапнул, откинул голову и, чтобы не опрокинуться на спину, упал на колени. Яков с отцом соскочили с возов, вцепились в оглобли. Почуяв подмогу, Пегаш рванулся, вскочил и под бодрящие крики вынес сани на заснеженный берег.
По улицам проехали, не сбавляя хода. Когда подводы остановились у крепких тесовых ворот, кони загнанно дышали. Яков спрыгнул с воза, перемахнул через забор. Взвизгнул засов, и тягуче заскрипели ворота.
Посреди двора на столбе горел фонарь.
«Изводят керосин, — недовольно поморщился старик, но тут же смягчился: — Ждут».
На пороге появилась Меланья. Пряча руки под цветастый передник, засуетилась у возов. Маленькая, сухонькая, она выглядела подростком рядом с двумя здоровенными мужиками в тулупах.
— Стол готовь, без тебя управимся. Не бабское дело, — отослал ее старик. А Яков ласково взял мать за плечи и повернул к крыльцу.
Сани вкатили под просторный деревянный навес посреди двора. Уставших потных лошадей завели в камышовую конюшню, снаружи и изнутри обмазанную глиной с примесью коровяка. Пегаш потянулся к ведру, но Яков дернул за повод:
— Не балуй. Отстоись. Ешьте вот… — насыпал в деревянное корыто по ведру овса и накинул на коней сброшенные с себя тулупы.
…В жарко натопленной избе шумно и долго раздевались. Воротники черных добротных полушубков, надетых под тулупы, и шапки на собачьем меху заиндевели и сейчас курились густым белесым туманом. С трудом стащили с ног длинные кожаные сапоги, густо смазанные дегтем и свиным салом.
Старик натянул валенки, которые Меланья достала с печи и услужливо подала ему. Яков отказался: рад был, что сбросил с себя все лишнее. Он заглянул в переднюю. Мать предупредила:
— Спит. Пожалела будить-то, пусть дрыхнет.
— Воли много даешь… — пробурчал старик. Он сидел насупившись, жесткими пальцами растирал льдинки в черной, с обильной проседью, бороде.
Меланья чувствовала, что муж вернулся сердитым, и поэтому робко посматривала на него, двигалась от стола к печке неслышно, боком, словно боясь помешать кому-то. Когда старик не в духе, лучше не подворачиваться под его тяжелую руку. А насколько тяжела мужнина рука, Меланья давно узнала: за тридцать лет жизни с Дмитрием Самсонычем радостей, пожалуй, меньше было, чем обид да слез.
И сейчас, услышав ворчню мужа, Меланья, метнулась было от стола, шепча угодливо:
— Сейчас подниму Аленку.
Но Яков, исподлобья взглянув на отца, остановил мать, мол, сам разбужу, и, косолапо ступая затекшими ногами, прошел в переднюю.
Горенка была прибранной. На зеркало в резной раме черного дерева и горку с поблескивающей позолотой посудой наброшены длинные, искусно и щедро расписанные рушники. И на комоде новая накидка. И тумбочки-треноги под черным лаком, расставленные по углам, тоже накрыты белоснежными накидками.
«К масленице», — догадался Яков.
В переднем углу перед иконостасом горела лампада — голубь на трех изящных позолоченных цепочках. В тусклом колеблющемся свете лампады позолоченные оклады икон горели огнем, и все убранство придавало дому торжественность, а потому и наступающий праздник представился Якову значительным и нужным. Он подошел к зеркалу, всмотрелся. Лицо почернело, глаза ввалились от бессонницы. Всю прошлую ночь, без отдыха, не смыкая глаз, вывозили рыбу из зимовальных ям. Сазаны там лежат многослойными пластами. Вырубай майны да выгребай рыбу и замораживай на льду. Четыре ездки сделали. Рыбу на стану у Красавчика припрятали. Недалеко от Красавчика для отвода глаз сети загодя выбили — пусть видят, что и Крепкожилины в законом положенных местах промышляют.
Когда возвращались — хотели сети выбрать, а не тут-то было. Опередил кто-то, всю справу как корова языком слизнула.
…Но гребанули хорошо. Почаще бы так! К весне отец, пожалуй, выделит его. Заживут тогда они с Аленой отдельным хозяйством. И не придется выслушивать ворчание старика…
Яков потрогал брови. В зеркале появились потрескавшиеся руки. Правду говорят, что он весь в отца: коренаст, смугл, скуласт по-азиатски, уши торчком, смоляные завитушки волос. И губы плотно сжаты, как у отца, и рот такой же великоватый.
…В глубине зеркала мелькнула Алена. Яков резко обернулся и обнял жену.
— Проспала. Тятя не серчал? — в глазах радость и тревога.
— Нет, за что же, — соврал Яков, не желая огорчать Алену.
…За ужином мать сообщила:
— От Андрея письмо. Алена, куда я дела его?
Алена поднялась и ушла в переднюю.
— Вчерась Илюшка Лихач в волости был. Из управы, слышь, передали.
Яков читал медленно, грамоту не шибко знал. Да и брат пишет по-ученому размашисто, крючки да хвостики сплошные: враз и не разберешь, что к чему.
Дмитрий Самсоныч слушал, старательно разжевывая крепкими зубами говядину и хлебая щи большой, ярко расписанной ложкой, и только после того, как Яков, окончив читать письмо, отдал его матери, а Меланья бережно сложила бумажку и сунула в кармашек под передником, он плеснул в рот стакан водки, закусил хрусткой квашеной капустой и проговорил сердито:
— Выводит, домой вертается… — Налил еще стакан водки, но в сердцах отодвинул его. — Домой. Зачем? Кого врачевать? Лихача да Макара? Что с них возьмешь? Вошь — не грош. А я-то мошну вытряхивал, думал: хоть меньшой в люди выйдет.
Старик считал, что Андрей далеко в грамоте пошел, латынь как свои пять пальцев знает, хворь любую из человека выгоняет. Ученый человек, врач… И вдруг — в село!
…Мысли о сыне вконец вывели старика из себя. Он изрядно захмелел, пил не закусывая, ругался, выказывай тем самым недовольство решением меньшого…
Меланья, зная суровый характер мужа, незаметно скрылась за печку, забралась на свою кровать, укрылась на всякий случай теплой одеялкой и чутко прислушивалась к тому, что происходит за столом. И Яков с Аленой давно вылезли из-за стола, а хозяин дома все еще буйствовал, пьяно бормотал.
Под столом лежала пустая бутылка, на столе — другая, недопитая. Старик пытался запеть, звал жену, ругал Андрея.
Перед тем как лечь, Яков вышел напоить коней, засыпать овса и заложить сено. Пегаш, почуяв хозяина, всхрапнул, потянулся навстречу. Он жадно и много пил. А потом, успокоившись, захрумкал овсом.
— Жуй-жуй, — Яков похлопал ладонью по крупу. — Завтра работенки хватит. До Красавчика не раз обернуться надо.
Раздеваясь в горенке, Яков слышал пьяное мычание отца:
Тетка Меланья Сумлительная баба, По двору ходит, Руками разводит. Ой, горюшко-горе, Руками разводит.Алена уже лежала в постели. Яков нырнул под одеяло и будто ожог почувствовал от прикосновения к молодому упругому телу жены.
3
А в это время, прячась в тени камышовых изгородей, волком озираясь по сторонам, от забора к забору пробирался к своей мазанке Макар Волокуша.
Холодом сводило лицо и руки. Спина и ноги ныли от усталости. Чем ближе подходил Макар к дому, тем тяжелей казалась ему ноша. Одолевая длинную дорогу, ему не раз хотелось отдохнуть, но Макар не позволил себе этого, потому как знал: остановись он на минутку, дай передышку ногам, присядь в сугроб — и уже не подняться, не увидеть дома, Прасковью, детей…
Он переборол себя, дошел. У калитки, сколоченной из просмоленных обломков старой бударки, Макар остановился, прислонился к невысокому, по грудь, камышовому забору, затих. Чутко вслушиваясь в ночные звуки, проследил за улицей. Не заметив ничего подозрительного, успокоился.
Где-то по соседству надрывно прогорланил петух, ему ответил другой, а вскоре проснулся весь полуночный петушиный хор. Налетел колючий ветер. Зашептали камышинки на повети, застонали заборы, с чьей-то крыши сорвалась доска и звонко ударилась о мерзлую землю.
Макар вошел в мазанку. В углу перед образами коптила лампадка. Огонек ее трепыхался, отчего иконы сложно оживали. Левый глаз божьей матери почернел от копоти, другой неестественно блестел в сумраке мазанки, и Макару показалось, что она, грустно раздумывая о чем-то, прищурилась одним глазом и (неодобрительно смотрит на него. Он машинально перекрестился, зашептал молитву.
Потом вытянул из-за пояса топор, упрятал его под лавку, сбросил с себя вместе с полушубком тяжелый, затвердевший, как колотушка, мешок, присел у стола. Руки непослушно дрожали; и по этой причине он долго не мог закурить.
Когда успокоился малость, отодрал мешок от повлажневшего полушубка, спрятал ношу под печь — подальше от глаз, повесил в запечье полушубок на крупный граненый шпигорник, опять опустился на длинную, до блеска отполированную детскими штанами, скамью. Шел — думал об отдыхе, о сне, а добрался вот — и спать не хочется. Сквозь клубы табачного дыма, плававшие в воздухе слоистыми волнами, окинул взором мазанку.
На широкой печи, застланной чаканкой и старым тюфяком, сшитым Прасковьей из цветастых лоскутков, спали дети. У края лежал старший — Николка. На масленицу ему одиннадцать стукнет. Уже большой, и сам это чувствует. На днях сказал матери:
— С тятей работать пойду. Хватит шманяться…
Прасковья со слезами радости на глазах передала его слова мужу. Макар после этого несколько дней испытывал непонятное ощущение. И радостно было ему, что сын подрос, в помощники годится. Но и расстроили его Николкины слова: в таком возрасте ему бы альчики еще гонять да в школу бегать.
Подрос. А там, глядишь, и Васька с Игнаткой на ноги встанут… «Три сына», — подумал Макар, и на миг в груди затеплилась гордость. Но тут же это ощущение погасло, словно немощный огонек лампады на ветру. Чем гордиться, если лежат дети едва прикрытые рваными фуфайками, из-под которых выпятились голые потрескавшиеся пятки.
Порывистый норд, содрогнув мазанку, ворвался в нее сквозь невидимые щели рам и чуть приметно полыхнул огоньком лампады. По стенам метнулись причудливые тени, блеснула глазом божья матерь. Макар отвернулся от нее, посмотрел на Прасковью. Она лежала на деревянной кровати, застланной чаканкой.
…Прошлой осенью на раскатах, возле Макарова стана, городские охотники подстрелили лебедя, а когда стали разделывать птицу и бросать перо в воду, Макар не стерпел, подошел к ним.
— Пошто добро выбрасывать?
Охотники переглянулись.
— Аль собирать будем. Рехнулся, мужик?
— Дай сюда. — Макар ощипал лебедя, аккуратно собрал перо и пух в мешок.
— Вот спасибо, — порадовались городчане. — Мы тебя покличем когда надо. А то у нас нет любителей бабьим делом заниматься.
Макар стерпел шутку, промолчал.
А Прасковья была несказанно рада: не случай, так и не видать бы ей такой пышной подушки.
Прасковья спала неспокойно, что-то бормотала сквозь сон. Из-под тулупа белели голые, ничем не прикрытые плечи и грудь. Макар долго не мог отвести взгляда от жены: иссохлась с детишками, изболелась. «Эх, житуха-голодуха, — подумал он и вздохнул. — Ребятишек бы только на ноги поднять. Тогда и помирать можно».
Не раздеваясь, Макар прилег рядом. Прасковья испуганно открыла глаза. Вначале, видимо, не поняла, а разобралась — не то спросила, не то сказала сама себе:
— Пришел… наконец-то.
— Вернулся. Спи.
Прасковья тихо всхлипнула и уткнулась лицом мужу в грудь.
— Ты чего, дуреха?
— Страшно, Макарушка. Худа боюсь, огласки.
— Господь милостив. Не даст в обиду.
— То-то и оно, что бог. Грешно перед ним.
Макар покосился на отсвечивающий глаз божьей матери.
— Оно так, конечно. Но коли пораскинуть мозгой, и греха в том нет никакого. Кусок всякому нужен. Да и сами они виноваты, хозяева объявились: их река! Ежели каждый по своей реке будет иметь, нам что делать? Их во́ды, так уж и сети отбирать?.. Я, Прасковья, чужого не трогал. Свои вернул. Живоглоты… Грехов-то они на душу взяли побольше мово…
Но Прасковья опять за свое:
— Ой, боюсь, Макарушка. Им, лиходеям, человек что соринка…
— Тише, Николка ворочается. Спи…
Замолчали.
Впадая в забытье, Макар слышал вздохи жены, ее беспокойную возню, сквозь сон донеслось:
— Прости, господи, душу грешную. Не ради корысти и злости грех на душу приняли — ради детишек, куска хлебушка ради.
Засыпая, подумал: «Зря Прасковье сказал, куда пошел. Рассопливилась…»
4
Утро порадовало Дмитрия Самсоныча необыкновенной тишиной, хрупким снегом, розовым искристым воздухом над причудливыми красноватыми сугробами. Пока Он взбирался на воз, Яков с трудом удерживал застоявшихся, запряженных в сани коней.
Старик правил Пегашом, Яков — рыжим иноходцем. Пегаш, как всегда шедший первым, привычно остановился у приплотка, покосился на хозяина и, перебирая мясистыми губами, заржал, прося корм. И эта умная повадка жеребца, и ласковое зимнее утро, и расторопность Якова, успевшего уже распустить возы и стянуть с них старую парусину, — все это настраивало Дмитрия Самсоныча на благодушный лад.
— Наше почтеньице, — с улыбкой поздоровался он с плотовым Резепом. Тот стоял у весов, с которых рабочие сгружали уложенную штабелями рыбу, и с готовностью ответил:
— Утро доброе, Дмит Самсоныч, с уловом удачным.
— Не жалимся. Удачный, — подтвердил старик. — Ежели сторгуемся, с десяток возов подкину.
— Отчего не сторговаться. Со всем нашим удовольствием к вам. Только многовато будет, — схитрил Резеп. — Выхода́ полнехоньки, куда ее девать? Вдруг оттепель — считай, плакали денежки.
— Откуда же теплыне-то быть? После масленой — ино дело, дак до нее ишшо не токма рыбу, а и промысел весь в город свезти успеть можно, — стараясь быть спокойным, ответил старик. Но Резеп насквозь видит показное спокойствие и рад, что посеял в душу его тревогу. Резеп выделяет Крепкожилиных среди прочих ловцов, с уважением относится к их хватке, сноровке и какому-то лютому стремлению добыть и заработать больше остальных. И все же плотовой, когда это можно, нет-нет да и озадачит старика и Якова, давая понять, что хоть, мол, вы и справные и удачливые мужики, все равно вам не прожить без Ляпаева, а значит, и без него, Резепа. Вот так! Хочу, мол, — куплю рыбу, хочу — от ворот поворот дам. Правда, зимой особенно не нажмешь. Развернет ловец подводу, стеганет вожжами коня, да и смоется на другой, соседний промыслишко. Зимой Резеп податливей. Летом иное дело. Пе́кло, мухота. Чуть продержал рыбу без льда и соли — киснет, пухнет. Тогда уж ловец нишкни, замолчь — и точка! Резеп — бог, потому как нужда цены не ждет. Сколь дают — то и бери.
Дмитрий Самсоныч тоже осторожничает. Резеп — что ни говори — плотовой. Если бы Ляпаев, к примеру, слабинку не давал ему, иное дело. А то — держится за него, власть дает. Хитер хозяин: знает, чем опутать мужика. Вот и старается Резеп, будто свое добро множит — из кожи лезет. Как тут ему почтение не оказать. От поклона лишнего спина не изломится, от слова мягкого язык не отсохнет. А учесть ежели задумку Дмитрия Самсоныча, так уж и подавно дружбу с Резепом нарушать не резон. Подкинуть плотовому — не грех, лишь бы по сходной цене брал, а уж рыбкой-то Крепкожилины завалят промысел. Да вот еще с отцом Фотием бы сговориться. Яму монастырскую надо прибрать к рукам да купить невод, нанять ватагу. Тогда успевай только вывозить рыбу. Яма-то лицевая, по весне первые косяки сельди там, ходовая рыба валом валит. «Найдем общий язык, — думает старик. — Кака выгода отцам святым яму на полста паев делить. С каждым рыбаком расчет — канители не оберешься. А тут кругленькая деньга из кармана в карман. И ему, Дмитрию Самсонычу, выгода, и монастырю не в ущерб. Яму-то сами не пользуют, в аренду и так отдают. А яма — клад. Не зря название «Золотая» прилипло. Золотая и есть. Зимой в сажень зимуют в ней сазан да сом».
Старик вспоминает две прошедшие ночи — Яшка еле успевал на сани пылкую мороженку убирать. Слава богу, все обошлось. Прошлой зимой тоже было заглянули, да напоролись на стражу — святые отцы на бога мало надеются, надсмотрщика в человеческом облике держат. Стало быть, надежней, чем господь…
«Тьфу! — брезгливо морщится старик. — Прости, осподи, душу грешную».
Резеп вяло обходит воз, присматривается, называет цену. Дмитрий Самсоныч не верит ушам, возражает:
— Где же это, Резепушка, видано: полтина — пуд. Не бывалось такого, чать… Вспомни, голубчик.
Плотовой молчит, пожимает плечами, выжидает.
— На базаре в городе трешка за пуд, — пытает его Крепкожилин.
— В Петербурхе — червонец, — спокойно и даже с издевкой отвечает Резеп. — А хранцузы — так те чистое золото пуд на пуд отваливают.
«Песий хвост, поганец», — ругается про себя старик, но вслух говорит:
— По семь гривен куда ни шло…
— За таку цену я те продам полсотни возов, — бубнит Резеп и кивает головой на отъезжающих рыбаков, — у всех по пять гривен берем…
«Дык… был бы один воз, и разговор бы не вел, — думает Дмитрий Самсоныч, — а когда ежели десяток возов, много червонцев не досчитаешь тута…»
Резеп после долгих препирательств как бы нехотя накинул гривенник на пуд. На том и остановились.
— Хвост собачий, — вслух ругается старик, погоняя Пегаша. — Обжулил, стервец.
И хотя знал Крепкожилин, что, вероятнее всего, Ляпаев сам назначает цены и Резеп лишь исполняет его волю, злоба вся его была нацелена на плотового. Да и не могло быть иначе: Ляпаев остается недосягаем, где-то в стороне, за чертой, а Резеп — вот он, перед глазами, уперся — и ни шагу… Поневоле злоба и лютость берет.
Путь держали к острову Красавчик, где много путин сряду стоит их наполовину врытая землянка. Следом за Пегашом, едва не задевая подковами о задок передних саней, напористо бежал высокий рыжий иноходец. Им правил Яков.
…Когда нагрузили сани рыбой и, чтоб передохнуть, на минуту зашли в землянушку, Дмитрий Самсоныч достал из внутреннего кармана черного дубленого полушубка бутылку водки, нашарил в углу полатей оббитую эмалированную кружку.
— Держи, погреемся в дорогу.
Яков упрашивать себя не заставил, вылил в рот все до капельки. Шумно потянул подвижными чуткими ноздрями прелый сырой воздух, пожевал корку хлеба.
— Тятя, заскочим к Торбаю.
— Это зачем ишшо?
— Может, дороже возьмем… Сазан-то отборный. На кой хрен по дешевке Резепу отдавать?
— Торбай тожить не пальцем делан. Да и в стороне он, верст пять круглить…
— Летось, помнишь, красеньку Торбаю сбыли удачно.
Да, помнит Дмитрий Самсоныч такой случай. Покатных осетров насажали длиннющий кукан — не менее полста голов. Резеп заартачился что-то, сбил цену. Благо ветер был попутный, вздернули Крепкожилины парус — да и к Торбаю. Хозяйство его расположено у соседнего села Маячного. Народу здесь хватает, да и пришлые охотно идут внайм — жилье есть. Промыслишко не ахти какое — выходец один на десяток чанов, да ларей столько же. Но казарма для жилья приличная, свежерубленая. Нехристь, а заботится о людях, да и цены у него божеские. Вот и пойми — у него или у Резепа креста на шее нет.
— Испробуем, — решает старик.
Торбая на промысле они не застали. Вокруг ветхого плота лежали нетронутые сугробы. На дверях лабаза тяжелый угловатый замок.
— Повымерли, никак? — сердито прогудел Дмитрий Самсоныч, а Яков виновато молчал.
— Должен быть живой человек, — опять проворчал старик. — Прорубь свежая, не затянулась.
Из покосившейся мазанки по соседству с казармой для сезонного люда и конторкой, скрипнув обитой мешковиной дверью, вывалился старик. Он постоял, соображая что-то, потом опоясался веревкой поверх фуфайки, на которой не было живого места от заплат, и неторопливо двинулся к прибывшим. Был он худ и желт лицом, как может быть худым и измученным человек с запущенным туберкулезом. Из-под треуха торчали лиловые, с просинью, широко оттопыренные уши.
— Торбай нет, домой пошла, — сказал старик, коверкая слова.
— Скоро вернется?
— Торбай там будет жить. — Казах махнул рукой на восток.
— Где это — там?
— Гурьеп… Торбай большой шаловек стал…
— Что так? — заинтересовался старик Крепкожилин.
— Торбай второй жена берет, Калым берет, баран, берблюд, конь берет.
— Насовсем уезжает?
— Сопсем-сопсем. Большой шаловек Торбай, сопсем-сопсем, — сокрушался казах.
— А промысел как же?
— Вай-вай… торгует, все торгует… Жалко, жалко Торбай.
— Продал уже?
— Нет, торгует… Как торгует, Торбай Гурьеп пойдет…
— Не пойму я тебя, старик. Где же Торбай?
— Алгара. Там-там…
— Значит, скот будет пасти?
— Зачем пасет? Торбай богатый. Другой пасет. Торбай кошма лежит, бешбармак ашает, кумыс пьет, молодой баба играет…
Когда возвращались, Яков спросил:
— Что это с ним, тять?
— Обморозился. Да и туберкулез доконал. В грязи живут. Чахотка через одного… И вроде бы так и положено.
Яков болезненно морщился, припоминая лицо старика, а мысли Дмитрия Самсоныча опять и опять возвращались к Торбаю и его промыслу.
5
Ляпаевский промысел стоит на крутоярье, за околицей Синего Морца. Со стороны моря, за две-три версты от самой излучины норовистой глубокой Ватажки видны лишь стройная в липовом кружеве церквушка на взгорье да рубленая, неестественно вытянутая казарма, с крохотными оконцами и громоздкой печной трубой, почерневшей от бесконечной копоти. По соседству с этим унылым неуклюжим зданием четыре наполовину втиснутых в землю просторных выхода — полуподвалы с рядами чанов и ларей для посола рыбы, высокий с пологой односкатной крышей амбар для хранения всевозможного промыслового снаряжения. На отшибе — кошеварня и банька, вся прокопченная, с курью избушку. Вдоль берега — плот: тесом крытый настил, на дубовых сваях. Между плотом и рекой открытый настил, тоже на сваях — приплоток. На нем в сторонке — новенький сосновый сруб, еще не почерневший от соленых ветров и промозглых осенних дождей. Это конторка.
Весь промысел и каждое строение в отдельности чем-то напоминали хозяина Ляпаева, тучного, медлительного в движениях, угловатого вдовца пятидесяти лет. Коротко стриженная окладистая борода с нитями серебра усугубляла это сходство, напоминая тут и там торчащие из пазов срубов лохмотья пакли.
На Синеморский промысел хозяин приходил чуть не каждодневно, а потому управляющего не держал, взвалив все хлопоты большого сложного хозяйства на плотового Резепа, в чья прямые обязанности входит решительно все — от приема рыбы до сбыта. Дело это, коль начистоту говорить, хлопотное, богатое неприятностями. Но Резеп справляется с ним вроде бы шутя, играючи.
Целыми днями, от темного утра до густых вечерник сумерек, он носится по плоту, к выходам или конторке, покрикивает на рабочих, ругается с ловцами, выторговывая каждую копейку, словно ведет свое собственное дело, подгоняет баб, делая все это с непонятной устремленностью и даже каким-то остервенением, будто заложена внутри него туго закрученная пружина — до того стремителен, быстр, энергичен. Это качество его никак не увязывается с внешностью. Резеп в свои тридцать лет непомерно растолстел, лицо — спелым подсолнухом. Сходство это подчеркивается ярко-желтыми жиденькими волосами на крупной лобастой голове.
С такой наружностью ходить бы ему не спеша, без излишней суетливости. Степенность пошла бы ему, ведь на Синеморском промысле Резеп после хозяина — второе лицо. Каждое слово его воспринимается как закон, выполняется беспрекословно. Но Резеп не позволяет себе такого даже в отсутствие Ляпаева, потому как знает, что приставлен к делу большому, ответственному, вразвалочку продержишься здесь недолго. Надо стараться, а уж за хозяином не пропадет. Тот ценит плотового за разворотливость, смекалку и ревностную службу — с дураком да лентяем дело мигом захиреет.
Ляпаев приютил Резепа годиков десять назад. Резеп появился на промысле средь зимы, когда в рабочих нужды не было. Заявился под вечер на просторный ляпаевский двор и с ходу — к «самому».
— Пристрой куда-нибудь, Мамонт Андреевич. Окажи милость, — решительно заговорил он. — Потому как — пропаду. А я уж всей душой и телом… к вам.
— На кой ляд мне оно… тело-то твое, — лениво отозвался Ляпаев. — Вот ежели душой прислонишься — это другое дело. Пошто пропадаешь?
— Один, как травинка в степи. Дядька согнал с двора, жить негде.
— За что прогнал-то?
— Супруга у него молодая. Вторая она. Ну и побоялся, как бы я не того… с нею.
— Ты откуда сам-то? — заинтересовался Ляпаев.
— Из волости. Шубинские мы.
Резеп отличался от синеморских парней вежливым обращением, мягким, вкрадчивым голосом, а в глазах было столько собачьей покорности, что Ляпаев поначалу насторожился, но под конец разговора сжалился и оставил Резепа в хозяйстве.
На следующее же утро хозяин решил испытать парня и, проходя мимо, как бы невзначай обронил червонец. Резеп даже вздрогнул, обнаружив находку, воровато оглянулся и, переломившись в пояснице, схватил хрустящую ассигнацию. Деньги были немалые, у Резепа впервые за всю жизнь в кармане лежало такое богатство.
И все же Резеп перемог себя.
— Обронили, Мамонт Андреевич, некому боле…
Ляпаев сквозь прищур глаз цепко глянул на нового работника, спрятал червонец в карман, а парню сунул бумажку помельче:
— Хорошо, Резеп. Возьми-ка, братец, деньги да приоденься, рубаху, портки в лавке купи. Лохмотья скинь. Полушубок да бахилы в амбаре подбери.
А про себя отметил: «Хитер. Да и то хорошо. От глупого и того не дождешься».
…За десяток лет перепробовал Резеп всякую работу: и рыбу солил, и носил ее в кулях рогожных, и лед полуметровый пешнями долбил. Прошлой осенью Ляпаев назначил его плотовым. Исчезли бесследно угловатость, нерешительность. Сознание того, что многое он теперь умеет, а хозяин ценит его, придавало уверенность. Обращался с рабочими свысока, даже грубовато. И лишь по-прежнему угодливо заглядывал в глаза Ляпаеву, отгадывая его мысли по еле заметному движению пучкастых черных бровей.
Мужики про Резепа говорят:
— Хват! Задницей гвоздь выдернет и не сморгнет!
— Палец в рот не клади. Руку отхватит.
Резеп, если бы и услышал такое про себя, не осерчал бы! Пущай балаболят, а уж он-то знает, что ему надо и к чему он стремится.
Рано остался Резеп сиротой. Отец его, могучий мужик, попал в относ, да так и сгинул где-то на юге Каспия, когда льдину разнесло на куски бешеными волнами. Мать не вынесла горя и тоже поспешила оставить этот грешный многотрудный мир. Рос Резеп у дяди-скупердяя, жил впроголодь, спал на чаканке в углу грязной кухнешки. И чем пуще старался он угодить своему родичу, чем больше работал на него, тем свирепей относился тот к нему. За добро и прилежность платили пареньку подзатыльниками и злобой. Вначале думал: только дядька — зверь, а присмотрелся — и другие не лучше.
По соседству с ними на берегу волжской протоки высился двухэтажный купеческий дом: внизу лавка с тяжелыми коваными дверями и зарешеченными окнами, а наверху — девять жилых комнат для купца с женой и единственной их чахоточной дочки.
Через щель в высоком заборе однажды летним вечером Резеп наблюдал, как прислуга купеческой дочери, худенькая пятнадцатилетняя казашка, мыла в развалистом медном тазу тощие ноги своей госпожи и, видимо, чем-то не угодила ей. Резеп видел, как распрямилась костистая восковая нога и пнула в лицо девочки, как хлынула черная кровь из разбитых губ… Еще в те детские годы понял Резеп истину: одни люди только гадят в жизни, а другие убирают за ними. Больше того, те, что гадят, брезгуют теми, кто ухаживает за ними. А уяснив это, решил во что бы то ни стало, любой ценой не быть среди тех, кем помыкают, кого оскорбляют, за человека-то не считают. Знал Резеп: не просто выбиться в люди. Можно так и сгинуть, ничего не добившись, но паренек решил, что «выбиваться» надо, чего бы это ни стоило. Уже у Ляпаева, всегда, как только выпадал случай, Резеп старался показать свою преданность хозяину. С злополучного червонца и началось все. С той поры было много случаев, чтоб услужить хозяину. Теперь же, когда Резеп стал правой рукой Ляпаева, решил еще больше укрепить свое положение. Даже сидя в конторке, он присматривал за рабочими, штабелями укладывающими только что скупленную у ловцов рыбу.
Внимание его привлек Гринька. Он жердем возвышался над рыбными штабелями, из-под треуха, выбившись, парили на морозе русые завитушки. Гринька легко хватал большими квадратными ладонями неестественно длинных рук мерзлого, как колотушка, сазана и бросал на деревянный настил плота. «Сам не видит, — подумал Резеп, — он бы тебе всыпал». И хотел было выйти из конторки и добежать до плота, но дверь распахнулась, и в тесную конторку, напустив в нее морозный воздух, ввалился Ляпаев.
— Доброе утро, Мамонт Андреич, — поспешил с приветствием Резеп.
— Доброе, — промычал Ляпаев и, не глядя на него, ринулся к столу.
Жалобно скрипнула табуретка, дрогнули костяшки отодвинутых сильной рукой счетов. Ляпаев склонился над приготовленной Резепом хозяйственной книгой, куда ежедневно заносилось, сколько и какой рыбы куплено, по сколько плачено за пуд.
— Пора обоз в город собрать… — подсказал Резеп. — Поднакопилось мороженки…
— Беленькой нет? — перебил Ляпаев.
— Опасаются. Ветра откосные, да и зима на спад. В прошлую зиму в такое же время Лексей, царствие ему небесное, в относ попал.
При упоминании об Алексее Ляпаев насупился, скосил глаза на Резепа, торопливо и небрежно перекрестился.
— Обождем денька два-три, да и обладим обоз.
— Собираться?
— Сам поеду… и ты, конешно. — Ляпаев глянул в окно, нахмурился.
Резеп заспешил:
— Гринька, подлец, управы на него нет… Будто не ему говоришь. Ишь как швыряет, поленья будто. А народ в городе избалованный: чуть ссадина — нос воротит.
— Ты построже с ним. Гнать не стоит, парень безотказный. — И вдруг спросил: — Не забыл — рыба откель гниет?
— С головы.
— То-то. А голова здесь — ты. Хозяйство на тебе держится. Вот и пошевели мозгой. — Встал и направился к двери. Резеп засеменил за ним.
Рабочие, завидя хозяина, приветствовали, хватаясь за шапки. Ляпаев позвал Гриньку, тот удивленно переспросил:
— Меня?
— Аль не вишь. Это что? — Ляпаев ткнул носком валенка рыбину.
— Сазан, — еще больше удивился Гринька.
— Благодарствую, не знал, — зло съязвил Ляпаев. — Разуй глаза-то! Не понимаешь? Тебе ништо́, а товар уже не тот. Сшиб чешую, ссадил бок. Знамо дело — чужое. По тебе, бык — мясо, сани — дрова. Рассчитать его.
Озарило Резепа: хозяин хочет припугнуть Гриньку.
— Молчишь. Аль жалко парня, а?
И еще раз подивился Резеп хитрости хозяина: в глазах ухмылка, нет гнева, велит, значит, заступиться.
— Оставим, Мамонт Андреич. Молод еще.
— Ну, мотри у меня… В другой раз — выгоню и удержу за рыбу. Благодари плотового, — и пошел к лабазу. А плотовой шагал следом и мысленно благодарил Ляпаева: ловко сделано. И попристращал рабочего, и его, Резепа, в глазах остальных возвеличил. Нет, что ни говори, хитер и умен Ляпаев. С таким можно жить.
— Кто сазанов привез?
— Крепкожилины. Рыба что надо. Кажинная — полпуда, не меньше.
— У святых отцов гребанул, поди, — на ямах. Ловок!
— Обещал с десяток возов, не менее.
— Грех не наш. Бери. К праздничку престольному с руками оторвут.
«Тебе небось всяк день — праздник», — подумал Резеп про хозяина, а вслух сказал:
— Еще как оторвут-то…
6
Два дня Крепкожилины возили рыбу на Ляпаевский промысел. Резеп, довольный, покашливал, суетливо потирал руки.
«Песий хвост», — опять ругался Дмитрий Самсоныч. Но уже не было в нем того зла, как в первый день. Все, что он делал с тех пор, как заехал на Торбаев промысел, воспринимал безучастно и смутно, словно сквозь какую-то дрему. Даже жадные, хитроватые глаза Резепа не могли вывести старика из этого состояния. Да он и не замечал их, потому как мысли его сейчас были там, у Торбая, вернее, на Торбаевском промысле. И чем дольше думал старик, чем больше обмозговывал, тем прочнее зрело новое, даже для него самого несколько неожиданное решение купить Торбаево промыслишко. Пусть старенькое, пусть небольшое. Но как сразу изменит это приобретение всю жизнь Крепкожилиных! И прежняя задумка — арендовать Золотую яму, принадлежащую Чуркинскому монастырю, показалась ему до того мелкой и незначительной, что в душе уже старик подсмеивался над собой. Яма, слов нет, богатая, черпай рыбы из нее круглый год — не вычерпаешь. Весной через нее поднимается из моря тьма-тьмущая косяков, а зимой рыба ложится на зимовку. Все это хорошо. Но опять будет каждодневно оплывшее Резепово лицо, нахально смеющиеся глаза… Вымаливай лишний пятак, проси…
А тут — промысел. И сам он — уже промышленник! Не ловец — промышленник! Даже страшновато, жарко от собственных мыслей. Да и от ямы Золотой отказываться не следует. Ловцам по паям сдаст на путину. И непременно чтоб весь улов на его промысел. То-то ладно будет.
Дмитрию Самсонычу не терпится — скорей бы кончился день да разделаться с уловом. В другой раз радость удачи чувствовалась бы долго, а хрустящие ломкие ассигнации согревали бы сквозь нагрудный карман, куда он, по обычаю, всякий раз клал выручку. Сейчас занимали старика не деньги, а мысль о Торбаевом промысле.
Интересно: хватит ли накопленных денег? Вообще-то Торбай не слыл скаредом… А там кто знает, что у него в голове… Не должон бы заломить. Плот дырявый сквозь, сваи заменить некоторые придется. Да и выход как сапог изношенный. И все же — промысел!
Решил старик завтра же в Алгару съездить, обыденкой и обернуться можно, не ахти какая даль. И опять тревога в душе: хватит ли денег. В долг — не поверит нехристь, нет. Да и сам старик никому не поверил бы. Деньги все же… не сноп камыша.
Вечером, перед сном, позвал Якова в переднюю, притворил за собой филенчатую дверь, чтоб не слышали разговора старуха со снохой, хлопотавшие над тестом, и поведал сыну о своем решении.
Слушая отца, Яков хмурился.
— Что ж, и радостев будто в тебе нет.
— Чему радоваться-то? — наконец решился он сказать то, что мучило его последнее время. — Сам же обещал, а теперь…
Дмитрий Самсоныч обождал, что дальше скажет сын. Но тот замолчал и потупился.
— Договаривай, че такого я те обещал?
— Отделить. А теперь, стало быть, все деньги всадим.
— Ну-ну, антиресно. Ишшо скажи че-нибудь.
Но Яков молчал.
— Тогда прочисти уши и слушай. Ежели собрался всю жисть шест нянчить да пешней ишачить — валяй. Но сдается мне, планида эта не по ндраву тебе. Да и мне надоела она, проклятущая. А раз так — надо дело в руки брать. Вот тут-то и требуется мозгой пошевелить: как и што? Мамонт Андреич небось не слыхал, как дело начал?
— Ляпаев? Слух есть…
— Слух — одна хмурота на ясном небе. Была — да и нет ее. Сдуло. Пронесло. А дело осталось. Мамонт Андреич сообща с братцем общие деньги в дело пустили.
— Во-во… Свово братца будто и укокошил.
— А ты не верь брехне. Лучше гляди гляделками да примечай. Вот и нам надоть вложить все, что имем. Другой раз, можа, и не подвернется случай. Хоть и невзрачный, а промысел. Все порядошные с мелочев начинали. Опять же и Мамонт Андреич. На руках пальцев не хватит, ежели прикинуть, околь промыслов теперя у него иметца… В Морце-то Синем да и в волости всей никто не потягается с ним — кого хошь соплей перешибет.
Мог бы и не убеждать сына Дмитрий Самсоныч, так как никто в доме, в том числе и Яков, слова не могли сказать поперек. Но старику захотелось дело это великое начать сообща, в добром согласии. Да и в душе все эти дни селилось что-то доброе, ласковое — отчего ходил старик легко, молодо глядел на домашних и хотел, чтоб и они — Яков, Меланья да и Алена — чувствовали эту радость, надвигающиеся перемены.
Даже возражение Якова не рассердило Дмитрия Самсоныча. Рассказывая о Ляпаеве, он думал, что и они, Крепкожилины, не хуже могут поставить дело, через путину-другую присмотрят еще промыслишко, а то и срубят новый поближе к Золотой яме, и уж тогда незачем ловцам возить уловы этакую даль. Куда проще, выгоднее скупить рыбку на месте. Вот тогда и узнают Крепкожилиных. Сам Ляпаев небось поскребет черепок.
— Погодь малость, Яша, наладим дело, в два етажа отгрохаем дом-то. А покуда же — не в тесноте живем, неча бога гневить, — смолк, сдвинул свинцовые брови, покосился на молчавшего Якова. — Ин, будя. Завтра на зорьке тронемся. Овса подсыпь лошадям, — и, почесывая волосатый живот, скрылся в своей спаленке.
7
…Выехали после третьих петухов. Село едва-едва просыпалось. Сквозь щели ставен продирался скудный свет, из печных труб паром курились белесые дымки. Молчали собаки, забившись после длинной зябкой ночи в теплые базы, где время от времени простуженно вздыхали коровы да блеяли суягные овечки.
Из темени выплывали покосившиеся копнешки сена, придорожные кусты белолоса, корявые ветлы-развалюхи. Пегаш испуганно всхрапывал и кидался в стороны, втаскивая сани с набитой дороги и увязая по брюхо в сугробах, пружинисто напрягался, выбираясь на тракт.
Когда развиднелось, съехали на лед. Отсюда путь лежал по широкой протоке, свободной от снега. Полозья, только что с шипеньем разрезавшие исчерченный лисьими и заячьими следами снег, теперь дробно выстукивали по голому блестящему льду. Дорога все время забирала влево, где начинались казахские поселения, дальше которых на север и восток начиналась бесконечная барханская степь.
Торбай оказался дома. Он увидел в окно взмыленного коня и двух рослых в добротных, до пят, тулупах мужиков и не вдруг признал в них Крепкожилиных. А когда угадал, накинул на плечи стеганый бешмет и вышел навстречу. Крепкожилиных он знал хорошо, частенько скупал у них рыбу, но в их доме, в Синем Морце, никогда не бывал и потому немало удивился, увидев нежданных гостей.
— Здорово, хозяин, — первым приветствовал Дмитрий Самсоныч.
— Здоров, знаком, здоров. Как попал Алгара, никакой ветер нет…
— Да вот занесло…
— Ай, ата, — крикнул Торбай. В калитке появился старый, с реденькой бородкой и слезящимися красными глазами казах. Торбай что-то сказал ему по-своему, а уже потом обратился к Дмитрию Самсонычу: — Дом айда, кунак будешь, гость…
— Коня бы…
— Все жаксе, хорошо будет. Корма есть, вода дает…
— Поить обождать надо бы.
— Ата лошадь ой как знает, все жаксе будет, — приговаривал Торбай.
— Оно, конешно, ваш народ скотину лучше разумеет… Наше дело — ловецкое, а вам сам господь велел…
Вошли в передний дворик. Справа его огораживал развалистый глинобитный дом с двускатной крышей — здесь Торбай принимал гостей. Против него такое же просторное жилье, а в глубине двора камышовый сарай, обмазанный глиной и коровяком.
Торбай пригласил Керпкожилиных в дом, Невзрачное на вид жилье поразило старика и Якова своим убранством. Начиная с порога, и задняя половина и передняя были застланы дорогими яркоузорчатыми коврами. Коврами же была завешена и глухая стена. Вдоль стен и даже в простенках между окнами стояли сундуки, на которых пирамидками лежали сложенные чуть ли не до потолка тюфяки, одеяла на верблюжьей шерсти и подушки.
Пока гости сбрасывали тулупы, стаскивали полушубки и валенки, Торбай побросал на ковры тюфяки и подушки.
Дмитрий Самсоныч, устраиваясь на подушках, думал: «Богато живешь, курносый! — и помолился про себя: — Подсоби, осподи, дело совершить».
Торбай ушел в соседнее жилье, где, видимо, находилась вся семья хозяина. Там засуетились дважды из дверей землянки (Дмитрий Самсоныч чутко следил в окно за всем, что происходило там) выбегала моложавая, с плоской фигурой, женщина в белой чалме и черной бархатной безрукавке, пересекала двор, исчезала в сарае, а потом так же, полубегом, возвращалась назад. Следом за женщиной, с ножом в руке, вышел давешний старик, которого Торбай называл Ата, и прошел на задний двор. «Сейчас барашка подвалят, — отметил про себя Дмитрий Самсоныч. — Знать, догадался, хитрюга, зачем пожаловал. Ну-ну…» Заметил, что Яков все еще стоит у дверей, сказал:
— Проходь, аль шест проглотил?
— Ноги не согнешь, без привычки-то. И скамейки ни одной нет.
— Не господин… Коли надо, не то что ноги, а и сам согнешься…
Скоро внесли свернутую валиком клеенку, раскатили ее на ковре посреди комнаты, заставили чашками, набросали конфет, сахару, поджаренные на скоромном масле румяные баурсаки. К каждому придвинули на блюдцах сливочное масло, подсоленное, домашнего приготовления.
Щуплый, с торчащими ушами подросток внес развалистый эмалированный таз, поставил перед стариком Крепкожилиным, полил на руки теплой водой из кумгана, подал полотенце. Затем подошел к Якову и только потом уж — к хозяину.
Та же самая женщина, что появлялась во дворе, присела на корточки у давно не чищенного самовара, сдвинула к себе цветастые чайные чашки, достала из надтреснутого чугунка с тлеющими угольями закопченный чайник, разлила заварку, плеснула в каждую по ложке топленого молока и долила крутым кипятком из самовара.
— Когда зима кончает? — мелко отхлебывая чай, спросил Торбай.
«Конешно, тебя только это интересует», — подумал Дмитрий. Самсоныч, а вслух ответил:
— Да ить кто ее знает, дело божеское. Ваши старики, должно быть, лучше распознают. Приметов у них много.
— Снег будет, мороз будет, — закивал хозяин, — так аксакал сказал.
— Знамо дело. Им видней, — согласился Крепкожилин, думая, как бы Торбая навести на нужный разговор. А хозяин между тем после чая раскупорил бутылку и разлил водку в цветастые, с золотым ободком, фарфоровые чашки. Яков искал глазами, чем бы закусить, ничего не нашел, подумал, что сейчас принесут что-нибудь. Но Торбай сказал:
— Держи, Митрей Самсоныч.
Выпили. Пожевали баурсаки.
— Хозяйка? — спросил старик Крепкожилин, когда женщина, хлопотавшая у самовара, вышла.
— Козайка.
— Молода ешшо. А ты, бают, втору берешь.
— Мал-мала хворает. Балашка нет.
— Чудно. Две хозяйки в одном доме, — усмехнулся молчавший до этого Яков.
— Зачем один? Два дом. Каждый — свой дом.
— Закон такой, — сказал Дмитрий Самсоныч, стараясь сгладить остроту разговора.
— Карош закон, жаксы, — прищелкнул языком Торбай.
— С одной-то мороки не оберешься, а тут — две, — опять включился в разговор Яков.
— Две баб совсем жаксы. — И, хитро сощурившись, пояснил: — Старший баб думает — к молодой пошел, молодой думает — у старшей остался. А ты кибитка залез — и дрых. Жаксы, а? — И первый звонко рассмеялся.
— Ну, сказал, — улыбнувшись, отозвался старик Крепкожилин, — до сна ли те будет с молодухой. Ты ить вон какой здоровяк.
— Откуда узнал про второй баб?
— Старик на промысле сказал.
— Кзыл-клак?
— Что-что? — насторожился Крепкожилин.
— Максут его зовут. А Кзыл-клак — Красное ухо. Прозвищ такой.
— Во-во, он самый.
— Какой он бабай? Мы с ним один год родился… Мороз попал, хворал. Жизня мотал его, таскал… На старик и похож.
— Он и баил, будто насовсем в Гурьев собрался.
— Кочевать будем. Жидаем тепло мал-мал.
— Калым богатый будто…
— Калым есть. Как же без калым?
— Скот пасти, стало быть, будешь?
— Наш народ степь любит.
— Знамо дело.
— Ляпай пусть промысел держит… Его дело рыбу покупать — продавать.
— Неужто Мамонт Андреич промысел покупает? — насторожился Крепкожилин.
Торбай промолчал и потянулся за бутылкой, налил еще по одной.
— Хитер он, — продолжал Крепкожилин, — много не даст. Не раскошелится. Да и промыслишко — труха одна.
— Завтра Сине Морье едем. Ляпаев зайдем.
— Не сторговались еще, стало быть, — облегченно протянул Крепкожилин. — И не продать нельзя. Вот-вот весна, камыши кругом. Не приведи господь петуха красного. Что он, безносый-то, один исделает? За так добро пропадет.
— Так-так, — согласился Торбай, и на лице его появилась тревога. Он настороженно посмотрел старику в глаза и подумал: «Этот и сжечь может…»
— Дорого просишь?
Торбай задумался, потом, будто спохватившись, взял чашку с водкой, приглашая гостей выпить. Не торопясь пожевал баурсак, густо смазанный сливочным маслом, выставил перед собой растопыренную ладонь.
— Не пойму что-то, Торбаюшка, — схитрил старик.
Тогда Торбай назвал цену.
— Да что ты, аль креста… — взмолился Дмитрий Самсоныч. Но быстро сообразил, что насчет креста на шее перехватил лишку. Однако увидел, что Торбай не обиделся, и осмелел: — Старый, говорю, промысел-то. Как девка порченая: с виду-то ниче, а дна нет, до свадьбы прохудилась. Кому ж такая нужная?.. Так и тут: плот — дырявый, и выход перекрывать надо… Льда-то много заготовил?
— Лед много — большой бугор.
— Все равно много заломил. Мыслимо ли…
— Мой дел — продать, твой дел — купить.
— Это уж точно. На базаре, говорят, два дурака: один продает, другой покупает.
Разговор велся намеками, вокруг да около. Оба — и Торбай и Дмитрий Самсоныч — не хотели прогадать, а потому долго не могли договориться. Уже перевалило солнце за полдень, уже внесли в большом медном тазу дымящуюся баранину и поставили перед хозяином. Разговор на время прекратился. Торбай засучил рукава и, вооружившись складным ножом, начал крошить мясо, а гости, разомлевшие от жары и водки, удобнее устроились на подушках.
Дмитрий Самсоныч обдумывал, как бы выгодней закончить дело. Названную сумму он наскребет. Но нельзя же дать то, что запросил Торбай. Скинет сколько-нибудь, надо поторговаться. Так думал он, радуясь, что поездка закончится удачей и промысел будет его.
Совершенно другие мысли донимали Якова. Он до последнего часа надеялся, что купить промысел не удастся. А раз так, то отец отделит его. А после пусть покупает, что ему угодно. Но теперь Якову ясно: отец не отступит. Торгуется для виду, а сам уже решил. Давнишняя мечта — жить своей семьей, не быть зависимым от своенравного старика — вновь отодвинулась на неопределенный срок. А тут еще Андрей приезжает. Чего в городе не жилось. И ему теперь долю подавай — не иначе…
Жена Торбая принесла только что вынутые из котла отваренные куски раскатанного теста, вывалила в мелко накрошенное мясо и прямо руками помешала в тазу.
— Давай, кунак, бешбармак ашаем, сурпа пьем… — потревожил Торбай отдыхающих и, когда те придвинулись, первым забрал полную пригоршню мяса и теста, ловко отправил в рот и, облизав блестящие от жира пальцы, опять потянулся к бешбармаку.
8
Воспоминания об Алексее, бывшем работнике, всякий раз ввергали Ляпаева в беспокойство. Стоило кому-либо произнести его имя, как Мамонт Андреич начинал хмурить пучкастые брови, незаметно креститься, а губы сами шептали молитву. Потому и помалкивают в доме об Алексее. Даже Пелагея, жена безвестно сгинувшего. Поначалу она не могла свыкнуться с гибелью мужа, все надеялась: вдруг льдину прибило к туркменским берегам. Но минул год, и горе стало полегоньку отодвигаться.
Ляпаев изредка захаживал во флигелек к Пелагее, как мог, размыкал горе ее, старался отвлечь женщину от горестных мыслей. Наведывался он к ней не только затем, чтоб утешить. Все то время, как овдовела Пелагея, Мамонта Андреевича не оставляла мысль приблизить ее к себе, сделать хозяйкой в доме. Еще при жизни Алексея заглядывался Ляпаев на жену своего работника, выказывал ей свое внимание, но не навязчиво, а тонко, деликатно, не переступая границы дозволенного. Нравилась, ну и нравилась, и только. А вот теперь, бывая у Пелагеи, пытался заговорить о том, что тревожило, волновало его. И всякий раз, опасаясь неосторожным словом обидеть женщину, так и уходил, не сказав главного.
Но однажды Мамонт Андреевич решился. В тот вечер он надел чистую плисовую рубаху, новый, темной шерсти, сюртук и, мимоходом глянув в трюмо, искусно вделанное в тяжелую, мореного дуба, резную оправу, вышел во двор. Снежный вихрь накинулся на него, вмиг ослепил, забросал лицо снежной порошей. Мамонт Андреевич приметил огонек в окне флигеля и торопливо пересек двор.
Пелагея сидела у самовара и задумчиво помешивала чай. Она вроде бы удивилась позднему появлению Ляпаева: тонкие брови взметнулись над большими черными глазами.
— Вот… скушно стало, — сказал Мамонт Андреевич. — Дай, думаю, загляну. Сообща легше оно. Погодка задурила, муторно на душе.
— Извольте, чайку налью стаканчик.
— Благодарствую, Пелагея Никитишна. Выпью охотно. Не мешало бы и серьезным чем погреться, да ладно уж, в другой раз.
— Не потребляю я, Мамонт Андреич. И Лексей редко в рот брал.
— Греха в том нет. Все от бога, — насупившись, отозвался Ляпаев. — В меру-то оно заместо лекарства, пользительно. Не зря говорят: умному — на пользу, дураку — на погибель.
Пелагея подолгу дула на блюдечко, шумно отхлебывала горячий густой чай. А Ляпаев, сидя напротив, через стол, внимательно рассматривал ее чуть широковатое лицо, пухлые красные губы, длинные с изгибом ресницы, ямочку на правой щеке. И припомнилась ему та давняя и ранняя весна, когда еще была жива Лукерья, царствие ей небесное. Пелагея вместе с мужем нанялась на промысел. Было в этой женщине что-то особенное, что отличало ее от остальных — и своих, сельских, и пришлых, — величавость ли, благородство ли, а может, та самая женская умеренная, непоказная гордость, которая делает и величавой, и благородной, а вместе с тем желанной и недоступной. Ляпаев сразу же приметил Пелагею и всякий раз, когда бывал на промысле, искал ее среди женщин-резальщиц. Сделать это было не просто: в одинаковой грубой одежде они сидели на низких скамьях с длинными, остро отточенными ножами и привычно пластали рыбу, все до одной похожие друг на друга, с лицами, закутанными от соленых морских ветров в тонкие ситцевые платки. Оставались не закрытыми лишь глаза. Но и тут Ляпаев находил ее черные, глубоко посаженные глаза, останавливался подле нее, спрашивал о чем-либо, давая понять, что выделяет ее среди остальных.
После весенней путины, когда пришлых рассчитывали с промысла, Ляпаеву пришла в голову мысль взять Алексея смотреть за выездными лошадьми, следить за ловецкой сбруей, хранящейся в просторных складах. Да и жене Лукерье по бабьим делам не мешает иметь под рукой человека. Так Пелагея с мужем поселились в пустующем до того флигеле.
Когда от сердечного приступа в одночасье скончалась Лукерья, Пелагея почувствовала, что Ляпаев не без умысла поселил их у себя, и старалась не оставаться с ним наедине.
Мамонт Андреевич попивает чай и не спускает с нее внимательных цепких глаз, слушает ее и опять думает о том, что Пелагея — женщина, не похожая на остальных.
…Когда попили чай и Пелагея убирала посуду, Мамонт Андреевич спросил:
— Давно с Лексеем-то?
— Что? — не поняла Пелагея.
— Сочетались, говорю, давно ли?
— Девятый год на масленую будет. Засиделась я в девках-то.
— Это как же, али женихов не находилось?
— Как не быть. Не нравились.
— Да неужто?
— Вот крест святой, не вру. Батюшка у меня был светлого ума человек. Наши-то деревенские старики привыкли своей волей жить: за кого хотят, за того и отдадут дочь. А мне воля была дадена. Вот и ждала суженого. Лексей-то с первой недолго промаялся, хворь сточила ее. Потом и сошлись. Сгорели когда, в чем были остались. И вздумал сам-то податься к морю, мол, заработки тут хорошие.
— Тебе бы, Пелегея Никитишна, иную жизнь.
— Как это — иную?
— В батюшку ты уродилась, непохожая на остальных. В достатке жить-то тебе надо бы, в довольствии.
— Где уж нам, — вздохнула Пелагея. — Поднакопить бы на избу да коровенку — и в деревню свою можно ехать. Да не удалось вот… Каждому кулику свое болото мило. Во сне вижу улицу свою, и дом, будто еще стоит…
Ляпаев, опасаясь, что разговор уйдет в сторону, перебил ее:
— Деньги, Пелагея Никитишна, дело наживное. Было бы устремление к ним. Только в деревнях-то верховых недороды часты. Опять ни с чем можно остаться!
— На все воля божья.
— Опять, стало быть, горе мыкать? Так и жисть пройдет.
— Что же делать-то, Мамонт Андреич?
— Ты меня прости за дерзость, Пелагея Никитична, женщина ты умная, поймешь, что добра желаю. Да и волю не свою исполняю. Человек близкий просил поговорить. Богатый он, один как перст. А ты, Пелагея Никитишна, по душе ему…
— Мамонт Андреич…
— Дослушай, Пелагея Никитишна, сделай милость.
— И слушать не буду.
— Воля твоя. Только ты уж не серчай. По-простому я, добра тебе… Чтоб не мыкалась одна-то в бедноте.
— В богатстве дело разве? И при деньгах больших счастье не всегда бывает.
— Истина, истина…
— Вам бы к примеру, Мамонт Андреич, жить бы в радости. А вот не получается. Устроили бы жизнь как-то. Лукерью не вернуть. Года-то у вас еще какие…
— Вот и я о том… — Ляпаев, проговорившись, остановился на полуслове и покосился на Пелагею. Но та или не заметила его замешательства, или же сделала вид, что не поняла.
На том разговор и кончился. Ляпаев ушел от Пелагеи близко к полуночи. И опять овладело им чувство вины перед женщиной, хотя не было прямой вины его в том, что не вернулся Алексей с моря. Всякий раз, вспоминая последний разговор с Алексеем, он думал, что ничего дурного, несправедливого не сделал своему работнику, а значит, и Пелагее. Отношения с Алексеем были самые обычные, какие полагались между хозяином и работником: раз платят деньги, так изволь делать все, что прикажут. И в море надо было Алексею ехать неотложно…
И все же на душе оставалось неспокойно. Помнится, в то утро Ляпаев был отчего-то сердит, накричал на Резепа, а тут еще Алексей под руку подвернулся, попросил отсрочить отъезд на день.
— Ты уж лучше оставайся, сам поеду, — зло ответил Ляпаев.
Алексей ничего не ответил, а вскоре одинокая подвода выкатилась со двора, и цоканье копыт о мерзлую землю затихло за углом на откосе.
В тот час уже едва-едва зашевелилась непогода — снежными тучами да поземкой.
А еще раньше приметил Ляпаев собаку, катающуюся по снегу — опять же к дурной погоде. Но не остановил хозяин работника. Оттого и беспокойство душевное.
9
Первоначально Пелагее все казалось странным в Синем Морце. Стоят избы, зябко прижавшись друг к дружке, связанные меж собой невысокими камышовыми изгородями. Улицы и дворы голы — ни травинки, ни кустика, ни деревца — не удосужились люди хотя бы ветлу под окном посадить. Улицы пустынны, дыхнет чуть ветерок — желтой поземкой метет песок с бугра. Только и отдохнуть можно на речке, где все напоминает ее родную деревню. Нет тут ни березки, ни сосенки, только ива так же устало клонится над водой и полощет в ней ветки. Вместо ручейка журчащего речка — широкая молчаливая, строгая. Но и это не беда. Опустит Пелагея ноги в воду, закроет глаза, вдохнет запахи травы и разноцветья, и радостно ей, будто у родного ручья под косогором посидела.
Когда с Алексеем поселились в ляпаевском флигеле, попросила мужа выискать в лесу две молоденькие ветелки и посадила их у себя под окнами. Мамонт Андреевич и в этом увидел ее отличие от тутошних, сельских баб — ни одной в голову не приходило.
Осенью, в безрыбье, когда на промысле затишье работное, Ляпаев, желая сделать приятное Пелагее, послал Гриньку в город за саженцами фруктовых деревьев. Трехлетние яблони и вишни рассадили на обширном дворе, а ухаживать за садом поручили Алексею, освободив его на весну и лето от других забот. Он приспособил стоведерную бочку на станок и возил воду с реки. Саженцы, на удивление синеморцев, с усмешкой наблюдавших за необычной для синеморчан ляпаевской затеей, хоть и с трудом, но прижились на тяжелой глинистой земле. Прошлым летом первый скудный цвет тронул реденькие ветки яблонь-молодух, но Алексей уже не видел их.
Ляпаев хотел было выписать садовника из города, но Пелагея запротестовала:
— Воды бы кто подвозил да поливал, а уж ухаживать-то я сама сумею. Невелик сад.
Словам ее Мамонт Андреевич обрадовался. После гибели Алексея, чтоб не обидеть ее и не причинить боль, он воздерживался брать во двор работника. Из промысловых Резеп каждое утро присылал кто посвободней, но постоянного человека не было.
Вскоре во флигеле, где прежде жила Пелагея с мужем, поселился бобыль Кисим, рослый одноглазый казах, а Пелагея, по настоянию Мамонта Андреевича, перебралась в его дом. После двух крошечных комнатушек флигеля большой дом с четырехскатной крышей, просторными высокими комнатами, огромными двустворчатыми, раскрашенными под дуб дверями казался ей дворцом.
Пелагея поселилась в невеликой квадратной боковушке в одно окно, рядом с кухней. В первое время она уходила к себе сразу же после вечернего чая и, прежде чем лечь спать, непременно запирала дверь изнутри и долго не могла заснуть, ворочалась, беспокойно прислушивалась к шорохам, неуютно чувствуя себя в доме одинокого богатого вдовца. Она и переселяться-то долго не решалась, боясь худого людского слова, да и сам Мамонт Андреевич (она давно это чувствовала и знала) был к ней неравнодушен, чем давал ей повод стесняться и осторожничать. Так ей казалось. Вскоре, однако, она поняла, что ошибалась. Отношения Ляпаева к ней оставались прежними. Он был учтив, обходителен и так же, как и прежде, не позволял себе ничего дурного — ни поступка, ни слова.
Так тянулось почти всю зиму. Как-то Мамонт Андреевич после ужина не ушел из столовой в свой кабинет, где он перед вечерним чаем, по обыкновению, просматривал счета управляющих промыслами или же листал газеты. Пелагея, налив горячей воды в большое эмалированное блюдо, мыла посуду. На ней был цветастый ситцевый передник. Волосы, заплетенные в толстые косы, уложены на затылке в тугой валик. По-девичьи тонкая фигура придавала ей легкость, стройность.
— Девку, каку ни на есть, в дом надо взять, — сказал Ляпаев.
— Зачем это? — удивилась Пелагея и тотчас же загорелась лицом, догадавшись, что не должна была этого говорить. Поправилась: — Воля ваша.
— Подсобляла чтоб, — говорил он, а сам удивился, как это могла такая женщина жить в глухом верховом селе, а потом вот здесь, в Синем Морце, в тесном покосившемся флигеле. Откуда научилась она так красиво, гордо носить голову, держаться с достоинством, умно говорить? — Сдается мне, Пелагея Никитишна, не следовало бы тебе кухней заниматься. Хлопотно.
— Как же? Всю жизнь только этим и занята. Может, недовольны чем?
— Что ты, что ты, Пелагея Никитишна! — испуганно и торопливо заговорил он. — О другом я. Садись-ка вот да послушай меня, только не гневись. Что тут играть в прятки — человек я немолодой, друг к дружке пригляделись.
— Мамонт Андреич…
— Нет уж, голубушка, садись, сделай милость, выслушай, — сказал Ляпаев, сам немало удивляясь тому, что говорит непривычные слова, какие никогда не говорил ни Лукерье, ни другому кому. — Вот живем с тобой под одной крышей, а каждый своей жизнью. Иногда думаю: зачем живем? Есть, пить? Для того ли создал господь нас с тобой, призвал к себе близких нам людей да нас обоих под одной крышей свел? Ты не подумала об этом? Мне думается, совсем то не случайно.
Пелагея вдумалась в сказанное им и удивилась правоте и убедительности его слов. Право же, не судьба ли это, не предначертания ли сверху? Не зря же говорят: все от бога, без него и волос с головы не упадет. И коли не судьба, зачем нужно было случиться пожару, сниматься им с обжитых мест, приехать в незнакомое, затерянное средь камышей волжского понизовья Синее Морце, зачем нужно было Алексею уйти в другой мир, а ей поселиться у Ляпаева? Судьба, стало быть, не иначе.
Мамонт Андреевич всегда с ней ласков, почтителен, как не был ласков и почтителен даже с Лукерьей. Пелагея помнит ее, рано состарившуюся, неопрятную. Она ходила дома непричесанной, в грязном неглаженом платье, рваных приспущенных чулках — всем видом своим напоминала измятую общипанную клушку-наседку. Пелагея постаралась скорей избавиться от воспоминаний о Лукерье, стала думать о Ляпаеве. Странный все же человек. Первый в волости богач, владелец многих промыслов, уважаемый человек. Мог бы найти себе в жены равную. Пелагея знает, что он крут с управляющими, груб с рабочими промыслов, а вот с ней даже робеет отчего-то.
— Что же ты молчишь, Пелагея Никитишна?
— Вдруг как-то все это, Мамонт Андреич…
— Видит бог, — радостный от мелькнувшей надежды, заторопился Ляпаев. — Я неволить не хочу, только что же тут голову ломать. Не маленькие, не пустобрех какой, слава те господи. Неужто словам моим не веришь?
— Как не верить? Только… Чудно мне все это. Состоятельный вы человек, промысла свои, мильёны небось…
— Эка ты хватила, Никитишна! Мильоны только у Беззубикова да Сапожникова. Я против них — комарик.
— Все одно, Мамонт Андреич, человек вы имущий, могли бы найти женщину богатую. Деньги к деньгам, они…
— Мог, Никитишна, мог, — перебил Ляпаев. — Будь мне лет тридцать — сорок, видимо, так бы и поступил. Только в мои лета все это ни к чему. Хватит и того, что есть, Никитишна…
— Оно верно, много ли человеку надобно…
— Душе не богатство нужно, а успокоение. Его-то у меня и недостает.
«И у меня нет успокоения», — подумала Пелагея.
10
Еще накануне Ляпаев и не предвидел, что поедет в Чуркинский монастырь. Решение пришло неожиданно. Накануне вечером, когда Мамонт Андреич и Пелагея за неторопливым разговором чаевничали, в дверь постучал Резеп. Он вкатился в прихожку, держа в руках ушанку, которую сорвал с головы еще за дверью.
— Вечер добрый. Хлеб да соль…
Мамонт Андреич поморщился, как от зубной боли, — только Резепа не хватало.
— Что по ночам таскаешься? С девками гулял бы себе или к бабе какой заглянул.
Пелагея, нацеживая в стакан кипяток, потянулась к самовару, сделала вид, будто и не слышала последних слов. Ляпаев, однако, заметил румянец на ее лице, понял: смутилась. «Будто девка», — подумал он и, уже погасив неприязнь к Резепу, сказал:
— Снимай-ка малахай, выпей чашку.
Резеп не заставил себя упрашивать: не успела Пелагея налить в развалистую, пеструю от цветов, чашку крутого кипятку и заварку, он уже сбросил с себя полушубок, прошел в столовую и подсел к уголку стола, приглаживая топорщившиеся волосы.
— Гриньку седни послал в Ямное, чтоб подводы гнали.
— Много?
— Сорок подвод заказал.
— Добро! Рыба-то как?
— Наипервейший сорт, Мамонт Андреич. Особливо у етих… у Крепкожилиных. Не сазан — сетры! — Резеп, наливая из чашки в блюдечко, усмехнулся: — Яков ихний хватанул седни лишку, да и хвастает: сами, дескать, скупать будем рыбу, будто у Торбая промысел сторговали.
— Брешет, поди-ко?
— Все правда, Мамонт Андреич. Старика спросил — не отказывается. Да и Золотую хотят сграбастать. Тоже Яшка молол с пьяных глаз.
Весть о Золотой яме неприятно кольнула Ляпаева. «Промысел купили, к Золотой тянутся. Ну-ну… — недобро подумал он о старике Крепкожилине. — Я т-те потянусь! Руки коротки!»
Напрасно Ляпаев только что убеждал Пелагею, что многого им не нужно, что хватит и того, что есть. Нет, Мамонт Андреич не кривил душой. Он верил своим словам, потому что была тогда перед ним Пелагея, желанная женщина, и все мысли его были заняты одной ею. Оттого и пребывал в благостном настроении.
Но стоило Резепу сообщить о Крепкожилиных, которые с покупкой промысла стали его, Ляпаева, конкурентами, как проснулся в нем собственник, стремящийся к наживе, промышленник, не терпящий убытков, а стало быть, и соперников.
— Утресь меня не будет, — Ляпаев заметил, как хитро блеснули у Резепа глаза, сказал строго: — Смотри у меня! Придут подводы — грузись. К вечеру чтоб все было увязано. Послезавтра с богом и тронемся. — Ляпаев легко поднялся со стула. — Спать пойду. Надо отдохнуть перед дорогой.
11
Чуркинский монастырь открылся глазу, едва Ляпаев проехал Ильинку — невеликую ловецкую деревеньку, в сотню, не более, дворов с деревянной резной церквушкой на взгорье. На низах волжских почти все селения лепятся к взгорьям да буграм, потому как буйные весенние паводки топят острова да гривы, и лишь на угорах красноглинистых холмов находят люди спасение.
Чуркинский монастырь — величавый собор с широкими, белого камня, крыльцами, высокой колокольней посреди каменной ограды с десятком одно-, двух- и даже трехэтажных строений, с зауженными провалами окон монашеских келий — покоился на значительном возвышении. Ляпаев впервые приехал сюда зимой, а потому был несказанно удивлен тем, что открылось ему. Сады вокруг и тополиная роща справа, заботливо и щедро осыпанные крупным пышным снегом, таяли в мглистой утренней невиди. Оттого монастырь, казалось, парил средь облаков, чем вызвал чувство благоговения в душе Ляпаева и слезы на глазах. И он подумал, что в трудах житейских и хлопотах дни, да что там дни — годы проходят скоротечно, и нет времени подумать о душе, и как хорошо, что он приехал сюда перед масленой неделей, и что это непременно нужно было сделать, если бы даже не те деловые неурядицы, которые надоумили его предпринять столь неожиданную поездку.
Под полозьями поскрипывает снег, из-под копыт светло-гнедой, с темным ремнем по хребту, Савраски летит в комья сбитый снег. Ляпаев в добротном белом полушубке, отделанном черной смушкой. Поверх накинут тулуп, ноги покрыты овчинной полостью.
Саврасый легко взял подъем. Сани у Ляпаева легкие, высокие, с крытым верхом; сиденье обито голубым плисом — городскими мастерами-санниками сработаны на совесть. Ляпаев сам заказывал эту легкую одноконную повозку: и коню легко — полста верст отмашет без устали, хоть снова в оглобли, да и любил Ляпаев одиночные выезды и бывал несказанно рад, когда удавалось остаться одному средь холодного снежного безмолвья зимней дороги.
Дом настоятеля монастыря — игумена Фотия — стоял скрытно под угором, в саду. Чтоб попасть сюда, Ляпаев проехал по широкой и наезженной аллее с тополиной просадью, а не доезжая монастырской каменной ограды, свернул вправо — здесь, под горой, в саду, средь яблонь, в двухэтажном невеликом особняке, и живет игумен Фотий.
Только что кончилась утренняя молитва, монашествующая братия черными муравьями расползалась от церкви по кельям.
Мамонту Андреевичу пришлось малость обождать настоятеля. Он приспустил чересседельник, набросил на Савраску овчинную полость, которой укрывал в пути ноги, расправил мешок с овсом.
Игумен Фотий, а с ним и двое старцев, сухих и бледных, осторожно ступая, спускались с бугра. Фотия поддерживал под руки молодой послушник, а старцы, более дряхлые и немощные, шли, опираясь друг о дружку.
«А и тут, под боком у бога, не все равны», — с улыбкой подумал Ляпаев. Он приложился к холодным и костлявым рукам Фотия и обоих старцев. Те привычно благословили его и не задерживаясь пошли в дом. Ляпаев шепнул послушнику, чтобы взяли из повозки дары святым отцам: двадцатифунтовый бочонок стерляжьей икры, стешки белужьи, с десяток пылко замороженных белорыбиц — знал Ляпаев, что монастырский люд приношения любит, оттого и одаривал их в каждый приезд. Юноша смиренно кивнул: мол, будет исполнено — и провел Мамонта Андреевича в просторную приемную, отличную от келий и размерами и обстановкой.
У громоздкой, выложенной изразцами голубого рисунка, печи вместительное неуклюжее кресло, обитое голубым бархатом — для игумена. Вдоль стен кресла поменее, под черным бархатом — для тех, с кем Фотий сообща решает наиболее важные дела. Но это случается редко, чаще зовет он на сговор тех двух старцев, которые живут тут же и неотлучны с ним в молении, и в трапезе, и в покое.
Ляпаев приложил ладони к горячим изразцам, и в это время вошел Фотий. Был он по-бабьи грузен телом и непомерно широк лицом. Пышная борода заслонкой покрывала грудь. С плеч спадало черное покрывало, накинутое поверх черного же наголовника.
Игуменствовал Фотий уже пять лет. Монастырь при нем упрочился, два новых трехэтажных здания возвели, монахов поприбавилось, почитай, на полста душ. Пора бы старика в более высокий сан посвятить, а он все в игуменах ходит, не возводят его в архимандриты — чем-то недовольны им там, наверху. Фотий понимает, что не каждый игумен будет архимандритом, как и не все монахи — игуменами. И тем не менее считает себя обойденным и глубоко оскорбленным. Потому как до него все настоятели монастыря непременно получали сан архимандрита. Обиду свою он, по понятным причинам, не выказывал лицам, стоящим над ним. А все нерасположение свое и свой гнев обрушивал на монашествующую братию, а еще чаще — на мужиков соседних сел: они и богохульствуют немало, и непочтительны к служителям божьим, и грубы друг с дружкой, и пьянствуют непробудно. О спасении души, о конце своем — не помышляют.
— Не можно человеку стать ангелом, но не должно ему быть и диаволом. Не разумеют, что не хлебом, а молитвою жив человек.
Это Фотий. Ляпаев ожидал от него нечто подобное, оттого и слова старца не вызвали удивления. Внутренне усмехнулся, знал гость причину неприязни к окрестным мужикам. Молва о Чуркинском монастыре шла недобрая. Мужики злословят про монахов: «Пойду в монастырь, баб много холостых», «повадились иноки забегать в чужую клеть, чтоб молитвы петь» — это когда рыбаки в море. Ну и соответственно после путины ловцы с пьяных глаз поколачивают и жен своих грешных, и монахов.
— Все во прах изойдем, сын мой. А доброму делу и ангелы на небесах радуются.
— Истинно, святой отец.
Так для начала обменивались они сколь привычными, столь и ненужными фразами, понимая, что сразу о деле говорить вроде бы и не пристало. А что дело привело Ляпаева в Чурки, а не пустая блажь сделать приятное монастырю перед святой неделей, это Фотий понимал, а потому помаленьку вводил разговор в то русло, которое обоим им было нужно. Да и догадывался старик, о чем речь пойдет.
— Обещает господь весну раннюю.
— Дай-то бог, — живо откликнулся Ляпаев. — Весенней путиной только и живем.
Отец Фотий понял направление мыслей гостя, а потому обратился к нему запросто, будто к компаньону, рассчитывая откровенностью сбить его с толку.
— Грешно так, Мамонт Андреевич. Весна для ловца — дело великое. Но только ли она одна кормит?
— Не перечу, святой отец, не перечу.
— И зимой господь радует беленькой да красной рыбой. — Отец Фотий чувствовал, что задел Ляпаева за живое, и решил не останавливаться на половине пути, а прояснить все до конца. — И зимовальные ямы — что кладезь божий — только не ленись, только усердствуй… А господь без милостей не оставит.
«Каналья толстомордая, — осерчал Ляпаев. — Будто мысли читает. Заломит цену за Золотую и бога не постесняется». И тогда он ловко перевел разговор на иное, чтоб опосля, улучив момент, нежданно-негаданно вернуться к тому, для чего приехал в монастырь.
— Трудные времена, святой отец, приближаются. Был намеднись в городе, наслышался всякого. — Ляпаев покосился на Фотия и, заметив, что тот внимательно слушает его, продолжал: — Бондари, судовые, да типографские рабочие волнуются. То гудки подадут к беспорядкам да сами скроются, то прокламации расклеят на заборах, за городом митингуют. Социалисты мутят воду. Легкий авторитетик зарабатывают, власть прибрать хотят. Восьмичасовой рабочий день им подавай, плату увеличь… Смешно читать, — Мамонт Андреевич, припоминая, потер пухлыми волосатыми пальцами виски: — Было забыл… Самсоном рабочий класс величают. Мол, проснулся могучий Самсон и требует свободы и хорошей жизни.
Отец Фотий сидел безмолвный и задумчивый. Он уже не впервой слышит о беспорядках в губернии. Казалось ему прежде: только в столицах далеких живут злоумышленники против царя и спокойствия. Ан нет! И в Астрахани смутьяны объявились. Не приведи господь, ежели вдруг окрестные мужики забалуют. Монастырь им поперек горла будто.
Тихое возмущение копилось в его душе. Когда же Ляпаев произнес вслух имя Самсона, игумен побледнел:
— Богохульники. Святого Самсония пакостят.
Ляпаев, рассказывая Фотию о событиях в городе, никак не предполагал, да и не думал, о том, что не пройдет и малого времени, как и в Синем Морце, выходя из повиновения, забалуют ловцы. И смута пойдет не от безлошадного Макара Волокушки или сухопайщика Илюшки Лихача, у которого за душой ни гроша, а от Крепкожилиных — из семьи самой что ни на есть зажиточной и патриархальной.
…А пока Мамонт Андреевич счел, что настал самый удобный момент для крутого поворота в разговоре с игуменом Фотием.
— Насчет Золотой хотел полюбопытствовать, святой отец. Путина-то не за горами. Договоримся, думаю.
…Договорились, как не договориться. Правда, поначалу Фотий, бестия, заломил такую цену, что Ляпаев опешил. Торговались долго, осушили вчетвером (Фотий в помощь себе двух старцев кликнул) пузатый, красной меди, самовар. Под вечер Ляпаев уехал из монастыря усталый и довольный — сторговались. Пришлось лишку все же заплатить, ну не беда. Золотая его — и это главное.
А на рассеете другого дня из Синего Морца вышел немалый рыбный обоз в город. Ляпаев, опять же один, на легких санках обогнал подводы у волостного села Шубино и, не задерживаясь, лишь перекинулся несколькими словами с Резепом, ехавшим на головной подводе обоза, и, поднимая снеговую заверть, умчался по ледовой дороге вперед.
12
Стол ломился от всевозможной снеди. В середине на большом овальном мельхиоровом блюде средь мелко рубленного яйца вперемешку с гречневой кашей аппетитно отсвечивал жареный поросенок. Золотом играл стерляжий студень. В незамутненном желе, словно сквозь янтарь, просвечивали куски отварной осетрины с невеликими глазками зернистой икры на них. Ярко-красные помидоры (выращенные средь зимы и доставленные из близгородских теплиц черепашинских татар), запеченные с грибами, робко глазели из-под рубленой зелени.
Икра зернистая в хрустальной салатнице, обложенной кусками битого льда, гребешки петушиные с шампиньонами в яично-масляном соусе, поданные в серебряных кокотницах, семга с лимоном, куропатки жареные, в мясном соусе, с бумажными розетками на ножках и многая другая снедь теснилась средь ярко расцвеченных бутылок коньяка и шустовской водки, хрусталя и серебра посуды.
Хозяин гостиницы не скупился на обслуживание. На столах посуда наилучшая — серебро, мельхиор, хрусталь; обстановка в номерах постоянно обновлялась: мебель красного дерева, резная — работа по заказу. Половые, коридорные и официанты — услужливые, появляются в дверях, едва возникает в них надобность, молчаливые: спросишь — ответят, в противном случае за вечер ни звука не произнесут.
По утрам бесшумные коридорные разносят свежие губернские ведомости и журналы, готовят ванные или налаживают душ — кто чего пожелает.
Остановился Ляпаев в номерах в пристанском районе, на косе. Заезжий этот дом славился обслугой и столом, оттого все именитые гости города, большей частью промышленники и купцы да государственные чиновники, съезжались сюда. Здесь же за рюмкой водки завязывали знакомство, торговали товары — приезжие скупали рыбу, продавали лес, пеньку.
В двухкомнатном угловом номере, с огромным балконом, опоясанным замысловатыми перилами из чугунного литья, Ляпаев оказался по соседству с гостем из Нижнего — уже немолодым, немного обрюзгшим купчиной с улыбчивым, добродушным лицом, смолисто-черной кудерью, прошитой редкими нитями серебра, усами, сросшимися с окладистой короткой стриженой бородой. Звали нижегородского купца Нестор Прокопьевич, а по фамилии — Богомолов.
В первый же вечер, узнав о Ляпаеве, по всей вероятности, от гостиничных прислужников, он постучался в дверь — пришел познакомиться и пригласил к себе. А сегодня вот Мамонт Андреевич приказал в своем номере накрыть стол и угощал нового знакомца.
Нестор Прокопьевич не мог подолгу сидеть за столом. Выпив рюмку, тыкал вилкой в тарелку, хрустел соленым огурцом и тут же вскакивал на ноги, ходил по номеру и говорил без умолку.
— Не могу поверить, Мамонт Андреевич. Вот крест святой, не верю, будто на Макарий не приезжал! Ну, удивил батенька. — Нестор Прокопьевич могучими ручищами хлопнул себя по бедрам, подошел к столу, опрокинул еще стопку водки, запил сельтерской водой. — Да знаешь ли ты, разлюбезный мой, сколь ты потерял на том? С твоего обоза и тебе прибыль, и мне куш, можа даже больший. А на Макарьевке — все в твоем кармане осталось бы, уразумел? Эх, безыскусность наша расейская…
Гость из Нижнего нравился Ляпаеву нескрытостью. Другой на его месте ловчил бы, утаивал цены. Он же, Богомолов, весь нараспашку. Еще сегодня утром, осматривая ляпаевский рыбный обоз, дотошно и долго копался в возах, трогал чешую и жабры, на свой выбор попросил распустить и раскидать два воза, ибо знал по опыту: на гнилой товар ищут слепого покупателя. Убедившись, что подпорченной рыбы нет, отвел Ляпаева в сторонку и сказал твердо, будто о деле решенном:
— Беру. О цене договоримся. Когда покупаешь, всегда дорого, продаешь — кажется дешево. Так уж… Ничего, договоримся.
По пути в номер он откровенно признался Ляпаеву, что живет в городе уже полную неделю, цены изучал, за свою мошну постоит да и его, Мамонта Андреевича, ни обманывать, ни обижать он не намерен, что лучше переплатит полтину на пуд, нежели дружбу с хорошим человеком потеряет. А им и впредь предстоит торговать, так что все порешат по обоюдному согласию.
Ляпаев, снаряжая обоз, не имел в виду верхового покупателя, рассчитывал местным торговцам сбыть рыбу. Да бог, видать, рассудил по-своему. Знать, тому и быть, тем паче что Нестор Прокопьевич ему тоже приглянулся, да и человек, видать, порядочный, с крестом на шее — без плутовства, одним словом — каков продавец, таков и купец.
И вот теперь они «обмывают» сделку. Оба довольны и исходом торга, и друг другом. Нестор Прокопьевич изрядно захмелел. Электрическим звонком вызвал он полового и с плутоватой улыбкой что-то шепнул ему, а вскоре в номер явились две тощие, ярко размалеванные девицы и стеснительно остановились у двери. Нестор Прокопьевич с широкой улыбкой на лице шагнул к ним, сгреб девок в объятья и пьяно тыкался бородой в щеки то одной, то другой. Девицы словно бы этого только и ждали: осмелели, заулыбались, присели к столу и охотно выпили с мужчинами.
Та, что постарше, часто и мелко покашливала. Ляпаев брезгливо поморщился, потому как решил: чахоточная. Богомолов же ничего не хотел замечать, обнимал ее, целовал в щеки и губы, тянул к себе на колени.
Вторая, она назвалась Лерой, быстро смекнула, что Ляпаев человек иного склада, чем шумный и нетерпеливый бородач, приятным, мягким голосом неспешно рассказывала, что они жили прежде вдвоем с матерью, очень бедствовали. А недавно умерла мать, и вот… Тут она стушевалась, и Ляпаеву показалось, что глаза ее влажно заблестели. Так или нет, он не успел разглядеть, потому что из-за стола шумно поднялся Нестор Прокопьевич, налил всем коньяку в объемистые фужеры и провозгласил хмельным голосом:
— За мово астраханского друга. — Он перегнулся через стол, сгреб Ляпаева твердой цепкой рукой и сочно чмокнул в губы. И так же порывисто вылил внутрь себя фужер коньяку. Приказал: — Девки, целуйте Мамонта Андреича!
Девицы истошно взвизгнули и полезли целоваться. Мамонт Андреевич, хоть и был навеселе, все старался, чтоб та, которую он обозвал про себя чахоточной, доставала лишь до щеки, отворачивал от нее губы, а Лере не противился. И когда она коснулась твердыми горячими губами его губ, почувствовал, как уже немолодое его тело вздрогнуло, и он ответно потянулся к гостье.
13
Утром Ляпаев проснулся в постели один. Леры рядом не было, но он всем телом брезгливо чувствовал ее присутствие… Это неприятное ощущение вперемешку с головной болью от чрезмерной ночной попойки тошнотворно копошилось в груди, вызывая гадливость и к Лере, и к себе, и к Нестору Богомолову, чьими стараниями беспутные девицы вчера вечером появились в его номере.
Было время, еще при Лукерье, Ляпаев частенько позволял подобные вольности с другими женщинами. И ничего, кроме приятных воспоминаний впоследствии, не оставалось. А теперь… И одинок, и угрызений совести, казалось бы, нет перед женой, а поди-ка, муторно на душе. Видимо, годы диктуют свое.
Больше того, едва продрав глаза, Пелагея вспомнилась, беседы с нею, слова, которые говорил ей. «Господи, откуда явилась эта сатана на искушение души моей», — посожалел Ляпаев и потянулся к звонку, чтоб вызвать коридорного. Но прежде чем явился тот, в дверь ввалился сам «сатана» — Нестор Прокопьевич.
— Живой? Ну, слава те господи. А у меня голова раскалывается.
Вошел коридорный. Ляпаев повелел ему приготовить ванну, а сам, глуша отвращение, выпил с дружком стопку водки.
— Ну как? — Богомолов хитро подмигнул и маслено улыбнулся: — Ничего девка-то? Оне, тощие, будто змеи. Обовьют — не отдерешь от себя.
— А-а! — Ляпаев гадливо отмахнулся. — Давай-ка лучше еще по одной.
— Этта можно, — проворно согласился Нестор Прокопьевич. — Пить — не работать. Хоша пить — тоже дело и нелегкое. Тяпнем-ка водочку русскую. С девками и коньячок можно, а мужикам водку употреблять пристойно. Все остальное — буза, червяков в желудке только разводить…
Богомолов не переставая говорил, обнимался, приглашал нового дружка в Нижний, а Мамонт Андреевич с тоской думал, что вот опять пройдет день в попойке, явятся девки и повторится вчерашнее, а наутро опять же вставать больным и разбитым и в такой неприглядности пускаться в обратную дорогу.
И Резеп отчего-то не показывается, и неизвестно, как исполнил он все, что ему поручалось, — отобрать и закупить в английском магазине Керна оснастку для судов: пеньковые канаты, цепи, якоря, баштуги, темляки, блоки парусные, все необходимое для ремонта посудин: гвоздей, пакли, скобы, дранки и другую дребедень. И хотя Ляпаев надеялся на плотового, неосведомленность эта тяготила его, и он лихорадочно соображал, как, не обижая своего покупщика, покончить бражничанье. Да и грешно в его возрасте с гулящими девицами знаться. И так уж вчерась грех на душу принял.
Ляпаев вспомнил, что еще не наведывался к Лукерьиной сестре. Вести дошли до него, что больна свояченица неизлечимо. Полгода тому послал ей денег телеграфом. Получила ли, нет ли — неведомо. Глафирка, дочь ее, могла бы и отписать, не ребенок, лет, поди-ка, за двадцать.
Мысли о свояченице и Глафире обрадовали Ляпаева: надо непременно сходить, божеское дело — страждущим подсобить, все лишний грех спишется.
Пока Ляпаев предавался грехоискупительным мыслям, вновь появился коридорный, прошел в ванную комнату и, выйдя, напомнил:
— Ванну изволили просить.
— Выключи, братец, неколи, дел много, — отмахнулся хозяин.
— Иди, иди, — махнул Богомолов коридорному. — Дела у нас… Мне, Мамонт Андреич, тоже надо депешу в Нижний отправить — и подышим малость. Воздух ядреный, солнышко…
Спустя малое время вышли к Волге и мимо многочисленных пристанских складов и причалов, у которых заснеженными глыбами застыли пароходы, баржи, дощаники и прочая ловецкая посуда, прошли к стрелке Кутума. У биржи Богомолов оставил Мамонта Андреевича одного, а сам вошел в почтово-телеграфную контору.
Ляпаев свободно вздохнул и, завидя извозчика, подозвал к себе.
— На Грязную, — сказал он, взобравшись на мягкое сиденье пролетки, и назвал номер дома. Путь недалекий, но добираться пешим ходом по ухабам и лужам не хотелось. Да и пристойней ему, Ляпаеву, подкатить на извозчике — не голоштанник, слава те господи…
Проехали Коммерческий мост, свернули на набережную Кутума, и вот уже Грязная улица — длинная, узкая, замусоренная…
Лукерьина сестра занимала полутемную каморку в глубине двора. В небольшом флигеле, низком, с ветхой, полусгнившей крышей, квартир, казалось, не меньше, чем окон, — крошечных, слепленных из осколков стекла, с черными полосками замазки из смолы и мела.
Ляпаев, отыскав нужную дверь, постучал. Ему открыли, и он увидел в образовавшийся просвет заспанную, со сбитыми на лицо волосами девушку. Она испуганно вскрикнула и кинулась прочь.
Гость постоял малость и, пригнувшись, вошел. В слабо освещенной прихожке, служившей и кухней и столовой, — небольшая плита с ворохом немытой посуды, не-прибранный стол со следами выпивки — остатками селедки, лука, хлеба и пустой бутылкой.
Из прихожки — низкий дверной проем в жилую комнату — слепую, без окна. Свет в нее почти не проникал, и Ляпаев не мог рассмотреть, что там. Он видел лишь, как девушка суетливо прибирала какие-то тряпки, прихорашивалась. Мамонт Андреевич, не дожидаясь приглашения, присел на скрипучий, разболтанный в креплениях венский стул и огляделся. Он никогда прежде не заезжал сюда, потому что вырывался в город редко и, наскоро покончив дела, не задерживался, возвращался в Синее Морцо. Да и покойная Лукерья не особо привечала сестру, потому как давно, еще в молодости, сестры вдрызг поссорились. По истечении многих лет Лукерья и сама-то толком не могла объяснить причину размолвки, изредка пересылала сестрице небольшие суммы денег, а наведывать ее не наведывала, да и к себе в гости не приглашала.
Ляпаев тоже мало любопытствовал насчет городской свояченицы и ее дочки и вот теперь, узрев бедность сродственников, сидел потрясенный, а поскольку был он человеком мягкого характера, почувствовал себя виновным: ничего не стоило ему время от времени подбрасывать им немного деньжат. Теперь-то он не оставит их в беде, непременно поможет…
Но вот девушка показалась в дверях. Ляпаев остановил на ней блуждающий по каморке взгляд и от неожиданности привстал со стула: перед ним стояла… Лера — вчерашняя девица, ушедшая от него только сегодня на зорьке.
— Как же вы меня разыскали? — она была не менее гостя встревожена его столь неожиданным появлением, но старалась не выдать своей тревоги, натянула на лицо обманную улыбку и игриво моргала глазами. — Садитесь, что это вы так…
— Ты — Глафира?
— Уже успели наболтать? — Она метнула гневный взгляд в подслеповатое оконце. — Ябедники…
И тут Ляпаев, сам не соображая, что делает, шагнул к девушке, размахнулся и до боли в крепкой мужской ладони ударил ее по щеке. Она ойкнула, качнулась, но, ухватившись за косяк, удержалась на ногах.
— Это… это за что? Я же ничего не брала…
Глафира, она же Лера, прислонившись пылающей щекой к дверному косяку и мелко-мелко всхлипывая, растирала по лицу слезы и все еще не могла понять происходящего, думала, что ее бьют по недоразумению. Боже мой, как он может думать про нее такое. Никогда, сколь ни бедствовали они с покойной матерью, не брала она чужого — даже тогда, когда подружки втянули ее в эту грязную круговерть.
Мамонт Андреевич, ошеломленный и тем, что ему открылось здесь, и своей несдержанностью, и словами Глафиры, и ее унизительно-покорным голосом, кулем опустился на стул, уперся локтями в колени и спрятал лицо в ладонях, неожиданно похолодевших.
Так прошло некоторое время, пока не пришло к Ляпаеву сравнительное успокоение. И Глафира стала понимать, что этот господин ни в чем ее не обвиняет, что тут что-то другое, но что — не могла взять в толк, а потому перестала всхлипывать и с испуганным любопытством наблюдала за ним. Но стоило ему заговорить — и все открылось ей.
— Виноват я, Глафира, а тетка твоя Лукерья, царство ей небесное, — прежде всего… Не любила она матушку твою, не привечала. И я тоже хорош… В глаза ни разу ни ее, ни тебя не видел. Вот и наказал господь… — Он говорил это, не поднимая на нее глаз, а так же, глядя в пол, спросил: — Давно мать-то схоронила?
— Скоро сорок ден, — еле слышным голосом ответила она. — Деньги-то ваши еще при ней пришли, радехонька была. Благодарить приказывала, когда получила. Да я все не собралась.
— Будет тебе… Чем болела-то?
И пока Глафира рассказывала, он слушал, и потихоньку созревало у него решение забрать ее к себе, в Синее Морцо. Пусть выберется из этой грязи, поживет у него, рядышком с Пелагеей, может, привыкнет к деревенской жизни.
— Ты вот что… Завтра за тобой заедет Резеп, работник мой. Собирайся и езжай с ним. Поживешь у меня. А там видно будет…
— А квартиру как же? Да и как это вдруг…
— Заколоти окна да двери. Кто такое барахло возьмет, — Ляпаев понимал, что говорит бестактность, но Глафира начинала сердить его. Он достал из кармана помятую десятирублевую ассигнацию, положил на край стола. — Отдай хозяйке задаток на месяц-другой. Да чтоб с солнцем была готова. И никаких капризов. Ляпаев вышел на замусоренную, в помойных подтеках улицу, и она после сырой и душной каморки показалась ему настоящим раем. Он раскованно вздохнул всей грудью и физически ощутил, как внутрь вливается промороженный чистый воздух.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Во всех городских церквах звонили к заутренней. В воздухе вперемешку с вороньим гамом метался разноголосый перезвон: от мелких, напоминающих легкую трель, до густых, схожих с отдаленными раскатами грома. С Татарского базара звонил щеголеватый приземистый Иван Золотоуст, с Селенья — строгая, красного камня, церковь Покрова, за Кутумом — по-купечески богато одетая в золото Казанская, с Золотого затона — бесформенная глыба князя Владимира, из кремля — белокаменный царственно величавый Успенский собор.
В общем хоре голосов выделялся низкий, надтреснутый бас князя Владимира. Его голос могуче властвовал над просыпающимся городом, заглушал прочие звуки, будоражил, звал богомольный люд.
Шаркая подошвами о дощатый тротуар, мелко семенили сгорбленные старушки в черном, до смешного похожие на грачей, расторопные монашки, сухопарые служащие с бледными испуганными лицами, раздобревшие торговки в цветастых платках, повязанных поверх капоров.
Цокая подковами о серый, местами запорошенный снегом булыжник, сверкая серебром сбруй, стремительно проносились лошади, запряженные в легкие ковровые санки или пролетки, крытые черным лаком. Важные господа, никого и ничего не замечая вокруг, спешили в это воскресное утро помолиться богу, замолить грехи, попросить у всевышнего счастья и благополучия.
За счастьем шли все, и каждый молил бога о своем. Для одних счастье — это избавление от физических недугов, у других — от душевных мук, у третьих — просьба о жизни в достатке и тепле. У нищего в жалких лохмотьях слово к богу связано с куском хлеба, а у купца, что подкатил к церковной ограде на санях, крытых голубым бархатом, оно, слово это, — о новых тысячных оборотах, об удаче в большом деле.
Каждому свое…
Андрей с Петром шли в том же направлении, что и все, но шли они не в церковь, ибо давно уже отошли и от веры и от бога. Оба они, как и многие их единомышленники, связывали и свою жизнь, и свое будущее, и представление о счастье не с богом, а с делом, которое они делали, которому верили и отдавали всего себя.
Они только что миновали деревянный мост через городскую речку Кутум и по Сапожниковой улице, мимо церкви Покрова направились на городскую окраину. Улицы здесь были пустынными и захламленными. На Кузнечной — кучи шлака, обрезков железа, битого стекла. Дома, стесняясь своей неприглядности, прятались внутри дворов за высокими оградами. Улица тянулась длинным грязным коридором с почерневшими, заплесневелыми заборами и низкими покосившимися кузнями.
Над дворами лениво курились белые дымки, снег на узких тротуарах и немощеной, в выбоинах, мостовой почернел от копоти и гари, постоянно оседающих от кузнечных горнов.
Вышли на пустырь, густо поросший бурьяном. Здесь все сверкало белизной. Будто и не было залитых помоями улочек, серых, покосившихся домишек. Прохожие здесь почти не встречались, и можно было, не таясь, поговорить.
— До Синего Морца далеко? — спросил Петр.
— Верст сто будет.
— Ты особенно не спеши. За два-три денька доберешься — и то хорошо.
— Подвода, может, подвернется, уплачу.
— Тоже дело. И вообще… Не спеши, осмотрись.
Андрей промолчал. Он думал о том, как же сложится теперь его жизнь. Все было привычно. С таким трудом сумел он познакомиться с нужными людьми, наладить связь, войти в доверие. И вот теперь, когда он почувствовал себя полезным и нужным человеком, приходится все бросать и уезжать в Синее Морцо, откуда уехал девять лет тому назад. Попробовал было возразить — не стали даже слушать.
— Это задание партии, — твердо сказал тогда Петр. — А партия в данный момент считает очень важным работу в деревне. Нам надо, чтоб и ловцы в деревне, и рабочие города жили одними мыслями, в одно время сжимали кулаки.
Андрей понимал всю важность поручения. Он сам читал письмо большевистского Восточного бюро к местным комитетам РСДРП Поволжья и Урала, где черным по белому было рекомендовано крестьянское движение сделать «политически сознательным, вывести его из того стихийного состояния, в котором оно находится теперь, и направить в русло ясно осознанных политических и экономических запросов…».
И все же возвращаться в Синее Морцо, к отцу, с которым они не понимали друг друга, Андрею не хотелось. Он попросился в другую волость, но с ним опять не согласились.
— В Синее Морцо, — сказали ему, — твое возвращение не вызовет никаких подозрений, да и людей ты знаешь там хорошо. А это много.
Вот тогда-то и написал Андрей домой о скором своем возвращении.
С Петром Андрей впервые встретился в мае прошлого года. В летнем театре «Аркадия» в день очередной годовщины коронации Николая II местное начальство вкупе с богачами организовали спектакль. Царю в это лето, как никогда, было трудно. Россия вздыбилась, вышла из повиновения. Вот и задумали власти хотя бы этим спектаклем выказать верноподданнические чувства «простонародья».
Что тогда было! Едва заиграл оркестр и хор запел «Боже, царя храни», с верхних ярусов засвистели, закричали:
— Долой царя-убийцу!
И — дождь листовок.
Несколько человек полиция все же схватила. И Андрею бы несдобровать, да Петр, с которым его познакомили накануне в конспиративной квартире на Косе, знал в театре и саду все ходы и щели.
…Вышли на берег Болды. Слева, за Болдинским островом, голубел в снегах широкий волжский плес. Вдоль берега протоки разномастные, вмерзшие в лед суда: морские приемки, сухогрузные барки, живорыбные садки, утлые рыбачьи плоскодонки.
Спустились на лед.
— Ну, довольно, — Андрей остановился. — И так далеко проводил.
— Запомни: связь только через Машу. Она твоя зазнобушка, и письма твои к ней — самое обычное дело. Будь осторожен. Товарищи желают тебе удачи.
— Спасибо, — Андрей стиснул тугую ладонь Петра и торопливо зашагал по льду вниз по реке.
2
Резеп, кутая меховой полостью ноги Мамонту Андреевичу, посетовал:
— Все один да один. Ухайдакают — и концов не сыщешь.
— Раскаркался…
— Не каркаю, упаси бог. Жалеючи я.
— Жалеют убогого.
— Боязно. Неблизкая дорога…
— Господь побережет. Ты вот что, не мешкайся тут да заверни за Глафирой…
— Все будет исполнено наилучшим образом, Мамонт Андреич, счастливого пути. Вечером, бог даст, свидимся.
— Коней-то не особенно поторапливай. Сани гружены, да и путь неблизкий, снег к тому же. Лучше заночуй где.
Легкие крытые сани стремительно скатились с откоса, а Резеп направился к обозу, который стоял неподалеку готовым в путь: сани были загружены ловецкой сбруей и судовым оборудованием, лошади после трехдневного покоя и сытного корма нетерпеливо переминались, хрумкая сухим, искрящимся в первых лучах солнца снегом. Резеп обошел все подводы, придирчиво осмотрел, хорошо ли увязаны возы.
Когда обоз спустился на волжский лед, плотовой свободно вздохнул и, вскочив на застланные сеном открытые сани, пустил лошадь рысью по прибрежной улице — на Грязную, за Глафирой.
С той самой минуты, когда Глафира уяснила, кем ей доводится богатый рыботорговец, с которым она провела ночь, успокоение не приходило к ней. Чувство стыда и гадливости, всякий раз не оставлявшее ее после таких вот знакомств и распутных ночей, на этот раз было особенно острым и непроходящим. Промаявшись до вечера, она сбегала в ближайшую лавку, купила водки и немного съестного — перекусить. Выпила полстакана жгучей влаги, пожевала поджаренную хлебную корочку.
После водки мысли о случившемся вновь завладели ею, и тогда Глафира выпила еще. И все, что она потом решала и делала, было плодом нетрезвого ума. Ибо в трезвости да без практичности и жизненной многоопытности вряд ли нашла бы она столь верное решение — ехать в Синее Морцо. Поначалу ею завладела злость на покойную тетку Лукерью и на Ляпаева — сытого, красиво одетого человека. Они не знали никакой нужды, жили в богатстве, а ее мать умерла в нищете. Потом мысли Глафиры перешли на нее саму, и она заплакала от жалости к себе. С матерью-то, плохо ли, хорошо ли, жили, как и все люди. А теперь вот подруженьки научили ее и водку пить, и с незнакомыми мужиками спать… Так и спиться недолго, и дурную болезнь найти…
Порешив так, Глафира стала лихорадочно собираться. А поскольку и родилась она в этой каморке, и прожила в ней почти два десятка лет, то каждая вещичка, каждая рухлядь ей казалась нужной и дорогой. Она складывала их, свертывала, увязывала, а когда закончила сборы и оглянулась, то заплакала навзрыд. И оттого, что надо уходить из привычной жизни, а больше всего от стыда, она вдруг осознала и почти зримо представила, как будут выглядеть в богатом ляпаевском доме ее нищенские пожитки.
…Когда Резеп подкатил к дому, где жила Глафира, и постучался в низенькую дверь, она поняла, что это от Ляпаева, и сразу же открыла пришельцу, но не пропустила его в неприглядное свое жилье, а вышла навстречу с невеликим узелком в руке.
Резеп подивился немало такому приему и спросил в недоумении:
— Больше ничего?
— Ничего.
— Долгие сборы — короткий век, говорят, — пошутил Резеп, несколько придя в себя, — а тут очень короткие. Знать, надолго к нам.
— Посмотрим.
— А легонько ты одета. В этом пальтишке только по городской улочке прокатиться, а не в дорогу выезжать. А ну, лезь на сани. — Резеп помог ей надеть поверх старенького пальто тяжелый ловецкий тулуп и усадил ее спиной к передку саней. Из вороха овчины выглядывало лишь ее худенькое бледное лицо.
Прежде чем выехать из города, они завернули в полуподвальный трактир, заказали жирного борща из свинины, жареной с картофелем говядины, самовар чаю. Резеп велел принести графинчик водки, но Глафира пить не стала. В другое время она охотно позволила бы себе эту вольность, но на этот раз сдержалась. И не то чтобы застеснялась незнакомого человека, хотя и стеснительность была не чужда ей, просто не хотелось Глафире, чтобы нехорошая молва следом за нею перекочевала в Синее Морцо. Пусть недоброе прежнее останется в городе…
Пока ели и пили чай, Глафира вспомнила Мамонта Андреевича, своего дядьку-полюбовника, и муторно стало на душе. Засомневалась: а нужно ли ехать? Не поздно пока выйти — да и за угол… Однако распутничанье так опротивело ей, что убежать от Резепа Глафира не решилась, а через полчаса они мчались по накатанной до глянца дороге в неведомое для нее затерянное средь камышовых островов Синее Морцо.
Возвратный обоз они нагнали у входа в извивну́ю крутоярую Быструю, лихо обогнали груженые повозки и, пристроившись в голове колонны, поехали дальше неспешной рысью. Опережать обоз Резеп не смел, поскольку в подобных случаях он, как плотовой, принимал на себя обязанности обозничьего — смотрел за обозниками, отвечал и за людей и за товар — и всякий раз поэтому выезжал в Синее Морцо вместе с остальными подводами.
Вскоре начала портиться погода. Крупчатый колкий снег мглистым туманом завесил и небо и острова. И санная дорога мутно и нехотя выползала из этой невиди, еле просматривались позади последние подводы.
Резеп, пряча лицо в мех отворота тулупа, расспрашивал спутницу о ее житье-бытье в городе. Глафира осторожно, чтобы не сказать ничего ненужного и не бросить тень на Мамонта Андреевича, ибо догадывалась, что Резеп у него человек доверенный, поведала о себе совсем малую толику, ровно столько, сколько положено знать постороннему, который, узнав лишнее, может обернуть его не на добро.
— Прежде у Мамонта Андреича не бывали? Что-то не примечал я вас.
— Не доводилось.
— Как же одна живете? Город… что паровая молотилка. Измолотит.
— Живу как и все.
— И чем занимаетесь, ежели не секрет?
— По-разному, — неопределенно и неохотно отозвалась Глафира. Ей начал надоедать этот мордастый, с нагловатыми глазами, мужичок. Поначалу она смущалась каждого его вопроса, но потом освоилась, и ей даже нравилось, отвечая ему, говорить общие слова, из которых он ровным счетом ничего не смог бы понять.
Их разговор был неожиданно прерван. Лошадь всхрапнула и настороженно запрядала ушами. Резеп привстал на колени и увидел впереди одинокого человека. Он стоял обочь дороги и взмахом руки просил остановиться.
Резеп натянул вожжи.
— Добрый путь вам, — поприветствовал заснеженный человек.
— Ты только ради того и остановил? — сердито отозвался Резеп.
— Возьми, коль по пути. Я заплачу.
— Тяжело лошадям.
— Вам жалко лошадь, а человека нет? — тихо, чтобы слышал только Резеп, съязвила Глафира, оглядывая невысокого молодого пешехода.
— Мне бы лишь до Шубино, а до Синего Морца я как-нибудь.
— А ты чей будешь-то?
— Крепкожилин.
— Младший сынок? — оживился Резеп. — А ну, прыгай в сани.
— А ты… никак, Резеп? Не признал враз-то.
— Он самый. Ну, подвезло тебе, братец.
— А это кто же? — Андрей пристально всмотрелся в Глафирино лицо, но не признал.
— Мамонта Андреича сродственнаца, — пояснил Резеп, — городская. В Морцо гостить едет. А ты надолго?
— Посмотрю, — неопределенно отозвался Андрей. — Работенка найдется — останусь. Надоело в городе-то…
— Оно конешно. Не угол родной. Дома — и солома съедома. Давненько ты не появлялся в селе.
— Давно, — согласился Андрей. — Что нового там?
— Илюшка Лихач бабу на крещенье схоронил. Земля будто чугунная. Еле могилку сладили.
— Болела?
— Тяжелая была, ну и не разродилась. Так-то вот. — Резеп поторопил лошадь, помолчал и, вспомнив разговор с Яковом, братом Андрея, сказал: — Батя твой Торбаев промысел купил.
— Промысел? — Андрей не поверил услышанному.
— Ну! В люди выходит. — И трудно было понять, что было в голосе Резепа — уважение к ним, Крепкожилиным, или же насмешка.
То, что сообщил Резеп, было неприятно Андрею. Еще в те далекие годы, когда он не уезжал из Синего Морца, ему не то душе было скопидомство родителя. Работуха-мать, бывало, ургучила целыми днями в хозяйстве, а путного платья у нее не было — все до копейки откладывали, чтоб купить сети, бударки, снаряжение. А теперь, выходит, промысел приобрели. И Якова, знать, не выделили, а тому так хочется жить своим домом. Брательник весь в отца. Тоже копить будет. Пущай бы и жил отдельно, а то, чего доброго, не поделят нажитое, передерутся…
И вновь забеспокоился Андрей: как все в доме сложится с его приездом?
Так и ехали они втроем долгим зимним путем, то молчали, то перебрасывались словами, вели разговоры про общих знакомых из Синего Морца. Говорил больше Резеп. У него все было более или менее ясно. Андрей и Глафира помалкивали. Они начинали новую жизнь и плохо представляли, как она сложится. Лишь изредка Глафира бросала короткие взгляды на случайного попутчика.
Он нравился ей.
3
Посередке заснеженной улицы волостного села Шубино, переговариваясь вполголоса и осматриваясь по сторонам, двигалась небольшая толпа, человек десять мужиков. По пестроте одежды в них сразу угадывались люди нездешние, пришлые. На одних дубленые полушубки — иные в новых, другие в залатанных. Некоторые одеты в ватные фуфайки. А на одном — серый, в клетку, длиннополый бешмет с воротником на собачьем меху. На ногах мягкие, домашнего изготовления валенки, стоптанные за долгую дорогу.
У волостной управы мужики остановились. При виде богатого дома с резным фронтоном и высоким, пестро выкрашенным нарядным крыльцом они в нерешительности помялись. Но нашлись похрабрей, поднялись по крутым ступенькам, тронули дверь, но тут же попятились назад.
В дверях показался старик с голиком в руке и ведром — в другой. Он был высок, худощав. Но самым примечательным у него была борода — доской до самого пояса — и седые усы, густые, желтые от курева и вислые, как осенний, побитый морозами голенастый белотрав.
Старик сверху вниз пренебрежительно осмотрел толпу, грубо спросил:
— Куда прете?
— К уряднику бы нам…
— Кто такие? — не ответив мужикам, вновь переспросил бородач.
— Да по-разному мы… С верхов больше…
— Внайм… — начал было человек в бешмете…
— Так бы и говорили, — перебил старик. — Рань этакую приперли. Добрые люди ближе к оттепели приходят.
— Урядника бы видеть. Чать, ведомо ему, где руки потребны.
— Какой по зиме найм? Аль ополоумели? А их благородия нет.
— Это как же?
— А вота так. Завтра с утра, — старик нагнулся, сметая с пола сор. — Не мешкайтесь, пошли, пошли отсюда. Ежели всякие будут здесь топчись… Айда с крыльца.
Мужики загалдели недовольно:
— Хрен старый…
— Язык не тем концом подвешен, слова доброго нет.
— Дьявол волосатый, не подумал, куда теперя нам.
— Под забором ждать-то? — взвизгнул человек в бешмете и крепко выругался.
…Среди этой оборванной, измотанной длинной зимней дорогой толпы, шедшей с верховьев Волги на заработки к рыбникам, был и Тимофей Балаш. Он выгодно отличался от остальных: и одежонка справней, и на ногах теплей, а главное, на вид мужик деловой — спокойный, рассудительный. Лишнего слова никто от него в пути не слышал. А коли уж скажет — умно, просто, к делу.
За длинную дорогу мужики свыклись с ним. Кто хоть раз испытал трудности и тяготы долгого пути, тот понимает, насколько нужен умный советчик, бывалый человек. Таким и был Тимофей.
И на этот раз, рассерчав на старика из управы, мужики хотели спросить у Балаша, как быть дальше. То ли урядника обождать, то ли на промысел ближний подаваться, или лучше здесь, в волости, к именитым рыбникам внайм идти. Глядь, а Тимофея-то и нет. И не приметил никто, куда подевался он. Кажется, только что терся в толпе, а уж нет.
— Увертлив, черт.
— Без шума ушел. Чисто…
— С хитринкой Тимофей-то, подико-от.
…Тимофей Балаш тем временем шел по берегу протоки, вдоль бесконечного ряда тесовых изб, глазеющих на речку темными пятнами окон. Между домами и берегом тянулись мелкие ларьки, торговые палатки, склады с лесом, пенькой, смолой и прочим ходовым накануне весенней путины товаром. На льду стояло множество санных подвод — рыбаки с низовых сел приехали, кто за лесом, кто за гвоздями, кто за ловецкой сбруей.
Тимофей потолкался в шумной торговой толпе, походил вдоль ларьков и палаток, надышался терпким смолистым воздухом. Увидев мальчишку лет десяти — двенадцати, поманил к себе:
— Поди-ка сюда.
Посиневший от холода белобровый мальчуган в подшитых отцовских валенках недоверчиво покосился на незнакомца.
— Да ты не боись. Не кусачий я. Скажи-ка лучше, где тут харчевня или кабак какой?
Идти пришлось долго. «Волость, — думал про себя Балаш, — а растянулась — ни конца ни края. Иной уезд меньше. Крепко отстроились».
Кончился торговый ряд. Ниже, вдоль берега, на клетках стояли поднятые из воды морские реюшки и стойки да мелкая речная посуда. Среди этой разномастной рыбацкой флотилии глыбой возвышался буксирный колесный пароходик. Корпус деревянный. Осмолка местами стерлась, обнажив светло-серые ссадины старых досок. Измочаленные плицы колес застыли в недвижности, палубу запорошил снег.
…Харчевня гудела потревоженным ульем. Едва Тимофей перешагнул через порог ее, в нос ударил тяжелый запах табачного дыма, водки, жареного мяса и рыбы. Балаш с трудом отыскал свободный столик, присел. К нему подбежал хозяин заведения. Он был чрезмерно толст, но удивительно суетлив и словоохотлив.
— Закусить? Это мы мигом. Располагайтесь. Пива или белой? Сию минутку. Глашка, — закричал он, наполовину скрывшись в дверях, — живо судака заливного да борща. — А сам метнулся за стойку, на которой стояла целая батарея всевозможных бутылок.
Тимофей в ожидании, когда ему подадут, осмотрелся. За соседним столом сидели двое: здоровенный молодой казах и рыжебородый низкорослый крепыш лет тридцати. На столе две пустые бутылки, в руках — граненые стаканы с водкой. Оба собеседника изрядно выпивши.
— Мужик ты что надо, Амир, — мычал рыжебородый. — Карсак, а хороший. Люблю я тебя. — И полез целоваться.
— Карсак — не человек? Такой же голова, такой же рука-нога… Только язык другой и глаз узкий. Ты, Петряй, много арака ашал, аул пора ехать.
Рядом, за другим столом, — щупленький старичок философствовал:
— Каспицкая рыба, слыхал я от калмыков, самая что ни на есть первущая. Ни гличанин, ни япошка не имеют таку, как наша.
— Ни-ни, — соглашались с ним.
— Кишка, стало быть, тонка.
— Морюшко наше не зря золотым дном окрестили…
Его перебил по-женски высокий голос:
Седни чаю не пила, Самовар не ставила. Свово милка не видала, Меня скука смаяла.Появилась полная девка с покатыми и узкими плечами, чуть раскосая, с чересчур курносым носом. Она поставила перед Балашом дымящиеся щи и рыбу. И едва отошла, подбежал хозяин с графинчиком.
— Дочь? — спросил Тимофей, кивнув на девку.
— Сирота. Приютил ее. Пропала бы иначе.
— А ты-то женат?
— Овдовел. Не везет мне, милай, с женами. Троих пережил. Не держатся…
«Потому и приютил», — подумал Балаш. Спросил:
— Рыбаки как? Заработки есть?
— Зимой туговато. А весной… Весна, у нас говорят, прибытком красна.
— А народ?
— Удалой, скажу тебе, народец. Особливо синеморские. Село такое есть — Синее Морцо — ниже по протоке, верст пятнадцать отсюдова к морю. Беда народ: в дырявой посудине на семисаженную глубь бегают. Отчаянно живут. Оттого и сухопайщиков там много.
— Кого? — не понял Балаш.
— Разорившихся. Море не шуткует. Останется человек ни с чем, идет внайм, за пятую долю…
Балаш запоминал все слышанное. Когда основательно подкрепился, собрался уходить. Расплачиваясь с хозяином харчевни, переспросил:
— Как в Синее Морцо попасть?
— На ночь глядя куда же ты? — искренне удивился тот.
— Легкий я на ноги. Благодарствую за привет и слова бодрые. Будешь коли в Морце этом самом… заходи. Спроси Тимофея Балаша.
— Да ты разве тамошний?
Балаш подумал и ответил твердо:
— Так и спроси: где, мол, Тимофей Балаш живет?
Вышел на морозный воздух, спустился на лед, отыскал санный след и зашагал вниз по протоке.
— Должны знать, — вслух рассуждал он. — Будут знать!
…Раздувался ветер. Небо заволакивало по-зимнему тяжелыми серыми тучами.
4
На дворе конец февраля, до путины весенней надо еще ждать да ждать. Лед в нынешнюю зиму нарос по колено, распалится не скоро. И все же рыбаки загодя до теплых ветров и чистой воды в свободные дни готовятся к весне: латают видавшие виды суденышки, приводят в порядок сети. А те, кто внайм подаются, уже сейчас сбиваются в небольшие артели, сговариваются, на каких условиях и от кого выходить на путину. Условия, впрочем, у всех одни: заработал рубль — двугривенный твой. Больше никто не даст, жмутся — просить и уговаривать бесполезно. На что уж Илья Лихачев, или, как называют его в селе, Лихач, крупный мужик, жилистый, золотой, можно сказать, работник, и ему ни копейки не накинут.
В прошлом году ходил он договариваться к Ляпаеву. Мамонт Андреевич принял его вроде бы радушно: в дом провел. Илья прежде никогда не был у Ляпаева и потому очень удивился множеству деревянных филенчатых дверей, наполовину забранных цветными и ажурными стеклами, ярким рисунчатым шпалерам, разным во всех комнатах.
Его допустили лишь в заднюю, но сквозь приоткрытые двери он все же кое-что успел заметить. Поразила обстановка. Пока Мамонт Андреевич сбрасывал с себя полушубок и стряхивал снег с белых валенок, Илья успел осмотреть горницу. Посреди стоял овальный раздвижной стол на трех точеных ножках, сходящихся книзу, словно ветви дерева в единый ствол. В простенках — комод красного дерева, высокая горка, полная золоченой посуды, картины в массивных резных рамках.
Да и тут, в задней, служащей столовой, убранство было не хуже. Самым же приметным для Ильи была огромного размера, метр на метр, икона с изображением полувоенного на коне и с копьем в руке.
— Дмитрий Салунский, — пояснил Ляпаев, приметив любопытство мужика. — Не слышал? А этот, рядом, Никола-чудотворец, спаситель наш, рыбацкий.
— Этого знаю.
— Ну, так с чем пожаловал? — спросил Ляпаев.
— Насчет весны.
— Возьму. Нужен на стойку человек.
— Так я хотел насчет оплаты.
— Как и всем, что тут договариваться?
— Маловато, Мамонт Андреич. Разве сравнить меня с другими.
— Ни сбруи у тебя, ни лодки. Выходит, пустое ты место без меня. Несчастье какое — ты прыг с лодки и пошел, а я мошной за все отвечай, снова добро наживай. Не обессудь. Все вы одинаковы для меня.
Деваться некуда, согласился Илья. Только осенью все обернулось иначе. Стояли в чернях на якоре. Ночью ударил мороз, лед поплыл. Сети унесло в открытое море, а реюшку срезало.
Илья вместе с двумя другими рыбаками чуть жив остался — выбирался еле-еле, где по хрусткому льду, где вброд по мелякам в ледовой воде. Всю зиму провалялся — крепко застудился. А Ляпаев при расчете удержал-таки половину заработанного — за сбрую и лодку, мол. Человек околеет — бровью не поведет. Главное для него — добро.
Дело-то прошлое. К концу зимы едва оклемался Илья, и прежняя заботушка — как весну встречать — овладела им. После того случая он и слышать не хотел про Ляпаева. Но куда прислониться — ума не мог приложить. Можно, конечно же, на промысел рабочим наняться. Только редко кто из ловцов идет на это: по уши в тузлуке возиться да вшей кормить в казармах трехъярусных — не рыбацкое занятие. На промыслах все больше люд пришлый, с верхов — хохлы, казахи да татары. Они морюшко не видели, шест в руках не держали — самое им место на промыслах, тачки катать да носилки нянчить. По грехам и муки.
Были сумерки. Запорошенные окна скупо процеживали скудный свет. В полутьме оставаться одному в мазанке Илье было невтерпеж, и он, сам не решив еще, куда пойдет, засобирался. Уже выйдя из калитки, подумал: «Схожу-ка к Макару. Может, что сообща придумаем. Артелью любая работа легче…»
Шагал вдоль улицы неспешно, руки в карманах стегашей. Любой забор ему по грудь, дворы — как на ладони: кто что делает — все на виду.
Поравнялся с крепкожилинским подворьем. Дмитрий Самсоныч и Яков что-то мастерили под навесом — и мороз им не помеха.
Сумерки быстро сгущались. С моря по свинцово-серому небу плыли рваные тучи. Они заволакивали небо, обещая снег. Буро-землистые мазанки размытыми пятнами темнели в ночи. Среди них дом Ляпаева громадиной возвышался на берегу протоки. Даже в темноте играли рисунком резной фронтон, оконные наличники и широкие двустворчатые ворота. В глубине двора — амбары с ловецким хозяйством. Двери настежь растворены. В скудном свете фонарей — тюки ставных сетей, круги хребтины, ящики… Илья остановился в нерешительности: может, опять к Ляпаеву наняться? Но тут же отогнал от себя эту мысль. Хватит!
И оттого, что так твердо приказал себе, Илья даже понравился самому. Нет — и баста! И ничего Ляпаев с ним не поделает. Вот бы всем договориться, и остался бы один с богатством своим. Прибавил бы — никуда не делся.
Но тут радость омрачилась: не сельчан, так со стороны наберет работников. Были бы деньги, а руки отыщутся. С верхов явятся — каждовесно толпами народ валит, рыскает по низовым селам.
Вместе с темнотой давнул с моря тугой ветер, завьюжило.
Испуганно оглядываясь на Илью, видимо не признав его, сторонкой, с полными ведрами, прошла с реки Алена, жена Якова Крепкожилина.
— Добрый вечер, — поприветствовал ее Илья. Но снежная круговерть отнесла его слова, и женщина не расслышала ничего, потрусила дальше, к своему дому.
Завидовал Илья Якову: жена ему досталась золотая. В ребятах он не раз поглядывал на Алену, а однажды решился и намекнул про свое желание ее отцу. Но тот Илюшку Лихача всерьез не принял, ибо имел намерение куда выгоднее: породниться с Крепкожилиными. Дмитрий Самсоныч несколько опередил Илью и дал понять Аленкиному отцу, что хотел бы посватать ее за Якова. Потому-то старик, чтоб зазря не обижать работящего парня, отмолчался, будто и не слышал ничего. Илья обиделся конечно же. «Бедностью погнушался, старый хрен, — думал парень. — Сам-то не такой разве?»
Через год он женился на другой. На ватаге пришлую встретил. И зажили вроде бы неплохо, дом содержала в порядке — неплохую жинку бог дал. Но прошло малое время — умерла, не разродилась. Бог дал, бог взял.
И снова Илья один-одинешенек…
Так в раздумчивости дошел он до Макарова двора и столкнулся с Прасковьей. Она заламывала камыш в пучки.
— Сам-то дома?
— Вышел. Кажись, к Кумару.
Кумар жил по соседству. Большая семья в восемь душ селилась в просторном, разгороженном на две половины глинобитном доме. Таких жилищ в самом Маячном, кроме как у Кумара, не было. Только за бугром, в полуверсте от села, у кручи, ютилось два-три таких же жилища да с десяток землянок. Там жили казахи. В снежную зиму, когда над сугробами торчат одни лишь трубы, их селенье словно исчезает с лица земли. Только камышовые шиши, накошенные впрок, и выдают жилое место.
Жили казахи обособленно. В Маячное приходили лишь по необходимости: в лавке что купить, чаканную подстилку или зимбиль, плесть которые они были большие мастера, на муку обменять. Да и к ним редко кто наведывался из маячненцев.
Кумар поселился средь русских и был, в отличие от своих единоверных, общителен, разговорчив, да и справней их: имел лошадь, а это уже немало. Любил, когда в его жилище собирались мужики. В такие часы он, чтобы не мешали разговору, прогонял малышей, а иногда и и жену Магрипу на вторую половину. И вся мужская компания, лежа на кошме, дымила самокрутками и неторопливо вела беседы.
Илья с трудом протиснулся в низкую дверь и в первый миг ничего не мог рассмотреть внутри. Из плоского большого котла к почерневшему потолку валил пар, растекался по всему жилью, наполняя его светящимся серебристым туманом. На корточках у печки, мешая кочергой тлеющие кизяки, сидела маленькая, высохшая Магрипа, жена Кумара. Хозяин, едва появился Илья, засуетился, подскочил к гостю, помог раздеться, усадил иа свое место, а сам подвинулся к краю, ближе к Магрипе. Вошедший за руку поздоровался с хозяином и Макаром, кивнул хозяйке.
Макар, по всей видимости, рассказывал что-то занятное, потому как, едва закончились обычные и немногие слова, которые говорятся при встречах мужиков, Кумар выказал нетерпение:
— Калякай, Макар, — а сам протянул Илье кисет: — Кури мала-мал. Арака жок, бешбармака тоже нет, чайка много гонял, курсак[1] болит. Давай, давай, Макарка. — Кумар почти не коверкает слова, говорит, за малым исключением, хорошо. Но любит мешать русские слова с своими, казахскими. Ловцы к этому свычны и разумеют, что к чему.
Макар, разжигая любопытство, глубоко затянулся несколько раз, сунул окурок в угол.
— Собрались, значит, и жалобятся промеж себя на свою собачью жисть. Дескать, нам, собакам, невтерпеж так в дальнейшем. И голодно, и холодно. Туго, стало быть. Жисть собачья ни на что не стала похожа: ночью брехать, днем кусок искать. Да-а… Покумекали промеж себя и решили к богу своего человека, собаку, значит, послать. Чтоб господь заступился за них. Выбрали, кому иттить. А маленькая собачонка, плюгавенькая самая, говорит: «Не допустят ангелы нашего посла к господу богу». — «Как не допустят, почему не допустят, разве мы не твари господни?» Галдеж по всем правилам подняли. «А потому, — отвечает, — не позволяет, псиной разит от нас на версту». Убедил, стало быть. Задумались. И догадались дикалону купить. Облили посла и отослали. С тем он и пропал. Ждут-пождут — нет. А отправляли когда, строго-настрого предупредили, чтоб не возвращался, покуда не найдет бога.
— Не нашел, видать, — высказал догадку Илья.
— Может, и совсем не найдет? — отозвался Кумар.
— У, шайтан, — сердито проворчала Магрипа и что-то зашептала про себя одними губами.
— А дальше? — поинтересовался Кумар.
— Дальше? — Макар беспомощно оглянулся. — Рыщут по сю пору да посла вынюхивают: не вернулся ли.
Посмеялись. Помолчали.
— Она не только у собаки, у человека тоже жисть собачья, — сказал Макар. — Ни одежонки, ни сбруи настоящей.
— Не у всех.
— Знамо дело. Ляпаев да Крепкожилины, к примеру, голышом не ходят.
— Яшка с отцом Торбаев промысел, говорят, прибрали к рукам.
— Обмануть-то они горазды. Резеп хорош, а те еще хлеще будут.
— Слыхал я, будто Андрей ихний едет.
— С начальством, бают, не поладил.
Помаленьку зашел разговор о предстоящей путине.
— К Ляпаеву пойдешь? — поинтересовался Кумар.
— Отходился, будя, — Илья сказал резко, словно отрубил.
— Хоша ты и отказываешься, а иттить некуда, — резонно сказал Макар.
— Посмотрим.
— А ты, Макар?
— В реках остаюсь. Прасковьин братуха из города подсобил — сети прислал. Еще обещал. — И стал собираться. — Заждались, поди, дома-то… Засиделся…
Поднялся и Илья. Кумар, провожая мужиков, заметил:
— Завтра сетки в сугробе не найдешь. Шайтан-зима… Все заметает.
Было далеко за полночь. Моряна сбивала с ног. Тревожно лаяли собаки. Густым басом выделялся ляпаевский волкодав. Из-за реки донеслось разноголосое завывание волчьей стаи, отчего собаки забрехали еще пуще.
Ежась от колючего ветра, Илья затрусил к мазанке. У калитки он споткнулся и еле устоял на ногах. Что-то темное и длинное, слегка запорошенное снегом, лежало поперек входа. Илья потрогал ногой — тяжелое, не сдвинуть. Ощупал рукой и в страхе отшатнулся: на земле лежал человек.
Непослушными руками Илья зажег спичку — ее сразу же задуло, но ловец успел разглядеть незнакомое бородатое лицо.
5
Недолгая удача в делах Крепкожилиных сменилась устойчивым невезением. Так считал глава семьи Дмитрий Самсонович, да и Яков был того же мнения. Старик даже засомневался в успехе всего задуманного и уже начатого предприятия, подумал — то ли рука у него тяжелая, то ли Яшка неудатный, но виду не подавал и в сомнения свои никого не посвящал.
А началось все с того же промысла. Приехал Торбай, оформили купчую в волостном управлении, Дмитрия Самсоныч на радостях выставил магарыч — четверть водки.
Когда хмель ударил в голову, закуражился старик, заважничал. Захотелось вдруг на промысле еще раз побывать, по плоту пройтись, выхода посмотреть — одним словом, окинуть приобретение хозяйским глазом.
Торбай к тому времени, смекнув, что пьянка к добру не приведет, смылся домой в Алгару, а отец и сын Крепкожилины запрягли Пегаша, повскакали в сани и менее чем через час были на промысле.
Охранщик Максут, или, как его Торбай называл, Кзыл-клак, уже был наслышан про торги, а потому, едва Крепкожилины остановили сани у конторки, выкатился из камышовой мазанки и услужливо уставился на новых хозяев.
Дмитрий Самсонович, не замечая мелко семенящего позади охранщика, ходил по плоту, осматривал строения, чаны, конторку, хотя всего только утром, принимая хозяйство у Торбая, дотошно и придирчиво заглядывал в каждую дыру, щупал каждый гвоздь, каждую доску.
Насладившись таким образом богатством своим, он уже собирался уехать, да, словно вспомнив что-то важное, подозвал казаха и сказал:
— Ты, слышь-ка, того… Перебирайся отсель. Дом где твой?
— Тут дом, — Максут мотанул головой на покосившуюся мазанку.
— Семья где? — переспросил Крепкожилин.
— Семья нет, дом нет.
— Знакомые-то хоть есть?
— Знакомые есть, есть знаком…
— Вот и перебирайся. Завтра чтоб уезжая.
— Куда моя поедет, казяин? Моя тут живет.
Но Крепкожилины не слушали его. Яков стегнул Пегаша вожжами и уже с реки пригрозил:
— Чтоб и духу твоего не было.
Назавтра они снова поехали на промысел, чтоб уже на трезвую голову решить, что необходимо отремонтировать к предстоящей путине, какие материалы завезти. Работа по ремонту предстояла черновая, где не надобны особые знания и умения, а лишь труд и сила. Потому-то Крепкожилины порешили обойтись без плотников.
— Тять, вместо этого красноухого кого-то взять надо, а?
— Перебьемся, — отрезал старик и пояснил: — Поочередно будем жить в конторке. А удачливо сработаем путину, тут же, в Маячном, и присмотрим тебе дом.
Яков поначалу было скис: жить одному вдали от Алены не большая радость, но намерение отца отделить его успокоило и даже обрадовало.
— А мазанку спалить надо, — порешил Дмитрий Самсоныч. — Ни лесу там, ни иного че, камыш да глина, а заразы хоть отбавляй.
В хорошем настроении они подкатили к промыслу, но тут увидели легкий дымок над мазанкой.
— Вот нехристь поганая, — осерчал старик Крепкожилин.
— Счас мы его вытурим, — Яков легко соскочил с саней и, на бегу подняв с земли кол, хряснул им по единственному окну. Зазвенели стекла, испуганно вскрикнул Максут и тут же выбежал из мазанки.
— Зачем так, казяин? Моя куда пойдет? — обезображенное лицо его было словно восковое, потрескавшиеся губы мелко-мелко дрожали. Он подбежал к старшему Крепкожилину, трясущимися руками схватил его за рукав полушубка. — Моя пропал будет, казяин…
— Отойди! — озверело крикнул Крепкожилин, тряхнул рукой, и охранщик, тихо ойкнув, повалился на сугроб. — Яшка, в конторе бутыль с керосином стоит. Ташши!
Все произошло в считанные минуты. Ветхое жилище враз охватило огнем: весело плясали живые лоскуты пламени, трещал иссохшийся камыш. Шипя, оседал возле мазанки снег. Так и не поднявшись, сидя в сугробе, тихо скулил Максут-охранщик, размазывая редкие слезы по лицу. Слезы растекались по желобкам-морщинам, отчего изношенное лицо светилось лучиками, расходящимися от глаз.
А новоиспеченные хозяева, глухие к горю одинокого, больного человека, были заняты своим: обмеряли, подсчитывали, прикидывали… Они так и уехали домой, не сказав Максуту ни слова, оставили его в том же положении. И не знали они, что, падая, он вывихнул ногу, что не мог встать без помощи других и непременно бы замерз, если бы случайно не проезжали под вечер мимо промысла маячненские ловцы. Они, дивясь жестокости Крепкожилиных, подобрали человека и тем спасли его.
В тот же день Дмитрий Самсоныч прослышал, что Золотую яму арендовал Ляпаев, и очень горевал и гневался на себя за то, что не сумел упредить соперника, не прибрал уловистый водоем в свои руки, и что вот теперь этот кусок пирога достался не ему.
А тут — Андрей возвратился. После письма старик надеялся, что сын одумается и останется в городе. А он явился — не запылился. Все одно к одному.
Андрей знал, что его возвращение не обрадует отца. Яков внешне обрадовался, стиснул руку, хлопнул другой по плечу, улыбнулся. Но и в его глазах Андрей уловил настороженность: что, мол, сулит мне твой, брательник, приезд? И лишь мать и Алена искренне порадовались ему. Мать захлопотала у печи, готовя на стол, поминутно подходила к нему, заглядывала в глаза, спрашивала, как доехал, с кем, не замерз ли. А сноха Алена, едва Андрей сбросил с себя все нахолодавшее, достала с печи теплые шерстяные носки, обняла его.
За ужином отец насупленно молчал. Ели жирный борщ, жареху из сазанины, пили водку, но встреча не походила на встречу. И дошло до того, что Меланья не вынесла тягостного молчания, зашмыгала носом и вышла в боковушку, будто за какой-то надобностью.
В это самое время постучали в дверь, и за порогом выросла могучая фигура Ильи Лихачева. Он присутулился предусмотрительно, шагнул через проем в избу, но не рассчитал, распрямился раньше, чем положено, и проелозил плечами и шеей о дверную притолоку. Эта промашка несколько обескуражила Илью, он смутился, и, позабыв поздороваться, стащил шапку, и, тиская ее в кулаке, сказал:
— Тако, значит, дело, Андрей. Человек болеет!
— Кто? — спросил Андрей, поднимаясь из-за стола.
— А шут его знает. Вчера у ворот подобрал, а не то окоченел бы. Простудился, видать. Бредит.
— Началось! — ехидно подал голос старик.
Андрей метнул в отца колкий взгляд, но слова его были не ему, а Илье:
— Обожди, я сейчас. Соберу, что надо.
6
Масленица ворвалась в Синее Морцо бешеной тройкой ляпаевских буланых, откормленных для праздничного выезда и выдержанных на отстое; кони грызли удила, запрокинув головы и роняя пену, мчались по улицам села. На облучке саней, крытых голубым бархатом, загребая снег подшитыми валенками, сидел и правил лошадьми одноглазый Кисим, ляпаевский работник, исполняющий обязанности и конюха, и дворника, и сторожа, и посыльного.
Сам хозяин в новой дубленке, отороченной коричневым каракулем, развалился на заднем сиденье. Рядом с ним — Пелагея, возбужденная быстрой ездой и морозным утром. Напротив них, на откидном сиденье, Глафира. Ее трудно узнать: вся в новом — от черных тугих чесанок до серой пуховой оренбургской шали, в бордовом плюшевом пальто, меховых расшитых рукавицах — все, что осталось от Лукерьи, Мамонт Андреич отдал ей, как только Глафира приехала из города. Никогда не видевшая столь разудалого празднования, она смотрела широко распахнутыми глазами, удивлялась всему, безудержно смеялась.
Мимо проносились одноконные сани, битком набитые парнями и девчатами, то тут, то там взрывался смех, переходил на визг. В гривах лошадей, у поддужных колокольчиков трепыхали яркие ленты. Вся эта пестрота звуков и красок некоторое время металась по улицам, а потом переместилась к реке, на лед.
Ляпаев, возбужденный и радостный не менее, чем Пелагея и Глафира, запускал мохнатую руку в мешок с яствами у ног и, когда встречались ребятишки, метал в них полные горсти пряников, леденцов и конфет в радужных обертках.
Толпа пацанов за санями росла. Из домов выбегали кто во что успевал нарядиться: в латалых-перелатаных полушубках, телогрейках, в ушанках, кепках, а то и просто без них.
Завидев заветную тройку, Николка, старший Макара Волокуши, сунул босые ноги в ботинки и вместе со всей ватагой устремился за санями. Бежать долго не пришлось. Крупная и щедрая рука хозяина тройки веером сыпанула яства обочь дороги, и в тот же миг мальчишьё с гиком накинулось на праздничные гостинцы, навалились друг на друга, стараясь достать больше, упредить товарища, ставшего на какое-то время ярым соперником.
Николке посчастливилось. Когда он упал в снег, где пестрела заветная добыча, на него ястребами налетели ребятишки. Николка еле вылез из-под кучи тел и тут увидел, как Ляпаев метнул еще горсть сластей. Соперники кряхтели в сторонке, а Николка в один миг набрал с десяток конфет.
— Ты где это вывозился, — сурово встретила его мать. — Ишь, рубаха в крови.
— Упал я…
Мать сочно шлепнула его костлявой ладонью по лбу — на том все и кончилось. Николку окружили меньшие братья — Васятка и Митька. Начался дележ.
Макар, сидя, у окна, чинил сети, наблюдал за сыновьями. Он видел, как Николка метнулся на улицу, видел свалку в снегу и теперь радовался, что старший оделяет меньших.
— Эх, жизня. Ребятенкам конфетка в диковинку. Закурив, он снова принялся за чинку сетей, тех самых, которые штормовой ночью приволок на себе домой. Каждый раз, как только из потайного ящика доставал сети, они будто жгли ему руки, а глаза опасливо косились на дверь и окна. И не было в душе ни спокойствия, ни удовольствия от работы, от близкой путины. Чужое, оно и есть чужое, хотя, коли разобраться, свое возвращал. Крепкожилины сами виноваты. В прошлом году, перед самым ле́деньем, по реке уже шуга сплывала, Макар, обнаружив в култуке лежбище сазанов, обтянул косяк сетями, шугнул и начал выбирать улов, как откуда ии возьмись явились Яшка с отцом, отобрали и сети и сазанов. А Яков и по шее огрел:
— Отваливай, пока на лодке, а не то — прямиком к рыбам… И вдругораз не шастай по чужим водоемам.
Ничего Макару не оставалось, как убраться подальше: Крепкожилиным человека унизить, поколотить, а то и прикончить ничего не стоит… Вот тогда и поклялся Макар отомстить. Шибко рисковал мужик, потому как застань его Крепкожилины у проруби, быть бы ему подо льдом. Рисковал, но отомстил: угадал удачную ночь, когда обидчики его облавливали чужую зимовальную яму, выбрал их сети под Красавчиком. А сетей оказалось немало — две дюжины, куда больше, чем у него отобрали. По злости Макар забрал все. Вот эта небольшая несправедливость теперь и мучила его: выходит, не только свое вернул, а и чужое прихватил.
Утешало, что теперь он независимый человек и с сухопайщиной покончено. Заработает в путину — и должок Ляпаеву вернет. Месяц назад, когда иссякли запасы, он ходил к Мамонту Андреевичу, и тот, дай бой ему здоровья, выручил. Похлопал по плечу и сказал:
— Ляпаев не жаден. Бери, хочешь мешок, хочешь два, отдашь деньгами, а то и отработаешь.
Взял Макар, никуда не денешься. Нужда — не родная тетка, обещал отработать. Но теперь просвет блеснул в жизни. И дело не только в сетях. Сети хоть и меньше числом, а и прежде были. Главная и непредвиденная удача — бударкой обзавелся, И до того нежданно-негаданно, что и не поверил счастью привалившему.
По первольду, еще в начале зимы, впряглись с Николкой в чунки-розвальни и подались за дровами. Поблизости запасливые люди сухостой весь повырубили еще осенью, пришлось спускаться по протоке ниже, глубже, лезть в крепь. Лес в понизовье не строевой, дровный, оттого и запрета на вырубку нет. Возок живо нарубили.
Николка глазастый, он-то и узрел в камышовой чащобе одинокую мачту. Подивились поначалу, однако поломались в заросли и обнаружили бударку. Судя по тому, насколько ее заилило полой водой, была заброшена сюда либо штормом, либо весенним паводком и простояла-то лодчонка в камышах не один год. И выходило, что ничейная она.
Когда окреп лед, Макар прокосил камыш от бударки до яра, на катках вытянул ее к реке, поставил на чунки и привез домой. Ловцы тоже немало дивились находке, строили догадки, откуда могла появиться посудина, и уверяли, что, мол, найдется хозяин. Но хозяин не объявился, и Макар в тихие невьюжные дни чистил ее, стругал доски, ставил латки на днище, конопатил.
С появлением лодки Макар стал поглядывать на людей веселей. Даже Ляпаеву однажды осмелился сказать:
— Ты уж, Мамонт Андреич, до путины обожди, должок я те деньгами возверну. Непременно деньгами.
Про себя Макар не раз такую думу думал: «С Николкой вдвоем встретим путину. Все, что заработаем, — наше, за аренду участка только и платить… Эт-то ниче, все платят. И заживем! Лошадь, и непременно пегую, заведу, сани и все прочее. Ей-богу, заживем по-людски. Тогда не проедет масленица мимо двора, как нынче…»
7
А на льду Ватажки буйствовала масленица. Как и в старые времена, встречный день, самый первый из недельного гуляния, да последний — проводы — непременно широко отмечались ловцами. Праздновали и иные дни средь недели, разные там вечеринки, посиделки, заигрыши устраивали, но тлели эти гулянья головешками потухающего костра. Самая памятная и разудалая все же встреча: пекут в этот день блины, катаются с горки и на лошадях, охмелевшие мужики и бабы горланят песни, ржут кони… Перед великим постом гуляет, без удержу бражничает народ, чтоб потом воздержанием от скоромного и хмельного замолить грехи и в трезвости подготовить всю ловецкую амуницию к путине, а уж там, на лову, не разгуляешься, рыба на икромет проходит быстро, надо ее как можно больше добыть, иначе не прокормишь семью. Вот отчего высыпало сегодня на Ватажку все село — и стар и млад. И Макар, забросив чинку, заявился. С сыном с крутояра на санках спустился разок-другой да и прибился к толпе мужиков, где, шутя и подбадривая друг дружку, доставали из-за пазухи бутылки с вонючей сивухой и кто хрустел огрызком огурца, а кто того проще — студил обожженный рот комом снега…
Чуть ниже села, на излуке Ватажки, повстречался Ляпаев с Крепкожилиными. Яков с женою и Андреем мчались навстречу со стороны Синего Морца на открытых санях, запряженных о дву-конь. Алена обвила лентами обводы саней, оглобли и дугу, отчего обычная промысловая повозка выглядела по-праздничному нарядно. Крепкожилины раскланялись с Ляпаевым. И, едва они проскочили, Мамонт Андреич приказал Кисиму:
— Поворачивай, да чтоб, как стоячих, обошел, а не то… — И замолчал, ибо сам не знал, что сказать. Да и рассудить по-здравому коль — при чем тут Кисим, ежели кони подкачают.
Не зря готовили тройку к нынешнему дню. Почуяв слабину, буланые рванули во всю силушку. Глафира завизжала тонко, а Пелагея, забыв всякую стеснительность, вцепилась в руку хозяина, и лишь сам Ляпаев, чувствуя, что непременно выиграет гонку, напрягся азартно.
Яков первым заметил ляпаевскую повозку, преследующую их, принял вызов и, поднявшись в рост, крутанул над головой концами ременных вожжей, прикрикнул на коней, свистнул, зажигая Андрея и Алену. Они обернулись и уже не могли отвести глаз от настигающей тройки. Обезумевшие кони широко пластались над укатанной дорогой, дыбились гривы, вразнобой гукали копыта, и лед отзывался им стоном. Спор длился недолго, потому как силы были не равны. Обогнав супротивников, Ляпаев крикнул Кисиму:
— Останови.
Кисим натянул вожжи, но тройка не вдруг остановилась. Разгоряченные скачкой кони звякали удилами, всхрапывали, норовили утянуть повозку с дороги. И Яков, не ожидавший остановки, не задержал лошадей, проскочил мимо и уже опосля завернул их и подъехал к Ляпаеву.
Пока хозяева поздравляли друг друга с праздником, Кисим откуда-то с передка саней вытащил крошечный складной столик, расправил ножки и установил его на льду. Пелагея выгребла из кошелки бутылку водки, закуску — солености разные да ломти черного хлеба. Ляпаев, широко улыбаясь, предложил:
— Держите, ребятки, да и ты, Алена, выпей-ка вот с Пелагеей да с Глафирой. Племянница Лукерьина. Будьте знакомы, водитесь.
Глафира, знакомясь подала руку Алене, а Андрею улыбнулась.
— Мы вот… ехали вместе, — сказал Андрей.
— Все к лучшему, — отозвался Ляпаев. — Ну что ж… со светлой масленицей! — и выпил единым махом почти полный граненый стакан.
— Дмитрий Самсоныч с матушкой что же? Аль нездоровится? — поинтересовалась Пелагея.
— Не захотели, — отозвался Яков. Он поначалу был несколько смущен вниманием, которое оказал им Ляпаев. В прежние годы такого не случалось. Знать, приобретение промысла если и не уравняло, то конечно же сблизило их положение. Отныне в Синем Морце рядом с Ляпаевыми будут ставить и называть их, Крепкожилиных. Эти мысли несколько возвеличили Якова в собственных глазах, и он почувствовал себя чуть ли не равным богатею Ляпаеву. — Возраст, Мамонт Андреевич. Отец-то годов на десять старше вас. Вы-то еще крепки.
И Мамонт Андреевич отозвался в тон:
— Мне и молоду вдову присмотреть не грех, как, Пелагея Никитична?
И Пелагея сегодня была в добром расположении, а потому и она приняла шутку, соглашалась:
— Помоложе да побогаче встретится, отчего бы и не ввести в дом. Уж мы с Глафирой постарались бы…
— Конечно, тетя Поля, — обрадовалась Глафира. — Ох и откаблучили бы…
— Вот что, ребятушки. Тут, на Ватажке, речей много не наговоришь. — Ляпаев стал вдруг серьезным. — Передайте Дмитрию Самсонычу, вечером ждать буду. Да и вы, ребята, сделайте милость. И ты, Яков, с Аленушкой. И ты, Андрей, поговорить надо бы. Мыслишка есть насчет тебя. Дело хочу предложить.
— Непременно, Мамонт Андреич, — заверил Яков, — непременно придем.
На том и расстались. Яков терялся в догадках: Ляпаев представлялся ему угрюмым нелюдимом, а тут… Даже в гости всем домом пригласил.
Андрея тоже заинтересовали слова Ляпаева. Что ж, к нему он пойдет, коли дело требует. Интересно, что предложит? Пренебрегать приглашением было бы по меньшей мере ошибкой. И потом — Глафира. Чем-то она ему показалась. А чем — не понял.
…Когда Крепкожилины проезжали мимо мужиков, толпящихся на льду, Андрей приметил Илью Лихачева и, поравнявшись с ним, ловко соскочил с саней, а Яков с женой свернул в улицу, к дому — не терпелось ему рассказать отцу о встрече на Ватажке и о приглашении Ляпаева.
— Как Тимофей? — спросил Андрей Илью, едва тот пожал протянутую руку.
— Кажись, полегчало. Только слаб пока, отлеживается больше.
— Хорошо, пусть отлеживается. Вечерком загляну. — Андрей хотел было уже идти домой, но что-то в Илье ему не понравилось: отводит глаза от него, на товарищей косится, будто бы стесняется при сельчанах с ним разговаривать. Да и мужики смолкли, едва он, спрыгнув с саней, подошел к ним.
Андрей попрощался с ловцами, отошел поодаль и, обернувшись, позвал:
— Илья, можно тебя…
Лихачев неохотно отделился от притихшей толпы.
— Пойдем, — предложил Андрей. Когда они вошли в улицу, спросил: — Что молчишь?
— А что говорить-то?
— Илья, мы с малых лет росли вместе. Это, по-моему, дает мне право ждать от тебя откровенности…
— Так-то оно так…
— В чем дело, Илья? — Андрей остановился и порывисто схватил его за руку. — Ты что-то скрываешь.
— Сложно это, Андрей. Тебе он отец, а мужики недовольны, возмущаются мужики.
— Значит… отец. Но ты же знаешь о моих отношениях с ним, они не изменились и… даже ухудшились. Я это чую. Но что же все-таки случилось?.
— Али не слыхал про пожар?
— Пожар? Где?
— Яшка да батя твой мазанку Максутову сожгли на Торбаевском, ноне уже на вашем, промысле…
— Да будет тебе! Заладил: промысел, промысел. Ты же знаешь, что я никакого отношения к нему не имею.
— А, хрен вас разберет. Одним словом, спалили они жилье, а охранщика Максута выгнали. И будто Дмитрий Самсоныч ногу ему покалечил. И бросили его. Очень просто замерз бы. Да ловцы маячненские проезжали и подобрали. Сейчас он в Маячном, Садрахман был, говорит, вывих исправил. Ниче, все обошлось. Но мужики ворчат.
— Спасибо, Илья. Для меня важно знать, что люди думают и о нас, и вообще… — Андрей пожал ему руку. — Впрочем, не прощаемся, вечером я загляну.
И пошел своей дорогой. Илья повернул было к Ватажке, но раздумал и тоже пошел домой.
Помнит Андрей себя шестилетним. Якову было тогда около десяти. Они играли во дворе с ягнятами: бегали за ними, ловили. Для маленького Андрея было самым приятным словить ягненка и, прижав к себе, гладить рукой его теплые, ласковые кудряшки. На этот раз Яков придумал что-то новое — привязал к шее ягненка пустые жестяные банки из-под монпансье. Когда выпущенный на волю ягненок подбежал к овцам, те кинулись от него врассыпную. И чем старательней бараненок догонял мать-ярочку, тем большая поднималась во дворе кутерьма: овцы плотным табунком метались из угла в угол, полугодовалый бычок, свечой задрав хвост, убегал от них, с перепуга замычала корова…
Андрейка не на шутку струсил, а Яшка, схватившись за живот, громко хохотал.
Кончилась вся эта Яшкина забава плохо. Наскочив на жердь, ярка сломала себе ногу, а отец жестоко отлупил старшего. Андрей видел из курятника, куда в страхе забился, как отец, схватив Яшку за волосы, пинал его под зад, потом нашарил рукой палку и бил его, пока тот не охрип.
Досталось и матери. Она голосила и бегала вокруг, пытаясь отнять сына. Но палка прошлась и по ней. Андрей дико закричал, бросился к отцу и впился зубами в руку, державшую Яшку за волосы.
Отец часто бил мать, больше всего ночами. Андрей с Яшкой просыпались от крика, испуганно жались на печи, чаще Яшка не выдерживал, бросался, чтоб защитить мать, а наутро у него то под глазом, то на скуле красовался синяк.
Отец мог за малый пустяк накричать на мать, оскорбить ее в присутствии детей. В те далекие годы Андрей никак не мог понять, почему отец ворчит и ругается, если мать подаст кусок нищенке. Мать жалеет попрошайку, а отец за жалость поносит ее.
Рос Андрей болезненным. Отец его щадил, больше за совместные проказы доставалось Якову. Но странное дело, Яков не озверел против отца, живет с ним в лад.
…В доме царила суматоха. Дмитрий Самсоныч, всегда немногословный и угрюмый, был сегодня неузнаваем. Благостное состояние, вызванное праздником, сменилось радостью от приглашения Ляпаева. Едва стемнело, он начал одеваться во все лучшее, что было у него: белую шелковую косоворотку, сюртук немецкого покроя с вырезом позади, купленный в магазине торгового дома братьев Тарасовых, что в Табачном ряду в Астрахани. После всего натянул новенькие, еще ненадеванные хромовые сапожки.
И тут обнаружилось, что Меланье не в чем идти в гости: не явишься же в застиранном домашнем платье. Меланья, сидя на скамейке, с тяжелыми морщинистыми руками под передником, виновато и немного растерянно выслушивала ворчанье мужа.
Выручила Алена.
— Мам, примерь-ка мою блузку да юбку.
И ростом и телом сноха со свекровью почти одинаковые, да и Меланья не щепетильна в одежде и перед зеркалом вертеться непривычна. Оттого все быстро уладилось.
И тут вошел Андрей.
Яков, завидя брательника, спросил нетерпеливо:
— Ты где же пропадаешь? Одевайся, да и…
— Я не пойду, — перебил его Андрей.
— Что еще за каприз? — насупился отец. Настроение его мигом испортилось.
— Для чего вы сожгли Максутову мазанку?
В горнице наступила тишина. Было слышно, как на стене тикают часы, а в задней, за печкой, свербит сверчок.
— Эт-та как же понять? — Дмитрий Самсоныч медленно поднялся и обернулся к меньшому. — Счас отчет дать али на бумаге все изложить?
— Я должен знать, что происходит в нашем доме, — твердо, стараясь унять внутреннюю дрожь и казаться спокойным, сказал Андрей.
Крепкожилины не привыкли к подобным разговорам, а потому на какое-то время растерялся даже Дмитрий Самсоныч.
— Еще что скажешь?
— Зачем выгнали больного человека? Мужики возмущаются..
— Плевать мне на них и на тебя тож…
— Отец… — Меланья умоляюще смотрела на мужа.
— Цыть! — выходя из себя, гаркнул старик. И Андрею: — Молоко ишшо на губах, чтоб отца уму-разуму поучать. Собирайся, сказано.
— Не пойду, — зло выкрикнул Андрей и вышел из горницы.
8
Прошла неделя, как Тимофей Балаш поселился в холостяцкой мазанке Ильи Лихачева, поселился нежданно-негаданно и для самого себя, и для хозяина бедного жилища. Так уж судьба распорядилась, что не сиделось в тот вечер Илье дома, ходил он к Макару, не застал его, зашел к Кумару и засиделся там допоздна. И опять судьбе было угодно, чтоб Илья вышел от Кумара и возвращался домой близко к полуночи, когда Тимофей, основательно проплутав по многочисленным протокам с накатанными санными путями к низовым следам, вконец обессилел, по собачьему бреху и редким огням отыскал-таки Синее Морцо, буквально дополз до крайнего жилья. Впадая в забытье, попытался достучаться, но ему не ответили, и он, не имея сил доползти до соседнего подворья, стучал и снова ждал, пока коварный сон не сморил его. Приятная теплота стала наполнять Тимофея, и он затих у калитки, подтянув колени к животу.
Илья, переборов страх, втащил закоченевшего незнакомца во дворик, стянул с него валенки, рукавицы и долго растирал ему ноги, руки, лицо. Затем перенес его в мазанку и зажег скудную пятилинейную лампу.
Раздеть бессознательного и бездвижного человека и уложить его на кровать — дело нелегкое. Но Илья был крепкого сложения и быстро справился с ним. Подумалось ему, что хорошо бы что-нибудь дать выпить пострадавшему против простуды, потому как ознобился он сильно и сам собой организм вряд ли справится с вошедшим внутрь холодом. Но ничего подходящего у Ильи не было. И тогда он решил натереть тело незнакомца бодягой, настоянной на керосине — испытанное средство от простудной рези в суставах. И как только он это сделал, на лбу незнакомца выступили крупные капли пота.
В ту ночь Илья заснул лишь под утро, да и то ненадолго. Бессонно ворочался на жестком сундуке, косился на нежданного чужака, думал: «Что это за человек явился в село? Откуда? И к добру ли?»
Проснулся Илья, едва замутнелись окна. Тягучий квелый рассвет долго не мог разогнать хмарь зимней ночи. Он оделся и вышел. Морозило. Редко и неохотно перекликались в селе петухи. Мимо мазанки серединой улицы одноглазый Кисим провел на водопой ляпаевскую тройку. Через изгородь Илья увидел заснеженную реку и узкую полоску белесого пара — кто-то уже до Кисима поил лошадей.
Илья расчистил от снега дорожку, ведущую к загородке, где упрятана поленница дров, набрал охапку звонких плашек.
…Когда жарко запылало в печи и отсветы пламени озарили жилье и незнакомца, по-прежнему беспокойного и в горячке, Илья подумал, что хорошо бы позвать человека, знающего толк в болестях, но кого — не мог придумать. Вспомнил вчерашний разговор об Андрее и посожалел, что тот еще не приехал и что надеяться на него вряд ли приходится, потому как он может приехать, а может и нет, а если даже и будет здесь, то неизвестно когда.
Посидев малость в раздумчивости, Илья наполнил чугунок картошкой, залил водой и осторожно, чтоб не расплескать, затолкал его ухватом в печь, к краю огня. Сюда же поставил второй чугунок с водой. Поленья горели ровно, без треска, из чего Илья заключил, что будет оттепель. Да и пора уже, весна вот-вот, а зима дурит, будто и время ее не вышло.
Очнулся Тимофей Балаш на третий день. Открыл глаза, долго осматривался и, заметив Илью, опросил:
— Где я?
Илья сказал, и чужак успокоился. Хозяин, однако, расспрашивать тоже не стал, ждал, когда тот поправится и заговорит сам.
Выздоравливал он медленно, потому как застудился крепко. От него пышело жаром, как от хорошо протопленной печи. Не помогали и лекарства, оставленные Андреем, — его Илья позвал, едва тот вернулся в Синее Морцо.
О появлении неизвестного человека знали все. Едва Илья выходил из дома, сельчане интересовались:
— Ну как? Лучше?..
Или:
— Все молчит?
И в недоумении пожимали плечами.
Ежедневно заглядывал Андрей. Однажды он засиделся у Ильи, и Тимофей Балаш в нескольких словах поведал о себе, потому как длинно рассказывать еще затруднялся, да и Андрей запретил. Из рассказа Тимофея выходило, что родом он с верхов, имел дом, коровенку, клин пахотной земли в две десятины. Давно в нем угнездилось желание в низовья Волги податься, к морюшку Каспию, поскольку слышал, что рыба тут бешеная, сама в руки дается и что разбогатеть можно, ежели с умом дело начать. Но жена шибко болела и наотрез отказалась уезжать из своей деревни. Прошлой осенью она померла, и тогда Тимофей распродал и живность, и все недвижимое имущество и пехом дошел-таки сюда.
Во время его неспешного рассказа Илья все усмехался чему-то, а потом уж прояснил свои мысли:
— Вот говоришь, Тимофей, разбогатеть можно. Ну, как в воду смотрел: в селе нашем в кого ни ткни — богач. Ну, я, к примеру, — и он повел рукой, приглашая полюбоваться его жильем.
— Это смотря как… Коли с умом подойти, — окая, отозвался Тимофей.
— Выходит, все дурни, один Ляпаев умен. Ляпаев оттого и богат, что давит мужика. Вроде бы свой и добрый: и сети даст, и муку, коли туго. В работе не откажет, а опосля дышать трудно, потому как все втридорога.
Когда Андрей ушел, Тимофей подозвал к себе Илью.
— Подай-ка стегаши мои.
— Иль собрался куда? — удивился хозяин.
— Давай-давай. И нож али ножницы. — Илья исполнил его просьбу. Тимофей принялся распарывать широкий пояс стеганых брюк, а сам говорит: — Понравился ты мне, Илья, понравился, ей-богу, не вру. Тут у меня деньги — от распродажи хозяйства. Шел сюда — не тронул, а было иногда и впроголодь. Вот я и думаю: давай-ка, Илья, вместе дело поведем. В чужое счастье не заедешь, а свое попытать не грех.
— Со мной, Тимофей, нельзя.
— Почему же? — встревожился Балаш.
— А нет у меня ничего. Ни лошади, ни лодки. С пяток сеток, и все. С деньгами ты компаньона покрепче найдешь.
— Купим, все купим, — Тимофей извлек из спрятанного места пачку денег. — Тут на все хватит. Возьми!
— Не, чужое мне зачем?
— Так не чужое, наше. Я никого тут не знаю, ничего не умею. Мои деньги, твое умение. Работать — поровну, что заработаем — пополам. А?
Илья молчал, потому как думал. Деньги, конечно, не его. Но и прав Тимофей — без него, Ильи, он ничего не сможет. Облапошат — как пить дать. А и не обдурят его, опять же ни шестом, ни веслом. С какого конца к сетке подойти — понятия не имеет.
Так и согласился Илья на совместную весновку и стал прикидывать, где и что приобрести, как с умом деньгами распорядиться.
Вечером, в первый день масленой недели, Андрей пришел возбужденным и сразу попросил закурить — это было непривычно. Илья понял, что у Крепкожилиных крупные нелады.
Вечеровали втроем: Илья с Тимофеем и Андрей. По случаю праздника Тимофей попросил Илью купить в казенке бутылочку водки, выпили по стаканчику. Потом почаевничали. Разговор шел пустячный — о погоде, о празднике. Илья рассказал про Тимофеевы деньги и его задумку вместе весновать. Андрей одобрил, но предупредил:
— Только не рассчитывай на легкую удачу. Илья попытался в прошлый раз объяснить, откуда везучие берутся да как богатеют! Нет у человека стыда — он и ближнего задушит.
— Что ж теперь нам делать? — озадаченно спросил Тимофей.
— А то и делать, что задумали: покупайте бударку, сбрую. Лошадь — если деньги останутся. Не могу видеть человека, впрягшегося в повозку. Жить надо, как и все, только не о богатстве, о хлебе надо помышлять. Не могут все люди на земле богачами быть. За счет кого в таком разе богатеть-то?..
9
У Ляпаева гости. Компанийка собралась невеликая: Крепкожилины вчетвером пожаловали да отец Леонтий — маленький тщедушный старичок, с редкой азиатской бороденкой, похожей на старую истертую кисть художника. Словоохотливый, он встревал в каждый разговор, и Ляпаев частенько одергивал его. Отец Леонтий не обижался, прятал гордыню, потому что знал: нельзя ссориться с тем, чей кусок ешь. А кусок ляпаевский не сравнить ни с чьим: прихожане живут убого, приход бедный, но место, что бога гневить, сытное и спокойное.
Стол накрыли в передней, где есть что гостям показать — и обстановка, какой нет ни у кого в Синем Морце, да и у волостного начальства не у всякого, и посуда с позолотой, да хрусталь на столе и в горке, и картины библейского содержания — сносно исполненные копии испанца эль Греко «Апостолы Петр и Павел» и голландца Рембрандта «Жертвоприношение Авраама». Вторая картина потрясла Крепкожилиных, в особенности же старших. Меланья со страхом смотрела на связанного юношу, которого едва не закололи в жертву богам, и думала о своем Андрее, судьба которого складывалась трудной и горькой. Дмитрий Самсоныч, напротив, восторженно не отрывал глаз от библейского старца Авраама, готового ради веры и дела пожертвовать родным сыном.
Пелагея и Глафира постарались на славу, наготовили всего вдоволь: икры и балыки краснорыбные, сельдь-залом и белорыбица, мясо тушеное и языки говяжьи, даже икра кетовая, балык из палтуса, форель жареная и грибы моченые — диковины по тутошним местам и те были на столе. А уж сладостей напекли — Меланья с Аленой никогда таких печениев не то что не ели, а и не видели. Одним словом, гости были довольны встречей, а хозяева — впечатлением, которое они произвели.
Ляпаев сделал вид, что не заметил отсутствия Андрея, хотя и задумался: что бы значило?
Гостей усадили к столу. Отец Леонтий ликующе провозгласил:
— Возрадуемся, православные, и воздадим хвалу богу за то, что он в преддверии великого поста даровал нам масленую неделю, дабы мы, рабы его недостойные, насытили утробы свои скоромным и хмельным, набрались сил и терпения для шестинедельного воздержания от соблазнов земных. Аминь!
— Красиво говоришь, отец Леонтий. Паства, услышав такую речь, может подумать, что ты и впрямь способен на шестинедельное воздержание.
— Крамольные слова говоришь, Мамонт Андреич.
— Да простит господь и слова наши и действия. С праздником!
Зазвенела посуда, вилки, ложки, даже поп замолк, но ненадолго.
— Хороший, Мамонт Андреич, в Расеи обычай есть, — проглотив порцию черной икры и прицеливаясь к ломтикам белорыбицы, сказал отец Леонтий. — Между первой и второй перерыва не должно быть.
…Во всяком застолье неприметно наступает такое время, когда проходит стеснение и гости перестают чувствовать себя гостями, охотно вступают в разговор и пререкания, нетерпеливо, вполуха слушают друг друга, ибо говорить в таком состоянии хочется каждому. И за ляпаевским столом прошла неловкость, развязались языки, но и хозяин и главный его гость — Крепкожилин-старший, несмотря на взаимные улыбки и показную радость, оба держали ухо востро: и говорили осторожно, и слушали чутко, потому как, что там ни говори, а жить им на этом клочке земли будет тесновато.
— Большое дело затеял, Дмитрий Самсоныч, удачи тебе! — говорил меж тем хозяин дома, а про себя подумал: «Кишка тонка, лопнешь. Это тебе не шестом или зюзьгой ишачить. Тут соображать надо».
— Премного благодарен, — Крепкожилин приподнялся с сиденья. — Надеюсь на твою подмогу, Мамонт Андреич. Ты человек искушенный в деловых хитростях. Совет твой нам очень даже нужен, — он улыбнулся, но в искренность Ляпаева не поверил: «Задушить постарается на корню, как пить дать».
— Светлому празднику злат венец, а хозяину — многие лета! — как всегда, встрял в разговор отец Леонтий.
— Многая лета! — подхватили остальные и выпили.
— Деньги к человеку привыкнуть должны, — закусив селедочкой, заговорил Ляпаев, — а потом деньга к деньге сама липнет. Главное — момент не упустить, быстренько приучить капитал к себе. Обдуманные действия нужны.
Яков завороженно слушал. Его хмельной головой трудно усваивалось то, что говорил Ляпаев, но даже эта непонятность была для него приятной, ибо поднимала его в собственных глазах: не о какой-то шайке-лейке разговор — о коммерции, о капиталах!
— Это какие же такие действия, Мамонт Андреич? — спросил Крепкожилин-старший.
— Судя по обстановке: когда и какую рыбу закупать, где и почем сбывать. Мировой рынок, к примеру, для нас понятие далекое, а диктует и нам свою волю. В запрошлом году норвежской сельдью завалили рынки, и на наш залом цена упала.
— Милости господни неисчислимы…
— Господь умному помогает, — перебил Ляпаев отца Леонтия.
— Я ужо, отец Леонтий, молебен закажу. Малость приведу в порядок, да и проведем богослужение.
— Освятим промыслишко — дело богоугодное, — быстро отозвался поп. — Как же без божьей помощи. Отслужим, попросим господа о защите и подсоблении…
— А я уж те… по молебну и заплачу.
— Не-е, Дмитрий Самсоныч, — отец Леонтий заметно захмелел. Подмигнул Крепкожилину: — Не по молебну плата, а по плате — молебен, — И рассмеялся, довольный своей шуткой.
А женщины у другого конца стола говорили о своем — о платьях, о кулинарии, о других домашних делах, все время изучающе посматривая на Глафиру, так нежданно появившуюся в доме Ляпаева. Ни Пелагея, ни тем более Меланья с Аленой ничего толком не знали о ее прошлой жизни, но с расспросами не лезли. Глафира тоже помалкивала, как и остальные, говорила о пустяках. И только раз, как бы ненароком сказала:
— Далеко от города живете. Ехали-ехали, думала, конца-края не будет. Заночевали даже в пути.
— Крайнее село-то наше, — охотно отозвалась Алена, — ниже нет никого больше, там морюшко.
— А мы с Андреем Дмитриевичем вместе ехали, — продолжала Глафира, — он пешком шел, ну и догнали… А уж потом-то на одних санях.
Не вдруг сообразила Меланья, что говорит Глафира о ее меньшом сыне, — так для нее непривычно было, когда назвали его по имени-отчеству. А догадалась, подумалось старой: жаль, что Андрей не пришел, девка-то, видать, неплохая: лицом красна, манеры городские, да и сродственница Мамонту Андреичу. У него ни детей, ни братьев-сестер. Все, стало быть, ей отпишет.
Пока Меланья рассуждала таким образом, разговор среди женщин переключился на пришлого, что поселился у Ильи Лихачева.
— Чуть, говорят, не замерз, Илюшка-то от верной смерти его спас.
— С верхов будто.
— И денег — мешок.
Ляпаев усмехнулся бабьим разговорам, но серьезно сказал:
— Этого пришлого надо бы проверить. Может, каторжанин?
— Становому надо сообщить, — согласился Дмитрий Самсоныч. — А не то и самим посмотреть, что за птица…
Всякое дело имеет предел. И гостеванью настал конец. Первым засобирался изрядно повеселевший отец Леонтий. И Крепкожилины спохватились — засиделись.
— Благодарствуем, Мамонт Андреич, — говорил Крепкожилин-старший, выходя за ворота. — Хорошо посидели. За советы спасибо. Милости прошу и к нам отгащивать. И Пелагею и Глафирушку. Всем домом, всем домом… И тебя, батюшка, прошу.
Подходя к своему дому, Дмитрий Самсоныч вспомнил: за весь вечер Ляпаев ни словом не обмолвился об Андрее. Обиделся конечно же. Человек известный всей волости, городское начальство его знает, а этот молокосос…
10
Праздник праздником, а жить надо, а значит, и работать. На второй день широкой масленицы, когда по обычаю положено заводить заигрыши — всевозможные шутки, покупки, катанья с горок при лунном свете, озорные незлобивые потасовки, — собрались мужики проверить сети, рыбу выбрать, если она есть. Подледный лов каждый ведет по себе, в пай ловец не идет к тем, что побогаче, а тони речные тянут только по воде. Кто посправней и держит лошадь или даже две, выходит в море на ледяную кромку, верст за сотню и поболе от дома, белорыбицу добывает, краснуху и, само собой, крупный частик — сазана и судака. Неделями живут ловцы в море, в шалашах ночуют.
Безлошадным о том лишь в мечтах помышлять: сети и вентеря — сетные ловушки, формой похожие на бочары, — устанавливают ниже села, чтоб обернуться обыденкой. Обезлошадеть — для рыбака такая же беда, что и для пахаря: впрягайся в чунки сам, тяни их с десяток верст, а обратно — груженные рыбой, если фарт выйдет. И еще неизвестно, когда тяжелее: то ли груженый возок, то ли безрыбный…
Вместе с безлошадными работал и Кумар. Он не рисковал выезжать в море. Илья Лихачев однажды предложил:
— Бери меня в помощники — и махнем за белорыбицей. Что мы, хуже других?
— Зачем хуже? — Кумар похлопал Илью по тугому плечу. — Батыр! Только алаша мой никудышный. — Это Кумар про старого мерина. — Он два раза в относ попадал, ноги застудил. В море на нем нельзя. В случае чего — пропал, не вынесет он, хоть помирай.
Кумар — мужик добрый, мягкий, о таких вот говорят, что они мухи не обидят. Когда он едет на обработку сетей и догоняет пеших мужиков, сажает в повозку, а чунки цепляет сзади. В иное утро за кумаровскими санями караван из трех, а то и четырех чунок. Мужики в покосную пору подсобляют сенцо для мерина накосить. Тем и квитаются.
И сегодня утром с Кумаром Макар Волокуша и Илья Лихачев — спиной к передку саней.
Меринок по-стариковски неспешно трусит мимо яристых камышовых островов, а мужики, как всегда, тихо беседуют.
— Тимофей мне и говорит: бери деньги и давай вместе, — рассказывает Илья про своего жильца, — И верите, мужики, целую пачку мне сует. Аж оробел я, в жизни столько не видел.
— Ой-бай. Хороший мужик! — Кумар цокает языком и удивленно качает головой.
— Откуда оне у него? — подозрительно спрашивает Макар.
— Дом в верхах, сказывает, продал, землицу, ну и протчее…
— Жаксы мужик, — не перестает Кумар хвалить Тимофея.
— Прикинули, и вроде бы ловко получается. Ох и поработаем, ребята! Осенью, Тимофей говорит, лошадку приглядим.
— Дай-то бог!
— Неук покупай, — подсказывает Кумар. — Вместе будем объезжать.
— Там видно будет, — степенно отвечает Илья. — Можно и неука. Чтоб на кромку ездить.
— Хорошо, коли у человека есть все необходимое, — мечтательно говорит Макар. — У рыбака — лошадь, лодка, сбруя. В верхах, положим, землю чтоб поднять — плуги, бороны и опять же лошадь. Когда все есть — работа в радость.
— Оно так, — согласно отозвался Илья. — Без работы никак нельзя.
— Я, мужики, не по жадности это. Человек — не животная, на всем готовом не проживет. Детей нарожать — полдела, втора половина — прокормить, на ноги поставить, чтоб он о своем потомстве помыслил. На том и жизнь строится. И без работы нам никак нельзя. Только голыми руками — кака работа?
За переломом, где Ватажка круто коленит вправо, — раздор: тихая и спокойная река дробится на мелкие, и разбегаются речушки, петляют меж ветловыми ленточными лесами и островами.
У этого разречья Кумар остановил лошадь; мужики повскакали с мест, отвязали чунки, и каждый пошел своей дорогой, вырубать из-подо льда сети, выпутывать рыбу и снова опускать сеть под лед. Десятки лунок в полуметровом льду надо пробить, чтоб обработать сбрую. Тяжелая однообразная работенка у ловца; когда они вновь собираются у разречья, руки гудят, словно палкой колотили по ним, а в пояснице — ну точно шпигорник сидит: согнулся коли, не вдруг и выпрямишься.
Кумару сегодня не везло: в первых трех-четырех сетях ближе к Ватажке напуталась мелкота разная: берши, щуки, окуни, а в остальных и того не было. Набралось с полмешка рыбы — и весь улов. Раздосадованный неудачей, возвращался к развилке и думал, что сейчас запалит костер на яру, погреется, пока Макар с Ильей закончат дела. И они, наверно, в пролове. Да и не может быть иначе: каждый раз с конца зимы и до распадения безрыбно. Только и можно в ямах наловить. Но ямы прибраны к рукам: иная куплена рыбником, иная арендована им, иная казне принадлежит или монастырю… И ни к одной не подступишься — охрана с ружьями, чуть что — собаками кидаются, чужое добро берегут…
Вывернулся Кумар из-за пологого, в редкой камышовой щетине, бережка и увидел: на яру курится дымок. Знать, у тех не богаче улов, коли так быстро управились.
— И тебе, гляжу, подфартило, — усмехнулся Илья, когда Кумар подъехал к ним.
— Не калякай, Илюшка, совсем дело плох, — Кумар расслабил чересседельник, бросил меринку пучок сена и опустился у костерка. Макар задумчиво и даже в растерянности глядел на неяркие гребешки пламени и тянул самокрутку. Табачное крошево потрескивало при каждой затяжке.
— Мне Прасковья, когда собирался, сказала, мол, грех седни работать. Я ешшо посмеялся над бабой, а ишь как обернулось.
— Грех не грех… Рыба откуда знает? — Кумар удивленно обернулся к Макару и засмеялся.
— Бог — не Микишка, у него своя книжка, он все видит и по-своему делает, — упорствовал Макар и подумал про себя, что и весной, видать, не будет ему удачи, потому как на чужом достатка не добудешь. Вслух конечно же ничего не сказал, не мигаючи, в задумчивости уставился в огонь.
Илья про себя усмехнулся Макаровой наивности, но задирать его не стал, сказал рассудительно:
— Вот ежели бы на Золотой или другой яме выбить сети, и масленица не помешала бы.
— Вода ушла, — уже серьезно сказал Кумар, — рыбы в море скатилась.
— Теперь добра не жди, — согласно закивал и Макар.
Покурили, помолчали.
— Эх, волокуши нет, съездить бы на обтяжку, а? — вдруг сказал Илья, и большие карие глаза его озорно заблестели. — А то яму бы каку грабануть, во дело доброе!
— Раз нет, че теперь голову ломать да душу палить, — резонно заметил Макар и поднялся от костра. — Айдате-ка домой.
— Посмотреть надо, может, у мужиков у кого и есть. Да и нагрянуть, — не уступал Илья.
— Стражники те нагрянут, — Макар снова охладил Илью. — Лучше не связываться.
— Не скоро лед сойдет, жить как будем? — засокрушался Кумар.
— Бог даст, не подохнем с голоду.
— Надо делать что-то, Макар.
— Легко делать только детей. А волокушу пальцем не исделаешь.
Так, пререкаясь незлобиво, они закрепили чунки, попадали в Кумарову повозку и двинулись в обратный путь. Каждый думал свою думку, но у всех она была об одном: как дотянуть до теплых дней, до подсвежки, когда с моря в реки устремляются неисчислимые рыбные косяки. Но не скоро еще распалится лед, не скоро вскроются реки. Потому-то и селится тревога в душе у ловцов.
11
На третий день праздника Дмитрий Самсоныч проснулся затемно, сел на кровать. Ноги коснулись нахолодалых за ночь крашеных полов, но старик не засуетился, не потянулся за шерстяными носками. Он любил вот так по утрам посидеть минуту-другую, поставив ступни на пол, как бы впитывая в себя вместе с приятным холодом и бодрость, и ощущение полноты силы в теле, потому как после этого рождалось нетерпеливое желание встать и что-то делать.
Что́ делать сегодня — он определил еще вчера вечером и предупредил сыновей, чтоб не мешкая ложились отдыхать и что поднимет их рано. Яков догадался:
— На промысел?
— Начнем, с богом, — голос его был радостно-торжественным.
И то — нешуточное дело взяли в руки. А коли так — то и надо соответственно подготовиться к первой весне. Дмитрий Самсоныч с затаенной улыбкой посмотрел на своих — внимательно, как бы заглянул в душу каждого.
Привстав с кровати, сказал жене:
— Буди детей.
Одевшись наскоро, он вышел напоить лошадей и заложить в ясли сено. Днем за скотиной ухаживает Яков, но по утрам старик сам любит пройтись с конями до реки, на улице или у проруби переброситься несколькими словами с сельчанами, выкурить закрутку.
Стояла чистая морозная тишь. Истаивали звезды, на востоке небо окрасилось в цвет моря. Морозило слегка, снег глухо гукал и оседал под ногами — к теплу.
Почуяв хозяина, и Пегаш и Рыжий, словно по команде, повернули головы, коротко и ласково заржали. Дмитрий Самсоныч похлопал любимца Пегаша по крупу, почесал за остро вскинутыми мохнатыми ушами — Пегашу это очень нравилось. Отвязав ременные недоуздки, старик повел коней к реке.
Несмотря на ранний час, село просыпалось: светились окна, хлопали двери и калитки, скрипели засовы на воротах, на Ватажке протяжно и с надрывом отзывался лед на удары пешни.
У проруби возле мохнатого понурого меринка стоял Кумар. Он почтительно поздоровался с подошедшем Крепкожилиным, охотно постукал пешней, удлиняя прорубь для его лошадей. Старику была приятна эта услужливость, и он заговорил:
— Ты, Кумарушка, рыбу-то весной Торбаю продавал?
— Ему, — охотно откликнулся Кумар.
— Так ты уж того… Теперя мне привози. Обижать не буду.
— Зачем обижать?
— Торбай, сказывают, прижимал.
— И Торбай прижимал, и Ляпаев не лучше.
— Вот видишь… Поладим, ты имей в виду. Не буду обижать.
— Зачем обижать?
Кумар увел коня от проруби, а Крепкожилин подумал: «Вот нехристь косоглазая. Ничего путного так и не сказал».
Вернулся с реки старик рассерженным. Казалось бы, и не приключилось ничего необычного, да и Кумар говорил учтиво, но в недосказанности его Дмитрий Самсоныч уловил неприязнь к себе. И от кого — от Кумарки! Вот это и взбесило его.
И Яков и Андрей были одеты. Едва старик вошел в избу, Меланья разлила в тарелки вчерашние щи. Алена хлопотала у печи — блины пекла. На шестке, в отсветах пламени уже высилась ровная стопка аппетитно пропеченных и отливающих маслом блинов. Алена деревянным уполовником захватывала тесто из кастрюли, сливала его на сковородку, и, пока доносила до треноги и устанавливала на нее, мелко-мелко трясла сковородником, чтоб жидкая блинная замеска разлилась бумажно тонким слоем.
— Садитесь, пока не остыло, — поторопила Меланья и отошла от стола, чтоб помочь снохе.
Яков с отцом были уже за столом и хлебали щи, а Андрей все не выходил из своей комнатки.
— Андрюша, — позвала мать, — остынет, садись.
— Я не хочу, мам, рано, — сказал Андрей, появляясь в дверях.
— А потом, на промысле, неча будет хлебать, там топором да пилой орудовать надо, — отозвался отец.
Андрей подсел к столу, но к еде не притронулся.
— Я хочу сказать… — Андрей посмотрел в глаза отцу, — что на промысел не поеду. И вообще я к нему никакого отношения не имею. Не хочу иметь.
Дмитрий Самсоныч задержал ложку с хлебовом у рта, долгим удивленным взглядом посмотрел на сына, даже склонил набок голову, осмысливая дерзкие его слова. Но сдержался, отхлебнул щи и спросил:
— Час от часу не легше. Как это так — никакого отношения?
— Не хочу быть дельцом, не хочу наживаться на других, жить на чужие деньги.
Меланья с Аленой забыли про блины: на сковороде, пригорая, дымило. Был озадачен словами брательника и Яков, но, боясь отцовского гнева, в разговор не встревал.
— Ин-те-рес-но! — нараспев проговорил старик. — Ты, стало быть, как жить-то думаешь? Ляпаев хотел работу предложить — отказался, не пошел…
— Я не отказывался…
— Помолчи! — Дмитрий Самсоныч тяжело хлопнул ладонью о стол. — А теперь и дома работать не желаешь? И с городу, видать, оттого сбег. Так вот, — сурово сказал Дмитрий Самсоныч. — В доме дармоедов не потерплю…
— Я найду работу и обузой не буду. Но только не на промысле. Честно хочу жить, своим трудом.
— Утешил! Неча сказать. Слышь-ка, мать, вырастили мы с тобой порядошного человека, а сами и совести-то, оказывается, не имеем. Вот оно как! Эх, чистоплюй! Проучил бы тя счас, да руки марать не хочу. Ну, обрадовал старость мою! Правду говорят: непутевый сын — отцу ранняя могила. Ну, давай-давай…
Когда они уехали, а Алена вышла подоить корову, мать присела рядом с Андреем, уронила сухие руки на столешницу и беззвучно заплакала.
— Не надо, мам.
— Как же это, Андрюшенька? Дом опостылел, что ли? — Она утирала слезы уголком передника, — Жил бы в городе, что ли, не стоило приезжать-то.
— Надо, мама. Прошу тебя, поверь мне. Надо. А работать у отца на промысле не буду. Мне противно видеть, как наживаются люди, обманывают, обвешивают, обсчитывают, покупают подешевле, сбывают подороже… Не останавливаются ни перед чем: человека могут угробить, убить!..
— Что ты говоришь, Андрюша?..
— А разве с Максутом по-человечески обошлись?
Мать неслышно плакала, сын обнял ее за плечи, уговаривал:
— Ты у меня хорошая, мам. И я не буду как они.
— Да-да… — тихо соглашалась она. — Яков — весь в отца. Жестокий, грубый…
— Я не дам тебя обижать, мам.
— О себе подумай, Андрюшенька. Не уживетесь вы с отцом. Ой, грех-то какой…
— Все будет ладно, мама. Вот увидишь, и работу я найду себе.
12
В тот же день Андрей пошел к Ляпаеву, но дома его не застал. Да и Пелагеи не видно было: то ли вышла куда, то ли хлопотала где по хозяйству.
Глафира, завидя его, просветлела лицом, торопясь, через голову сняла с себя стряпной передник, поправила рассыпавшиеся прямые волосы.
— Что же вы, Андрей Дмитриевич, не приходили? Дядя вас так ждал.
— Собирался, но так уж сложилось.
— Раздевайтесь, проходите, Андрей Дмитриевич, — Глафира называла его по имени-отчеству, что было ново и непривычно. Оттого Андрей застеснялся и не называл ее, потому как отчества не знал, а просто называть ее по имени считал в таком случае неприличным.
— Да я на минутку. Мамонт Андреич нужен.
— Сейчас и придет, — поторопилась уверить Глафира и подвинула высокий, с гнутой спинкой, стул. — Садитесь, коли не желаете пройти в переднюю. Как привыкаете в селе?
— Мне что привыкать, — усмехнулся Андрей. — Я здешний. Это вам в диковинку.
— И не говорите, Андрей Дмитриевич, скука ужасная. Дядя и Пелагея — люди не первой молодости. Хоть бы вы заглядывали вечерами.
— Постараюсь, — Андрей поднялся и взялся за дверную скобу. — Пойду я.
— А то посидели бы, Андрей Дмитриевич.
Ей нравился этот неожиданно оробевший молодой человек, было легко разговаривать с ним. Это не Резеп, который всю дорогу от города до Синего Морца говорил только о рыбе, деньгах, о своем хозяине, нахально смотрел в глаза и многозначительно, липко улыбался. Резеп возле Андрея — что лопата рядом с иконой.
И Андреи, ничего не ведая о прошлом Глафиры, думал: какая приветливая, симпатичная девица, надо непременно бывать у них. Так размышлял он, выходя с ляпаевского двора. И тут его повстречал одноглазый Кисим. Он заметно постарел: седые, но как и прежде, прямые жесткие волосы, пучки глубоких морщин, высохшая жилистая шея — все это пришло к нему в последние годы — были непривычны для Андрея, и он не узнал бы Кисима, если бы не мертвый глаз.
Кисим узнал Андрея и ответил на приветствие.
— Казаин нада? Промысла пошел. Резеп мала-мала чёс давать. — Кисим улыбнулся одним глазом и пояснил: — Резеп, когда город был, разный товар покупал, ядро гнилой брал. Глаза ево куда глядел? Казаин злой, уй-бай, какой…
Промысел стоял несколько на отшибе, у околицы, на крутом яру. Жилая казарма, амбары, лабазы и выхода, где по весне солят рыбу, — все хозяйство было обнесено жиденьким штакетником из тесаных лесин.
Андрей вошел в калитку и увидел долговязого, длиннорукого юношу. Он стоял у груды сетчатых носилок для переноски рыбы, постукивал молотком — ремонтом занялся. Когда Андрей подошел к нему, паренек вскинул большие голубые глаза и первым поздоровался.
— Что-то я не припомню тебя, — сказал Андрей, пристально всматриваясь.
— Гринька я, — ответил тот. — А я вас сразу узнал.
— Правильно — Гринька, — Андрей пожал его жесткую квадратную ладонь. — Ты с сестренкой тут живешь. Мне писали.
— С Ольгой, — подтвердил Гринька. — Как погорели, так Мамонт Андреич нас сюда поселил. Летом-то много народу, и разного. Зимой — вдвоем.
— Не видать тебя что-то в селе.
— А че там делать? Холодно счас. Летом — ино дело. Вам хозяина? В конторке он.
«Как по-разному жизнь складывается, — думал Андрей про Гриньку. — Жили в своем доме, при отце-матери. Справно жили. И по дикой глупости, рассказывают, распалось все». Отец у Гриньки был отчаянным мужиком, да и мать не из робких: с мужем на бударке ходила в море. Позапрошлой весной, уже под скончанье путины, застал их штормяга в чернях — прибрежной глубьевой полосе. Успели они, завидя, как портится день, выбрать сети. Но пока их выбирали и прятали в трюм, налетел шквальный норд-ост, самый каверзный и неуемный в тутошних краях.
Мореход был Гринькин отец отменный, бударкой управлять умел. И вышли было они из стонущей водной толчеи, стали совсем прибиваться к камышовой гряде, и уже рыбачка истово крестилась, благодаря бога за избавление… И ловец по давней морской традиции стянул с себя безрукавку и выбросил ее за борт — дань за избавление от напасти.
Все бы хорошо, да вдруг рванул мужик румпельник на себя, а сам рукой кажет на взмученные волны:
— Деньги… в телогрейке… — Ополоумел ловец, правит в море, высматривает давно набрякшую и затонувшую телогрейку, в карман которой складывал весь путинный заработок…
Так и похоронило их море…
Бабка, с которой оставались Гринька с сестренкой, не вынесла горя и тем самым вконец осиротила ребятишек. А летом и третья беда явилась — изба сгорела.
Вот так и оказались Гринька с Ольгой на Ляпаевском промысле.
Все это вспомнилось Андрею, пока шел он до промысловой конторки, где Ляпаев, заканчивая неприятный и тяжелый для Резепа разговор, сказал:
— Иди, управляйся по хозяйству. Ко мне Крепкожилин идет, говорить с ним буду. А ты наперед будь умнее, смотри, что берешь. Чтоб не забыл нонешний разговор, удержу сколько положено. Путину задарма отработаешь — наберешься ума-разума.
Резеп вышел из конторки, словно из парной, таким сердитым он никогда хозяина нг видел, слова в оправданье не смог сказать. Может, отошел бы Ляпаев малость, да тут этот Андрей не ко времени.
Они поздоровались за руку, но сдержанно и без слов разошлись: Резеп — на плот, Андрей вошел в конторку.
Ляпаев был возбужден и не скрывал своего состояния. Кивнул в ответ на приветствие, указал Андрею на скамью, спросил нелюбезно:
— Что скажешь?
— В прошлый раз насчет работы хотели поговорить.
— Хотел. — Помолчал, побарабанил пальцами о край дощатого стола, упрятал недовольство. — Пользовать людей можешь?
— Учился. Потом работал.
— Предписание прислали из города, чтоб лекаря содержал для промысловых рабочих. Летом бумага пришла, да все недосуг. Тебе в городе сколько платили?
Андрей назвал.
— И я так же положу. — И начал говорить, как о деле решенном: — Жить, само собой, в Синем Морце, но погляд — за всеми девятью промыслами. Тут вот, на этом промысле, пункт твой лекарский будет. От казармы отгородим да дверь пробьем отдельно. Снадобья какие надо — напиши, посмотрю, да купим в городе. Что еще? — Он выжидательно уставился на собеседника. — Лечи народ, раз так положено. Мне ж и польза. Здоров человек — работник из него хорош. Так-то!
13
Глафира могла быть довольной нынешним своим положением. После многолетнего полунищенского существования, а потом и разгульной жизни, полной унижения и грязи, дни в Синем Морце, с приезда и по сегодня, были похожи, скорее всего, на праздник, нежели на будни. Ей ни о чем не приходилось заботиться: ни о деньгах, ни о еде. Ее поразила домовитость и запасливость дяди: мука, рыбные, мясные прочие продукты лежали на полках, в ларях, висели на крюках в холодной складской. Она была просторной, как сам дом, срублена из избяного пластинника, с отдушинами под потолком и у самого пола. Здесь и летом бывает довольно прохладно, а зимой — мороз-трясун, только волков морозить.
Пелагея встретила хозяйскую сродственницу приветливо. В первые дни не подпускала ни к стряпному столу, ни к печи, гнала ее ворчливо в переднюю, а то подавала шубейку и выталкивала на морозный воздух.
Зато у стола Глафира верховодила. Она умела красиво сервировать стол, и это казалось бы странным и непонятным, если не брать в расчет, что последнее время она чуть ли не каждый вечер проводила в богатых номерах, за изящно сервированными столами, нагляделась на все с чисто женской сметливостью, переняла…
Ничего про то Пелагея не ведала, а потому и удивлялась:
— Городскую за версту видать. И одежка на ней иная, и манеры. Вот я разве смогу так, — она кивнула на стол. — И посуда одинакова, и все. А вот голова не сообразит, что куда ставить, во что накладывать…
Ляпаев, когда Глафира, готовя стол, впервые похозяйничала за Пелагею, был несколько озадачен: ему сразу же припомнился тот злополучный вечер в номере гостиницы, стол, уставленный яствами и выпивкой, тощая задумчивая девица Лера, и все в нем поднялось внутри, воспротивилось.
— Вы того… попроще, — стараясь не обидеть Глафиру, он сказал эти слова им обоим, и даже больше Пелагее, давая тем самым понять, что не приезжая девица, хоть она и сродственница ему, а она, Пелагея, тут главная и от нее зависят домашние порядки. — Попроще. Не банкет, не ресторан…
Глафира поняла намек, целый день дулась на Мамонта Андреича. Однако наутро обида сгладилась, а потом и совсем забылась.
В день встречи масленицы, когда ожидали гостей, Пелагея кое-как уговорила Глафиру покрасивей накрыть на стол. Та взялась за дело неохотно, но потом увлеклась, и стол получился на славу. Она незаметно наблюдала за дядей, но он, то ли праздник был тому причиной, то ли другое что, обошелся без замечаний, даже тень недовольства не промелькнула на его большом выразительном, с черными пучкастыми бровями, лице.
Со временем Глафире понравилось домашничанье, и они вдвоем с Пелагеей, большой и искусной домовницей, легко и быстро управлялись со всем хозяйством.
Все бы хорошо, но камышовая глушь да угрюмый одноглазый молчун Кисим пугали ее. Не было у нее подружки, с кем могла бы она занять свободное время, которого было несравненно больше, чем занятого, делового. А Пелагея, что там ни говори, женщина хоть и не в большом возрасте, но не подружка Глафире.
В вынужденном одиночестве Глафира все чаще и чаще вспоминала городских подружек. Они при встречах, не таясь, говорили все, что случалось с ними в богатых номерах. Глафира не позволяла себе столь откровенную неприкрытость, потому как эта прямота смущала ее. И она стыдилась своих разбитных подружек. Но странное дело, здесь вспоминала их с непонятной теплотой.
Мамонт Андреич как-то спросил:
— Привыкаешь? Не тянет в город? Это хорошо. Ничего путного в них, городах, нет. Сплошная беготня да распущенность.
Слова эти неприятно кольнули Глафиру. Она даже подумала: а не уехать ли? Но представила на миг свою полутемную каморку, пьяные ночи и содрогнулась.
Отношения ее с дядей — полюбовником по нечаянности, тоже были неясными. Глафира не питала к нему никаких родственных чувств. Оно и понятно: лишь понаслышке они знали о существовании друг друга, и нежданно-негаданно оказались под одной крышей — что же тут родственного?
В последние дни Глафира больше и чаще думала об Андрее. Он вовсе не красавец: остролицый, чрезмерно худощавый. И взгляд неприятно-зеленых глаз, колюче устремленный на собеседника, был неуютным и изучающим, словно его всегда и неотступно преследовала какая-то мысль. Но Андрей был отличным от сельчан, казался нездешним, пришлым, и уже потому был интересен Глафире. Она ждала его на масленицу, готовила стол и прихорашивалась больше для него, чем для других гостей, а когда он не пришел, затосковала.
14
В промысловой казарме, большой и угрюмой, вдоль пластинчатых, пробитых конопатью стен, в три яруса поднимаются нары для пришлых рабочих. В селе побаиваются стороннего люда, презрительно называют ватажниками, а сам промысел — ватагой. Нездешний, случайный народ в казарме занимает чаще всего два яруса. На третьем, под самым потолком, хранят немудрящие свои вещи, сушат одежду после пересмены. В иные годы, когда рыба идет недуром и обычное число рабочего люда не управляется обрабатывать улов — резать, засаливать, сушить снимать с вешалов, — и подпотолочные нары превращаются в спальные. И тогда бывает тут непомерная теснота да духотища, и вонь от просмоленной обутки и просоленной одежды густо висит в воздухе, остро бьет в нос вошедшему с улицы.
Гринька с сестренкой Ольгой в первое лето жили в общей казарме, занимали угловые два яруса — нара над нарой. В зиму Ляпаев разрешил ему отгородить в дальнем от входной двери углу небольшой закуток — не отапливать же всю махину, дров не напасешься. Прогреть раз в неделю чтоб не промерзала и не мокла казарма, — и то дело. Худо ли, бедно ли, с тех пор имеют брат и сестра свою комнатушку в одно окно, в две койки со столиком посередине — совсем как пароходная каюта. Торцевая, противоположная окну, стена наполовину состоит из входной двери, наполовину — из печной стены; она и согревала в ненастные зимние дни неприхотливое жилье. Над койками — шкафчики. В одном бельишко сменное, другой битком набит посудой всякой — сердобольные сельчане, после пожара и поселения сирот в казарме, нанесли всякой кухонной рухляди. После казарменной сутолоки, людной толчеи и многоглазья Ольга порадовалась жилью:
— Гринь, а хорошо у нас, да?
— Нормально, — степенно отвечал ей брат. Был он на два года постарше и считал себя ответственным за судьбу сестренки. — Ниче, Оль, проживем…
Втайне Гринька надеялся потолковее определить сестренку, то есть выдать ее замуж в надежный дом. Он-то, мужик, не пропадет. Вкрай — можно плюнуть на эту житуху и податься к туркменам или в Персию. Там, сказывают, русских толкотно, целые промыслы. Заработки будто бы терпимые, волжан первым рядом берут, а потом уж персов и другую нехристь, потому как к морю они не совсем свычные, да и жилы у них послабей.
Ольгу Ляпаев определил уборщицей, а зимой и истопницей, а братец ее всякую черную работу исполнял все работные дни, а в воскресенье запрягал мохнатую коротконогую лошаденку, что за Резепом числилась и при промысле содержалась, и ехал на острова за камышом. Почти всегда с ним ездила и Ольга. Они быстро накашивали камыш и вязали в тугие снопы. Поначалу Гринька не хотел брать ее, сам, мол, управлюсь, но Ольга настаивала, а однажды открылась:
— Боюсь я одна оставаться.
— Днем-то… ты что, Оль.
— Возьми, Гринь. Резепа я боюсь. Страшный он: войдет и сидит. Ты чего, спрашиваю, а он молчит, а сам глазами шарит, всю как есть осмотрит.
Насторожился Гринька. Ольга — девка фигуристая, видная: лицом смугла, в мать, да и брови, густые и широкие, тоже от матери достались. А Резеп — кот, бабник известный, в 29 лет все неженатик, вокруг чужих жен околачивается, выглядывает, где что плохо лежит.
Несмотря на молодые годы, Гринька знал, что, как дерево в лесу нелегко уберечь, так и девку в людях, а тем более тут, на ватаге, где средь пришлых бывает народ разный. Оглядчивость не помешает, решил Гринька, осторожного и зверь дикий не возьмет. И стал он всякий раз Ольгу брать с собой. Резеп, как бы между прочим, однажды, увидел их сборы, сказал:
— Один, что ли, не управляешься? Таскаешь девку за собой в такие морозы. Пожалел бы…
— Пожалел волк кобылу, — в тон ему отозвался Гринька и долгим взглядом посмотрел в глаза плотового.
— Ну-ну, дело хозяйское.
Резеп тоже жил на промысле, но при конторе. Там для него была отведена небольшая светлая комнатка в два окна, вся под масленой краской. Ольга и у него прибирала и всякий раз старалась угадать, чтоб плотовой был в селе или же занят иным делом. По этой причине комнатка в иные дни оставалась неприбранной. Резеп ругался, грозился донести хозяину и уволить.
Еще средь зимы, когда Ляпаев готовил рыбный обоз, Резеп позвал Гриньку в конторку.
— Запряги-ка лошадь. Мне в Маячное надо. А ты немного, да к Мамонту Андреичу топай. Кисиму подсобишь на складе порядок навести.
Ольга, выпроводив мужиков, протопила печь у себя и в конторке и принялась за уборку в Резеповой светлице.
И заканчивалось уже убирание, как в комнату неслышно вошел плотовой. Ольга спиной к нему, нагнувшись, у самого порога домывала полы. Напевая что-то про себя, почувствовала, как две сильные руки из-за спины обняли ее, скользнули к грудям. Вполоборота она заметила широкую улыбку Резепа, крутанулась и оказалась лицом к лицу с ним.
— Пусти!
…Гринька немного задержался. И едва освободился, заторопился на промысел. Еще издали он увидел, нераспряженную лошадь у конторки, отметил про себя, что и Резеп уже вернулся.
Ольги в казарме не было, и тревога сразу же овладела Гринькой. Он кинулся в конторку и услышал возню в Резеповой половине.
Разъярившись, Гринька рванул Резепа за шиворот и бросил на пол.
— Э-э… э… не очень, — бормотал в растерянности плотовой. — Она сама…
И тут Ольга, дрожа телом и захлебываясь слезами, словно ополоумела.
— Сама? Ах ты, гад, паразит. — Она схватила мокрую половую тряпку и давай хлестать Резепа по спине, по голове… А сама все всхлипывала и приговаривала: — Сама? Вот тебе, вот, вот…
Гринька еле вырвал тряпку из рук Ольги и вытолкнул ее из светлицы. Пригрозил изрядно побитому плотовому:
— Еще раз тронешь али Ляпаеву наябедничаешь — убью. Мне терять неча.
15
В Шубино Илья с Кумаром приехали рано — даже магазины еще не открывались. Легкий морозец и яркое солнце обещали добрый день.
Выехали из Синего Морца затемно, а накануне вечером долго и обстоятельно обговаривали, что купить для предстоящей весновки. Обсуждали сообща: Илья, Кумар, Макар и Тимофей Балаш. Впрочем, Тимофей особо и не спорил, молча соглашался со всеми, сказав, что в ловецком деле ничего не смыслит. Он уже вставал, ходил по землянке, но выходить на стылый воздух Андрей пока не разрешал.
Неспешно, по-мужицки, обмозговали они предстоящую куплю.
— Плавнушку — надо, три порядка вобельных сетей — надо, редкие сетки — тоже надо. — Макар, перечисляя, загибал пальцы. — Купишь все — хорошо!
— Бударку где заказывать будешь? — поинтересовался Кумар.
— Здесь, с Ваней Афоней говорил. Он — мастак.
— Тес еще надо достать.
— Все у него есть. Сговорились… Через пару недель, говорит, будет готова.
Днем раньше Илья попросил Кумара дать ему меринка съездить в волость и привезти намечаемые покупки. Кумар, оказывается, и сам собирался в Шубино, так что столковались быстро.
…По дороге в Шубино Кумар рассказал:
— Я тоже сетки буду брать. Ата деньги дал, мал-мал и сам копил.
— Кумар, а пошто Садрахман с тобой не живет?
— Не хочет. Звал-звал ата, не идет. Землянка, говорит, еще хороша, теплая. На острове дров много, камыша еще больше. Моя баба, Магрипа, тоже звала. И Магрипу не слушает.
Так в разговорах подъехали они к волостному селу и завернули к лавке, где торгуют ловецкой сбруей. Лавка стояла на берегу, каменный низ ее занимал склад-товарник, где хранили добро и происходила купля-продажа, а наверху жил сам хозяин заведения с семьей. Дождались покупщики, когда насупленный и угрюмый лавочник спустился вниз и распахнул широкие двери — если бы не высокий многоступенчатый рундук, можно было бы подводой заезжать внутрь. И едва Илья с Кумаром вошли внутрь, торгован-купец сразу же преобразился.
— Чего желаете? — на лице сладкая улыбка, а голос елейный, словно встречал он именитых людей.
— Посмотреть, значит, что подберем. — Это Илья. Он не спеша осмотрелся и подивился невиданному множеству товаров. Они лежали в тюках, штабелями на деревянных решетках до потолка. Рядом, у входа на вешалах, — образцы готовых сетей и неводов, на столах — куклы частиковые, вязки пеньковой хребтины, пряжи и прочей необходимости.
— Смотрите, выбирайте. — В магазине никого больше не было, а потому и все внимание торговец уделял Илье и Кумару. — Товарец первый сорт.
Покупатели, однако, знали, что если купец не схитрит, то и не продаст, а потому не спешили, приглядывались, приценивались, рядились, сомневались в качестве и в цене.
— Твое дело — дорого просить, наше дело — дешево дать, — сказал Кумар.
— Какой там дорого. Больше накладу, чем навару. Концы с концами еле свожу.
«То-то от убытков и развезло тебя, — подумал Илья. — И дом в два яруса, и товару на великие тыщи…»
Задержались возле речных неводов. Каких тут только не было: километровой длины, рассчитанные на неоглядные волжские плесы и многорукие ватаги, и совсем крошечные — волокуши в полста саженей — два-три человека могут шутя обтягивать ими рыбные лежбища. Переглянулись Илья с Кумаром, поняли друг друга.
— Сколько за эту волокушу?
Возвращались домой довольные. И хотя Илья купил на одну справу сетей меньше, да и Кумар не все взял, что хотел, настроение у ловцов было отменное: теперь у них будет пусть и крошечный, но свой неводок-волокуша. Готовую, правда, они не взяли, потому как торгаш заломил цену, а купили ядро и пеньку на огниво и подборы — так дешевле. Поработают сообща вечерок-другой — и готова волокуша.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Была середина марта. Постепенно стаивали снега, а по утрам лужицы хрустели под ногами. Ночами еле приметно искрились звезды, полнолуние топило белым мертвенным светом Синее Морцо, Ватажку и окрестные острова, проникало в камышовые крепи и ветловые редколесья.
Ближе к взморью, на речных перекатах, лед сопрел, обнажив синие быстрины мелководий. На больших же реках и ямах он по-прежнему лежал недвижно, черный от бесснежья и оттепелей, по нему ездили мужики на подводах. Но по заберегам лед уже отслоился, а под ударами пешни рассыпался на игольчатое крошево.
Вернулись ловцы с ледовой кромки — дольше опасно оставаться там, хотя уловы с тутошними не шли ни в какое сравнение. Худо-бедно, налавливали в море ежедневно по возу разной рыбы, сбывали ее на месте скупщикам — ну и соответственно заработки. Потому-то в межпутинье, в марте то есть, когда рыба исчезает неведомо куда и сети пустуют, зарастая тиной, морские рыбаки живут не тужат: зимних денег хватает до весеннего буйного хода бессчетных косяков на икромет.
Ну а те, кто перебивался случайными уловами в реках, бедствуют в эту пору. Иссякают зимние запасы, и сети хоть выдирай — нет улова. Но сети стоят подо льдом, цедят воду, потому как вся жизнь рыбака есть надежда на фарт, на шальное везенье, и так они привыкли к нему, что и в полное безрыбье не теряют надежду хоть на котел словить с десяток махалок. И волокушей пробовали. Ее насаживали на подбору артельно — в два вечера управились. И вместе же ездили на обтяжку низовых култуков. Но уловы по-прежнему были бедны, и обтяжки эти пришлось прекратить. В такое безрыбье ловец-бедняк готов ехать куда угодно и делать что угодно, лишь бы достать на котел, протянуть до подсвежки — вешней воды.
Вот в такую непосильную пору, когда надоело мужикам жить под нуждой, надумали они обловить запретную яму. Долго не решались, откладывали.
— Чужое возьмешь — свое потеряешь, — попытался отговорить Тимофей.
— Все под богом равны, а почему у меня нет ямы, а у Ляпаева есть? — спрашивал, возбуждаясь, Макар.
— Не нами установлены порядки, что об этом рассуждать-то? — пробовал защищаться Тимофей.
— У меня шесть балашек, чем их кормить? — простодушно спрашивал Кумар. — Ата мой аллаху молится, три раз в день просит, не слышит аллах, не хочет помогать.
— Да че вы, мужики! — возмущается Илья. — Я так думаю: и море и земля — не может быть только моей собственностью.
— Эка, хватил! — съязвил Макар. — Какая такая твоя собственность?
— Да, к примеру, я, — начал сердиться Илья. — Что получается? Одна яма — ляпаевская, другой — монахи владеют… Это как если бы какой култук осетру принадлежал, другой — белуге, а бедному частику куда деваться? Рыба без мозгов, а, ей-богу, умней. А тут — у каждого то яма, то река, то ильмень. И никто туда не сунься.
— У кого деньги — у того вода, а чья вода — того и рыбка.
— Пустые слова говорим, — не выдержал Кумар. — Пойдешь, Макар, или не пойдешь?
— Да как же не пойтить. Как все, так и я. Жрать-то надо.
— То-то, — удовлетворенно сказал Илья. — На глазах, Макар, умнеешь.
— Будет болтать-то, — осерчал Макар.
— Ладно, мужики, сговорились. Не убудет от Ляпаева, я так считаю. Но чтоб никакого худа не приключилось, надо за стражниками понаблюдать, улучить ночку понадежнее.
— Мой ата все знает: куда охранщик пошел, когда придет…
— Верно, Садрахман со своего острова все видит. Ты отцу скажи, чтоб последил.
В одну из ночей, когда Синее Морцо спало, обловщики выехали на Кумаровой подводе. Было ветрено, волновались камышовые крепи, их шерошение заглушало цокот подков и звуки полозьев. В тревожном молчании Макар, Кумар да Илья чутко всматривались в дорогу.
Яснолунье щедро освещало реку, она просматривалась до перелома, и только чернота камышовых завалов да кустов белолоса, обвитых вязью пожухлых диких трав, пугала похожестью на затаившегося человека.
Не разговаривали, не шутили, хотя эти предосторожности были излишними: подводу в такую светь видно далеко, а голоса все равно гасились бы ветробуйством. Да и Садрахман, отец Кумара, утром сообщил: стражники были вчера на санной подводе, объехали яму, осмотрели и подались на низовые участки, где у них избушка. Они почти все время живут там, лишь временами наезжая на Золотую. Можно, значит, безбоязно обтянуть яму.
На Золотую, чтоб спутать след, выехали со стороны Маячного — коленистым, стиснутым ярами ериком. Подводу с волокушей оставили в тени камышовой стены. Кумар спутал меринка, отпустил чересседельник и дал коню сена.
С пешнями мужики вышли на плес, посоветовались малость, прикинули, как метнуть волокушу, где выбрать ее, и приступили к делу — проруби долбить. Весенний лед крошился податливо, но в ночи торопливый перестук слышался далеко, и одно утешение было обловщикам, что ветром относило эти звуки не в низовье, к стражникам, а в сторону гривы, и там они гасли в шуме камыша.
Далеко за полночь принесли волокушу и стали запускать ее в окно-прорубь посреди плеса: шестом прогоняли подо льдом урезы, чтоб крылья охватили полукольцом реку. Медленно, от майны к майне тянули неводок подо льдом, поднимали со дна по-зимнему вялых рыбин, подтаскивали к большой проруби и, сведя концы, дружно начали выбирать сеть.
Вначале вытянули крылья, потом показалась мотня-ловушка. Она шла грузно, мужики исходили по́том, жилили руки. Но тяжесть эта и усталость не удручали, а лишь радовали: не напрасно рисковали, не впустую поработали.
Улов и вправду был весомый. Всю мелкоту побросали обратно в прорубь, на льду остались крупные сазаны, судаки-хлопуны да несколько метровых сомов.
Пока вытряхивали из волокуши донное травье и споласкивали ее, рыб прихватило морозцем, и ее, пылкую, нагрузили целый воз — будто дрова в поленницу. Волокушу забросили наверх и, прежде чем тронуться в обратный путь, тут же, у яра, закурили.
— Порадуется Ляпаев-то, — с мстительной ухмылкой чуть слышно сказал Макар. — Думает, есть догляд, а тут дырки во льду.
— Устроит чес стражникам. Это как пить дать, — согласился Илья. — Теперь скоро сюда не сунешься. Озвереют надсмотрщики-то.
— Гляди-гляди… — зашептал Кумар и метнул руку на низовый конец Золотой. — Стража едет…
Вдоль камышовой гряды, с низового конца плеса, стремительно приближалась санная подвода. Цокота копыт из-за ветра не было слышно и, если бы не зоркие глаза Кумара, неизвестные могли подъехать совсем близко.
— Можа, не они? — засомневался Макар.
— Кому же еще.
Кумар отбросил окурок в камыш, схватил вожжи и развернул меринка в ерик, побежал обок саней, но понял, что старый немощный конь с тяжелым возом от погони, если стражники приметят, не уйдет, и с разгона загнал подводу за камышовый завал. И мужики попрятались тут же, затихли.
…Резвый иноходец, впряженный в легкие санки, было уже проскочил мимо, но те двое, что сидели в них, все же приметили невеликие бугорки льда и свеженабитые лунки, резко свернули коня и остановились у чернеющей проруби, где совсем недавно работали ловцы. Соскочили с саней, долго осматривались по сторонам, возбужденно говорили о чем-то, но обловщиков не приметили и вскоре, нетерпеливо нахлестывая и без того быстрого иноходца, удалились в сторону Синего Морца.
— Стража, точно, — определил Илья.
— Ой-бай, не заметил, — обрадовался Кумар.
— Счас рыскать будут по селу, — сказал осторожный Макар.
— Да, нельзя домой с рыбой.
— К моему ата поедем, — решил Кумар. — Рыбу на острове спрячем, а?
— Дело. Айда к Садрахману. Это ты, Кумарушка, здорово придумал.
— Акл бар, — тихо ответил Кумар.
— Чево?
— Башка варит. И мерин молодес, не ржал, когда кобылу чуял.
— Отсмотрелся он на кобыл-то, ноги еле таскает.
2
В прошлые времена на острове, где одиноко живет Садрахман, была Торбаева тоня — рыболовня. Стояли добротные казармы для неводных рабочих, кухня, сушилка для одежды, вешала для неводов и прочее хозяйство, немудрящее, но очень нужное для ловецких дел. Затем река обмелела, как это часто случается в волжском понизовье, обезрыбела, и тоню перенесли на другой, более уловистый банк.
Поразъехался перелетный промысловый люд, а поскольку Садрахман был из местных и ему с сыном, снохой и внуками деваться некуда, он и остался в своей сторожке — Торбай уважал старика и не стал его трогать. За время работы на торбаевской рыболовне Садрахман вместе с Кумаром и Магрипой скопили немного деньжат, и их хватило на то, чтоб обзавестись собственной лодкой и сбруей.
И стали они рыбачить самостоятельно.
К тому же Садрахман побочный промысел имел — знал он травы, которыми богата волжская дельта, и умел ими пользовать людей. Научил Садрахмана этому редкостному познанию дед. Он говорил внуку: «От тыща болезней тыща трава есть».
Садрахман столько трав не ведал. Но почти все, что росло на камышовых островах, в луговинах, болотистых топях, в култуках — и на воде и под водой — все умел использовать. Заболеет кто лихорадкой — настой из семян желтой кубышки приготовит. Этот же настой при болезнях желудка давал и даже бабам промысловым от зачатия, чтоб грех прикрыть. Простудится ребенок или боли внутренние почует — ромашковым отваром поит, ревматизмом кто мучается — натирает суставы настойкой бодяги в керосине.
Каких только трав нет в Садрахмановой землянке: пучки одуванчика и подорожника, базельки лесной и безниги — паслена. Самым же редким снадобьем считались твердые, как гальки, семена лотоса — от немощи сердца. За ними даже из города приезжали.
И конечно же перепадало Садрахману. Цены за излечение он не назначал и даже вроде бы отказывался. Но страждущие охотно отдавали кто сколько мог — и гривенники, и рубли, а случалось, и больше.
Скопил Садрахман еще немного деньжат и просторное глинобитное жилье для Кумара с детишками в Синем Морце поставил: пусть балашки-внучата средь людей растут, а не дичают на острове. Сам же одинцом остался в односелье, в сторожке. И сын Кумар звал, и сноха Магрипа упрашивала — не согласился, не захотел оставлять могилку старухи. Наказал Кумару: когда умрет, чтоб рядом с матерью захоронили.
Рассудил Садрахман по-своему правильно: привык к острову, двадцать лет, почитай, на нем. И трав вокруг собирать — не собрать. Каждую только в нужный день и только в нужный час надо сорвать — иначе никакой от нее пользы, никакой ей цены. Живя на острове, надеялся старик помогать сыну, потомство у него богатое, многодетный он, трудно в односилку. Пока подрастут — волос на голове вылезет.
А прожить, подумал старик про себя, проживет, привычный ко всему. А и то: одна голова не бедна, а коль и бедна, так одна.
Одиночанье вначале было тягостно. Но только малое время. Потом обошлось. И даже нравилось: никто не отвлекает, живи как душа подсказывает.
Суеверный люд и прежде опасался знахаря, а как одинцом на острове остался, стал откровенно побаиваться: без крайней нужды к нему не заглядывал, если уж недуг какой припрет — тогда шел.
К нему, Садрахману, и подъезжали обловщики после того, как их спугнули стражники. Остров лежал несколько в стороне от дороги, связывающей Золотую с Синим Морцом. И обловщики разговаривали в полный голос, ехали без утайки, в открытую, потому как глубокой ночью никого здесь не могло быть, а если по случайности и лежал чей-то путь мимо Садрахмановой землянки, путник наверняка свернул бы в объезд.
Садрахман знал про ночной облов, потому как сам следил за охранщиками, сам навел мужиков в эту ночь, на Золотую. Оттого ему не спалось сегодня. Ближе к полночи выпил малость отвара из семян одуванчика — от бессонницы. Но и это не помогло: перекатываясь с боку на бок, томился мыслями.
Поэтому он задолго до того, как ловцы подъехали к его жилью, учуял их приближение, немало подивился тому, но оделся и встретил их на яру. Кумар что-то коротко сказал ему по-казахски, старик все сразу понял.
— Ой-бай! — Было в этом его возгласе и удивление, случившимся, и радость за исход дела, и опасение за то, что еще может произойти.
— Плох дел! — уже для всех сказал Садрахман. — Мой есть погреб, туда кладем рыба… — Он взмахом руки позвал мужиков за собой и не оглядываясь пошел от жилья в сторону, где прежде стояла тоневая кухня. У старика было там потайное место, знакомое только Торбаю, повару, и ему, Садрахману. Торбай ныне далеко, говорят, к Гурьеву откочевал, к молодой жене, повар — человек пришлый, с верхов, — тоже подевался неизвестно куда. Вот и выходило, что, кроме старика, никто не знал про то спрятное место, где в прежние времена Торбай хранил на льду от людских глаз редкостную рыбу или баранину про запас.
Погребок был выкопан на низком берегу, с весны в нем скапливались подземные воды; зимой открывали лаз в него, и там образовывался толстый слой льда, которого хватало до середины лета. Ближе к оттепели, чтоб не припекало, Садрахман забрасывал сверху погребок снопами камыша, тем самым оберегая его и от солнца, и от глаз людских.
В этот погребок и сложили обловщики свой богатый, по безрыбному времени, улов. Туда же бросили волокушу, а сверху тайник заложили камышом.
— Че, может, домой? — неуверенно спросил Макар.
— Нельзя, — сказал Садрахман голосом, не допускающим возражения.
Илья понимал его опасения и был согласен с ним.
— Чайком бы сейчас побаловаться, — мечтательно сказал он.
— Чай можно, — так же серьезно отозвался Садрахман, будто разговор шел о важном и опасном деле.
— Чай не пить, откуда сила? — озорно отозвался Кумар. Он был рад, что все окончилось ладом, а потому и балагурил:
Чай пьем — крыла летаем. Водка пьем — свиньям лежим. Деньги есть — с чужом гуляем. Денег нет — домой бежим.3
Последние дни Андрей почти не бывал дома: на ленивой промысловой лошаденке мотался по волости, объезжая Ляпаевские промысла. Под конец поездки все в его голове перепуталось: почти повсюду казармы, сушилки, лабазы, выхода, плоты, чаны и прочее хозяйство были скроены на один и тот же манер. Хорошо, что записи вел, иначе перепутал бы за милую душу.
Схожесть была не только в строениях, но и в условиях, в которых жили рабочие, вернее — предстояло жить с начала пути. Казармы — везде в три яруса койки — давно не ремонтированы, пакля из пазов повывалилась, в щелях бездомной собакой воют ветра, половицы расшатаны — того и гляди, ноги поломают. И конечно же никакие нормы для заселения и не предусмотрены, и не выдерживаются. На иных промыслах нет бань, на иных — сушилок.
Андрей, едва вернулся, составил записку Ляпаеву: надо строить новые казармы, чтоб не было тесноты, поставить хотя бы временные баньки и сушилки, купить аптечки, бачки для кипятка, оборудование для медпункта.
Мамонт Андреевич был дома, зазвал в горницу и внимательно изучал бумагу. Потом поверх очков так же изучающе глядел на Андрея.
— Казармы, стало быть, строить…
— Тесно, грязно. В случае эпидемии страшно подумать, что будет.
— Болезнь, она и в хоромы проникает, — осторожно возразил Ляпаев.
— Но в хоромах с ней бороться легко, — настаивал Андрей. — Корова иль лошадь, к примеру, и та в отдельном закутке, а тут… люди.
— Казармы чтоб новые поставить, большие деньги нужны. А где их взять? Нет, ты не подумай, что я прибедняюсь. Деньги у меня есть, и немалые. Но всажу я все их в стройку, а чем дело вести, а? За рыбу ловец деньги с меня потребует, а не слова. Да и промысловым людям платить надо наличными.
— Но не могут же люди дальше так жить.
— Жили! И будут жить. А не хотят — я их не неволю. Сами валом валят.
— А вдруг не покажется им тут и уйдут, — злые огоньки мелькнули в зеленоватых глазах Андрея.
— Как это уйдут? Куда им деваться?
— Ну, а все же, возьмут и откажутся у вас работать?
— Хе, мелешь, что ни попадя. Иль у других лучше? — усмехнулся Ляпаев, но в глазах отразилась тревога. Что-то непривычное и непонятное было в крепкожилинском парне. Подумал: а не зря ли взял его на службу? Но мысль эта быстро забылась, потому как в голове появились иные мысли, давно знакомые и очень приятные — о деньгах. Были бы они, а работники найдутся. Слава богу, постоянные недороды в верхах ежепутинно сгоняют сюда толпы людей. Чудак, право же, надо додуматься — «уйдут». А куда им деваться? Некуда деваться. Тут все продумано. Вслух сказал:
— С казармами да банями пока недосуг заниматься. Обождется. А вот пункт свой оборудуй. И бачки купим. Пущай кипяток пьют. Не водка. Тут еще аптечки. На што они-то? Заболеет кто — поедешь.
— Но первая помощь нужна. Порезался кто, руку уколол, или плохо кому. Людей я подучу, чтоб могли помочь. В аптечке — самое необходимое: сердечные, от головной боли, от…
— Ладно, — не дослушал Ляпаев. — Бумажку эту оставь. Распоряжусь купить, што надо. А Резепу скажи, чтоб завтра же плотники соорудили стол, койку… Что еще? Пелагея! Глафира! Кто там. Чайку бы подали.
— Не беспокойтесь, Мамонт Андреевич, — Андрей встал.
Вошла Глафира, обрадовалась гостю.
— Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Что же это вы?
— Дело есть, прошу простить, — он откланялся и ушел.
Глафира неподдельно огорчилась. Ей все эти дни хотелось видеть его, поговорить о чем бы то ни было.
Ляпаев же сидел насупленный. Он даже не поднялся со стула. Ему было неприятно, что этот молодой человек ведет себя так неосторожно: решительно отказался от чая, предложенного хозяином. Другой бы радовался вниманию, а этот…
— Гордыни со стог, а ума с пучок. — Это Ляпаев со зла. Он учуял в Андрее человека своенравного и далеко не робкого.
— Зачем же так, дядюшка, — мягко возразила Глафира — ей Андрей не показался надменным. Она втай подумала, что он стесняется ее, не иначе. И было оттого ей приятно. — Он застенчивый.
— Не сказал бы, — в задумчивости отозвался Ляпаев. — Ну да шут с ним. Впрочем, — он с интересом посмотрел на Глафиру, — а в женихи он сгодился бы, а?
— Скажете, право же.
— Отчего бы нет, — оживился Ляпаев. — Молод, не совсем, право, красив, да мужик — не баба. В нем не красота главное. Умом, кажись, бог не обделил. И характер что надо!
— Вы же сами только что насчет ума надсмехались…
— Я могу и посмеяться. А ты привечай его. Бог даст, може, и судьба. Я тебя не обижу, без приданого не оставлю.
И вновь оба подумали о том постыдном, что произошло меж ними в городе. Связав его слова о приданом со случившимся, Глафира ушла в свою горенку.
Ляпаев приметил изменение в ее настроении и, конечно же, понял, почему оно произошло. Он уже раскаивался, что привез ее к себе, мог бы просто пересылать ей деньги в город. Вдали и забылось бы скорей, и не думалось так часто. А вот тут она каждочасно перед глазами, напоминает о том, корит и взглядом и просто тем, что она здесь. Всерьез подумалось Ляпаеву: да, надо ее пристраивать. И грех тяжкий замолить, и с глаз чтоб подальше…
4
Ольга была уже на выданье, и Гринька присматривался к сельским парням, своим сверстникам, прикидывая, кто мог бы сосватать сестру. Но ее никто замуж не звал, потому как сельский народ рассчитывает не только работящую сноху в дом взять, но и приданое чтоб имелось: одежонка, постель, из домашнего скарба кое-что, а если удастся — и из живности.
У Ольги, кроме молодости и здоровья, ничего не было. И хотя по деревенским требованиям к молодой это уже немало, сватать, однако же, не торопились.
Гринька переживал, ко тревогу свою никому не выказывал. А Ольга будто и не помышляла о своей судьбе: на улицу вечерами не ходила, с парнями не гуляла. Работа, дом — больше ее, кажется, ничего не интересовало. Был бы дом, как у людей, а то — клетушка в казарме.
Но девье иной раз собиралось в ее тесной каморке — песни попеть за вязаньем, семечки тыквенные полузгать. Тогда они дружно выпроваживали Гриньку в село, к товарищам своим, а сами устраивали веселые посиделки, рассказывая были-не́были, секретничая промеж собой про деревенских ухажеров.
Росла Ольга вольной, общительной, неробкой — вся в мать. И даже сиротство не сломило, не скрутило ее. Она быстрее Гриньки освоилась на новом месте, держала немудрящее свое жилье в безупречной чистоте.
Из сгоревшего дома Гринька каким-то чудом сумел вынести старое, в рамке из черного дерева, трюмо. Было оно дорого им обоим, как память о прошлом, совсем еще недалеком, но навсегда ушедшем. Ольга поставила трюмо у глухой стены и всегда, когда это можно было, держала перед зеркалом немудрящие полевые цветы — от апрельской пахучей базельки до поздней, стойкой к утренним заморозкам сиреневой ромашки.
Работу девушка любила. В путинные горячие дни она кроме основного дела подрабатывала и на разделке рыбы. Деньги, правда, не большие, но Гринька кое-что все нее отложил — приработок сестры он не тратил, копил на случай ее замужества.
Была Ольга доверительна к людям. Даже Резепа в первое время считала добрым и порядочным человеком, была с ним, как и со всеми, улыбчивой, ласковой. Плотовой понял ее отношение по-своему, и, не вернись Гринька домой вовремя, неизвестно еще, чем бы кончилась вся эта история.
Теперь Резеп даже не замечает Ольгу — до́бро Гринька отучил его, да и сама Ольга на совесть постаралась, отваживая неудачливого любовника мокрой половой тряпкой.
В первый раз она увидела Андрея из окна казармы, когда он ходил в конторку к Ляпаеву договариваться насчет работы. Это уже после от брата она узнала, что привело его на промысел. Гринька же и сообщил, что Андрей будет работать тут и что от казармы ему отгородят помещение для медпункта.
Вскоре и правда Резеп привел двух плотников. В торцовой части казармы они поставили загородку и пробили отдельную дверь. А еще через день заявился Андрей и велел плотникам сколотить стол, скамейку и койку.
Поначалу он ничем ей не приглянулся, и запомнила она его просто оттого, что появился на промысле новый человек, и даже не признала в нем младшего сына тихой и доброй тетки Меланьи. Но в тот день, когда Андрей распоряжался плотниками и, проходя мимо нее, поздоровался, она оробела от его пристального взгляда и весь день и последующие дни не могла забыть его.
Вскоре, однако, он зашел к ним, когда она готовила обед — жарила окуней. Постучал, а переступив порог, вежливо поздоровался.
— Здравствуйте, — она от растерянности уронила нож, и прежде чем успела опомниться, он наклонился и поднял его с пола.
— Нож упал — гость заявился. Одна?
— Да. — Ольга пыталась скрыть смущение. — Гринька в выходах чанья зачищает. Там и найдете его. А то — сейчас обедать заявится.
— Ты мне, Оля, нужна. — Андрей почуял ее состояние и мягко улыбнулся. — Может, присесть дозволишь? Ноги-то не казенные.
— Ну конечно же, сюда вот, сюда, Андрей Дмитриевич. — Она обмахнула табуретку пестрым цветастым передником и поставила возле, а сама все гадала, по какому такому делу понадобилась.
— Ты знаешь, что я теперь тут работаю?
— А как же? — живо отозвалась она и сама же застеснялась ненужной порывистости.
— Садись-ка да слушай.
— Сейчас, я рыбу только посмотрю, а не то подгорит… — Ольга ножом перевернула на сковороде подрумянившихся окуней. — Че это я спонадобилась, Андрей Дмитриевич?
— В помощники хочу взять тебя.
— Да что вы, смеетесь.
— Я серьезно, Оля. На каждом промысле хочу обучить по человеку, кто мог бы оказывать первую помощь. Вдруг что случится…
— Дак кто же сумеет-то, окромя вас?
— И ты сможешь.
— Не, полы вымыть, прибраться — я с великим удовольствием. А в этом деле — ни бельмеса.
— Обучу. И как раны перевязывать, и что от сердца дать, от головы, — мягко настаивал Андрей.
Ольга слушала его несколько суховатый голос и все думала, что сейчас он скажет что надо и уйдет. А ей не хотелось, чтоб он уходил, и поэтому она не соглашалась, хотя давно уже согласилась и радовалась, что он будет встречаться с ней, учить ее. Она бы сейчас ни за что не смогла объяснить, откуда явилось в ней такое желание, но то, что это желание есть, было бесспорным.
— Не сумею я, Андрей Дмитриевич, — по-прежнему упорствовала она, желая оттянуть то время, когда он уйдет.
Он видел, что Ольга согласна, но не понял ее уловки и потому собрался уходить.
— Договорились, Оля. Вот Ляпаев привезет аптечки, и тогда займемся. И не возражай.
После его ухода Ольга метнулась к окну и краешком глаза посмотрела вслед ему. И весь этот вечер была рассеянна и отвечала Гриньке невпопад.
5
Вечерами, возбужденные предчувствием близкой весновки, мужики собирались у Кумара. Он всегда был рад людям, поил их чаем, занимал разговорами. Впрочем, затравка нуждалась лишь вначале, потом — слушай не переслушаешь: у каждого было что-то наболевшее, о нем говорили, советовались, спорили.
Сегодня и Андрей зашел на огонек. К Илье с Тимофеем поначалу наведывался, но мазанка была запертой, и тогда, догадавшись, куда девались мужики, он направился к Кумару.
Кумар, не ожидавший такого гостя, оторопел, но растерянность была минутной. Да и мужики приходу Андрея были рады, усадили на кошму, искусно скатанную самой Магрипой. Хозяйка подала чай — круто заваренный и чуть побеленный молоком.
— Вот чай у вас хорош! — отпивая мелкими глотками, сказал Андрей.
— Хорош-хорош, — согласился Кумар, все еще с недоумением посматривая на него, потому как он был для Кумара человеком не ихним, далеким и от его жизни, и от жизни таких, как Илья, Макар, и им подобных. Андрей — один из Крепкожилиных, и этим все сказано.
— Как себя чувствуешь? — спросил Андрей Тимофея.
— Все в порядке. — Тимофей затянулся дымом самокрутки, сказал после короткой паузы: — Очень благодарен вам, Андрей Дмитриевич. В долгу перед вами.
— Пустяки. Все мы в долгу друг у друга.
— Если бы так, — засомневался Макар.
— Больше болтают, а как дело — в кусты.
— Двуличных хоть отбавляй.
— Это верно, — подтвердил Андрей. — Насмотрелся я на таких в городе. И чем выше начальство, тем больше лжи и несправедливости. Раз к губернатору попал, с делегацией.
— Вон как!
— Это когда митинг полиция разогнала и знамя красное отобрали. Царь манифест о свободе издал, а они погром учинили. Ну и пошла делегация к губернатору.
— Допустили?
— Струхнул, стало быть. Ну и што?
— Принял. Извинился, мол, не знал я, что полиция нарушает закон… Велел и знамя вернуть.
— Во, сука, — не сдержался Илья. — Не знал он, как же! Давить таких гнидов надо.
— Надо, да силенок пока не хватает, рабочий класс в помощи нуждается. — Это Андрей. Он ждал вот такого случая, чтоб поговорить с мужиками откровенно. — Расправляются с нашим братом жестоко. В Москве, когда подавили восстание, что там творилось! — Андрей вытащил из бокового кармана пожелтевший листок бумаги. — Хотите прочту? Это листовка Астраханского союза РСДРП.
— Кого-кого?
— Есть такая рабочая партия, Российская социал-демократическая. Она и возглавляет всю борьбу.
— Читай.
Андрей подвинул ближе лампу и начал:
— «Товарищи рабочие! Смотрите! Новое кровавое преступление! Самодержавное правительство, защищая свою шкуру, прибегает к мерам, к каким еще не прибегало ни одно правительство ни в одном государстве. Когда рабочие пошли за свою свободу, за свою жизнь, когда рабочие вышли на баррикады ради спасения своей Родины, самодержавное правительство решило защищать интересы кучки эксплуататоров и расстреляло из пулеметов, сожгло в зданиях 32 тысячи рабочих…»
— Эх! — простонал Макар. — Столько людей…
— В рай собираются, а заживо в ад лезут.
— Он — дурак, да? — ужаснулся Кумар.
— Дай-ка, — Макар взял листовку у Андрея, повертел ее в руках. — Отпечатано, верно, стало быть, а?
— Дело не в том, — спокойно ответил Андрей. — Напечатать можно и заведомую ложь. Факты достоверны тут.
— Кто это неправду печатает? — не поверил Макар.
— Вот Кумар сейчас сказал, что царь дурак. А самому царю или хотя бы полицейскому он смог бы прямо в глаза…
— Ты что, тогда — турма, — испугался Кумар.
— Точно — тюрьма! А в царском манифесте сказано о свободе слова и прочих свободах. Выходит — ложь. А напечатали! Так-то вот, Макар.
Мужики подавленно молчали, каждый по-своему переживал услышанное.
6
Давным-давно подмечено: бывает порода людей, которая, попадая «из грязи в князи», преображается. Примерно то же произошло с Глафирой. Забитой бедной родственницей попала она в ляпаевский дом, несказанно радовалась хорошему куску, теткиным обноскам, случайно сказанному ласковому слову, жалостливому взгляду…
Но день за днем она обживалась в доме, привыкала к вниманию и Пелагеи, и дворового работника Кисима, и ляпаевских гостей. Да и сам Мамонт Андреевич, чувствуя вину перед Глафирой, баловал ее.
Природа не обделила Глафиру сметкой, и вскоре она уяснила для себя, что из бедной родственницы может стать хозяйкой дома — все способствовало тому. Дядька конечно же старый для нее, да и грешно это. Отмолить бы хоть старые грехи. Но вот Андрей — другое дело: молод, мягок характером, а значит, можно его в руках держать. Дядя для нее постарается средствами, а если и понастойчивее с ним, построже, то и совсем раскошелится. Пожадничать-то пожадничает, это уж точно, но побоится отказать. И отпишет ей, что она пожелает.
Все эти мысли были не совсем приятны, но в жизни она видела столько гадкого и грязного, что нынешние рассуждения казались почти безвинными.
Глафиру несколько настораживала Пелагея. С виду тихая, откровенная и приветливая до ласковости, она что-то не договаривала, утаивала от Глафиры. И дядька к ней был чуточку внимательнее, чем полагалось между хозяином и экономкой. Тут что-то крылось, но что — Глафира не могла выяснить, так как отношения дяди и Пелагеи не выходили за пределы дозволенного между неблизкими людьми. Но поскольку сама она жила некоторое время в разврате и теперь трудно было ей представить иные отношения между мужчиной и женщиной, то и в отношениях между дядей и Пелагеей видела эту нечистоту.
А раз так, думалось Глафире, то дядька может всерьез увлечься — в старости, говорят, мужики падки до молодых — и тогда не ее слово, а слово Пелагеи будет веским и решающим в доме. Этак можно остаться без ничего — вот к какому выводу довели мысли Глафиру, и она поняла, что надо действовать — неспешно, тонко, умно…
Андрея она встретила на промысле, куда пришла не без надежды увидеть его. Зайти в медпункт постеснялась, прогуливалась на плоту, глядела на отпревающий, залитый солнцем синий лед в прососах. С реки наносило свежестью, пахло талым льдом.
Казарма стояла рядом, и Андрей, выйдя из дверей лечебницы, увидел Глафиру, поздоровался.
— День-то какой! Весна, а? — восторженно заговорила она, и Андрей счел неприличным не подойти к ней.
— Как ваши дела, Андрей Дмитриевич? Оборудовали пункт? — заинтересованно спросила она.
— Устраиваюсь помаленьку. Все убого, конечно, бедновато, но для начала терпимо. Прежде и того не было.
— Хорошо — людям помогать, — мечтательно сказала Глафира и, прислонившись спиной к перилам, откинула голову назад. Русые волосы ее отслоились от плеч, солнце, золотя, путалось в них. — У меня вот никаких занятий, кроме домашности.
— Учиться вам надо.
— Что вы, Андрей Дмитриевич. Мне уже за двадцать, почти старуха, а я и грамоты не знаю.
— Учиться не поздно.
— Опоздала. Вот и хожу без дела, смотрю. Все заняты, а я как неприкаянная.
— Замуж выйдете и привыкнете, — улыбнулся Андрей.
— И вы про то же. Будто с Мамонтом Андреичем сговорились.
— Уже подыскал жениха?
— Да что вы, Андрей Дмитриевич… — Она изобразила на лице смущение и, увидев идущую к реке Матрицу с коромыслом, перевела разговор: — А казахов тут много. Вчера у дядюшки в конторе была. Пришел один в сторожа проситься. Страх божий: нос провалился, глаза слезятся, хромает… — В голосе ее звучала неприкрытая брезгливость. Она даже телом вздрогнула. — Он, говорили, на вашем промысле прежде работал.
— У меня нет промысла, — резко оборвал ее Андрей и побледнел. — Это отец и брат купили.
— Не все ли равно. Крепкожилины ведь.
— Нет, не все равно, — Андрей говорил жестко. — А с Максутом, это вы его видели, отец и брат поступили бесчеловечно.
— И правильно, что уволили. Разве рядом с ним приятно?..
— Но разве это его вина? — воскликнул он. — Как вы можете это говорить? — Андрей испытующе посмотрел на Глафиру и не увидел на ее лице ни тени смущения. И с глаз будто туман сошел: понял вдруг, что за повседневной вежливостью, деланной улыбкой скрывалось бессердечие, душевная пустота. — А вдруг со мной такое случится или с вами?
— Сохрани господь, — искренне испугалась она.
— Не всех хранит, как видите. Говорят: правда живет у бога. Куда он ее дел? Для кого хранит? Небось дядюшка ваш прогнал Максута?
— А разве он мог иначе. Ему нужны работники, здоровые люди.
— Чтоб ишачили на него.
— Почему вы так? — удивилась Глафира. — Он обидел вас?
— Дело не во мне. И слово не то. Такие, как ваш дядя и мой отец, не обижают, а грабят. И не втихую, не по-воровски, а в открытую, нахрапом. Это, в общем-то, нетрудно, если потеряна совесть. Пока человек здоров, выжимают из него все, что можно. А немощные и убогие — пусть побираются.
— Ужас! Что вы говорите…
— Ин-наче н-не могу, — от волнения голос его стал прерываться. — Извините.
Андрей быстрой и нервной походкой пошел в селенье.
«Боже, что за человек! — думала Глафира, глядя ему вслед. — Какие жестокие глаза! Или он завистник, или же тронутый, не иначе. Вот так, невзначай, свяжешь судьбу с этаким, и конец всему. Не дай и не приведи господи».
7
Илья никак не мог забыть рассказ Андрея. Как и всех, его поразила людская жестокость. Десятки тысяч человек гибнут! А за что? И тут, в Синем Морце, живут не одинаковые: и богачи есть, и голь перекатная. Ее-то куда больше, а вот терпят нужду, унижение. Слова боятся сказать, потому как за богачей власть, а с ней шутки плохи..
Вот если бы все враз кулаки сжали. Сигнал бы такой для всей России подать: мол, вставай, люд, бей паразитов. Да кто подаст сигнал такой? Нешто партия — так, кажись, Андрей говорил. А еще вроде бы рабочей назвал ее.
Странно Илье: почему не крестьянская или там не ловецкая. Может, оттого и восстают только рабочие? Надо Андрея порасспросить, решает Илья. Он-то уж точно знает. Чует Илья: Андрей много знает, да мало байт. Таится. Только Илью на мякине не проведешь.
Порывистая досада терзает его; отчего это по деревням и ловецким селеньям, как и встарь, терпят кривду, не дадут по шеям разным Ляпаевым. Доколе это?
Мыслей разных в голове копошилось много, все не до конца ясные, и оттого невтерпеж Илье. Он долго не мог заснуть в ту ночь. А наутро пошел к Андрею, но не застал его дома. На Ляпаевский промысел идти не хотелось, и он до полудня хлопотал по двору, зная, что Андрей будет возвращаться мимо его жилья.
Срочных дел не было, однако же Илья искал и находил дело, потому как в любом подворье всегда есть к чему приложить руки. Он для начала достал с повети метлу и начисто подмел захламленный двор. И сразу же стало удивительно приятно на душе.
Потом решил заменить подгнившую стойку ограды. Камышовая огорожа покосилась, и пришлось ее подпереть жердью и только после этого выкопать источенный червями столб.
За этим занятием он и приметил Андрея, торопливо шагающего от промысла. Илья поманил его.
Был Андрей чем-то взволнован и, чтоб рассеяться в мыслях и успокоиться, взял лопату и начал срубать землю по краям ямки, расширяя и углубляя ее, а Илья выволок из загороды толстую, сучковатую в комле, лесину. Ошкуривая ее, он спросил:
— Ты че это?
— А-а! Закурить есть?
— Найдем. — Илья вогнал топор в жесткую перевитую древесину, и достал кисет. И Андрей отложил лопату.
— Понимаешь, — затягиваясь куревом, сказал он, — тут с одной особой поговорил.
— С Ольгой, што ли? — спросил Илья, прикидывая, с кем он мог встретиться на промысле, и подивился: почему это, разговаривая с Гринькиной сестрой, Андрей мог так нервничать.
— Да нет, ляпаевская сродственница, из города которая.
— Видел, видел. Кудрявая этакая.
— Она. Типичная мироедка, от безделья задыхается. А туда же, в одну упряжку с Ляпаевым…
— Плюнь-ка ты на нее… — Илья присел на бревно, — тута важнее разговор есть. Садись-ка вот.
Андрей бросил взгляд через покосившуюся изгородь, присел рядом.
— Ты вот что обскажи мне: как нам ловецкую партию создать? В Синем Морце бы, а?
— Какую еще ловецкую партию? — подивился Андрей.
— Ты же вчерась называл партию рабочей. А крестьянской нет, или вот ловецкой — для нас, рыбаков.
— Партия это, Илья, едина и для рабочих и для крестьян. И она одна на всю Россию.
— Скажи, Андрей, только без вранья, — Илья положил тяжелую руку на его колено, — ты из этой самой партии?
Андрей затянулся глубоко, отчего щеки его провалились, бросил окурок под ноги и затер носком сапога, в песок.
— Тебе, Илья, я верю. А потому и не буду скрывать: да, я член РСДРП. И прислан сюда с заданием, а каким — позднее расскажу. Тебе я говорю это потому, что рассчитываю на твою помощь. Мужик ты честный, товарищ верный. И мыслишь правильно, классовое чутье в тебе есть. Вот так, друг ты мой.
— Это очень опасно?
— Да. Можно угодить в тюрьму, на каторгу. И даже жизнь отдают… Надо знать, на что идешь. А теперь довольно про это. Тимофей идет.
— Ему нельзя?
— Я доверился только тебе. А чужую тайну надо хранить.
Они подняли лесину и установили комлем в ямину. Подошел Тимофей.
— Обед готов, кончай работу. Уха жирна — не продуть.
— А сазаны — во! — Илья развел руки чуть ли не на полную сажень. — С Золотой. — Он подмигнул Андрею — мол, и я тебе откроюсь.
8
Еще по льду, неделю с лишним назад, объезжая Ляпаевские промысла, Андрей завернул в Маячное. В старину тут, на взгорке, стоял средь камышей одинокий маяк и жил бобыль-маячник. Мало-помалу остров заселялся беглым верховым людом. И из соседних сел сюда, ближе к морю, кочевали рыбаки. Так разрослось сельбище и по маяку получило свое название.
Максута он разыскал не сразу. Спросил встречную женщину, что шла на реку с пустыми ведрами, она Максута не знала. Потом повстречался средних лет рыбак. Он посмотрел на Андрея хмельными глазами, удивился:
— Ха! С каких это пор Максут спонадобился заезжим?
— Надо очень. Не знаете ли, где найти его?
— А ты кто будешь-то? — в упор, неучтиво, спросил незнакомец.
— Крепкожилин я, младший сын Дмитрия Самсоныча, — неосторожно ответил Андрей.
— Мать вашу… — последовало грубое ругательство. — Покалечили мужика, а теперь… — Он отвернулся и ушел.
Вот так! Каждому не объяснишь, что к чему. Раз Крепкожилин, терпи.
Андрей зашел в бедную казахскую мазанку — здесь-то наверняка должны знать. Но и там не порадовали его. Старая казашка в белом тюрбане на голове сказала, что Максут жил у ее соседей. Стал было поправляться, ходил к Ляпаеву, да вдруг опять занедужил. А вчера его забрал к себе на остров Садрахман.
Андрей знал, что казахи старую женщину уважительно называют чиче́, и он так назвал ее, чем она была несказанно довольна.
— Садрахман знаешь?
— Знаю.
— Дорога на остров найдешь?
— Спасибо, чиче́, найду.
— Садрахман иди, Максут там.
Коротким путем по перекатистым ерикам было опасно, и Андрей поехал в объезд, через Золотую. Проезжая по ней, увидел на льду свежие лунки, оплывшие бугорки мелко битого льда и понял — обтягивали яму. Он еще не знал, что сделали это обловщики, а потому и не придал увиденному никакого значения. Обтянули — и обтянули, всегда так делают.
Садрахмана приезд Андрея озадачил и всполошил, ибо он уже был наслышан, что младший сын Крепкожилиных нанялся к Ляпаеву. А коли так, то выходило, что Ляпаев пронюхал про облов и причастие Садрахмана к облову и прислал Андрея.
Так подумал старик, увидя подъехавшего Андрея.
— Салям, старик.
— Здоров, здоров, — скороговоркой отозвался Садрахман. — Куда дорога?
— К тебе, старик.
— Хорош, хорош, — еле слышно в расстройстве бормотал хозяин. — Землянка ходи, чай пьем.
— Чаек не помешает, надрогся я. Максут как тут?
— Откуда знаешь?
— В Маячное заезжал, сказали, что ты увез.
— Вчера возил, тут ти-их, кормим мала-мала, лечим…
— Ну и как лечение идет? Поправляется больной?
— Землянка ходи, Максут гляди.
В землянке Андрея поразили не бедность и убогость жилища — на такое он насмотрелся вдоволь. Да и что надо одинокому старому человеку. Половину землянки занимала печь с плитой и развалистым котлом. Над плитой — полка с посудой. В переднем углу, прямо на земляном полу — большая кошма, подушка и видавший виды тулуп. Накрывшись с головой, под ним кто-то лежал — видимо, Максут.
Удивило Андрея обилие засушенных трав и кореньев. Они пучками висели на гвоздиках вдоль стен и под самым потолком.
— Мой лекарства это, — пояснил Садрахман, увидев, с каким любопытством осматривается нежданный гость.
— Понимаю. — Андрей слышал, что старик пользует травами, но не предполагал, что занимается ими так всерьез.
Под тулупом заворочался и, отбросив его, на кошму сел Максут. Андрей никогда не видел его, но догадался — он. И сразу же понял, что дела Максута плохи: лицо полувысохшее, мертвенно-желтое.
Максут молча покивал головой на приветствие Андрея, вопросительно посмотрел на Садрахмана: что, мол, за человек. Но Садрахман преднамеренно промолчал, сделав вид, что не понял Максута. Потому как скажи он, что это один из Крепкожилиных, неизвестно, как поведет себя больной. Но Андрей, на удивление Садрахмана, не стал скрывать себя. Раздевшись и стянув с ног валенки, присел на кошму, за руку поздоровался с Максутом, назвался:
— Андрей Крепкожилин. Дмитрия Самсоновича сын младший.
Нахмурил брови Максут, снизу исподлобья посмотрел на гостя раскосыми темными, как густая настойка шалфея, глазами, но промолчал.
— Я приехал поговорить с тобой, осмотреть… Я врач. И если смогу, полечить тебя… вот вместе с Садрахманом.
Прослышав такие слова, хозяин порадовался. «Какой умный человек, — подумал Садрахман про гостя, — не ругает Садрахмана за травы, вместе, говорит, лечить будем». Захлопотал он на радостях, залил старенький круглый самовар, раздул огонь, заварил уху.
Андрей меж тем осмотрел ногу, опухоль уже сошла, осталась лишь синева. Максут с палочкой мог ходить по землянке.
Потом Андрей попросил снять рубаху, долго слушал, прикладывая холодный прибор то к спине, то к груди. Максут от нервности всякий раз вздрагивал и с недоверием косился на две колеблющиеся резиновые трубочки, идущие от его груди к ушам Андрея. В душе он верил только Садрахману с его травами, то нестерпимо горькими, то безвкусными, то тошнотворно-сладкими, то терпкими, вяжущими… Лечение травника было ощутимо, а поскольку в него верили, то и действенно. А эти железки, резинки — одно баловство. Так думал Максут, но ни единым словом, ни единым знаком не показывал Андрею свое недоверие.
Осмотр подтвердил догадку Андрея: туберкулез был самой запущенной формы: поражены оба легких и даже сердце: одышка, вены дряблые — нет наполнения кровью.
— Дышим когда — грудь аурад, — сказал Максут.
— Грудь болит, — перевел Садрахман. — Жар всегда, кровь горла идет. Плох дел.
Растерялся Андрей: действительно, плохи дела и помочь он не в силах. Лекарства в таких случаях просто бесполезны. Хорошо еще, здесь тишина, воздух чистый — настоящий санаторий. Но что делать? Чем помочь?
Как спасение — заговорил Садрахман:
— Мы ему, когда грудь сильно ломит, ромашка отвар даем, горла если хрипит, чай варим из подорожник. Солодский корень знаешь? Вот, корень тоже чай кладем. Кровь пойдет — перец настойка делаем. Видал такой высокий трава? — Садрахман показал себя по пояс, прошел в угол и снял со стены длинный пучок сухой остролистой травы с тонкими кореньями. — Водяной ет перец. В рот берешь — огонь. Мала-мала тогда Максут легко…
Максут сидел на кошме, по-азиатски подобрав ноги под себя, и согласно кивал.
Дивился Андрей познаниям старика и стыдился своей беспомощности. Помнит, им читали курс по лекарственным травам. Да, называли и ромашку, и подорожник, и мяту, и перец водяной, и многое другое. По молодости лет студенты не всерьез принимали этот курс. А вот Садрахман своим умом и опытом предков дошел до такого познания… Андрей даже не задумывался — а те ли травы использует старик? Он сейчас и не мог бы ничего сказать Садрахману — все перезабыл. Да и какое это имеет значение в данном случае. Максута вылечить уже невозможно, остается лишь облегчать его страдания, поддерживать, что и делает Садрахман.
…Всю эту историю Андрей вспомнил, когда получил от Ляпаева первый свой заработок. В отличие от города деньги здесь тратить не приходилось, поэтому он половину отдал матери, а половину отнес Кумару — для Максута.
…Кумар сначала удивился поступку Андрея, долго уговаривал его взять деньги назад, потому как, объяснял он, никаких денег на острове Максуту не нужно.
Однако Андрей настоял на своем.
9
Резеп считал себя кровно обиженным Ляпаевым, хотя вины своей в душе не отрицал. Но только в душе. А перед хозяином клялся-божился, что недосмотрел, что его обманули, подсунули неводную дель залежавшуюся, чуть тронутую сыростью.
А заварил кашу Кисим, чтоб ему, одноглазому, ни дна ни покрышки. Усмотрел порчу, донес. Как пес верный сторожит добро хозяйское, без спросу копейку не упрячет. Верит, дурень, что хозяин отблагодарит. Как же, одарит, жди у моря погоды…
Про себя же считал, что греха большого не допустил, потому как через два-три годика пенька́ так и этак сгниет и нужно будет покупать новую. Только и дело-то, что на одну путинку меньше невод послужит. Но и в таком разе изрядный барыш даст хозяину. Что по сравнению с ним та капля, которая перепала Резепу во время последней купли-продажи?
Так нет, разнос учинил, пригрозил удержать в путину половину обговоренной заработной платы. И удержит! Еще как удержит. Сам небось в ресторане за один вечер больше промотал, так ничего, себе позволить может, а если Резеп лишний червонец к своим накоплениям пристегнул, тут — караул!.. грабеж!..
Ну ничего, перемелется — мука будет. Коль он так жмет, Резеп на приеме рыбы может выкроить. С утра до вечера у весов Ляпаев не просидит, кишка тонка. Тут Резеп и вернет свое. Да и недолго осталось под хозяйским окриком жить. Путину-другую перетерпит — да и помашет Резеп хозяину ручкой, для начала прикупит завалящее промыслишко. Тогда уж он развернется, покажет, как из копейки рубль делать. Приноровился он к рыбному делу, набил руку, знает, как ловца провести, на чем покупную цену сбить, продажную, наоборот, поднять.
А не то в город подастся. Резепу нравится город: никто никого не знает, никому ни до кого дела нет. Только в рот палец не клади — два отхватят. Но Резеп не промах — с рукой оттяпает.
Окончательно Резеп еще не решил, но для верности, будучи в городе, присмотрел каменный дом с добротным сводчатым подвалом. Цена подходящая, к концу путины наскребет на дом. Да и хозяевам не к спеху, до лета согласились обождать. Дом на Косе, место выгодное — шумное и денежное — пароходские пристани рядом.
Наверху Резеп наметил ресторанчик открыть для купцов-толстосумов, а в подклети — харчевню для босяков. Очень доходное занятие — питейные заведения: пьяный народец и не слишком расчетлив и забывчивый не в меру — можно жить не тужить, изрядную наличность скопить. А уж копейку беречь Резеп умеет, тут ни Ляпаев, ни Крепкожилин ему и в подметки не годятся.
Так частенько предавался мечтам своим Резеп. Мечты эти не праздные, не пустая игра воображения. У него все рассчитано, под любую мыслишку дельную копейка припрятана. Тут все ясно как божий день.
Путаница всякий раз возникала, едва Резеп начинал помышлять о семейной жизни. Лет-то ему уже под тридцать, пора, если серьезно, семьей обзаводится. Говорят: холостому — хоть утопиться, женатому — хоть удавиться. Конечно, женатому мороки больше: семья, что ни говори, и заботы требует, и денег. Но надоело Резепу холоститься, к чужим бабам крадуном прислоняться.
У каждого парня, видно, наступает время, когда дальше одному жить невмоготу. И Резеп до такого предела дошел — понял, что пора семьиться. Но загребистый характер и тут диктует: свои, сельские, девки ему не подходят. Нужду с ними только плодить, а Резепу хочется, чтоб женитьба к его деньгам еще что-то привнесла. Перебрав сельских девчат, ни на ком не остановился, решил тогда, что в городе, как устроится, подыщет подходящую.
А тут Глафира появилась в Синем Морце. Сам даже ее привез. По тому, как с неказистым узелком ушла из своей квартирки, смекнул Резец, что за душой у девки ни гроша. Но за ней — Ляпаев. Тот сродственницу свою не обделит, это уж точно. Да и беречь накопленное и оставлять некому — безнаследный, один, что верстовый столб, в поле.
Впервые мысль эта застряла в голове Резепа, когда он вез Глафиру из города и в разговоре узнал, что она племянница покойной Лукерьи. Всю дорогу он приглядывался к ней, расспрашивал, примерялся, прикидывал, какая она будет жена.
Но в Синем Морце его задумки нежданно поломались. И всему виной — эта неводная дель, будь она неладна. Не ко времени ширнул бес под ребро, захотелось подзаработать. Ляпаев в сердцах и на масленицу не пригласил, даже на гулянье санное не взял, Кисима одноглазого водрузил на облучок.
Крепкожилиных зазвал на вечер, а его, своего плотового и доверенного, — нет. Не иначе, с Крепкожилиными хочет породниться. Андрея, поди-ка, на прицел взял. Так и уплывет невестушка ни за копейку. Что там было, доподлинно Резеп не знал, но последнюю встречу Андрея и Глафиры подсмотрел случайно — из окна своей комнатушки.
Сама прискакала на промысел! Невтерпеж, знать, замуж захотелось. Да вдруг — Резеп это сразу учуял — дело у них расклеилось. Андрей что-то говорил резко, потом ушел. Она осталась на плоту и все вышагивала взад-вперед, нервишки в порядок приводила.
А на второй день в конторку явилась не запылилась. И все к нему, Резепу, лепилась с разными вопросами: давно ли он на промысле, да где его родители, да часто ли он бывает в городе. Злой был на нее Резеп за Андрея, хотелось ему послать ее подальше, да переборол себя и сдержался, потому как понял, что неспроста все это. Очень вежливо отвечал ей, да все на «вы» ее, мол, не пенек деревенский и в обращении толк знает.
Так и зачастила. То при дядюшке придет, а больше норовила Резепа одного застать. Он осмелился даже, по привычке потянулся было к ней, руку этак на плечо, да она небольно шлепнула его и сказала озорно:
— Раньше времени нельзя!
И от слов ее Резепа в жар бросило: знать, можно ему надеяться, коль такие слова ему наслала.
Но вспоминал Ляпаева, и настроение портилось, как осенний день при норд-осте: не отдаст, ей-богу, не отдаст. После того как Золотую обтянули неизвестные обловщики, он и совсем рассвирепел, не подступишься. Стражникам устроил нагоняй, оштрафовал и повелел Резепу на Золотую охранщика присмотреть — тем двоим, что на низу, далеко, дескать, пущай за своими тамошними водоемами лучше присматривают.
10
Приезд Глафиры поначалу несколько успокоил Пелагею, потому как жить вдвоем в одном доме с еще не старым и видным одиноким мужчиной и нелегко и неприлично. Одно дело, если бы она была близка с ним. Пусть бы сельские сплетницы чесали языки сколько им вздумается. Но пока он не прикасался к ней, да и она повода к тому не давала, даже сама мысль, что могут быть грязные разговоры, и огорчала Пелагею, и отвращала от жизни в ляпаевском доме. Поэтому-то и порадовалась она появлению в доме Лукерьиной племянницы.
Мамонт Андреич нравился Пелагее. Ну и что, что не молод. На четырнадцать лет старше, да и ей-то не семнадцать — тридцать пятый. Самый спелый бабий возраст. Ляпаев был собой видный: лицо смуглое, волевое, брови кустистые, глаза цвета густого чая, богатая, с проседью, шевелюра. Был он немного тучен и медлителен, но это даже шло к нему — выказывало характер несуетливый и твердый.
Пелагея, когда Ляпаев заводил речь о ней и их будущей жизни, в душе радовалась, что вот такой видный состоятельный человек упрашивает ее, бедную, одинокую, стать женой. Но слова богатого вдовца и страшили ее: не серьезно это. Виданное ли дело, чтоб богач взял нищую, у которой ни кола ни двора. Потому Пелагея и не решалась согласиться, хотя ей хотелось стать его женой.
И пока они жили в доме вдвоем, Пелагею не покидало чувство настороженности, нервозности. Скованность эта мешала просто, по-бабьему посмотреть ему в глаза, перекинуться ничего не значащими словами и в его словах, обычных и простых, не искать иного смысла…
При Глафире Пелагея вздохнула свободно и, странное дело, повеселела, расцвела вся, раскованно и подолгу сидела за вечерним чаем, наблюдая вполглаза за Мамонтом Андреевичем. Каждый раз она находила в его лице и взгляде что-то новое, чего раньше не примечала. То вдруг поражалась, что у него по-женски длинные ресницы, то удивлялась его кучерявым, с проседью, еле приметным бачкам. И до того они ей нравились, что нестерпимо хотелось потрогать их.
Присутствие Глафиры давало ей возможность подолгу быть с Мамонтом Андреевичем, но оно же лишило возможности ей слушать, а ему говорить те слова, которые ему надо было сказать, а ей, Пелагее, приятно было слушать.
И потому, когда Глафира однажды ушла под вечер из дому и Пелагея осталась наедине, оба почувствовали, что сейчас многое может проясниться и разрешиться. Ляпаев сидел в кресле, у стола, просматривая «Астраханские ведомости», но читать ничего не читал, ибо мысли его снова вернулись к тем дням, когда они селились тут вдвоем. Ему даже подумалось, что, не будь Глафиры, все давным-давно разрешилось бы и жили бы они мужем и женой.
Убрав со стола, Пелагея ушла в свою боковушку, но оставаться одна не могла. И тут, в гостиной, куда она вернулась, не находила себе ни места, ни занятия хотя в рассеянности что-то передвигала, переставляла, поправляла…
— Сядь, Пелагеюшка. — Ляпаев отложил газету. — Что мечешься, ровно в клетке. Будто сторонний человек живешь. Весь дом твой, и я — твой. Только слово скажи. Или возраст мой помеха? Мол, седни обвенчался, а назавтра скончался… А?
Пелагея, присевшая было на край дивана, при этих словах снова встала, прошлась к окну и обратно. И вдруг остановилась за спиной Ляпаева, затихла. И он не шелохнулся, тяжело дышал, отчего вздрагивали окрылки ноздрей. Жилистые руки его, с колечками густых волос на суставах пальцев, застыли на столе, и весь он выжидательно напружинился, будто вслушиваясь в самого себя.
Сначала ему подумалось, что это только мерещится, и уже несколько потом он понял, что это не игра воображения, а явь: Пелагея со спины положила руки на его плечи и склонилась к его голове. С минуту он не мог шелохнуться или сказать что-либо. Сердце колотилось в груди, в голове начался звон, и в висках словно молоточками застучало. Ляпаев и сам поразился немало такому состоянию. Боясь спугнуть Пелагею, он скрестил на груди руки и положил свои ладони на ее — холодные и жесткие. Склонив голову, подался правой щекой к ней, и его будто обожгло — Пелагея мягкой пылающей щекой коснулась его лица.
…Они сидели рядышком в полутемной гостиной, без огня.
— Нехорошо-то получилось… — отводя взгляд, шепотом говорила она.
— Все хорошо, Пелагеюшка, — отвечал он тоже вполголоса и гладил ее руку своей. — Теперь ты моя жена, и все будет хорошо. — Ему нравилось это простое слово, и он с удовольствием повторил его еще раз: — Хорошо, Пелагеюшка.
— Вы пока никому ничего не говорите, Мамонт Андреич.
— Во-первых, обращайся ко мне только на ты…
— Как же… не смогу я.
— Привыкнешь. А во-вторых — завтра же объявлю всем, что ты моя жена.
— Нет-нет. Обождите, очень прошу. Да и Глафира…
— Чего ждать-то, Пелагеюшка? Мы ее в город отправим, хочешь?
— Не надо.
— Дадим денег, будем помогать.
— Как же она одна в городе-то? Сродственников у вас нет, зачем же гнать ее?
Во дворе хлопнула калитка. Заскрипели половицы на крыльце. Пелагея испуганно выдернула руку и метнулась к столу зажигать лампу.
11
Накануне богослужения Крепкожилины — отец с Яковом и Аленой — погрузили на телегу корзины с посудой, продуктами для закуски и всем остальным, что необходимо при застолье, и отбыли на промысел. Вечером старик вернулся домой, а Яков с женой остались в безлюдном хозяйстве. С нынешнего дня было решено не оставлять промысел без присмотра. Мало ли что может приключиться — недругов больше у человека, нежели близких. А недруг и есть недруг и завсегда может позволить недоброжелательство.
Когда ремонтировали промысел, в конторке, невеликой квадратной комнатушке в одно окно, Яков сбил из досок столик и неширокую койку.
В этой конторке они и расположились ночевать. Легли рано и долго не могли заснуть. Все вокруг было необычно: и запахи свежеструганного теса, и звуки, доносившиеся с реки и соседнего култука, — всплески рыб, жалостливые всхлипы лысух и гортанные выкрики поганок, кряканье диких уток, редкое гоготанье гусей, шорох камышовых зарослей.
В окошко заглядывала полная луна. Алена стыдливо натягивала на грудь одеяло, жалась к мужу. Он лежал к ней боком: левая рука под ее головой, правой ласкал ее гладкое тело.
— Яш, — шептала Алена. — Ты меня будешь брать сюда. Я не хочу без тебя в селе жить.
— Я-то что, я бы взял, да отец.
— Что отец? Или я ему нужнее, чем тебе?
— Наболтаешь тоже, бессовестная, — осерчал Яков.
— Сразу и бессовестная. Я с тобой хочу быть. По домашности мама управится. Она согласна, мы с ней договорились.
— Договорились… — неохотно повторил Яков. — Мать у нас золотой человек. А вот батя… коль заклинит — с места не сдвинешь…
— А ты — как Андрей.
— Что — Андрей? — недовольно спросил Яков.
— Отец свое, а он свое, — пояснила Алена. — И все, как хочет, делает.
— Он сам не знает, что хочет. Мечется: то не так, се не так. Взъерепенился, как судак в икромет, — на промысел ни разу не заглянул, душа его не принимат… Нам можно вожжаться, ему — нет.
— Яш, а отчего он так, а?
— Я откудова знаю. Намедни остались одни с ним, спрашиваю, что, мол, выпендриваешься? Ксплуататором, говорит, не хочу быть. На свои деньги, своим трудом, проживу, дескать.
— И денег ему не надо, выходит?
— Ну да! Я ешшо не стречал людей, чтоб деньги не любили. Фасонит только, а случись с батей что, тут же потребует свою долю. Знам мы таких…
Алена и жалела деверя, но многое и не понимала в нем. Такой молодой, а все отцу перечит. Старик конечно же своенравен: никогда ему никто не угодит, во всем только он хозяин, он и умен, он и… Да что там говорить. Приструнил всех, а вот Андрей не поддается. Под старость, видимо, вылитый отец будет. Все это Алена понимает, но вот почему Андрей сторонится семейных дел — неясно. Уж куда лучше — промысел свой заимели. Сельчане от завидок места себе не находят. А он — нос воротит. Чудной, право же, чудной. Алена усмехается, но жалость к Андрею всегда мучает ее.
— Жить-то как будет? — тихо говорит она. — Как это без хозяйства жить? Поговорил бы с ним.
— Ну и дуреха ты, Алена, — Яков ласково похлопал ладонью по ее голому плечу. — Нам же и лучше. Весну закончим, тятя обещал тут, в Маячном, нам пятистенок поставить. А там, глядишь, и промысел наш будет.
Алене приятно слушать такое: плохо ли своим домом жить — сама себе хозяйка. Но в мужниных словах улавливала она неуверенность. Да и знала она, что Яков только бодрится, а сам по сей день не убежден в правдивости слов отца. Уж в который раз Дмитрий Самсоныч обещает. Но всякий раз деньги, заработанные вместе с сыном, он расходует по своему усмотрению: то лошадей поменяет, то сбрую ловецкую купит, а теперь промысел приобрел. Но и Яков и Алена в душе не теряют надежду на выделение.
Наутро на телеге подъехали Дмитрий Самсонович с Меланьей, а с ними и отец Леонтий. Сидел попик неприметно позади рослого хозяина, а когда шустро соскочил на землю, Яков немало подивился и неожиданности его возникновения, и невозрастной прыти. Отец Леонтий скорыми и мелкими шажками пошел к конторке, чтоб облачиться там в ризу и приготовиться к молебну. И пока он находился там, на открытой рессорной повозке приехали Ляпаевы — сам Мамонт Андреич, Пелагея и Глафира. И почти одновременно с Ляпаевыми из Маячного прибыли приглашенные на богослужение сватья — Аленины отец и мать, люди крупные, чуть-чуть тучноватые, уже немолодые и религиозные. Жили они со старшим сыном, которому передали все хозяйство, а потому и не утруждали себя мирскими делами, отдались молитвам и богу. Со сватьями приехали несколько знакомых маячненских стариков. Их Дмитрий Самсоныч не приглашал, но был им рад, потому как званых оказалось маловато для столь торжественного случая, каким должно быть богослужение по случаю начала торгового дела, а любопытствующих тут, на отшибе от села, не оказалось. Шествие поэтому получилось не совсем многолюдным: впереди отец Леонтий в шитой золотом ризе с кадилом в руке и кистью-кропилом в другой, позади него — хозяин с хозяйкой. В руках Дмитрия Самсоныча серебряная кропильница со святой водою. Затем шли Ляпаев с Пелагеей, сват со свахою, старики и уж позади всех Яков, Алена и Глафира. Да еще увязалась за ними приблудная дворняга, невесть откуда взявшаяся. Это обстоятельство так и осталось бы не примеченным никем, если бы псина не проявила неуместное богохульство. Едва отец Леонтий запел молитву, дворняга взвыла низким грудным баском. Попик от неожиданности поперхнулся, чуть не выматерился, да вовремя остановил себя, вспомнив, что он не в своем подворье, а при народе. Яков запустил ком рыхлой земли в псину, и процессия уже без приключений обошла крестным ходом все хозяйство Крепкожилиных. В такт молитве отец Леонтий кропил святой водицей плот, выхода, лабазы, амбары, чанья и даже конторку.
— Услышь, господь, молитву нашу! — пел Леонтий неожиданно для его щуплой комплекции голосом крепким и низким. — Молим тебя, всевышний, смиренные рабы твои недостойные, ниспошли нам благости свои…
Дмитрий Самсоныч не вслушивался в слова отца Леонтия, потому как посчитал, что будет надежнее, если вкупе с поповской дойдет до бога и его молитва. А потому про себя, втай, обратился к нему со своими словами:
— Приношу, господи, покаяния свои во всех грехах. Прошу и молю тебя, не сделай худа, подсоби в деле новом, подскажи, как лучше за него взяться. Что тебе стоит, господи. Ничего ведь тебе это не стоит… — Дмитрий Самсоныч вдруг сообразил, что слишком уж обычно и вольно разговаривает с богом, торопливо перекрестился со страху. — Прости, господи, душу грешную.
— Господу нашему помолимся!.. — не переставая, убеждал всех отец Леонтий.
…После богослужения вошли в казарму для рабочих, где был накрыт стол. Отец Леонтий перекрестил стол, сотворил молитву и сел в голове стола.
— И чарочку первую подымаем во славу господа нашего…
Малое время спустя, утолив и жажду и аппетит, Ляпаев взял под руку Крепкожилина.
— Покажи хозяйство свое, покажи, Дмитрий Самсоныч, — говорил он, отводя Крепкожилина от стола, где продолжал витийствовать отец Леонтий, а старики, раскрыв рты, с умилением слушали его проповеди. — Во время богослужения много ли увидишь. Покажи, похвались.
— Хвалиться-то нечем, — скромно ответствовал Крепкожилин. — Рази сравнится эта развалюха с вашими промыслами.
— Не скажи, не скажи. Уловистые места вокруг.. Только успевай в путину рыбу покупать да обрабатывать.
— Оно так, только…
— И я с малого начинал, разлюбезный. Путины две-три минует — и окрепнешь. — Ляпаев помолчал и, будто невзначай, поинтересовался: — А меньшой сынок не приехал?
Вопрос застал Крепкожилина врасплох, хотя об Андрее он не переставал думать со вчерашнего вечера, когда тот вновь наотрез отказался ехать сюда.
— Неладно у меня с Андреем, — тихо признался Дмитрий Самсоныч и тяжело вздохнул. И задумчивость старика, и этот вздох о многом поведали Ляпаеву. Да он и догадывался, что в семье Крепкожилиных не все в порядке.
— Не понимаем мы друг друга.
— Бывает, — успокоил Ляпаев. — По молодости лет, случается, возомнят себя умниками. Хотя ничего парень у тебя, работящий. А молодость пройдет, образуется все. Женить его надо.
— Золотые слова, Мамонт Андреич, — охотно подхватил Дмитрий Самсоныч, и вдруг на него нашло озарение: Глафира. Вот оно в чем дело. То-то переменился Ляпаев, и в гости зазывает, и с ними якшается, и про Андрея каждый раз любопытствует. — Женить непременно надо, только невесту добрую подыскать надобно. А я бы с великой радостью.
— И невеста найдется. Андрей-то твой не простой мужик, дело в руках. Ежели с умом, это состояние целое.
— Истинно. В городе бы ему жить. Доктора́ в городе в почете да при деньгах живут. А мой-то, дурень, бросил город, — сокрушался Дмитрий Самсоныч. — Верно говоришь, Мамонт Андреич, бабу хорошую надо. — И тоже как бы ненароком поинтересовался: — Глафира-то замужем не была? Вот и ладно. Хе-хе! А можа, нам того, а? Девка сирота, родителев нет, богатства большого — тоже.
— Сирота, это правда. Но девку я не обижу, Дмитрий Самсоныч, не обижу, все будет, как по христианскому обычаю положено.
В это время подошел к ним сват маячненский, попрощаться. Вскоре и Ляпаев засобирался. Разговора об Андрее и Глафире больше не заводили, но и сказанного было достаточно, чтобы понять, что Ляпаев не прочь бы и породниться.
12
Все чаще Меланья оставалась одна: Яков с Аленой жили на промысле — уговорила-таки старика отпустить сноху. Поначалу и слушать не хотел, но женская хитрость одолела.
— Не дай бог Яшка-то спутается с кем. На ватагах бабы бесстыжие, так и липнут к мужикам, — сказала Меланья, и Дмитрий Самсоныч не стал возражать более — долго ли до греха. Не беда, конечно, думал старик, ежели мужик и заглянет к какой бабенке, хуже, когда та сердце присушит да от жены уведет. Бог с ними, пущай едут.
И сам он почти ежеутро уезжал из дома, толковал с маячненскими рыбаками, чтобы те улов сдавали ему. О цене, понятно, загодя уговора не вели, потому как одному господу известно, какая будет весна да сколь богаты рыбные косяки До сроку условишься — можно и прогореть основательно. Тут и купец и ловец осторожничают. Весна сама рассудит, что сколько стоит.
Так вот, и старика видела Меланья только по утрам да по вечерам. Андрей тоже пропадал целый день. Иной раз и обедать не заглядывал: близилось время найма рабочих людей, приводились в порядок жилые казармы на промыслах — ему и приходилось мотаться из села в село, на низовые приморские ватаги.
Переживает Меланья за меньшого: несговорчивый, не ладит с отцом. Груб отец-то, но родитель все же, и надо бы почитать его. Ну чтобы помочь отцу да Якову на промысле: где доску отстругать, где гвоздь забить. Так нет, отказался. Даже на молебен не поехал… У Ляпаева день-деньской на промысле, а у себя не был ни разу.
Только задумалась Меланья о сыне, он сам заявился. И вмиг все попреки забылись, потому как не могла мать спокойно смотреть на исхудалое бледное его лицо. Болезненность эта с детства. Что только не делала Меланья: и в город к врачам возила его, и Садрахману показывала, когда еще мальцом был, — ничего не помогало. Садрахман и сам привозил и с людьми не раз передавал различные настойки и отвары. Через полгода успокоил:
— Здоров балашка, никакой болезни нет. Его фасон такой, порода такой: худой как камыш…
— Мама, есть хочу, — с порога заявил Андрей.
Меланья налила ему борщ, нарезала хлеба.
— А ты?
— Сыта я, — она села напротив, облокотилась о столешницу и молча смотрела, как сын торопливо, обжигаясь, хлебал варево.
— Скажи мне, Андрюша, ты навсегда домой вернулся?
— Не знаю. Но пока я не могу уехать, мама. Не могу. И ничего больше не спрашивай.
— Хорошо, хорошо. — Меланья помолчала. Мысли ее свернули на другое. И она тихо попросила: — Хоть бы женился, что ли. Все один да один. Нашли бы девку посправней…
— Ну, это от меня не убежит. Придет время — женюсь. Тут я с тобой согласен, мам.
Повлажневшие глаза Меланьи заулыбались. Она уже собралась сказать про разговор, который вели отец с Ляпаевым про Глафиру (Дмитрий Самсоныч в тот же вечер обо всем рассказал жене), да сочла за лучшее воздержаться до поры и до времени. И очень правильно поступила, потому как пришлось бы ей огорчиться: она думала про Глафиру, а он, Андрей, — про Ольгу. И намекни Меланья о ляпаевской сродственнице, Андрей не сдержался бы, сказал про эту неожиданно разбогатевшую бездельницу не совсем приятные слова.
Мать осталась в утешении хлопотать по хозяйству, а Андрей пошел на промысел. На территории, проходя мимо Гриньки, хлопнул парня по плечу:
— Все вкалываешь?
— Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. — Гринька сколачивал ящики. — Почему это вкалываю?
— Да целыми днями отдыха не знаешь и рабочих часов не соблюдаешь. Находка для Ляпаева.
— Надо. Как же без работы, — спокойно ответил Гринька.
— Правильно, человек потому и стал человеком. Но есть же нормы: сделал положенное — и отдыхай.
— Положено — не положено, — нехотя проговорил Гринька и спросил неожиданно: — Когда мы погорели, положено было Ляпаеву нам жилье дать?
Вопрос был неожидан, и Андрей размышлял, как ответить парню.
— Ну вот! — Гринька победно посмотрел на Андрея. — Никому и дела не было, а Ляпаев приютил. И работу дал.
— Ну а кто еще из сельчан мог и жилье дать и работу? Никто!
— И я говорю, никто, а Мамонт Андреич дал.
— И теперь они с Резепом вытянут из тебя жилы.
— Резеп — совсем другое дело. Скотина он, этот Резеп. А Ляпаев добро мне сделал, а потому я в долгу…
— Ну, парень, с тобой каши не сваришь. — Андрей пошел к себе, а Гринька в недоумении пожал плечами и вновь заработал молотком.
В этот день Андрей задержался на промысле. Почти дотемна занимался с Ольгой: учил перевязывать предполагаемые раны, обрабатывать порезы, уколы, ушибы.
Гринька сидел поодаль на низенькой скамеечке, латал сапоги. Время от времени он косился на сестру и Андрея, улыбался, ехидно бросал:
— Дохторша, тоже мне.
— Не твое дело, — огрызалась Ольга. Она сосредоточенно слушала объяснения, от напряжения задерживала дыхание, морщила лоб. Когда дело дошло до перевязки, застеснялась, долго не решалась дотронуться до руки Андрея.
— Гринь, иди-ка сюда, — позвала Ольга.
— Че там?
— Ну иди. Я те руку перевяжу.
— Я ее не резал.
— Иди, Гринь…
— Вон Андрея Дмитрича перевяжи.
Руки у Ольги дрожали, бинт путался, ложился жгутом.
Андрею было приятно ее волнение, теплота ее рук. Каждое Ольгино прикосновение вызывало в нем ответное чувство, ему тоже хотелось взять девушку за руку. Но он не мог позволить себе такой слабости. Он не имел права даже в малой доле обнадеживать девушку. И даже подумал, что зря связался с нею.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Еще в начале февраля 1906 года городской голова, богатейший рыбопромышленник Беззубиков просил астраханского губернатора обратиться к господину министру внутренних дел Российской империи с просьбой ограничить приток рабочей силы на Нижнюю Волгу в связи с предстоящей безработицей. Каждую весну, а также в последние дни зимы, когда первые оттепели обещают недалекую путину, к Каспию идут с верхов — с Тамбовщины и Саратовщины, из-под Пензы и Симбирска, Казани и Нижнего — толпы обездоленных, чтоб наняться на суда, промыслы, заводы. В рыбной купеческой Астрахани всем находилось дело. В конце сезона, правда, не все расходились по домам при деньгах, случалось, что и совсем не возвращались, но занятие находил каждый.
А тревога городского головы была вызвана тем, что, из-за волнений на Кавказе поступление нефти по морю, а значит, и перепродажа в Поволжье сократилась вдвое, что должно было вызвать уменьшение найма рабочих на морские и речные наливные и транспортные суда.
Но пока нужная бумага из окраинного города дошла до столицы и легла на стол господина министра, пока изготовлялись циркуляры и рассылались по означенным городам, пока из этих губернских центров указания властей доводились до уездов и волостей и могли дойти до ушей помышляющих хоть немного заработать денег, а тем самым поправить разоренные войной и голодом крестьянские хозяйства, — пока раскручивалась эта бюрократическая машина, толпы страждущих уже дошли до низового города, полусказочного в своем богатстве и своей нищете, и, почуяв свою ненадобность, расползались по ловецким селам.
В волостное село Шубино первая группа пришлых нынче явилась еще до масленицы. Из того захода до Синего Морца дошел лишь Тимофей Балаш. Но он не в счет, потому как была у него иная задумка — не внайм пойти, а обзавестись хозяйством ловецким.
Настоящие ватажники заявились шумной пестрой оравой, когда на реке истаял лед, а на полуденных склонах бугров появились чуть приметные мазки зелени.
Ляпаев с утра пришел в конторку — наймом он занимался сам. В прошлые годы ездил, бывало, по другим промыслам, целыми днями мотался на рессорной выездной двуколке, случалось, ночевал не дома.
Нынче людей набирали на все ватаги в Синем Морце. Еще загодя Андрей сказал Ляпаеву, что надо брать на работу только после медицинского осмотра, потому как больные, если они окажутся, занесут инфекцию, и тогда при тесноте казарм болезнь непросто будет изгнать. Ляпаева от этих слов покорежило, как от рези в животе, — его коробило от мысли, что Андрей встревает не в свое дело. Но возражать не стал, углядев в действиях Андрея пользу для себя: зачем ему больные, ему крепкие работники нужны.
— Ладно, осмотри. Тут, в Синем Морце, и будем набирать, а опосля по промыслам распределим.
…Толпа была людной — знать, и вправду в городе слоняются без дела тысячи прибылых. Ляпаев уже прослышал про то. А потому до последних дней воздерживался от найма, томил ватажников, сбивал и цены на рабочие руки, и гонор пришлых — сговорчивей будут. Так оно и оказалось. Желающих найти работу день ото дня прибавлялось. И вот сегодня, когда до путины осталась неделя, Ляпаев вышел к народу. С высокого рундука конторки пытливо оглядел разномастное сборище и, обернувшись через плечо, что-то сказал Резепу. Тот угодливо закивал в ответ. Мужики знали Резепа, ежедень встречал он пришлых, заворачивал, назначая встречу с хозяином на будущие дни. С Ляпаевым виделись впервой, а потому присматривались к нему, ждали его слов, ибо от них, немногих слов хозяина, зависела и тутошняя их жизнь в работниках, и жизнь оставленных в верхах семей.
Ляпаев объявил, сколько человек он возьмет к себе, — выходило, что не все найдут дело здесь, что придется некоторым подаваться или же обратно в город, или в соседние волости, к иным рыбникам. И оттого наемники не загалдели, не завозмущались, когда хозяин назвал цену рабочего дня — невиданно низкую и даже обидную для взрослого здорового человека.
Были в толпе и такие, кому уже не внове ходить по наймам. И не помнили они столь низкую поденную плату, но и им пришлось пришибленно молчать, ибо каждый опасался, что выкажи он недовольство, и придется ему неизвестно где и неизвестно сколько бродить безработным, а может случиться, и вообще вернуться домой ни с чем.
И еще сказал Ляпаев, что брать будет только здоровых и крепких, после того, как их осмотрит врач, чем окончательно доконал мужиков, потому что такого еще не встречали они и не знали, что о них может сказать врач. Некоторые и в жизни-то не обращались к нему, в глаза даже не видели. От этого страх возрастал. И каждый теперь считал за великое благо получить работу за грошовую оплату, лишь бы врач не забраковал его.
…Весь этот день Андрей осматривал людей. Они заходили по одному, несмело раздевались, бережно складывали залатанные полушубки и бешметы прямо на пол. Вначале Андрей замечал, что на полу нечисто, что для одежды вбиты гвозди в стене. Но люди согласно кивали ему и делали по-своему.
Пришлые были, в общем-то, жилистые, привычные к работе. Иной и в возрасте, и телом тощ, а внутри как у молодого: и легкие чисты и сердце стучит — дай бог каждому.
Лишь одного, не пригодного ни к чему, обнаружил Андрей, — сравнительно еще молодого рыжеволосого мужичка из-под-Нижнего. Был он до неправдоподобия худой и какой-то опалый. Желтизной в лице и отреченностью в глазах сразу же напомнил Максута. При каждом вздохе легкие шумели словно мазутная форсунка в пекарне — тоже как у Максута.
— Вам нельзя, — сказал Андрей и ожидал, что больной сейчас будет упрашивать, и заранее уже приготовился к этому. Но тот виновато заулыбался и согласно закивал: да, да, нельзя.
— Я вам направление в волостную больницу дам. Минуточку. Возвращайтесь в Шубино — и прямо в больницу. Вот возьмите.
Рыжеволосый покорно взял бумажку и начал одеваться, а Андрей отвернулся к окну: ему было не по себе оттого, что оставил человека без работы. Из-под Нижнего, многие сотни верст, если не больше, топал, надеялся… Подумалось Андрею: имеет ли он право лишать человека надежды, даже больше — возможности жить и ему и его семье, если она есть. Сомнения эти были столь велики, что хотелось ему вернуть рыжеволосого, и он так и поступил бы, если бы не долг врача. А он, этот долг, насколько гуманен, настолько и суров: нет у врача права предаваться ложной жалости. Не может он рисковать здоровьем других. Пожалеет, положим, Андрей этого нижегородца, возьмут его на работу, поселят в казарму, а к осени уже не он один, а десяток, если не больше, туберкулезных уйдут из Синего Морца к семьям, детям, разнесут заразу, одарят неизлечимой болезнью самых близких…
— Дохтор, можно к вам? — Голос вошедшего заставил очнуться Андрея от дум. Он обернулся… и окаменел: перед ним стоял Петр.
— Ты? Откуда?
— Как видишь — я! А насчет откуда — наивный вопрос, — улыбнулся Петр.
— Да, да, конечно. Но так неожиданно. — Андрей увидел, что Петр раздевается, и сказал удивленно: — Ничего не понимаю.
— Ну здравствуй. — Он протянул крепкую руку Андрею.
— Здравствуй, Петр. Не ждал, ей-ей не ждал.
— А осмотришь и послушаешь — для конспирации, — шепнул Петр и задрал рубаху на спине. — Ну, давай, осмотри. Заодно хоть проверюсь — все ли внутрях в порядке. Так вот, встревожились товарищи твоим молчанием. Думали-гадали да и решили наведать тебя. А лучшего повода и не придумать: никаких подозрений. Пришел наниматься.
— Когда пришел?
— Сегодня. Неужто выдержал бы, чтоб не встретиться. Надо поговорить. Где бы лучше. У тебя — исключается.
— У меня нельзя, конечно. А вот у Ильи можно.
— У кого?
— Есть хороший человек. Кстати, сегодня он один. Смотри сюда, — Андрей подошел к окну. — Вон мазанка на окраине. С двумя скворешниками.
— Вижу.
— Заходи смело. Скажи, я просил устроить на ночлег. Запомни: Илья Лихачев.
— На память не жалуюсь. Ну, будь. — Петр оделся и, открыв дверь, сказал возмущенно и громко, чтоб услышали те, кто стоял у казармы: — Я здоров, а вы… Что же теперь мне — в город возвращаться?
Андрей с тихой радостью улыбнулся и сказал!
— Заходите, следующий.
И тут он увидел на скамье бумажку-направление, которую конечно же не по забывчивости оставил нижегородец, и на душе стало тоскливо и противно.
2
Илья немало удивился приходу Петра: зачем Андрей прислал пришлого?
— Знакомы с Андреем? — полюбопытствовал он.
— Встречались, — неопределенно ответил Петр. — Так, значит, могу переночевать?
— Места, что ли, жалко. Располагайтесь, я дров занесу, на ночь печь протопить надо. — И вышел.
Петр разделся, повесил верхнее на граненые шпигорники в стене и, приметив вмазанный над шестком русской печи кусок зеркала, всмотрелся в свое отражение и рукой пригладил слипшиеся волосы. За этим занятием застал его вернувшийся с охапкой дров Илья.
— Прихорашиваюсь, — пошутил Петр, — чтоб девкам вашим приглянуться.
Илья шутки не принял, спросил серьезно:
— С работой как?
— Андрей забраковал.
— Ну да! — не поверил Илья. — Как же это — знакомого, и вдруг… Да и телом-то вы ничего… На таких землю пашут.
— И я так думаю, — охотно согласился Петр.
И потому, что был Петр в хорошем настрое и, разговаривая, шутил, Илья понял, что гость разыгрывает его и тут что-то не так.
— Одни живете? — спросил Петр.
— По-разному. С женой жил, потом один. Теперь Тимофей поселился. С верхов он. Уехал сапоги купить. Мы-то бахилы сыромятные носим, а он непривычен. А сапог-то болотных тут у нас нет, их не берут, дорого…
— А жена?
— Господь развел.
Петр понимающе покивал головой.
Пока Илья протапливал печь да готовил жареху из сазанины, наступили сумерки, и пришел Андрей.
Когда сели за стол, Петр начал рассказывать о городских новостях, о товарищах и о тех, кто подобно Андрею, с поручением партии ушел в деревню.
— Знаешь, Стась приезжал. Так вот рассказывал, что у Бирючьей Косы, почти у взморья, ловцы облавливали казенные ямы. Что там было! Стражники с приставом приехали, а ловцов-то человек сто. На лошадях.
— Ну и что? Отобрали?
— Как бы не так! Мужиков-то много. Похватали пешни да багры и даже не подпустили охрану.
— Смело, — изумился Илья. — А мы, коль случается, по ночам все, будто чужое крадем.
— А эти, из Бирючьей Косы, днем. Так мало, что обловили, шумели на всю реку. Мол, воды эти наши, где хотим, там и ловим, а невода не отдадим.
— Вон как?! — изумился Илья.
— А как же иначе. В таком деле трусость не подмога. Иначе не было бы и пятого года.
— Оно конешно, — осторожно отозвался Илья. — Одному бы, к примеру, ну двоим-троим, несложно… Встал в открытую и пошел. А все село — шалишь. Не поднимешь наших мужиков. Знаю я их. У того семья, у другого — хозяйство.
— У рабочих семей разве нет? Сколько сирот по России осталось после расстрелов — считать не пересчитать, — загорячился Петр.
— Он говорил, — Илья кивнул на Андрея, — сообча легше, как не понять. Трудно только…
— Если бы легко — давно по шеям надавали кому следует. Вот и приходится идти через тюрьмы, каторгу, эшафот.
Слово это Илья слышал впервые, но переспросить постеснялся, решив, что оно, видимо, даже страшнее каторги, а может, даже смерть так по-ученому называют. И устыдился своей необразованности. Но это чувство скоро прошло, уступив место удивлению. Он не раз слышал о волнениях в городе, чуял нутром, что это не просто беспорядки, как однажды говорил волостной пристав. Догадывался Илья, что бастуют рабочие не от хорошей жизни и что их борьбой кто-то руководит. Кто — Илья конечно же не знал да и в мыслях представить себе не мог. И вот теперь, слушая Петра и Андрея, немало дивился, что эти люди сидят в его мазанке, говорят с ним, как с равным, даже сердятся, на него. Повстречай он Петра в ином месте, никогда бы не подумал, что этот мужиковатый плотно скроенный человек с жесткими рабочими руками — из тех, кто не щадит себя, не боится тюрем и этого… эшафота. Он уже собирался спросить Петра, не страшно ли ему, идти против власти, навстречь винтовкам, как снова заговорил Петр:
— Это хорошо, Андрей, что у тебя есть человек, которому ты можешь довериться. Я тоже верю тебе, Илья. Наше дело — теперь и твое дело. Наша тайна — и твоя тайна. Готовьте людей, чтоб в нужный час выступить сообща. Будут у вас еще верные люди. Завтра к тебе, Андрей, придут двое на осмотр. Их надо устроить. Подробности они тебе расскажут потом. Запомни: Иван и Алексей Завьяловы. Из крестьян. Крепкие мужики, положиться на них можно.
Илья слушал и не верил своим ушам: так много открылось ему сегодня. Но и не только открылось: ему поручалось то же, что и Андрею, — серьезная и опасная работа.
3
С некоторой поры в душе Дмитрия Самсоныча угнездилась ноющая боль. Все, казалось бы, идет путем, да это только для посторонних глаз. Возвысился он вдруг над сельчанами — кто может то оспаривать? Промысел ко времени привел в порядок. Забылась и неприятность с Максутом. Уговор с маячненскими ловцами, что в казенных водах работают, учинил — и тоже в срок. Из Синего Морца все ловцы Ляпаеву рыбу продают — так было много лет. И нынешнюю путину тоже. Тем более что и Золотую яму он прибрал к рукам вовремя да билеты — разрешение на лов сельчанам дал. Тут уж кто поперек пойдет?
Из Синего Морца только Илью Лихачева с пришлым Тимофеем Ляпаев не пустил на Золотую яму — за то, что Илья не пошел к нему в неводные рабочие. И рыбу от них Резепу наказал не покупать.
Крепкожилин Илью склонил на свою сторону. А Илье что оставалось делать — согласился. И маячненские ловцы на Крепкожилинский промысел сговорились продавать улов — ближе им. Они на казенных водах работают и от Ляпаева независимы.
Уговор этот успокоил Дмитрия Самсоныча: хватит, в богатую путину и не обработать всю рыбу — ни денег, ни рабочих рук не напасешься. Насчет денег вышла удача — кредит в городе дали. Банки — они в пустые руки копейки не выдадут, а под промысел — пожалуйста. Обладилось, одним словом. При найме цену поденную установил, что и Ляпаев, — меньше нельзя, а больше не положено. Зачем копейку выкидывать, коль пришлые табунились неделю целую — любого выбирай, как коней на ярмарке.
Все вроде бы ладно. Но томление в душе не проходит, хуже того — растет. Поначалу будто жжение внутри началось, Дмитрий Самсоныч не понял даже, что это и отчего. Но скорбь ширилась, и вскоре он понял причину тому.
Сын. Андрей. От него душевное страдание.
Непутевый какой-то он, несговорчивый, все наперекосяк у него. Другой порадовался бы приобретению, а он — будто сторонний человек в семье, недруг будто. Понимает Дмитрий Самсоныч умом, что не всякую душу бог озаряет. И Андрея, видно, господь стороной обошел. Но от этого понимания не легче. А известно: коль в доме разлад — то и делу не рад.
Вот в таком состоянии и живет Крепкожилин-старший последние дни. Путина на носу, первую подледную воблу уже скупил с тыщу пудов, в засол пустил. Радоваться бы только! Но каждый раз мысли старика о меньшом не дают покоя.
А тут ляпаевские слова из головы не выходят — про Глафирку. Девка приданница и с лица хороша — чего еще от добра добро искать.
И решил Дмитрий Самсоныч укоротить свой норов, как мужик с мужиком потолковать с сыном. Не убудет, хоть и неприятно ему, отцу, склонять голову перед сыном. Что тут поделаешь: долг родительский — наставить неразумного.
Укрепившись в этой мысли, однажды Дмитрий Самсоныч не заторопился на промысел и Андрея попросил не уходить. Спокойно этак попросил и тем озадачил его.
— Мать, оставь-ка нас, — сказал старик, — займись чем на дворе.
Меланья настороженно посмотрела на него, встревожилась, но лицо мужа было на редкость спокойным, да и слова произносил он ровно — будто к молитве готовился. И она вышла успокоенная.
— Садись-ка вот сюда, — старик кивком головы указал на скамью через стол, — садись-садись. Нечего нам кукситься друг на дружку. Не супротивники мы с тобой, а отец с сыном. Ближе некуда. Али не прав я?
Удивленный мирным тоном отца, Андрей пытался угадать направление его мыслей. Так спокойно и даже покорно отец никогда еще с ним не разговаривал. Все это было в диковинку, а потому он и не знал, что ответить.
— Понять хочу, Андрей, — сказал Дмитрий Самсоныч. — Али мы с матерью что-то не так делаем, то ли иная в чем причина, только, сдается мне, не положено бы сыну на своих родителей коситься, как солдату на вошь. Растили мы тебя, ночей недосыпали, учили. Ну, да это те известно, не дите малое. Но почему так получилось, что ты чужаком стал в доме родном? Понимаю, характер и все прочее… И я не ангел. В меня, говорят, ты пошел.
— Характер, может быть, и твой, — отозвался Андрей, — только живем по-разному.
— Ну-ну, слушаю. Че замолчал?
— Я признаю только честный труд, а вы с Яковом чужим потом состояние себе сколачиваете. Помнишь, в детстве ты рассказывал мне про Турган-птицу. Крохотное существо, а ради людей жизни своей не щадит. А иной человек — высшее создание — только о себе печется. Нечестно это.
Дмитрий Самсоныч насупился, задышал часто, с просвистом. Но гнев свой старался укоротить, заговорил тихо, но зло:
— Выходит, ты, городской чистоплюй, честный хлеб ел, а мы с Яковом день и ночь вот этими руками переворочали тыщу пудов мороженой рыбы, зябли, тонули в полыньях — и хлеб у нас нечестный! Так, что ли?
— Не так, отец. Пока вы работали сами, я понимал и уважал вас. Но теперь… Трудить людей на себя — я считаю преступлением.
— Отцу и брату стало легче жить, хоть теперь мы не будем ломать спину, как прежде. А ты — с попреками.
— Значит, будут тянуть лямку другие.
— Но я же плачу им.
— Пятак с рубля. Ты сам, отец, подумай. Всю жизнь работал и еле на захудалый промысел скопил. А погляди, пройдет пяток лет, и у вас с Яковом будет целое состояние. Это за счет чего же?
— Почему у нас с Яковом? Мне, Андрей, скоро ничего не нужно будет. И матери тоже. В могилу с собой не унесем. Все вам с Яковом останется.
— Ни копейки не приму, — тихо сказал Андрей. В голосе его было столько спокойной силы, что Дмитрий Самсонович не нашел что сказать. В этом отречении он почувствовал куда больше, нежели во всех разговорах прежде и сейчас, и понял, что душецелительной беседы не получилось. Старик потерянно глядел на сына, беспомощный в своем бессилии как-то повлиять на него, приблизить к себе, к своим делам и своим намерениям. Истина наконец-то открылась ему: не мелкое тщеславие, не капризы характера, не неприязнь руководят Андреем, а нечто большее и важное — внутреннее убеждение, твердое и непоколебимое. А коли так, то и нечего без пользы тратить время и сорить словами.
Но как бы там ни было, перед ним был сын, его кровь. И отцовские чувства заговорили в Дмитрии Самсоныче. Чутьем он понимал, что жизнь Андрея будет не сладка, что придется ему топать по ухабам да рытвинам, немало хлебнуть горюшка. И жалость родительская пробудилась в старике.
— Знать, душа не принимает, — тихо проговорил он. — Разладица получилась. Ин, ладно, на бога гневиться не стану. Ты, Андрей, послушай-ка меня. Коль пошло наперекосяк, живи своим умом. Я те не указчик. Только определись, по-людски чтоб все. Женись, а?
Андрей усмехнулся и словам отца, и просительному тону, с каким они были сказаны. Чувство жалости к отцу коснулось его сердца.
— И невеста есть, — продолжал меж тем Дмитрий Самсоныч. — Глафирка, ты ее знаешь — смотрины не устраивать. Лицом пригожа, приданница. Сам-то, Ляпаев, не обидит сироту. Сосватаем да уладим свадьбу…
— Нет, отец. Ничего не получится. Глафира не тот человек. Вернее даже, я не тот, кто ей нужен. И прекратим об этом.
4
Когда Андрею было всего лишь около десяти лет, Яков, простудившись в осеннюю непогодицу, заболел крупкой, и Дмитрий Самсоныч взял к себе на бударку меньшого. За две недели, которые пробыл Андрей с отцом на взморье, увидел он много диковинного. Огромное пространство воды, где Волга встречается с Каспием, мелководье, камышовые островки, ракушчатые косы-голыши, бесчисленные стаи отлетающих на юг птиц: лебедей, гусей, уток немыслимых пород и прочей пернатой живности.
Но самая удивительная, а потому незабываемая, была история с крохотной серо-зеленой птичкой, которую и отец и ловцы называли по-своему — Турган. Уже потом, в городе, Андрей не раз рылся в различных справочниках и определителях птиц, расспрашивал учителей — но доподлинно так ничего и не узнал о ней. И названия-то ее никто не слыхал! Оттого и сама Турган-птица и встреча с нею теперь кажутся Андрею не то чтоб таинственными, но несколько загадочными и почти необъяснимыми.
Даже не с самой птицей встретился Андрей, а только с тем, что осталось от нее — остывшим маленьким комочком, с туго поджатыми крохотными крылышками, и по-воробьиному тонкими когтистыми лапками.
Проснулись они с отцом едва светало, поеживаясь от холода, выбрались из-под закроя лодки. На люках — налет инея, над водой — густой туман. И слабый ветер задул северный — норд-ост. Ветер этот самый что ни на есть каверзный для ловцов в осеннюю пору: если перерастет в шторм, сгоняет он с рек и культуков воду, оголяет взморье. Обсыхают тогда рыбачьи суда, сковывает все вокруг льдом, и наступает ловцу гибель. Ветер-то пока еле приметный, иной ловец и беды-то не почует, а когда она нагрянет — поздно выбираться.
Меж редкими кулигами кундурака морщинилась почерневшая за ночь вода. Крикливые стаи гусей тянулись на восток, в стремительном полете с торопливым посвистом крыльев проносились чирки. Над взморьем висело низкое свинцово-серое тревожное небо.
И тут приметил Андрей птичку-невеличку мертвую, показал отцу: воробушек не воробушек, только перо с прозеленью.
— Поехали домой, сынок, — встревожился Дмитрий Самсоныч, — Турган-птица знак подает, беда идет.
Снялись они и вовремя со взморья уехали в реки, где острова вокруг камышом непролазным поросшие стоят. Тут никакая непогодица не страшна.
А к вечеру налетел на понизовье ураган.
И тогда отец рассказал сыну легенду про птицу Турган.
…Жила на свете невзрачная, никому не нужная птица Турган. Даже петь красиво не умела. Ела досыта, летала беспечно, а почует непогоду, спрячется подальше. Никому от нее ни вреда, ни пользы не было. Повстречалась как-то с дятлом-трудягой. Долбил тот дерево, выстукивал клювом барабанную дробь.
— Что ты делаешь? — спросила Турган.
— Дерево лечу. Выберу червей из раны, и перестанет дерево болеть. А ты чего умеешь?
— Ничего, — ответила Турган.
— Значит, ты ненужная птица.
Обиделась поначалу Турган, а потом подумала, что дятел прав. И тогда решила она свое чутье обернуть на пользу людям. Учует приближение шторма — устремляется к людям, летает вокруг, пищит, мечется.
Стали примечать рыбаки: если появится Турган и ведет себя беспокойно — быть непогодице. Многих из беды выручила эта маленькая птичка.
Рассердился на нее злой дух, сказал: умрешь, если предупредишь рыбаков. Думал запугать Турган, да не тут-то было.
…С тех пор ловцы всякий раз перед штормом находят на лодке мертвую Турган. И смерти не боится она, боится быть бесполезной.
И детство свое, и эту легенду Андрей вспомнил после разговора с отцом. Много с той поры воды утекло. Иным стал Дмитрий Самсоныч, и уже нет у него ничего общего с сыном. Легенда эта совсем по-другому представляется Андрею, мысли будоражит, заставляет постигать смысл жизни, иными мерками подходить к человеку, судить о нем и о его поступках.
Приложил он эту мерку к отцу, и выходило, что птица Турган и та нужнее людям. Даже в своей изначальной бесполезности она оставалась безвредной.
Все было относительно просто, пока судьба вплотную не свела его с отцом-промышленником. Слово это прикладывалось к Дмитрию Самсонычу с трудом: какой он промышленник, если вчера только сам рыбачил, ночей недосыпал, неделями жил в камышовых крепях в землянке-полуноре. Но вся его ловецкая жизнь в прошлом, а сейчас он хоть и маленький, еле приметный, но — промышленник.
Все тут ясно Андрею. И говорит он правильные слова, и поступает по совести, но скребут кошки на сердце. Снова и снова вспоминается ему нынешний разговор с отцом, помимо воли хочется найти хоть малую зацепку, чтоб хоть капельку смягчить свои же обвинения отцу. Умом Андрей понимает, что оправдания нет, но сердце мается, подсказывает: он же на свет тебя произвел, вырастил тебя. Вот ты и делай нужное, доброе, светлое. И тогда через тебя будет оправдана жизнь отца. Андрей как за соломинку держится за эту мысль.. Но снова накатывают на него воспоминания, совсем недавние, свежие.
У Ильи коротали вечер. И как-то само собой зашел разговор о человеке, о смысле его земного бытия. Тимофей Балаш, с присущей ему рассудительностью в суждениях, сказал:
— Дело не в личности, а в наличности. Есть копейка — человек, нет…
— Будя болтать-то, — не дал ему договорить Макар. — Стало быть, у меня или вон у Ильи с Кумаром нет денег, то и не человеки мы — так, по-твоему?
— Я ведь в том смысле, что…
— Человек сам по себе живет. А как — ино дело…
— Человек интересен тем, что оставит после себя, — в раздумчивости сказал Андрей.
— Балашку оставит, — резонно вставил Кумар. — Мой балашка своего балашку родит.
— И животное неразумное потомство оставляет. А человек — венец всему, — сказал Илья.
«Вот и выходит, — думал Андрей, вспомнив тот разговор, — что породить человека — это еще не все. Дело в том, как сам живешь. Что можешь и что делаешь».
А в тот вечер в землянке Ильи Лихачева засиделись допоздна.
— Мне понятно, Андрей, что не богачеством человек ценен, хотя деньги бы и мне не помешали, — сказал Макар. — В толк я, однако, не возьму другое. Вот говорят: человек должен сделать что-то этакое, чтоб оправдать жисть свою на земле.
— А зачем ему оправдываться? — подал голос Тимофей. — Живет и живет.
— Не встревай, — отмахнулся Макар. — Подумать вот, сколько людей на земле жили. Да и, к примеру, в нашем селе. А кто их помнит, кто знает, что они наделали.
— Конечно, не всех помнят, — ответил Андрей. — Это, к примеру, как в лесу. Растет дуб полтыщи лет — знаменитость. А он один — еще не лес. В лесу — тьма деревьев. Одно срубят, или там состарится оно, упадет, сгинет, на его месте новое растет. И живет лес, насыщает землю чистотой и свежестью. Так и человек. Один — незаметно, а сообща — огромное дело ему по плечу.
…Когда расходились, Илья вышел проводить.
— Что-то мне Тимофей не ндравится, — шепнул он Андрею. — Вечно он особняком.
— Обычная крестьянская психология. Рублями и копейками мир оценивает.
— Если б жадность, разве стал вожжаться со мной. А он — все деньги отдал.
— А что ему оставалось? Скупщиком стать — мошна не та. Ловить — руки не приспособлены. Вот и прислонился к тебе. Почует силу — отойдет.
— Эт-та так, — согласился Илья. — Я к тому, Андрей, чтоб ты осторожней с ним. Не ндравится он мне что-то. Ей богу, не ндравится. О деньгах когда говорит, глаза зеленью светятся и пена у рта.
5
Не пашет, не сеет ловец, а урожай почти круглый год собирает за вычетом короткого запретного весенне-летнего срока, когда на теплых полойных мелководьях играют косяки рыб, обильно заселяя водную ниву потомством, а сами потом, обессиленные икрометом, скатываются назад к морю, чтоб окрепнуть, пожировать на вольных подводных пастбищах, набрать икру к следующей весне. Каждая путинная страда — весенняя и летняя, осенняя и зимняя — сама по себе красна, но по добычливости никакая не может сравниться с весенней. Миллионные косяки рыбы буйно устремляются встречь вешней воде, и тут ее добывает ловец: ставит сети, секрета, тянет неводом, всклень наливает бударки дармовой добычей. А известно: что дешево достается, тому и цена грошовая.
Задарма скупали на Ляпаевских и Крепкожилинском промыслах ловецкую удачу. Рыбы — полна лодка, денег — на дне заскорузлой, черной от холодной воды и ветров ладони. Когда шла подледная вобла, зимовавшая в речных многосаженной глубины ямах, платили терпимо, но двинулись встречь воде весенние косяки, и цена пала до крайности. Да и кто даст по справедливости, коль длинной очередью стоят у плота ловецкие бударки с добычей. Рады продать рыбу — хоть копейку за пуд предложи.
Илья с Тимофеем подрулили к плоту рано, а потому и не было пока очереди, и они отвес за отвесом начали носить воблу в выход — холодное полуподвальное помещение. Илья играючи подцеплял сетчатой зюзьгой рыбу из трюма лодки, загружал носилки. Потом они ставили носилки с рыбой на весы, а уж после несли к чаньям, где солильщики деревянными лопатами сталкивали рыбу в объемистые колодцы-чанья, по самые края врытые в землю, густо пересыпали ее солью. Тут вобла просаливалась несколько дней. Потом уж ее промывали и развешивали на солнце вялиться.
День разгорался, солнце начинало припекать, когда Илья и Тимофей начисто выгрузили улов. А ловцы все подъезжали и подъезжали.
Стояло безветрие. Паруса вместе с реями и мачтами за ненадобностью лежали на станах, а ловцы гнали, лодки шестами. Оттого-то многие явились запоздало — участки и ближние есть, а есть и дальние. У каждого своя дорога.
— Почем берут? — закрепив чалку за плот, спросил маячненский старик по прозвищу Позвонок.
Илья промолчал, а Тимофей недовольно назвал цену.
— Ни хрена! — подивился старик. — Эт-та как же?
— Так вот! — со злостью отозвался Тимофей. — Такую работу — к едрене-фене. Ургучишь целый день, а заработаешь ноль целых хрен десятых.
Старик улыбнулся Тимофеевым словам.
— Ловко сложил. — И своему подручному, большеголовому, в конопатках, подростку: — Че рот разинул, ядри тебя в позвонок. Тащи носилки, отдадим, куда же теперь деваться. Некуда деваться. Эту цену скостят, и опять же отдашь. Не за борт же ее выливать.
— Конечно, отдашь, старик. — Это Тимофей. Он вконец обескуражен. Добирался когда до понизовья, думалось ему, что при его деньгах можно дело организовать, разжиться. И поначалу вроде бы все шло ладком. С Ильей судьба свела его нечаянно, всю сбрую приобрели, лодку. Ловить бы да ловить. Ан обернулось иначе: чем больше они возили рыбу на промысел, тем меньше получали за нее. Каждый старается больше словить, а промысел один. На других промыслах — свой народ, своя толчея.
— А можа, не отдавать рыбу-то, а? — перебил его мысли Илья.
— Куда же ее? — живо отозвался маячненский старик. — Ляпаев не возьмет, у него тоже завал.
— А никуда! — весело откликнулся Илья. — Не привозить им денек-другой, и взвоют, а?
— Не мы, так другие привезут, — недоверчиво ответил Тимофей. — Только рады будут.
— Так никому не привозить. — Илья и сам подивился своим мыслям. — Ляпаевских ловцов тоже надо бы предупредить, а?
— Хватит те болтать-то, — теперь уж и старик осерчал. — Всех рази сговоришь. Твой напарник верно баит: не мы, так другие. Надо с хозяином поговорить, али бога он не боится.
— А вон оно, легок на помин. Вот и поговори, — посоветовал Илья.
Но старик, увидев Дмитрия Самсоныча на плоту, засуетился, ругнул своего помощника:
— Бери зюзьгу-то, что остолбенел.
— Внук или чужой? — спросил Тимофей деда.
— Внук, ядри его в позвонок. Народили, а сами померли. Вот с им с пяти годов и мучаемся.
— Помощник растет.
— Оно конешно, без него как бы я один-то.
— Ты что же, дед, с хозяином не поговоришь? — ехидно спросил старик.
— Неколи мне болтать-то. Рыбу сгружать надо.
— То-то! Уже, между прочим, говорили.
— Ну? — недоверчиво спросил старик.
— А то самое: не хотите, говорит, не привозите, другие найдутся.
— Что я те говорил, — вроде бы даже обрадовался дед. — Знамо дело, отыщутся другие. И еще как отыщутся-то, ядри их в позвонок.
6
В Синем Морце, на Ляпаевском промысле больше порядка: хозяйство отлаженное, четыре огромных выхода, чанов для посола воблы не счесть. Да и мошна, у Мамонта Андреича туже, чем у его новоявленного конкурента. Многолетний опыт научил его хозяйствовать с умом, расчетливо готовиться к путине, не хапать лишнего, договариваться с ловцами осторожно и по возможности скупать все, что привезут. Так вырабатывается у рыбаков уверенность, в нем, а стало быть, и в себе.
Все у Ляпаева путем идет: плот с приплотком просторные, вдоль яра в сто двадцать сажен, по полтора-два десятка бударок выгружаются враз — не на всяком промысле встретишь такое. Оттого и нет тут сутолоки, споров, которые неизбежны, едва возникнет очередь.
С утра пораньше Ляпаев приходит на промысел вместе с Глафирой, заходит с ней в конторку, зазывает сюда же Резепа и Андрея, если находит нужным, в двух словах высказывается о вчерашнем дне и в зависимости от скупленной рыбы и ожидаемого привоза оставляет прежнюю или же назначает новую цену. Тут же держит совет с Резепом, из каких чанов нужно вынимать воблу и выносить на вешала, в какие чаны засаливать свежье.
И нынешнее утро ничем не отличалось от прежних. Только под конец Ляпаев спросил:
— Не пора с вешалов первую сушку снимать?
— Седни смотрел, Мамонт Андреич, рановато бы. Пущай денька два повисит.
У Резепа руки чутки и глаз наметан. Возьмет воблу вяленую, разорвет ее от махалки до головы и по запаху, цвету, твердости и другим, незаметным для стороннего приметам точно назначит день съема. Ляпаев доверяет ему.
— Ладно, обождем, — соглашается он. — Рогожи сколько у нас?
— Кулей хватит на весь сезон.
— Ну, смотри. Чтоб было во что убирать сушку.
— Есть кули. Бочек для сельди надо бы.
— Заказал еще тысячу штук. Привезут днями. Хватит.
— Это смотря как пойдет. Иной год…
— Там видно будет, — перебил его хозяин. И к Глафире: — Когда рыбу принимаешь, гляди, чтоб смотрелась она. Помята ежли али чешуя сбита — заворачивай.
Глафира согласно кивает. Рыбное дело — для нее новое. Неуправа заставила Ляпаева и ее приспособить к промыслу. Резеп показал, что к чему, поднатаскал несложному занятию. Вот она и стоит у весов, записывает отвесы.
— Ты, Андрей Дмитрич, поезжай-ка сейчас на низовые промысла. На Малыкской, вчерась плотовой тамошний наказывал, животами что-то маются рабочие. Не иначе, сырая вода заместо отварной. Да скажи ему, прогоню в три шеи, ежели в горячее время оставит ватагу без рабочих рук. Так и передай. Заодно и на Ямцовке посмотри, что и как, нет ли хворьбы какой.
Выйдя из конторки, Андрей направился было в медпункт, чтоб собрать необходимое, но, когда он проходил по приплотку, его окликнули. Он обернулся на зов и увидел Ольгу. Она стояла в дверях выхода, свет выхватывал лишь ее, позади — чернота, провал. Андрей различил работающих в глубине полуподвала женщин, лишь подойдя к Ольге. На ней латаная куртка, брезентовые нарукавники и передник в рыбной слизи и чешуе.
— Андрей Дмитрич… С Гринькой сладу нет, я ему говорю, а он отмахивается…
— А что такое?
— Руку порвал проволокой, да она, видать, ржавая была. Опухла рука-то, бабы говорят — огневик.
— Где Гринька?
— Да вон тачку катит.
По узкому, в одну доску, тесовому настилу Гринька катил тяжело груженную тачку, с трудом удерживая ее в равновесии.
— Дор-р-рогу! — озорно закричал он у дверей, и Андрей с Ольгой поспешно расступились. Гринька с ходу развернул тачку у низеньких скамеек, где сидели резалки, рванул ручки вверх, и массивная неустойчивая колесница опрокинулась, враз освобождаясь от рыбы.
— Подожди, — остановил Андрей парня, когда тот налегке возвращался мимо них. — Покажи руку.
— Ерунда все, Андрей Дмитрич. — Гринька улыбнулся во все лицо. — Она вам наговорит, только слушай…
И все же ему пришлось свернуть с тесовой дорожки, оставить тачку, снять брезентовую рукавицу и показать руку. Тыльная сторона ладони была опухшей и отсвечивала красно-фиолетовым глянцем.
— Пошли, — коротко сказал Андрей и направился к себе.
— Андрей Дмитриевич! — Гринька зло посмотрел на сестру. — У, кикимора, все те надо.
Ольга озорно блеснула глазами, показала брату кончик малинового языка и ушла на плот, где работали Кумарова Магрипа и Прасковья. Втроем, артелью, они уже две недели низали в чалки просоленную воблу. Работа несложная, но утомительная. С утра до темна — спина колесом, ноет поясница, деревенеют ноги, туманятся от напряжения глаза.
— Будто не мой спина, — пожаловалась Магрипа. — Кумару я говорил: с тобой пойду. Нет, говорит, промысла иди, ловить с балашка будем.
— Знамо, тяжело, — согласилась Прасковья. — И мой Николку взял. Жалко, мальчишечка еще. Да Макар успокоил, мол, тяжелое сам буду делать. На лодке тоже не сахар. Потаскай-ка носилки с рыбой. Обезручишься…
— Нелегко, — согласно закивала Магрипа и вдруг спохватилась: — Сапсем забыла, Кумар велел дохтор сказать, Максут плох, сапсем-сапсем плох. Дохтор тут стоял, а моя забыл.
— Там он, в пункте, — подсказала Ольга и охотно предложила: — Может, сходить и сказать, а?
— Иди, — сказала Прасковья. — Иди, мы тут понижем пока.
Когда Ольга вошла, Андрей перевязывал Гринькину ладонь.
— С рукой шутки плохи. Надо бы вскрыть, зря противишься.
— Ниче! — бодрился Гринька. — Не впервой, заживет как на собаке.
— Ничего-то ничего. Завтра зайди в эту пору. Посмотрим, будет польза от мази или нет. Потерять руку недолго. Жизнь и для здорового человека сложна, а инвалиду — ложись да помирай.
Ольга смотрела на мужиков, слушала их и думала о том, что ближе и роднее этих двух человек нет у нее никого на свете.
7
Какое это удовольствие рейть на бударке. Ветер боковой, шквальный, вихрем пролетает поперек плеса, рвет косой парус, прижимает серое полотнище к волне, и лодка ложится на борт, оголяя черное просмоленное днище. Кажется, вот-вот бударка черпнет бортом воду, но в последний миг парус вырывается из шквальных струй, вырыскивает, днище уходит под воду, и бударка выравнивается до следующего вихревого рывка.
Андрей до предела подобрал шкот. Нижний острый клин паруса подведен к самой корме, парус натянут, звенит струной. Руки впились в румпельник, за кормой пенистый бурун — крутая заверть мутной верховой воды.
Страсть к таким вот поездкам на лодке под парусом вызрела в Андрее давно, в отроческие годы, когда отец изредка брал его с собой на лов и они бегали парусом на взморье от стана до приемки и обратно или же с попутным ветром до Синего Морца. Потому-то Андрей обрадовался, когда Резеп по велению Ляпаева дал ему на весь день разъездную бударку. Безотчетно проснулся в нем необузданный порыв — устремление помериться силою со шквальным ветром — свежим, озорным и коварным.
Мимо мелькали ветла, камышовые колки, рыбачьи станы. Ветер срывал верхушки волн, рассеивал по реке, отчего и лодка, и парус, и одежда на Андрее намокли. Стало зябко, но удовольствие от быстрой езды от этого не иссякло.
Показалась развилка. Вправо начиналась Золотая, влево — обмелевший полузаросший кундураком плес, где расположена Садрахманова заимка. Андрей малость отпустил румпельник и нацелил бударку в сторону кундураков, в петлявшей меж колками неширокой бороздине. Ветер тут ослаб, и бударка пошла неспешно и ровно, но по-прежнему круто к ветру.
Выехал Андрей из Синего Морца сразу же, как Ольга передала просьбу Кумара и как только отпустил Гриньку. Встревожил его парень: по молодости беспечен, а краснота пошла вверх от кисти руки, как бы заражением не обернулось.
А тут еще Максут. Он для Андрея не просто больной. Тут куда сложнее: чувствует он и свою причастность к тому, что случилось с Максутом, хотя его непосредственной вины конечно же нет. Максут болел давно, чахотка врожденная. Но вспышка сейчас у него после случая на промысле, когда Максут сильно простудился, пролежав на снегу. Вот эту вину отца Андрей и принял на себя, как если бы он сам бесчеловечно обошелся с уже больным человеком. Потому-то Андрей и заторопился к Садрахманову жилью, едва осмотрел людей на Малыкском промысле. В догадках своих Ляпаев был прав: ватажники подтвердили, да плотовой тутошний и не отрицал, что пьют они воду с реки.
— Не барышни, — с улыбкой на квадратном щетинистом лице сказал он, и эта улыбка так не шла к его плоскому широкому лицу, что сразу же вызвала неприязнь.
— Будьте добры сейчас же вскипятить воду и приготовить отвар черники. Вот, — Андрей вытащил из саквояжа несколько пачек сухих ягод. — У вас баки есть?
— Есть, в чулане где-то, — неохотно отозвался плотовой. — Так ить избаловать недолго. Че им, ватажникам, исделается, ты глянь-ко на их морды разбойничьи. Их кислотой пои — ниче не исделается… А воду отчего же не вскипятить. Можно и отвар приготовить, только пустое все это…
— Я освободил троих от работы. Сильное расстройство…
— Как это освободил? — перебил плотовой. — Кто им за безделье платить-то будет?
— По закону — хозяин промысла. Но в данном случае — вы, потому что вина ваша.
— Ты это брось, — с угрозой сказал плотовой. — В уговоре сказано, что за прохворные дни платы нет.
— Через два дня я приеду, проверю, что сделано. И если все будет по-прежнему…
— Проверяй, проверяльщик нашелся.
Подумалось Андрею, что плотовой ровным счетом ничего не сделает, потому как слова доктора для него не закон, и рабочие, конечно же, как и прежде, будут пить взмученную верховую воду, особенно опасную для здоровья. И тогда он, разозлившись на плотового, выкинул последний козырь:
— Между прочим, Ляпаев просил передать, что выгонит в три шеи, если в путинное время промысел останется без людей. — Сказал так Андрей и порадовался, потому что квадратное лицо плотового вдруг вытянулось — подбородок отвис, и сам он засуетился, и голос стал заискивающе-просительным.
— Ну, зачем так, Андрей Дмитриевич, дорогой… — взмолился он. Вот как: и дорогой, и имя-отчество враз вспомнил! Есть же люди, понимающие только силу и глухие к добрым человеческим словам.
— Ты уж того… Мамонту Андреичу не доводи, как все было. Приезжай-ка, хоть завтра. Все будет исполнено, а этим больным заплачу, свои отдам… Андрей Дмитрич, не губи.
…Андрей отпустил шкот. Парус, потеряв упругость, затрепыхал в бессилье, пока Андрей не обронил его вместе с реей на закрой. Бударка медленно подошла к яру. И едва он спрыгнул с лодки на землю и накинул чалку на кол, из землянки вышел Максут. Андрей догадался скорее, чем узнал его. Смертельно изнурительная болезнь до неузнаваемости состарила и вконец высушила Максута, выжелтила его лицо, как ветловый лист первыми заморозками. Он мелко и еле слышно покашливал и кивал Андрею головой — узнал его.
— Садрахман нет, на лов пошел, — хриплым слабым голосом сказал он.
— Как дела? — спросил Андрей и тут же в мыслях обругал себя за бестактность.
— Мала-мала ходим. Помирать нада.
— Поживем еще, — фальшиво бодрился Андрей.
Максут ничего не ответил, но глядел на реку, часто-часто моргая слезящимися глазами, и, кажется, не слышал обращенных к нему слов.
Андрей что-то еще говорил ему, по-прежнему пребывавшему в скорбном молчании, старался расшевелить мужика, пока не дошла до его понимания простая и страшная мысль: Максут сознанием уже не на земле, а там, куда должен скоро уйти, и земные хлопоты, слога утешения ему уже без всякой надобности. И деньги, которые Андрей хотел отдать ему, — тоже. Максут посмотрел на них и вроде бы даже не понял. Помолчав некоторое время, сказал:
— Садрахман отдай. Скоро ему нужна будет.
…Возвращался Андрей с тяжелым сердцем. И уже не радовала его ни сумасшедшая скачка легкой бударки, ни белопенные волны, ни броская зелень ветловых лесов вдоль протоки, ни яркое солнце над плесом. Мимо с промыслов серединой реки легко пробегали порожняком ловецкие лодки. Груженные рыбой лодки, прячась от ветра, жались к лесистому берегу. Андрей мельком видел их, но даже не примечал, кто и куда держит путь, мысли его были по-прежнему заняты Максутом, его хворью, виновностью близких ему людей — отца и брата — в Максутовой беде, в его неминуемой и близкой смерти.
От тягостных дум его отвлекли шум голосов, выкрики. Андрей обернулся на гуд и увидел чуть впереди, по ходу лодки, большое скопление ловецких бударок вокруг каравана рыбниц, приткнувшихся к яру у ветлового леса. Мужики, стоя на палубе головной рыбницы, о чем-то горячо спорили. Судя по взмахам рук и нервным выкрикам, дело шло к потасовке. Проехать мимо Андрей конечно же не мог и направил бударку к каравану.
8
В утро этого же дня, несколькими часами раньше, Яков Крепкожилин, потягиваясь со сна, встал с постели, и прежде чем выйти на плот, разбудил жену.
— Ален, хватит дрыхнуть, солнце уже. Тятя скоро будет, вставай.
Так оно и вышло: едва Яков с Аленой оделись, умылись и вышли на плот, объявился Дмитрий Самсоныч. Лошадь мокрая по самое седло — полая вода залила балки, низкодолы, и с каждым днем верхи пробираться до промысла становилось все труднее и труднее.
— Отъездился. До конца путины придется тута пожить. На бударке кажин день туда-сюда силов не хватит, — сказал старик, передавая повод Якову. — Стреножь Пегаша, пущай пока здесь отдыхает. Ни седни, так завтра надо бы в косяк выпустить.
Позавтракали наскоро: слегка подсоленный калмыцкий чай с топленым бараньим салом. В семье Крепкожилиных издавна заведено так: на завтрак чай калмыцкий — и легко и сытно. Алена подала и икру ястычную: нарезанную кусками с желтыми прожилками жира.
Пока Алена прибирала со стола да мыла посуду, и муж и свекор ушли в выход, чтоб определить порядок работы на день — из каких чанов выгружать просоленную рыбу и отправлять на вешала. Бабы-низальщицы, тоже позавтракав (местные, маячненские, — дома, а пришлые — в промысловой казарме), уже заполнили плот и выхода́, ждали, когда на тачках подвезут им воблу для низки.
После осмотра чанов отец и сын Крепкожилины пошли к вешалам. Под открытым небом на жердевых перекладинах в несколько ярусов, высоко над землей, висела провяленная вобла. Ветер раскачивал чалки, шелестел ими, отчего со стороны вешалов доносилось неумолкаемое сухое шорошенье.
Первый съем сушки было решено начать сегодня. Яков подозвал мужиков, передал им повеление отца, а сам вместе с Аленой пошел на приплоток к веслам и остановился в изумлении — ни одной бударки, ни одного рыбака!
…Обычно с раннего утра ловцы уже дожидались их. Бударки с открытыми закроями — товар лицом — плотно стояли у приплотка, ловцы чадили махрой, о чем-то несердито, по-семейному говорили промеж себя, а завидев хозяев, замолкали, ждали терпеливо, пока те шли вдоль бударок, оценивающе осматривали улов и назначали цену. Поскольку вобельный ход был в разгаре и уловы держались устойчивые и богатые, покупные цены падали изо дня в день. Ловцы некоторое время после объявления цен бездвижно оставались на своих посудинах, матерились вполголоса, глубже затягивались табачным дымом, метали злобные взгляды на Крепкожилиных, уже выжидавших у весов.
В этот время подъезжали к промыслу новые бударки, и ловцы, зная, что плетью обуха не перешибешь, а Крепкожилиных не переспоришь и что ждать, следовательно, нечего, по одному вылезали на приплоток, брали сетчатые носилки-ящики и выгружали улов, несли на весы.
Так было ежедневно.
Но сегодня Крепкожилины не увидели ловцов — приплоток пустовал. Ничего дурного в этом ни Яков, ни тем более Алена пока не почувствовали. Просто им было непривычно самим ждать рыбаков. А потому они и не задержались тут, ушли в помещение, где Дмитрий Самсоныч, стоя за конторским столом, ворошил костяшками счетов, что-то подсчитывал.
— Вы че это прохлаждаетесь? — старик удивленно и несколько сердито посмотрел поверх очков на сына и сноху.
— Никого нет.
— Как это — нет? — изумился Дмитрий Самсоныч.
— Еще не приехали.
Старик оставил конторский стол и, подойдя к оконцу, глянул на приплоток. На пустынном деревянном настиле сиротливо горбился штабель носилок. Вид пустующего в это путинное утро приплотка так поразил Дмитрия Самсоныча, что он некоторое время отказывался верить своим глазам.
— Может, штормит, потому и… — высказал догадку Яков. — Пока выберут сети, пока обработают да сюда доберутся…
— Может быть, и так, — согласился старик, но предчувствие чего-то неприятного, пока еще неосознанного, но неизбежного овладевало им.
Так в ожидании прошел и час, и другой, и третий Яков ходил по промыслу, как неприкаянный, не мог ничего делать от расстройства. Сердито прикрикнул на сидящих без дела каталей:
— Че языки чешете? Давайте-ка на вешала рыбу снимать.
Мужики нехотя встали и покатили тачки к вешалам с вяленой рыбой.
Дмитрий Самсоныч оставил счеты, но из конторки не выходил — боялся, как бы своим неудержимым характером не натворил что в порыве гнева. Он уже понял, что сегодня ловцы не привезут рыбу. Неясной для него была лишь причина: или же кто из скупщиков перехватил, или — старик не хотел этому верить — ловцы прекратили лов.
Наконец у Якова иссякло терпение ждать у моря погоды, и он засобирался.
— Ну-ну, глянь, что они там вытворяют, — согласился отец. — Да глаза-то людям особо не мозоль. Подумают еще, что струхнули, цены потребуют набавить. А может, и не надо бы, а?
— Поеду, — Яков сказал — как топором рубанул. Старик промолчал, а потом не раз корил себя за несвойственную ему мягкость и уступчивость.
Яков оттолкнул лодку и вздернул парус. Ветер рванул серое полотнище, пополоскал им и больно хлестнул шкотом Якова по спине. Он поймал конец веревки, подтянул парус и вырулил на середину реки.
Когда Андрей подогнал бударку к каравану, скатал парус и завернул скаток на рею, на него никто даже не обратил внимания — мало ли по рекам в весеннюю пору бегают под парусами. Ловцы, сбившись в круг на рыбнице, шумели и ругались, стараясь перекричать один другого.
— Нет у тебя таких правов!
— Хозяин сопливый объявился.
— Не слушайте его, мужики, че он…
— Плати по-людски, тогда и рыба твоя.
Перебравшись на рыбницу, Андрей встал на кнехт и из-за спины толпы увидел в кругу Якова и незнакомого бородача. Они размахивали руками, кивали кудлатыми головами, будто пытаясь забодать один другого. Трудно было понять, о чем они спорили, но сквозь гул толпы Андрей улавливал обрывки фраз и помаленьку начинал понимать смысл происходящего.
— Езжай, откуда явился… — горячился Яков.
— Во́ды тут казенные, не твои, — бородач в такт словам рубил воздух огромной волосатой ладонью. — Купля-продажа… свободна. Мою цену дашь? То-то.
— Не мешай работать людям. — Это Илья. Он заметно возвышался над толпой. — Задарма, Яков, хошь брать? Не выйдет. Все городским продадим, потому как платят лучше.
— Ты тоже… — высокомерно отозвался Яков. — Ляпаев турнул тебя, так к нам заявился. А теперь народ баламутишь. Погоди, уедут городские. Не век они тут…
— Ты мне не грози, — осерчал Илья. — Гроза разразилась.
И тут из-за Ильи выкатился Макар Волокуша.
— Да че мы, мужики, время тратим. Айда дело делать. Кто больше платит, тому отдадим. Сколько терпеть можно? От терпения и камень трескается…
— А ты-то откуда взялся? Катись к Ляпаеву своему…
— Для меня что Ляпаев, что ты — один хрен. Живоглоты вы оба, — сказал Макар, и вокруг засмеялись. Яков не стерпел насмешки, дотянулся до Макара и схватил его за грудки.
— А ну, повтори!
— Пусти, — осиплым голосом вскрикнул Макар. — Пусти. А повторить — повторю. Не побоялся.
Яков, сжав кулак, размахнулся было, чтоб ударить Макара, но Илья, будто клещами, зажал его руку.
— А ну, отойди!
— Отпусти папку, — Николка повис на руке Якова.
Андрей понял, что сейчас может случиться непоправимое — и Якову достанется, и мужиков после затаскают. И он закричал:
— Стыдись, Яков!
И Яков, и Макар, и Илья, и дед Позвонок, и многие маячненские узнали Андрея, едва обернулись на голос. Смысл слов дошел до ловцов несколько позже. А первоначально каждый понял нежданное появление его по-своему. Маячненским подумалось, что младший сынок Крепкожилина подоспел на помощь брату: кто-то уже нахмурился, кто-то матюкнулся. А дед Позвонок полез пятерней в нечесаный волос на затылке и проворчал:
— Ядри их в позвонок.
Макар с досады сплюнул: сорвалось! С Яковом он мог и поспорить, и на своем настоять, а с Андреем не мог — совесть не позволяла бы с ним поцапаться. Свойский он мужик, хотя и Крепкожилин. Значит, придется везти рыбу Ляпаеву и отдавать за бесценок. А городские дороже давали, потому как на других банках ход воблы намного хуже.
То же подумал и Тимофей Балаш.
А вот Илья — тот смекнул, что подмога пришла не Якову, а им, ловцам, потому как он, не в пример остальным, знал про Андрея и его городских товарищей несравнимо больше, а после знакомства с Петром догадывался и о цели возвращения Андрея в Синее Морцо.
И Яков конечно же сообразил, что меньший брат ему не заступник и что в стычке с ловцами придется уступать ему, Якову.
Лишь скупщик-бородач, конкурент Крепкожилиных, поскольку был он нездешний, глядел на худощавого незнакомого человека, не ловца по обличию, а стало быть, непонятно как оказавшегося тут, средь камышовых островов, с явным недоумением.
— Стыдно, Яков, из-за копейки поднимать руку на человека. — Андрей говорил, как и прежде, стоя на кнехте, возвышаясь над толпой. — Ловцы правы. Улов — их труд, их пот, и люди вправе требовать хорошей оплаты.
— Помолчи, — огрызнулся Яков, — Тебе-то какое дело. Встреваешь, когда не просят.
— Меня не надо просить. Меня совесть заставляет это делать.
— Ну и катись со своей совестью, не мешай… — Яков, плотный телом, рослый, позеленел лицом, передернулся и молчком двинулся на брата — тщедушного, невзрачного сложением, выглядевшего подростком. И неизвестно, чем бы окончилась эта история, если бы не Илья. Он вновь встал на пути Якова, набычился:
— Не трожь!
Ловцы одобрительно загудели, и Яков, взбешенный своим бессильем, понял, что оставаться здесь не только бесполезно, а и недопустимо, потому как в злобе может свершиться дело куда более худое, чем уже свершилось. И потому он, сдерживая ярость и на брата, и на ловцов, и на городских скупщиков, молча и с недоумением наблюдавших стычку братьев, резко, до хруста в позвонках повернулся и пошел к своей бударке. Но перед тем как спрыгнуть в нее, обернулся все же, грязно выругался и пригрозил:
— Ниче! Дома, опосля, поговорим.
— Ядри тя в позвонок, — не сдержался маячненский дед, и рыбаки облегченно заулыбались.
9
Двойственные чувства противоборствовали в душе Ляпаева, когда до него доползли слухи о стычке крепкожилинских сынков. Яков для Мамонта Андреевича ясен — недалекий грубый человек, чуть что — прет на рожон. Скорее из куриного яйца вылупится индюшонок, нежели из Якова образуется порядочный купец. Известно, что не столько купля учит, сколько продажа, а этот желторотый с первых же шагов дров наломал. Уж куда простое дело — у ловца улов скупить, и то не может обделать. А все скупость неуместная. Скупой, понятно, не глупой. Но богатство — не от скупости. Богатство само скупость порождает. Якову не понять премудрости этой. Не в ту повозку впрягся Яков, не в ту…
Уже который раз удивлял Ляпаева Андрей. С виду немудрящий, неприметный, а будто заложена в нем круто затянутая пружина. И слова у него основательные, и взгляд тверд. Все-то не по нему, все он хочет на свой лад переиначить. Куда уж лучше, казалось бы, складывается у Крепкожилиных нынешняя весна. При его цепкости и твердости мог бы стать опорой старику. Андрей не Яков, этот сумел бы наладить хозяйство. А он — наперекосяк. Норовистый!
Умом понимает Мамонт Андреич, что Крепкожилины соперники, а стало быть, их нелады для него утешенье и лишняя копейка. Но в душе вроде бы и жалко Дмитрия Самсоновича: непутевый сын — ранняя старость отцу. Ляпаев представил себя на месте Крепкожилина-старика и зябко поежился, будто от сквозняка. Да и его, Ляпаева, последняя Андреева выходка слегка задела: городским скупщикам рыбу продали и те, кто в Синее Морцо обычно привозил, на его промысел. Мамонт Андреич этому обстоятельству огорчился не шибко, потому как вобельный кон в разгаре, да и лещ с сазаном ходом пошли на икромет. Только успевай обрабатывать.
Другой бы в отместку ни Макара, ни иного, кто городчанам улов сплавил, близко к плоту не подпустил, проучил бы жестоко. Но Ляпаев не мелочится, по пустякам преследовать да озлоблять людей не привык — сами, глядишь, устыдятся и в другой раз податливее будут.
Такие вот мысли занимали Ляпаева, когда он прослышал от Резепа о происшествии на лову. И, сам в том не сознаваясь, ожидал утренней встречи с Андреем. И когда тот появился на пороге конторки, вместо приветствия спросил ехидно:
— Ватажным атаманом захотелось стать? — И добавил поучительно: — Вся ватага одного делового человека не стоит, отца твоего, к примеру.
Андрей промолчал.
— Побуждать толпу к возмущению — это бунт, — снова заговорил Ляпаев. И тогда Андрей возразил:
— Бунт — когда властям сопротивляются. А Яков грубиян и мелкий торговец, причем жуликоватый. Почему же я должен потворствовать мошеннику? Ворам потакать — самому воровать. Я так считаю.
— А ежели большой?
— Что — большой? — не понял Андрей.
— Большой торговец. Он совсем жулик, по-твоему.
— Тут другие категории, Мамонт Андреич, — придя а себя, успокоенно ответил Андрей. — К крупным воротилам более подходит слово грабитель.
— Эка, хватил!
— Сами посудите. На отца с Яковом работают полсотни, самое многое сотня ловцов. На вас — тысячи. По червонцу на каждом заработать — капитал. Мелким жульничаньем тут и не пахнет.
— Позавидовал! В чужом кармане вы, молодые, научились деньги считать. А вот своих…
— Своих — не будет. А завидую я, Мамонт Андреич, людям с иным устремлением.
— Это кому же?
— Кто эти капиталы на пользу людям обратит.
— Любопытно говоришь, Андрей Дмитрич, — Ляпаева искренне потешали слова молодого собеседника. И потому он далек был от того, чтоб рассердиться на него. — Кто же это позволит моими деньгами распоряжаться, окромя меня.
— Найдутся.
— Так это и будет грабеж! — воскликнул Ляпаев, обрадовавшись тому, что удачно ввернул слово, которое только что наслал Андрей ему и ему подобным. — И позволить себе такое могут только грабители!
— Это будут настоящие хозяева.
— Лю-бо-пыт-но, — врастяжку отозвался Ляпаев и долгим оценивающим взглядом посмотрел на спорщика.
Андрей уловил подозрительность и подумал, что сболтнул лишнее. Ради чего? На сознательность и доброе сердце Ляпаевых рассчитывать — нестоящая затея.
Чтоб враз покончить с этим, Андрей поведал хозяину о результатах поездки по тоням и что троих на Малыкской тоне уложил в постель.
— Как это в постель? — изумился Ляпаев. — Путина в разгаре, а ты…
— Они не могут работать.
— Позволь, молодой человек, мне знать, кто что может, — рассердился Ляпаев, едва от общих разговоров они перешли к повседневным делам. — Потому как свои деньги плачу. Посмотрел бы я, как на отцовском промысле… — Ляпаев не договорил, сообразив, что не туда заехал.
— А мне безразлично где.
— Да-да… тебе все одно. Освободитель отыскался, — зло попрекнул Ляпаев. — Им, ватажникам, только дай слабинку. Притворщик на притворщике. А посмотреть да разобраться, так здоровей нас. — И он насмешливо осмотрел Андрея с ног до головы, мол, тебе-то и надо подумать о здоровье, пока хвороба тело не источила, а не о ватажниках печься.
— Я, Мамонт Андреич, привык каждую болезнь к себе прикладывать. А насчет притворства, может, и правы — иной и слукавить захочет. Только мертвые не притворяются. Я постарался изолировать особо опасных. Болезнь прилипчива, и повальной хвори допускать не в ваших интересах.
— О моих интересах печешься? — примирительно заворчал Ляпаев. — Знаю я тебя. Иди, да впредь не забывай, кто ты тут есть, чтоб вольничать…
10
Путинные хлопоты побуждали Ляпаева частенько отбивать из Синего Морца на иные промыслы. После того как Андрей вернулся с Малыкского, хозяин засобирался туда сам: подоспело время приструнить плотового, да и попутно полюбопытствовать, кого это промысловый врач уложил в постель.
С утра наведался в конторку, прошелся с Резепом по выхода́м, распорядился, что к чему, и отбыл. На Глафиру даже вниманья не обратил, не то чтоб отъездное слово сказать. Она уже давно чует: насколько быстро новоявленный дядька проникся к ней заботой и вниманием, настолько спешно и поостыл к ней. Сегодняшнее утро — еще одно подтверждение ее догадке.
Глафира, памятуя, что всему есть причина, рождающая и слово и соответственно дело, терялась в предположениях, выискивая ту первоначальную точку, от которой началась новая полоса в ее жизни. Причинитель ее беспокойства — Мамонт Андреевич внешне был с ней ласков, не укорял ни в чем, но эта показная сторона не убаюкивала Глафиру: тяжелое детство, нищета и пренебрежение людей научили ее безошибочно определять меру искренности в их отношениях.
Пелагея виною тому быть не может, как родная она Глафире: и кусок послаще ей подсовывает, и к делам кухонным не подпускает. На днях и того больше удивила Глафиру: попросила Мамонта Андреича отрезы купить ей на летние платья.
— Девка на выданье, — увещевала она хозяина. — Ей нужны красивые наряды.
Глафира была в соседней комнатушке, за легкой дощатой перегородкой, оклеенной цветастыми обоями, и случаем услышала те слова. Дядька что-то промычал в ответ, но вроде бы не возражал.
Однако Пелагея — сама человек тут подневольный, и, стало быть, судьба Глафиры зависела лишь от Мамонта Андреича. А его угнетало ее присутствие.
Эта неопределенность подавляла Глафиру. Вспоминалась городская квартира, и хотя гнусное, но вольное житье, друзья, выпивка.
Желание выпить, слегка одурманить себя было настолько велико, что однажды утром, перед завтраком, она, пересилив стеснение, открыла дверцу горки, нацедила из графинчика стопку водки и выпила. И тут услышала шаги — в столовую шел Ляпаев. Убрать посуду в горку не было времени, и тогда Глафира шаганула навстречу дядьке, на пути распахивая на себе халат.
Они столкнулись в дверях. Мамонт Андреевич, увидев ее в халате настежь, не отвел глаза, а в молчаливом удивлении отшатнулся, отметив про себя, как за короткое время округлилось ее тело и что в нынешней Глафире никак невозможно узнать ту прежнюю сухопарую Леру.
Глафира изобразила на лице испуг и, ойкнув, запахнула полы халата.
— Еще бы нагишом пошла… Али одна в доме, бесстыдница, — сконфуженно пробурчал Ляпаев и поспешно пошел от двери. А перед глазами все так же зримо сквозь прозрачное белье розовело ее тело.
— А вы, дядечка, стучите, когда входите, — сказала вдогонь Глафира и, игриво улыбнувшись, закрыла дверь в столовую. Она не спеша выпила еще стопку и убрала посуду в горку, смеясь в душе и над своей находчивостью, и над смущением Мамонта Андреевича.
С того дня частенько попивала она стопку-другую, не чувствуя в том ни вины, ни беды. Жизнь скучна и невзрачна, думалось ей, и не велик грех малость душу повеселить.
И сегодня, когда Ляпаев уехал на Малыкский промысел, вдруг потянуло Глафиру к заветной горке. Но она превозмогла себя, дождалась полудня. Выпив перед обедом, почувствовала облегчение. Но вспомнила слова старухи — соседки по городской квартире: «Пьяница да скляница неразлучны», и ей стало горько. Но лишь на короткое время. Решила: маленько можно. Не в вине вина, а в себе. К прошлому же не вернусь. Ни в чем возврата не будет.
Встречу с Ляпаевым, приезд в Синее Морцо Глафира восприняла как повеление свыше. И хотя не была набожной, думать так было приятно и удобно. Оттого и верила своей выдумке. Поверив же, как бы сжилась с ляпаевским домом, аккуратно по утрам шла на Синеморский промысел, прикипела к его делу, считала его своим. И не само дело увлекло ее, а наличие его, наличие всего предприятия, а точнее, ляпаевского состояния. Незаметно ею овладела мысль, что это и ее состояние, поскольку наживалось оно еще в давние годы, в бытность Лукерьи. Помаленьку забылось, что покойная тетка не привечала их, за родню не считала. Да и не было это обстоятельство теперь важным. Лукерья ее тетка — и этим все сказано.
Мамонт Андреич уехал на промысел с ночевкой. И Пелагея куда-то запропастилась, — видать к соседкам посудачить зашла: редко выпадает ей свободный, как нынче, денек. Глафира одинешенько поскучала в хоромах да и подалась на промысел. Ловцов к вечеру там не бывает. Ватажный народец, утомленный трудом, в казарме отдыхает. Резеп небось в окошко из своей светелки крохотной поглядывает, ее поджидает.
Была пора меж концом дня и началом ночи. Бледно и застенчиво обозначилась звезда-вечерница, но тени на улки еще не легли, золотилась вода багряным отсветом зарницы. Спокойствие и усталость опустились на землю. И гуси дикие за рекой затихли, и во дворах смолкли дневные звуки, а вечерним — коровьему мыку, звону доенок да скрипу закрываемых ставен — еще пора не подоспела.
Резеп и в самом деле ожидал Глафиру, потому как с Андреем у нее случилась осечка, после чего стала богатая деваха повнимательней с ним, плотовым. Да и возраст диктовал свое — поди-ко уже не сегодня и не вчера за двадцать перевалило. А тут — весна. Весной же, известно, не только человек к человеку, а и букашка к букашке липнет.
Завидя ее, Резеп возликовал: еще не было такого, чтоб вечером сама к нему заглядывала. Заходила, правда, но днем, будто по делу какому. А тут… Или втрескалась девка, или стыд потеряла. Говорят же, что девичий стыд до порога. Верно, знать, говорят: раз переступив порог его жилья, Глафира не считала зазорным прийти и вечером. А может, про другой порожек пословье? Вот тогда бы уж Глафира не увернулась от него, а с ней — и промысел Ляпаевский. На меньшее в таком случае Резеп не согласится, да и Мамонту Андреичу ничегошеньки не стоит дать сиротке-племяннице один, хотя бы самый завалящий, промыслишко. А впрочем, почему завалящий? Порченый товар с рук сбыть нелегко. Резеп еще поторгуется! Вот надо только помочь Глафире этот самый порожек переступить.
11
Глафира всякий раз вспоминала этот вечер с чувством досады. Не стыда, не угрызения совести, а именно досады, потому что в тот же вечер поняла: слишком крупный козырь дала в руки Резепа.
Сидели они в тот раз долго, болтали о пустяках. Резеп предложил гостье чай, сам выпил стопку-другую водки. Несколько позднее и Глафира не утерпела, да и невозможно было ей перемочься, потому как при виде зелья теряла всякую волю. Ее невоздержанность подтолкнула Резепа, и он подступился к ней с присущим ему нахальством и напором.
Когда произошло все, что могло и должно было произойти между пьяной распущенной девкой и здоровым, повидавшим немало женщин холостым мужчиной, Резеп, ошарашенный тем, что открылось ему, сказал, не скрывая разочарования:
— Дорога-то езжалая, оказывается…
— Да и ездок по многим дорожкам помотался, — в тон ему ответила Глафира.
— Мужику вроде бы оно пристало, дозволено в некотором роде. А за девкой нехорошая славка поползет.
— Ты смотри-ка… То соловьем разливался, то вороном закаркал, — неприятно удивилась Глафира. — Али не все равно тебе?
— Снятое молоко — не цельное, вкус не тот, — зло мстил Резеп, твердо уверенный, что теперь Глафира никуда не денется, будет делать все, что он скажет. Но знал Резеп и другое: и сам он не свободен, перед собой, не сможет отказаться от Глафиры, точнее, от богатства, которое вместе с нею будет его. Он долго шел к цели, хитрил, уворовывал хозяйское, копил. Но все припрятанное за долгие годы ничто по сравнению с тем, что может привалить нежданно-негаданно с нею. Плохо, что вместе с приданым ему придется взять и подпорченный второсортный товарец. Но желание выйти в люди было столь велико и мечта эта вынашивалась так долго, что в душе, как это ни досадно, Резеп смирился с тем, что он у Глафиры не первый. И даже пытался оправдать ее: я, что ли, лучше? Да и вокруг столько кобелей увивается: ссильничали небось…
— Я тебе противна? — шепотом спросила Глафира и обняла его, недвижно лежащего рядом, потому как знала: мужика резкостью не перешибешь, а лаской и покорностью даже самого настырного запросто заполонить. — Ну, был грех, Резепушка, был. Силой понудили.
— Из греха шапку не скроишь, — примирительно ворчал Резеп, довольный тем, что Глафира подтвердила его мысли: насильством взяли. И он пожалел ее, провел шершавой рукой по завиткам волос, прижал податливую пахучую голову к груди.
— Ты меня будешь любить? — снова зашептала она, прижимаясь к нему всем телом, теплым и вздрагивающим. — Дядя обещал хорошее приданое. У нас все будет, Резепушка. Ну скажи, любишь?
Кто тут разберется: любит — не любит. Хорошая вроде-ка баба, приятная, горячая. Что еще тут говорить? А вот разговор о приданом Резепа заинтересовал.
— Не говорил, что дает тебе?
— Не спрашивала.
— А ты спроси. Дело житейское. У него вона сколько промыслов. Одним… двумя, — осмелился Резеп, — меньше останется — не обеднеет. Без средствов на жизнь. Это богатому житье, а бедному — вытье. Пущай не скупится. Все одно в могилу с собой не заберет.
— Ну что ты, Резепушка. Как можно…
— Можно. Все там будем, только в разное время. А насчет промыслов не забудь. Полюбопытствуй. Все одно наследников нет. Ты одна у него. Со временем все твое будет.
— И ты станешь их хозяином.
— Там видно будет, — неопределенно ответил Резеп и добавил для пущей убедительности: — Поживем — посмотрим.
…Пелагея встретила ее попреками:
— Ты где это, девка, запропастилась?
— На улице, с девчатами…
— Глянь-ко, полночь скоро. Я уж расстроилась: не на промысле ли, думаю, не у Резепа ли задержалась. Такой бабник — не приведи господи. Ты его, распутника, остерегайся: вмиг салазки загнет.
Когда возвращалась Глафира, ждала нареканий, приготовилась, но не могла предположить, чтоб Пелагея так в точку угодила, а потому неожиданно для себя смутилась, запламенела лицом, Пелагее же подумалось, что наговорила она лишку и тем самым смутила девку, а потому, чтоб сгладить неловкость, предложила:
— Попьем-ка чайку, а? Седни рылась в кладовке и баночку малинового варенья нашла. Думала, только вишневое да смородинное осталось. А глядь — малинового баночка. Ты готовь-ка на стол. Я подогрею самовар. Он, поди-ко, еще и не остыл. Тебя ждала.
За чаем Пелагея сказала:
— Мамонт Андреич вчерась в Шубино был, отрезы понакупил — загляденье. Не показывала я тебе? — Она прошла в переднюю и вынесла оттуда целую охапку свертков. — Это тебе все. Себе я вот этот только возьму, пупсик голубой.
— Зачем так, Пелагея Никитична, что я буду делать с ними?
— Платьев понашьем. Я и кроить-шить умею. Покойницы Лукерьи машинка без дела стояла, ну и под-научилась…
— Вот это тоже себе возьмите, Пелагея Никитична, шелк китайский. Он вам к лицу.
— Куда мне наряжаться, — смутилась Пелагея. — Лучше ситчик. Смотри-ка, узорочье какое!
Так они по-женски долго говорили о тряпках, распускали куски ткани, прикладывали к себе, вертелись перед зеркалом. Глафира расчувствовалась и сказала:
— Все это ты, Пелагея Никитична, упросила дядю купить. Знаю-знаю, не отказывайся. — Призналась: — Я слышала.
— Ну так что, что я? Деньги-то не мои. Мало ли я чего попрошу.
— Дядя вас слушает. Такой покорный с вами. А меня не любит.
— Что ты, Глафирушка. Понапридумаешь тоже. Грех так думать. Он добрый.
— Со всеми, может, и добрый, а со мной — нет. Я ему мешаю.
— Выдумаешь тоже. Никому не мешаешь, — запротестовала Пелагея, а сама вспомнила слова Мамонта Андреича о том, что хорошо бы, мол, Глафиру в город отправить. Слышала, стало быть, а может, сердце чует. Женское сердце догадливо…
— Тебя он почитает, — продолжала меж тем Глафира. — И любит.
Пелагею будто обожгли ее слова. Неужели знает Глафира и про нее? Как некрасиво-то! И она призналась:
— Мы с ним, Глафирушка, как муж и жена. Он давно мне предлагает браком сочетаться, да я упросила погодить малость. — Пелагея зарделась от непривычности к таким разговорам и откровенностям, но превозмогла себя и понудила сказать все до конца. — Зачала я, Глафирушка, понесла от Мамонта Андреича. Ох, господи, грех-то какой!
— Ну что ты, Пелагея Никитична! Разве грешно человека любить.
— Что ты, что ты, Глафирушка. Слова-то какие стыдные говоришь! Али семнадцать мне. Привыкла я к нему. Добрый он, да и мне одной в чужих краях не сладко. И в верха вернуться — кому я там нужна: ни кола ни двора. И детей у меня нет. Не раживала. У нас в селе говорят: не строй семь церквей, а нарожай семерых детей. Тут хотя бы одного заиметь. Теперь, кажись, детная буду. Рехнулась под старость лет. И страшно, и стыдно — не молодайка.
— Какая же вы старая, Пелагея Никитична!
— Разве мало — тридцать пять годов? Да и чудится мне, будто все полста прожила. Натерпелась — врагу клятому не пожелаешь.
Прямодушный, без утайки разговор этот еще больше расположил Глафиру к Пелагее. Подумалось: уж теперь-то наверняка ей нечего опасаться дядюшкиного нерасположения. Пелагея Никитична переломит его, уж ее-то он не ослушается.
— Можно, я вас тетей Полей буду называть? Мы как-никак теперь сродственники.
— Отчего же, — ласково улыбнулась Пелагея. — Это мне приятно. Спасибо, Глашенька.
В добром, умиротворенном состоянии они разошлись на покой близко к рассвету и скоро заснули.
…Солнечное тихое утро следующего дня показалось Глафире праздником: едва она проснулась, Пелагея, все такая же ласковая и предупредительная, позвала ее к столу, угощала оладьями в сметане и с икрой, чаем со вчерашним малиновым вареньем.
На промысел Глафира явилась рано, веселая и возбужденная и добрым ласковым началом дня и вниманием, которое оказала ей Пелагея. Рыбаки еще не подъехали, приплоток пустовал. И ватажники не появлялись из казарм, заканчивая завтрак, переодеваясь в парусину и брезент, чтоб не мокнуть у чаньев.
Взбежала на крыльцо, распахнула дверь.
Глафире хотелось сказать людям что-то доброе, сделать приятное, чтоб люди чувствовали то же, что и она, были счастливы. Но никто ей не встретился, и она направилась в конторку к Резепу.
— Ты что?.. — удивился он, увидев ее сияющей, непохожей на прежнюю.
— Угадай, — озорно предложила она и подошла к столу, за которым он сидел.
— Еще чего, время терять.
— И не отгадаешь. — Она склонилась над ним. — Никому не скажешь? Побожись.
— Вот те крест святой.
— Скоро свадьба будет.
— Эт-то… чья свадьба? — У Резепа вытянулось лицо, и он снизу посмотрел на нее.
— Мамонта Андреича и Пелагея. Понял?
— А тебе-то что? Блестишь, как пятак начищенный… — разочаровался он. — Возрадовалась!
— Почему бы и нет?
— Обожди, не так запоешь. Ты не гляди, что она смирная. Мягко стелет, да жестко будет спать. Овладеет всем ляпаевским — не подступишься. А дите появится, так и совсем дело швах!
— Будет и ребеночек, тетя Поля сказала. Только ты никому, не забудь — побожился.
— Мне-то что, пущай хоть тройню враз. Мое дело стороннее. А ты наплачешься.
— С какой стати?
— Хлебнешь горя-то, обожди, — каверзничал Резеп. — А то — возрадовалась.
— А по-моему, Пелагея Никитична очень добрая, — неуверенно возразила Глафира.
— Ха! Добрячку отыскала. Охмуряет она Ляпаева, оттого и ластится. Нужды-то она хлебнула вдосталь, знает, почем фунт лиха. А тут — заживный мужик подвернулся. Она при Лукерье в малой избенке жила, а как хозяйка померла, мигом в дом перекочевала. Когда ни приди, чай на пару распивали. Она вокруг него так и крутится, так и крутится. Видел я, че там говорить. А ребенок, говоришь, появится да обвенчаются — так и совсем охомутает она хозяина. И тебе тогда приданое не видать, как своих ушей. Потому как дите — законный наследник!
Как нужный злак взращивается с превеликим трудом, так и добро постоянно пестовать надо. А сорняк и зло — лишь семя кинь в землю — сами произрастают. Обронил Резеп зерна сомнения в душу Глафиры, и с той минуты не знает она спокойствия. И все-то по-иному воспринимает: и доброту Пелагеи, и заботу ее, и ласковые слова, улыбку…
Прошло два-три дня, и Глафира стала думать примерно так же, как и Резеп: ишь как хозяйничает по дому, все по-своему. К делам домашним не подпускает да же — дает понять, что она тут хозяйка, а я — так себе, гость, не больше. Во всем Мамонту Андреичу угодить старается, а тот и рад, хозяюшкой ее величает. Самостоятельный вроде человек, а как неразумный. Подожди-ка, состаришься, она тебя раньше времени в могилу вгонит. И все промысла отпишет своему дитю.
И как только в своих недобрых рассуждениях добиралась Глафира до будущего ребенка Пелагеи, все ее нутро выворачивалось наизнанку. Явилась, видишь ли, неизвестно откуда, — и подай ее ублюдку все состояние. А она, Глафира, и ее дети, которые непременно будут, ни шиша не получат. Нет, такой несправедливости она не потерпит, потребует от Мамонта Андреича своей доли, и он конечно же не откажет. Близкая ли, далекая ли, а родня. А упрется — так напомнит она и про случай в гостинице. Небось не пожелает огласки. Хоть и говорят, что мужик богатый — что бык рогатый, ничего, рога пообломать можно.
12
После схватки с Яковом на ловище Андрею пришлось перебраться в медпункт на Ляпаевский промысел. В первые дни после стычки он ночевал дома, да и в обед, если не был в отъезде, забегал к матери. Меланья, прослышавшая о ссоре братьев (ей вся эта история представлялась лишь временной ссорой), жила в томлении. Зная невоздержимый и буйный характер старшего сына, перенявшего все ненужное от отца, она страдала и боялась за Андрея, опасаясь, как бы братья не встретились одни, без нее. А потому почти никуда не отлучалась, даже в лавку бегала, когда провожала Андрея на работу. Яков же все эти дни неотлучно был на своем промысле.
Дмитрий Самсоныч наведался разок, но с меньшим сыном не привел бог встретиться. Старик даже порадовался, что господь оберег их от встречи, потому как ничего хорошего сказать Андрею он не собирался, а ругать его тоже нельзя, не из молчаливых: слово за слово, а там и до греха рукой подать. Меланья прикидывалась несведущей, будто слыхом ничего не слыхивала и знать ничегошеньки не знает. Угождала старику, как могла, радовалась, когда он уехал на промысел. Старик чувствовал ее хитрость, но делал вид, что ничего не видит.
То ли годы свое брали, то ли чувствовал он свое бессилие перед Андреем, а вернее — свое непонимание его слов и поступков, только пропали в нем прежние несдержанность и буйство и изнемогло все в нем, как если бы ослабла а душе натянутая струнка. Не было прежней охоты поучать, наставлять, подчинять своей воле.
Но Яков остервенел вконец, жаждал встречи с Андреем. И как Меланья ни стерегла их, просмотрела. Он объявился в сумерках, когда Меланья доила коров. Настороженным слухом она уловила шумные голоса, оставила доенку под коровой и кинулась с база к дому.
Яков с пеной у рта кричал что-то непонятное, вздымал кулаки, тряс ими, наступал на брата. А тот весь бледный как полотно жестко, колкими глазами смотрел на разъяренного, готового к драке Якова и молчал.
Появление матери несколько успокоило Андрея, подбодрило. Он, уловив момент, когда Яков захлебнулся ругательствами, сказал тихо и с дрожью в голосе:
— Созрел ты до Крепкожилиных. Готов пришибить даже родного брата. Не то чтоб жить под одной крышей — воздухом одним с вами дышать противно и даже преступно. Ты, мама, не плачь и не бойся. В обиду себя не дам, постою за себя. Иначе нельзя, зверье загрызет.
Утром следующего дня, собрав немудрящие пожитки, ушел из дома. Попытался утешить мать:
— Мне будет лучше, не расстраивайся. Да и тебе спокойнее, мам…
— Понимаю, Андрюшенька. Все это так, но сердце ноет, болит. Худо человеку без дома, худо.
— Я буду наведываться, мама, приходить к тебе. А дом — что ж… Женюсь, обзаведусь семьей. А тут мне не житье.
— Не житье, — согласно повторила она. — Кака уж тут жисть. Глазоньки бы не глядели.
И едва он, бездом, вошел в медпункт, новая напасть оглушила его. Прибежала поджидавшая его Ольга, выпалила с порога:
— Максут умер, Магрипа сказывала. Она пождала-пождала, да ушла. С Кумаром сейчас к Садрахману едут. Там он, Максут-то… А хоронить завтра будут.
Кончина безродного казаха вновь вернула Андрея мыслями к отцу и брату. Ужаснулся: как же теперь они, причинники Максутовой смерти? Неужели так и будут жить со спокойной совестью?
— Андрей Дмитрич…
— Ты что заладила; Андрей Дмитрич, Андрей Дмитрич. Зови меня по имени. Между товарищами, Оля, все должно быть просто. Резеп здесь?
— Нужен он мне!
— Мне нужен, Оля, — улыбнулся Андрей. — Лодку на завтра попросить. До Садрахмана, на остров, и в межень-то посуху не доберешься.
Андрей ушел в контору, а Ольга вернулась в свою каморку. Гринька мастерил поршни из сыромятной кожи, шерстью внутрь — такую самодельную обутку можно носить даже зимой, были бы носки шерстяные да портянки потеплей.
— Ты че это зачастила, человеку спокою не даешь? — строго спросил он. Но забота его была не об Андрее. Ольга это знала, а потому и ответила вызывающе:
— В чулан вон меня, под замок.
— Ты брось баланить. Тебе дело говорят. Не положено девке к парню в дом ходить — понимать должна.
Гринька занялся делом и больше не напоминал ей об Андрее. Но она непрестанно думала о нем и немало дивилась, что он дотемна на промысле, а не дома.
Ольга допоздна ворочалась с боку на бок, прислушивалась, но так не слыхала, чтоб скрипнула соседняя дверь. Утром она увидела его выходящим из медпункта и поняла, что он ночевал там.
Хоронить Максута решили на острове, где было несколько казахских могилок с тяжелыми саманными оградами, в том числе и Садрахмановой старухи. Андрей вошел в знакомую землянку, обвешанную травами и кореньями. Едва он переступил порог, в лицо ударил спертый душный воздух, и его замутило. Он снял кепку и никем не замеченный остановился возле дверного косяка.
Посреди землянки на деревянном щите лежало завернутое в белое тело Максута, вокруг на коленях сидели Садрахман, Кумар, Магрипа и еще двое незнакомых стариков и читали молитву. Глаза у всех прикрыты, губы еле приметно шевелятся, руки ладонями вниз лежат на коленях. Вот Садрахман нараспев проговорил вслух несколько слов, и все враз лодочкой сложили ладони у рта и так же вслух повторили сказанное стариком. Из всего Андрей понял лишь одно слово — «Алла!».
Кумар покосился на Андрея, кивнул ему, мол, обожди, сейчас закончим, и молитва продолжалась.
На любом языке молитвы об одном, думал Андрей, все верующие просят у бога райской жизни умершему. И уверены все, что там, за недосягаемой живыми чертой, есть вечная жизнь, а эта, земная, короткая, лишь вступление к той, загробной. Человек рождается на смерть, учит религия, а помирает на жизнь. Здорово все же сказано, если начисто отбросить веру в потусторонний мир. Земная жизнь человека и вправду лишь временная. А вот когда организм умрет, когда его живое тело, живые силы возвратятся в общую массу неживой материи и будут подчинены законам неживой природы — всемирного тяготения, сохранения вещества и энергии, жизнь его действительно станет вечной, не подвластной времени. Что это — случайное совпадение или же, создавая религию, человечество в основу ее клало непреложные законы природы и лишь позднее придумало сказку про рай и ад?
Молитва закончилась, все встали, подняли щит с телом покойного и вынесли из землянки. Правду говорят: по жизни — смерть, по смерти — похороны. Жил Максут незаметно, умер тихо, хотя и был, как рассказал Кумар, в ясном уме, и его предали земле тишком: ни слов громких, ни слез. Лишь одна Магрипа, когда опускали в могилу, укладывали запеленатое тело в боковую нишу на дне, стерла одинокую слезу тыльной стороной ладони.
Подивился Андрей душевной тонкости стариков: ни слова не обронили обидного, ни взглядом укорным не кольнули, будто он и не сын Крепкожилиным. Лишь смиренно покивали головами, приглашая его быть соучастником их общего горя, и будто забыли о нем.
13
Риск в рыбном деле куда больший, нежели в ином предприятии — сельскохозяйственном, например, не говоря уже о фабрично-заводском.
Там как? Обеспечено дело сырьем, есть работные руки, станки — крутится дело, штампуются железки, вытачиваются детали, и успех дальнейший, стало быть, только от сбыта товара. В хозяйстве сельском несколько сложнее. Заботят землепашца и иные хлопоты: ранняя ли явится весна, вёдро будет или засуха?
А уж рыбников господь озадачил, кажись, больше остальных. Все тут важно: и время вскрытия низовых рек, и таяние снегов в верховьях Волги, и обилие или скудность прибыльной воды, мера ее нагрева. Ветра тоже влияют на рыбоход: одни поднимают морские косяки, гонят их встречь весенней снеговой воде, другие — загоняют в морские глубины. И еще десятки крупных и мелких условий и причин влияют и на ход рыбы, и, стало быть, на улов и рост капиталов: то ли прибылей наживешься знатных, то ли по миру пойдешь с сумой. В рыбном деле прибытки с убытками рядом живут. Даже от того — какой была минувшая зима и сумели ли заложить в достатке ледяные бугры. Вот уж, право, быть во власти прошлогоднего снега.
Все эти причины нельзя спланировать заранее, порой — даже предугадать. А когда они становятся явными, нет времени перестроить дело, чтоб избежать неминуемых в таком разе убытков.
С годами, однако, рыбник примечает все, примеряет, что к чему, и уже решает, когда, сколько и какой рыбы — воблы или леща — заготовить, сельди засолить и краснухи. Познания приходят не вдруг, не сами собой. И Ляпаев и Крепкожилин — люди не молодые, повидали всего в жизни, к ловецкому делу привычные. По небольшому паводку и устойчивым юго-западным ветрам накануне егорьева дня, приходящегося на начало последней трети апреля, каждый сам по себе дошел до мысли, что сельдь скопилась в северных мелководьях между Астраханью и Гурьевом, а значит, ринется в означенный природой день через восточные банки, не обойдет ни Золотую, ни реки у сел Маячное и Синее Морцо. Такая раскладка погодных условий предвещала знатные уловы.
Оба — Ляпаев и Крепкожилин — с тихой радостью ждали заветных сельдевых дней, но каждый готовился к ним согласно своему разумению, Дмитрий Самсоныч сбыл первую партию воблы-сушки и закупил у городских бондарей пять сотен бочек для посола сельди-залома. Благо ездить в город не пришлось: и скупщики вяленой рыбы, и сбытчики бондарных мастерских сами добирались до низовых промыслов. Это обстоятельство радовало старика Крепкожилина, равняло его с Ляпаевым, потому как в противном случае надо доставлять товар в город и там же закупать тару. А на чем везти? Тут-то и загвоздка. Дело у Крепкожилиных новое, молодое, спервоначалу и денег-то на все не хватит, а тем более на приобретение рыбниц или барки для транспортировки.
Одним словом, Дмитрий Самсоныч по-своему неплохо подготовился к скупу сельди и, едва она стала путаться в сети и заполнять кошели неводов, начал засаливать ее в чаны.
Ляпаев хитрил. По опыту прошлых весенних путин он знал, что следом за первыми косяками пойдут еще более многочисленные, и тогда цена на сельдь сойдет на нет — хоть алтын за пуд плати, бери за бесценок сколько надо, а продавать с Крепкожилиными в самом худшем случае он будет по одинаковой цене. В позапрошлом, схожем с нынешним, годом сельдь пошла по Золотой и реке Ватажке так обильно, что вода до срока вышла из берегов, а ловцы выдрали из воды все сети и зюзьгами черпали рыбу из реки, словно из мотни невода. Вот почему и решил Ляпаев повременить.
Хитрость эта явная для бывалых рыбников, и Ляпаеву было удивительно, что старик Крепкожилин не дошел умом до нее, а берет без разбору все, даже то, что привозят ему ловцы, арендовавшие Ляпаевскую Золотую яму. Скорее всего, жадность глаза застит, иначе смекнул бы, почему Ляпаев воздерживается. А коль уж недогадлив, пускай кожухами расплачивается — убытки учат жить.
Мамонт Андреич все эти дни объезжал промыслы, проверял, готовы ли плотовые к скупу, солильщики — к обработке, все ли, что нужно, — тара, соль, селитра — закуплено. На Малыкской отлаял плотового за беспорядки, отменил распоряжение Андрея и, пригрозив расчетом, велел троим больным выходить на работу.
Вернулся в Синее Морцо довольный, успокоенный тем, что сделал. Но безмятежность эта была недолгой. Наутро, едва явился в конторку, потребовал у Резепа отчет о прошедших днях. Плотовой доложил все обстоятельно, не забыв сказать, что Андрей резал Гриньке руку и тот шалберничает целыми днями. Этот, казалось бы, незначительный для промысла случай вывел хозяина из себя. Всегда сдержанный, владеющий чувствами и даже выставляющий напоказ свою невозмутимость, он тяжело задышал и сжал челюсти до ломоты в скулах. Нашел время отстранять людей от дела! Вот-вот начнется скуп сельди, и тогда каждый человек на вес золота, каждый день, проработанный им, прибыль хозяину. Или этот Крепкожилин не соображает ничего, или с умыслом.
— Смутьян этот Крепкожилин, — говорил меж тем Резеп, — и развратник. Из дому ушел, чтоб к ватажным девкам ближе быть. И эта, Ольга, сестра Гринькина, бегает, потаскуха, к нему. Невылазно там. Одна шайка-лейка…
— Насчет баб помолчал бы хоть, — оборвал его Ляпаев. — Нечего овечкой прикидываться. Да и лучше, если бы он по бабам шастал да девок портил. Где он?
— У себя, на пункте.
— Покличь, — коротко приказал Ляпаев, но, едва Резеп кинулся к двери, вернул: — Погодь. Ты здесь пока побудь. — И вышел из конторки.
Что заставило Ляпаева вдруг подняться и пойти в медпункт, а не дождаться строптивого лекаря в конторке, где и отчитать его как положено, он и сам бы не мог объяснить. Видимо, сильное возбуждение не позволило оставаться в бездеятельном ожидании. Но так или иначе, Ляпаев зашел в лечебню и потом сожалел об этом. Андрей был не один. Спиной к дверям, раздетый до пояса сидел на табуретке белотелый крепыш. Андрей выстукивал спину, прислушивался к глухим звукам, а потому недовольно обернулся, когда хлопнула дверь. Ляпаеву пришлось не по нраву, что врач не засуетился, когда увидел хозяина, даже не предложил сесть, а продолжал осматривать больного.
Ляпаев подошел к ним поближе, бесцеремонно развалился на койке, застланной простынкой, и с молчаливой, злой усмешкой уставился на полураздетого квадратного в теле русоголового мужика, покорно согнувшегося в пояснице.
— И этого освобождать будешь?
— По всей вероятности, нет. Пока дам порошки от простуды, да горчичники на ночь поставим. Просквозило. — Андрей с первых же слов Ляпаева понял, чем вызвано его появление здесь и к чему ведет он разговор. А потому отвечал сдержанно и пространно.
— Ежели и таких в постель, работать кому? На нем воду возить можно! — начал заводиться Ляпаев.
— Сначала надо запрячь, — отозвался русоволосый.
— Что?
— Запрячь, говорю, надо сначала, чтоб воду-то возить, — невозмутимо пояснил крепыш и обернулся.
— Что встреваешь? Кто такой? — осерчал Ляпаев.
— Иван Завьялов, из пришлых, — твердый взгляд зеленоватых глаз покоробил хозяина.
— Ты, гляжу, не только из пришлых, а и из ушлых, — сострил Ляпаев. — Словоохотлив. Так вот, как пришел, так можешь и убираться. — Он решил сразу же поставить этого хама на место, припугнуть, чтоб, держал язык за зубами.
— Можем и уйти. Нас двое с братом. Да и мужики некоторые уже поговаривали о том же.
Вот как! Ну шельма, в самую болячку попал. Дать бы раз в нахальную рожу, совсем обнаглел. Вскипел Ляпаев нутром, взъярился, но, помня дело, переломил себя, ибо понял, чем может обернуться несдержанность. Попробуй-ка найти людей сейчас, в разгар путины. Пришлых нет, после кайма лишние отхлынули на другие ватаги да в город, а свои, сельчане, на лову.
— Ну-ну, — помрачнев лицом, буркнул он и Андрею: — Гриньке велю на работу выходить. А впредь без моего согласия…
— Хорошо. Но Гриньке никак нельзя. Организм молодой, заразлив. Может плохо кончиться. Рана открытая. Рука по локоть покраснела. Не может он, Мамонт Андреич.
— Сможет, — Ляпаев резко поднялся. — А нет — так расчет. А ты не в свои дела не встревай.
— Не надо так, хозяин, — вмешался русоволосый, натягивая парусиновую ловецкую робу. Он стоял у двери, готовый уйти, но не ушел, потому как понял, что Андрею трудно одному и нужна поддержка. — Оставь, хозяин, мальца. Мы за него постараемся. А ему расчет, так и мы уйдем. Это я вам обещаю. — И ушел.
— Откуда этот?
— Иван Завьялов? С верхов, я точно не знаю.
— Смутьян! — И тоже вышел, резко хлопнув дверью.
14
Андрей ликовал: сломали Ляпаева, теперь Гриньку он не тронет, да и вообще будет осторожней. Ай да Иван! Ай да Завьялов! Как он жестко разговаривал с хозяином. Сколько достоинства и силы в его словах!
Неправду сказал Андрей, что ие знает, откуда забрел сюда этот пришлый человек. Знает. Но не сказал — незачем знать Ляпаеву про Завьяловых.
С братьями Завьяловыми Андрей повстречался на медосмотре. Они вошли вдвоем.
— Здравствуй, доктор. Мы Завьяловы.
— Слыхал, сказывали.
— Ну и добре. Раздеваться али как?
— До пояса. — Андрей, пока Завьяловы снимали полушубки и рубахи, смотрел на них и дивился, как могут быть непохожи братья.
Старший, Иван, кряжистый, телом белый, как женщина, глаза зеленоватые, а волосы на голове — русые, с ржавым отливом. Был он суетлив, охоч до слов.
— Родные? — поинтересовался Андрей.
— Однокровки, один отец, одна мать, — с готовностью отвечал Иван. И пошутил: — А может, звонарь виноват — слишком уж разные мы но обличию. Звонарь-то вылитый солнышко был — на звоннице выцвел, видать. А брательник — так тот с родителем как две капли схож.
Первым подошел Алексей, меньшой. Был он, в противоположность Ивану, черняв, худ, молчалив. Андрей долго выслушивал его: насторожили впалая грудь и частое мелкое покашливание. Однако ничего серьезного не выявил — не иначе как в долгой дороге застудил горло.
С того дня истекло немало дней. Встречаясь с Андреем, Завьяловы здоровались, как с давним знакомым, причем Иван непременно с прибаутками, Алексей же лишь кивал головой, по-женски слабо жал протянутую ладонь и стремился отойти.
Открылись Завьяловы уже в путинные дни, когда Андрей вечерами стал задерживаться в медпункте. Иван пришел один и сразу же — о деле. Чувствовалось: не хотел он долго задерживаться у Андрея, чтоб не вызвать подозрений.
— Побалакать надо. Хозяин в отлучке. Резеп в село подался. Все спокойно.
— Отчего же не поговорить, — осторожно согласился Андрей.
— Тебе о нас говорили, а нам — о тебе. Точнее ежели — мне сказывали. Лексей, брательник, шибко нашими делами не интересуется, но сделает все, что надо. Работать нам вместе, Андрей, а для этого вера в человека — важнейшее условие. Сразу скажу: и Лексей и я — бегляки. Из уезда нас в город переправили, а городские товарищи — к тебе.
— Кто?
— Много я не любопытствовал, — замялся Иван. — Но Петра знаю, твово товарища. Достаточно?
— Да.
— Так вот. Никакие мы не верховые, а тутошние. Верст сто от Астрахани село Михайловское есть. Землю народ пашет, за скотиной смотрит. Рыбу на котел для себя в озерах добывает. Земель вокруг — неоглядно, однако у мужика же пахотной земли — с хренову душу. А тут недород прошлым годом случился. Собрали крохи. Зимой с голоду пухнуть начал народ. Нужда довела до отчаяния, недовольство началось. Правду бают: прижмет голод, прорежется голос. И очень ко времени городской товарищ приехал, из ваших. Сват у него в Михайловском живет, сосед мой. Так вот стали мы у него собираться и порешили: земля принадлежит тому, кто ее пашет. Комитет сельский избрали. И нас с Лексеем назвали. Дальше такое приключилось: староста наш пронюхал про городского товарища, в уезд сообщил. Оттуда жандарм явился, и пришли они к соседу моему, чтоб заарестовать его свата — городчанина. А мы все там, как дальше жить, головы ломаем. И конешно же не дали в обиду человека. На другой день жандармы явились, человек пять-шесть, с винтовками. Вашего схватили. Сосед-то мой бросился народ скликать, его и шибанули из винтовки, наповал. Комитетчиков начали ловить, тогда мы с брательником да еще пятеро в степь укрылись. Пожили там с недельку, потом уже товарищи уездные нас отыскали — и в город.
— Остальные где же?
— По-разному: кто в городе, кто где.
— А семьи — в Михайловском?
— Где же им быть. Поживем — увидим: то ли сюда брать, то ли сами возвернемся.
— Не найдут, думаешь?
— Не найдут. У беглого одна дорожка, у ищущего — сто. Да и не Завьяловы мы. Ваши товарищи документиками нас снабдили.
— Ну, добре. Спасибо за откровенность.
15
В трех верстах ниже Синего Морца от Ватажки убегает в сторону невеликая верткая речушка Чапурка. У входа, в горловине, две бударки с опаской едва расходятся, а дальше, будто убоявшись, как бы крутые берега и совсем не сдавили ее, Чапурка ширится, течет между пологостями спокойно, неспешно. Вот тут-то очень удачно и облюбовал себе становище Макар Волокуша: промысел недалеко, даже два: Синеморский — Ляпаева и Маячненский — Крепкожилина, на любой можно отвезти и продать улов. И ловище само по себе удобное, будто специально для сетного лова уготовила природа: дно безъямное, неглубокое. Косяки рыбные не обходят Чапурку.
В прежние годы по-разному складывалось у Макара: то в подручные нанимался, то на промысле тачки катал. Самостоятельным ловцом он первый год. С Николкой на пару, что заработают, то их, в одну семью, ни с кем не делиться. Очень это удобно, и Макар рад несказанно, что первенец его уже подсобник надежный, повзрослел.
Николке лестно, когда отец называет его помощником. Парнишка первую путину на серьезном лову, за все горячо берется, во всем с отцом вровень быть ему хочется. Поможливый, одним словом. Как рыбку-малька не приходится учить плавать, так и ловецких детей нет надобности наставлять шестом-веслом работать или, к примеру, сеть поставить. К рыбацкому ремеслу они сами по себе начинают приглядываться и перенимать его, еще когда сопля ниже губы висит. И Николка в этом не исключение.
Доволен Макар и сыном, и собой, и путиной. Славно быть самостоятельным ловцом! Заработал неплохо, должок зимний Ляпаеву отдал, после чего и совсем свободно вздохнул. Но нет-нет да вдруг засвербит в груди, затомится совесть, что не своими — крадеными сетями промышляет, и страх охватывает: чужая пожива — не разжива. Вся радость мигом пропадает, а путинная удача представляется ему шаткой, непродолжительной. Сети в такие минуты руки жгут. Вода весенняя холодна, будто нож острый, мокрые снасти в руки не взять, а все одно огнем жгут. И нет оттого Макару успокоения. Право же, от человека стыд утаить можно, от совести — нет.
Разумом понимает Макар, что свое вернул, злом на зло отплатил Крепкожилиным. Хорошему человеку мстить последнее дело, но со злодеями иначе нельзя. И все же неспокойно, муторно. И вконец засовестился, когда Андрея поближе узнал. После же случая на Золотой, когда он подсобил ловцам одолеть Якова и улов по сходной цене городским скупщикам сбыть, — и пуще того. Бывают люди: переживают, но в себе таят чувства. А иные — не могут прятать, горит огнем нутро у них, пока не выскажут потайное. Таков и Макар. Не замечал вроде за собой слабости душевной, а она есть, оказывается. Она-то, эта слабость, и привела его к Андрею.
Зашел как-то Макар в медпункт взять порошки — Николка животом измаялся: похлебал жирной ухи из краснухи и воды сырой, паршивец, напился из-за борта, ну и пронесло. Взял Макар лекарство, поднялся, чтоб уйти, да Андрей не враз отпустил, начал расспрашивать о жизни, уловах, о семье. И так это человеческое участие, столь редкое в Синем Морце, повлияло на Макара, что опустился он обессиленный на скамью и в добром расстройстве нежданно даже для себя повинился:
— Ты вот, Андрей Дмитрич, интерес проявляешь, сочувствие, так сказать, к человеку, а я ведь обокрал тебя.
— Как обокрал? — изумился Андрей неожиданному обороту разговора.
— Так и обокрал. Нужда заставила. — Долго и путано он рассказывал Андрею о том, как однажды Крепкожилины крепко избили его и отняли сети, и он в отместку снежной полночью под Красавчиком, где был прежде стан Крепкожилиных, выдрал у них сети. С трудом Макар подбирал повинные слова. — Весь порядок, от берега до берега, и вытянул из-подо льда. Дома-то, когда пришел малость в себя да прикинул, оказалось, что лишнее прихватил. Токо вот дело.
Макар умолк. Молчал и Андрей, не в состоянии сказать что-либо в оправдание действий отца и Якова. Да и почему он должен их оправдывать? Сколько бед они причинили людям и даже не чувствуют вины. А этот, бесхитростный, не находит успокоения только потому, что постоял за себя.
— Ты знаешь, Макар Савельич, что ни отцу, ни Якову я не товарищ в их черных делах. Нет им никакого оправдания.
— Мне-то каково, Андрей Дмитрич! Ну чисто заела совесть.
— Ты вернул свое. И правильно сделал, Макар Савельич.
— Так лишние оказались. Ихние…
— Награбленные. Честно состояние не наживешь. Ты в одиночку решил отплатить им за обиду. А если бы поймали?
— Быть бы в проруби, это они умеют! — вспыльчиво воскликнул Макар и тут же застыдился своих слов — как ни говори, а об Андреевой отце такое сказал.
— Правильно, умеют, — подтвердил Андрей, заметив смущение Макара и поняв его причину. — В одиночку опасно вступать в борьбу. В прошлый раз артельно выступили — и выиграли дело.
— Кто знат, ежели не ты…
— Ни я, ни Илья, ни ты — в односилку ничего не добьемся. Сообща, Макар Савельич, сообща только надо. В этом наша сила, в этом наш выход.
— Эт-то ты правильно, Андрей Дмитрич, выход надо искать. Жить, как живем, ну никак нельзя. Выход надо искать.
16
Так людно в промысловой Андреевой лечебне еще ни разу не было. Сошлись вроде бы беспричинно, один Гринька по делу — на перевязку пришел.
— Хозяин хорош, да дом не гож, — с порога возвестил Илья. Они с Тимофеем Балашом по случаю субботнего дня приехали в баньке помыться — с начала путины не наведывались в пустующую хижину. Тимофей баньку истопил, а Илья, едва узнал, что Андрей из дому ушел, потопал в медпункт. — Совести, гляжу, нет в людях совсем. Че это ты, Андрей, в конуре этой живешь?
— У нас в селе так говорят: три кола вбил, бороной накрыл — и дом готов, — поддакнул Иван Завьялов.
— Домовой не полюбил, оттого и ушел. А здешний — рад мне, — пошутил Андрей.
— Ты шутки брось. И пошли-ка ко мне. Мазанка хоть, да жилье обжитое. И пустует все одно. Собирайся, — решительно сказал Илья. — Иначе серчать буду.
— Ладно, ладно, — согласился Андрей. — Так и быть, поживу. А там скоплю деньги да хоромы себе построю.
— Построишь, накопитель отыскался, — усмехнулся Макар. И он забежал двумя-тремя словами перекинуться с Андреем, спасибо сказать доктору за лекарство — Николке полегчало. Они привезли рыбу, выгрузили ее. Николка остался в лодке слизь смыть в трюме, воду вылить, а Макар сюда заспешил. — Ты, Андрей Дмитрич, лучше-ка ляпаевскую девку посватай, вот те и хоромы.
— Можно, — шутил Андрей, опутывая бинтом Гриньке руку. Он был в хорошем настроении — люди тянулись к нему, видели в нем своего, говорили запросто. — Глафира — невеста что надо. Ляпаев не обидит, отвалит приданое. Он добрый. Гринька вон очень доволен им.
— Наговорите, Андреи Дмитрич, — вскинулся Гринька.
— Или забыл, как заступничал за него? — не отставал Андрей.
— Ну, было. Так и он нам помог.
— Выгодно, оттого и взял, — подал голос Илья. — Ишачите с Ольгой круглый год. Где ему других таких найти. А чуть хворь подступила, он и зубы показал. Ты на него не особо-то надейся. Нас держись.
История эта стала известна всем. И Гриньке с Ольгой, конечно же, в первую очередь. С тех пор они перестали смотреть на Ляпаева как на благодетеля, а себя — считать сирыми и обязанными хозяину.
— Сижу, — всполошился Макар. — Николка, поди-ко, управился, хворь-то будто рукой сняло.
— На лов? — спросил Илья.
— Не-е, дома переночуем. Прасковья баньку седни пообещала. Спину ей помылю да потру. А не то и позабудешь, как бабой пахнет.
— Ты у нас один при деле, — в тон ему откликнулся Илья, — остальные — холостежь.
— Глянь-ко, и пра… — удивился Макар. — Женить вас надо.
— Андрей Дмитрич погрозился Глафиру взять.
— С Андреем-то дело проще. С Гринькой канитель. Ему двухметровую девку надо, а то и не дотянется…
— А мне маленькие ндравятся, — серьезно отозвался Гринька и обернулся к шутникам.
— Не дергайся, сейчас закончу. — Андрей раздвоил бинт и стянул концы узлом. — Через недельку можешь тачку катать.
— Целую неделю еще?
— Или невтерпеж.
— Так Ляпаев…
— Ништо! — успокоил его Иван Завьялов. — Хозяину малость хвост прищемили. Сейчас он сговорчивый. В межпутинье опять хамить начнет.
— Нам, главное, вместе держаться.
— Правильно говорит Андрей Дмитриевич. — Это Илья. — Можно так прищучить…
Когда все ушли, Андрей подумал, что люди вокруг него собрались надежные. Он с благодарностью подумал о своих городских товарищах: молодцы, что Завьяловых сюда нацелили. Иван — просто клад: спокоен, рассудителен, прошел боевое крещение, а самое главное — свой он среди пришлого люда. Стоит лишь слово ему сказать, стеной за него встанут. Ватажники — почти пролетарии. Вот уж кому терять нечего.
Андрей посмотрел в окно: мимо медпункта прошла Глафира. Она скосила глаза на оконце, приметила Андрея и, игриво вскинув головку, застрочила каблучками дальше.
«К Резепу, — догадался Андрей, — спелись. Два сапога пара».
Он был рад, что их связь не пошла дальше двух-трех ничего не значащих и к ничему не обязывающих встреч.
Но всякий раз, вот так случайно встречаясь, он не может спокойно смотреть ей в глаза, полные гнетущей, глубоко запрятанной скорби. Слова могут обманывать, поступки — тоже, но глаза — нет. А они говорят, что было в жизни Глафиры очень трудное, даже трагическое. Что — Андрей не знал, но был уверен, что не всегда жила она припеваючи, а потому и не было к ней той неприязни, какую он испытывает к людям с чужой ему нравственностью.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Ледяные бугры, укрытые саженным слоем камыша и сухого разнотравья, загорелись средь бела дня, в самый разгар путинных хлопот. Бударка за бударкой проходила к приплотку, выгружали ловцы сельдь — отборный каспийский залом. Крепкожилины с ног сбились, скупая редкостные уловы, набивали объемистые чаны сельдью вперемешку с солью и льдом. Неделя истекала, как сельдь пошла, семь чанов уже набили, оставались еще три, как навалилась эта беда.
Ветра и южное солнце до сини высушили шубный травяной пласт, под которым весну и даже лето хранили заготовленный с зимы лед. Потому бугры вспыхнули мгновенно. Как страшное и неуемное чудище, огонь с треском пожирал сушняк, будто перемалывал его в ненасытной пасти. Огневой жар палил лица даже тех, кто работал в то время на плоту поодаль от льдохранилища. Подойти к буграм не было никакой человеческой возможности. Да если бы и рискнул иной тушитель, лишь бы опалился, а то и сгорел, но унять огнище не сумел бы даже в малой толике: бугор ведрами тушить — что стог сена кружкой воды.
Яков с дури было кинулся в огнище с ведром, да его вовремя уцепила Алена, взвыла дико и тем самым несколько отрезвила мужа. Дмитрий Самсоныч стоял у изначалья тесового настила, что вел от лабаза к объятому пожарищем бугру, и застекленевшими глазами смотрел, как огонь истребляет его добро. Нет, не только пылающий сушняк да лед, на глазах оседающий под слоем огня и пепла, терял он в эти роковые минуты. Промысел безо льда — уже не промысел. Сельдь, не заморозив, не сохранишь, да и красную рыбу, которая по-настоящему еще и не пошла. Но пойдет она уже мимо них, Крепкожилиных, к Ляпаеву, к волостным богатеям, к городским промышленникам. Дмитрий Самсоныч весь напрягся, будто готовый к действию, но не шелохнулся, потому как понимал: ничем беде не помочь, с гневом божьим не поспоришь. И думал: чьими же руками наслал господь лихо?
А в это же самое время на приплотке, оставив носилки с рыбой, глазели на пожар рыбаки, перекидывались словами, полными намеков, укоров, злобы.
— И год-то ноне непожарный, а вот…
— Без поджога и дрова не горят.
— Оне, робя, красного петуха сами привадили — весной Максутову землянку спалили. Вот петух-то и наведался еще раз.
— С огнем не поспоришь. Это тебе не Максут.
— Не праведные деньги огонь пожирает.
— Правда сказано: не топора и воды остерегайся, а огня.
— Айдате, ноне им не до нас. Рыба закиснет, Ляпаеву, что ли, отвезти.
— Так не берет он, мудрит чтой-то.
— Вчерась, говорят, начал скупать.
— Хитрован! А уж теперь и подавно будет выкобениваться.
— Че поделаешь, надо испробовать.
И полчаса не минуло, как вместо двух горбатых бугров остались пепелища. Камышовые завалы, отсыревшие от белесого пара, шипели и чадили еще, а Яков уже напирал на отца. Они только что зашли в конторку, чтоб скрыться от любопытных людских глаз. Старик, сгорбившись, уперся локтями в острые колени, молчал.
— Не иначе, тятя, поджог. Сволочье сплошное.
— Можа, и поджог. Только до улики че подозревать да сто грехов на себя брать.
Яков удивленно вскинул глаза на отца: что это святым заговорил? Да разве велик грех — подозрение, ежели в жизни ловецкой куда бо́льшие погрешения случались. И ничего — молчал, не каялся. Знать, беда враз согнула. Бывает. Пущай отойдет.
К вечеру Дмитрий Самсоныч и вправду отошел. Позвал Якова, усадил рядом.
— Супротив судьбы не попрешь. Благодари бога, что выход и амбары не занялись. Совсем бы по миру пошли. А тут хоть сушка да сырье целехоньки. Три чана не досолили — че теперь убиваться!
— И краснуху не возьмем, — сокрушался Яков.
— Ниче, мы свое не упустим. Придумаем что-нибудь. Пока же смотри в оба. Коли поджог с умыслом, чтоб не повторился. Тогда — каюк, хоть в петлю лезь.
— Давче мужики рассказывали, будто занялось не там, где лед кололи, а с противного конца. Со стороны леса. Мож, кто чиркнул — да и в лес?
— Все возможно, Яша. Кто лед рубил? Окурок, случаем, не оставили?
— Бабы, узнавал я. Думаю, не косоглазые ли подожгли? Они народ мстительный. За Максутку нешто?
— Кумар только подъехал, сам видел. А Садрахман и не приезжал.
— То-то и подозрительно.
— Как же, будет те старик по острову бегать. Скажешь тоже.
— Узнать бы! — Яков стиснул зубы и опустил увесистый кулак на край стола. — Посчитался бы я с ним, подлюгой. Вспоминал бы он меня и на том свете. — Яков помолчал в злости и вдруг оживился: — Тять, смотрел я, местами лед сохранился, по колено пласт, можно нарубить.
— Думал я, — сказал Дмитрий Самсоныч. — Не мешало бы еще хоть чан-другой набить, только бесполезно это. Зола на льду, сажа… Не селедка — чернота сплошная получится… Я че надумал: у Ляпаева нешто попросить? Нам две-три рыбницы бы загрузить — и будя.
— А даст?
— Кто знает. У него на каждом промысле по два бугра. Запасливый.
— Съездить? — оживился Яков.
— Сам наведаюсь. Тут надо с подходом, он мужик с кандебоберами.
2
Илья с Тимофеем встали ни свет ни заря, едва стаял мрак и открылось недальнее видение на реке. Полное светление, однако, затянулось — мешал туман. Пока вызревало утро и плеснувший солнечный свет спалил серую невидь, обработали вентеря и сети.
— В нашем верховье рассказать, сколько нонче рыбы этой я переловил, брехуном сочли б. — Это Тимофей. Он каждое утро говорит примерно одно и то же, не в состоянии привыкнуть к невиданным для его родных мест уловам. — А шугануть бы этот залом там, в верхах, — мешок денег.
Илья уже привык к его восторженным взбрыкам и даже не слушал напарника — мели, Емеля. Каждую весну на путине он вроде бы терял способность слышать постороннее, переключался обостренным слухом на весенний птичий гвалт и свадебные пернаткины пенья. Неподалеку от их стана — многотысячное грачиное скопище: в ядовитой зелени ветлы черными шапками тесно и бессчетно лепились гнезда. Неумолчный грай крылатого поселения никогда не надоедал Илье, и он по их повадкам загодя определял непогодицу, добрую или сварливую весну. Нынче тоже рано грачи приступили к гнездам, еще по морозным утренникам, отчего открылась Илье в его угадках добрая уловистая весна — словно в воду смотрел. Многоголосый грай редко затухал даже ночами. А несколькими днями раньше прибавились к нему скрипуче-просительные голоса грачат — они всегда доспевали к селедочному кону.
Птичьи хлопоты, яркая зелень, солнце, ласковый ветер и добрый улов сельди ладно настроили Илью. Он на время даже забыл о вчерашнем пожаре на Крепкожилинском промысле, и наступивший нынешний день представлялся ему необыкновенно хорошим. Но известно: хвали утро днем, а день — вечером. Едва они вывернулись из-за песчаного откоса, поросшего густой щетинкой низкорослой ветлы, их глазам открылись строения промысла, и случившееся вновь припомнилось им.
— Теперь че же, к Ляпаеву, а? — обеспокоенно спросил Тимофей.
— К нему, стало быть, — подавленно отозвался Илья. — Поначалу, однако, сюда заглянем, все одно по пути.
— Можно и так, — согласился Тимофей.
С этого момента все пошло наперекосяк, будто кто-то свыше наслал порчу на землю, повредил очень нужный винтик в хорошо отлаженном механизме жизни. Промысел выглядел заброшенным — ни одной лодки у приплотка, ни человека на плоту. Лишь приблизившись к строениям, приметили ловцы ватажников в выходах и под вешалами — они снимали сушку, набивали ее в рогожные кули. Но и в выходах не было обычного многолюдья — что-то и тут приключилось. Не иначе как поуволили работных Крепкожилины.
Подогнали ловцы бударку к приплотку, закурили, выжидая. Но ни Яков, ни старик из конторки не показывались.
К тому времени причалил дед Позвонок с внуком да Кумар с десятилетним сыном — тощим и неимоверно вытянутым парнишечкой. Кумар тоже задымил от вынужденного безделья.
— Видать, у моря погоды ждем.
— Ждать — не устать, да было бы чего ждать.
Быть в неизвестности всегда тревожно и невыносимо, а тут прибавлялась ко всему прочему забота об улове и, стало быть, о заработке, о завтрашнем дне. Потому ожиданье у промысла стало вскоре нестерпимым.
— Пойдем? — Тимофей кивнул на конторку.
— Пош-шел он! — Илья метнул окурок за борт и зло сплюнул.
— Он-то пошел, а это куда девать? — резонно спросил Кумар и повел раскосыми глазами по бударкам с рыбой.
— Айда, Кумарка, — Тимофей поглубже затянулся махорочным дымом и тоже выбросил окурыш. Он, коснувшись воды, коротко шипнул и, покрутившись в тугой воронке на быстрине, утянулся водой под бударку.
— Эх, едрит в позвонок, и мне штолить с вами, — дед поправил на голове истертый треух, с которым не расставался даже в летнюю жарынь, не по годам спешливо взобрался на приплоток и не мешкая засеменил к конторке. Следом утянулись и Тимофей с Кумаром.
Как шел разговор с Крепкожилиными, Илья не знал и расспрашивать не стал, да и переговорщики, которые вскорости вернулись к своим бударкам, не были расположены к длинным речам. Даже дед Позвонок позабыл свое потешное речение, которое был горазд вставлять всякий раз, о чем бы мужики ни толковали промеж себя.
— Сходили за отказом, — зло процедил сквозь зубы Тимофей. Был он крайне расстроен и почти весь путь от Маячненского промысла до Ляпаевского пребывал в молчании и тягостном раздумье. Илья чувствовал состояние напарника, не донимал его расспросными словами, прикидывал, сколько сейчас ловцов съехались на Синеморский промысел, и засомневался, что все смогут сбыть рыбу Ляпаеву.
И Тимофей Балаш о том же мыслил, но лишь применительно к себе. Его не заботило, что кто-то, помытарившись до вечера, вывалит закисшую рыбу за борт, что путинный день обернется пустым, беззаработным. Тревожился Тимофей за себя, потому как с каждым днем близился конец весенней, самой добычливой, поры, а вместе с отведенным для добычи временем таяли и его, Тимофеевы, надежды на легкодоступный прибыток невеликих в общем-то капиталов, но его, личных, которые он, наслышавшись всяких небылиц, вложил в дело и надеялся ну хотя бы удвоить их по перворазу. Обстоятельство это попервоначалу он объяснял невезучестью, потом стал винить Крепкожилиных, устанавливающих не в меру малые цены. Тимофей был уверен, что на торг не ездят со своей ценой, что даже скупщик не всегда волен навязать свою волю, что спрос всему голова и избыток или недостаток товара и цены определяет базар, нужда. Но поскольку последнее слово за тем, кто платит деньги, то и вся вина за ним. Вот почему Тимофей винил Крепкожилиных.
Но сегодня, пока парусную бударку еле приметно гнало ветром встречь воде и неизвестности, которая поджидала ловцов на Ляпаевском промысле, пришел Тимофей к мысли, что не скупщики виною бедам, а кто-то из ловцов: спалил ледяной бугор, вот и расплачиваются работные люди. Так думал он оттого, что в душе был и оставался хозяйчиком и если еще не стал ну хотя бы малюсеньким рыбопромышленником, то не в том причина, что характером не вышел или устремлениями. И тем и другим Балаш доспел, да и ехал он в понизовье с определенным прицелом — разжиться. Но до осуществления этого намерения пути было столько же, что и в самом изначалии, если не больше, что раздражало и бесило его. И он стал винить уже не судьбу, не хозяев промысла, а Илью, который необдуманно ввязался в ненужную перебранку с Яковом; Андрея, неизвестно зачем встревающего не в свое дело; Ивана Завьялова, который, вместо того, чтоб хорошо заработать и вернуться домой при деньгах, встает в заступку за Гриньку; поджигалу, если слухи верны, за то, что лишил возможности Крепкожилиных скупать у ловцов сельдь. Потому-то и сидел он, сумрачно насупившись, и колко оглядывал ловцов, искал выхода из той ловушки, которую сам себе состроил. Но высвета из тупика не видел. Спешный в напраслине, которую возводил на ближних, возмущал себя, побуждал к действию, но в ясности эти действия ему не виделись, и он в бессилье злобился еще пуще.
Вскоре открылись Синее Морцо и промысел. Издали было не понять, что там, у приплотка. Но сблизились до видимости и различили редкие бударки, часть причалов пустовала. И опять не появилось ни у кого ясности.
— И тут та же хреновина, — возмутился Илья.
— А может, берет? — засомневался Кумар. — Сдал рыбак и ушел. Вот и пустой причал.
— С одной насести да разные вести, — усмехнулся дед Позвонок.
3
Не может нужливый человек оставаться один. Нужда сама по себе тягость непомерная, и одиночанье в такую пору гибельно, ибо может она в таком разе в дугу согнуть, толкнуть за край допустимого. И тогда пропал человек. По этой вот самой причине без сговору сошлись в тот вечер мужики в мазанке Ильи Лихачева. Общая крайность свела. И Гриньку привел с собой Иван Завьялов.
…Солнце давно ушло на покой. Вечерний край неба дотлевал пепельными облаками. За околицей села, на берегу заманихи, призывно зазвенела гармошка, проиграла несколько переборов и заглохла. Завизжали девчата, засмеялись парни. Опять гармошка ожила.
Гринька, опершись локтями о перильца, стоял на плоту и поджидал своего дружка-ватажника, чтоб присоединиться к гульбищу. Он нетерпеливо посматривал на плотно прикрытую дверь казармы, где после дневной колготы вечеряли ватажники. Гринька явно представил длинный общий стол между ярусами нар и порадовался, что у них с Олей есть свой ухоженный угол в этом мрачном неуклюжем доме.
По-кошачьи скрипнула казарменная дверь. Гринька увидел Ивана Завьялова, в темно-синей коротайке поверх светлой косоворотки, в сапогах, густо помазанных дегтем.
— Добрый вечер, дядь Вань.
— Здравствуй. Че один-то? Слышь-ко, девки соловками заливаются? — Завьялов кивнул за промысел, откуда слышались переливы гармошки и голоса девчат.
— Миньку жду.
— Или не сговорились? Дружок твой давно без задних ног дрыхнет. Ухайдакался за день-то. Так что один топай.
— Да я с ним собирался. Че одному-то…
— Девок щупать в одиночку сподручней. Тогда, коли так, пойдем к Илье. Не всяк день по гуляньям шастать. А вон и Лексей. — Завьялов увидел выходящего из казармы брата.
В невеликом жилье кроме хозяина и квартировавших Андрея и Тимофея Балаша сидели Кумар и Макар Волокуша. Илья с Кумаром — нетерпеливо-выжидающе, на кортках возле топящейся печи, остальные — кто где: по лавкам и на громоздком сундуке.
Когда вошли братья Завьяловы с Гринькой, разговор уже накалился до такой степени, что спорщики были крайне возбуждены. На некоторое время, пока прибывшие рассаживались, в мазанке установилась обманчивая и недолгая натишь.
— Невмоготу стало, — подал голос Илья, — рыбу некуда деть. Подсобили, называется…
— Вот-вот! — подключился Андрей. — Если слухи о поджоге верны, плохую услугу оказал тот человек ловцам.
— Куда уж хуже!
— Поджогами богачей не одолеть.
— Упекут в Сибирку и живьем сгноят.
— Было бы за дело стоящее, — сказал Андрей. — За людей и пострадать можно.
— Допекли, может, мужика, вот он и не сдержался, — высказал догадку Тимофей. — Али спьяну. Люди взмутчивые стали. Чуть что — сразу на дыбки.
— Нам надо стоять ближе друг к дружке. Иначе никак нельзя, — тихо сказал Иван Завьялов.
Тимофей не ввязывался в спор с ним — Завьялов-старший выглядел внушительно, говорил неспешно, чувствуя в словах своих силу и вескость. Это не Андрей. Тимофей может тому возразить, подзадорить может. Парень-то он ничего, только Тимофей без сомнений, на веру, слов его не приемлет.
У Гриньки свои мысли. «Правильно Завьялов сказал насчет того, чтоб друг дружку поддерживать, — думает он, — иначе не работать бы мне на промысле. Как пить дать, Ляпаев прогнал бы».
Не только Тимофей и Гринька задумались о своем. У каждого после слов Завьялова объявилась надобность в себя уйти, о себе, о ближних и товарищах подумать, потому и тишина образовалась небольшая.
Первым вышел из того раздумчивого состояния Илья.
— Так что же теперь… делать-то что будем?
— Правильно, Илья, надо действовать.
— Нам надо выработать единые требования к Ляпаеву. В округе все промыслы его. Маячненский, — Андрей назвал не Крепкожилинский, а Маячненский, — практически вышел из дела. Самое главное наше условие — чтоб принимал всю сельдь.
— Кто бы ее ни привез, — подсказал Илья.
— Верно!
— Насчет цены тоже, — сказал Макар. — Чтоб не ниже прошлогодней.
— И чтоб промысловым поденную плату накинул. А то курам на смех. Проешь все, и домой ни копейки. Чать, на заработки пришли.
Тимофей сидел в стороне безучастно, не поддаваясь общему возбуждению. Когда пыл сборщиков несколько поубавился, он как бы невзначай обронил:
— Послушается он вас, как бы не так. Да приведись мне…
— Не приведется, — оборвал его Иван Завьялов.
— Договорились, выходит. — Андрей обеспокоился словами Тимофея и подумал, что он тут лишний. — Теперь — кто пойдет к Ляпаеву? Если доверите, могу и я. Но нужно не одному, лучше двоим-троим…
4
Каждую зиму по истечении года Мамонт Андреич подавал в губернскую Казенную палату сведения о прибылях и обороте. Раскладочное присутствие палаты по этим данным исчисляло налоги на текущий год. На том губернские чиновники считали свои контрольные обязанности исполненными, а Ляпаев, внеся в казну означенные платежи, довольный и собой и вышеупомянутыми контролерами, потирал руки и подсчитывал очередные барыши, намного большие, чем ежезимно сообщал в губернию.
Привычка занижать годовые обороты и прибыли укрепилась в нем давно, еще в те первые годы, когда начал рыбное дело, — с давних времен с грехом повенчан. Хотелось быстрее стать на ноги, выбиться из простых скупщиков во владельца многих промыслов. Потом, спустя годы, хитрость эта (Ляпаев не любил слово жульничество применительно к себе и даже в мыслях не произносил его) вошла в обыкновение и своего рода тактику действий. Даже сознавая, что уловка эта подсудна, не мог отрешиться от многолетней привычки, потому как верил в свою безнаказанность. Способствовал такой убежденности и податный инспектор, начислявший платежи. Он был старым знакомым, охотно брал у Ляпаева и икру и белорыбку, не брезговал и отдельными ресторанными номерами с девицами, за которые, разумеется, платил не сам, а Ляпаев и ему подобные. Вот откуда шли и безнаказанность и вера в незыблемость своего положения.
И вдруг — как снег в летний день — пришел Ляпаеву из Казенной палаты засургученный пакет. Вновь назначенный податный инспектор просил в месячный срок подтвердить присланные еще зимой данные. Ничего похожего прежде не случалось, а потому Ляпаев не на шутку встревожился и пребывал в глубокой задумчивости — что бы это означало?
Многолетний опыт в материальных ухищрениях подсказывал Ляпаеву два возможных исхода. Первый — как удар хлыста — короткий в словах и болезненный и долгий на деле: разбирательство и суд. В таком случае податный инспектор просто дурак: раскочегарит два-три дела, а больше ему не позволят, самого сожрут.
А может, он и не дурак? В этом второй, спасительный исход. Чем больше размышлял Ляпаев, тем прочнее укреплялся в мыслях, что новый инспектор — человек всезнающий и себе на уме. И решил он, как говорится, сразу же вызвать на ковер своих будущих кормильцев-поильцев. И чувствуется, аппетит у него не тот, что у прежнего. Этого малым не ублажишь, куш он, видимо, потребует немалый. Оттого, бестия, и срок определил месячный, чтоб было время неспешно присмотреться и сторговаться. Ну, хват!
Возмущался Ляпаев не шибко, как если бы беззлобно журил близкого человека за безвинную шалость. Да и не мог он иначе, потому как и сам бы на месте податного инспектора поступил так же. А потому он с облегчением признал право губернского чиновника, слегка припугнув, выудить кругленькую сумму, чтоб потом безбоязненно, сообща вершить дела по-прежнему.
И порешил Ляпаев под конец: дело судное, скупиться грешно. Надо ехать в город и приручать податного инспектора через своих людей. Умел грешить — надо выворачиваться.
Едва Мамонт Андреич обмозговал это щекотливое дело и отважился во что бы то ни стало купить инспектора с потрохами, неожиданно озадачила его Глафира: о приданом завела речь. Да так настойчиво, что Ляпаев спервоначалу опешил. После приезда в Синее Морцо она про состояние и заикнуться не смела, а нынче — промысел ей отпиши. Ни больше ни меньше. Не иначе, Резепкина работка. Не раз примечал Мамонт Андреич, что льнет Глафира к плотовому, серчал, все собирался потолковать с ней, чтоб отошла от Резепа, потому как недолюбливал его. На промысле терпел не оттого, что по душе пришелся, — дело тот знал, людей держал в руках, по-собачьи преданно глядел в глаза хозяину. Поворовывает, правда, да кто нынче без греха. Прогнать — дело пустяковое, непросто надежного человека отыскать. Вон и на Малыкском промысле дурень дурнем, менять бы надо. А кем? Ляпаев мысленно перебрал сельчан, но ни на ком не задержался. Даже Якова Крепкожилина, дуролома, не взял бы. Тимофея Балаша нешто? Да мало его знает. Но уже отличил от остальных. Непохожестью на других приметный. Завистливые зеленые огоньки в глазах пляшут, когда деньги видит. Но это не к спеху, пусть рыбному делу получится.
А пока Ляпаева заботит и злобит Глафира. В который уже раз кается он, что поехал на Грязную улицу наведать Лукерьину сестру. Грех решил искупить, да на бо́льший напоролся. Теперь вон наследство требует. Приведись ей в женихи Андрей, слова противного не вымолвил бы, не одним — двумя промыслами готов поступиться. Потому — порядочный человек, умен, мог бы дело вести. А Резепу задарма можно только зуботычину дать. Да и то, ежели в охотку.
— Деньги родства не знают, — сказал Мамонт Андреич, когда Глафира про приданое завела. — Но я тебя не обижу, сделаю, как обещал, насчет же промыслов погодим, не к спеху. С собой в могилу не заберу. И тебе достанется.
Глафиру обожгло — «И тебе». Знать, Резеп прав, все Пелагее достанется да ее ребенку.
— Говорят: бедную выдают, а богатую сватают. Я хочу, чтоб меня сватали. Вы мне, Мамонт Андреич, пока я молода, отдайте положенное, — капризно вскинув голову, сказала Глафира.
— Кем положено? — резко спросил Ляпаев, в упор уставившись на нее. — И сколь положено? Ты мне дочь али жена?
Не надо бы так, да сорвалось. Не подумав брякнул. Глафира мигом преобразилась, ехидно прищурила глаза, подбоченилась.
— Эт-то точно, не жена. Однако что-то похожее…
— Будет те, греховодница, — смутился Ляпаев.
— Я ведь могу и Пелагее Никитичне про то…
— Перестань, Глафира! — Ляпаев покосился на дверь. — Не дай бог Пелагея войдет — ты брось шутки шутить. Забудь про то. А я подумаю… насчет промысла.
— Нечего и думать, дядюшка, — продолжала озоровать Глафира. — Я в ином разе могу и больше затребовать.
— Хорошо-хорошо, будь по-твоему, — сдался Ляпаев. — Промысел так промысел. Жених-то кто, а? Андрей, что ли?
— Нужен он мне, интеллигентик несчастный.
— Он порядошный.
— На порядочных воду возят.
— Так-то оно так, только этим не попонукаешь. С виду вроде-ка щуплый — а твердый человек.
— Мне твердый ни к чему. Я сама хочу быть хозяйкой.
— С Резепом, что ли?
— Да.
— Ты его мало знаешь, Глафира. Могла бы лучшего найти.
— Лучшего в моем положении, дядюшка, искать трудно. Кому я такая нужна?
— Ну-ну… успокойся. С богатым приданым, да еще с промыслом, всяк возьмет. — Ляпаев чувствовал себя виноватым перед Глафирой и теперь даже радовался, что уступил ей. Подумал: «Прав Кисим, когда говорит про нее — шайтан девка. Шайтан и есть. Выдать бы, деваха, тебя поскорей, да и мотай-ка ты от меня. Резеп так Резеп. В конце концов, мне все одно. Не мне с ним миловаться…»
5
Илья не представлял себе, как он явится к Ляпаеву и будет что-то требовать от него. Сколько он себя помнит, Мамонт Андреич был для него человеком недосягаемым, всемогущим в своем положении, полновластным хозяином и вершителем судеб сотен людей. И не только Илья — умудренные жизнью старики молчали в присутствии промышленника, не смея ему перечить даже в малом.
И вот ему, Илье, вместе с Андреем и Иваном Завьяловым доверили мужики свое дело-нужду — вручить требования хозяину. Нужда нужде — рознь. И одно дело на другое не похоже. В жизни людей всякое приключается. Но такого в Синем Морце не случалось — чтоб хозяина принуждать. Можно было его не уважать, невзлюбить, не наниматься на его промысел, быть недовольным. Но чтоб понуждать — не приходилось.
Илья поначалу не поверил, что и его назначили посыльным.
Не с чего бы: и на слова коряв, и не хитер, и не удачлив. Но погордился собой — доверили все же!
Оттого-то почти и не спал ночь, а едва развиднелось — был на ногах. Он боялся оплошать, а потому уже в который раз в мыслях шел на промысел, заходил в конторку, где Ляпаев, по обыкновенью, собирал по утрам близких ему людей и говорил о деле. А вот дальше ничего путного у Ильи не складывалось. Не знал он, как и что говорить хозяину, как себя держать.
Андрей, проснувшись, приметил, что товарищ его сам не свой, понял причину возбуждения, увел разговором на другое, сказал озорное, первое, что на ум пришло:
— Илья, а ежели я женюсь, не прогонишь?
— Как можно, живи.
— Придется тебе с Тимофеем в задней ютиться, — не переставал шутить Андрей.
Илья принял разговор всерьез, покосился на спящего Тимофея, показал жестом: мол, мы его выпроводим. Шепнул:
— Не нравится он мне что-то. — И вдруг заинтересовался: — Не Ольгу ли возьмешь? То-то она к тебе зачастила.
— Откуда это?
— Говорят.
— Мало ли что говорят, всех сплетен не переслушаешь. Да и могу ли я вязать ее судьбу со своей. Со мной всякое в любой день может приключиться, ей-то с какой стати страдать? Она девка славная, найдет подходящего.
Озорство обернулось серьезным разговором.
— Не положено, стало быть, женку брать, а? — спросил Илья озабоченно.
— К слову. Сегодня я здесь, а завтра, может, сибирщина. И она, выходит, следом? Нет, незачем ей по мне казниться.
Так, за разговором, подоспело время к Ляпаеву отправляться. Надел Илья косоворотку поновее, голиком по сыромятным поршенькам поводил — пыль вытрусил, поплевал на ладонь и пригладил вихры.
На плоту их поджидал Завьялов. Из казармы валил работный люд, растекался: кто к выходам, кто на плот. Ловцы еще не появились, лишь Макарова бударка одиноко торчала у приплотка, и Николка волоком тащил к ней пустые носилки. А сам Макар о чем-то возбужденно рассказывал Ивану Завьялову. Едва Андрей с Ильей приблизились, Макар — к ним:
— Слышь-ко, что в Чапурке творится! Бударку не просунешь. Шест поставил — стоит. Крест святой, не вру. Зюзьгой черпал, будто из мотни. А селедка, глянь-ка, отборный залом.
Подивились выборные Макаровым словам, постояли у бударки, всклень, по самые бортовые линейки налитой серебристо-черной сельдью, пошли в конторку.
Ляпаев первоначально не обратил на них внимания, еле заметно кивнул на приветствие.
— К тебе, что ли? — спросил он Резепа и кивнул на вошедших. И Андрею: — А ты что у порога топчешься? Будто сватать пришел, мнешься.
— А мы все вместе, по делу.
— Беспричинно только бездельники шляются, да и они в путинные дни…
— Проходите, товарищи. — Это Андрей Илье и Ивану. Шагнул к столу, за которым умостился Ляпаев, и положил перед ним лист бумаги. — Вот, Мамонт Андреич.
— Что это?
— Наши требования, — пояснил Завьялов, встав рядом с Андреем.
— Чьи это — ваши?
— Рабочих и ловцов.
Ляпаев пытливо и с явным удивлением переводил взгляд с одного на другого и, кажется, что-то начал соображать.
— Рабочих и ловцов, — в задумчивости повторил он. — Ну а ты, Андрей Дмитрич, тут при чем?
— Это мое личное дело.
— Ах да. Прослышан: есть такие, которые народ мутят. Но не думал, чтоб ты, сын почтенных родителей…
— Мамонт Андреич, это к делу не относится. Давайте говорить по существу.
— Ну да, ну да… — Он, кажется, впервые вспомнил о бумаге, которую держал. — Так что вы тут просите?
— Мы не милостыню просим, а справедливости требуем, — уточнил Завьялов.
— Так уж сразу! Требователи, — Ляпаев долгим ироническим взглядом посмотрел на Илью. Тот мигом вспотел, но выдержал взгляд, подтвердил:
— Да, требуем.
Поведение Ляпаева удивляло Андрея, он ожидал, что хозяин будет кричать, грубить, может даже выставить вон. Но Мамонт Андреич, кажется, не принимал все происходящее всерьез. Потому он больше любопытничал, чем серчал.
— Слышь-ка, Резеп, требуют от нас эти вот… э… товарищи, чтоб мы скупали всю рыбу, что привезут. Как быть, даже не знаю. А? — Ляпаев, как понял Андрей, хотел их посещение превратить в балаган, не более, а потому подключил в игру и Резепа.
— Охота вам время тратить, — угрюмо отозвался Резеп.
— Как же, делегация. Или вот еще, насчет цен. У кого бы мне денег подзанять. Как, Андрей Дмитриевич, батюшка ваш не одолжит?
— Мы к вам по важному делу, а вы все шутейно, — обиделся Иван Завьялов. Его тоже удивило поведение хозяина, а потом он не на шутку оскорбился его несерьезности. — Вы нам точно ответьте: принимаете требования или нет.
— А ежели нет? — Ляпаев вонзил колючий взгляд пронзительно-черных глаз в Завьялова. — И потом: почему не на работе? Резеп, удержи с него за прогул. Ежели каждый будет без дела слоняться…
Завьялов слова хозяина насчет прогула оставил без внимания — даже бровью не повел. Предупредил:
— Если нет — прекратим работу. И мы и ловцы.
— Пойдемте, товарищи. Мы высказались до конца, — Андрей направился к двери, но властный голос Ляпаева остановил, заставил обернуться.
— А ежели серьезно, передайте людям: сколько бы сельди не привезли — скуплю. За цены, однако, не ручаюсь. Машинки, чтоб деньги печатать, у меня нет. Подумаю, как быть. Да и вам не мешало бы поразмыслить, чем пахнет самоуправство. Тебе, Андрей Дмитрич, в первую голову. И предупреждаю: повторится подобное — буду вынужден сообщить в уезд али в губернию. Пеняйте тогда на себя.
— Не стращайте, не надо, — ответил за всех Андрей, и выборные вышли из конторки.
— Каков атаман, а? — Ляпаев молодцевато встал из-за стола и прошелся до двери и назад.
— Гнать надо, — услужливо подсказал Резеп.
— Успеется, на это ума не требуется, — охладил его Ляпаев, а сам думал о том, как бы отбить Андрея от ватаги, приручить. Ах, Глафира-Глафира, девка непутевая. Не смогла парня окрутить.
— Паровик смотрел? — поинтересовался он, неожиданно остановившись возле Резепа.
— Вчера утресь испробовали.
— Смотри, чтоб был на изготовке. Забьем чаны, да жиротопки пущай. Сельдь по-дурному пошла, теперь только успевай задарма ее брать. Вчерась по сколь за пуд платили?
— Пятак.
— По три копейки плати. — Ляпаев приметил удивление Резепа, пояснил: — Каждый ловец по две-три бударки в день доставит. Чай, не сетями ловят, зюзьгой будут черпать. Это кругло чуть ли не двести пудов — пять-шесть рублев. Куда больше! Рабочий промысловый за всю путину три червонца от силы выжимает. Будя. Копейку побережешь — рубль сохранишь. На том и порешили.
6
Хитрость Ляпаева — позволить Крепкожилиным засолить начальную сельдь, а уж потом обесцененную бешеным ходом скупить ее как можно больше — совпала с тем, что записали рабочие и ловцы в своей податной бумаге. Вот почему Ляпаев не всерьез, а полушутя говорил с выборными, людьми. Пущай думают, что хозяин хоть в чем-то на уступку согласится. Что же касается цен, тут перетерпят — ассигнации с неба не надают.
К селедочному кону на Ляпаевских промыслах отменно подготовили чаны и прочую пригодную для этих целей посуду, вплоть до старых плашкоутов. Их загодя затопили, чтоб они набухли и не пропускали рассола. За селом, невдали от промысла, с краю бугра спешно выкопали две траншеи, кубов по полсотни каждая, рабочие закончили кирпичную кладку, цементировали ее. Слышал Ляпаев, что в городе вместо чанов цементные ямы приспособили, вот и решил испробовать, что выйдет из такой затеи. Должно получиться. В старину, говорят, в обыкновенных ямах солили. Весь тузлук в землю утекал, а и то высаливали. А коль цемент добро положить, тузлук сохранится.
И последнее — жиротопня; все, что не в посол, на жир годится. Жиротопка строена давно. На первых порах кипятком жир вытапливали, в прошлом году — паровой котел купили со змеевиками. Только поспевай сельдь подвозить.
Жиротопное дело не рекламировали, в отчетах о нем умалчивали, потому как в верхах с неодобрением смотрели на них — дескать, хищническое истребление сельди. В душе Ляпаев с такой оценкой был согласен, да только что поделаешь с ней, неразумной, ежели она стеной прет. Ловцы тоже вон требуют.
И опять выходило, что бумага в кон, к месту. Как тут не быть довольным. К чему бога гневить, ежели он даже Крепкожилиных, первых ляпаевских соперников, с дороги отодвинул. Супротивники они, правда, не ахти какие. Не случись пожара, Ляпаев все одно смял бы их — Крепкожилины и денег не наскребут, чтоб все подряд скупать. В кредитном банке не дураки, чтоб под развалюхи крупные деньги ссужать. Деньгодатели наперед прибыли просителя обсчитают, а уж потом раскошеливаются. Да и солить им негде. Ляпаев с самого начала верил в успех, и все же приятно, что все обошлось без стычки, судьба сама решила.
И вся бешенка, стало быть, его, Ляпаева.
Кто не примечал, как, вспарывая сонную поверхность заводи, обреченно и одиноко мечется тарань-верховодка, пораженная неизлечимою болезнью. Ее и прозвали в народе бешенкой.
Но сельдяные косяки не недуг одурманивает по весне. Погода, ветра, вешняя вода — причинники ее «бешенства». Сбиваются неисчислимые косяки на той или иной морской приглуби-бороздине и, устремляясь навстречь подсвежке, намертво заторивают случайно оказавшуюся на пути безвестную речушку. И стоят косяки в тупике, копошится в теснине многомиллионное скопище.
Нынче творится такое в Чапурке. Истекла лишняя вода через низинные берега — словно уха выварилась. Загустело в Чапурке — ни вентеря поставить, ни сетку выбить нельзя. Верно Макар сказал: воткни шест — стоит, лишь мелко-мелко вздрагивает.
До дальнего конца Чапурки проехать на бударке непросто, да в этом и надобности нет. Через зауженную горловину въезжают ловцы в верхний по воде конец ее и всклень наливают лодку дармовой и легкой добычей — точь-в-точь кашу из котла в чашку.
Кумар видел такое впервые. Слышал от Садрахмана не раз про бешенку, но своими глазами зреть не приходилось. Ловец возбужден, весел, не замечая саднящих мозолей, орудует зюзьгой-черпаком. Он сбросил с себя стеганую безрукавку, работает в одной косоворотке. Она, мокрая по спине, парит, липнет к телу, приятно холодит.
Радуется Кумар: Андрей сказал, что Ляпаев согласен скупать все, что привезут ловцы. Значит, будет заработок.
— Готов? — кричит Кумар Гурьяну, который в десяти саженях от него наполняет рыбой свою лодку.
— Счас, — с готовностью отзывается Гурьян. — Вот только кормовой ящик заполню.
— Давай-давай, — озорно подбадривает его Кумар. — Я мал-мала курю. — Он устало опускается на носовой обруб и тянет руку к жестяной баночке с махрой, сворачивает закрутку толщиной в палец.
Потом Макар и Кумар выталкивают шестами бударки из Чапурки в Ватажку, вздергивают паруса и, гонимые легкой попутной моряной, правят на воду, к промыслу.
На Синеморском промысле — затор. У приплотка — в два ряда бударки с добычей — осевшие грузно, борта вровень с водой. Из тех, что ближе к приплотку, выгружали рыбу в носилки. На других в ожидании череда надсадно дымили самокрутками, невесело толковали о чем-то. Кумар это понял, едва они с Макаром причалили ко второму порядку. Прислушался — так оно и вышло.
— Изгаляются над людьми. Что хотят, то и делают.
— Попробовал бы он с наше поворочать зюзьгой.
— Такой цены отродясь не слышал.
— Конешно, за так, выходит.
— Почем берет? — обеспокоился Кумар.
— Алтын за пуд.
— А говорили… — завозмущался Макар, но его перебили.
— Слова говорить — не рублем одарить.
— Баяли: будут всю брать — берут пока. А цена, как видишь…
— Не, братцы, я за такую плату не работник. Пущай в другом месте дураков ищет, — наотрез отказался Макар.
— Правильно! — подскочил Кумар. — Где Андрей?
— Сказывают, хозяин отослал на какой-то промысел.
— Ребята, вон Илья подъехал. Пущай с Завьяловым к Ляпаеву топают.
— Ходил Завьялов-то. Так хозяин его и слушать не захотел. Повернулся и ушел домой.
— Вот те и тертый хрен на постном масле.
— Как же быть-то? Неужто и управы нет?
Илья слушал возгласы и ругань, не зная, как же быть дальше. И Андрея нет. Он-то знал бы, что делать. Тут Илья приметил у лабаза Завьялова, призывно помахал ему.
— Иван!
Завьялов обернулся на зов, узнал Илью и, оставив тачку, подошел к ловцам.
— Был у него?
— Даже не слушал, — Иван улыбнулся, — мигом смотался.
— Чему же радуешься? — удивился Илья. — Все срывается.
— А ты думал, хозяин сразу расценки удвоит? Простодушный ты человек, Илья.
— Что же нам делать?
— Стоять на своем, — очень даже буднично сказал Иван, будто закурить предложил. — Прекращать работу, не ловить рыбу, не засаливать, что есть… Без упорства ничего не получится. Свое богатеи за здорово живешь не отдают. Это надо уяснить, и тогда многое прояснится. Объясни своим.
— А рыба как же? — Макар кивнул на бударки с уловом. — Пусть пропадает, да?
— Зачем же? Коли привезли, надо продать. Но больше не следовало бы. А впрочем, давайте Андрея обождем. — В отличие от остальных он да еще Илья знали, что Андрея не хозяин отослал, а он сам нашел повод и спозаранку уехал на соседние промыслы, чтоб поговорить с тамошними ватажниками и ловцами.
…Из открытых дверей лабаза неприметно для остальных посматривал на сбившихся кучей ловцов плотовой Резеп. Он, как и всегда, колготился возле солильщиков, прикрикивал на них, а сам нет-нет да и стрелял обеспокоенно глазами на приплоток.
— Тузлук проверяли? — интересовался он. — Ну как, крепок? Во! Выдержанная соль завсегда крепка. А селитру клали? Нет? Да нешто можно без нее. Селитра рыбе ясность придает, сыпь, сыпь…
И опять зырк-зырк глазами на ловцов: как-то нехорошо, возбужденно толпятся они, шушукаются о чем-то.
7
За два работных часа до окончания вахты на промысле объявился Андрей. Не задерживаясь на территории, он спешно прошел в лечебницу, и, едва поставил на стул саквояж с медикаментами и стащил с себя куртку, вошли Иван Завьялов и Илья.
— Что-нибудь случилось? — забеспокоился Иван, приметив тревогу на лице Андрея.
— На Ямцовской сорвалось. Два-три демагога переполошили людей, и все испортили. Мол, у нас семьи и надо не в путину бойкотировать хозяина. Не смог убедить, что именно в такое горячее время и надо припереть хозяина к стенке.
— На других как?
— На Малыкской и Домбинской поддержали, вручили требования управляющим. Те обещали сегодня же довести до сведения Ляпаева. Как он тут?
— Затора нет, но цену сбил чуть ли не наполовину.
— Вон как! — Андрей вскочил со скамьи и заходил взад-вперед. — Надо прекращать работу. И сделать все, чтоб Ляпаев ни рыбинки не мог купить. Пожилится-пожилится — да и на уступку пойдет.
— Тут ловцы толковали промеж себя. То же самое говорят.
— Тогда вот что. Завтра утром мне придется ехать на другие промысла. Надо, чтоб нас поддержало как можно больше людей. Мы одни не вынудим Ляпаева к согласию. Ну что, товарищи, — Андрей на короткое время замолк. Все лицо его напряглось, — пришло время выступать в открытую. Мы много говорили, спорили, пора дело делать.
— Надо, — выдохнул Иван Завьялов. — Самое время, я считаю.
Орависто гудела толпа на плоту, а невеликий зазывной колоколок у конторки слал и слал в округу тревожливый звон, скликал работный люд на неожиданный сход. Гринька не переставал колоколить, пока на него не цыкнули. Суматошный зазыв прекратился, и наступила на короткое время тишина, от которой звенело в ушах. И опять затолкотилась ватага, загудела встревоженным ульем.
— Тимофей, че в сторонке торчишь? Давай до нас.
— А он примеряется.
— Ба, Прасковья, и ты тута.
— Куда иголка, туда и нитка. Где муж, там и я.
— Баба-бабуся, никого не боюся.
— Кулаком счастье не вышибешь.
— Шабаш, ребята!
Эта разноголосая гудьба не прекращалась, покуда Андрей не поднялся над толпой. Взвершинившись на днище бочки, он поднял руку и стал так бессловесно, выжидая. Когда сходбище смолкло, он сказал одно короткое и очень непривычное для многих слово:
— Товарищи!
Этого слова оказалось достаточно, чтоб каждый насторожил слух, наструнился, уловил необычность происходящего. А свершалось в этот час действительно небывалое: Андрей в открытую говорил о нелегкой жизни ловцов и ватажных рабочих, несытости детей, называл причинников их бед.
Народ все копился и копился, даже из села на колокольный зов пришли полюбопытничать, слушали диковинные слова. Иные крестились в испуге, иных сковывала напряжка, и они застывали в изумлении.
— Никто нас хорошей жизнью не одарит. Нет и никогда не было добрых царей и богачей. Наше счастье в наших руках. Так давайте будем стоять за себя, заставим Ляпаева платить положенное за работу, уважать труд и не грабить нас.
— Гривенник за пуд — и не меньше, — закричал Макар, едва Андрей умолк.
— И поденную плату повысил чтоб.
— Кончаем работу, товарищи, — заговорил Иван Завьялов. — Промысловые рабочие поддерживают вас. И мы не выйдем на работу, пока хозяин не выполнит всех требований. Правильно я говорю, бабоньки? Вас на промысле большинство.
— Как мужики, так и мы.
— И бабьему терпенью приходит конец.
— Чтоб никто не выходил на лов.
— А с голоду не помрем? Ляпаев, мож, и не согласится?
— С голодухи брюхо не лопнет. Сморщится токмо…
— Ему некуда деваться. Нас поддерживают и на соседних промыслах.
В то самое время, когда все было обговорено и подоспело расходиться, вышел на конторское крыльцо Резеп. С самого начала заварухи он благоразумно запрятался в свою светлицу и сквозь щели в занавеске наблюдал за поведением толпы. Неуправляемое сборище вусмерть напугало его, но потом он удивился, с какой легкостью Андрей утихомирил галанивших мужиков и баб, а под конец, когда, умиротворенная словами и своим решением, толпа и совсем стихла и готова была распасться на группки, Резеп счел нужным выйти и пристыдить ослушников. Не сознание долга, не убеждение, а страх перед хозяином понудил плотового пойти на этот, противный его желанию, шаг. А момент, по его мнению, Резеп выбрал самый подходящий.
— О! Явился не запылился, благодетель, — выкрикнул звонкий бабий голос, и толпа увидела Резепа.
— Вы робята… и… и бабоньки, зазря тут базарите, — сказал он, когда несколько попритихло.
— Ну-ну, говори, послушаем, — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, отозвался Иван Завьялов.
— Не вы, так другие доставят рыбу. Вам же хуже без заработка.
— Не привезут. Дармовато.
— Хе! — попробовал улыбнуться Резеп. — Наивные люди, погляжу на вас. Да за деньги…
— Во-во! Укащику рупь, работнику — копейка.
— Ты за деньги готов угодничать.
— Бабы, не слушайте его, непутевого.
— Будя, лыком шитый барин. — Это кто-то из пришлых с верхов.
И тогда на высокое крыльцо к растерявшемуся Резепу поднялся Андрей.
— Передай Ляпаеву все, что слышал, — сказал он Резепу. — И еще: завтра прекращаем работу. Когда он удовлетворит наши требования, ловцы выйдут на лов, а рабочие на плот. Так я говорю, товарищи?
Ответом ему было одобрение толпы.
8
За окном крупнозвездная безлунная темень, а в Гринькиной каморке при немощном свете пятилинейной лампы чаевничают гости — Андрей, Илья и братья Завьяловы. Они взбудоражены событиями дня, оттого и не расходятся, ведут беседу, попивают сготовленный Ольгой чай.
Гриньке лестно, что самые заводилы сошлись у него. Он прислушивается к разговору.
— Для нас самое главное — выстоять, — сказал Андрей Завьялову.
— Выстоим, — уверил его Иван.
— Но важно не только это, — отозвался Андрей. — Первая победа над хозяином — лишь начало.
— А потом? — шепотом спросил Гринька.
— Потом, Гринь, будет такая заваруха, что и представить невозможно.
— Зачем заваруха-то, Андрей Дмитрич?
— А чтоб всем одинаково хорошо жилось. Чтоб на промысле ты вот, к примеру, командовал, а не Ляпаев.
— Хе! Наговорите, — усмехнулся Гринька. — Да рази я буду таким богачом…
— Зачем — богачом? — подивился Андрей.
— Сами же сказали — заместо Ляпаева.
— Тебя народ изберет, коли будешь справедлив и честен, да его волю выполнять.
— Так я не смогу, — простодушно признался Гринька.
— А ты присматривайся, что к чему. Пригодится.
— В ночи родившись, светлый день даже представить трудно, — в раздумчивости сказал Иван Завьялов.
— И будет наш Гринька ходить в собольей шубе, — пошутил Илья.
— И командовать Резепом, — поддакнул Иван, и все заулыбались.
— Я его в момент выгоню, — озлился Гринька.
— Во! А говорил, не сможешь. Правильное у тя чутье.
Ольга невидно, втай от остальных, посматривала на Андрея и чувствовала, что привязанность к нему день ото дня растет, что ей доставляет удовлетворение видеть его. Когда же он бывает в отъезде, она волнуется — не приключилось бы с ним худа, потому как видит и знает, что и Ляпаев и Резеп, да и родной братец Яков, держат на него зло за те правдивые слова, которые Андрей без боязни говорит им. В сегодняшней смуте опять же в первую голову будут виноватить его. В этом Ольга была уверена, потому как видела и знала, что Андрей среди ловцов и ватажного люда заглавный, его слушают, ему подчиняются. Это порождало в ней новые страхи. Но чувства, копившиеся в ее сердце к этому беспокойному человеку, который ради дела и своих убеждений даже порвал с родным домом, обаривали страх, и в душе ее селилось больше светлого и праздничного, нежели мрачного.
И ей очень хотелось, чтоб Андрей испытывал при встречах с нею те же чувства, что и она. Но девушка догадывалась, что ему интересен только тот, кто разделяет его мысли, его устремления, поэтому она хотела понять смысл его жизни, быть полезной ему.
Потому-то Ольга обрадовалась, когда Андрей сказал:
— У меня, Оля, к тебе просьба.
— Я слушаю, Андрей Дмитрич.
Разговор между ними произошел близко к полночи, после того, как ушли Завьяловы и Илья. Андрей к Илье не пошел.
— Сегодня я в ночлежке у себя переночую. — Это он о лечебнице так.
Андрей с Гринькой, проводив товарищей, постояли малое время у казармы. Из-за реки наносило гарью — по весне жгли старые камышовые крепи. Ниже по Ватажке, за Золотой, полыхало зарево — горело на приморских островах. На ильменях чуткие гусиные стаи гоготаньем тревожили тишину.
— Хорошо у нас весною, — поддавшись настроению, задумчиво сказал Гринька, — эту пору я изо всех люблю. Спокойствие в природе. В Ватажке вода верховая быстрится. Пожары вот тоже на островах…
— Меня каждую весну, когда в городе жил, тянуло домой, — отозвался Андрей.
Вспомнив о доме, помрачнел: трудно жить рядом с домом и не дома. Вчера зашел мать наведать. Как всегда, всплакнула она. И чтоб прервать горестные мысли, сказал Гриньке:
— Хочу Ольгу попросить, в город нашим надо письмо отвезти. Как ты на это?
Гринька понял, кого он имел в виду, согласился.
— Зайди, а я пока покурю.
Вот тогда-то Андрей и повел с Ольгой разговор.
— Слушай меня, Оля, и запоминай.
— Я памятливая.
— Надо доставить письмо в город одной девушке.
— Девушке? — шепотком переспросила она и склонилась над столом.
— Да. Зовут ее Маша. Живет она возле Татарского базара. Тебе всякий покажет, как туда пройти. Найдешь дом купца Рахметова на улице Узенькой. В подвале живет дворничиха Фомина. Маша ее дочь. Ты меня слышишь, Оля?
— Да, Андрей Дмитрич. — Она еще ниже склонилась над столешницей.
— Повтори.
Оля, не поднимая головы, повторила слово в слово. И тут Андрей понял причину неожиданной перемены в ее настроении.
— Это не личное письмо, Оля. Тут все о деле, понимаешь, о нашем деле. Посылать в город Илью, Завьяловых, Гриньку или других близких не хочу. Они должны быть здесь. Случайным людям довериться я не имею права. Тебе верю, Оля. Но если не хочешь…
— Нет, нет, Андрей Дмитрич, я поеду, — встрепенулась Ольга. И по тому, как мигом преобразилась она, Андрей утвердился в своей догадке.
— До Шубино придется пешком, а там пароходом. Вот тебе деньги.
— У меня есть, Андрей Дмитрич. Не надо.
— Не отказывайся, Оля. Поживешь там денек, посмотришь город — и обратно. Успеешь к утру собраться?
— Я сборчивая, — мягко улыбнулась Ольга, — узелок с едой в руки — и пошла.
9
В эту ночь не спали и у Ляпаевых. Непрошено и негаданно вошла в дом небывалая тревога. Страха Мамонт Андреич не испытывал, может быть, оттого, что не совсем ясно сознавал происходящее, а возможно, по причине врожденного неприятия постороннего вмешательства в его дела. Но так или иначе, шибко обеспокоился случившимся.
Вся жизнь его прошла в заботах о деле. Знал он, что каждый божий день приносит новые хлопоты. Он принимал их как должное. Не зря говорится: нет работы без заботы. Тем более что рыбное дело куда забот-нее иных. Всякое у него случалось: и рыба пухла в августовскую жару, и в чаньях загоралась от недосола, и безденежные годы выпадали, и при сбыте товара терпел убытки. Но чтоб работные люди отказывались от дела, а стало быть, и от заработка — такого Ляпаев не помнил.
Вчерашнее посещение выборных, бунт на промысле Мамонт Андреич не принял всерьез. Даже сейчас где-то в глубине мозга тлела надежда, что Резеп, рассказывая, что-то напутал, и завтра жизнь на промысле пойдет своим чередом, или же ловцы и рабочие, в порыве буйства, не обдумав до тонкости, пригрозили вгорячах. Но перед Ляпаевым возникал Андрей и почти не знакомый ему Завьялов со спокойным, а в то же время удивительно напористым взглядом серо-зеленых глаз, и сомнения мигом отпадали. Такие не остановятся перед беззаконьем, для них, разбойников, нет недозволенного, они с радостью мутят народ, побуждают его к возмущению. Не следовало Андрея брать к себе. Таких, как Завьялов, много, тут невозможно угадать, кто чем дышит, а уж Андрея должен был разглядеть — в этом Ляпаев корил себя.
После сегодняшней встречи с выборным Завьяловым Ляпаев ушел с промысла. А под вечер заявился Резеп. Он трусцой влетел в подворье и, едва приметил хозяина, завопил:
— Самовольничают, Мамонт Андреич. Без ножа режут.
— Ну так и прогнал бы с промысла. Аль работников там нет.
— Все крамолят, толпой. Завтра шабаш, не хотят работать. Пока, говорят, цену до гривенника не подымут, будут бунтовать.
— Жирно жить хотят. Перебьются, — в сердцах выкрикнул Мамонт Андреич и подумал: это господь наказал его, потому как чужой бедой потешался, вот и свою зазвал. Теперь Крепкожилиным черед веселиться, глядючи на его тяготу. Истинно сказано: земные радости — перед богом гадости.
Резеп в беспокойствии топтался возле пребывавшего в гневе хозяина, не решаясь напомнить о себе. Ляпаев, вспомнив о нем, повелел:
— Будь неотлучно на промысле. Если что — подай весть. Цена на завтра прежняя. Потакать шалберникам не след. Позадорятся-позадорятся да и смирятся. Надо ежели — волостью пригрози. Да в толпу слова не бросай: по отдельности, сами по себе, людишки куда податливей, нежели скопищем. Ну, иди.
Бессонником, лишенный спокоя, бродит Ляпаев по дому. Скрипят половицы под тяжестью неспешных шагов. Незаметной долевой щелью разошлась матица, и весь дом пришел в неуловимое движение: осаживались стены, напряглись дверные и оконные косяки, приняв на себя добавочное бремя. Перемещения эти, незримые глазом, Ляпаев воспринял слухом: сухой шорох, короткое щелканье. И помнилось ему: кто-то огромный, невидимый ходит следом за ним. От такого воображения повеяло неуютностью, одиночеством. Он прошел мимо комнаты Глафиры, услышал легкий храпок и, успокоенный, остановился у Пелагеиной боковушки. Дверь податливо отворилась, и в полутьме Мамонт Андреич различил Пелагеину кровать с высокими ажурными спинками.
Пелагея не спала. Облокотись о подушку, пожалела:
— Не надо бы убиваться-то, Мамонт Андреич. Образуется. Поозоруют малость да и утихомирятся.
— Истинно, Пелагеюшка. Понимаю рассудком, а вот сердце ноет. Да и не может уняться, потому как несвычно хамство терпеть. — Он присел на край кровати. Пелагея услужливо отодвинулась. — Каждый последний матажник помыкать мыслит, а то в расчет не возьмет, что, ежели вышвырну, без дела загнется.
— Неразумные людишки оттого и мечутся, живут в беспокойствии. Все хотят одного роста быть, а того не поймут, что богу то неугодно. На руке всего-то пять пальцев, а и те неодинаковы. Ложись, отдохни малость.
Ляпаев прилег рядышком, помолчал, успокоенный ее рассудительными словами и ласковым утешным голосом.
— Слышь-ко, Пелагеюшка, — ткнувшись бородой ей в ухо, страстно зашептал он: — Будя нам любовниками жить да бога гневить. Будто вор крадусь к тебе всякий раз. И сын-то неповенчанный, почитай, незаконный. Завтра или днем позже в город еду, ты скажи, что для обряда привезти. — Он почуял, как Пелагея затихла мышью, спросил: — Что молчишь-то?
— Мне откуда знать, как у вас, состоятельных. По-нашему, крестьянскому, не подойдет.
— Ладно, сам поспрошаю отца Леонтия. Ты мне непременно, Пелагеюшка, сына роди, наследника, чтоб добро мое в чужие руки не уплыло.
— Не досаждай богу напраслиной, — ласково возразила Пелагея и всем телом притеснилась к нему. — Ты еще не старый, сильный. Жить да жить тебе.
— В груди теснит, — признался он. — Сердце чулое стало, недоброе мнится…
— Перестань про то, не терзайся. У нас будет сын — это ли не доброе.
10
Затихло на промысле, замерло. Но тихость эта не похожа на послепутинный покой, когда, утомленные промысловой горячкой, умиротворенно отдыхали люди от изнурительной работы, от надобности подниматься ни свет ни заря.
След напряженности открывался во всем внимательному глазу. Недвижным табунком сбились у лабаза тачки. Обкусанным караваем сиротливо возвышался ледяной бугор. Горкой на приплотке лежали неубранные носилки — не обремененные ношей, они пустоглазо темнели ячеей сетки. И ватажный люд, несвычный с бездельем, больше отсиживался в казарме. Если приспичило кому сходить за водой к реке или по другой нужде за изгородь, шли крадучись, тишком, переговаривались шепотком, словно в доме покойника. Все это Резеп приметил, едва вышел из своей комнатки на высокое, с многоступенчатым рундуком, крыльцо.
А позже, по мере того как солнце, отслоившись от горизонта, взбиралось все выше и выше, и совсем невмоготу стало смотреть на заброшенное хозяйство, где еще вчера бурлила жизнь, боролись страсти и ни на минуту не затухало дело. Вымерлый вид промысла навевал безысходную тоску.
И как на неживое тело, налетело вороньё, безнаказанно хозяйничало на плоту, у лабазов, где со вчерашнего дня оставались порванные при перегрузке и выброшенные за ненадобностью рыбины. Воронье карканье предвещало недоброе, и Резеп суеверно подумал: к чему бы такое? Перекрестился торопливо и прошел в лабаз.
Два длинных ряда чанов пустовали — колодцами чернели врытые в землю семисотпудовой вместимости кадища. Во втором лабазе тоже пустовали чаны, и лишь четыре крайние, доверху забитые сельдью вперемешку с солью и льдом, были укрыты кусками рогожи. Сегодня с утра надо бы эту замороженную сельдь перебрать, уложить аккуратными рядами, рыбка к рыбке, спинками вниз, обильно пересыпать солью, и тогда она томилась бы в продолжение месяца, зрела, высаливалась до нужной спелости. Так и задумал Резеп вчера, но его решению не суждено было исполниться, потому как неожиданно нарушился весь заведенный порядок. В заморозке сельдь конечно же не загорится, рассуждает Резеп, вылежит и неделю и другую, однако ж дело застопорилось, и это ничегонеделанье обойдется Ляпаеву в копеечку. Держать бы прошлогоднюю цену, так нет, поскаредничал. Вот и достукался: потеряет больше, нежели выхитрит.
Размышляя так и в мыслях осуждая хозяина, Резеп приметил Глафиру. Она вошла в широко распахнутую дверь лабаза и приблизилась к нему. Кивнула понимающе, ни о чем не спрашивала.
— Как он там?
— Закрылся у себя. И завтракать не вышел.
— Зря он так. Поторговался бы малость с ловцами, глядь, и уступка вышла бы. Селедка-то пройдет. Ну, да ему видней. Его капиталы, а у нас голова болит. — Резеп обнял Глафиру и втиснул ее спиной в прогал между ларями с солью. — Хорошо, что пришла. Скукота.
— Не надо, Резеп, Слышь-ка, увидят. Пойдем к тебе, в светелку. Что расскажу!
Недоброе предчувствие, навеянное тягостным томлением от безделья, охватило Резепа. Едва Глафира поведала ему то, что простодыра Пелагея втай от Ляпаева шепнула ей на ушко утром, Резеп напружинился, враз определил, какая беда нависла над Глафирой, а значит, и над ним.
— Час от часу не легче. — Он в задумчивости поскреб лоб и предложил первое попавшееся: — Надо Пелагею отговорить. Глаш, бабы на это горазды, придумай что-либо, а?
— Она так счастлива, а ты — «отговорить». Как же, уломаешь ее.
— Ну… скажи, что… у него в городе шмара. Бабы не любят, когда мужик сразу с двумя.
Глафира стрельнула на него глазами. Взгляд ее был подозрителен, и к тому у нее были веские причины. Первое, что она подумала — неужели Резеп знает о ее связи с Мамонтом Андреичем. Однако догадке своей не поверила: откуда ему знать про то? В номер он не заходил, а Ляпаев до смертного дня не предаст огласке такое.
— Да не поверит она, — стояла на своем Глафира. — Она на Мамонта Андреича чуть ли не молится.
— Да… положеньице. Без ничего останемся, как пить дать. И я безденежник. Че делать-то будем?
— Так обещал он мне промысел и остальное, что положено.
— Пока один всем владел, — сердито возразил плотовой, — теперча их двое, трое даже. Достанется тебе фигура из трех пальцев. Нет-нет, надо что-то учинить, Глаш. Ты одна должна быть отказной наследницей. И никого больше. Иначе нам каюк. — Про себя подумал: «На что ты мне, худая сковорода, без состояния». А вслух сказал: — Хватит баклушничать. Проморгаем свое счастье, крест святой, провороним.
— Резеп, глянь, — обрадованно воскликнула Глафира и метнулась к окну.
11
Конторка и комнатка плотового строены так, что река видится из окна далеко, чуть ли не до раздора, где Ватажку раздваивает крутоярый лесистый остров. Потому Резеп, взглянув в окно, сразу приметил две ловецкие бударки и определил наметанным глазом, что они тяжело гружены. И засомневался в своих словах, которые он только что насылал Ляпаеву. Выходит, хозяин прав. Не все с ума поспятили, очухались, которые поумней. Резеп вглядывался в приближающихся ловцов, желая угадать их, но признал, лишь когда лодки сравнялись с приплотком: на одной Тимофей, на другой — дед Позвонок с внуком.
— Иди порадуй самого, — отослал плотовой Глафиру и направился к прибывшим.
Когда он подошел к ловцам, дед Позвонок поинтересовался:
— Чой-то народу не густо. Можеть, праздник какой запамятовал я?
— Дураков не сеют, они сами нарождаются, — с издевкой отозвался Резеп. — Хотят выше хозяина быть, голодранцы.
— Али набедокурили что? — любопытствовал дед Позвонок. Он ничего про вчерашнее не знал: в селе не был, а стаи его — в стороне от ловецких дорог.
— Дурному, дед, воля, что умному доля: сам себя погубит. — Это Тимофей. — Самовольничают. Копейке не рады, рубли хотят.
Дед Позвонок опять ничего не понял, но почуял неладное: что-то мужики надумали, да и ватажников ни одного не видно. Неужто побросали работу? Догадка поразила старика, и тут память вернула его к дням прошлым, на Золотую яму, где братья Крепкожилины сшиблись. В тот раз не то Илья, не то кто другой ловцов мутил. Унюхав неурядицу, дед насторожился.
Тимофей к тому времени наполнил носилки селедкой и попросил:
— Помог бы, дед, до весов стащить.
— Мне, мил человек, и свою-то невмоготу. Отпомогался.
— Сейчас Гришку пришлю, — Резеп скрылся в казарме, а некоторое время спустя оттуда повалили мужики.
Тимофей, довольный собой, усмехнулся: кончилась канитель. Ишь как табуном валят — покричали да и образумились.
Но дальше пошло все наперекосяк. Ватажники шли молчком, встали стеной округ Тимофея и носилок.
— Помогли бы, мужички, — чуя недоброе и стараясь спрятаться за напускным спокойствием, попросил Тимофей.
Никто ему не ответил. Под гневливым обстрелом множества глаз Тимофей подумал с тоской: будут бить. И Резеп струхнул, а потому, чтоб как-то снять напряженность, предложил Тимофею:
— Дай-ка я помогу.
Чтоб плотовой взялся за носилки — никто из рабочих и даже дед Позвонок не помнил. Выходка Резепа вначале озадачила, а потом развеселила людей, сбила остроту момента.
— Во, столковались.
— Два сапога пара.
— Поганят общее дело.
— На любом поле дурная трава случается.
— Ни стыда, ни совести.
Осудчивые слова не пронимали ни Резепа, ни Тимофея. Носилки за носилками они таскали мимо возбужденных ватажников на весы, потом в лабазы, к чанам, сливали в них сельдь.
Дед Позвонок поначалу ловил на себе гневные взгляды промысловых, потом те вроде бы запамятовали о нем, весь гнев свой обрушили на Резепа и Тимофея. Но хулиганские выкрики работных камнем ложились на сердце, и старику казалось, что они насылаются ему. Он бездвижно сидел на бударке, бессильный оградить себя от обидных слов. Накричал сгоряча на внука за то, что тот приволок носилки. Мученье его кончилось тем, что он, не желая бесчестия, неприметно для толпившихся на приплотке, отвязал чалку и оттолкнулся от причала.
— Совесть когда чиста, и подушка под головой не вертится, — обращаясь к внуку, сказал дед. — Не пропадем, чай, едри их в позвонок.
Тимофей Балаш оказался один на бударке по той простой причине, что накануне вышла у него стычка с Ильей, когда тот, почаевничав у Гриньки и Ольги, близко к полночи вернулся к себе. Квартирант и напарник Тимофей к тому времени уже сбил охотку ко сну, дремал будко, а потому сразу же разлепил глаза, едва Илья вошел в дверь. Будто по уговорке достали курево, свернули, послюнявили закрутки, зачадили перед сном. Курители они оба заядлые, высосали весь дым до обжигающих пальцы окурышей, и тут, слово за слово, и произошло то, что рано или поздно должно было случиться, потому как люди они были разные и по характерам и по убеждениям. А двум чужакам по духу жить под одной крышей никак нельзя.
Тимофей, загасив окурок, поинтересовался как бы невзначай:
— На зорьке встанем?
— Че таку рань делать? — встречно спросил Илья.
— Путина… Запрет настанет, отоспимся.
— Ты что же, Тимофей, поперек всем идешь?
— Почему поперек. Я сам по себе. Пришел издалече не в потолок плевать, а подзаработать. Никому я тута не должен, и никто мной помыкать не в праве. — Тимофей говорил неспешно и напорчиво. — И тебе совет мой: живи своей головой. Всех речей не переслушаешь. Развелось говорунов…
— Постой, постой. Ты об Андрее это?
— Так хошь и про него. Что он суется не в свое? Не ловец, не рабочий… Богу слуга, Ляпаеву работничек.
— Нехорошо говоришь, не надо.
— Пошто нехорошо? Что думаю, то и высказываю.
— Вот и я о том же. Погано думаешь.
Тимофей обидчиво вобрал губы, но молчать долго, не мог, попытался склонить Илью к себе, отторгнуть от Андрея:
— Селедка ждать нас не согласится. Момент упустим — и будем куковать зиму. А Андрею что, ему можно и поиграться в верховода. И лето и зиму жалованьем обеспечен.
— Во-во! Эт-то ты верно подметил. Андрей может прожить безбедно, и никакой корысти ему нет с нами вязаться, одни неприятности. А он…
— Стало быть, не поедешь завтра? — перебил Тимофей.
— И ты тоже.
— Ну нет, благодарим покорно. Я свое терять по вашей глупости не намерен.
В последние дни все в Тимофее раздражало Илью — и слова, и поступки, и даже обличье. Нынешняя ночная беседа положила конец их недолгому товариществу. Илья не сдержался и в ответ на обидные Тимофеевы слова взъерошился, потому как понял, что уговаривание тут бесполезно, что размирились они навсегда — не вышло надежной поладки. Сказал — будто чалку отрубил:
— Ты вот что: ночку побудь здесь, а наутро — чтоб и духу твово не было. Мотай, не нужны мне ни бударка твоя, ни сбруя. Прогнил ты насквозь.
12
Тимофей проснулся, когда заревное небо оранжево искрилось щедрым весенним рассветом. Покурил на порожке мазанки, поочередно вдыхая едучий махорочный дым и рассветную свежесть, припомнил ночную размолвку и вернулся в жилье, чтоб собрать немудрящие пожитки. Куда перебираться — он надумал еще ночью, в бессонье: конечно же в бударку, там он может все лето и осень до заморозков жить. Под закроем тепло, постель есть. Туда дальше, к комариному разгулу, купит полог марлевый. А к холодам подыщет квартирку у одинокой старицы, они в каждом поселении есть, и в Синем Морце отыщутся. Без крыши не останется — живой не без жилья, как и мертвый не без могилы.
Собирался Тимофей без осторожки, скрипел половичками, загремел табуретом. По Илья глаз не открывал, хотя и не спал — сопел притворно, ждал, чтоб постоялец поскорее ушел. И Тимофей знал, что Илья пробудился и все слышит, но тоже не выказывал свою догадку: все, что хотели, вчера выложили друг дружке, нечего сказать больше. Да и не наставишь неразумного, у каждого, стало быть, своя планида.
Тимофей все еще верил, что жизнь образуется, что предопределение у него иное, нежели у Ильи, Макара и им подобных. Он не поддался их уговору, ибо оставался в твердом убеждении, что все их действия — суета, их помыслы — пустое воображение. А чтоб хорошо жить, надо зарабатывать деньги, вкалывать, стало быть. И нечего тут мудрить.
Потому-то, едва перетащил барахло на бударку, засобирался Тимофей на лов. Он окинул взглядом отлогий присельский берег и отметил, что ловецкие бударки стоят на приколе. Подумал с тоской: «Неужто один»?
Но даже это обстоятельство не препнуло его. Он снял зацепку с замытой песками коряги и оттолкнул лодку от берега.
Когда въехал в Чапурку, увидел деда Позвонка с внуком, и тревога малость улеглась. Торопясь и без передыха, налил трюм сельдью и вместе с дедом подался на Синеморский промысел. Однако дед Позвонок, так и не выгрузив улова, отчалил от приплотка. Тимофей обругал его в мыслях: «Хрен старый, век прожил, а ума своего не имеет. Поддался наущению».
Наутро Тимофей вновь собрался на лов. Не доезжая до Чапурки, он приметил у входа в нее две бударки, и тихая радость теплом разлилась в груди: вновь исчезло ощущение одинокости, отрешенности от людей. Да, он несогласен с ловцами, идет наперелом им, ибо верит в судьбу и считает себя способным жить в одиночку. Но увидел ловцов у горловины Чапурки, и открылась ему простая и мудрая истина: не может жить человек одиноким, не может оставаться верстовым столбом в чистом поле. Одному против многих не замышлять — соумышленники нужны. Оттого-то Тимофей и возрадовался ловцам.
Но чем ниже сплывал он по воде, тем явственнее беспокойство охватывало его: ловцы не въезжали в Чапурку, приткнули бударки к камышовым ярам, что-то замышляли, а что — Тимофей понял, когда подъехал к ним: поперек горловины на шестах висела сетчатая перегородка — над водой и до самого дна.
Ловцы сидели на бударках, курили. На одной лодке — Кумар с отцом, на другой — тоже двое казахов, незнакомых Тимофею.
Они встретили Балаша колкими осудчивыми взглядами. Но врожденная восточная вежливость не позволила им не ответить на приветствие. Ловцы сдержанно закивали ему, но расспрашивать прибывшего о здоровье, как это опять же принято у них, воздержались.
Выждав некоторое время, Тимофей спросил:
— Перегородили к чему?
— Отец велел. — Кумар показал глазами на Садрахмана, тот согласно кивнул, мол, правду Кумар сказывает. — А ты куда?
— Да вот хотел… в Чапурку.
Казахи переглянулись, о чем-то непонятном для Тимофея поговорили меж собой.
— Нельзя Чапурка, — тихо сказал Садрахман.
— Отчего же нельзя?
— Илья где? — не отвечая Тимофею, встречно спросил Кумар.
— Дома остался.
— Болел?
— Да нет. Тут такое…
— Илья хорош мужик, жаксе, — перебил его Кумар, и больше ни о чем ни он ни Садрахман не расспрашивали. Не стали они объяснять Тимофею, что перегородили Чапурку, чтоб не ушли сельдяные косяки, потому как не верили этому пришлому, опасались, как бы он не сболтнул Резепу, и тогда Ляпаев, узнав о ловецкой хитрости, не поспешит пойти им на уступку.
Выгадывая время, Тимофей неспешно прибирал в бударке: перетряхнул постель и бросил для просушки на солнечную припеку, выплескал из-под мостков застойную воду. Но и казахи не торопились. Двое незнакомых откинулись на закрой и тихо дремали, пригретые знойным солнцем, Садрахман чинил сети, а Кумар достал из кормового ящика сазана, почистил его и заварил уху.
«Нехристи поганые, хитро присобачили. Ни рыбе из Чапурки, ни ловцу в нее», — ругался в мыслях Тимофей. Он понял, что эту нескрытую засаду ловцы устроили против него, но виду не подают, и что они, пока тут, не позволят порушить перегородку. Да и без них не посамовольничаешь — прибьют, ишь глаза-то какие разбойные…
13
Весь тот день Илья не выходил из дома. Человек он вроде бы и не скучливый, а тягостное настроение от ничегонеделанья не оставляло его с раннего утра. Он досадовал на себя, что в зимнюю пору вошел в уговор с Тимофеем, которого нисколечко не знал, и вот теперь расплачивался за легкомыслие.
Когда Тимофей, забрав свое, ушел, Илья вздохнул облегченно — в последние дни тот донимал его своей отчужденностью от ловцов. А уж когда встал поперек их общего дела, тут Илья возненавидел своего напарника. Оттого и возрадовался, порвав с Тимофеем.
Но проходил час за часом, и потому, что не было надобности куда-то идти, что-то делать, с кем-то встречаться, подступила тоска. Право же, малое дело лучше большей безделицы.
Второй день не было слухов от Андрея. Будто сгинул. Объехать промысла да поговорить с людьми, понятно, непросто. И за три дня не управиться, да в томлении всякие мысли нарождаются, одна худшее другой — помимо воли встревожишься.
И еще одно обстоятельство беспокоило Илью: он оказался не у дел в разгар путины, потому как все определились еще до начала весны — одни в артель сбились, другие своей семьей на путину вышли, а иные на промысел подрядились, — по разному, но все при деле. А вот ему, Илье, с уходом Тимофея и заняться нечем, и приткнуться не к кому.
В таком вот настроении и застал его Кумар к вечеру. Они с отцом только что вернулись с Чапурки, оставив одну бударку у перегородки, потому что Тимофей в село не возвращался, сказал, что отныне он жить будет в лодке и, стало быть, торопиться ему некуда, тут, у Чапурки, и заночует.
— Ты зачем Тимофей обижал? — широко улыбаясь, спросил Кумар.
— Как же, обидишь его, живоглота.
— Лиса, этот Балаш, хвостом туда-сюда, туда-сюда. Два ребята караул остался, чтоб Тимофей в Чапурку не попал. Шайтан-человек.
— За копейку родную мать продаст. Я-то, дурень, поначалу не разглядел его. Добреньким прикинулся, а подоспело как — наизнанку вывернулся.
— Так, так, — согласно кивал Кумар и спросил то, о чем думал весь нынешний день, как только узнал о ссоре Ильи и Тимофея: — Что делать будешь?
— Придумаю, — неопределенно отозвался Илья. — Зачем думать? — простодушно подивился Кумар, — Одна лодка будем работать, вдвоем, а?
— Не-е, это ты оставь. У тебя, Кумар, семья вон какая. Ее кормить надо. Работаешь с сыном, ну и работай.
— Балашка устал, слабый балашка. Сил нет.
Понимал Илья, что Кумар слукавил насчет сына, потому как вся его хитрость была на лице.
— Нет, и не проси. Не пропаду, мир не без добрых людей.
— Другой — добрый, а Кумар — не добрый, — вскинулся Кумар. — Плохой человек, да? Зачем обижаешь?
Было в его глазах и словах столько огорчения и обиды, что Илья заколебался.
— Ну, хорошо. Только одно условие.
— Говори, какое слово?
— А уговорка будет такая: поскольку все снаряжение твое, по правилам мне положен один пай, тебе два. Подожди, не кипятись, — Илья предупредил возражения Кумара. — Но я на такое условие не согласен.
— Ладно, Илюшка, тебе пай, мне пай, — согласился Кумар, — тебе рупь, и мне рупь.
— Эка ты какой щедрый. А лодка твоя. Лошадь опять же. Нет. Это по закону — лишнюю долю тебе, а мне одну треть с рубля. Но я пойду, ежели ты дашь мне одну четвертую рубля.
— Ты дурной, да? — подивился Кумар.
— И не спорь. Разделка будет такая: тебе три пая, мне один.
— Совсем дурной. Ты Ляпаев ругал, что мало платил, а сам.
— Не путай, Кумар, попадью с поповной. Ляпаев хозяин, а ты мне друг, готовый отдать последнее. Я не хочу, чтоб семья твоя страдала. И коль ты не согласен паевать, как я сказал, то и отчаливай.
Как ругал себя сейчас Кумар! Целый день он думал о предстоящем разговоре с Ильей. Хотелось помочь другу, но и сомнение брало: а как сам-то будет жить с такой семьей. Пока с сыном промышляли, весь заработок оставался дома, а с Ильей надо поровну делиться. Выходит, зря терзался. Илья и от третьей доли отказывается, на четвертую согласен. Но и Кумару совестно на такое соглашаться.
— Вот так, Кумар, — словно подытоживая разговор, сказал Илья. — Доброта твоя может обернуться мне во вред — останусь не у дел. Соглашайся. С тобой-то мы сработаемся. А будет у меня жена да пойдут дети, тогда посмотрим. По рукам? Или помочь мне не хочешь?
— Ай, шайтан! — изумился Кумар, но руку пожал.
У него все шайтан — и хитрый, и ловкий, и нечестный, и жадный… Другого ругательства Кумар не знал.
14
Одна за другой доходили до Ляпаева пестрые вести — то тревожные, то утешительные. И всякая, будь худая или же добрая, касалась его, волновала. Вчера Глафира прибежала с промысла и, тяжело дыша, сказала, что две бударки, груженные сельдью, подходят к приплотку. Мамонт Андреич взбодрился и подумал, что все образуется, что происходящее — лишь временные недоразумения.
Человека деятельного, его тянуло на промысла, потому как знал, что плотовые, даже самые шустрые и верные, как Резеп, могут сделать не так, как надо бы, что-то упустят, не додумают, наломают дров. Но Ляпаев силком заставлял себя отсиживаться дома, чтоб одним этим показать свое несогласие с бунтующими ловцами и ватажниками, подчеркнуть свою твердость.
Но Ляпаев не учел того обстоятельства, что у Резепа и ему подобных есть свои цели и подчас обуревают их мысли иные и отличные от мыслей о его, Ляпаева, благополучии. Хозяин догадывался, что подсобники его при случае не прочь урвать для себя кусок, но он не знал, что эти куски столь велики, что, скопившись, образуют заметный капиталец, позволяющий управляющим и плотовым подумывать о своем деле и даже кое о чем большем. Мамонт Андреич знал, что Резеп метит заполучить Глафиру, а с нею и немалое приданое, — не в ее же голове родилась мысль о наследовании одного из его промыслов. Но он даже не представлял себе, что Резеп замахнулся на большее: видел себя мужем наследницы всех его промыслов.
Неосмотрительность эта, а точнее, вера в свою проницательность, силу и, следовательно, в незыблемость положения еще сыграют над ним злую шутку. А пока Мамонт Андреич, томясь бездельем, злобился на людское непокорство.
В жгучей злобе он допустил еще большую и главную ошибку. Если подчиненные его могли или не могли доставить ему неприятности и огорчения в зависимости от личных качеств и личных устремлений каждого в отдельности, то ловцы и промысловые рабочие действовали не только по личным побуждениям. Нужда и бесправие пробудили людей, вздыбили, заставили объединиться, ибо начали осознавать они, что каждый в одиночку ничто, а вместе необоримая сила. Оттого-то и на соседних промыслах поддержали взбунтовавшийся люд, пристали к их делу.
Взъярился Ляпаев, узнав о том, потому как враз оценил цепким практичным умом, какая укрепка синеморцам от того единения. И ругал себя самыми распоследними словами за то, что дал возможность Андрею беспрепятственно мутить народ и склонять на свою сторону.
В ночь он засобирался в Шубино, чтоб призвать на помощь волостное управление, но потом раздумал, решив, что упрашивать волостного старшину ему не пристало. Просить — так просить губернское начальство, а оно уж прикажет волостному управлению, и тогда те сделают все, что надо, — должна же быть управа на смутьянов!
Заодно, подумалось Ляпаеву, и с податным инспектором сладить надобно. В том, что он поладит с новым налогораскладчиком, Мамонт Андреич ни на один миг не сомневался: деньги сделают все, они и над большими начальниками — господа. Не зря говорят: после бога — деньги. А иной раз и впереди него. Все любят сладко попить-поесть. А городчане — те большие мастаки приносы брать. Там, в губернии, уйма всяких взымателей.
Вечером он призвал плотового. Резеп топтался в прихожке — не мог обороть привычного страха перед хозяином, хотя в мыслях иной раз вставал рядом, соперничал, «побивал» ухваткой своей, потому как считал, что Глафира будет его, и он, на самый край, станет хозяйничать на промысле.
— Ты вот что, — набычившись, сказал Ляпаев, — в город еду. Смотри тут у меня, не поддавайся. Ни копейки не набавляй, не след. Долго они не продержатся.
О том, что едет за подмогой, ни слова не сказал. Хоть и верный человек Резеп, а может проболтаться, и тогда неизвестно, как обернется дело. Но Резеп собачьим чутьем уже уловил хозяйские мысли, виду, однако, не подал, прикинулся простачком.
— Пойдешь к себе, покличь отца Леонтия. Мамонт Андреич, мол, видеть хочет. Да скажи Кисиму, чтоб на утренней зорьке повозку заложил. Все как положено, дорога дальняя. Он знает.
Отец Леонтий вошел неслышно, проскользнул в дверь, будто мышь в щель. Тряся реденькой острой бородкой посочувствовал:
— Времена, дражайший Мамонт Андреич, смутные и шаткие настали.
— Ничего, отец Леонтий, перетерпим.
— Переможем с божьей помощью. Сказано: терпенье — спасенье, — согласно закивал отец Леонтий. — И бог терпит, да больно бьет. Покарает он неразумных, покарает. Гореть им…
— Ладно, — перебил его Ляпаев. — Хочу просить тебя обвенчать…
— Глафиру нешто? — не стерпел, полюбопытничал Леонтий.
— Обожди, экой ты… — Мамонт Андреич невольно поморщился. Поднявшись из-за стола, прошел к шкафчику и достал графин с водкой и стопки. Крикнул: — Пелагея, подай-ка нам закусить.
В гостиную, где они сидели за круглым столом, спустя время вошла Пелагея с тарелками капусты и балыка, поставила на скатерку и, уловив знак Ляпаева, так же бесшумно вышла.
Ляпаев разлил по стопкам, чокнулся и, опрокинув водку в рот, не закусывая, сказал:
— Ты меня обвенчай. Что, отец святой, рот-то разинул? Я еще не стар, да и Пелагея — женщина в соку. И растолкуй, что по такому случаю для обряда церковного надо. В губернию утром еду.
15
К исходу апреля луговины и прочий низкодол залили вешние паводки. Ватажка вздулась, поднялась до верхокрая берегов, готовая хлынуть на камышовые острова, затопить их.
И, словно весноводье, копились в Синем Морце вести — дурные и тревожные, в понимании Меланьи. Каждое утро добровольцы-вестоноши, кто с умыслом, кто без него, доносили ей случайно услышанное о ее сыне и его товарищах, доносили с прибавками, пересудами, отчего слухи эти, а вернее сплетни, раздувались до неправдоподобия. И то, что прежде представлялось Меланье бедой — пожар на Маячненском промысле, — ныне отошло, растворилось в повседневности и казалось всего лишь незначительной неприятностью по сравнению с тем, что происходило с ее меньшим сыном, что ожидало его. А что не добром кончится вся эта заваруха, в том Меланья ни на минуту не сомневалась — чулое сердце матери предвещало несчастье.
И старик Крепкожилин, вроде-ка всю жизнь не был надломчивым, тут усмирился, стал кротким. Только Яков бесновался пуще прежнего, потому как считал брательника и голытьбу, что роилась вокруг него, причинниками всех зол, обрушившихся на их, Крепкожилиных, дело. Что промысел подожгли, для Якова было ясно, хотя никаких улик в подтверждение своей догадки он не находил. Это, однако, не мешало ему по-прежнему злобиться на все и всех.
Когда Яков прослышал про волнения и беспорядки на Ляпаевских промыслах, притих мышью, ибо понимал и опасался, что нечто подобное может случиться и у них. Правда, будоражиться почти некому было, потому как рыбу они не брали, лишь черную икру скупали, а коли так, то и рабочих на промысле держали единицы. И снабжали-то их икрой бударок пять-шесть. Большего Крепкожилины не могли осилить. Так что задираться-то и некому. Но Яков, нестрашливый по характеру, оробел: а ну как и последнее потеряешь.
После пожара на льдобугре удумал Дмитрий Самсоныч новым делом заняться — корневым засолом. Не так чтоб оно и новым-то было. В старину и деды и прадеды тем занимались. Да и ныне, когда рыбный завал припирал, вспоминали этот сколь давний, столь и примитивный способ соления: ни льда, ни чаньев — ничего не требуется. Режь рыбу, укладывай слоями в ямы да солью, как землей, пересыпай добрым слоем. Балыки, понятно, не те, что со льдом да в посудине, но все же годны на сбыт: на безрыбье и рак рыба.
Красная рыба маячненскими водоемами пошла шибко, и Крепкожилины за неделю просадили все деньги. Дмитрий Самсоныч засобирался в волость к знакомому рыбнику, чтоб перехватить деньги в долг, да Яков отговорил.
— Надо еще посмотреть, сумеем ли балыки корневого засола распродать, — резонно засомневался он. — Нахватаем долгу-то…
— Кто без долгов, тот бестолков, — слабо противился старик, но в душе был согласен с сыном и поездку отложил.
А тут городчане нагрянули, и Крепкожилины удачно, с добрым барышом, продали сушку. Вновь открылась возможность засаливать балыки из осетров и севрюг, но Яков воспротивился:
— Корневой засол, тятя, много нам не даст. С рубля рубль чистый получим, как ты мыслишь?
— Должны бы получить, — неуверенно сказал Дмитрий Самсоныч.
— Во! А ежели бы я предложил с рубля трешку? — Яков хитро посмотрел в глаза отца. — Али пятерку, а?
— Тако, Яш, в рыбном нашем деле быват, но редко.
— А ежели я надумал эту редкость? — в глазах Якова мелькают зеленые огоньки.
— Ну? Че томишь-то?
— Аль, тять, не догадываешься? Икру будем брать. Без рыб. Рыба нам без надобностев. А икорку возьмем.
— Так нельзя, Яша, эдакое добро портить, — разочарованно отозвался старик. — Слухи пойдут, начальство прознает. Грехов не оберешься.
— Ниче! Оно, начальство-то, тоже пить-есть хочет. Ежели какой случай, мы ему икорки пудик подбросим. Заткнется. А мало — так и денег. Рази кто выстоит! Ни в жисть не выстоит.
— Боязно. Дело-то страховитое.
— Всполошился раньше времени, — уколол Яков. — Сколько помню, не такое было. И ниче — сходило с рук.
Не стал Дмитрий Самсоныч перечить сыну. Подговорили они нескольких мужиков, которые понадежнее, поотчаяннее, посулили хорошие деньги и начали втай засаливать осетровую и севрюжью икру. Яков радовался удаче, Дмитрий Самсоныч, страшась, что дело это не сохранится в скрытности, помалкивал, поощряя тем самым сына. И только Меланья была глуха к их словам и делам. Все ее думки были о меньшом.
16
Переночевал-таки ту ночь Тимофей у Чапурки! Кумар с Садрахманом уехали в село, а двое казахов-незнакомцев остались. Без постели, укрывшись рваными фуфайчонками, дрогли они до зорьки на голых мостках под закроем. Тимофей напоказ, чтоб позлить упористых сторожей, улаживал постель, взбивал ватную подушку. Казахи зыркали, кололи его раскосыми глазами, но терпеливо молчали.
На зорьке Тимофей выбрался из-под теплой одеялки, а его охранники уже дымили махрой. Закрутки послюнявили в палец — видать, пронял их апрельский утренник. На корме бударки, в жарнике, подернутые пеплом, неярко тлели угли, а над ними в котле парил густо заваренный чай.
Побросав окурыши за борт, казахи зачерпнули кружками чай и, со злой усмешкой посматривая на Тимофея, начали отхлебывать огненную жидкость. Этот круто заваренный чай в котле и объемистых алюминиевых кружках и эта неспешность стерегущих загородку мужиков возмутила Тимофея. Он порывисто поднялся на закрой, выдернул всаженный в дно шест и с силой оттолкнул бударку от яра. Казахи поначалу не проявили никакого внимания к его вспышке, но когда Тимофеева лодка ткнулась носом в сетчатую перегородку и она затрещала под напором, спросили невозмутимо:
— Зачем балуешь? Плохо это, жаман.
Их спокойствие вконец распалило Тимофея.
— Зачем, зачем! — закричал он. — Пошто загородили! Не хотите сами — никто не неволит, а и людям поперек неча вставать.
Пока он исходил криком, мужики поставили на обруб кружки с недопитым чаем, подогнали свою лодку к Тимофеевой и стали теснить от загородки.
— Ходи, ходи отсюда…
— Кто вы такие, чтоб командовать, — взъярился Тимофей. — Уйдите от греха! — Он замахнулся шестом и в тот же миг ощутил резкий толчок в плечо. Не удержался на валкой лодке и грохнулся за борт в захолодавшую ночью верховую воду.
Словно ошпаренный, он выскочил из глубины, вцепился руками за бортовину и заругался:
— Нехристи косоглазые, чтоб вас… — С превеликим трудом перевалился через борт в бударку, а когда оглянулся, увидел: те двое, будто ничего не случилось, сидели в своей лодке и тянули из кружек чай.
…В тот же день Тимофей спустился по Ватажке на Крепкожилинский промысел. Промысел почти пустовал. В полутемном выходе над развалистыми деревянными корытами колдовал некрупный бородатый старикашка-икрянщик. Ему помогала Алена. Они кипятили воду, разводили тузлук, засаливали пробитую икру, отжимала ее в мешковинах.
Чуть в сторонке Яков набивал отжатой и просолившейся икрой трехпудовые дубовые бочки, выстланные холстиной. Когда бочонок наполнился, Яков вправил крышку в уторы и набил обручи.
— Бог в помощь, — поприветствовал Тимофей. Старик-бородач даже не повернул головы и нетерпеливо гуднул что-то Алене, когда та обернулась на голос.
— Благодарствуем, — охотно отозвался Яков. Он уже прослышал про ссору Тимофея с Ильей, а потому и зауважал мужика — не шалберник какой, серьезный человек. Потому, завидя его у приплотка, не пошел навстречу, не отвел в сторону. От такого не след прятаться. Спросил: — Каким ветром?
— Ветры, Яков Дмитрич, все больше встречные, не попутные. Приходится супротив них иттить.
— Слышал, не согнулся ты, не поддался.
Яков положил бочонок набок и откатил в сторонку. Отложив работу, закурил с Тимофеем. Они примостились на бочонках с икрой, похожие друг на друга: рослые, чернявые, с густыми куделями на голове.
— Рыбу берешь али как? — в упор спросил Тимофей.
— Какая рыба безо льда-то? Тушить нешто?
— Оно так.
— Не видишь — пуст промысел. Втроем колготимся, иной раз отец подсобляет.
— Никак, икру готовишь?
— Ее. Че же иначе? Оставили, сволочье, без льда.
— А краснуху куда?
— Краснуху не беру. Икру скупаю, а краснуху — нет. И дело не мое, куда ее девают. Можа, и засаливают.
— Ясно. Утресь привезу, возьмешь?
— Отчего не взять. Возьму. Только икру надо пробить через грохотку, пока она парная. Опосля не пробьешь. Грохотка хоть есть? Нет? Возьми в лабазе. Да и полубочье — тоже. В цинковой посуде долго не сохранишь. И вези тут же, как разделаешь рыб. Да и не выставляй напоказ.
— Постараюсь, — понимающе ответил Тимофеи.
— Постарайся. А место я те подскажу, где краснуху добычливо брать. Пойдем-ка до конторки.
Из-под стола Яков извлек початую бутылку водки, налил по неполному стакану, сунул Тимофею деревянную ложку.
— Испробуй, — он кивнул на стол, сбитый из теса, где на тарелке чернела свежеизготовленная икра.
Они выпили, пожевали хлеб с икрой, и Яков заговорил:
— Ты ндравишься мне. Не открытый — вот это и хорошо. Открытый и сплошь ясный — только дурак. А ты не такой. Оттого и сработаемся. Сетки у тя, я слышал, есть.
— Есть. И частые и редкие.
— Вот режаки и выбивай. А место такое. Золотую как минуешь, вправо через версту-полторы дыра. Неприметная этакая. Плюй, что неказистая. Дальше топай. С десяток верст поишачишь шестом — россыпи откроются. Ширина такая.
— Понимаю.
— Вот и хорошо. Увидишь Шапку.
— Шапку? — подивился Тимофей.
— Такое прозвище у нее. Кулига чеканная на ширине разрослась. Наши-то охламоны все плавными сетями промышляют. Туда не ходят. А ты пойди. Далековато, да надежно.
Что-то тревожное уловил Тимофей в голосе Якова, насторожился. Но Яков успокоил:
— Не скрою, место закрытое. Запрещено там работать. Да ты не боись. Охранщик тамошний — человек свой. Встретит коли, скажи, что от меня. И работай себе на здоровьице. Икру видел, которую старик делает в лабазе? Так вот она оттель. И доставил ее тот самый охранщик. Понял? То-то. Ну, держи еще по одной, да и топай. А что услышал, тут же забудь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Приключилось то, чего Андрей опасался и против чего явно протестовал: недостало у людей выдержки по-умному, по-деловому довести начатое до нужного предела. И хотя Андрей понимал, что долгое время люди жили на грани терпения и доведены до крайности и что неуправка вышла по этой причине, а не по злому умыслу, случившееся крайне встревожило его. По опыту прошлых лет он знал, чем заканчивались такие взрывы: на бунтовщиков бросали полицию, разгоняли плетьми, хватали зачинщиков, и общее дело, которое налаживали с превеликими потугами, завершалось досадными потерями.
Оттого-то, едва он прослышал о начале погрома Синеморского промысла, крикнул Илью, и они со всех ног помчались туда.
Они уже подбегали к изгородке, когда с угла задымила казарма. Черные завитки катились вверх по крыше, запах смолистой гари шибанул в лицо.
— Подожгли! — почти простонал Андрей. — Толпа неразумная…
Но клубы дыма вдруг сменились сизым водяным паром: кто-то тушил огонь — нашлась-таки умная головушка!
…Угрюмо толпились мужики, что-то невнятное кричали бабы, а Иван и Алексей Завьяловы в перепачканных сажей косоворотках метались меж рекой и казармой. Илья с ходу кинулся к воде, выхватив из рук какой-то бабы деревянный ушат.
— Таперча все, — остановил его Иван. — Почадит да и заглохнет. Вот архаровцы! Наворочали на свою голову. — Иван в досаде сплюнул и швырнул ведро. Оно, звякая дужкой, покатилось под укат, мягко коснулось воды и беззвучно ушло на дно.
Породил эту смуту, сам не предполагая, чем все обернется, Резеп. Хотел в противность Ляпаеву мужиков позлить. Когда он узнал от Глафиры, что Мамонт Андреич укатил в город неспроста — не только по делам промыслов, а и за подвенечным барахлом для Пелагеи, злоба удавкой подкатила к горлу. Думалось Резепу: тут огонь под боком тлеет, и еще неизвестно, чем вся эта заваруха завершится, а он, хрен старый, о венце замышляет. И с отцом Леонтием уже уговорку сделал о том.
Резепу, по прежним временам, конечно же наплевать бы и на Пелагею, и на Ляпаева тоже. Пущай бы и венчались. Но с появлением в Синем Морце Глафиры Резеп вроде бы в пай с хозяином вошел, ревниво присматривался к его дому и тому, что там происходило. По этой вот самой причине женитьба Ляпаева ломала Резеповы планы и виды на будущее. Обвенчается Ляпаев с Пелагеей, и одного захудалого промыслишка не дождешься. Устраивал плотового хозяин одинокий, с одной лишь единственной наследной Глафирой.
Злобствовал в то утро Резеп непомерно. Сказал мужикам, что хозяин укатил в губернию надолго и прибавки не будет ни копейки. От себя досочинил злонамеренно: может, и на лечебные Кавказские воды махнет, а чтоб утихомирить их, непокорных бунтовщиков, полицейских пришлет.
Тут и случилась взрывка. Неосторожные слова плотового искрой упали в толпу взмутчивых людей. Утомленные бездельем, а пуще того неуверенностью в успехе предпринятого дела и отсутствием ежедневного заработка, не умеющие управлять своим настроением, мужики вспылили, учинили погромление. И как Иван Завьялов ни уговаривал остепениться, как он ни стыдил товарищей своих, буйство толпы взяло верх над трезвыми доводами.
Резеп с перепугу заперся в конторке и глазами, полными страха, высматривал из-за оконных косяков, как ватажники покидали с приплотка гору носилок, покатили из лабазов и тачки, тоже поскидали их в реку.
Погромщики тем временем перешли в лабазы, что-то ломали там, крушили, а потом, будто вспомнив о плотовом, хлынули к конторке, сорвали с крюка дверь и выволокли его наружу. Резеп взмолился о пощаде, но мужики и слушать не хотели, и тогда плотовой, увертываясь от тумаков, обратил мысли свои к богу, и господь явился на помощь в обличий страшного в гневе, бледного, с трясущимися губами Ивана Завьялова.
— Назад! Прочь! — хрипел Иван и, размахивая над головой ошкуренным таловым шестом, наступал на буйствующую толпу. — Кончай самоуправку! В тюрьме сгноят, дурни, прочь!
Было непонятно многим, что Иван Завьялов, который первым мутил всех, звал постоять за себя, шел сейчас наперелом, отговаривал от буйства, брал в защиту зверя-плотового. И хотя мужикам противны были Ивановы доводы и поступки, они стихли, потому как задумались и над его действиями, а равно и над своими. А известно: коль толпа начинает хоть чуточку мыслить, она становится управляемой и даже — самоуправляемой.
Минутной заминкой и воспользовался Резеп. Бочком-бочком он скрылся в конюшне, вывел через заднюю дверь меринка, даже не оседлав, вскочил на него и послал коня с места внамет, успел краем глаза приметить завитки дыма за казармой.
…Через две-три версты Резеп, придержав меринка, перевел его на шаг. И едва прекратилась бешеная скачка, страх сковал его, волосы на голове зашевелились, а нижняя челюсть сотрясалась, будто от сильнейшей лихорадки. Мысль о смерти только сейчас коснулась его, и он ужаснулся оттого, что она была так близка, уже дыхнула на него и только благодаря Ивану Завьялову не призвала к себе.
Резеп конечно же не понял причины, побудившей Завьялова заступиться и вырвать его из рук озверевшей толпы, и решил, что, видимо, Иван сообразил, что зря связал себя с бунтовщиками, и чтоб как-то оправдаться перед хозяином, пошел супротив толпы.
У безопорного старенького моста через малую речушку, готовую вот-вот выплеснуться из берегов в пойму, в камыши, обступившие и речушку и мост, Резеп остановил коня, и тут только дошло до него, что правит он в волость. Как, зачем меринок вынес его на эту верстовую дорогу — плотовой не помнил. Да и не до размышлений было в минуту поспешного бегства. Он соскочил наземь, захлестнул повод вокруг жиденького перильца и умылся мутной верховой водой.
Он сидел на мостике, пока не просохла рубаха. И только после того, как надел ее, вскочил на коня и продолжил путь, решив, что возвращаться, хоть мужики, наверное, утихомирились, не с руки, а обязательно надо наведаться в волостную управу и донести о случившемся.
Но не успел он сделать и версту, как на дороге из-за поворота появилась ляпаевская повозка. Светло-гнедая Савраска шла неспешным шагом, а сам хозяин с закрытыми глазами полулежал, откинувшись на спину.
Резеп насторожился: что с ним? Не случилось ли что? Завсегда один в дороге. Сколько раз Резеп предупреждал его, а он…
Но вдруг мысли Резепа пошли в обратном течении: а вдруг… Тогда Глафира одна… все ей останется.
Резеп пристально, с тайной надеждой всматривался в спокойное красивое лицо приближающегося Ляпаева и никак не мог сообразить: хозяин то ли, притомившись, вздремнул, то ли…
2
Нерожавшая Пелагея в свои тридцать пять лет завидно сохранила и фигуру и стать. В последние недели очертания ее несколько изменялись: она чуть приметно пополнела, ноги к вечеру отекали. Но, как и прежде, она смогла бы еще и с Глафирой посоперничать. Тонкие брови, длинные, загнутые ресницы, умилки на щеках делали ее очень привлекательной.
В ожидании Ляпаева она оделась во все лучшее, заплела волосы в толстую косу, скрутила ее в тугой кокуль. И пока наряжалась у зеркала, все думала о предстоящем венчании. Она уже сжилась с мыслью быть женой Мамонта Андреича. Нельзя же оставаться в полюбовницах, богу неугодное то дело и грех великий, да и сельчане вскорости станут примечать. Шила в мешке не утаить. Судьба, стало быть.
Вспомнила венчанье с Алексеем в старенькой резной церквушке. Мать-покойница не раз напоминала по дороге в церковь, чтоб закрытой рукой крестилась да с Алексеем чтоб разом свечи задували. По поверью, жить тогда им один подле другого век, богато жить.
Пелагея все исполнила, как матушка наказывала, да, видно, молитва не дошла до господа. Иначе за что же напасти на них обрушились: и хатка сгорела, и Алексей сгинул в море.
Пелагея с боязнью глянула в угол на иконостас, торопливо осенила себя крестом, страстно зашептала: «Прости, господи, что в этакий-то день подумала грешно. Не покарай, дай счастья на этот раз». И, почти уверенная в том, что слова ее дошли до бога и бог простил ее, Пелагея еще раз глянула на себя в зеркало и направилась было в заднюю половину, как со двора вбежала Глафира, расстроенная, бледная.
— Пелагея Никитична, там… казарму подожгли… И Резепа избили.
— Господи, — ужаснулась Пелагея. — Да кто же это?
— Мужики-ватажники да и ловцы с ними.
— Мамонта Андреича, как на грех, дома нет. Резеп-то где?
— На лошадь вскочил да и ускакал.
— И на том благодарение богу, что целехонек. Что же нам, Глафирушка, делать, как поступить? Нешто на промысел к мужикам сходить?
— Что вы, Пелагея Никитична. Зверье — мужики-то. Да и пожар не занялся. Дым-то плеснул было, когда я подходила, а назад бежала да оглядывалась — его уже нету.
Беспомощные что-либо сделать, горевали вдвоем они и час и два, выглядывали в окна, но ничего выглядеть не смогли. Сходить на промысел боялись, прислушивались к каждому шерошению во дворе и за воротами. И очень переполошились, когда звякнула щеколда на калитке. Однако испуг был коротким, потому как обе разом узнали невеликую тощую фигурку отца Леонтия и несказанно обрадовались его появлению.
— Слыхал, слыхал, чада мои, — живо, едва вошел, отозвался он на женские всхлипы. — Слыхал и пребываю в горести: гнев господень кличут на головы свои грешники неразумные.
— Научи, батюшка, как быть-то нам, — попросила Пелагея.
— Положитесь на господа нашего. Все в руках его. Молился я и в церкви и дома, просил бога унять толпу. Утишились, внял господь гласу раба своего. Прекратились беспорядки.
— Спасибо, батюшка. Мамонт Андреич отблагодарит. Глафирушка, поставь-ка самовар. Глядишь, и сам подъедет. Пора бы уж. Не ко времени затеял поездку-то.
— Небу так угодно, Пелагея Никитична. И мы в бессилье пребываем, чтоб свое что-либо, наперекор всевышнему, свершить. Не ропщи, грех-то великий.
Так они, вселяя друг в друга успокоение, беседовали некоторое время. Затем Глафира внесла в гостиную самовар и принялась расставлять чашки и угощенья.
Снова звякнула щеколда. Все втроем кинулись к боковому окну. Во двор усталой походкой вошел невысокий полный мужчина в мятой рваной рубахе навыпуск. Он не прошел к крыльцу, а выдвинул засов и растворил ворота. Когда он обернулся лицом к окнам, Глафира вскрикнула:
— Это же Резеп!
Его трудно было узнать: лицо бумажно-белое, глаза впалые.
Тем временем Резеп ввел во двор ляпаевскую повозку и промыслового меринка в поводу. И все втроем — и отец Леонтий, и Пелагея, и Глафира — враз увидели в повозке Мамонта Андреича — откинувшегося на спинку повозки, с рассеченным виском, с лицом, залитым кровью.
А в дальнем конце двора испуганно вскрикнул и запричитал работник Кисим:
— Уй-бай, казаин помрил! Уй-бай!..
3
«В дополнение к телеграмме доношу Вашему высокоблагородию, что мятежная толпа ватажных рабочих и ловецкого населения, не ограничиваясь прекращением работы и требованиями повышения оплаты за поденную работу и цен на изловленную рыбу, учинила погром Синеморского промысла. Бунтовщики поломали лари в лабазах, подожгли казарму, жестоко избили плотового.
Согласно донесению волостного старшины зачинщиками волнений и недовольств явились лекарь промысла Андрей Крепкожилин, из местных, и путинный рабочий Иван Завьялов. Они же и их сообщники подозреваются в убийстве владельца промысла господина Ляпаева, найденного мертвым в своей повозке по дороге из Шубино в Синее Морцо.
Для дознания и восстановления должного порядка незамедлительно выезжаю в Синее Морцо с нарядом полиции».
Отправив эту телеграмму начальнику губернского жандармского управления, временно исполняющий дела уездного исправника ротмистр Чебыкин крикнул в распахнутое окно:
— Игнашка, унтера ко мне.
— Слушаюсь, вашгородие, — еле слышно отозвался со двора вестовой.
— Да живо, братец, живо! — Чебыкин, поглаживая остренькие усики на маленьком худом лице, начал собирать со стола бумаги.
— Когда, значит, умылся я у мостика да передохнул, услышал, вроде-ка колеса стучат. Глянул на дорогу — Савраска хозяйская и повозка, стало быть, его. Возрадовался поначалу. Как же — на промысле такое вытворяют, а его нет. А опосля-то, как ближе повозка подошла, вижу: Мамонт Андреич весь в крови. Я, понятно, и погнал в село. Тако вот дело, господин исправник. — Рассказывая, Резеп стирал ладонью пот, обильно выступавший на лбу. Он не отводил глаз с лица Чебыкина, охотно отвечал на вопросы, всем видом показывая, что он безмерно опечален случившимся и готов услужить начальству, лишь бы отыскать убивца.
— У мостика, говорите, были?
— У мостика, — эхом отозвался Резеп.
— А конь, что же, сам остановился?
— Так точно, узнал, стало быть.
— Ну, а дальше?
— Я же говорил, ваше благородие: погнал домой.
— В повозку садились?
— Никак нет. На меринке верхом, а Савраску в поводу вел.
— В повозку не садились, а рубаха в крови. Как же так?
— Не извольте думать плохое, ваше благородие.
— Я должен думать всякое. Так откуда же кровь?
— Обижаете, господин исправник. Я же, когда Мамонта Андреича, царство ему небесное, брали с повозки и в дом вносили, поднимал его…
— М-да, возможно, возможно, — Чебыкин, как обычно в минуты волнения, погладил тощие усики. — Вы, любезный, понимаете, э… я при исполнении, и так сказать, обязан выяснять, вникать…
— Как не понять, ваше благородие. Однако оскорбительно… Мамонт Андреич, покойный, такое бы не дозволил. — Резеп кинул взгляд на Глафиру, которая в продолжение всего разговора сидела в сторонке на софе и, кутаясь в кашемировый платок, не произнесла ни одного слова.
Ротмистр устроился за рабочим столом Ляпаева, а Резеп сидел напротив, через стол.
В соседней комнате слышен был приглушенный говор и звон посуды: кто-то успокаивал Пелагею, кто-то убирал со стола после поминок.
Ротмистр Чебыкин, недовольный тем, что не удалось основательно подкрепиться, потому как прервал поминки, попросил Резепа пройти в кабинет покойного и начал дознание. Глафира вошла следом. Чебыкин ничего не имел против, ему даже было приятно присутствие молодой, недурно сложенной женщины, ко всему — единственной наследницы так неожиданно усопшего богача.
— Ну так все, кажется, — Чебыкин повел взглядом на Глафиру и был приятно удивлен тем, что она ответила ему легким кивком, и сказал Резепу: — Не смею более вас задерживать. А впрочем, еще, если позволите, вопросик.
— Со всем нашим удовольствием.
— Вы сказали, что встретили э… повозку у мостика и погнали домой. А судя по всему, вы э… проехали на коне несколько дальше. Дорога в низине, подмочка вышла, и следы остались…
Резеп почувствовал, как ворот косоворотки сдавил горло и холодная испарина покрыла лоб.
— Оно конечно, ваше благородие. Это уже опосля. Когда я… Это самое, узнал Мамонта Андреича, вскочил на коня и верхи малость проехал, глянул, нет ли там кого, ну… злодея этого.
Глафира насторожилась: неужели? Резеп все эти дни неотлучно был в доме, с утра до ночи весь в похоронных хлопотах. И ничего особенного она не заметила. Да и не помышляла о том. А вот теперь, когда исправник попытал Резепа каверзными вопросами, Глафира встревожилась и, отводя угрозу, сказала:
— Да что вы, батюшка. Разве может Резеп на покойника врать. Это — что на бога клепать.
— Истинно, Глафира Андреевна. Однако служба-с… Обязан. Не смею задерживать, — исправник кивнул Резепу.
— Все служба да служба. — Глафира капризно сложила губы в трубочку. — Разве можно. Я приказала стол накрыть. Помянем дядюшку как следует по-христиански, поосновательней. Пойду-ка гляну, все ли разошлись.
— С превеликим удовольствием, Глафира Андреевна, — охотно отозвался Чебыкин и впился глазами в гибкую фигурку хозяйки.
Резеп посмотрел на Глафиру, ожидая, что и его оставят, но она, даже не удостоив его взглядом, улыбнулась исправнику и вышла из кабинета.
А в голове Чебыкина, уже забывшего про плотового, возникали одна картина игривее и вольнее другой.
И подозрения исчезли. А беспокоили они Чебыкин а с того самого момента, как он объявился в Синем Морце. По дороге сюда волостной старшина указал ему место, где убили Ляпаева, и он же, как величайшую тайну, сообщил об окровавленной рубахе Резепа, которую сегодня приметил в повозке, куда ее бросили после того, как в тот злополучный день плотовой перенес Ляпаева в горницу и переоделся в чистое.
Резеп при даче показаний обильно потел, выказывая тем самым сильное волнение. Однако его объяснению можно было поверить. Тем более что поручалась сама хозяйка — молодая, любезная, с недвусмысленными взглядами и обворожительной улыбкой.
Теперь Чебыкин был готов согласиться с изначальной версией волостного старшины и подозревать Андреевых сообщников.
4
Не было никакой надобности объяснять Глафире, кто она и что она теперь. Еще при дядюшке, с которым она познакомилась и породнилась при столь необыкновеннейших обстоятельствах, дерзкие мысли о наследовании всего движимого и недвижимого ляпаевского богатства не раз западали в ее голову. Резеп тут был чуть ли не первым, кто заронил и укрепил надежду на такую возможность. И когда Глафира увидела в повозке обезображенное лицо Мамонта Андреевича, она с превеликим трудом сдержала чувство радости.
По-человечески она переживала его смерть. Но было в ее чувствах больше страха, нежели огорчения или скорби. И все эти дни, пока прибирали покойного, отпевали в сельской церквушке, хоронили и поминали, Глафира непрестанно думала о тех, кто по совершенно непонятным причинам лишил жизни одинокого богача. И где? На пути к Синему Морцу — на спокойной, не опасливой, не убоистой дороге! Деньги, около сотни рублей, были при нем. Нетронутым лежал в повозке узел с покупками для Пелагеи. Та, как увидела этот узел, заляпанный кровью, лишилась чувств и до нынешнего дня не поднималась с постели.
Глафира терялась в догадках. Она начисто отвергала для себя слухи о причастности к преступлению Андрея и его товарищей. Андрей-то уж наверняка ни при чем, да и Илья тоже, и этот пришлый рослый мужик, Завьялов, кажется. Они были в тот день на промысле…
Первый, кого заподозрила Глафира, был Резеп: и его состояние при беседе с исправником и его прежние упреки, намеки…
Но она не позволила Чебыкину поверить в эту догадку, увела его от ненужных мыслей, потому как ей самой не было никакой выгоды в подтверждении такого толкования происшедшего несчастья. Пойдут расспросы, и, кто знает, как Резеп поведет себя, — не приведи господи, если раскиснет и начнет болтать про их отношения, прежние разговоры о наследовании. Тут и до беды — один шаг.
Вот почему Глафира улыбалась ротмистру Чебыкину, строила глазки, велела богато накрыть стол, обильно потчевала его всем, чем может потчевать богатая, одинокая и независимая, да еще и неравнодушная к мужскому сословию, женщина, и оставалась с ним до утра.
Она в ту ночь уступала дважды: Чебыкину и бунтовщикам, потому как была не привычна сопротивляться соблазну и силе. Соблазн на этот раз явился в образе милого сладострастника ротмистра Чебыкина, а сила — в неясном, размытом, но зловещем облике бунтовщиков.
Счастливая и умиротворенная, она придвинулась вплотную к ослабевшему Чебыкину и шептала в ухо:
— Ты такой приятный… милый…
Но расчетливость не покидала ее даже в эти минуты:
— Очень прошу, не уезжай, поживи, ну хотя бы с недельку. Уладь с мужиками. Я не умею, а этого… Резепа они не любят. Скажи им, я готова уступить, прибавить цену… Поговори, ты лучше сможешь.
Сама того не подозревая, Глафира сказала главное: Чебыкин любил, когда признавали его силу, ум, его возможности. Да, он останется, поговорит, урядит, шептал ротмистр, шаря жадной рукой по ее плечам, грудям, животу…
…Наутро он призвал Резепа.
— Покажи-ка, любезный, где живет этот наиглавнейший бунтовщик…
— Крепкожилина изволите? — с радостью отозвался Резеп, готовый к худшему.
— Поведешь к нему, — резко бросил ротмистр, допивая чай. И сказал то, что мог бы здесь и не говорить. Но напротив сидела Глафира, и он не сдержался, чтоб не порисоваться перед ней: — Доведешь — и можешь убираться. Я один с ними, с бунтовщиками, потолкую. Я им…
Двумя днями раньше, после первых слухов об убийстве Ляпаева, в мазанке Ильи собрались зачинщики синеморской смуты, растерянные и озадаченные случившимся.
Макар с порога, даже не успел стащить обесцвеченную временем, с помятым козырьком, кепку, заявил:
— Кончать надо эту свистопляску. К добру не приведет.
— Сядь, не торопись, — охладил его Андрей, но Макар был неуемен.
— Посажают всех к чертям. А детишкам — с голодухи пухнуть?
— Слыхал? — спросил Кумар с порога. Он, как и Макар, был возбужден. — Турма всем…
— Ты разве убил? — спросил его Илья.
— Дурак ты, Илюшка, — осерчал Кумар и умостился на кортки у двери.
— А коль не виновен, что взбулгачился? — резонно спросил Иван Завьялов. — Вину повесить на всякого можно. Доказать нужно. А то выходит: бей Фому за Еремину вину.
— Не о том, друзья, разговор, — вмешался Андрей. — Нам надо определить свою линию. Положение чрезвычайное. Власти воспользуются случаем, чтоб применить силу. Вот и подумаем давайте-ка о том, как дальше жить.
— Кончать, и весь сказ! — настаивал Макар.
— Хватит бузить, — одернул его Илья. — Сказал слово, других послушай.
— Городские товарищи передали с Ольгой, чтоб крепились, не поддавались ни уговорам, ни запугиванию, — продолжал Андрей. — Уговорам мы не поддались, а вот оробеть некоторые оробели. Поджилки уже трясутся, хотя страхи еще впереди. И полиция нагрянет, и начальство пожалует, и таскать будут. А стоять надо. Кровь из носу, а стоять!
— Верно, едреня-феня! — Это Иван Завьялов. — Многое, ребята, осилили. Стойчивость надо до конца выказать. Не осилим — заклюют нас.
— Факт, заклюют. Еще как! — согласился Илья. — А напраслины че бояться! Побрешут, да и заткнутся.
— А можа, новый хозяин еще круче возьмет? — засомневался Макар. — Попробуй тогда осиль его.
— Возможно. Только хозяину из-за рубля червонец терять не с руки.
— Оно конешно!
— Ребята, а кому теперча промысла отойдут?
— Тебе-то уж точно не достанутся!
— А жаль. Я б всех вас к ногтю…
— Глафирке, кому же еще.
— Во, повезло девахе!
— А мож, Пелагее? Сам-то будто жил с ней, да в хозяйки взять собирался.
— Женили.
— С Глафиркой мы бы враз сговорились.
— Не скажи! Как еще Резеп повернет. Одна шайка-лейка.
— Он, говорят, ее…
— Одним словом, решение наше: стоять по-прежнему на своем, — заключил Андрей. — До самого последка.
На том и порешили. В тот же день, в закатную пору, объявился волостной старшина, прошелся по промыслу, поговорил с Резепом, да и укатил восвояси. А вчера нагрянул отряд полиции и сам исполняющий обязанности уездного исправника ротмистр Чебыкин.
Андрей был уверен, что Чебыкин приехал не только по делу Ляпаева.
Весь вечер он ожидал вызова. И очень подивился, когда наутро в мазанку без стука вошел сам уездный исправник, один, без сопровождающих.
Илья от такой внезапности привстал со скамьи и с высоты своего роста уставился на нежданного гостя, не в состоянии молвить что-либо. Да и Андрей молчал, потому как вошедший не проронил ни слова, озирался, будто выискивал что-то или кого-то.
По природе своей Чебыкин был не из храброго воинства. Недоверчивый и опасливый ко всему, он, однако, умело скрывал и то и другое, стараясь выглядеть не тем, кем был по сути своей. «Держи опас про запас», — любил говорить он себе. Но только себе, а на людях хорохорился, изображался простым, доступным, способным рисковать, и очень любил, ежели окружающие отмечали его добродетели.
Оказавшись в полутемной землянке лицом к лицу с двумя незнакомыми людьми, один из которых чуть ли не уперся головой в двускатный камышовый потолок, Чебыкин почувствовал стеснение в груди и затосковал. Тут вдобавок ко всему в сенях потоптался кто-то и потянул на себя дверь. Ротмистр шагнул в сторону от входа и напружинился.
В дверь просунулась Гринькина голова да так и осталась в дверном проеме, потому как парень был несказанно и удивлен и напуган присутствием большого начальства.
Эта выразительная бессловесная сценка немного позабавила Андрея, и он в душе позлорадствовал над исправником, но затягивать молчанку не стал, ибо чувствовал, что минутное напряжение могло обернуться нежелательным исходом, если ротмистр примет эту непредвиденную смешливую обстановку за преднамеренный подвох или, еще хуже, засаду.
— Проходите, присаживайтесь.
— Да-да. Благодарствую, — вежливо кивнув, Чебыкин прошел к столу и сел.
— Чем обязаны? — спросил Андрей.
Чебыкин, раздосадованный таким началом, был зол и на себя, и на хозяев, и на молодого верзилу, который наконец-то перевалил через порог и столбом застыл у дверного косяка.
— Беспорядками, погромами, убийством, — с ожесточением, почти выкрикивая слова, ответил ротмистр.
— Я бы попросил… подбирать слова.
— В вашем положении не о вежливости надо думать.
— Вы правы, господин полицейский. В нашем положении прежде всего думают о куске хлеба.
— Не спешите, Крепкожилин! — Чебыкин уже догадался, что это он, главный синеморский смутьян. — Ваша работа хорошо оплачивается, незачем прибедняться.
— Я говорю о рабочих и ловцах.
— У вас есть на то право? Кто-нибудь вас уполномочил?
— Совесть.
— Выходит, у вас есть совесть, у других нет. Дешевенький авторитетик зарабатываете.
— Вы правы, господин полицейский.
— Не понял.
— Насчет совести. А об авторитете неточно выразились. Он достается дорого — через тюрьмы, ссылки, каторги.
— Прекратите, Крепкожилин. И давайте поговорим о деле. Долго ли будут длиться беспорядки?
— Если вы беспорядками называете законные требования…
— И погром…
— Он был спровоцирован плотовым.
— Я спрашиваю, когда возобновится работа?
— Хоть завтра, если будут удовлетворены требования рабочих и ловцов.
Не хотелось Чебыкину сразу же раскрывать карты, а поначалу подергать этого колючего и упорчивого человека. Но ротмистр чувствовал, что дело то непростое, что Крепкожилин может причинить немало неприятного и ему. Он вспомнил Глафиру, прилипчивую, страстную, и ему захотелось по-быстрому убраться из темной ловецкой мазанки в гостеприимный ляпаевский дом, к обворожительной хозяйке, с которой предстояло провести несколько сладостных дней и ночей. И он порешил как можно скорее покончить с поручением Глафиры, а остальное отложить на завтра. Надо успокоить толпу, дать работу, заработки. Потом он иначе поговорит с этим типом.
— Имею поручение наследницы промыслов на переговоры, — сказал Чебыкин. — Глафира Андреевна, женщина мягкая и добросердечная, готова пойти на уступки.
— Это другой разговор, — оживился Андрей. — Но должен предупредить, господин исправник, что ни я, ни мои товарищи, — Андрей кивнул на Илью и Гриньку, — не вправе вести переговоры одни. Нам надо созвать выборных.
— Ну-ну, поиграйтесь, — высокомерная ухмылка появилась на лице Чебыкина.
— Гринь, покличь-ка наших, — попросил Андрей, оставив без внимания колкость уездного исправника. — Попытаем, какова хозяйская доброта. Не на кривых ли она ногах, их правда.
5
Мать для детей — что бог для людей. Андрей познал эту простую истину только сейчас, живя почти под боком родительского дома. В детстве мать была всегда рядом. Ее присутствие было столь же обыкновенно и необходимо, как воздух, и так же, как воздух, не замечалось. Просто и он сам и мать в его представлении как бы слились в одно существо, неразделимое в своих ощущениях и отношении к окружающему.
Много позже, в городе, уже взрослым, он тосковал о доме, но опять же дом виделся ему в образе матери, ласковой и заботливой, тихой и покорной отцу. Однако издали он не столько жалел ее, сколько скучал по ней. Жил, как и прежде, думами о родительском доме, считал себя частичкой его, хотя уже и тогда понимал, что отец с Яковом и он — люди разные, что ничего общего у них нет и быть не может, что жизнь его беспокойной банчи́ной отделилась от большой реки, называемой семьей, домом, что эта протока-быстри́на никогда впредь не сольется с главным коренным руслом, а будет течь сама по себе, разделенная от своей колыбели расстоянием и временем.
И вот только теперь он осознал, насколько тягостно то состояние, в котором он пребывал. Обостренность его отношений с отцом и братом усугублялась близостью к дому: он чуть ли не каждый день встречался с матерью, видел ее неутешное горе, о котором она ничего ему не говорила, отчего несчастье ее умножалось во сто крат.
Мало-помалу на сердце Андрея запала такая тоска, что не радовал его даже и тот большой успех, которого они добились сообща — рыбаки и промысловые рабочие. Пока не спадало напряжение и каждый миг борения требовал нервов, мужества, и дом и мать виделись как бы сквозь дымку, неприятности семейные воспринимались как тупая боль от ножа на замороженном участке тела. Но спала острота борьбы, и личное выплыло из глубины, навязчиво напоминало о себе, мешало жить. Чужая изба стала мачехой, Андрей томился по дому, но понимал, что это боль душевная не по четырем стенам, а по матери, по невозвратному прошлому. Желания возвращаться в дом не было. Но наведывался к матери, коль не бывал в отъезде, почти ежедневно.
…Меланья встретила меньшого со слезами на глазах.
— Что болтают-то, Андрюшенька, что болтают-то…
— Пускай, собака лает, ветер носит. Кому-то надо так, вот и плетут сплетни. Запомни, мама, среди моих товарищей нет таких. У нас другие цели. Мы не уничтожаем своих противников, мы боремся с ними, чтоб людям легче жилось. Я же говорил тебе, мам.
— Боюсь я — заберут тебя. Понаехали конные, сказывают, с сашками.
— Слушай, мама, — Андрей подсел к матери, взял ее сухую черную ладонь в руки. — Я не буду ничего скрывать. То, что мы делаем, не угодно властям. Нас могут арестовать.
— Андрюшенька!.. — Меланья ткнулась лицом в его плечо. — Чует сердце беду, чует.
— Не надо, мама. Может, и обойдется.
— Будешь с злодеями в тюрьме, господи! Царица небесная, огради от напасти!
— Не все, кто в тюрьмах, злодеи. Есть убийцы, казнокрады, просто мелкие жулики. Но много, мама, светлых голов упрятано там. Ничего, придет и наше время! Не все в потемках народу жить. Просветлеет. Ради этого, мама, не страшно и в Сибирь.
— Что ты говоришь, рехнулся, что ли?
— И Сибирь не чужбина, наша же земля. И русского народа там несчетно живет.
Вдруг Меланья заволновалась, глянула в окно на калитку, отошла от сына.
— Отец идет.
Дмитрий Самсоныч вошел насупленный, не обмолвился ни словом, будто и не приметил сына.
— Здравствуй, отец. — Андрей увидел, как мать напружинилась у печи, побледнела, предчувствуя недоброе. Ее страх, молчание отца разозлили Андрея, и он спросил с вызовом: — Что молчишь-то? Или непокорные дитяти — всегда некстати? Могу уйти.
— Иди, — тихо отозвался Дмитрий Самсоныч. — Душегубец мне не сын.
— И ты туда же! А не кажется ли тебе, отец, что дело рук не рабочих и ловцов, а кого-то из вашей же компании?
— Цыц! — озверел старик. Он никогда не отличался неспешностью суждений. И хотя твердо знал, что нетерпимость — противна духу христианства, буйного нрава переломить не мог, а тем паче в той обстановке, которая сложилась ныне.
— Кому-то спать не давали Ляпаевские промысла, а виноватят совсем других, — зло продолжал Андрей. — Ни Макару, ни Кумару богатства эти не достанутся. Эти не жадничают. И народ они не завидливый.
— Али вы бессребреники? Деньги вам не нужны? Пошто бунтуете тогда?
— Свое требуют люди, заработанное!
— Жили, слава богу, не требовали ничего, покуда тебя не было. Убирайся подобру-поздорову, пока колодки не набили. А не то понюхаешь сибирщины.
После ухода Андрея Дмитрий Самсоныч долгое время не мог обрести спокойствия: нервно вышагивал по горенке, углубившись в мысли, забыл даже о Меланье, которая, как всегда в присутствии мужа, неслышно двигалась по дому, исполняя свои нехитрые и вместе с тем нескончаемые обязанности хозяйки. В какой-то момент старик позабыл даже о меньшом непутевом сыне, думал о Якове, не переставал дивиться его поступку.
Сегодня утром повстречал старика Резеп и ехидненько, змеем ядовитым прошипел:
— Дела-то творятся, Дмитрий Самсоныч, ушам своим не поверишь. Слыхал?
— Че там? — насторожился старик, зная пакостный характер плотового.
— Яков вчерась к исправнику приходил. Жалобился на пожар и намекал, что и поджог на вашем промысле, и убивство мово хозяина — дело рук Андреевых дружков. Вот оно как!
— Будя болтать-то.
— Крест святой — не вру.
«Что это, брехня али правда? — думал старик, отрешенно уставясь в окно. — Да и не дурак Резеп, чтоб брехать, потому как завсегда могу Якова спросить. Другой раз мог соврать, а тут… Так неужто Яков на брательника этак? Ну, пусть непутевый, пусть супротивник, дак ведь брат, кровь родная. Знать, наследство ему застило глаза? Выходит, прав Андрей-то, и Ляпаева свои же укокошили? Зависть-то порой раньше человека родится, а завистливый человек страшнее волка лютого». Так, путаясь в догадках, размышлял старик, а Яков в ту пору, довольный вчерашним разговором с Чебыкиным, хлопотал на промысле, который отныне считал только своим, потому как Чебыкин дал понять, что согласен с Яковом и что Андрея оставлять в Синем Морце нельзя.
6
Работный люд, непривычный к безделью, встретил весть о прекращении остановки на промысле, как светлый праздник. И супротивничали-то всего несколько дней, а утомились изрядно. Кроме давно выработанного обыкновения постоянно быть при деле, давило на мужиков сознание, что каждый упущенный путинный день — прямой для них убыток и что этот ущерб непременно окажется несколько позднее, а точнее, в зимнюю безрыбицу — для ловцов и вмежпутинное — для пришлых.
На утренней зорьке, когда солнцевосходный край неба едва порозовел, одна за другой отчаливали бударки от полузатопленного берега Ватажки, спускались вниз к Чапурке, где стараньями ловцов сохранились и кишели взаперти несчетные косяки сельди-бешенки.
Промысловые рабочие вышли, против обыкновения, тоже ни свет ни заря — им надлежало, до того как рыбаки привезут первый улов, починить ими самими же разоренные лабазы, съездить на соседние промысла, чтоб привезти лишние для тамошних рабочих носилки и тачки, чтоб, одним словом, быть готовыми к приему и засолу сельди. Привычные, применительно к прошлым годам, сроки истекали, приходилось потому поторапливаться и хозяевам — чтоб запасти впрок нужное число чанов рыбы, и рабочим — чтоб заработать.
Условие это — бесплатно исправить грех свой, учиненный при погроме, — было обговорено, когда исправник Чебыкин от имени новой хозяйки промыслов вел переговоры с мятежными мужиками. Андрей умышленно не стал возражать, потому как подумал, что оговорка эта отрезвляюще подействует на мужиков, позволивших вовлечь себя в буйство и учинить совсем ненужные беспорядки, а впредь убережет их от ненужных вспышек. Да и никто не возражал — понимали свою промашку. Все были рады, что хозяйка согласилась поднять и поденную оплату рабочим, и цену на рыбу и что тем самым они добились того, ради чего упорствовали, рисковали.
— Нажимай, мужики, — озоровал Иван Завьялов. — Гринька, тащи доску. Счас мы поправим ларь. Кажется, ты ему и вывернул бок пешней, а?
— Не-е, это Кумар постарался.
— Ну-ну, Кумар так Кумар. Тащи сороковку.
— Бог на помощь, мужики.
Иван, услышав женский голос, обернулся. Возле него стояла Глафира, а рядом с ней — Резеп.
— Благодарствуем, хозяйка, — ответил Иван и съехидничал: — Бог помог рушить, поможет и починить.
— Отвыкли от трудов-то, Глафира, — подал кто-то голос из темноты лабаза.
— Глафира Андреевна, олухи, — сердито поправил Резеп. На людях он называл ее не иначе как по имени-отчеству и у других того же требовал. — Распустились без пригляда. Работайте, что вылупились.
— Андревна так Андревна. Пушшай, нам все одно, — равнодушно отозвался тот же голос.
И оттого, что объявился тут Резеп и, как и прежде, начались его окрики и ругань, враз исчезло радование и работа перестала быть утехой для души и тела.
— Всю жисть трудились, да мало че добились.
— Хозяин добр — и дом хорош, хозяин волк — так враз помрешь.
Глафира недовольно покосилась на плотового и пошла дальше, в конторку.
— Глафира Андревна, надо бы жиротопки наладить, — подсказал Резеп, шагая чуть позади, — не успеем всю селедку усолить, не управимся.
— Распорядись, — равнодушно повелела Глафира. Поравнявшись с казармой, она подумала об Андрее и отослала Резепа: — Обожди меня в конторе, я сейчас, — и направилась к лечебнице.
Андрей был не один. Ольга, заслышав шаги, засобиралась и, когда Глафира отворила дверь, столкнулась с ней.
— Ты чего это, милая, прохлаждаешься?
— Да вот… заноза.
— С каждой занозой к лекарю не бегают. — Глафира ревниво посмотрела ей вслед и прикрыла дверь.
— Вы таких гоните. Выдумывают…
— Каких — таких? — сердито перебил ее Андрей.
— С пустяками разными. Заноза, видишь ли, у нее. Знаю, какая тут заноза причиной.
— У вас нет повода так неприлично шутить. А руку можно испортить и царапиной. И в ваших же интересах, чтоб я предупредил нарывы и прочую заразу.
— Вот как!
— Да. Мамонт Андреич, покойный, это понимал, когда говорил, что ему нужны здоровые люди.
— Браво, браво: бунтовщик на страже интересов богатой наследницы.
— Что вам нужно? — в упор спросил Андрей. В душе его копилась неприязнь к гостье, самонадеянной, далеко не такой, какой была она в первые дни пребывания в Синем Морце.
Глафира в молчании некоторое время рассматривала его, потом сказала:
— Интересно, Андрей Дмитрич, побеседовать с вами. Давно не виделись. Любопытно мне знать: ради чего вы-то в этой заварухе? Что у вас общего с ватажниками? Получаете вы…
— Прекратите. Я тоже могу спросить: как вы, совсем еще недавно жившая в нужде, забыли о страданиях людей? Быстро же деньги вытравили из вас все человеческое. Если оно, конечно, было. Простите за резкость, но…
— Я не обижаюсь. Еще не отучилась слушать упреки.
Вопреки ожиданию, Глафира не вскинулась на обидные слова, отошла к окну. После долгого молчания сказала:
— Вы мне так и не ответили, Андрей Дмитрич.
— О чем вы?
— Что вы добились, взбулгачив людей? Понимаю: пришлось повысить цену на рыбу, оплату рабочим. Но вы-то от того что имеете?
— Вам не понять этого.
— Объясните — глядишь, и пойму.
— А и поймете, проку не будет. И давайте прекратим этот ненужный разговор. Вы по делу зашли? На что-то жалуетесь?
— Жалуюсь, — с ухмылкой ответила она, пристально всматриваясь в его лицо. Затем встала и пошла к выходу. У двери, однако, задержалась и, не оборачиваясь, спросила тихо:
— А если, Андрей Дмитриевич, я предложу вам… руку и все, что отошло сейчас мне?..
— Уходите!
— Но вам же грозят неприятности! — Она резко обернулась и сделала несколько шагов к нему. — Неужели вы не понимаете?
— Да уходите же, черт бы вас побрал!
Выскочив из лечебницы, Глафира, конечно же, забыла и про Резепа, и про хозяйственные дела, а нацелилась к дому. В расстройстве она никого не примечала вокруг — ни рабочих, ни ловцов у приплотка, не слышала их голосов и присказки неугомонного деда Позвонка:
— Едри тя в позвонок, залопотила!
7
Наконец-то к Тимофею Балашу пришло успокоение: и дело нашел по сердцу, и деньга неплохая перепадала каждый день.
По совету Якова отыскал он на раскатах уловистую банчину возле чаканной Шапки и выбил под вечер два десятка сетей-режаков.
На ночлег остался тут же, с ходу вогнав бударку в податливый чаканный колок. Засыпая, слышал редкие всплески сильных рыб, тихо радовался предстоящему успеху.
Удача вышла в первое же утро. В каждой сети, опутавшись пеньковой делью, белели крупные рыбины. Когда Тимофей подтягивал сеть к бортовине, осетры и севрюги, обеспокоенные человеком, вздымали снопы брызг. Вскоре Тимофей промок до тела. И тогда он, чтоб утихомирить непокорных рыб, целясь в химок, бил их румпельником и только потом, оглушенных и утишенных, выволакивал в лодку.
Переодевшись в сухое, Тимофей поискал глазами спрятное место подальше от банчины, выглядел дальнюю заводь среди камышовых колков и погнал туда бударку с уловом — не следить же, не оставлять улики — выпотрошенных рыб — там, где еще не раз придется выбивать сети, ночевать.
До камышовой гряды оставалось менее версты, когда Тимофей приметил над заводью стаи воронья: они беспокойно кружили над водой, садились на заносы, вновь пугливо взлетали, опять падали к воде — не иначе, падаль какую высмотрели. Предположение это вскорости подтвердилось, потому как, едва Тимофей приблизился к зарослям, дыхнуло на него смердящим отвратным духом. Ближе к заводи стало нестерпимо дышать удушливым прокисшим воздухом. Самое же невероятное предстало взору Тимофея, когда он вывернул из-за колка и ему открылась заводь, на поверхности которой копошилось несчетное число воронья. Спугнутая появлением человека, многотысячная стая шумно, с граем поднялась в воздух, тучей зависла над камышами. Давясь вонью, Тимофей следил за птицами и не враз понял, что же привлекло сюда столь много крылатых хищников, а когда увидел, остолбенел: на воде, сбившись в плоты, белели тела рыб. Целое рыбное кладбище!
«Что это — мор? — подумал Тимофей и погнал бударку к ближним рыбам. А в мыслях нарождалась догадка: — Неужели?».
Все было так, как ему подумалось: желто-восковые осетры и севрюги были вспороты вдоль брюшин — от махалки и до грудных кулаков-плавников — и обезображены вороньем.
Тимофей бессознательно оглянулся по сторонам, высматривая виновника неслыханного разбоя, но вокруг никого не было. Лишь рябилась вода да тихо шептались камыши, как бы давая понять человеку, что они навечно похоронили следы тех, кто был здесь и учинил это варварство.
Спустившись ниже по воде, Тимофей отыскал другую заводь, меньшую, но чистую, и принялся потрошить. И тут его постигло невезение: редкая рыбина оказывалась икрянистой. В большинстве же своем осетры были яловыми и с молоками. Вот тогда-то Тимофей уразумел, что набрать полубочье икры не так-то просто, как думалось раньше. А их пока выловишь да распотрошишь — руки в кровь!
Засомневался тогда Тимофей — а не отступиться ли от рискованного дела? В скрытости его долго не продержишь — кто-нибудь да и уличит. Так он мучился в сомнениях, но лишь до встречи с Яковом. Тот выложил червонец за икру, после чего Тимофей, которому с начала путины не выпадал такой фарт, обалдел от радости и как в омут кинулся. С того дня он отбросил всякие опасения, целыми днями кромсал десятки краснух, чтоб к вечеру набрать меру икры и заработать червонец.
Знал Тимофей, что ход красной рыбы недолог — две, от силы три недели продлится, а потому ишачил без передыху с темна до темна. И даже когда прослышал, что на Синеморском промысле начали скупать сельдь, не отступился от опасного дела, порешив, что тут он наверняка скопит кругленькую сумму, чтоб к осенней путине, когда озимые косяки осетров и севрюг устремятся в верховье Волги, отыскав тут на одном из безвестных низовых островков потайное место, самому, без услуг Крепкожилиных, солить и закатывать икру в бочки да сбывать ее городским купчишкам. Этак, коль повезет, годика через два и промыслишко можно приглядеть.
«Ниче, — с ухмылкой мыслил Тимофей. — Я свово куска никому не отдам. Я еще взлечу. Мне бы только скопить. Деньги и попа купят, и бога обманут. Мне бы только… Я взлечу. Деньги — крылья».
8
За два дня сельдью были забиты все чаны. Резеп распорядился начать посол в цементированные ямы, и одновременно же задымили жиротопни. Только в одном Синем Морце тысячи пудов знаменитого каспийского залома пошли в ненасытные котлы жиротопок. А по всей губернии — не только сосчитать, а и представить невозможно!
Угарные запахи горелого рыбьего жира вперемешку с едучим дымом сырых ветловых дров стлались над Ватажкой и Синим Морцом, проникали повсюду — в промысловые лабазы и казармы, в рубленые избы ловцов и серые приземистые мазанки. Чадной вонью пропиталось все и вся — каждая нитка в одежде, каждая волосинка на теле…
Глафира попервоначалу хотела приказать Резепу, чтоб остановили жиротопни, но рассудила, что дело это временное и можно уехать ну хотя бы в город, чем терять прибыль от вытопки жира. Но и оставлять дом в такое неустоявшееся время тоже было рискованно. И она, скрепя сердце и страдая от повсюду преследующей ее гари, терпела.
И тут пришел на помощь Чебыкин. Он послал в губернию нарочного, и тот к вечеру привез пять флаконов дорогих французских духов «Джоконда» из лучшего магазина торгового дома братьев Гантшер. Ротмистр победоносно раскупорил один флакон с изображением Моны Лизы на наклейке и прошелся по всем комнатам, опрыскивая пахучей жидкостью все, что подворачивалось под руки.
— Я так вам благодарна, — оживилась Глафира.
— А я вам, дорогая Глафира Андреевна.
Пребывание Чебыкина в Синем Морце явно затянулось. Всегда спорый в решениях, на этот раз исправник мямлил с выводами, удивляя привыкших к его решительным действиям полицейских, целыми днями слоняющихся без дела по промыслу и селенью.
Резеп догадывался о причинах такой неспешности, зло косился на исправника. Но стоило Чебыкину обратить внимание на плотового или же спросить что, как тот преображался, готовый исполнить любое его желание.
Но Глафире все же высказал неудовольствие:
— Загостевался Чебыкин-то.
— Службу, знать, справляет. Мы ему не указ.
— Оно конешно, только у Крепкожилиных али в ином дому не задержался бы.
— Как ты можешь…
— Могу, — перебил ее Резеп, и Глафире на миг он показался таким же, каким знала его при Ляпаеве, когда она была для него всего лишь бедной родственницей хозяина, которую можно было ссильничать, поучать, требовать от нее. — Мы с тобой договаривались.
— Мало ли что было, — запоздало мстя за прошлое, сказала Глафира и заставила себя улыбнуться. — Я тебе не жена, чтоб позволять ревновать. Не забывайся. А Чебыкин — очень приятный человек. И кстати, если бы он не задержался, топать бы тебе по этапу.
— Не понимаю, — насупился Резеп.
— Не притворяйся, все понимаешь. А теперь иди да присматривай, людям доверяться нельзя…
Резеп после таких ее слов враз сник. И по тому, как повяли его глаза и опустились щеки, а бледность залила лицо, Глафира укрепилась в своих предположениях. И подумала, что этот страшный человек и ее может порешить, лишь бы зародилась в нем надежда прибрать состояние к рукам.
— Теперь что же, Глафира? — убито спросил Резеп. — Я-то, выходит, не при деле… Все прахом?
— Обожди, Резеп, — осторожно подбирая слова, ответила Глафира. Она не знала, как дальше сложится жизнь, а потому не хотела быть опрометчивой и сразу же отталкивать Резепа. Да и что она, неопытная женщина, без него в огромном и непростом хозяйстве… — Не торопись, не все вдруг…
Уходя, Резеп оказал, будто припечатал:
— Ин, ладно, можно и погодить. Только не забудь: мы с тобой одной веревочкой повиты.
— О чем ты? — забеспокоилась хозяйка.
— Знаешь, че там. — И вышел, оставив ее в расстройстве.
Неясности в его словах для Глафиры не было, она конечно же уловила, о чем он, и огорчилась немало и направлению его мыслей, и тому положению, в котором оказалась, повязав свою судьбу с Резепом. Она понимала, что от него ей не избавиться, но согласиться с этим не хотела и не спешила, надеясь на случай, — мало ли что в жизни приключается.
Из раздумчивости ее вывела Пелагея. Состарившаяся враз, разбитая сердечным ударом, раз в день она едва-едва поднималась с постели, неспешно проходила по комнатам, где каждая вещь напоминала ей о Мамонте Андреевиче, и, растревоженная этими воспоминаниями, возвращалась в свою боковушку, из которой она так и не успела переселиться в ляпаевскую спальню, затихала на кровати до следующего дня.
Она неслышно вошла к Глафире и, умостившись на стуле, спросила:
— Мне что же теперь, Глашенька, уходить али как?
— Что вы, тетя Поля. Разве же я…
— Чужая я тебе. При нем-то понятно, а ныне приживалка я.
— Перестаньте, тетя Поля! Никуда не надо уходить. Мы будем вместе, слышишь, вместе жить. А потом и втроем, — она кивнула на ее живот.
— У тебя свои будут. До него ли, — Пелагея улыбнулась измученно. — Кому чужой дитятко нужен.
— Он не чужой. Он наш — и твой и мой. Ведь правда?
Она и сама не до конца верила своим словам, а потому нуждалась в подтверждении. Пелагея же скорбно молчала.
9
Андрея взяли ночью, когда, сморенный тягостной работой, промысловый люд в казарме спал непробудно. Полицейские вошли без стука. Увидев в дверях Чебыкина с нарядом полиции, Андрей встал.
— В чем дело? — спросил он, хотя сразу же понял все и задавать вопросы было совсем ни к чему.
— Собирайтесь, — приказал Чебыкин и кивнул своим: — Обыскать.
— У вас есть разрешение на обыск и арест? — громко спросил Андрей, рассчитывая, что его услышат за стенкой Гринька или Ольга.
— Не кричите, у меня отличный слух, — пошутил Чебыкин и потрогал усы. — А насчет разрешения не следует волноваться. Большего беззаконья, чем дозволили себе вы, мы не допустим.
Обыскивать, собственно, было негде, кроме как в двух навесных полочках да в шкафчике с медикаментами и нехитрым медицинским инструментом. Поэтому досмотр закончился скоро и обыскиватели ничего крамольного не обнаружили. Это обстоятельство ничуть не обескуражило исправника, он и не рассчитывал обнаружить что-либо недозволенное здесь. Если у Крепкожилина и припрятаны нелегальные книжки, листовки или же оружие, то, по всей видимости, хранятся они в мазанке у Лихачева.
Чебыкину рассказывали, что Крепкожилин иногда остается на ночлег в лечебнице, и он решил, что именно здесь, когда главарь смутьянов останется один, а ватажники заснут, и следует его арестовать — ночь оборонит от неприятностей. А жилье Лихачева обыскать можно и наутро, как и полагается — с понятыми.
Еще в уезде, выслушав донесение волостного старшины о беспорядках в Синем Морце и убийстве Ляпаева, Чебыкин решил, что Крепкожилина надо немедля взять под стражу. Но после осмотра места происшествия и, главное, разговора с плотовым и Глафирой Андреевной исправник понял, что убиение промышленника и погром его промысла совершены разными людьми и по разным мотивам. После такого заключения ротмистр не спешил с арестом, потому как знал, что такие идейные, как Крепкожилин (в чем он удостоверился при встрече с ним в мазанке Лихачева), не скрываются, стоят до последнего, а потому и выжидал и наконец-то выждал удобный случай, чтобы исполнить свое намерение тихо и без осложнений со стороны единомышленников Андрея.
Удивила Чебыкина Глафира. Между ласками, а отдается она плотским страстям самозабвенно, Глафира не раз заступничала за Резепа, чем еще больше настораживала исправника, Правда, она больше нахваливала его как редкостного мастерового. И Чебыкин поначалу поверил ей, но после направление его мыслей несколько изменилось: он-то, исправник, вскорости убудет в уезд, а Глафира в этой глуши останется одна? Нет, не такая она женщина, чтоб терять время попусту. Тигрица! И тут Резеп очень даже кстати. Могучий мужик, такой не скоро излюбится. А плут, надувала, каких редко встретишь. Всегда готов услужить, улыбка на лице постоянно, а в глазах страх. Чебыкин поначалу заподозрил его в убийстве Ляпаева, но Глафира постаралась рассеять эти сомнения, и тогда исправник махнул рукой: мертвого и так и этак не воскресить.
А вот к Андрею Крепкожилину, Чебыкин это чувствовал, было у Глафиры особое отношение. Да, Крепкожилин бунтовщик, уверяла она, он затеял смуту, но человек твердый, порядочный и беседовать с ним интересно.
Однако вчера неожиданно и с раздражением в голосе попросила:
— Уберите его отсюда. Видеть не могу. Опять булгачить начнет.
— Вам, Крепкожилин, будет предъявлено обвинение в подстрекательстве к бунту, беспорядкам. Ваши сообщники подозреваются в убийстве хозяина. — Чебыкин говорил сухим резким голосом. — Не скрою: положение ваше не из легких.
— Винить можно, уличить нужно.
— Докажем!
— Вам не привыкать к подлогам и к ложным свидетелям. Такие найдутся, лишь бы платили.
— Замолчи! — Чебыкин стукнул кулаком о столешницу. — Выводите!
— Гринь, а Гринь!
— Ты че?
— Послушай, у Андрея Дмитрича шумят что-то.
Брат и сестра затихли. За стенкой скрипели половицы, разговаривали, хлопали дверцы шкафа, что-то стеклянное, ударившись о пол, зазвенело, потом кто-то закричал.
Гринька сорвался с постели и вышмыгнул за дверь. Ольга затаилась. Но услышала наруже возню и выглянула в дверь. Двое дюжих охранников навалились на тощего долговязого Гриньку, скручивали ему руки, а в сторонке в окружении полицейских же стоял Андрей и говорил:
— Не ввязывайся, Гринька. С ними надо иначе. Ты пока запомни все, не забывай.
— Уводите, — раздраженно скомандовал Чебыкин, и Андрея подтолкнули.
— Андрей Дмитрич! — исступленно закричала Ольга и бросилась вдогонь. Но и ее схватили цепкие, привычные к разбойному делу мужские руки.
— До свидания, Оля!
— Андрей Дмитрич, я буду вас ждать, я буду… — жесткая волосатая рука закрыла ей рот, мешала дышать. Захлебываясь слезами, Ольга в бешенстве пыталась укусить эту гадкую руку, досказать несказанное, но ее вслед за Гринькой втолкнули в лечебницу.
10
Глухой ночью, отослав Андрея в уезд под конвоем двух полицейских, ротмистр Чебыкин отпустил оставшихся отдыхать, а сам в сопровождении охранника возвращался в ляпаевский дом. Все мысли исправника были о молодой обольстительной хозяйке. Он живо представил себе, как прокрадется сейчас в ее уютную, с устойчивым запахом «Джоконды» спаленку, как знойно обнимет его Глафира Андреевна, как неутомимо будет ласкать, как…
— Ваше благородие, — прервал его мысли сопровождающий, — никак, шум на ватаге?
Чебыкин остановился. Отключенный от сладостных мыслей, а потому вновь обретший способность воспринимать окружающий его мир, он уловил невнятный шум голосов со стороны промысла, визгливые выкрики. Досада охватила его.
— А ну, пойдем.
Чебыкин, а с ним и охранник спешным шагом пошли вдоль улицы. На подходе к Ватажке им повстречался бегущий навстречу человек. Ни Чебыкин, ни его спутник не успели разглядеть его, как он метнулся в сторону и исчез за углом.
То был Гринька. Он признал пристава, оттого и поспешил убраться подобру-поздорову.
Несколькими минутами раньше, едва охранники ушли дрыхнуть в контору, Гринька кинулся в казарму, отыскал в темноте спящего Ивана Завьялова, зашептал:
— Дядь Вань, Андрея Дмитрича арестовали.
— Где он сейчас?
— Не знаю.
Проснулись мужики на соседних полатях, заволновались.
— Тихо, мужики, — сказал Иван Завьялов — Айда все наружу. А ты, Гринь, мигом к Илье. Буди его, Макара, Кумара, всех, кто есть…
Прасковье, жене Макара, в тот день исполнилось сорок лет, и по такому случаю Илья с Кумаром засиделись у них допоздна. Никогда-то не было принято отмечать такие значимые числа, но сорок лет — не семнадцать, а уж коль начистоту — захотелось Макару с дружками посидеть да заодно приятное Прасковье сделать. Света баба не видит: днем на промысле, вечер по дому, ложится позже всех, встает раньше петухов. Замоталась, иссохлась вконец.
Макар загодя купил в казенке бутылку водки, завялил балычков из сельди, ушицы наварил из севрюжатины — все сам исполнил, пока Прасковья детей обиходила.
Кумар с Ильей тоже бутылку прихватили, а имениннице — в ярких цветах по голубому полю бумажный платок. Тому платку обрадовалась Прасковья до того, что перестала серчать на мужа, затеявшего ненужное.
Вот и засиделись мужики за полночь. Давно выпита водка, и протрезвели порядком они от круто заваренного чая. Сидели, говорили. И в который раз разговор тот коснулся событий последних дней.
— Жили мы будто скоты — бессловесно, без устремлений. Что хотели хозяева, то и вершили, — рассуждал Макар, довольный и гостями и собой. — И понятнее не держали, что и мы можем что-то, а?
— Будто свет видал, — подтвердил Кумар. — Андрей — хорош мужик, жаксе!
— Вот я прежде думал, как бы досадить этим… живоглотам. Потому как жизни покойной от них нет, — развивал Макар свою мысль. — А дело, стало быть, не в том. Мелкими укусами ни хрена не добьешься, за горло хватать след, не иначе.
— Андрей добрый, — настаивал Кумар.
— Не то слово, — поправил его Илья. — Строгой жизни человек, ничего лишнего себе не позволяет, для людей живет, как Турган-птица. Вот если бы каждый так… Иной стороной жисть-то обернулась бы.
— Верно, Илья, — живо отозвался Макар. — А вот Ляпаев, царство ему небесное, че жил? Даже Кисимке, псу верному, жизнь не устроил. Так и мается бедолага, надеется подзаработать да в степь к себе вернуться. Как же, заработаешь у них. Так-то… И никто Ляпаева добром не помянет. Теперча — эта Глафирка…
Макар не успел договорить. В дверной проем ввалился запыхавшийся Гринька и ошарашил с ходу:
— Андрея Дмитрича взяли. Завьялов велел живо всем на промысел.
…Еле успевая за легким на ноги Гринькой, мужики добежали до промысла в то самое время, когда двое дюжих полицейских, скрутив руки Ивану Завьялову, вталкивали его в дверь конторки, а возмущенные промысловые, выказывая неповиновение и ругаясь криком, в беспорядке толпились на плоту, теснимые конными охранниками.
— Холуи царские!
— Разбойники, ночами людей хватают…
— Света божьего боятся…
Охранники врезались в толпу, засвистели нагайками, хлестали в мягкое, податливое. Взвизгнули бабы. Заматерился Илья, схватившись руками за изуродованное лицо.
Толпа отхлынула. Прятались кто в лабазы, кто в казарму, иные сигали через штакетник и целились в село, иные прыгали с приплотка в Ватажку…
Над Синим Морцом нарождался новый день: солнечный, с морянистым ветерком, добычливый. Берег Ватажки захлестывали буйные весенние воды, с ближних заводей и култуков наносило гнилью, угарно чадили жиротопки, а в душах пришлых промысловых рабочих и ловцов копился гнев.
ОДИНОЧЕСТВО
1
До сельца оставалась половина пути, когда Афанасий оглянулся и приметил давешнюю собачонку: щенок не щенок и пока не собака. Телом-то вроде бы рослый, а на морду глуп. Тупорылый, брыластый — верхняя губа складкой нависает над нижней челюстью. Лапы передние в мужичью руку толщиной рогульками обхватывают широкую, не по возрасту мускулистую грудь.
Часом раньше на околице райцентра он облаял подводу. Афанасий равнодушно обернулся на лай большеухого шоколадной масти молодого кобелька, но вскоре забыл о нем. Поиграл вожжами, поторопил мерина.
На половине дороги меж районным городком и сельцом после Васюхинского мостка было у старика заветное местечко, где он отдыхал душевно, приходил в себя после дневных забот и напряженной колготы по приему товара на складах рыбкоопа.
…Едва деревянный брусчатый настил на перекидном мостике прогромыхал под ошинкованными колесами, старый лохматый меринок, без всякого на то понуждения со стороны хозяина, привычно взял левее на гужевую дорогу с реденькой просадью ветлы по обочинам. Малоезжая дорога местами уже зарастала, но след повозки никогда не сходил с нее, потому как Афанасий всякий раз наведывался сюда и ехал бережником версты три, пока он вновь не выхлестывался на гладко укатанный большак.
Меринок остановился у одинокой ветлы на пойменном берегу волжской протоки. Вокруг на золотистой стерне грибами горбились потравленные стожки. Ниже по воде реденький бережной тальник — серо-зеленый с оранжевыми мазками близкой осени.
На этом раздоле возле уединенной ветлы Афанасий приспустил чересседельник, ослабил супонь и кинул меринку сенца. Конь благодарно пошевелил толстыми бархатными губами, коротко и ласково заржав, тем самым по-конячьи выразил признательность хозяину за предстоящий отдых и угощенье — духовитое, нынешнего укоса сено.
Чуть в сторонке остановился и кобелек.
— Ты че увязался? Сперва вылаял, а потом увязался. Не хочешь городским быть? В деревню потянуло? Ну-ну, эт-то сёдни модно… Кто тикал, все вертаются. — Афанасий, выпятив губы, поцокал языком, но брыластый не подходил ближе. Он присел на хвост и склонил голову набок, вроде бы отслоил от мохнатой головы одно ухо, чтоб получше слышать человека. В глазах засветилось любопытство.
— Глупо́й, — проворчал Афанасий. — Не желаешь подойтить?
До Васюхинского моста Афанасий опасался отдыхать. Что там ни говори, а городок под боком. Худо-бедно, а товару на телеге тыщонок на пять-шесть, никак не меньше. Сельцо их невеликое, и лавчонка неказистая, да не стенами лавка красна, — товаром. Каждый раз Натуська-продавщица дает заявку Афанасию не приведи бог какую. Всякого товару заказывают сельчане: то им привези, другое, третье. Костюмы — обязательно заграничные, телевизоры — с экраном самым вместительным. А на днях, смех один, заказали аппарат, которым кино снимать, с тремя глазками. Будто одного мало. Пра-а… кино, да и только! Нет, коли не умеешь снимать, хошь десять глазков — не помогут. Беда с потребителем.
Вот и скачет Афанасий по складам полдня, а то и больше. А они, склады-то, все по разным концам городка разбросаны. В одном ткани получишь, в другом — культтовары, в третьем — продукты, в четвертом… Всякого много товара — и нашего и из-за моря!
Навьючит Афанасий возок, брезентом укроет, увяжет арканом и спешит до заката поспеть в сельцо или — уж в крайнем случае — мостик перевалить. Отдохнуть до моста Афанасий не решается, бывает всегда настороже, потому как знает: что глазом не усмотришь, то мошною доплатишь. А где она, мошна-то, если на правую копейку живешь? Приходится держать ухо востро. А береженого, как известно, бог бережет.
Иное дело — на своих землях. Тут и послабление бдительности допустить можно.
Афанасий бросил на землю войлочную полость, из кошелки выгреб яйца, луковицу, ломоть хлеба, до красноты и хруста поджаренных окуней. Все съестное аккуратно разложил на помятой газетке. Делал он это не спеша, будто исполнял чрезвычайно важную и нужную работу. Когда приготовления были закончены, Афанасий подошел к возку, отвернул край брезента и, запустив под него крупную угловатую ладонь, извлек четвертинку водки.
Много Афанасий не пил: мера у него была твердая, да и повторялось такое раз в неделю, а то и в две — только в тех случаях, когда продавщица давала заявку на водку. В селе, где он работал возчиком при магазине, и на хуторке своем, на пустотной усадебке, в версте от сельца, был воздержан, если не брать во внимание больших праздников и важных гостей, частенько наезжавших к Афанасию — которые порыбачить, которые пострелять дичь. Места вокруг заимки богатые, — и рыба и птица пока еще держатся в волжском понизовье.
Прежде чем приняться за еду, Афанасий отобрал двух жареных окуней покрупней и бросил собаке:
— Держи, ушан, пожуем, да и домой.
Кобелек в последние дни часто бывал в несытности, а потому при виде еды встрепенулся, склонил шишкастую голову набок и облизнулся. С места, однако, не тронулся.
— Гонор не позволяет? Ну-ну, — добродушно пробормотал Афанасий. Собачья неподатливость пришлась ему по душе: знать, по-своему гордость блюдет, не к каждому прислонится; есть, стало быть, умишко у твари…
И уже иными глазами посмотрел старик на собаку, подумал, что добрая собака — почти человек, особенно если живешь одиноко, на заимке. Не худо бы и заманить ее до хутора, приласкать.
Когда четвертинка опорожнилась и припасы были съедены, Афанасий аккуратно свернул газетку и спрятал в кошелку, а пустую бутылку сунул на прежнее место — под брезент, в ящичную клетку.
Меринок всхрапнул понимающе и замотал вислогубой головой. А когда Афанасий подтягивал чересседельник, обернулся, скосил на старика выцветший водянистый глаз и потерся о конец оглобли.
И вот тут-то пес заметался между удаляющейся подводой и соблазнительно пахнущими окунями. Афанасий с улыбкой на щетинистом лице наблюдал за ним. Кобелек затрусил было следом, но искушение было велико, и он опустился на мохнатый хвост, нервно вздрагивая всем телом и повизгивая.
Так в расстроенности тянулся он за возком с полверсты; труси́л неспешно, оборачивался, скулил… Но выдержать характер до конца не хватило собачьей воли, и кобелек наметом вернулся к одинокой ветле.
…Вскоре он настиг подводу. Свесив мокрый малиновый язык, дышал часто и тяжело, но побежка теперь была ровной: он чуть отставал от заднего колеса телеги, трусил размеренно и спокойно, словно всю свою жизнь только и делал, что сопровождал Афанасия в его поездках.
Поведение кобелька нравилось Афанасию. Доверие к нему, а может быть, и выпитая четвертинка настроили старика на благодушный лад. И он разговорился.
— Стало быть, меняешь местожительство? Ну-ну… айда ко мне. Будем втроем. Ты, я да вот еще Сивый. И будем три мужика… Хотя какой мужик из Сивого? Так, видимость одна. Да и я тож. Бабы у меня нет… Ну их, бабов-то, в фарью — рогожку… — Афанасий удивляется сочувственно-жалобному взгляду кобелька: — Чё, понял, стало быть? И жалеешь старика, а? У-у-у! Морда твоя собачья! Думаешь, с пьяных глаз разболтался? Ты, выходит, трезвый, а я — того… Хваченый? Ништо! Совсем ерунду употребил, малость одну… А это ты, ушан, верно удумал в сельцо податься. Айда. Я да Сивый — старики. Помрем скоро, хоть живая душа на заимке останется.
Старик поцокал языком, в такт (похлопывая ладонью о колено. Но кобелек все так же, не отставая и не убыстряя бега, трусил у тележного задка.
— У-у! Фармазон губастый… — ласково ворчал Афанасий. — Тя как кличут-то? Не знашь? Трезвый ты, вот кто! Я… того, а ты Трезвый.
Так они и въехали в улицу: старик на подводе, чуть позади — шоколадной масти ушастый кобелек. Никто на него не обратил внимания, даже Афанасий забыл на время. Он распустил товаристый возок, сдернул брезент и до самого темна носил в магазин ящики, тюки, увесистые коробки из серого картона в мелких складках, связки резиновых ловецких сапог, стеганых брюк и меховых безрукавок.
Вызвездилось небо. Позвякивали ведра на коромыслах — женщины по пути на реку останавливались у возка, любопытничали насчет товара.
Лениво перебрехивались деревенские собаки. Приблудный кобелек недвижной тенью чернел под телегой, вздрагивая всякий раз, как только незлобивый собачий лай достигал его слуха.
2
О Шуре, первой своей жене, Афанасий вспоминал редко и неохотно. Кто тут прав, кто виноват — поначалу он не мог разобраться. Больше винил ее, тем более что провинность ее была налицо. И лишь с годами пришло к нему чувство собственной вины перед Шурой. Конечно же, он причина всех бед, он! Но поправить дело было уже невозможно.
Шура же и за пятьдесят лет, в том возрасте, когда женщине самой природой положено блекнуть и увядать, наперекор летам своим, и жизненным невзгодам, и одинокой жизни, по-прежнему была бодра и неплохо сохранилась внешне.
Жила Шура одиноко в прежней Афанасьевой избе. Володька, их сын, с десяти лет рос при матери, — при живом отце без отца воспитывался. Народился он поздно, когда и Афанасий и Шура уже теряли всякую надежду иметь детей. В восемнадцать лет его призвали на службу, и он погиб там при ученьях. Шура спешно собралась в дорогу, а три дня спустя привезла останки сына в цинковом гробу и похоронила на сельском кладбище. Как перенесла Шура смерть единственного сына — ей да богу одному ведомо. Но даже эта утрата ничего не изменила в отношениях ее с Афанасием. Они, когда встречались на улицах сельца, молча кланялись и расходились.
И каждая такая встреча немым укором ранила Афанасия в самое сердце, причиняла боль.
Ах ты, Шура, Шура!
Когда у Афанасия получился разлад с женой, в ту самую пору уезжали с ближнего хуторка старики к городскому сыну. У них и купил Афанасий отводную усадебку: справную под шифером избушку в два окна, с огородной землицей и скотным двором.
Купил и ушел в чем ходил, все оставил Шуре и Володьке.
Очнувшись после трехдневной гульбы по случаю покупки хуторка, он обнаружил в своем новом доме женщину. Она наклонилась над шестком и тлеющим голиком сметала в загнетку печной жар. Афанасий, затаясь, вприщур смотрел на ее широкую спину, тугой, с добрый арбузенок, кокуль волос на затылке и золотистые завитушки на белой гладкой шее.
«Мать честная, — думал про себя Афанасий, — эт-та что же такое, откуда все это?» Он попытался вспомнить события прошлых дней, но затуманенная память решительно отказывалась что-либо подсказать ему.
Постепенно старик кое-что вспомнил. В сельсовете он оформил купчую, там же при свидетелях вручил старику половину обговоренной стоимости, а другую половину обязался отдать в течение года.
Затем в сельмаг зашел. Потом… провал, пустота.
Тем временем женщина отошла от печи, и Афанасий узнал ее, а узнав, ужаснулся: Натуська, первая потаскуха в селе! О, бог ты мой праведный, да что же это делается на вольном свете!
И в тот же миг пустота в памяти заполнилась: в магазине он взял литр водки, чтоб обмыть куплю. Но день был работный, Афанасий покрутился-повертелся возле магазина и, как на грех, никого из мужиков не встретил. А тут Натуська-продавщица закрыла магазин на обед, и мимо него идет, гляделки раскосые бесстыже уставила на Афанасия. Он в те годы был мужик хоть куда, в самом соку — едва за сорок перевалило.
— Ты че как кошка на сметану, — с издевкой спросил он, а сам подумал: «Ну и глаза. Один на нас, другой на Арзамас».
— Как же, приготовилась, — окрысилась Натуська и кивнула на бутылки: — Аль дружков потерял? Сирота несчастная.
— Да вот… магарыч, — оправдательным голосом ответил Афанасий, — обмыть покупку надо бы, да не с кем. — И вдруг неожиданно для себя предложил: — А не то — приходи вечерком, спрыснем… Природа на заимке что надо, ну и, само собой, все остальное… — Афанасий озорно крякнул и осмотрел молодуху с ног до головы.
Что было дальше, хоть убей — Афанасий не помнил.
…Натуся меж тем учуяла, что он протрезвился, и, оставив дела, подсела на краешек кровати, у изножья.
— Очухался? — участливо спросила она. Уловила недоумение во взгляде, поинтересовалась: — Ты чего это? Будто впервой видишь…
— Ты чего здесь делаешь? — спросил Афанасий.
— Как чего? Сам же звал.
— На магарыч звал.
— Так это спервоначалу, обмыть-то. А наутро насовсем велел остаться.
Осипшим голосом она отвечала на его обидные вопросы, а он запоздало припоминал: да-да, он не отпускал ее и в тот вечер, и на другой день, вчера, стало быть. Но чтоб насовсем — такого не помнил. А впрочем, кто знает: пьяный — не в своем уме. Потому-то протрезвевший, сегодняшний Афанасий не мог требовать отчета у Афанасия вчерашнего. Он мог только осуждать и не соглашаться с ним, гневаться на него.
Так Натуська и осталась при нем. Не выпроваживать же бабу, коль сам заманил ее.
На вид была она завлекательной: брови в палец и полнота ей шла. Лицом красива. Глаза только заметно косят. Но Афанасию не двадцать лет, с лица, как говорится, воду не пить.
Жили они с Натуськой странно как-то, не совсем по-людски — каждый в своем доме, при своем хозяйстве. Она изредка наведывалась на хутор, чаще он оставался у нее на ночку-другую, иногда и недельку подряд жил в селе, но потом удалялся к себе на заимку. В приходящие-уходящие мужья, так сказать, попал.
Непонятная она была, Натуська. Если Афанасий задерживался у нее подолгу, напоминала:
— На хутор наведался бы… Растащат без присмотра-то.
Понимал Афанасий, что Натуське плевать на его хутор-избу со всеми ухожами. Он удалялся, затаив обиду. И если несколько дней не являлся, Натуська сама прибегала на заимку, говорила укорные слова, уводила в село.
И еще одна странность была у нее: привязанность к корове. Это никак не вязалось с ее нарядами, с ее модничаньем, с ее работой, наконец. Но о ее пристрастии на селе знали, удивлялись и втихую даже посмеивались. Поговорка: пусти женщину в рай, она и корову за собой, — не иначе как про Натуську сложена.
Черно-белая костромской породы Зорька была всегда ухоженной и накормленной. Вечерами Натуська, закрыв магазин, спешила за коровой на околицу, ласково окликала, гнала ее во двор, а на зорьке провожала далеко за село, словно не решаясь расстаться с ней за воротами.
Вечерняя и утренняя дойка были для Натуськи чем-то вроде праздника. Не спеша усаживалась она на коротконогой деревянной скамеечке, старательно мыла вымя теплой водой и вытирала чистым вафельным полотенцем. Выжатые из крупных отвислых сосцов, струи звонко тренькали о дно эмалированной доенки. Парное молоко пенилось в подойнике, бугрилось пузырчатой шапкой.
Кончив доить, она черпала кружкой и подавала голубоватое молоко Афанасию, а сама опять же насухо обтирала вымя и смазывала сосцы Зорькиным же топленым маслом.
В то время Афанасий в колхозе молочнотоварной фермой заведовал. Послевоенные трудности давали о себе знать: хозяйство не в гору шло, а совсем разваливалось. С фермы доярки без огляду бежали, коровы вконец выродились: улучшением стада с довоенных годов никто не занимался, — козы и те, поди-ко, щедрей на молоко были. На дойню придешь — одно расстройство души: будто телушки годовалые, шерсть сосульками скаталась, бока впали…
При первой же возможности уходили доярки с фермы: иная замуж выскакивала и уезжала из села, иная с мужем рыбу ловить уходила, иная ввиду болезни на легкую работу устраивалась… А тут вдобавок ко всему неприятность на ферме случилась. Недосмотрели пастухи, бык племенной в ильмене илистом утоп. Половина стада непокрытой осталась. Афанасия, конечно, сняли с заведования и в пастухи определили. Впору так понимай, будто в бесплодии коров лично он повинен, а не утопший бык. И смех, и грех.
Натуська уговорила Афанасия оставить ферму и пастушье занятие и устроила его возчиком в рыбкоопе.
С тех пор на заимке появилась живность — меринок Сивый. Афанасий отвел ему самый теплый, густо обмазанный глиной и коровяком камышовый баз, смотрел за ним с не меньшей заботой, чем Натуська за своей Зорькой.
Натуська поначалу радовалась, что он и в работе рядом с ней, со временем, однако, поняла свою промашку. Пока у Афанасия не было на хуторе живности, он мог бывать у Натуськи в любое время и подолгу, а теперь коняга прибавил заботы, ухода, и мужик бывал у Натуськи урывками, спешил к себе.
Но эта ошибка была сущий пустяк по сравнению с той, которую вскоре Натуська допустила по бабьему недомыслию. Неизвестно сколько и как проистекала бы в дальнейшем их то ли семейная жизнь, то ли сожительство полюбовников, если бы не сама Натуська.
Она, оказывается, знала, что́ произошло между Афанасием и его первой женой Шурой, и в минуту женского откровения сказала:
— А Шура молодец! На ее месте я бы точно так же. Разве эдак можно с женой?
Афанасия в жар бросило от ее слов: столько лет минуло, казалось бы, их тайна давно похоронена. Ведь кроме Афанасия, Шуры да кума Панкрата, никто не знал ту историю. Знают, оказывается. Панкрат разболтал, не иначе, подумал Афанасий.
К Натуське он с той поры не приходил. Навсегда отвратила от себя мужика нечаянно сказанными словами. Эту истину Натуська поняла позже. Поначалу же старалась заманить его к себе, не раз на хутор впотьмах наведывалась, уговаривала помириться. Не впустую же говорят: муж с женой бранятся, да в одну кровать ложатся.
Но Афанасий был характера крутого, неумолимого. И Натуська поняла вскорости, что старания ее и женские хитрости тут не помогут.
И прежде, по трезвом размышлении, Афанасий не раз укорял себя за Шуру, теперь же, когда понял, что шило вылезло из мешка, что в селе знают о той пакостной истории, какую он учинил с женой, и совсем не по себе стало мужику.
В тот год и случилось несчастье с Володькой. Афанасий чуть ли не целый день простоял у изголовья цинкового гроба, перебирая в памяти все, что сохранилось в ней о Володьке со дня появления его на свет и до нынешнего смертного часа. Никто Афанасия не тревожил, Шура будто не замечала. Возможно, так оно и было, — до него ли, когда вся ее радость и смысл жизни оборвались со смертью сына.
Спустя неделю Афанасий пришел к Шуре. Выговорил с трудом:
— Ты, Лександра, того… На-ко вот, возьми… — Он положил на край кухонного стола маленькую стопочку новеньких пятерок (только что с книжки снял). — Не посторонний я для Володьки-то.
Хотелось Афанасию немного побыть возле Шуры, но он опасался, что она начнет возражать и вернет деньги, а потому и не стал медлить, торопливо, путаясь ногами в половиках, вышел. По дороге к себе на хутор он порадовался, что удачливо справился с нелегким делом, коль сумел убедить Шуру.
Радованье, однако, оказалось преждевременным: в тот же день Шура вернула деньги со знакомым пареньком.
И тогда он решил, что закажет в области Володьке памятник. Тут уж никто ему не сможет запретить. Привезет и поставит памятник из дикого камня, вместо железного креста с замысловатыми сплетениями несуразных цветов и ветвей. Денег у Афанасия на книжке не шибко много, всего шесть сотен. Но ничего, хватит, чтоб уходить могилку.
От такого решения и, главное, от того, что Шура не сможет запретить ему исполнить последний родительский долг, Афанасий взбодрился и порадовался за самого себя.
…С той поры минуло десять с небольшим лет. И надпись на диком камне давным-давно потускнела, а металлическая изгородь не раз подправлялась, перекрашивалась.
Афанасий, как и прежде, извозничает, живет бобылем. И всего-то окроме него на заимке единственная живая душа — меринок Сивый — постаревший, с ревматическими узлами на негнущихся ногах. Да вот еще увязался кобелек лопоухий…
3
Гость приехал на зорьке, когда Афанасий хороводился с Трезвым. Умостившись на рундуке, старик подозвал к себе кобелька, тот доверчиво ткнулся рыластой головой в колени и затих. Тогда Афанасий накрутил на палец тощий клок шерсти на шее и, изловчившись, коротко рванул от себя. Трезвый дернулся, но позы не переменил, остался у стариковых ног.
— Во, теперь не сбежишь, — довольно проворчал старик, — ты, конешна, тварь и многова не смыслишь. А примета, между протчим, очень даже верная. Теперь ты совсем хуторской мужичок.
Мимо заимки гуртом прошли на ферму женщины-доярки, меж них была и Шура. Поравнявшись с избой, они привычно и вразнобой поздоровались с Афанасием. Старик тоже, как и всегда, низко склонив голову, ответил:
— Здравствуйте, бабоньки. Бог вам в помощь…
Только Шура кивнула еле приметно и после своих товарок.
Ниже хутора переправа — лодка без паромщика. Доярки каждый раз на той бударке переправляются, за реку, на ферму, и обратно.
День был субботний. Предстоял двухдневный отдых. Еще с вечера старик хребтиной спутал Сивому передние ноги и отпустил на все четыре стороны. Сивый далеко от хутора не забредал, пасся обычно на сырой луговине за ветловым редколесьем.
Афанасий поглаживал шершавой ладонью собачью спину, а сам косился на низкодол, где, старчески уронив к травам голову, дремал меринок, когда-то неутомимый в упряжке и драчливый в конячьем косяке. Был конь, что и говорить, да изъездился. Уходили Сивку крутые горки. Он и до сегодня тужится, а везет. Долго, однако, не продержится, нет…
Мысли Афанасия прервал автомобильный гуд: к хуторку, пыля, катил голубенький «Запорожец».
Старик ладонью заслонил глаза от солнца и всмотрелся. Тихая улыбка завладела его небритым, до самых глаз в пепельной щетине лицом: близкий гость, свой, запечный.
— Иди, Трезвый, не до тебя нонче. Федор Абрамыч вон лопотит. И слава богу, кажись, один, без бабья.
Не любил Афанасий оравистую женскую компанию, которую иногда прихватывал с собой Федор Абрамыч. И не место жалко — мало ли его на заимке. Галдят, колготятся, ахают, — бабы, они и есть бабы. Будто не на хутор попали, а, по малой мере, на Луну. После них неделю, если не больше, птица за версту заимку облетает, а щука в кундраках хоронится.
Федор Абрамыч — мужик степенный, слова пустого не роняет, все путем. Мужик он житный, не какой-нибудь там интеллигентик-коммунальник — своим хозяйством живет. Сад содержит. Машину заимел. Куцая машинешка, каракатица обличием, а все же свои четыре колеса. В любой момент сел — и рули, куда душа пожелает.
Афанасий тяжело, с хрустом в суставах, сполз с рундука и заковылял к яру. Здесь, под беспокойным светлолистым тополем, Федор Абрамыч завсегда ставит машину: и солнце не печет, и на виду всей заимки.
А вскоре они сплывали по воде на утлой, тупоносой плоскодонке, чем-то напоминающей своей неуклюжестью автомашину на яру под тополем. Афанасий терпеть не мог вонючих бензиновых моторчиков, да и надобности в них не ощущал. Река спокойная, без ямин и перекатистых суводей. Не спеша, толкаясь таловым шестом, куда хочешь доберешься.
Старик с кормы легонько упирается шестом о хрусткое в ракушках дно, управляет лодкой, а Федор Абрамыч налаживает спиннинг. Перед ним на мостках жестяная коробка из-под леденцов, а в ней каких только ловецких причиндалов нет: и крючки, и грузила, и колечки, и карабинчики, и якорьки… А блесны — одна другой нарядней: и в виде рыбок, и на манер червей, и лягушата игрушечные, и рыбки золотые. Даже серая мышь есть. Когда Федор Абрамыч тянет жилку из воды, она, эта самая мышь искусственная, плывет по воде будто всамделишная. Не то что сому неразумному, а и человеку обман непросто обнаружить.
Смотрел Афанасий на всю эту хитро изобретенную чепуху со снисходительной усмешкой: зачем человек тратит и время свое и способности на бирюльки, если проще крючок припаять к куску жести от консервной банки. Или денежку медную расплющить. С дедов так ведется. И дешево и сердито.
Будь кто другой, Афанасий высказал бы мысли вслух, но Федору Абрамычу не мог, потому как чувствовал себя обязанным перед ним. Это чувство обязанности и глубокой признательности зародилось в давние времена, когда русоволосый старшина Федя Лузгин со своими бойцами спас Афанасия от верной смерти.
Случилось это на одном из лесных смоленских хуторов, где раненого Афанасия схватили полицаи и после недолгого допроса и мордобоя вывели из хаты, чтоб тут же за изгородью прикончить.
После войны Афанасий с превеликим трудом разыскал старшину Лузгина и пригласил погостевать. Федор Абрамыч оказался человеком отзывчивым и… неженатым. Погостил с недельку у Афанасия, а перед самым отъездом домой познакомился в районном городке с фельдшерицей и пообещал вскорости оставить свои пермские леса.
Приехал, женился. Двух дочек вырастил и замуж отдал.
Вон откуда дружба двух мужиков!
Надо же было так случиться, что почти в одно и то же время с Афанасием пришел работать в рыбкооп и Федор Абрамыч. Поначалу ведал кадрами, а три или четыре года спустя стал председателем.
В первые наезды Федор Абрамыч смешил Афанасия: ни шестом, ни веслом двинуть не мог. То, бывало, за борт кулем вывалится, то сети спутает, да так, что после него полдня Афанасий «кашу» распутывал.
С тех времен минуло четверть века — половина сознательной жизни, коли серьезно подумать. И ни разу дружба их ничем не омрачалась. Федор Абрамыч всякий раз при встречах улыбчив, светел лицом. Потому-то Афанасий нынче и насторожился. Все вроде бы как и прежде: внимателен к нему его старый друг, слова хорошие говорит, но в глазах тревога и в голосе нет той певучей мягкости, которую Афанасий всегда улавливал и к которой привык за долгие годы.
Предчувствие не обмануло старика. Наладив спиннинг, Федор Абрамыч закурил сигаретку и спросил:
— Здоровье не пошаливает?
— Когда как, — неопределенно ответил Афанасий, не зная, для чего задан вопрос, но твердо уверенный, что спрашивают его не ради праздного любопытства.
— Иди-ка ты на пенсию, Афанась, пока силушка есть. И здоровьице сбережешь. Места тут курортные: воздух, река, лес…
Вон оно что! Старик потерянно глядел на густотравную луговину за рекой и никак не мог постичь: почему надо уходить на пенсию и чем, скажите на милость, он будет заполнять дни, если отпадет надобность ездить за товаром, ухаживать за мерином.
Федор Абрамыч тотчас уловил, почему молчит старик, какие мысли обуревают его закадычного старого дружка.
— Я тебе, Афанась, все как на духу выложу. Лет пять уже меня жучат в потребсоюзе и за меринка дохлого и за телегу-луноход допотопный. Машины в рыбкоопе есть, во все магазины на них товар развозим. Даже пекарни в селах закрыли. Хлебзавод в райцентре поставили. На машинах долго ли? А тут — отдельная ставка возчику, тебе, стало быть, лошадь на балансе — ну и все прочее. Упрекают меня, мол, дружка не трогаешь. Ну я вгорячах и сказал, мол, не трону. До пенсии тебе, Афанась, отсрочку выхлопотал. Вот и…
Тут Афанасий вспомнил, что через недельку разменяет седьмой десяток. В суете житейской совсем запамятовал. Шура, та, бывало, завсегда помнила (и сейчас, поди-ко, помнит) день его рождения и прочие значимые числа, а он, Афанасий, никакой важности им не придавал, да и память с годами стала дырява. А там, в потребсоюзе, выходит, помнят. Только, наоборот, внимание выказывают: ликвидируют его. Был человек, и нет — иди в пенсюки…
Злость взяла Афанасия на потребсоюзовское начальство. Федор-то Абрамыч тут, понятно, ни при чем. Неправды он не скажет, порядочный человек. Сколь мог — держал, а уж коль выложил все начистоту, знать, невтерпеж дальше, доняли мужика до последней крайности. Оттого и негоже ему, Афанасию, дальше чинить другу неприятности, негоже.
— Сивка́ куда же в таком разе? — спросил Афанасий, и гость понял, что старик безошибочно воспринял его слова, без порицания. — На колбасу, стало быть?
— Так уж на колбасу… — запротестовал Федор Абрамыч.
— А пущай-ка он при мне остается, а? — в голосе Афанасия надежда и радость. — Какая с него колбаса. Зубнику лишние хлопоты. Оставь Сивка́, Федор Абрамыч…
— Так он же на балансе.
— Выходит, его нельзя списать, а человека можно? Даже на балансе не числюсь. — С досады старик шумно выдохнул, в щелку свел веки и задумался о чем-то.
— Ты, Афанась, скажешь тоже. Пенсия — освобождение от непосильного труда. Возраст, он, что ни говори…
— Мне-то лучше знать, что посильно, а что нет… — перебил Афанасий гостя. — Да че там, хрен с ней, пензия так пензия. Меринка жаль отдавать. Как же я без него, — засокрушался старик. Помолчал малость и, просительно заглядывая в глаза Федору Абрамычу, заговорил быстро-быстро: — Ты вот что… Подумай-ка… Оставь Сивка́, спиши с балансу. Кому он, болезный, нужон? Глянь-ко, вон он, на лужке понурился…
— Ладно, Афанась. — Гость извелся не меньше старика. Разговор этот тяготил обоих, и, чтоб покончить с ним, Федор Абрамыч обнадежил: — Поговорю с бухгалтером. Может, что и придумаем. А пенсиона не пугайся. Поначалу странно, разумеется. Потом все в колею войдет, спасибо скажешь. — И, уже окончательно успокоившись, положил руку на плечо друга: — Время-то как бежит, Афанась. Скоро и мне закругляться. Да-а… Но не зря мы жили, Афанась, не зря. Порой солоно приходилось и смерть в глаза смотрела. А ничего, осилили. Описать бы, к примеру, твою жизнь.
— Человек, он на то и ро́дится, — умиротворенно отозвался Афанасий. — Как же иначе ему? Животная и та в ином разе… Сивко вот тоже. Сколь он, бедолага, натерпелся да перевидал люда всякого. Мы с ним старые друзья. В море вместе ходили, тонули, мерзли. Ему, Федор Абрамыч, под тридцать. Старый мосол.
— Неужто так много? Не слышал, чтоб тридцать лет лошадь жила.
— И больше случается. Дед мне рассказывал про один случай: в каком-то государстве одна лошадь сорока семи лет подохла…
— А кобелек-то у тебя откуда? — поинтересовался Федор Абрамыч.
— В городе пристал. Так и увязался…
— Ирландский сеттер, — определил Федор Абрамыч. — Знатный будет охотник. Избалуется он у тебя.
— Не спортится, — решительно возразил Афанасий. — Пущай живет, а случится со мной што — тогда и возьмешь. Тебе откажу…
— Ну, понес! Живи, пожалуйста. И никакого кобелька мне не надо.
— Ты погоди, Федор Абрамыч, серьезно я. Все там будем. Че тут в прятки играть. Вот я и говорю: ежели что, и хутор себе возьмешь. Под дачку приспособишь.
— О Шуре забыл?
— Шура… все. И незачем, Федор Абрамыч, лишние разговоры говорить.
— Слушай, Афанась. Не знаю, что там у вас случилось. И не мне про то говорить. Ты старше. Только нехорошо все это.
— Чё же хорошего… — выдохнул старик.
— Возможно, мне сходить к Шуре? Люди вы немолодые. И она тоже… На что надеется?
Афанасий глядел на луг, и гость понял, что слова его впустую, как если бы зерна в мертвую землю бросить: всходов не будет.
4
В довоенные годы в ловецких ватагах работало много девчат да молодух. На каждом рыбачьем кошу ставили по две вместительные палатки из списанных ввиду негодности, выцветших и пахнущих смолой и морем, парусов: одну для мужиков, другую для женья.
По вечерам до полуночи из женской палатки слышался девчачий визг и взрывы хохота. Мужики после ухи сытыми котами посматривали на тот брезентовый шатер, отпускали соленые шуточки и, повздыхав, ныряли в свои полога.
Про тоню Зеленая слава добрая шла среди рыбаков — знатные уловы брали. И видом Зеленая привлекала людей. Остров камышистый, ветловые кусты кучились вокруг становища, притонок золотился намытым паводками песком.
Афанасий был тогда молод и жилист: ходил с пятным колом — невод сдерживал, с весенним водобуйством схватывался один на один.
Шура с ним в одно звено угодила: на вахту вместе вставали, шабашили вместе, за один стол трижды в день садились, когда рядышком, когда напротив.
Знакомство сводить им было без надобности — с ребятишек вместе по травным сельским улкам бегали, на прогретых полоях бесштанной оравой плескались.
В зрелую пору Шура знаткой стала, приметной среди подружек. Немало хлыстов увивалось за ней, да орешек народился не по зубам — ради забавы не раскалывался.
Афанасий в отношениях с Шурой серьезное намерение имел. Девушка уловила искренность в его стремлениях и отозвалась, приняла дружбу. По вечерам, когда ушедшее за окоем солнце золотило заревные облака, подолгу сидели молодые где-нибудь на яру и думали о будущей жизни, конечно же светлой, счастливой, безмятежной. Откуда им было знать, что всего придется хлебнуть, а больше горького, и что жизнь их сложится, как лютому врагу своему не пожелаешь.
Посвадебничали они в жаркую, меж весенней и осенней путинами, осенью — и опять на Зеленую. Тоня стала для них вторым домом: здесь полюбились, здесь сошлись, здесь и рыбачили до самого того года военного, когда наконец-то, после семи лет их супружеской жизни, народился Володька.
Для Афанасия событие это явилось неожиданной радостью, потому как и не надеялся детей иметь.
А тут и война грянула.
В начале первой военной весны, в сорок втором стало быть, Шура написала ему на фронт, что отняла Володьку от грудей, пристроила у одинокой бабки, а сама работает на Зеленой, что звенья сплошь из бабья, но есть и мужики, которых по броне оставили.
Не писать бы ей, бедолаге, про мужиков-то. Да откуда знать могла, что бесхитростные ее слова посеют в душе Афанасия мучительные сомнения. И для самого-то мужика такой оборот был неожидан. Знал же Шуру, никогда не думал о ней плохое, а возьми-ка вот его за рупь двадцать, ни с того ни с сего ревность в душе зародилась. Может, от злости: тут смерть каждый миг поджидает его, а там, в тиши речных заводей, средь буйной зелени здоровущие мужики рядом с его женой ходят, смеются, едят, да и спят неподалеку — палатки в десяти шагах…
Он припоминал, как мужики зарились на Шуру, когда она еще в девках ходила, ненасытными глазами шарили по ее ладной фигуре и доверительно говорили друг дружке такие слова, от которых его, парня уже в зрелых годах, бросало в жар. Эти воспоминания болью отзывались в сердце. И всю войну как ржа разъедала изнутри слепая и страстная недоверчивость к близкому человеку, к каждому его письму, каждому слову. Себя временами не щадил, где другие хоронились — он наперед выпячивался, потому как ревность его в зверя превратилась, а зверь, известно, безрассуден. И странное дело: при такой бесшабашности — жив остался. Ранения не в счет, главное — домой воротился.
После фронта остепенился малость. Но и тут каждое Шурино слово настораживало его, иной смысл искал он в нем, чуждаться жены стал. Зло корил себя, но зараза ревности намертво угнездилась в нем и точила, точила изо дня в день, из года в год.
Ловецкая жизнь тому очень даже способствует. Неделями живет рыбак на лови́ще. Угодья промысловые к тому же обмелели, опутались разной водоростью. Уезжали ловцы за рыбой на самое Каспийское взморье — день ходу на подвесных моторах. Оттуда часто в село не наездишься. В путинный рыбоход по месяцу, бывало, домой носа не кажут.
Ожили прежние страсти. Помрачнел Афанасий, осунулся. А тут, будто намеренно, чтоб досадить ему, всякую небыль-похабщину плетут мужики про баб, кто по злобе, кто от тоски дремучей. И каждый стремится выглядеть все испытавшим и все ведающим: мол, не встретишь бабы, чтоб не блудница. Все, мол, на один фасон.
Вот тут-то и ширнул его бес под ребро. Наведался как-то он домой. Попарился в баньке, переночевал и соч брался уезжать. Проводила его Шура чин чином, помахала платочком, пока бударка не скрылась за ветловой излучиной, и ушла с реки.
А он схоронился за островами, дождался там окончания дня да посуху пешью вернулся в село. Черной тенью, крадуном пробрался в кумово подворье (еще днем узнал, что кума гостит у дочери чуть ли не в самой Москве) и постучал в ставень.
Кум Панкрат, заслышав возню во дворе, а затем и стук, подумал горестно, что вот и отдохнуть не дадут, что опять надо сквозь темень топать к больному, что давно бы надо открыть в селе врачебный пункт, и уж тогда-то наверняка его, фельдшера, оставят в покое и слушать стук в ставень придется не ему, а врачу.
Приоткрыл Панкрат дверь в сенцах, спросил:
— Кто там? Никак ты, Афанасий?
— Я, кум…
— Ты ж… уехал, кажись. Заходи, что это мы стоим.
— Уехал, да не весь, — осевшим голосом возразил Афанасий. — Дело у меня, кум.
— Ну-ну. Без дела, понятно, средь ночи не явишься. Садись. Ты не заболел ли ненароком. Кровинки нет на лице… и мокрый весь.
Афанасий достал из-за пазухи бутылку водки и, пряча глаза, еле слышно сказал:
— Шуру, кум, спытать надо…
5
Федор Абрамыч сдержал слово: Сивого оставили на хуторе. Такому решению Афанасий, понятно, был несказанно рад. Каждое утро, далеко до солнца, шел он на луг, где пасся меринок. Трезвый шнырял по ро́сным кустам, озорно облаивал пугливых глазастых лягушек, вспугивая пичужек.
Сивый, завидя хозяина, вскидывал тяжелую голову, тихо и радостно ржал. Отвисшая мягкая губа мелко-мелко вздрагивала — на водопой просился.
В первые нерабочие дни Афанасий спутывал меринку ноги, затем оставил это ненужное занятие: Сивый и без пут далеко от хутора не убредал. Он, как и прежде, по утрам и на вечерней заре ждал старика, чтоб тот отводил его на водопой, хотя река была рядом и конь мог сам дойти до нее, когда хотел.
Эта конячья уловка пришлась по сердцу Афанасию, потому как объяснить ее можно было только привязанностью животного.
С реки старик отводил Сивого подальше, на другой, нетронутый конец луга, а сам брал косу и обкашивал ветловые кусты в окрестностях хутора — запасал на зиму сена. Надеяться на рыбкооп не приходилось. И колхозу не до старого, выбившегося из сил бесхозного меринка, свою скотинку бы передержать до весеннего свежетравья. Можно, на худой конец, к Федору Абрамычу обратиться, не прогонит, подбросит возок. Однако вернее самому наскрести, незачем занятых людей попусту от дел отрывать да в нахлебниках числиться.
Косил старик, пока не припечет солнце. После обеда, переждав ярый зной, шел в село, чаще всего в магазин. Все нужное для дома в один приход не брал, покупал помаленьку, сегодня одно, назавтра другое, так, чтоб был повод ежедень наведываться в село. Не дичать же на отшибе!
Под вечер опять доставал из сарая косу, снимал полотно с косовища, усаживался на холодную траву под тем самым топольком, где Федор Абрамыч всякий раз ставит машину. Удобно зажав в жесткой ладони пятку косы, клал лезвие на бабку, тюкал молотком подолгу и размеренно — отбивал косу.
Сырой вечерний воздух охотно подхватывал звонкие металлические звуки и нес далеко от хутора — к селу, за реку, к ферме, за луг…
Сивый, заслышав звуки, поворачивал голову, высматривал Афанасия, ждал: вот отстучит молоток, затихнет на заимке, тогда придет на луг хозяин, и они пойдут к реке.
Всяких людей встречал Сивый на своем веку. В молодые годы он как-то и не принимал их всерьез. Он пасся в табуне сам по себе, а люди жили в селе сами по себе. Повстречает, бывало, в поле человека, любопытно вскинет голову и отбежит прочь — так было спокойней.
Но однажды (как это случилось — он и по сей день не может понять) что-то колючее и хлесткое обвилось вокруг шеи, рвануло в сторону и сбило его, полудикого пятилетнего неука, с ног. Люди набросились на него, долго и противно окутывали арканами, совали в рот что-то холодное и противное на вкус. Когда они отпустили и разбежались, Сивый вскочил. Но то же колючее и липкое обожгло шею, морду, губы…
Спустя неделю его вновь повалили в загоне — легчали. Пахло непривычным и раздражающим. Что-то острое обожгло в паху, боль оглушила жеребчика. И он, теперь уже меринок, в бессильной злобе храпел, целя на мужиков налитые кровью глаза.
Много времени истекло с той поры. Сивый не знает счет годам, но иногда давноу́шлое приходит к нему во снах. И сколько бы раз ни снились ему те кошмарные и страшные дни, Сивый всякий раз просыпается со стоном, ибо кажется ему, что он не дряхлый меринок, а все тот же неуемный молодой, не знающий упряжки жеребчик, и люди опутывают его, опрокидывают на сырой травянистый луг.
…Его определили в разъезд. Каждое утро колхозный конюх впрягал Сивого в легкую рессорную двуколку. Это с утра только она казалась легкой. Гоняли Сивого весь световой день и даже больше. Еле, бывало, добредал до конюшни. И чуть ли не каждый день новый ездок. И хлестали его прутьями, и кормить забывали, сутками без воды бывал. При таком хозяйничанье конь на глазах захирел.
Всего, одним словом, навидался, пока к Афанасию не попал. Что у нового хозяина будет добрая жизнь, Сивый смекнул быстро. Распорядок тут был заведен образцовый: вовремя поили, вовремя кормили… Если час кормежки в дороге настигал, непременно передышку дозволяли. О коне пока не позаботится, не успокоится — таков уж Афанасий.
Рыбаки в те послевоенные годы выходили зимой на Северный Каспий. Морозы держались знатные, ледяная корка доходила до пятисаженной глуби. Белорыбка ловилась, но редко, больше частик промышляли — сазана, судака, леща…
Жили ловцы в шалыгах — ледяных буграх, и кони тут же, у палаток от непогоды хоронились. В относы, правда, Афанасий с Сивым не попадали, но тонули однажды — оттепель на море застала. Покуда сети обработали да выбирались до че́рней — прибрежных островов, расслюнявилась дорога, прососы черными воронками зазияли на ледяном поле.
Накупались вдоволь — еле дотянули до берега. Последние версты не Сивый вез рыбаков, а сам Афанасий с подручным, выбиваясь из последних сил, тащили возок, а на нем лежал конь; негнущиеся ноги одеревенели колотушками — из последней майны долго не могли вытащить Сивого. Вызволили когда, Сивый обезножел — не поднялся. Ловцы с трудом взвалили его на сани… А пока везли — застыл: шкура залубенела, дышал тяжело, с просвистом.
Спешно с наветренной стороны запалили кострище. Благо, камыша сухого на острове — завалы непролазные да и леса-бурелома немало. Афанасий достал из брезентового мешка, увязанного к передку возка, две бутылки водки, нетрожно хранимые морскими рыбаками для таких вот случаев.
Приподняли Сивому голову, вылили в зубастую пасть содержимое бутылки. В горле забулькало — прошло. Остальной водкой натерли коленные суставы, грудь.
Всю ночь палили камыш и ветковый бурелом. Ближе к свету Сивый очухался, поднялся на ослабевшие ноги, пьяно косил глаза на мужиков, а в полдень шажком-шажком потянул к селу сани с ловецкой сбруей. С той поры ноют, скрипят ревматические суставы. По той же причине его разлучили с Афанасием, отдали в рыбкооп.
Спустя много лет, когда Афанасий стал возчиком и пришел принимать меринка, Сивый сразу узнал прежнего хозяина, радостно встрепенулся, заржал призывно. Но Афанасий непривычно шатался на ногах. Сивый обиженно косил на него глаза и прядал ушами. Афанасий, видимо, ничего и не подозревал, а он-то, Сивый, помнил, что давным-давно они рыбачили вместе, мерзли, тонули…
Ах, старость-старость. Целыми днями понуро стоит Сивый на лугу или же лениво, без всякого смака, щиплет траву. Работы нет, отходился в упряжке. И вся радость его конячья — те недолгие минуты, когда рядом Афанасий, да еще, как вспышки, короткие сны, в которых так неожиданно возвращались молодые годы.
Чаще он видит себя во сне молодым гривастым неуком рядом с Ро́ской — красивой стройной кобылицей в серебристых яблоках на мышастой лоснящейся шерсти. Роску он отбил у косячного жеребца. Совсем обнахалился старый вожак, всех молодых кобылиц не отпускал от себя ни на шаг, а неуков-жеребчиков отгонял от косяка, кусал, сбивал с ног.
И тогда Сивый, озверев от ревности, основательно потрепал кусачего спесивца и с позором прогнал из табуна. Весь косяк признал власть Сивого, а кобылицы ласково и призывно ржали, когда он проходил мимо них.
К Роске с того дня ни один конь не смел подходить — опасались его острых копыт. А она стала еще привлекательней: серебристые яблоки на иневатой масти дрожали, словно капли росы на бархатистых листьях кубышки. Круп у Роски удлиненный, шея тонкая, изящная голова красиво вскинута. Бежка мелкая и рысистая. Скачет на точеных ножках, будто пританцовывает.
А еще ему снились волки. Целая стая. Жеребята-однолетки и стригунки сбились в табунок, кобылицы окружили их — головами в круг, приготовились задними ногами отбиваться от хищников. Сивый остался вне круга. С широко раздутыми ноздрями, с глазами навыкате и высоко вскинутой головой, он отчаянно ржал и бегал вокруг своего косяка.
Когда волки обнаглели и подошли совсем близко, Сивый метнулся к ним. Матерый волчище, видимо вожак стаи, кинулся навстречь, целя зубами в горло косячного, но Сивый волчком крутанулся на месте и принял зверя на задние копыта.
Серым мешком с рассеченным лбом свалился волк на пожухлую траву. Почуяв кровь, табун будто взорвался. Вслед за Сивым тяжелым наметом кобылицы бросились на волчью стаю и разогнали ее.
После каждого такого сновидения Сивый озабоченно моргает, не в силах уловить: как же в одно мгновение из молодого и сильного он превращается в дохлого болезненного мерина… Усталостью наливается тело, тяжестью — ноги, голову гнет к земле, веки заслоняет дневной свет и снова одолевает сонливость. Сивый лениво трясет головой и всхрапывает — старые кости чуют ненастье…
6
Октябрьская пора на Нижней Волге золотая. Отдул афганец — колкий жгучий суховей, не зло, мягко припекает солнце. Небо чистое — по неделям ни пятнышка, оттого и воздух свеж: дышать им, что родниковую воду пить — одно удовольствие.
Об эту пору городские любители «подышать» частенько навещают старика. Среди знакомых Афанасия есть и артисты, и газетчики, и всякий руководящий люд. Друг по дружке познакомились со стариком. А теперь уж каждый сам по себе, кто, когда денек-другой выкроит, наезжает на заимку.
Афанасий завсегда-то был гостям рад, а ныне, в пенсионное безделье, и подавно. Увидит свежего человека и душой оттаивает. И так с ним и эдак, лишь бы приглянулось тому да лишний денек пожил на хуторке.
Только редко Афанасию такая удача улыбается. Гости все занятые, к сроку спешат в городе быть: одному в газету писать, другому комедию играть, а третьему заседать непременно нужно, и вроде бы если не посидят да не поболтают в намеченный день и час, то и работа всякая остановится.
По случаю городских гостей инспекторы рыбоохраны негласно разрешают Афанасию сетчонку поставить. Не срамиться же перед людьми наезжими, не всякий же раз за блесну или червя рыба хватается. Иногда, к непогоде, положим, лежит на дне и полусонно двигает жабрами. Ей в таком разе хоть в рот наживку суй — плавником не двинет. Тут сеточка очень кстати: выбьешь ее вдоль кундраков, пошумишь малость, и порядок — ушица обеспечена. А когда заморского гостя привезли, тут рыбнадзорцы не только разрешенье дали, а и осетра сами словили и доставили, чтоб, значит, краснухой угостить. Но об этом после…
Золотой октябрьский сезон открыл маленький взъерошенный человек из газеты. Посмотреть со стороны — будто воробей из кошачьих лап только что вырвался: рыжие волосы сосульками торчат, рубаха пузырится из-под ремня. Брюки-джинсы на коленях волдырями и узкие до неправдоподобности. Непонятно даже, как он в них умудрился втиснуться.
И фамилию он носит странную, но под стать себе: короткую и несерьезную — Стась. Имени его Афанасий не знал, спрашивать стеснялся, так Стасем и звал.
В газете Стась чуть ли не самый заглавный: не только сам пописывает, а и командует — кому куда ехать, о чем писать, на какую страничку материал поставить, сколько сократить, сколько добавить. Начальник, одним словом.
Стась привез с собой две бутылки коньяку и целый короб блесен, хотя сам и понятия не имел, куда и за что их цеплять. Он каждый раз привозил их и бывал несказанно рад, если кто-либо пользовался его снастями, охотно дарил. Поскольку Афанасию все эти сверкающие медяшки и нержавейки тоже без надобности, а гостей, кроме Стася, на этот раз не было, то короб даже и не вытаскивали из рюкзака.
Перво-наперво Стась раскупорил бутылку и хватил коньячку. Афанасий отказался.
— Че ее без еды хлестать? Под ушицу — ино дело.
— Ну-ну… Как знаешь. А я приехал душу отвести, подышать малость.
— Эдак ты и в городе мог.
— Воздух не тот. Заводы дымят, машин на улицах — не протолкнуться. У тебя тут благодать.
— Оно конешно, — согласился Афанасий. — Дыши, стало быть.
— Вольготно тут. Никто не мельтешит перед глазами — ни редактор, ни жена. Ни строк не требуют, ни денег. Переберусь я к тебе, старик. Ей-ей, переберусь. Будем вдвоем рыбачить, охотиться…
Стась и ружьишком иногда балуется. Оттого он Трезвого сразу приметил и заинтересовался:
— Откуда, Матвеич, зверюгу эту бесценную раздобыл? — Он выслушал Афанасия и посожалел: — Жаль, ружья не прихватил. Испытали бы. Работает?
— Ходил намедни на утряночку, снял шилохвостня. Ничего… помял малость, но принес.
— Умница. И здоровущий…
— Дюжо́й, а к драке не приспособлен. Сойдутся когда, он все боком норовит к ним, ну и влетает по первое число.
— Талант у него в другом. Хорош, ничего не скажешь. Ну что, старина, порыбачим.
— Можно, — охотно согласился Афанасий. — Ружье вот только возьму. А ты пока куласик подчаль к лодке.
— Ну-ну. — Стась подхватил рюкзак с ловецкими снастями и направился к лодке, — Айда, Трезвый…
Они приехали на Зеленую. Старик выбрал место помелководнее — воды чуть повыше колена — и стал набирать сеть.
Стась, зажав коленками Трезвого, гладил его по спине, а сам все прикладывался к бутылке, наполовину опорожнил ее.
— Мы чего ждем? — спросил он, будто забыв, зачем они здесь.
— Счас сеточку выбьем и на ушицу наловим. На твои закидушки надежды мало.
Стась перевесился за борт, увидел рядом илистое в водорослях дно, удивился:
— Ты серьезно, Матвеич? Какое уважающее себя животное будет жить в этой луже?
— Животное, положим, не будет, а рыба есть. Потерпи малость.
— Рыба-то, по-твоему, — что это?
Афанасий снисходительно улыбнулся несуразности вопроса и, чтоб не обидеть гостя, ответил рассудительно:
— Рыба, она и есть рыба. Че тут мудровать шибко.
— Пока сетку налаживаешь, я тебе, старик, лекцию прочту. Рыба — хочешь ты того или нет — тоже животное. Только водяное и с холодной алой кровью. Среди люден, между прочим, тоже есть такие — с холодней алой кровью. Не встречал? Счастливый ты человек!
Стася всегда интересно слушать. С ним забываются все невзгоды одиночества. Есть у него слабость одна — любит байки сказывать про свои знакомства с большими людьми. Видно, так оно и есть, попусту травить не станет. Художный, одним словом, человек, может изобразить кого хошь. Особенно его же брату газетчику достается на орехи.
Поставили сеть, и старик отвел лодку к яру, под тень ветлы.
— Тут приглубь. И вода сильная. Окунь, а случается, что и судачок берется. Ты того… располагайся, а я вечернюю зорьку в култучке отсижу. Чирок там к ночи копится. Раскормленный, стервец, — летит, а жир капает. — Афанасий тихо заулыбался своей шутке и подтянул к борту охотничий куласик.
Трезвый без приглашения перескочил через бортовину плоскодонки, спрыгнул в куласик и распластался на мостках.
— Готов, — подивился Стась. — Явился, не запылился.
— Ружье в руках увидел — шагу не отстанет, — ласково отозвался Афанасий. — Кровя в нем охотничьи.
Старик шагнул в шаткий куласик и потолкался шестиком в ильмень. И сразу же Трезвого будто подменили: тихо повизгивая, он тянул шею над бортиком, осматривал прибрежные заросли и косил глазами на хозяина.
В култуке Афанасий отыскал камышовый колок, схоронился в нем и затих. Вот тут-то и началась для Трезвого самая подлинная пытка. В какой-нибудь полсотне шагов от куласика, на ильменную чистовину упала первая стайка чирков — малых утиц. Вожак — ничем почти не отличный от остальных чирков — тонко и торопясь покрякал для приличия, и тут же вся стайка, будто того только и ожидала, затрепетала хвостиками, сунула головки в мелководь — и началась пирушка-побирушка. К первой стайке подсела вторая, третья…
Утки, будь то кряква или крохаль, шилохвость или чирок, — на редкость прожорливы. А потому стайка потеряла всякую осторожность. Вокруг свистело, крякало, всплескивалось…
Трезвый дрожал, облизывался, неслышно скулил. Афанасию едва-едва удавалось успокаивать собаку: он гладил шершавой ладонью по гладкой спине, шептал успокаивающие слова.
А тут налетел ястреб-тетеревятник. Ильмень вмиг вздрогнул, поднялся на крыло. Ястребок ударил в крайнюю стайку, вышиб селешка-широконоса и скрылся с добычей за камышами.
Через минуту птицы забыли о злодействе хищника. Шумливые стайки вновь заполнили мелководья.
Афанасий помногу не стрелял — припасы берег. Когда стало смеркаться, он облюбовал стайку поплотнее.
…Еще не стих звук выстрела, а Трезвый уже плюхнулся в воду и, путаясь в камышах, выбрел на чистое. Птицы, спугнутые выстрелом, а затем и появлением Трезвого, пометались-пометались над ильмешиной и малыми стайками скрылись за камышовой крепью — в соседние култуки потянули.
— Вот мы и поутятничали, — ласково сказал Афанасий, когда выехал из скрадки и с помощью Трезвого собрал трофеи — четыре чирка-свистунка. — Супец будет знатный для Стася.
Вскоре они возвращались на заимку. Стась после долгого молчания сказал с сожалением:
— Обмелела Зеленая… А какая тоня была.
— Что — тоня, — живо откликнулся Афанасий. — На моем веку море отошло на полсотню верст, никак не меньше. Вконец спортили мы морюшко наше, а? Испохабили Волгу-то…
— Э-э, старик, и тебя туда же повело. На Волге, согласен, переусердствовали. Да ведь есть-пить надо. Орава под триста миллионов душ. Такая семейка каждый день с Эльбрус уплетет. Вот и осваиваем земли… Заводы строим, плотины. А заодно красную рыбу переводим, белорыбицу на нет свели… Попортили Волгу. Но Каспий, старик, и сам по себе мелеет. Тут мы ни наполнить его, ни вычерпать пока не можем. Кишка тонка. Шалопутное море нам досталось, что и говорить. Оно может и совсем усохнуть.
— Так уж и совсем? — недоверчиво переспросил Афанасий.
— Случалось в древности. Подчистую почти, одна Бакинская впадина оставалась. Колужина — да и только. И дельта Волги была… Где бы ты думал?
— Где была, там и есть, че тут гадать.
— На Апшероне. Не знаешь? У самого города Баку. Что улыбаешься, не веришь?
— Ну и сочинять ты, Стась, здоров.
Со Стасем всегда так: приедет, наговорит что ни попадя, а опосля Афанасий ночами не спит, размышляет. Вот про море и Волгу тоже загнул да еще предупредил, что не за один год такое случается, и не за тысячу лет, а за миллион. Чудак-человек, кому ведомо, что было вот тут, к примеру, на его, Афанасьевой, заимке, даже сто лет тому назад. А он… Миллион рублей представить невозможно, а уж годов-то и подавно. Нет, не заскучаешь со Стасем.
И весь вечер, пока варилась юшка, Стась рассказывал разные были-небылицы. Изба наполнилась запахом ухи, духовитым, густым — хоть воздух ложкой хлебай.
Афанасий выбрал рыбу и стал разливать уху по тарелкам. Стась подцепил ложкой большой кус вареного судака и вынес Трезвому. Но тот доброту городского гостя не оценил, брезгливо потянул воздух, отошел прочь, чем обидел Стася.
— Черной икрой нешто угостить, образина? — В избе он упрекнул Афанасия: — Барчука растишь. В следующий раз колбасу сырокопченую привезу ему.
Афанасий улыбнулся и сказал примирительно:
— Из чужих рук не принимат… Умняга.
Наутро Стась отбыл домой.
— До весны, видать, прощевай. Ну, будь…
Однако через недельку нагрянул нежданно-негаданно, да не один, а с гостями — с паном и паньей. К Стасю в гости они пожаловали, а он их — на заимку ушицы похлебать привез.
Афанасий, когда Стась сказал, что гости заграничные, малость оробел. Но присмотрелся — ничего особенного. Может, в старину паны были другие, а эти, нонешние, совсем нормальные люди. Пан Ежи (так он представился Афанасию) оказался веселым мужиком, разговорчивым. И по-русски, без переводчика, чисто лопочет: во время войны от немцев бежал, в Москве жил, потом воевал за Польшу. А жена у него русская, Наталья. Дотошная баба. Все-то ей надо знать, обо всем-то она расспрашивает. В первый же вечер за ужином устроила Афанасию форменный допрос: да почему один, да где жена… Афанасий, как ни крепился, осерчал и выпалил в сердцах:
— Померла.
Наталья завздыхала, заохала. Пан Ежи, спасибо ему, помог: вышел из-за стола и сказал строго:
— Спать, Ната. Завтра на зорьке вставать.
Наталью будто ветром выдуло из-за стола.
— Пристала, как банный лист, — заворчал Афанасий, когда они остались вдвоем со Стасем.
А наутро с паном Ежи очень неприятный конфуз у Афанасия приключился — расстройство сплошное. Рыбнадзорцы, едва прослышали про важного гостя, тут же-заявились, — осетра на уху привезли. Гость их поблагодарил, но захотел сам осетра словить. Посоветовались охранники с Афанасием и, чтоб гостя уважить, привезли плавную сеть — режак.
Наладил Афанасий плоскодонку, весла навесил, сеть-плавнушку набрал в корме, и поехали: он, Стась и гость. Выехали на плавной участок, Стась сел в весла, а сам хозяин сеть стал метать. Пан Ежи молча наблюдал, примечал что к чему, а как подошло время выбирать плавную, заявил:
— Дайте-ка мне.
— Ну, спробуй, — согласился Афанасий. И Стасю: — Давай, заворачивай.
Стась табанит веслами, будто рыбак заправский, сеть брать легко, вот она — у кормы.
Пан Ежи выбирал сеть неумело, в ногах оказался неустойчивым с непривычки: чуть качнется лодка — хвать рукой за борт. Афанасием овладело беспокойство: ну как за борт вывалится? Подумал он так и незаметно для гостя потянулся к темляку, которым осетров багрят, чтоб при случае за штаны его зацепить.
Однако пан из лодки не выпал, неувязка произошла, когда он осетра к борту подвел. Сунулся Афанасий подсобить, да тот отстранил его — уж очень хотелось ему самолично осетра словить.
«Ну-ну, — согласился Афанасий, — посмотрим: ты его или он тебя…»
Пан осетра обнял как бабу и потянул на себя. Это все равно как если бы лягливого коня-неука за хвост ухватить.
Осетр запутался матерый: извивался, фонтанил. И в тот момент, когда обняли его, двинул изо всей силы, изогнулся — и был таков: только махалка луной мелькнула. А незадачливый рыбак на дне лодки плашмя распластался.
Афанасий такого вытерпеть не мог.
— Так-перетак… Растяпа! — взвился он и осекся под удивленным взглядом Стася.
Гость вроде бы и значения не придал Афанасьевой вспышке, а ему, хозяину, с той самой секунды стало не по себе.
«Вот влип так влип, — думал старик. — Это что же теперь будет?»
Печалился старик до самого вечера. За ужином пан Ежи первый тост предложил за дружбу. И тут Афанасий не стерпел, повинился.
— Вы уж того, пан Ежи, не особо серчайте. Язык-то, поганец, бегучий, моторнее головы. Помыслить не успел, а слово слетело…
Пан Ежи улыбнулся озорно и ответил:
— А вот если бы ты, Афанасий Матвеевич, на моих глазах осетра упустил, выкинул бы я тебя из лодки. Честное слово, выбросил бы.
Пан-то своим мужиком оказался! Посмеялись над случаем, а затем он и говорит:
— Одного упустил, но второго вытащил, а? Дома рассказать — не поверят, засмеют.
— Наталья удостоверит, — успокоил Афанасий.
— И ей не поверят, — настаивал гость, а сам посасывал гаванскую сигару в палец — привычка у него перед сном выкурить сигару. Цельный день глотка дыма в рот не берет, а ближе к ночи как засмолит, от духа того хоть из избы вон.
А Наталья бабенкой душевной оказалась. Любопытная, правда, малость, да ведь все они такие. А заботливая — страсть какая: глаз своих с мужа не сводит, старается упредить все его желания. Афанасий даже позавидовал: так и состарятся вдвоем, а ему, мослу старому, никто и слова ласкового не скажет.
Гостевали они недельки полторы. На утренней зорьке Афанасий отвозил пана Ежи и Стася к плесу Зеленая. Иногда с ними увязывалась и Наталья. Но больше ей нравилось встречать солнце на заимке.
Оставив рыбаков, Афанасий возвращался домой готовить завтрак. И всякий раз Наталья ждала его у яра под топольком.
Афанасий примечал ее сразу же, как только выезжал из-за островка. Ладная, еще сохранившаяся фигура вырастала на крутояре. За эти дни старик привык к Наталье, и еще до того, как выехать на плес, думал о ней, и непонятно отчего радовался, когда ее цветастое платье пестрело на яру.
Но в одно утро женщина не встретила его. Напрасно он шарил глазами по берегу, по луговине, напрасно окликал Наталью, заглянув в избу, сарай и закутки. Его встревожило отсутствие женщины, хотя сразу же пришла в голову мысль, что Наталья, возможно, ушла в сельцо за молоком или же в магазин. Случиться с ней ничего не могло, зародившаяся тревога не оставляла Афанасия.
Он достал из лодки живых, только что выпутанных из сети судаков и принялся разделывать их. Мелкая серебристая чешуя снежными блестками сверкала на солнце, сыпалась под ноги, липла к рукам.
И тут Афанасий понял: конечно же, Наталья ушла в село, и его волновало не опасение за нее, а само отсутствие ее. Много лет жил он один и уже отучился видеть в своем доме женщину, привык к одиночеству. Только вина перед Шурой тяготила его, непроходящей болью саднила в сердце.
Правда, Федор Абрамыч иной раз на денек привозил жену и дочерей, но они в избу и не заходили. Плескались в реке, загорали на солнце. Так что они не в счет.. А Наталья более недели уже на заимке, и он свыкся с ее присутствием.
И вот сейчас пустота на заимке была невыносима. И Афанасий со страхом подумал о тех недалеких днях, когда гости уедут и он остатки осени и всю долгую зиму будет коротать один.
Его невеселые рассуждения прервал Натальин голос. Афанасий вскинул голову и увидел ее на супротивном берегу и немало этому обстоятельству подивился.
Он перевез ее на шатком охотничьем куласике и всю обратную дорогу, пока не причалил к мостинке, беспокоился, как бы нечаянно лодчонка не зачерпнула воды. Но все обошлось. Наталья сидела, вцепившись руками в бортовины, и рассказывала:
— На ферме была. Женщины утром шли, доярки. Ну и разговорилась с ними, да и переехала на лодке. Одна-то побоялась обратно, не умею… Вы уж, Афанасий Матвеевич, не серчайте.
— Да что ты, Наташа. Для меня удовольствие сплошное, когда люди…
Потом он жарил рыбу, а Наталья готовила подливку: крошила лук, морковь, открывала банки с томатом и, другими специями, которые она привезла в большом количестве.
Наталья молчком поглядывала на старика, потом сказала:
— Трудно одному…
— Привык я.
— Сойтись бы вам с кем. Одиноких женщин разве мало?
— Оно конешно… — неопределенно ответил Афанасий.
— Сегодня с одной познакомилась, на ферме… Ладная такая, степенная. Работает — засмотришься.
«Никак о Шуре», — подумал Афанасий и затаился, вслушиваясь в Натальины слова.
— Тоже одинока, — продолжала Наталья. — С ней бы вам и сойтись, а? Умная, видать, женщина. Вы-то ее знаете, Александрой зовут.
— Как не знать, — тихо ответил старик. — Свои, чай… сельские. — А сам подумал о доярках: «Балаболки, раскудахтались, порассказали…»
— Вот я и говорю: отчего бы вам не сойтись. — Наталья сделала вид, что ничего не знает об отношениях Афанасия и Шуры. Она искренне хотела добра им обоим, потому что видела, как неприкаян старик, как нелегко ему, а стало быть, нелегко и Щуре. — Вдвоем легче жить, — осторожно сказала она.
Афанасию стала надоедать ее навязчивость. Ему бы оборвать ее, чтоб не совала нос куда не положено. Однако резкие обидные слова не шли на ум. Да и как нагрубишь, коль женщина горюет за него, переживает сердечно. Жалеючи его, старается. Афанасий скрыл раздражение и свел весь разговор в шутку.
— Ничего не выйдет, Наташа.
— Почему?
— Для настоящей свадьбы нужны три свахи. Одной мало.
— Три-то зачем? — простодушно отозвалась женщина.
— По старинному обычаю положено. Одна сваха женихова, моя, стало быть. Другая — невестина, которая косы расчесывает. Ну а третья — пуховая.
— Какая? — Наталья удивленно вскинула брови.
— Постельная, иными словами. Которая молодых спать укладывает.
— Наговорите, Афанасий Матвеевич, — смутилась Наталья. — Я вам серьезно, а вы…
— А теперь, ежели серьезно, последи за огоньком, а я, пока жареха спеет, за мужиками съезжу. Проголодались, поди-ка…
7
Отгостевали на выселке все знакомцы и дружки Афанасия.
Иные по разу, иные и дважды наезжали порыбачить, уток пострелять, жили и по одному дню и по неделе.
Оставшись один, Афанасий занялся конопаткой избы. Не думал нынешней осенью заново пробивать пазы, да скукота и одиночество не позволили это дело оставить до грядущих времен.
Неделю почти пробивал щелястые пазы паклей. Смолистая липкая конопать, скрученная в тугой жгут, пружинила, с трудом вгонялась промеж пластин. Целыми днями окрестности односелка оглашались звонкими ударами деревянной колотушки, ошиненной по краям, чтоб не мочалилась вязкая древесина тутовника.
Каждое утро мимо избы проходили доярки. А с ними и Шура.
— Тепло загоняешь, дядь Афанасий? — озорно спрашивала какая-нибудь молодуха.
И Афанасий в тон ей отвечал:
— Некому греть-то старые кости бездому-бобылю. — А сам косил глаза на Шуру и вспоминал Наталью. Чудная, право. Хотела женить Афанасия на его же собственной жене. Да разве Шура согласится. Она и слушать об этом не захочет!
Наступили холода. По утрам, повторяя изгибы берега, на реке серебрились окрайки. Началось леденье. С каждым днем кромки нарастали, сдвигались с обеих сторон реки, сужая проходы, по которым редко когда пробегала дюралевая охотничья шлюпка или прогонистая ловецкая бударка. По бороздине начался ледоплав — шла шуга.
В одно утро Афанасий, по обыкновению проснувшись на зорьке, спустился к реке, пешней попробовал крепость льда и пошагал на ту сторону. Лед гнулся, трещал, из-под ног холодными молниями разбегались серебристо-голубые лучи. Но старик шел уверенно, знал, что перволед как беспородный пес: много от него шума, а неопасно. Страшен весенний игольчатый рыхлолед — рассыпается без предупреждения: ступил на него и уже в майне забарахтался.
В последние дни женщины с трудом пробивались на лодке через ледяные заторы дважды в день: туда и обратно. Потому и порадовался старик, когда испробовал трескучий ледок.
Потом Афанасий прошел ниже по реке, где, одиноко приткнувшись к яру, вмерзла в лед паромная лодка. Пешней он обил вокруг нее лед и в это время услышал женские голоса — к реке шли доярки. Они вразнобой поздоровались с Афанасием и окружили его.
Трезвый вертелся под ногами. Он привык к женщинам и, едва завидя их, спешил навстречу.
— Давайте-ка, бабоньки, вытащим бударку, — скомандовал старик.
— Льдом можно, дядя Афанасий?
— По одной пройдете, — отозвался старик. — А ну, берись…
Они оттащили лодку на взгорок, опрокинули вверх днищем.
— Спротив проруби топайте, да не все вдруг, — предупредил Афанасий, а сам отошел к избе и не спускал глаз с баб, чтоб беда не приключилась.
Доярки ушли, и Афанасий опять остался один. В базу заржал меринок. Старик вывел его из база и спустился к реке.
Сивый помногу и с долгими перерывами цедил сквозь черные изъеденные зубы ледяную воду. Трезвый, улавливая одному ему доступные запахи, рыскал взад и вперед. А Афанасий думал о нерадостной своей доле, о том, что вот и жизнь позади, что остался он одиноким, как черт на болоте, и никому-то не нужным на этом свете. Разве только Сивому…
Студеные ненастные дни шли чередой и были словно близнецы: одни и те же стены, одни и те же хлопоты, скука…
И нынешний день близился к концу. Ненадолго появившееся холодное солнце коснулось ветлового леска, Афанасий подшивал кожей прохудившийся валенок, когда ему почудился испуганный вскрик. Вроде бы — женский. Он прислушался, но на заимке по-прежнему стояла тишина.
Старик орудовал кривым шильцем, протыкал у шва еле приметную дырку и протаскивал сквозь нее верву со щетинкой. Занятие это нравилось Афанасию, потому как успокаивало, отвлекало от грустных мыслей. С наступлением холодов, по вечерам, старик вычинил почти всю свою обувку, получалось неплохо, и он подумывал: а не взять ли в селе на чинку валенки, занять таким образом длинные, полные скуки, зимние дни.
Но тревога, родившаяся в душе от вскрика, не угасала, и шитье не успокаивало. Вдобавок ко всему истошно залаял Трезвый. Тогда Афанасий отложил валенок, прошел в переднюю и, едва дошел до окна, сквозь запотевшее по краям стекло увидел ниже по реке человека в майне.
Вскрик, оказывается, был не обманным, на реке тонул человек, и Афанасий, как был, в шерстяных носках и фланелевой косоворотке, без шапки, сбежал с крыльца.
Пробегая мимо навеса, он вытянул из-под него свежеоструганную доску, изготовленную для ремонта плоскодонки, и тяжело поволок тесину к реке. А сам между тем не переставал дивиться, отчего это тонущий человек не зовет на помощь. Видать, уже ослабел порядком.
Ступив на лед, Афанасий поскользнулся и упал. Пока он поднимался да взял в руки конец доски, женщина (теперь Афанасий ясно увидел, что это была женщина) последними усилиями вскарабкалась на кромку, но лед приглушенно треснул, и она с головой ушла под воду.
У Афанасия перехватило дыхание: все! Теперь-то вода утянет ее под лед. Он даже остановился, но тут же сорвался с места и тяжело затрусил к полынье, потому что увидел над кромкой судорожно вцепившиеся в лед руки, а потом и женщину — удержалась!
И тут он узнал Шуру, а признав, еще больше струхнул: ведь и плавать-то по-людски не умеет. Летом и то боялась глуби, а тут в стужу зимнюю…
Афанасий подтолкнул тесину к майне и на четвереньках, по наледи, подполз к Шуре. Она совсем обессилела и далее не пыталась вскарабкаться на лед. Шура вроде бы и не сразу поняла, чего хочет от нее Афанасий, — смотрела на него безразличными неживыми глазами. Волосы ее оледенели, на ресницах росными каплями светлели бусинки льда.
С великим трудом Афанасий вытянул Шуру из воды и оттащил подальше от майны. Она полулежала на мокром льду, не в силах подняться на застывшие, ставшие чужими, ноги. Старик суетился около, брал ее под мышки, но поднять не смог, а, охая, вздыхая, уговаривал:
— Вставай, слышь-ка, Лександра, застынешь. Пойдем в избу, задрогла небось. Поднимайся, не сиди на холодном-то… И что это тебя понесло одну, остальные где же?
Шура молчала, да Афанасий и не чаял услышать ответные слова, а ласково ворчал единственно для того, чтоб успокоить, увести в тепло. Когда он, поддерживая под руки, наконец ввел ее в избу, от тепла ли или от пережитого, Шура вконец обессилела и осела у порога. Все ее тело, мокрое и холодное, судорожно содрогалось. Видимо, она нахлебалась студеной воды.
Раздев и уложив Шуру в постель, Афанасий поставил на раскаленную плиту чайник и, спохватившись, выбежал из горенки: не дай бог, из доярок кто влетит в готовую майну. Говорил же поутру, чтоб против избы переходили, так нет, понесло ее низовьем, где река летом суводна, а зимой — полыньиста.
Солнце ушло под закрой, заненастило: снежная крупка больно секла лицо. Афанасий стал с подветренной стороны избы, привалился к завалинку и тут дождался доярок. Они не забыли его наказа, прошли по давешней тропке и одна за другой поднялись на яр.
— Шуру пошто одну отпустили? — зло спросил Афанасий.
Женщины, чуя недоброе, притихли, столпились.
— В избе она… было утопла.
Заохали доярки, запричитали и всей ватагой ввалились в избу. Афанасий замешкался, набрал охапку дров и только после этого зашел следом.
После ухода доярок, уже ближе к полночи, Шура впала в горячку, говорила в бреду непонятное. Афанасий подошел к изголовью постели, положил ладонь на ее лоб и покачал кудрявой головой: не иначе как огневица началась. Щеки больной порозовели, и дышала она тяжело, с присвистом, лежала, разметав руки.
В невнятном потоке слов и приглушенных вскриков Афанасий уловил имя Володьки и свое, и немало подивился, что Шура и в беспамятстве обращается к нему. Однако короткая радость тут же сменилась горестной мыслью: вряд ли добрым словом она вспоминает его.
Но и горевание быстро прошло, потому как все думы старика были о ней, своей первой жене, о ее хворобе.
Припоминалось давнее, безвозвратно ушедшее: ватага на Зеленой, по-южному непроглядные ночи, тусклые тоневые огни вдоль берега. Шура в ловецких бахилах, в брезентовой куртке и неизменной зюйдвестке, которую она почти не снимала с головы — смолоду была простудлива. Чуть свежак прихватит али бахилы дадут течь, сразу же огнем горит. Это в молодые-то годы. А в стужу попасть в ледяную воду, да в нынешние ее лета, — тут не то что воспаление схватишь, а и концы, отдашь.
Долгим взглядом с тревогой Афанасий посмотрел на Шуру и почуял жжение в груди: ужели она, самый наиблизкий для него человек, может вот так просто умереть, не сказав ему напоследок ни единого доброго словца, и будет на нем до последнего часа тяжестью висеть вина за все, что случилось промеж ними. О том, что они могут помириться, сойтись и дожить последние годы под одной крышей, Афанасий и не помышлял. Лишь бы сняла с души грех.
Шура застонала, разлепила глаза и прошептала:
— Воды…
Афанасий нацедил из чайника нава́ристый чай, приподнял рукой Шурину голову и поднес кружку к запеклым губам.
Говорят: больная жена мужу не мила. А вот он, Афанасий, с великим радованием ухаживал бы за Шурой, только согласись она остаться с ним. Каждое ее желание исполнял бы, с полуслова, со взгляда понимал бы ее.
Ах, Шура, Шура. Вот лежит она перед ним в боли, а ему мнится, будто его тело горит, его голова раскалывается, его губы запеклись, а во рту жарынь-пекло.
Вот ведь как судьба свела их теперь: в несчастье да в горести.
Еще не светало, когда он вышел из избы. Сивый, заслышав хозяйские шаги, заржал, но Афанасий лишь отмахнулся и проворчал:
— Обожди, Сивко, не до тебя, тут та ко дело…
И засеменил в сельцо за врачихой. Дорогу ночью запорошило снежком. Местами навеяло сугробы. Разгребая кирзовыми сапогами свежую наметь, Афанасий торопился, чтоб застать докторшу дома. В этой торопливости он и не сообразил, что надо бы запрячь Сивого в сани, а не топать пешим туда и обратно.
На полпути ему повстречались доярки, заверещали наперебой, стали расспрашивать о Шуре. Афанасий и ст них отмахнулся.
— Чё галаните? Наведайтесь, посмотрите, — и пошагал дальше.
Шуре к приходу врачихи вроде бы полегчало. Она была в памяти, сама дотягивалась до стакана с водой, по тело по-прежнему дышало жаром. Докторица, соседка Шуры, собралась, не медля ни минуты, едва узнала о беде. А войдя в Афанасьеву избу, заговорила как с близким человеком:
— Ты что же это, Александра Марковна, расхворалась? Где болит-то?
Она долго выстукивала больной грудь и спину, прослушивала сердце и легкие, ставила градусник, щупала пульс.
— Сейчас мы температурку собьем. Уколем разок пенициллином, а вечерком еще наведаюсь.
— Домой бы мне, — прошептала Шура, — разве находишься в даль эдакую.
— Вот это, Александра Марковна, совсем невозможно. Полнейший покой, никакого движения. А насчет меня не беспокойся. Пешком не дойду, так на машине доставят.
После ухода врачихи Афанасий поставил на табурет у кровати кружку свежей окуневой ушицы и, чтоб не смущать и не огорчать Шуру своим присутствием, вышел. Надо было напоить Сивого, заложить в ясли сенца и почистить баз.
Проходя мимо собачьей конуры, сунул Трезвому ломоть пшеничного подового хлеба, похвалил:
— Смикитил-таки, ушан… Без тебя Шуре бы крышка.
Трезвый, роняя слюну, прикусил лакомно пахнущий срезок хлеба и лениво затрусил за избу, на солнцепек. А старик занялся застоявшимся меринком.
Под вечер он запряг Сивка в сани-розвальни и подался в сельцо за докторицей. В морозном безветрии сверху крупными хлопьями падал пушной снег. Сивый лениво переступал ногами. Шага́ла он уже был неважный, и Афанасий не понуждал его к спешному ходу.
Старик отвез врачиху обратно потемну, а когда вернулся, Шура спала неглубоким будким сном: постанывала, ворочалась. Чтоб не мешать ей, он остался на стряпной половине, присел у окна и, не зажигая лампы, затих, полный дум и воспоминаний. Конечно же, и думы эти и все воспоминания, порой приятные, а чаще горестные, были связаны с Шурой. Но главным образом в памяти всплывала та ночь, когда он заявился к Панкрату. Кум был из своих, сельских, прошел в городе какие-то краткосрочные курсы и фельдшерил чуть ли не два десятка лет. Когда у Афанасия и Шуры народился Володька, они покумились с Панкратом и его женой.
Панкрат на селе пользовался авторитетом, потому что в те годы, когда после курсов вернулся домой, был он единственным специалистом из своих, сельских, и пользу своими познаниями приносил всем немалую.
Афанасий ценил дружбу и кумовство с ним. И до той проклятой ночи жил с кумом душа в душу. А потом не было на белом свете человека, которого Афанасий так возненавидел бы. Лютая ненависть к Панкрату угнездилась в его сердце, живет она там и поныне, хотя кума давно уже отнесли на сельский погост и враждовать, стало быть, уже не с кем.
Так вот, заявился Афанасий к Панкрату и сказал:
— Шуру, кум, спытать надо.
Панкрат не понял, в каком смысле куманек его дорогой решил испытать жену, а потому с улыбкой спросил:
— Это как понимать?
— Гуляет она будто, ну и… — Афанасий замялся.
— Ты чего надумал, Афанасий? — подивился Панкрат.
— Сходил бы… попытал ее, а? — набравшись духу, высказал он беспутную свою просьбу. — Как друга прошу, Панкрат.
— Ты в своем уме? Дай-ка я тебе градусник поставлю.
— Не балани, кум. До шуток ли мне… — осерчал Афанасий.
— Ты серьезно? — изумился Панкрат, сообразив наконец, что́ от него хотят. Он в крайнем удивлении посмотрел на своего кума и осевшим голосом сказал: — Или прекрати, или убирайся…
Афанасий понял, что с кумом кашу не сваришь, да и засомневался в своем поступке, а потому предложил:
— Ладно, кум. Давай-ка стаканы.
— Во, это другой разговор, — обрадованно засуетился хозяин дома. — Сей же час мы организуем что-то закусить.
Когда хмель ударил в голову, Панкрат усмехнулся, покачал головой и спросил:
— Как же ты, кум, надумал такое, а?
— Не могу больше, Панкрат. Сходи… Успокой ты душу мою.
— Не дело, кум, затеял. Надо же учудить такое: к своей бабе чужого мужика подсылать. Ну а если, к примеру, не сдержусь… — продолжал он пытать кума.
Афанасий дико вскинул на него пьяные глаза, было уже раскрыл рот, чтоб матюкнуться, но сдержался.
— Я те, кум, ровно себе самому доверяю.
Дальше — больше. Осушили кумовья литровую бутылку, затуманили головы. А известно: вино вину творит. Еще и так говорят: пьяному море по колено.
Кончилось дело тем, что Афанасий остался в Панкратовой избе, а Панкрат пошел куму пытать.
Его не было долго. Афанасий затравленным волком метался по горнице; не выдержав, выскочил за калитку, спугнул на улице какую-то женщину. Та, ойкнув, бросилась прочь, а он заматерился и вернулся в Панкратову избу.
Панкрат заявился близко к полуночи. Вошел в горницу и отвел глаза от кума, чем сразу же насторожил его. Заглядывая Панкрату в лицо, Афанасий ждал тех нескольких слов, которые сейчас должны были решить все.
— Ну?
— Чего — ну? — вскинулся Панкрат. — Спытать вздумал, черт мордастый. Шура… святая! И-их, свинья беспородная!
— Врешь! — Афанасий грохнул кулаком о стол.
Панкрат налил в стакан, молча выпил, стер рукавом жгучие капли с губ.
— Ты че пристал?
— Скажи… было что, а?
— Было… Эх, таку бабу потерял! — Панкрат зло сплюнул на пол и пошел в спаленку.
Завихрилось в пьяной Афанасьевой голове, а слова кумовы вошли внутрь отравой. И уж не мог сдержать себя он, оттолкнул от себя стол и хлопнул дверью.
Натыкаясь в темени на кочковатые травы, он пехом топал к низовой излучине реки, где у молодого ветлянника, в укромной заводи, одиноко дожидалась его ловецкая бударка.
А вскорости по сходной цене он приобрел хуторок и ушел из дома.
Из передней послышался затяжной кашель. Афанасий очнулся от тягостных воспоминаний, но, как всегда, эти воспоминания настолько взбудоражили его, что он был не в силах оставаться в избе и вышел во двор, в сердцах взялся за топор и при рассеянном бледном свете луны начал мельчить на полешки одну жердину за другой. Поостыв малость, он укорил себя: видать, нрава дурного ничем не изменишь, — и пошел проведать Шуру.
Она лежала на боку, спиной к стенке и наблюдала, как Афанасий запалил керосиновую лампу. Затем он залил в самовар воды, разжег в жаровне огонь и приладил прогоревшую местами трубу в печную отдушину. И только после того, как сделал все необходимое, вошел в переднюю и подсел у изножья кровати.
— Полегчало?
— Колотье в груди не проходит, — неохотно отозвалась она.
— Отлежишься — и пройдет.
— Болезни дашь воли, так помереть недолго.
— Оно конешно… Но и спешить тоже — ущерб здоровью. Лежи.
Так они переговаривались некоторое время. Шура из под прикрытых век смотрела в лицо Афанасию, а он, чувствуя ее взгляд, блуждал глазами по горнице, не в силах задержать взор на ней.
— Бирюком живешь, Афанасий. — Жалость проскользнула в ее голосе, и она отвела от него глаза.
— Приходится. Что тут поделаешь, — вздохнул Афанасий.
— Продал бы хутор-то да купил землянку какую… хватит тебе одному-то.
— Обойдусь. Видно, тут я и помирать буду. — Он по-стариковски тяжело поднялся и, ссутулившись, ушел из горенки, загремел в запечье самоварной трубой.
Пока случай не свел их, Шура как-то не задумывалась, что Афанасий уже совсем старик, а по домашности ему все приходится делать самому — и варить, истирать, и полы мыть.
На ногах-то еще полбеды. А вдруг сляжет, а то и совсем обезножеет? Мать его полтора года плашмя лежала — ноги отказали. Ну, как и Афанасий в нее? Как тогда быть?
Впервые за многие годы в ее сердце пробудилась жалость к бывшему мужу. Но жалость эта недолго владела ею, ибо и у Шуры жизнь сложилась не легче. Одна как перст, без помощи мужа, воспитала Володьку, а потом и его не стало. Всю мужскую работу по хозяйству на себе вынесла. Никому не ведомо, сколько мучений приняла, сколько слез выплакала в одиночестве.
Сватали ее не раз, и первым предложение сделал овдовевший вскорости после того случая Панкрат. Отказывала ему Шура. И не потому, что он не нравился ей. Панкрат, коль уж честно говорить, мужик видней Афанасия, да и при должности…
В молодые годы Шура, бывало, заглядывалась на него. Но отказала. Самой хотелось сына поставить на ноги, а после Володькиной смерти горе не позволило. Так вот неприглядно и минула жизнь.
А все Афанасий виною. Надо же учудить такое. Она вначале и не сообразила, что нужно Панкрату в столь поздний час. И немало удивились, когда он, пьяно улыбаясь, попытался обнять ее.
— Ты че, кум?
— Ку́ма кума́ свела с ума, — пьяно хохотнул он и сжал ее в объятьях.
— Не надо, кум, — попыталась она урезонить Панкрата. — Иди-ка выспись. — А сама все пыталась вырваться из его цепких рук. — Слышь-ка, пусти.
Но Панкрат был уже в том состоянии, когда разумные слова не доходили до сознания. Близость здоровой красивой женщины, которой он всякий раз любовался, лишила его рассудка, и он крепче обнимал ее, норовя поймать губами ее губы.
— Уйди, — вскрикнула Шура, — Афанасию расскажу вот…
Правду говорят, что у хмельного рот нараспашку, а язык на плече.
— Че ему говорить, он знает, — в возбуждении сказал Панкрат и, не сумев остановиться, выболтнул: — Афанасий меня прислал.
— Неправда, кум, он на лову.
— Хе, на лову, — усмехнулся кум.
Шура затихла, сжавшись в комок, но вдруг рванулась к двери. Обернувшись к опешившему Панкрату, сказала:
— Погоди, я сейчас… — и скрылась за дверью.
Панкрат кинулся было следом, но Шурины слова остановили его. В них он услышал надежду.
А Шура прибежала к Панкратовой избе и все пыталась заглянуть в щель ставни, когда из дома кто-то вышел и остановился у калитки. Шура сразу признала мужа и побежала прочь, но Афанасий, видать, не узнал ее и вернулся в Панкратову избу.
Все дальнейшее произошло как в бреду. У нее лишь была злость на мужа. И обида. И в тот вечер, и после, ее мучил и не давал покоя один вопрос: как Афанасий смог подослать кума, как дошел до такой мысли?
Спустя много-много лет, сейчас вот, по воле случая оказавшись на хуторе, с глазу на глаз с бывшим своим мужем, Шура, прикинувшись спящей, подолгу наблюдала за ним — состарившимся, уже чужим, и все собиралась спросить его о том давнем, что пора бы уже и забыть и что никак вот не забывается и, видимо, не забудется до последнего часа, но так и не решилась спросить. К чему будоражить память и свою и его, одинокого, наказанного самой жизнью…
На исходе четвертого дня врачиха порадовала: выздоровление шло успешно. Шура почувствовала облегчение еще с утра, попросила:
— Отвез бы домой, Афанасий.
Старик помрачнел лицом и проворчал:
— Дозволят как, отвезу.
Он и радовался выздоровлению Шуры и пасмурел при мысли, что вот скоро она перекочует в село, а он вновь останется один-одинешенек. А одинцу, известно, и в раю тошно, одинокий и у горшка с кашей загнется.
8
На другой день Афанасий отвез Шуру домой. Стояла солнечная натишь. Все вокруг — и поле, и лес, и река — искрилось от обилия снега. Сивый еле тащил сани через сугробья.
Шура откинулась спиной к передку саней и озиралась по сторонам с тихой радостью: и мороз, и снега, и эта белизна вокруг были для нее до удивления неожиданными.
Афанасий всю дорогу хмурился, не проронил ни слова. И Шура молчала. Лишь когда взвизг полозьев затих у ворот ее дома, она сказала:
— Зайдем, погреешься.
Он вошел к ней. Не раздеваясь, посидел малость в прихожей. Шура сбросила с себя фуфайку, пуховый платок и без особой настойчивости бесцветным голосом предложила:
— Раздевайся, самовар поставлю.
— Поеду, — Афанасий понимал, что его присутствие создает лишнее беспокойство Шуре, заботит ее, а потому решил уехать. Надвинул на голову ушанку из заячьего меха и, прежде чем навсегда покинуть избу, попросил:
— Ты уж того… Лександра, не держи зла на меня.
Шура вскинула на него тоскливые глаза и тихо ответила:
— Ладно, Афанасий, чего там… Дело давнее… Какое уж зло… Иди.
Прошла с того дня неделя. Любую работу Афанасий исполнял безо всякого удовольствия, только потому, что ее нужно было исполнить. Даже подледный лов окуня на блесну, в прежние годы столь усладный и азартный, ныне не интересовал старика. Он, возможно, так и не собрался бы поблеснить, да нужно было что-то варить, и ему пришлось постоять на восходе солнца у проруби на Зеленой, подергать ярко размалеванных колких окуней.
Зимние ночи тянулись однообразно, в тоскливом одиночестве. Это одиночанье стало невыносимо после Шуры. В первые дни Афанасию чудилось, что она все еще в горнице, стоит пройти в переднюю — и можно перекинуться двумя-тремя словами, посидеть около. Но умом он понимал, что все это лишь вымысел, что он, как и прежде, один в избе, на заимке, да и на всей земле.
Когда отвез Шуру домой и уходил от нее, думал, что никогда больше до последнего своего часа не ступит его нога в ее дом. Но вот прошла неделя, и Афанасий стал подумывать: а не наведать ли ее? И хотя от доярок узнавал, что Шура поправляется и скоро выйдет на работу, он с каждым днем и часом укреплялся в мысли, что ему непременно надо навестить ее.
Исполнил бы он свое желание или нет — трудно сказать. Но однажды пробудился он ото сна еще затемно. Дожидаясь свету, лежа вспоминал сон: он будто молодой, только поженился на Шуре. Но не тоня ему явилась во сне, а дорога меж сельцом и районным городком. Меринок тащит товаристый возок, крытый брезентом. А Шура на возу, улыбается, тянет к нему руки, что-то возбужденно говорит…
Поначалу Афанасию приятно было вспомнить сон, ту давнюю, молодую и радующуюся Шуру. Но потом подумалось, что и дорога и конь во сне — к несчастью, а то и к смерти. Так мать разгадывала сны.
И едва он так подумал, взвыл Трезвый, да так печально и тревожно, что у Афанасия заныло сердце, и такая припала к нему тоска, что он не вынес бездельного лежания и, одевшись, вышел во двор.
Морянило. По реке мело снежную понизовку. У избы и базов навеяло ребристые сугробы.
Почуяв хозяина, Трезвый было стих, но спустя короткое время вновь завыл, протяжно и заунывно.
Старик определил, что Трезвый тоскует на базу, куда с наступлением холодов он забивался на ночь. Афанасий прошел туда и увидел Трезвого. Широко расставив передние лапы, он задумчиво уставился в землю и не переменил позу даже при появлении хозяина.
— Ну что ты? — обеспокоенно спросил Афанасий. Он еще не знал о постигшей беде, но тревога уже поселилась в его сердце. Подумал, что и сон, и этот вой — неспроста. Так оно и было.
В эту ночь пал Сивый. Видимо, он испустил дух совсем недавно: тело еще не остыло, но суставы уже окоченели и ноги затвердели негнущимися жердинками.
Афанасий чуял близкий конец меринка: последние дни сено в яслях оставалось нетронутым. Старик раза два выносил ему теплый пшеничный хлеб, но Сивый лишь обнюхивал духовитые ломти и понуро опускал голову.
Старик зарыл Сивого на краю низкодола, густо-зеленого в летнюю пору, а сейчас заснеженного и пустынного. И пока он в молчании исполнял эту скорбную работу, Трезвый — рослый сеттер-водолаз — сидел и скулил по-щенячьи, беспокойно перебирая передними лапами.
— Так-то вот, ушан, — проговорил старик, поглаживая лопоухую голову Трезвого. — Нет теперь Сивка, нет…
Всю следующую ночь Афанасий не сомкнул глаз. У порога, в избе, на мешковине чутко дремал Трезвый. Каждый шорох и даже тяжелый вздох старика будили кобеля, и он, склонив набок голову, удивленно смотрел на хозяина, а затем опять засыпал, уложив голову меж лапами.
Утром Афанасий пошел к Шуре — наведать ее, хоть часок посидеть у нее, поговорить.
Не прогонит же она его…
РАССКАЗЫ
СТАРАЯ ДОРОГА
Проселочное трехтропье — две крайние выбиты колесами телег и арб, а средняя лошадьми — соединяло наше селенье с районным центром Марфино. Дорога петляла, взбегала на глинистые, в редкой щетинке голубого полынка взгорья, ныряла в камышовые низины, где тисками сжимали ее сырые непролазные крепи. А то выхлестывалась на берег Конной, извивалась по разнотравью летом и жнивью между стогами пронзительно пахучего сена — осенью.
Река Конная, когда-то полноводная, в те годы ужа начала мелеть — на полпути меж селеньем и райцентром понаметала песчаные вперемешку с ракушей шалыги. Этому колену реки кто-то дал меткое название — Кочки. Оно бытует и поныне, хотя вместо меляков давно уже поднялся остров, а сама река пробила в сторонке узкую приглубистую бороздину, и шалыг-кочек, стало быть, нет и в помине. Из-за перекатистых Кочек пароход из города к нам не доходил. Ездить на ловецких бударках до райцентра по норовистой реке занятие не из приятных, а оттого проселочная трехколейка была единственной, что связывало нас с внешним миром.
Позднее насыпали шоссейку, прямую как стрела, но старая дорога, уже чуть поросшая подорожником и лебедой, упрямо и долго еще жила своей жизнью. Лишь в низкодоле, между селеньем и Старо-Маячненским бугром, где рано выступало весеннее половодье, она сливалась с шоссейной насыпью, да еще раз — на половине пути у перекидного Васюхинского мостика. В остальном же шла стороной, больше жалась к берегу реки и, выдерживая характер, круто брала от мостика вправо, целила на кирпичный завод и мимо выбранных в глинистых буграх карьеров и огромных, крытых камышом, лабазов приводила путника к верхнему концу Марфина, к забугорью, тогда как шоссейка очень удобно вплотную подходила к центру, где размещались все положенные по рангу учреждения, небольшой базарчик и главная достопримечательность райцентра — пристанская баржа с палубными надстройками: касса, жилье для пристанщика и ожидалка для пассажиров.
Однако строить дороги в те далекие годы только еще учились, а потому вскоре шоссейная насыпь превратилась в сплошное ухабистое полотно. Ездить по ней стало мукой, чем и объясняется живучесть старой проселочной дороги.
Чуть ли не полвека назад, когда мне было немногим более четырех лет, отца послали работать в село. Отец присмотрел квартиру — просторную половину сельской избы — и привез нас. Так мы оказались в крайнем к морю ловецком селении, которое впоследствии стало для меня самым дорогим местом на земле. Из того давнего времени помню лишь, как нас с сестрой, из-за того что не было теплой одежды, уложили на что-то мягкое поверх возка, укрыли ватным лоскутным одеялом и, чтоб мы не свалились под колеса, увязали арканом. Так мы и тряслись на телеге до села по кочкастой мерзлой зимней дороге.
Ее-то, конечно, в тот раз я не запомнил. Впервые старая дорога вошла в мою память несколько позже, когда я уже ходил в первый класс.
Отец после трехлетней беспрерывной работы наконец-то получил отпуск, и мы вчетвером (отец, мать и мы с сестрой) поехали в город навестить родню. До Марфина добирались на подводе, от райцентра — на стареньком кривобоком двухпалубном пароходике «Ян Фабрициус», который позднее не раз переименовывали: то в «Штиль», то в «Александр Пушкин», то в «Зою Космодемьянскую»…
Пароходик еле полз, подавал оглушительные гудки встречным судам, пыхтел машинами, шумно шлепал деревянными плицами колес. Шел он до города более суток. А мы с сестрой, набегавшись по палубе, садились возле отца в каюте и слушали патефон, который отец прихватил с собой. Патефоном мы гордились, да и не могло быть иначе, потому как на все наше село он был один-разъединственный.
Отец любил в редкие свободные дни, сидя у окна, заводить патефон. У распахнутых окон останавливались сельчане: ребятня, бабы и мужики. Бабы посмелее заглядывали в окна, трогали шершавую поверхность дерматинового ящика, удивлялись.
А отец отдыхал душой. Это не была блажь подвыпившего человека. Он был большой трезвенник. Лишь по праздникам да редко с большого устатка он позволял себе стопку водки. А уставал он зверски. Пекарня его дымилась с темна до темна: он пек хлеб на три села и множества ловецких бригад, работавших в многочисленных волжских протоках ближе к морю, и часто приходил домой за полночь, так что мы редко видели его дома. Но когда выдавался свободный денек или один-разъединственный час, он садился к патефону.
Уже потом, когда я подрос, понял, что отец не просто был любитель крутить патефон. Нет, он любил музыку, да еще какую: в ящике самодельного стола были записи из Чайковского и Глинки, Оффенбаха и Сен-Санса. Позже я понял, что мое неравнодушие к музыке, идет от отца, с тех давних детских лет. И — к стихам, потому как в отцовском собрании был и Пушкин:
Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм…И Маяковский:
Я крикнул солнцу: «Дармоед! Занежен в облака ты, а тут — не знай ни зим, ни лет, сиди, рисуй плакаты!»И Шекспир… Как сейчас помню монолог Отелло перед дожами и сенаторами:
…Меня благодарила И намекнула: кто ее полюбит, Пусть про себя такое же расскажет — И покорит ее. Открылся я. Она за бранный труд мой полюбила, А я за жалость полюбил ее.И когда в конце Отелло говорил заключительную фразу: «Вот вся волшба, что здесь я применил», я облегченно вздыхал и тихо радовался судьбе мужественного и сурового мавра.
О патефоне я подробно рассказываю оттого, что благодаря ему я так пронзительно и на всю жизнь впервые запомнил старую дорогу до Марфина.
Мы возвращались из отпуска. И снова добирались от райцентра до дома на телеге. Пароход запоздал, и мы выехали затемно, а к Васюхинскому мосту дотянули близко к полуночи. По обочинам дороги, пугая меня, шумела камышовая крепь, где-то вдали, за ней, завыли волки. Сивый старый меринок пугливо заржал и беспокойно запрядал ушами. Ночь была полнолунная, и я видел все до подробнейших мелочей. Взрослые — отец, мать и возчик, казалось, не обращали на происходящее никакого внимания. И лишь когда впереди прорисовалась темная полоска кустов краснотала вдоль Васюхинского ерика, отец сунул руку в карман и вынул что-то холодно заблестевшее на лунном свете.
В те годы на дорогах все еще пошаливали. И недобро говорили про Васюхинский мост: иногда возле него путника встречали неизвестные, грабили… Весь напружинившись, в холодном поту, я со страхом видел, как приближается роковое место, как матово отсвечивают гладкие перильца моста… Все мы всматривались вперед, когда неожиданно позади нас кто-то скрипучим и немолодым голосом спросил:
— Кто такие?
Я вздрогнул и, обернувшись, увидел на дороге в десяти шагах от нас верхового. Возчик в растерянности натянул вожжи, и меринок остановился. Так в молчании прошло некоторое время, дока отец неузнаваемым голосом прокричал незнакомцу:
— А ну давай-ка поближе… — И поднял руку. В ней опять что-то блеснуло, и это, видимо, приблизило развязку. Незнакомец тронул лошадь и скрылся в кустах, а мы двинулись дальше и миновали злополучный Васюхинский мост. Проезжая его, возчик постукал кнутовищем о перильца и озорно прокричал:
— А ну, кто там, выходи… — Он засмеялся от своей храбрости, а спустя малое время спросил отца: — Откуда это?
— Что? — не понял отец.
— Револьверт-то? Или в городе купил?
— Какой там револьвер… Ручка от патефона!
Взрослые засмеялись, и смех их успокоил меня.
Школа у нас была четырехклассная. И потому, когда я закончил ее, меня отдали учиться в Марфино. По роковой случайности то был первый год воины. С лета до начала осени она немало перепутала в привычной жизни: много мужиков, и молодых и старых, ушло на фронт.
У изначалья дороги на Марфино за околицей села ревела толпа: рыдали солдатки, плакали дети. По старой дороге на запад уходили мужики. Уходили легко, с прибаутками, лукаво поругивая баб, уверенные в легкой победе, еще не зная, не ведая ни сроков, ни тягот новой войны.
А женщины, и тоже разные — и в возрасте и совсем еще молодицы — остались за них на рыбачьих лодках тянуть нелегкую ловецкую лямку.
А к концу лета пришло в село несколько похоронок: то в одном, то в другом конце села вдруг взрывался, дикий вопль и матери наши шли на него, заранее зная, что там стряслось. Людей тогда уже по-серьезному коснулись тяготы и беды предстоящего четырехлетья. Смерть и голод навестили наше селенье, покорежили сложившийся столетьями сельский уклад.
В начале сентября мы пошли учиться в райцентр, но не прежней оравистой ватагой, как это было в четвертом классе, а лишь втроем: я, Васька Павлов, пухленький, чуть заикающийся, да коренастый крепыш Андрейка Александров из соседнего сельца Маячное. Остальные побросали школу, рассчитывая через годик с окончанием войны и началом лучшей жизни наверстать упущенное. Но война затянулась и хорошая жизнь не наступала. Так и остались многие мои сверстники с четырьмя классами. После войны им тоже было не до учения.
А война кроме похоронок и извещений о пропавших без вести, что было равносильно гибели, кроме писем из госпиталей от покалеченных и тяжело раненых, кроме голода и прочих лишений преподносила неожиданное, оборачивалась омерзительнейшей стороной.
По селу прошел невероятный слух, которому труднее было поверить, чем настоящему снегу средь лета: с фронта сбежал один из наших сельчан и скрывается в камышовых крепях дельты. Кто-то видел бегляка на ночных улицах села, кто-то нечаянно напоролся на него в глухом дальнем ильмене, куда заехал набрать чилима и засушить его впрок, кто-то… Поначалу отказывались слухам верить, потом же в село приехал какой-то районный начальник в форме, вызывал людей в сельсовет, о чем-то говорил, что-то спрашивал. И тут выяснилось, что никто толком ничего не знает. Но посла отъезда районщика никто не сомневался, что слухи не пустые. В том, что это не наговор, мы (Васька Павлов и я) вскоре убедились сами.
Осенним воскресеньем с туго набитыми продуктами зимбелями за спиной мы тяжело топали по старой дороге. Шли не спеша, потому как до захода солнца оставалось не меньше часа и мы дотемна успевали дойти до Марфина. Чуть ли не через каждую версту мы стаскивали с себя тяжелые ноши и пока плечи отдыхали от веревочных лямок, мы лежали в траве, кувыркались или же, приметив незнакомую травинку или букашку, рассматривали их. В один из таких привалов вблизи от Васюхинского мостика Васька, пытавшийся стащить с меня ношу, вдруг забыл о лямках и склонился над дорогой.
— Ты чего там? — нетерпеливо спросил я его. — Ну, снимай же…
— Глянь-ко, — Васька нагнулся и поднял с дороги маленькую фотокарточку. — Это он, а?
Всмотревшись, я тоже понял, что это он. С крохотной фотокарточки с угловым срезом спокойно смотрел на нас… дезертир. Это было невероятно. До сих пор я не могу объяснить себе, как эта фотокарточка, вырванная из какого-то документа, оказалась на той дороге и как мы заметили ее.
Но в тот миг было не до вопросов и сомнений. Мы пугливо оглянулись по сторонам и, забыв про отдых, заспешили в Марфино. И конечно же, без всяких привалов.
Проходя мостик, я вспомнил поездку в город и отца с патефонной ручкой. И суеверный страх перед Васюхинским мостом вновь пробудился во мне.
В середине зимы оба мои товарища тоже оставили школу, и я один после второй смены, пугливо озираясь в ночи, топал в субботние дни домой. Ночное безмолвие и бездна крупных низких звезд давили на меня, и я физически, каждой клеткой ощущал свое одиночество. И оттого становилось тоскливо.
Приходил я поздно. У околицы села очень часто меня ждала мать. И по тому, как, приметив меня в темноте, она поспешно бросалась навстречу, обнимала меня и вела по улице к дому, я понимал, как ей непросто со мной… И я по сей день не перестаю удивляться, что она находила в себе силы отпускать одного, а потом вот так ждать у околицы, вглядываясь в тьму дороги. В мыслях рисовались всякие страсти, которые могли случиться с ее сыном, но она надеялась, что ничего такого с ним не произойдет.
Я, конечно же, молчал, когда не́что случалось. А приключения выпадали на мою долю. Однажды, едва я миновал Васюхинский мостик и дошел до широкой балки-низины, мне повстречались волки. В кромешной тьме, еще больше загустевшей в камышовой крепи, стеной стоявшей по обочине дороги, поначалу увидел я два желто-зеленоватых огонька. Стояло бесснежье, и оттого они звездочками мерцали в низине балки. Я стоял, очарованный этим виденьем, и не вдруг дошло до меня, что это волчьи глаза. Опасность всю я понял, когда чуть в сторонке из-за камышового колка открылось целое скопище фосфорических светлячков. Они сумбурно перемещались, и эта игра блуждающих огоньков завораживала, вызывала непонятное любопытство и несколько глушила страх.
От отца я был немало наслышан о волках, знал, что встреча со стаей зимой, во время волчьих свадеб, очень опасна, и потому состояние мое было ужасное. Но знал я и другое: стая самцов в полном подчинении у волчицы, и если она не тронет, то и остальные уйдут. Потому-то я и смотрел на те два огонька, что застыли чуть в сторонке и ближе, почему-то решив, что это глаза волчицы.
Сколько длилась эта встреча, я не могу сказать. Мне она показалась вечностью, в конце которой два огонька исчезли в зарослях, а вслед за ними будто растаяли и остальные. И тут я рванул во всю прыть в сторону села. Бежал оглядываясь, не веря удачному избавлению, не чувствовал ни ног, ни усталости.
Мать на околицу еще не вышла, потому как добежал я до села раньше времени и мне удалось несколько отдышаться и успокоиться. Оттого-то никто дома и не узнал о случившемся.
В шестом классе выпало на мою долю большое облегчение. Мой товарищ Николай Зайцев устроился посыльным на почту и через день верхи на колхозной коняге привозил почту в райцентр и забирал полную сумку газет и писем для сельчан. Каждую субботу я видел в классное окно, как он неспешно подъезжал к нашей школе, Привязывал коня у калитки школьного двора и, сидя на рундуке крыльца, степенно ждал, когда закончатся уроки.
Был Николай на год старше меня, с крупными чертами лица, ростом вымахал в косую сажень. Медлительный в разговоре и движениях, он выглядел намного старше своих четырнадцати лет и представлялся мне невероятно сильным. Едва раздавался звонок с последнего урока, я срывался с парты и бежал к нему. Николай широко улыбался, первым садился на лошадь, подставлял свою ногу, и я, опираясь на его ступню, как на стремя, легко взбирался на спину коня, устраивался позади моего товарища.
Жил Николай с матерью и отцом, милыми добрыми людьми. Я любил бывать у них, смотреть, как дядя Иван, отец Николая, ловко и проворно сучил дратву, нарезал остро пахнущие смолой мелкие сосновые гвоздики для сапожного дела, подшивал валенки, прилаживал набойки на старую разношенную кожаную обувь. Тетя Нюра, маленькая, сухонькая, уже в годах, женщина, суетилась тут же, у огромной русской печи, непрестанно рассказывала сельские новости, услышанные на сепараторном пункте, своеобразном сельском бабьем штабе, варила, жарила. Время было голодное, но Николаева мать умудрялась каждый раз сготовить что-либо вкусное из картошки, тыквы, сухих плодов дикого чилима и корневищ чакана. Меня всегда поражала ее подвижность, доходившая до суетливости. Она, как мне казалось, видела свое призвание в занятии домашним хозяйством, пыталась во всем угодить мужу и сыну.
— Иван Петрович, — певучим ласковым голосом спрашивала она мужа, — тебе что на обед — рыбу пожарить или кашу чилимную? А тебе, сынок?
— Надоел чилим-то, — неохотно отзывался Николай. — Ты, мам, помои выплесни на зады.
Мы уже знали: Николай сейчас возьмет ружье и будет стоять у щелки в заборе, когда на всякие кухонные отбросы слетятся прожорливые вороны и, выждав удобный момент, выстрелит в стайку. После этого он приносил с десяток птиц, бросал у ног матери и просил:
— Свари, мам. Мяса хочу.
Тети Нюра поначалу сердилась на Николая, отказывалась исполнить его просьбу, но понимала, что пустые щи да каша из чилима недостаточно питательны для сильного крупного организма. Да и Николай резонно недоумевал:
— Грачей едят, а ворон отчего нельзя? Вари, мам. Что летуче, то и едуче.
Раз я застал Николая за занятием не совсем пристойным и возмутился:
— Разве можно чужие письма читать?
Он нисколько не смутился. Лишь приложил указательный палец к губам: молчи, мол. Свернув солдатский треугольник, сказал тихо:
— Не шуми, мама услышит. Садись ближе, че скажу.
Дело было летом, в тесной глинобитной мазанке, где хранилась у Зайцевых всякая хозяйственная утварь — лопаты и вилы, связка сетей, кадушки дли засола капусты и другие необходимые в деревенской жизни предметы.
— Ты помнишь Жумбая, летчика?
Как же я мог не помнить знаменитого Жумбая, первого летчика из нашего села! За год до начала войны село наше было взбудоражено невиданным событием: за бугром на равнине приземлился первый настоящий самолет. И управлял им не кто иной, а сам Жумбай. Когда ребятня оравистой толпой окружила самолет, Жумбай уже вылез из кабины и, стоя на глинистой земле, раскосо широко улыбался. И из села впритруску спешила к нему старая сухонькая казашка — мать Жумбая.
Не знаю, где работал Жумбай, кто разрешил ему посадить свой самолет у неотмеченного на картах селенья, но Жумбай прилетел, чтоб навестить свою мать, о чем-то ласково говорил с ней тут же, возле самолета, и улетел вскоре, даже не заходя в родной дом. После того случая каждый самолет, пролетавший над нами, мы принимали за тот, на котором летал Жумбай, приветливо махали ему вслед.
Николай меж тем говорил:
— Жумбай месяца два уже ничего не пишет. А тут — письмо его матери. Гляжу, почерк незнакомый. Вот и вскрыл конверт. Товарищи Жумбая пишут, что с ночного задания не вернулся. И ничего о нем не известно. Но надеются, что найдется Жумбай, потому как парень он геройский… А ты говоришь, чужие письма нельзя читать. Будто без тебя не знаю. Только Жумбаевой матери сразу вот так не отдашь. Надо что-то придумать. Я же ее все время успокаивал, мол, почта военная или теряется или задерживается. А тут вон как. Или вот на днях тоже…
Милый Николай! В ту мальчишескую пору я не до конца понимал его чуткую душу, его боязнь сделать людям больно, желание смягчить смертельные удары судьбы. Кто-кто, а Николай понимал, каково матери солдата, ежели нет от него вестей: трое старших братьев Зайцевых — Александр (до войны он работал председателем колхоза и ушел на фронт с этой должности), Яков и Василий воевали с фашистами. И только от одного, кажется Василия, приходили короткие, нацарапанные в перерывах меж боями солдатские письма-треугольники. Об Александре и Якове Зайцевы ничегошеньки не ведали.
Таким был Николай — мой лучший друг тех далеких лет. Как сейчас помню его ласковую улыбку, мягкий голос, он заботился обо мне, как о своем меньшом братишке.
В начале каникул он спросил!
— Чего будешь делать летом?
Я неопределенно пожал плечами.
— Ребята крыс бьют, неплохо зарабатывают.
В тот год, то ли в предчувствии голода, то ли по иным другим причинам, окрестности села были наводнены полчищами крыс. Бессчетными стаями, спасаясь от обильного и затянувшегося наводнения, они копошились на деревьях, на кустах белолоса, на пнях, торчащих из воды, камышовых завалах, сорных наносах. Сельские пацаны организовали настоящий промысел: заготавливали шкурки, сушили их, гвоздиками расправив на чем попало — на досках, ящиках, тесовых заборах, стенах избяных срубов.
Мы сделали пики (деревянный стержень с остро наточенным гвоздиком на конце) и в свободные для Николая дни на плоскодонке отправлялись на промысел. Через неделю у нас накопилось несколько сот шкурок. А еще через неделю отправились на лодке в Марфино, сдали добычу на пушную базу и сказочно (конечно, по тем трудным временам) разбогатевшими вернулись домой.
Воды вокруг было — море разливанное: пешим ходом или верхом на коне и шагу из села не ступить. Мы добирались до Марфина на лодке-плоскодонке. И опять же — по старой дороге, потому как Конная в половодье становится неуемной и против воды лодку и версту не прогонишь — обезручишься. А по стоячим полоям ехать на лодке любо-дорого: вокруг зеленья́ непроглядные, и дорога средь них петляет из села и до села. Наработался шестом, притомился — не беда, передохнуть можно, выкупаться в прогретом солнцем мелководье и снова в путь.
Зато обратно по Конной — одно сплошное удовольствие: успевай только веслами подправлять лодчонку.
Всякое у меня связано со старой дорогой — и доброе и худое. Последнего, пожалуй, больше, но было, было и светлого немало, и оно с годами побарывает плохое, высвечивая память образами близких людей, событиями, которые не забыть мне до последнего своего часа.
Рассказывал я, как однажды бежал в страхе зимней ночью от волчьей стаи почти половину пути. Но было и другое. От радости, неожиданно привалившей, весь двенадцатикилометровый путь я одолел одним махом, вскачь, без передышки.
Был май сорок пятого. Ожидание скорой победы, последние дни занятий в школе, весна — все это рождало в душе небывалый праздник. Мы ходили одурманенные счастьем. И вот однажды меня разбудила бабка, у которой я жил на квартире.
— Вставай, война-то кончилась.
Невероятно! Ждали же со дня на день, и все равно будто гром грянул! Я выбежал на улицу, залитую солнцем и толпой. Все обнимались, плакали, кто-то причитал о погибшем — жутко и празднично. На веранду клуба поднимался сияющий военком, а с ним какие-то мужчины и женщины — видимо, районное начальство. Никого из них мы не знали, для нас, ребятишек, главным был военком — покалеченный войной, уже в годах, с орденами. Он что-то говорил недолго, потом истошно крикнул:
— Победа, товарищи! — И сошел в толпу: губы его сводило судорогой, а лицо было мокро от слез.
Я впервые видел, чтоб плакал военный человек. Эти обильные мужские слезы сорвали меня с места, и я кинулся на околицу, к дороге, и бежал и торопил себя: скорей, скорей… Дорога во многих низинах была перелита, но я не ощущал холода снеговой воды, брел, сняв с себя брюки и парусиновые полуботинки, выбредал на сухое и опять бежал до следующего разлива…
Мне не поверили, даже отец, который в то время исполнял обязанности председателя сельсовета. Телефон в село еще не провели, а потому, чтоб удостовериться, послали конного нарочного. И пока тот скакал туда и обратно, в три тесные комнатушки сельсовета набилось множество мужиков и баб, и, не тая слез, наперебой говорили, говорили, говорили…
А отец сдерживал всех, хотя, я видел это, и самому было невмоготу оставаться спокойным:
— Погодите, вот сейчас вернется.
Старая дорога… Ее уж нет. Она умерла, как умирает, уходит в небытие все живое и даже неживое. Полсела, а то и больше, даже не подозревают, что была когда-то иная дорога, а не нынешняя, прямая, как стрела, шоссейка. А отойдет мое поколение, и совсем сотрется из памяти людской старая дорога и все-все, что так или иначе связано с нею.
Но она живет, живет в моем сердце как непроходящая память о детстве, о моих близких, о товарищах, сельчанах, о прошлом… Видимо, оттого я часто вижу ее во сне, иду по ней… по старой дороге, которой уже нет.
МЕЧЕНЫЙ
1
На стылом ноябрьском ветру средь желтых камышовых крепей кровенеют россыпи волчьих ягод. За лето дурман-трава обвила камышинки, ветлы да редкие по низовым местам осокори, вскарабкалась высоко над землей, и теперь на безлистых корявых ветвях перезревшие плоды горят гроздьями рябины.
Малые птахи — ремезы, синицы да камышовки — порхают средь ветвей, выбирают ягодки-бусинки, разноголосо звенят, тренькают, цвиркают.
День-деньской в чащобах не затихает эта веселая птичья возня. И только с заходом солнца замирает жизнь в зарослях.
Иларион привык к распорядку, определенному природой, и потому не замечал веселой разноголосицы.
Нынче, как только день перевалил на вторую половину, оживление нежданно прекратилось. За долгие годы жизни в дельтовом охотничьем хозяйстве Иларион по незаметным для стороннего приметам безошибочно определял надвигающиеся перемены. И потому, как не ко времени прекратились пернаткины хлопоты, понял, что надо ждать изменения в погоде.
До того, как солнцу уйти за окоем, Иларион не раз получал подтверждение своей догадке. С моря надвинулась тучка, вначале мало приметная, но по тому, как она клином раздваивала небо, ночь ожидалась непроглядно беззвездной.
В соседнем Чилимном култуке, где обычно Иларион охотился, заволновалась гусиная стая. Вожак стаи долго и тревожно гоготал, а перед вечером крикливый караван снялся и ушел в глухие глубинные култуки.
Да и солнце перед заходом будто прогневалось на все земное: на траву, камыши, птиц, на него, Илариона, на жену его Аннушку. Гигантским малиновым глазом оно напоследок гневно посмотрело окрест и ушло под закрой. Но и после, когда вокруг базы начала сгущаться темнота, солнцезаходный край небосвода багрово тревожил все живое на земле.
На солонцах, где заросли пореже, а остров горбатится песчаными намывами и где в весенние половодья находят спасенье кабаны, испуганно протявкала лисица. По ту сторону ерика в илистом камышовом буреломе недобро простонал енот.
Всполошились собаки. Урган, грудастый вислоухий гончак, выл тягуче, надрывно, на одной низкой ноте. Ему вторил Барс, стройный, гладкошерстый легаш, — тонко, с переливами, будто изливал жалобу.
Иларион цыкнул на них, закрепил понадежнее бударку и стайку охотничьих куласов, хотя в том не было особой надобности, потому как охотбаза — две рубленые казармы на полсотни жильцов и его, смотрителя базы, жилой дом со всеми ухожами на сваях — стояла на берегу узкого ерика Быстрый, куда ни ветры, ни волнобой почти что не доходили: волны гасли в крутых изгибах, а порывы ветра были бессильны продраться сквозь камышовый заслон. После этого Иларион обошел все свое хозяйство, проверил, надежно ли закрыты ставни и двери — чтоб не хлопали на ветру и случаем не сорвались с петель.
— Штормяк идет, — сказал он Анне, когда вошел в избу.
В голосе его не чувствовалось тревоги, и все же Анна обернулась к нему, но тоже не шибко обеспокоилась — мало ли она перевидела непогоды всякой: и штормы, и буйные весенние паводки, и снежные заносы, и зимнюю распутицу, когда бездорожье (на лед ни вода) начисто отрезало их остров от ловецких поселений, и по месяцу приходилось жить без хлеба, на рыбе, чилиме и кореньях-чушатниках. Мало ли чего было!
Весь вечер после ужина прошел в будничных хлопотах: Анна штопала шерстяные носки, а Иларион набивал патроны. По времени их много не требовалось. Пролетная дичь давно уже откочевала на юг, да и местная редко когда прошелестит над островом или опустится в соседний култук.
Шабаш охотничьему сезону. Это значит, что до будущей осени, до следующего охотничьего сезона, почти девять месяцев Илариону и Анне жить-тужить на базе вдвоем.
Это обстоятельство их особо не угнетало. Привыкли за долгие годы коротать время. С людьми — оно, понятно, веселей. Тем более, что наезжает народец всякий: и молодой и старый, из близких и дальних мест — из Москвы даже заглядывают. Люд бывалый, видавший виды. Охотники, одним словом.
Закончив набивать патроны, Иларион вышел на веранду покурить. Ветер крепчал, шало рвал камыши, путался и свистел в черных ветвях осокоря. Вокруг базы морским прибоем гудели и волновались камышовые крепи.
Урган и Барс, увидев Илариона, поднялись по крутым приступкам на веранду и успокоились у его ног.
Перед тем как лечь спать, при свете десятилинейной лампы, Иларион раскрыл толстую тетрадь, на коричневом коленкоровом переплете которой было выведено печатными буквами «Календарь природы», записал несколько фраз — самое важное из событий дня. Привычка делать ежедневные записи укоренилась в нем несколько лет назад, от Геннадия, орнитолога заповедника, пошла.
Иларион заснул быстро, но ненадолго. Разбудил его собачий скулеж и царапанье в дверь. Изба ходуном ходила под бешеными порывами моряны. Он впустил собак в сенцы, да так и пролежал до свету с открытыми глазами.
А утром, выйдя на веранду, увидел, что Быстрый вышел из берегов и остров заливается водой.
2
Иларион с Анной поселились на охотничьей базе лет девять назад. А предшествовал тому случай трагический, иначе ничем не затащить бы их на дикий понизовый остров.
Жили они тогда в большом рыбозаводском поселке. Точнее если сказать, Иларион жил сам по себе в небольшом заводском общежитии, а Анна сама по себе девовала последние деньки в отцовском дому.
Если чуть дальше в Иларионову жизнь заглянуть, то были там и детский дом после смерти матери и постоянного запоя отца, и курсы шоферов, и служба в армии.
За этими короткими словами немало и радостного и обидного в сиротской жизни. Но рассказ не о том. Все началось, когда он вернулся в свой поселок.
Отца к тому времени схоронили соседи, в родном доме поселилась многодетная семья из приезжих. Потому Илариона поместили в общежитии. Сказали:
— Пока живи. Поженишься как, освободим дом.
С Анной они в детстве в школу бегали — в начальных классах, за одной партой даже сидели. И не вдруг он признал в стройной русоволосой девушке рыжую, конопатистую, с короткими косичками одноклассницу. Анна в конторе кассиршей работала. Пришел он как-то в бухгалтерию, а она за стойкой бумаги перебирает. Посмотрел: вроде бы знакомая обличием. В это время ее окликнули. Тогда-то он и признал ее.
Да и Анна подивилась немало тому, как из крупноголового, с торчащими ушами и до красноты облезлым носом, мальчишки образовался такой видный парень.
— Будто и не ты это, Ларя, — улыбаясь, сказала Анна. Она всегда его так звала — Ларя.
Одним словом, все свелось к тому, что через год сыграли свадебку. Отгулял Иларион положенные три дня, а наутро собрался в рейс — шоферил он в те годы. Поездка намечалась в город с ночевкой, а потому Иларион заскочил домой, чтоб попрощаться с молодой женой — она догуливала отпуск.
И вот тут-то и случилось то самое, что враз изменило их жизнь.
Анна вышла к калитке проводить его. Иларион по давней шоферской привычке обошел вокруг машины, обстучал скаты носком ботинка и, довольный, полез в кабину. Анна подскочила к машине, озорно взобралась на подножку.
— Возьми меня, а?
— Тоже радость — полста верст пылиться…
— А мне скучно будет.
— Не помрешь, — Иларион привлек ее к себе и поцеловал в щеку. — Вернусь как, на субботу-воскресенье за ежевикой уедем. На островах, говорят, навалом ее в этом году. Ну, слезай…
Он дал задний ход, чтоб объехать поленницу, заготовленную отцом Анны, и тут услышал истошный крик жены. Иларион в страхе нажал на тормоза, дернул машину вперед и увидел, как Анна бросилась к задку машины. Илариона будто кто вышвырнул из кабины грузовика.
Страшная картина предстала перед его глазами: неестественно подвернув под себя руки, лежал на земле трехгодовалый соседский первенец Ленька…
Мальчонка не кричал и даже не стонал, он был в бессознательности, а Илариону показалось, что задавил его насмерть. Бледный, как полотно, он поднял Леньку на руки и, не помня себя, топтался возле машины, пока Анна не ввела его в дом.
Вот так свадебная неделя завершилась несчастьем. Леньке резали руку и заковали в гипс, а Иларион будто ополоумел: слова из него не выколотишь, глаза ко всему безучастные, лицом почернел… Анна да и Ленькины отец-мать опасливо зашушукались: как бы умом не тронулся мужик.
А тут, естественно, ГАИ, милиция, Совет. Все интересуются, расследуют — дознание ведут. Только никто путем не может объяснить, откуда вывернулся этот пострел Ленька, какая нелегкая потащила его под машину. Вины Иларионовой не нашли, но права водительские он сдал и решил навсегда оставить машину. После случая с Ленькой уже не мог за баранку садиться. Подменили будто мужика.
Прошел месяц, а Иларион в себя не может прийти. Все ему чудится Аннин крик, Ленька бездвижный видится. И мнится: будто все его сторонятся, как прокаженного, пальцами в него тычут.
Однажды сказал Иларион жене:
— Уедем отсель, не могу больше.
Анна в рев:
— Как же, Ларя, отца-мать оставлю. Все вокруг свое, родное.
— Ну, как хошь. Не неволю.
— Что болтаешь-то, — осерчала Анна и сквозь слезы: — Как же я без тебя. Теперь куда ты, туда и я…
Через неделю Иларион выразился более определенно:
— На Быстром охотбазу строят. Заявление подал.
— А как же я? — Анна в растерянности опустилась на стул и умоляюще уставилась в мужнины глаза.
— И тебе место есть. На пару и будем хозяйствовать.
— Вдвоем?
— Кто нам еще нужен… Мне и тут тошно людям в глаза смотреть.
На этом разговор и окончился. А вскоре плотники проконопатили сруб, настелили полы, потолок, накрыли шифером крышу, и молодые переехали на охотбазу. Окраску стен завершили уже при них. Печь только что сложили, и Анна сама промазала и побелила ее, не забыв под шестком вмазать кусок зеркала. Поначалу это громоздкое, на пол-избы, сооружение удивило и огорчило Анну, но старый печник успокоил:
— В тутошных местах мыслимо ли без русской печи? Она и для угреву и для варки одинаково годна. А приспичит — хлеба́ можно печь. В подпечье все свое хозяйство храни: кочергу, ухваты, совки, голики — все уместится. В лютую стужу — курам жилье.
Уже потом Анна не раз убеждалась в правоте печника. Ко всему, что перечислил мастер, Анна обнаружила еще одно неоценимое достоинство. Иларион, бывало, в непогодь не раз возвращался из объездов промокшим до нитки. И тогда в запечье, в нешироком пространстве меж задней печной стеной и избяным срубом, на граненых шпигорниках развешивалась для сушки охотничья амуниция — лучше сушильни и не придумать.
3
…Остров заливало водой. За годы жизни на Быстром подобное случалось не единожды. Ежевесенние половодья — само собой. Чуть ли не на два месяца вокруг махонького сухого пятачка не остается. Но весна есть весна. Все зверье к майскому разливу самой природой подготовлено, с низин загодя кочует на солонцы и бугры. И вода-то по-праздничному ласковая, не вдруг наливается, теснит зверей поначалу с низин и ветловых стариц, потом уж с островов.
Весенние разливы не приносят большой беды.
Осенние — вот погибель.
Дыхнет штормяк с моря, давнет тугой волной и за ночь-другую превратит дельту в непролазные плавни. Спасайся кто как может! А как спасешься, если на десятки верст море разливанное. И то ладно, что не открытое, а сплошь в ивовых и камышовых мелководьях. Зверь хоронится в тех крепях, плутает, пока на солонцы не выбьется.
И гибнет немало. После водоспада, при объездах, Иларион частенько натыкается на дохлых кабанов, лисиц и енотов. А то — по Быстрому сплывают к морю вздувшиеся тушки.
Все эти страсти-напасти Иларион видел не раз. Думку даже вынашивал, как зверью помочь. В управление письмишко нацарапал: мол, надо бы землесосами вдоль Быстрого и пониже, на взморье, бугры намыть. Два года с того дня минуло, а ответа и по сей день нет. Похоронили, стало быть, его письмо.
Иларион, впрочем, не очень-то надеялся, что начальство управленческое так уж сразу и поддержит его. Не так-то легко землесосы раздобыть: банков рыбоходных много, и все надо вовремя углубить и прочистить. Да и базу на Быстром построили, чтоб перелетную птицу стрелять. Гусей и уток на взморье — туча черная. А зверя мало. За кабаном, лисицей да енотом в иные места охотники устремляются. Потому-то в управлении, видать, и не придали значения Иларионову предложению. А зря! Надо будет съездить, объяснить. Если мало, и беречь не надо — так, стало быть, выходит? Нет уж, дудки?
Настроив себя на воинственный лад, Иларион отвернул резиновые сапоги и сошел с веранды. Вода захлюпала под ногами. Урган последовал было за хозяином, но остановился в нерешительности на нижних ступеньках, в воду не полез, а вновь поднялся на веранду и умостился возле Барса.
Вода прибывала ходом. И по тому, как она на глазах топила строения и ухожи, как шквальный ветер рвал и гудел в камышовых крепях, как низко-низко по-над стелющимися камышами метались реденькие стайки чирков, Иларион понял, что дело серьезное и напасти надвигаются куда большие, чем это было в прежние осенние шторма.
Перво-наперво он добрел до причала, где плотной утиной стайкой сбились охотничьи куласы. Вчера в ночь он закрепил их понадежнее, но сегодня решил поставить на раму. Ее соорудили на высоких сваях, а чтоб суденышки не коробило солнцезноем и дождями, над рамой поставили навес.
Иларион бродом подгонял куласики и по наклонным жердям затаскивал их наверх, складывал в штабеля.
Проснулась Анна, красная ото сна, вышла из избы. Осмотрелась и побрела к сараю. Там набрала охапку таловых дров, вернулась в избу. И вскоре труба дыхнула на Илариона теплом. Дыма почти не было видно над избой. Ветер ножом срезал его у раструба, рассеивая в прах, и лишь по запаху можно было определить, что Анна затопила печь.
Потом Анна появилась вновь, с алюминиевой, до блеска начищенной, кастрюлей — козу Машку побрела доить. Сарайчик, где держали Машку, как и все строения на базе, покоился на высоких сваях, и все же, возвращаясь с молоком, Анна, глуша шквальный гул, попросила мужа:
— Машку в сени перевез бы.
— До Машки вода не доберется.
— Кто знает… — В глазах Анны тревога.
— Посмотрим вечером, — успокоил Иларион жену. А про себя матюкнулся.
Надоела ему эта Машка до чертиков. Каждую зиму води ее в поселок к козлу, а потом — обратно на базу. Иначе не видать молока. Анна же никак не соглашалась остаться без Машки.
Ну да пускай. Все какое-то утешенье в камышовом безлюдье.
Куласов было с полсотни. И пока Иларион складывал их под навесом, прошло немало времени. Под конец стало невозможно работать вброд, и он перегонял суденышки шестом.
— Ларя, завтракать, — позвала Анна с веранды.
— Сейчас. Небольшая малость осталось.
— Будто опосля не успеешь. Куда день-то девать.
— Был бы день, работа найдется, — отозвался Иларион. — Готовь…
Для близких разъездов он оставил себе дощатый кулас попросторней. Малость он тяжелей, чем остальные из цинкового листа, но устойчивее. Да и гремят те, ежели по медяку или в зарослях едешь. Из теса лучше.
В первую осень, как поселились на Быстром, перед ноябрьскими заморозками выехали они с Анной на металлическом куласе кабана покараулить. На поросших чилимом кочках Иларион несколько дней кряду видел свежие следы. Кабанище, видать, был не меньше быка-двухлетка. След — с кулак. Иларион и подумал, что хорошо бы в зиму мяса запасти. Когда Анне сказал про то, заохала — не хотела пускать. Даже днем боялась одна на базе оставаться, не то что ночью. Вот и пришлось вместо балласта с собой брать.
Рослый матерый секач вышел ближе к полночи. Вначале в гуще крепей еле слышно треснула камышинка, потом другая. Анна, между прочим, первая учуяла — то ли со страху, то ли слух у нее острей. Она тронула его руку и кивнула в сторону камышей — идет, мол.
Зверь выбрел на чистое в сотне метров от них, не меньше. Ночью, даже при полной луне, бить на таком расстоянии дело пустое. Поэтому Иларион с Анной схоронились в тени камышового колка, боясь даже малым шорохом спугнуть чуткого зверя. Ждали, когда кабан подойдет ближе. А он, будто чуял опасность, все бродил и бродил в отдалении, чавкал, грыз чилим…
Сидели охотники долго, озябли порядком. Уже и луна склонилась к горизонту, вот-вот уйдет под закрой, а без лунной свети какая охота ночью.
Тогда Иларион решил осторожненько, таясь в угольно-черной тени зарослей, подъехать к зверю на куласике. Но едва он навалился на шест, одеревеневшие колючие чилиминки часто и гулко забарабанили о цинковое днище куласа. Днем, когда окрест полно птичьих вскриков и всплесков рыбин, когда нет повода таиться, это торошение почти и не слышно. А сейчас в ночной тиши — будто телега по булыжникам мостовой прогромыхала.
Так и вернулись ни с чем. Это была первая встреча Илариона с одиноким старым вепрем. Потом, в течение лет, не раз скрестятся их пути-дороги, и осторожный секач причинит хозяину охотбазы немало бед. Все это потом. А пока покидали они Чилимный култук без добычи.
С той поры Иларион на такие куласы не садился и презрительно называл их погремушками.
…Пока Иларион затаскивал на раму под навес последние куласы, Анна не раз выбегала из дому, звала завтракать, ворчала для виду, но на мужа не злобилась, потому как знала его характер, привыкла к нему. Иларион в работе лют. И уж коль взялся за что, не отойдет, пока не кончит дело. И никого здесь нет над ним, сам себе голова. Другой на его месте изленился бы хоть малую малость, а он нет. Такая уж закваска в нем.
4
Весь этот штормовой день Иларион был в хлопотах. И хотя шторм и заботы, вызванные им, не были для мужика чем-то необычным, его охватило вполне понятное возбуждение.
После завтрака съездил в култук, выбрал сети. Рыбы напуталось много, а еще больше набилось водорослей. Волна накидала. Хорошо еще, не вырвала колья и не унесла сети…
По култуку, всегда спокойному, перекатывались и пенились серо-грязные волны, и не раз куласик захлестывало волной. Пока Ларион выбрал сети и добрался до Быстрого, вода выступила из-под сланей, шумно переливалась под ногами, а брезентовый плащ намок до последней ниточки.
Иларион бросил Анне на веранду пару лещей и крупного большеголового сазана, а остальной улов отсадил в котец, чтоб живье было под рукой. Кто знает, когда утихомирится шторм.
— Машку перевез бы, — напомнила Анна. — Ишь, беспокоится…
— Никуда не денется твоя Машка. — Иларион и сам слышал, как в щелястом сарайчике тоскливо мемекает коза, и было уже настроился на куласике перевезти ее из загона в сенцы, но лишнее напоминание Анны осердило мужика, и он, сбросив плащ, вопреки своим намерениям и просьбам жены, лениво попыхивая сигареткой, направил куласик к дровяному сарайчику — надо было запастись дровами.
Козу он тоже доставил на куласике, правда позднее, когда Анна ушла в дом. Анна, увидев из окна свою любимицу на веранде, прихватила срезок черного хлеба и заторопилась навстречу.
— Ах ты, Машенька, ах ты, молокашенька, — запричитала она, загоняя козу в заднюю, холодную половину дома. — Иди в тепло, красавица, натерпелась небось страху-то одна-одинешенька…
Голос ее был так ласков, а слова рождались такие непосредственные, что Иларион усмехнулся про себя и порадовался за Анну. Но ненадолго. Дальнейший ход мыслей опечалил его, ибо вернул к дням давним.
«Как с дитем хороводится, — подумал он о жене. — А все оттого, что ребеночка своего у нее не было, конешно, оттого, че там говорить. И все через меня беда пришла, не иначе…»
С потомством у Илариона неувязка случилась. Во второе лето после переселения на Быстрый должна была Анна родить. Месяца за два до положенного срока Иларион сказал жене:
— В поселок тебе надо. Поживешь у матери, а опростаешься как — приеду за тобой.
— Рано, Ларя, — возразила Анна с мягкой улыбкой. — С тобой мне хорошо. А там… беспокоиться о тебе буду. Один в камышах, ни живой души…
— Скажешь тоже, — отозвался Иларион. — Для меня камыши самое родное место. Тут, Аня, наш дом.
— Оно конечно. Только я обожду малость, поближе к родам и отвезешь.
Иларион согласился и, как потом понял, напрасно. Негоже мужчине быть тряпкой. Порой не то что можно твердость проявить, а и необходимо. Он же поддался бабьему уговору, вот и будет казнить себя до скончания дней, обзывать последними словами — да ничем беде не поможешь.
Вскоре после того разговора выехал Иларион осмотреть хозяйство. Один выехал, Анна к тому времени немного свыклась с вынужденным одиночаньем на острове, только наказывала всякий раз, чтобы дотемна непременно возвращался на базу.
— Страшно одной-то, — оправдывалась она. — Кругом ни души.
— Вот и хорошо. Чего же бояться-то, — успокаивал Иларион жену.
— Волки вдруг. Кабаны по ночам вон как визжат да дерутся.
— Так они промеж себя, — улыбнулся Иларион. — Ты-то им не нужна.
Иларион, однако, аккуратно исполнял ее просьбу. Но на этот раз случай непредвиденный произошел.
До начала охотничьего сезона оставалась неделя, не больше. Вот и хотелось Илариону весь участок дотошно облазить, чтоб знать доподлинно, где какая дичь скопилась. В общем-то он знал, куда на вечеринку тянет гусь, а куда утка. Но дикая птица капризна и пуглива непомерно. Чуть что — может иной култук облюбовать. А поскольку гости-охотнички вот-вот должны понаехать, то надо ему, хозяину базы, быть как никогда осведомленным и не настраивать людей на ложные скрадки.
Тихое и солнечное утро обещало спокойствие до окончания дня. Иларион на куласике, легко орудуя коротеньким шестом, заглянул чуть ли не во все закоулки: култуки и мелководья, поросшие ежеголовкой, дворы-чистинки средь камышовых колков. И всюду находил перо и потраву. Охота ожидалась богатая. Можно было и возвращаться на базу, но в азарте он, не подумал, что пора держать обратный путь, а решил заглянуть на морские косы, где приезжие охотники почти не бывают. Потому как охота на тех косах сопряжена с неудобствами (ночевка под открытым небом в тесных куласиках), а охотник нынче пошел изнеженный, ему непременно надо в кровати спать средь белоснежного белья.
А Илариону что? Не хотят, и не надо. Ему же лучше, потому как дичь на тех косах непугана, и он в конце сезона без лишних хлопот запасает дичи впрок.
Но в ту осень на открытие обещал быть старый знакомец из управления, тот самый, что принимал Илариона на базу. Он понимал толк в охоте и каждый раз непременно отправлялся на морские косы. Вот почему Иларион решил разведать дальние угодья.
Удивительные места — морские косы. Воды вокруг — море, а глуби-то полторы-две четверти — куласик скребет днищем о ракушки. А посреди этого неоглядного водного раздолья белые клинья песка с реденькими колками ежеголовки. Вот сюда, на безлюдные тихие острова и слетаются на ночевку несчетные стаи гусей и уток.
Возвращался Иларион радостный. И даже заходящее солнце не встревожило его. Лишь проворнее выхватывал он из воды шест, с силой упирался о песчаное дно — заторопился к Анне.
Совсем не ко времени верховик зашевелил. Поначалу еле приметный, он был даже приятен — охлаждал разгоряченное работой тело, но после захода солнца, передув вечернюю зарю, посвежел, захолматив взморье, погнал воду на глубь, оголяя заросли и ракушчатые шалыги.
Вот тут-то забеспокоился мужик. И без того он запаздывал домой, а тут непогодь невесть откуда сорвалась: ветер сдерживал куласик, замедлял движение.
Иларион заторопился, ожесточенно навалился на шест и услышал сухой короткий треск. И в ту же минуту куласик развернуло ветром и понесло в сторону моря. В бессилье, с обломками шеста в руках, опустился Иларион на кулас и зло выматерился.
Он не боялся, что его угонит ветром на глубь, — нет, средь меляков он не пропадет, приткнется к колку, переждет. Да и ветер сгонный. Моряна страшна, а верховик можно перегодить. Анна только будет тревожиться. Наказывала пораньше вернуться. Одной страшно, поди-ко, средь камышей. Пуглива — не дай бог. Вторую осень на базе, а страх не может побороть.
Представил Иларион жену на острове: темень вокруг, за стеной камыши шуршат, а она одна мечется в страхе по избе, в окна выглядывает, его ждет. А возле — ни живой души. Даже собаки в тот год они еще не завели. Представил Иларион все это — и заныло сердце от жалости.
И тогда он решился: сошел с куласика в воду и потащил его бродом. Навстречу ветру. Пусть за полночь доберется до дома, но ждать не было мочи.
…У входа в Быстрый стояли его сети. Иларион, усталый, еле добрался до них, выдернул кол и взобрался на куласик. Он не стал выжимать воду из одежды, а погнал куласик к дому.
Занималась заря, когда он подъехал к базе. Ветер стал стихать, а тут, в ерике, и совсем было тихо. Иларион успокоился несколько, но ненадолго. Едва ступил на землю, услышал стоны жены.
Не помня себя взлетел на веранду, сорвал с крючка дверь…
В то утро у Анны начались преждевременные роды.
5
К вечеру шторм перешел в настоящий ураган. Вода поднялась до верхних ступенек веранды, плескалась под избяным полом.
Камышовые чащобы переспелыми хлебами положило на землю, небольшие колки скрутило в жгуты-конусы. С коротким треском, будто срезанные ударом гигантского меча, срывались верхушки деревьев. Старый одинокий осокорь у причала гудел обнаженными ветвями, стонал от непосильной натуги, но выдержать неуемную силу дикой необузданной стихии не смог и, крежеща разрываемыми волокнами могучего тела, медленно и нехотя повалился в Быстрый. И было странно видеть, как водой развернуло поверженного великана и понесло не вниз на раскаты, а вверх по ерику, ибо еще с утра течение в нем под натиском урагана и моря повернуло вспять.
Чудилось Илариону: не только дом и казармы, а сама земля, весь остров содрогается под вихревым натиском осатанелых, туго спрессованных воздушных потоков. Такой заварухи не приходилось ему видеть не только в годы, проведенные на базе, а и за всю жизнь.
И Анна почуяла неладное. Присмирела, двигалась молча, не досаждала мужу расспросами, знала, что он сделает все как надо, и опасаться беды не следует. С той осени, когда она, натерпевшись страха, раньше времени родила недоношенного ребенка, Иларион все решал сам и делал, как находил нужным. Анна терпела-терпела, да и высказала однажды обиду:
— Будто я и не жена тебе, как с дитем малым обращаешься.
— Ты меня дитя лишила своим бабьим разумом, — жестоко оборвал он жену. — Новую беду не хочу.
И хотя понимала Анна всю несправедливость мужниных слов, возражать не стала, смирилась, занималась домом, варкой-жаркой, закатками, солениями, козой Машкой.
А насчет чрезмерной привязанности ее к «Машеньке-молокашеньке» Иларион верно подметил — будто за дитем неразумным ухаживала она за скотинягой. Своего ребеночка так и не пришлось понянчить Анне. С того несчастья или еще с чего, только не забрюхатела она ни разу с тех пор.
В сенцах забеспокоились собаки. Взлаял Барс, затих на короткое время и вновь взлаял. Урган же тянул в себя воздух и, ощерившись, глухо ворчал.
Иларион встал из-за стола и выглянул в окно. На ступеньки дальней казармы взбирался енот — его и почуяли собаки. С шерсти ручьями стекала вода, и весь он был жалкий, вконец обессилевший в борьбе с наводнением. Едва он выбрел на сухое, лег и, не обращая внимания на собачий брех, несомненно доносившийся до его чуткого слуха, замер в недвижности.
Чуть позднее, уже в сумерках, Иларион приметил еще одного зверька и с трудом признал лисицу, всегда озорно-щеголеватую в своем огненном наряде, а сейчас тощую и вымокшую, с неким подобием хвоста вместо пышной трубы-махала.
Ночью Иларион спал неспокойным будким сном. С сухим треском срывались ветви деревьев, с соседней казармы сорвало несколько листов шифера и с грохотом ударило ими о что-то твердое, гудела, казалось, готовая развалиться по бревнышкам, изба, мурзились и взлаивали собаки. Ближе к рассвету, Иларион вышел в сени и загнал Барса и Ургана в дальний чулан, чтоб не слышать собачью ворчню.
Проснувшись, он увидел при скудно пробивающемся сквозь плотные занавески свете надвигающегося утра, как из щелей в полу просачивается вода, чему немало обеспокоился, но тревожить Анну не стал. Успеется. Не радость подвалила, чтоб раньше времени баланить.
А за стенами бесновалась прежняя непогодь, хотя по времени (уже вторые сутки дует) пора бы и уняться. Если и дальше дело так пойдет, к вечеру надо будет перебираться на чердак.
Так он думал, лежа рядом с Анной и боясь нечаянным движением разбудить ее. Думал, однако, недолго, потому как снаружи донеслась неясная возня. Иларион прислушался. Всплеснулась вода несколько раз, вновь кто-то завозился под окном у веранды. И только после того, как до его слуха дошел отчаянный кабаний взвизг, какой обычно можно услышать на солонцах, когда звери паруются и боровы дерутся из-за свинок, он понял, что на базу, в поисках спасения, заплыли кабаны.
— Ты чего? — спросила Анна, едва он стащил с себя ватное одеяло.
— Т-с-с! — Иларион, успокаивая жену, прислонился щетинистой щекой к ее теплому гладкому плечу. Шепнул: — Не шуми, кажись, свиньи. Хорошо еще, собак в чулан загнал, распугали бы иначе.
Он выпростал из-под одеяла ноги, соскочил с кровати, но тут же повалился на постель — студеная вода ножом резанула по ступням. Анна вопросительно посмотрела на мужа, потом на залитый пол, и испуг отразился на ее красивом круглом лице.
— Пустое, — проговорил Иларион, пытаясь придать голосу безразличие и спокойствие.
Он неслышно добрел до двери, ведущей из задней половины избы в сени, сгреб резиновые сапоги — и свои и Анны и вернулся к кровати.
Возня и визг за окном повторились вновь, и теперь не оставалось никакого сомнения, что кабаны забрались на веранду.
Согревшись, Иларион обулся, стараясь не создавать шума, подошел к окну и в щель между занавесками увидел с пяток годовалых кабанчиков. Поводя ушами и чувствуя близкую опасность, они лежали на затопленной веранде, и только большая вода и страх перед нею удерживал их рядом с этой опасностью.
И пока он, хоронясь за плотными расшитыми холстинами, наблюдал эту необычную картину, к веранде подплыла старая свинья: щетина на спине стерлась, клыки источены, в рваных зазубринах. Она, не медля ни секунды, выбросилась на веранду, будто делала это не впервой, разбросала годовалую мелкоту и улеглась, тяжело дыша впалыми серо-бурыми боками.
Подошла Анна и стала рядом у окна.
— Ларя, глянь-ко, — еле слышно шепнула она и повела глазами в сторону казарм. И только тут Иларион увидел, что невеликие лестничные площадки обеих казарм до отказа набиты зверьем. А вчерашние уже обсохшие лисица и енот забрались под навес на куласики и опасливо посматривают с верхотуры на драчливую возню и визг грозных хозяев камышовых крепей.
Весь этот день Иларион и Анна не выходили из избы и даже признаков жизни не подавали, чтоб ненароком не вспугнуть нашедшее спасенье зверье.
Анна печи не затопляла, перебивались стылым борщом, картошкой в мундире и отваренной вяленой сазаниной.
И все же полного покоя на веранде не было. Из темного чулана, где томились взаперти Урган и Барс, то и дело доносились приглушенные взвизги. А когда Анна вошла в сени подоить козу, та так протяжно замемекала, что все кабанье стадо на веранде всполошилось и кинулось прочь. Но деваться было некуда, и помаленьку кабаны снова сплывались к веранде. И лишь один годовичок, напуганный больше других, метнулся к ерику Быстрому и, подхваченный водой, скрылся за камышовой грядой.
Всякий звук из избы, всякое движение внутри него незамедлительно вызывало движение на веранде, а то и переполох.
А примерно в середине дня пожаловал гость, которого никак не ждали. Где он плавал до того часа, как спасался от потопа — никому про то не ведомо.
6
Первой его приметила Анна. Он плыл по ерику со стороны моря, — видимо, с низовых островов держал путь. Вывернувшись из-за камышового колка, круто изменил направление и без опаски подплыл к ближайшей казарме. Но там — на лестничном пятачке и даже на затопленных ступеньках — плотным стадом умостилось крупное зверье, и ему, обессилевшему, не удалось отвоевать кусок тверди под ногами. И тогда он подался к веранде. Тут было посвободнее, да и кабаны-годовики не столь грозные соперники для старого секача. А то, что это видавший виды вепрь, и Анна и Иларион поняли сразу: огромное вытянутое рыло, фарфорово отсвечивающие клыки — изогнутые, косо сточенные. И глаза — лютые, налитые кровью. Едва он подплыл к веранде и и повел рылом, два годовика кулями плюхнулись в воду. А секач, почуяв под задними ногами твердь, ринулся вперед. И в тот момент, когда он вскинулся в прыжке, Анна тихо вскрикнула:
— Так это Меченый, Ларя, глянь-ка, Меченый! Вот антихрист!
— Вижу, — чуть слышно ответил Иларион. От волнения у него осел голос. — Вижу, — просипел он и потянулся к ружью. — Явился, убивец. Сам приплыл.
А Меченый протиснулся к самому окну и вдруг упал, — видать, издали плыл да выдохся. Он был намного крупнее остальных — двухгодовалый бычок, не меньше.
— Развалился, — не мог успокоиться Иларион и переломил в замке двустволку, чтоб зарядить ее.
— Не надо, Ларя, — попросила Анна.
— Хе, не надо, скажешь тоже, — усмехнулся Иларион, — сколь годов он мне досаждал, сколь кровушки попортил, а ты — не надо.
— Распугаешь остальных, утопнут. Куда он теперь от тебя денется. Никуда и не денется, обожди.
— Конешно, не упущу, — решительно ответил Иларион, но ружье заряжать не стал. Успеется.
Много, ой как много попортил Меченый крови Илариону — это он правильно сказал. Давнее у них знакомство, давняя вражда, давние счеты. Да и пометил-то дикого секача не кто другой, а сам Иларион, и пометил в ту самую осень, когда поселился на Быстром. И так случилось, что самая первая охота на него была, на Меченого, тогда еще не меченого, безымянного зверя, каких много бродит по камышовому раздолью.
С Анной тогда на куласике ночь напролет бездобычно просидели. Намерзлись вдоволь, а кабан бродил-бродил по култуку, да так и не приблизился на выстрел.
Наскоком старого одинца не взять. Иларион это хорошо понимал. А потому и не терял надежды во второй заход удачливее поохотиться.
Через неделю Иларион снова засобирался в Чилимный. И опять Анна увязалась с ним.
Поначалу все повторилось. Словно меж той и этой ночами не было многодневного перерыва. Надроглись оба — ночь-то светлую выбрали, а ясные ночи, известно, холодные. И опять Анна первая услыхала кабана. Иларион подосадовал на свою нечуткость, но недолго. Он весь превратился в слух, стараясь уловить каждый шорох, каждый шаг зверя.
На этот раз он выбрал тесовый кулас, бесшумный в движении, устойчивый. Да и ветерок свежее, шелестел зарослями, скрадывал нечаянные звуки. Потому-то Иларион не спеша, чуть приметно даже для самого себя, толкался шестом, сближаясь с кабаном, который спокойненько, не чуя надвигающейся беды, пасся в култуке: совал рыло в воду, доставал уже опавший со стеблей чилим и шумно чавкал.
Анна, вцепившись руками в бортовины куласика, безмолвствовала. От неудобного сидения у нее отекли ноги и руки, ныла спина, но она опасалась переменить позу, поскольку при этом могла шумнуть и тем самым испортить охоту. А в ней, как и в Иларионе, проснулся добытчик. Оттого и замерла она, насторожилась, напружинилась, как если бы охотником был не Иларион, а она сама.
Два выстрела, один за другим, прозвучали резко и сухо, но не умерли, а прогромыхали, раскатились по култучной шири, над камышовыми зарослями. Затухали трудно и долго. Вторым выстрелом Иларион бил вдогонь, когда спугнутый кабан метнулся к черной живой стене камыша. Но и после него треск в зарослях не прекращался, а это значит, что Иларион промазал или же, как часто бывает при стрельбе на крупного сильного зверя, тот, смертельно раненный, теряя последние силы, уходит в крепь, чтоб не достаться человеку и испустить дух вдали от него.
Остаток ночи Иларион и Анна провели в тепле, на базе, а утром, после завтрака, вернулись в култук. Спешить не было смысла, потому как смертельно раненный кабан далеко не уйдет, а слабая рана на нем затягивается — и такого подранка никто еще не выслеживал.
Иларион без особого труда отыскал место, где кабан вошел в заросли, и, оставив Анну на куласике, поломился в крепь.
Вскоре тропка вывела на сухое, и тут Иларион приметил странный след, скорее похожий на трезубец, нежели на след кабана. Размышлять, однако, долго не пришлось. Слабые мазки крови на трехпалом следе все объяснили: жакан рассек переднее копыто. А первым выстрелом, стало быть, промазал.
Преследовать легкораненого одинца не было смысла. Иларион повернул назад.
7
Впервые с глазу на глаз Иларион встретился с Меченым весной. Предшествующие до этого два случая на осенних ночных охотах — не в счет. В темени только и видно: бродит что-то большое по ильменю, аппетитно чавкает чилимом да корневищами чакана. А каков он из себя — разве углядишь.
В ту осень, уже на исходе ноября, Иларион добыл-таки кабана — правда, поменьше, — но мяса хватило надолго, много ли им двоим надо. А Меченый ни в Чилимном, где был ранен Иларионовой пулей, ни в соседних култуках не объявлялся. То ли на низовые морские гривы ушел, то ли невылазно жил в солонцах. И только весной повстречался.
Судьба всего живого в понизовье всецело зависит от воды. В большие наводнения гибнет и зверь и птица. В безводье рыбьи косяки редеют, сена́ не рождаются, на камыш недород.
В ту весну большая вода пришла. В верховьях Волги теплынь повсеместно и почти в одно время настала. Раскисли поля, заслезились овраги и малые притоки. Давнула вода силой неуемной и залила дельту, по самое горло. Еще чуть-чуть — и пятачка сухого не сыскать..
А пока с боя брало зверье эти реденькие песчаные кочки да бугорки.
Из области, как и положено, бумажку прислали: так, мол, и так, надо подкармливать зверье, для чего срочно начать отстрел хищного и вредного баклана, которого расплодилось непомерно много, а также косить зеленый молодой камышок и разбрасывать все это на островах. Иларион усмехнулся про себя, когда дошел до слова: «срочно», потому как уже неделю занимался тем, чем его с запозданием обязывали незамедлительно заняться. Прожди он эту срочную депешу — половина зверья давно бы уже подохла.
Каждое утро выезжали они с Анной по Быстрому, иной раз вверх, иной раз по течению. День-деньской косили камыш, возили его на островки, разбрасывали охапками. Лодка вплотную к кочкам не подходила. И тогда они несли пучки камыша бродом, продираясь сквозь прошлогодний сухостой. Душил зной, безжалостно жалили мухи-пестряки, пот разъедал лицо.
Островки всегда пустовали, потому как, едва зачуяв приближение человека, звери разбредались по мелководьям. Но съеденный корм, свежие лежки, пометы, взмученная вода — все это каждый раз убеждало Илариона и Анну в том, что живности на кочках много и что их мучения не впустую. Обычно Анна, стоя на корме, направляла лодку сквозь реденькие заросли камыша, а Иларион захватывал серпом ломкие побеги, срезал их и бросал в трюм.
А бакланятами кормить кабанов не мог. Это только в бумажке пишется про отстрел. Какой сейчас отстрел, если бакланы тысячными стаями живут на гнездовьях, кормят птенцов. Попробуй тут выстрелить — всю колонию перебулгачишь! Иные егеря, рассказывают, приспособились гнезда зорить, полны лодки птенцами-несмышленышами грузят и на съеденье зверям бросают.
Умом-то Иларион понимал, что бакланов надо уничтожать, иначе рыбе хана. Разбойничает злодей по-страшному. Отстреливать его, безусловно, нужно, только осенью, а уничтожать в гнезде беспомощных птенцов ни он, ни Анна не могли.
— Перебьются, — успокаивал себя Иларион, — камыш сейчас сладкий, глянь-то, аж муха липнет.
Но кабаны стали слабеть. Видно, им недостаточно только сладкой травы. Спустя неделю почти на каждой кочке лежали один, а то и два ослабевших зверя. Увидев человека, они тревожно и отрывисто всхрюкивали, приподнимали отощавшие тела на тонких передних ногах и в бессильной злобе клацали клыками.
Так вот и с Меченым повстречались. Уже четыре дня сряду примечали его следы на песчаном бугорке, ниже охотбазы. Наутро пятого дня увидели и самого. Он лежал в рытвине за ветловым кустом, но сразу же выдал себя: рванулся к воде, но ослабевшие ноги не держали его длинное костистое тело, и Меченый свалился в ровчак. Из последних сил он повернулся головой к людям и приготовился по-боевому встретить врагов.
Но люди почему-то не нападали на него, и у них в руках были охапки вкусного камыша.
— От так зверюга, — прошептала Анна.
— Да… — не меньше жены удивился Иларион. — Бегемот, не меньше.
— А клыки, глянь-ко, Ларя, бритвы будто.
— Такому попадешь в зубы — пропал.
— Камышом его не поднять.
— А мы ему рыбы принесем. Сомят надо наловить.
И потом много дней подряд они приносили «своему» кабану то сомят, то щук — все, что оставалось от самих. Меченый в первый день еду не принял, лишь опасливо покосился на брошенную людьми рыбу. Но на следующее утро, едва соменок упал возле, накинулся на пищу, будто и не стояли рядом люди.
Через неделю Меченого на кочке не было.
Выжил.
8
Подняли они Меченого, да не к добру. Ровно через полтора года после того случая Иларион ругал себя последними словами, укорял за ненужную доброту к лютому зверю.
— Кто же знал, что так оно обернется, — утешала его Анна. — Кабы знать… Да и то — живая душа. И не его одного, а, почитай, всех выходили. Чё ты на себя наговариваешь.
Безутешно горевал Иларион и слов жены к сердцу близко не принимал. Да и как успокоишься, коли разбойник клыкастый лишил его Черного — редкостного ума собаки. Такой больше днем с огнем не сыщешь. А виноват во всем, коли спокойно разобраться, Иларион сам. Знал же, что кабан Черному не по зубам. Специальность у него была иная — птицу битую носить да подранки в камышах отыскивать.
Еще Геннадий, орнитолог из заповедника, когда дарил щенка, о том же предупреждал. Он его все Ньюлендом называл. Илариону показалась странной эта кличка, и он спросил Геннадия: откуда, мол, такое взялось — не русское слово.
— Порода-то длинношерстный Ньюфаундленд. Вот и подсократили малость слово. Такая собака, Иларион, человеку раз в жизни достается. Да и то не каждому. Считай, что повезло тебе.
Поначалу Иларион не совсем поверил Геннадиевым словам: думалось ему, что орнитолог цену набивает, хитрит, потому как щенка он подарил не за красивые глаза, а для того, чтоб Иларион согласился помочь подлинь для кольцевания отловить.
Было это сразу же после того, как с ослабевшими кабанами канитель окончилась. Вода несколько сошла. Времени свободного было хоть отбавляй. В это время и заявился Геннадий на охотбазу.
Он сплыл с верховья Быстрого, где размещался один из кордонов заповедника, на таком же куласике, как и у Илариона. После окуневой ушицы Геннадий, мелкими глотками потягивая крепкий чай с ежевичным вареньем, признался:
— За помощью я к тебе, Иларион Николаич. Напарник мой на сессию уехал, университет он заканчивает. Чай, не откажешь?
— На кого же он учится? — спросил Иларион, пропустив вопрос мимо ушей.
— Орнитологом будет.
— Слово-то мудреное. Делать он что будет? — поинтересовалась Анна.
— Изучать жизнь птиц. Работенка — край непочатый. Темы одна другой интересней.
— Хе! — усмехнулся Иларион. Ему казалось странным, что надо кончать университет, чтобы жить в камышах и наблюдать за живностью. Но он знал, что и Геннадий орнитолог, и, чтобы не обидеть его, вслух мысли свои не высказал.
— Так как же, Иларион Николаич?
— Помощь-то какая нужна?
— Подлинь отлавливать. Кольцевать будем. Ты не думай, Иларион Николаич, не за здорово живешь. Оплата хорошая, будешь доволен. За недельку — месячный оклад, не меньше.
— Много ли нам с Анной надо. Мы и так оба при должностях, а деньги-то расходовать здесь не на что.
— Оно так. Только ты уж не отказывай. Иначе я план кольцевания сорву. Ну, хочешь, я тебе кутенка породистого привезу.
Иларион, собственно, и не думал отказываться. На базе летом дел, почитай, никаких, зарплату совестно даже получать. Отчего бы и не помочь человеку. Но, уж коль щенка предложили, Иларион, чтоб Геннадий на попятную не пошел, поломался для видимости, а потом согласился.
Каждое утро уезжали они с базы к низовым островам, где линяли тысячные стаи уток. Токовища определяли по перу, его в местах линьки тьма-тьмущая, словно кто перину на ветру потрошил.
Вброд полукружьем ставили сети внутри зарослей, затем гнали разнопородные утиные стайки. Птицы, встревоженные шумом, неуклюже били по воде голыми крыльцами и, неспособные к лету, забивались в гущу зарослей, где их ждали сети.
После загона мокрые от быстрого бега, потные и усталые, охотники выкуривали по сигаретке и приступали к кольцеванию. Иларион аккуратно выпутывал птицу, а Геннадий сажал ей на лапку алюминиевое кольцо, после чего ее отпускали.
— Работаю вот, вроде-ка дело делаю, — неспешно выпутывая нарядного селезня, рассуждал Иларион, — а на что все это? Я привык, чтоб от любого труда польза была. Не лично мне, конешно. Вообще… Вот окольцуем счас, к примеру, селешка этого, через год-другой сообщат, мол, добыли его в Африке, али еще где. Ну и что из того?
— Ну, как бы тебе короче ответить? — Геннадий, всегда веселый, серьезнеет. Говорит убежденно: — Во-первых, мы пути лёта определяем. И с теми государствами, где наша дичь зимует, договоры по охране заключаем. Во-вторых: продолжительность жизни птиц изучается. Самая же главная цель наша: сохранить вид. По данным науки определяют и устанавливают сроки охоты, численность отстрела. Надо наблюдать, записывать, сравнивать. Завел бы и ты, Иларион Николаевич, тетрадь да все интересное заносил туда.
— Куда уж мне.
— Не скажи. Еще Пришвин говорил, что следопыт из простого народа стоит одного или даже двух хороших ученых.
— Это кто же такой будет?
— Не знаешь? Такое я тебе не прощаю. Кого-кого, а мудреца Пришвина знать ты обязан, поскольку на природе живешь. Я тебе его книги привезу. Прочти. И в первую очередь «Календарь природы». Тебя эти книги многому научат.
Выходило по словам Геннадия, что и он, Иларион, может помочь науке. Странный человек Геннадий. И занятный. Как-то после загона, отдыхая возле камышового завала, он подобрал целый султан ажурных перьев, когда-то украшавших голову белой цапли, воткнул их за рант фуражки и, артистически откинув правую руку, продекламировал:
Ты некрасива, сказал бы эстет, — Губы не те и глаза узковаты, Скулы большие, в них мягкости нет. Что-то еще… И вообще, не звезда ты!Иларион от неожиданности оробел. Спросил уважительно:
— Неужто сам сочинил?
— Да нет, тут один… товарищ. А знаешь, вот этими перьями, их эгретками по-французски называют, в старину светские модницы шляпки украшали. Из-за них белую цаплю на нет было выбили.
Геннадий говорил еще о чем-то, пытаясь свести разговор на другое, но Иларион по глазам видел: сам пишет.
Вечером, укладываясь спать, он сказал Анне:
— Геннадий-то стихи сочиняет.
— Ну и что?
— Как — что? Человек стихи пишет, а ты… Не упомню вот, как он… Про глаза и большие скулы. Про тебя будто.
— Будет болтать-то…
Щенка Геннадий привез в следующий приезд. Было ему месяца три, не меньше. Шерсть блестела, будто мебель, натертая полиролью, а морда добродушная, как у мужика после ста граммов. Занятный, одним словом, щенок.
— Порода эта… — Геннадий долго нахваливал щенка, а под конец пообещал: — Ты не смотри, что мал. Вымахает — конуру придется перестраивать.
Но Черный (не называть же его Ньюлендом, язык свернешь!) росточком не удивил, но ловкостью и сообразительностью радовал Илариона, и не раз.
С малого возраста пристрастился он к охоте. Увидит, бывало, ружье — дрожь по телу, а глазами так и просит, так и умоляет: возьми, мол, — не пожалеешь.
Какой там жалеть! С появлением Черного Иларион вдвое удачливей стал. Ни одного подранка Черный не упускал. И в какие бы чащобы ни упала сбитая утка, отыщет непременно. И не раз замечал Иларион за собакой такую собачью хитрость. Если с выстрела али с дуплета падают две-три птицы, Черный вначале отыщет подранки, а уж потом подберет неподвижно лежащую дичь.
В воде, бывало, любит лазить — хлебом не корми. Ни лед, ни тина болотная ему не помеха. В полынью надо — бросается. Водолаз, да и только!
Клад достался Илариону. Он так и говорил всем, а Геннадия встречал всякий раз, как брата родного, — не всякий такую радость другому доставит. И о чем бы Геннадий ни попросил, Иларион все с большой готовностью исполнял.
И вот эту редчайшую собаку Меченый порешил.
…Иларион смотрит в окно, на веранду, видит перед собой мерзкую кабанью морду, и злость с новой силой душит его. Вогнать бы пулю в это обтянутое жесткой, как подошва, шкурой тело, поквитаться с убивцем за Черного.
Но теперь Иларион, даже в гневе, не потянулся за ружьем, как это сделал он в первую минуту. Права Анна, никуда на этот раз зверь от него не укроется. Вот сойдет вода, тогда не опасно выстрелом спугнуть стадо, скопившееся на базе. А пока — нельзя. Анна вовремя остановила его. Сам-то он по злобе на Меченого в первый миг и не сдержался бы.
Как сейчас видит Иларион растерзанного Черного.
Шли они с утрянки, на поясе в ремешках-петельках болтались четыре кряквы. Черный трусил впереди. Упредив хозяина, он ожидал его на тропе, а потом вновь уходил вперед.
Уже и радиоантенна над гривкой показалась, оставалось перебрести ильмешину, а там посуху до базы ходьбы пять минут.
В тот самый момент, когда Иларион подошел к ильмешине, Черный заволновался: оскалил белые ряды зубов, ощетинил шерсть на загривке. Не успел Иларион заменить патроны с дробью на жакан, как на тропу выскочил кабан. Не знал охотник, что перед ним Меченый. Потом уже, по приметному следу, опознал его.
А пока у Илариона было устремление — как можно скорее перезарядить двустволку. Времени на это дело требуется на так уж много, но его больше чем достаточно, чтоб осторожный и проворный зверь скрылся в камышах. Меченый затрещал сухостоем. И в тот же миг в Черном проснулся преследователь. С озорным визгом он бросился следом.
Позвать бы его Илариону, прикрикнуть — глядишь, и вернулся бы незадачливый гонщик, да в такую минуту разве сообразишь, что к чему.
По-дикому, обреченно взвизгнул Черный и затих, а Меченый поломился дальше в камыши.
Когда Иларион подбежал к месту схватки, Черный тихо и жалобно скулил. Из разорванной брюшины вывалились синие дымящиеся и разорванные внутренности.
Иларион сбросил наземь пояс с дичью, прислонил к завалу двустволку и опустился рядом с Черным. Он долго сидел около, гладил его шишкастую голову и тосковал, не в силах помочь чем-либо своему четвероногому другу. И все это время Черный, не открывая глаз, не переставал стонать. Боль порой, видимо, утихала. Тогда смертельно раненный пес скулил еле слышно, его жалобы в такие минуты напоминали скорее всхлипывания, нежели скулеж.
Солнце скатилось с зенита. Иларион словно очнулся и только теперь осознал, что истекло много часов, как Черный лежит при последнем издыхании, что никто и ничем ему уже не поможет, и что мучения его напрасны, ибо ранен он невозвратно.
И тогда он решился: оттянул неподатливую собачку затвора и, приложив конец ствола к уху Черного, выстрелил.
9
С того дня Иларион всю осень и зиму, снежную и холодную, искал встречи с Меченым. Излазил Чилимный култук, где подолгу обитал тот прежде, все окрестные ильмени и гривки, ближайшие к Быстрому морские острова, куда кабаньи выводки загодя уходят в преддверье зимы.
Тщетно. Хоть бы единый след оставил. Никакой приметаны. Более того, даже в весеннее буйное водополье на сухие пятачки Меченый не наведывался. Исчез, и весь сказ.
И на следующий сезон не было его, и еще на следующий… Так годов пять или шесть пропадал. А прошлой осенью объявился.
Анна первой с ним повстречалась.
В ту осень Иларион попал под холодный дождь, промок основательно и простудился. Да так, что все тело ломило невыносимо и горело жаром — до сорока градусов доходило. Анна уложила его в постель, не то чтоб на участок ему выехать, из дома не выпускала. Поила отварами различных трав, кутала одеялом, ставила банки на спину и грудь, жгла тело горчичниками. Троих безнадежно больных можно было бы ее стараниями на ноги поднять, не то что его одного.
И все же, когда кончились продукты и он засобирался в магазин на кордон заповедника, Анна запротивилась.
— Лежи, сама съезжу.
— Здоров я, Ань, ну гляди. — Иларион вскочил с постели и, обхватив ее, поднял на руки и закружил по комнате.
— Пусти, вот медведь, — она вырвалась из его крепких рук и все же настояла на своем: — Сама поеду, — и начала одеваться.
Видя ее упорство, Иларион не стал дальше возражать. Пускай едет. И лодкой и руль-мотором управлять она может. Анна уже не та, что была прежде. Жизнь на базе многому научила женщину и перекроила ее на свой лад. Случись ей на неделю-другую остаться одной — глазом не моргнет. И по хозяйству управится, и участок объедет. На такой срок Иларион жену не оставлял одну, но на день-другой изредка уезжал в управление.
Анна научилась ставить сети, ловко стреляла влет птицу, делала записи в Иларионову тетрадь, если мужу по какой-либо причине недосуг. Иларион купил для Анны ружье, и теперь, в осенние перелеты, они вдвоем выезжали на вечерянки и утренние зорьки.
— Ружье прихвати, — напомнил Иларион жене.
Она оделась потеплей и молча приняла из рук мужа тулку-двустволку.
Иларион видел в окно, как Анна сняла брезентовый чехол с мотора, покопалась в нем, видимо проверяя что-то, затем оттолкнула шестом бударку от берега и дернула за шнур. Мотор завелся с первого же рывка.
Анна помахала мужу и, умостившись в корме, переключила мотор с холостого хода на рабочий. И только тут Иларион запоздало вспомнил, что в патронташе, который прихватила Анна, нет патронов с жаканами. Он посожалел, что дал промашку, ибо в осенние дни кабан не только ночами выходит на чилим, а и днем не лежится ему в гаю, бродит он по островам, а потому и не исключена встреча с ним в любой час суток.
…На кордоне Анна повстречала Геннадия. Он был года на два моложе ее, но окладистая борода, которую орнитолог отпустил для солидности, старила его. То ли поэтому, то ли оттого, что Геннадий был человек ученый и готовился стать кандидатом наук, Анна робела при встречах с ним. Всегда разговорчивая с мужем и приезжающими в сезон охоты гостями, она терялась, если Геннадий заговаривал с ней.
— Как там наш следопыт поживает?
— Болеет.
— Что так?
— Простудился.
— Щенков я ему нашел. Но это будет кое-что стоить, полста, а может, меньше. Жадюга хозяин, без денег не отдает.
— Зачем же за так. Всех разве одаришь.
— Я бы одарил, — засмеялся Геннадий и серьезно сказал: — Неудобно как-то… Пусть Иларион Николаич сам с ним договаривается. Породистые собачата, не прогадает.
— Скажу. Или сами придете?
— Да я бы хоть сейчас. — Он помолчал и закончил полушутя: — И когда на охотбазах должность орнитологов введут? Работали бы мы втроем.
— Жениться надо вам, чё вы все одни да одни.
— Надо бы, Аннушка, да вот все не так складывается, как хотелось бы. Как поэт сказал: «Кто мне мил — не моя, чужая…»
Анна стояла в растерянности: уж не про нее ли эти слова. Ишь как смотрит.
— Вот так поэты пишут, — Геннадий улыбнулся и отвел глаза.
— Ну я побежала, заговорилась… — Анна накупила в магазине все нужное и пустилась в обратный путь.
Примерно на полдороге между кордоном и охотбазой забарахлил мотор. Анна решила, что неполадка в карбюраторе. Не иначе как засорился, и надо его прочистить. Пока она откручивала болтик, продувала-прочищала, карбюратор и вновь поставила все на место, истекло немало времени. Лодку все несло и несло по воде, затем прибило к берегу.
В тот момент, когда Анна заканчивала собирать карбюратор, ниже по реке что-то плюхнулось. Она подняла глаза и увидела: наперерез воде плыл крупный секач. Анна потянулась за ружьем, но, оставив ненужную затею, проводила взглядом кабана. Он выбрался из воды на оплывший яр у поваленного осокоря и исчез в зарослях.
Дома, собирая обед, Анна рассказала мужу про встречу с кабаном:
— Здоровяк! Как Меченый, не меньше, — закончила она свой рассказ. — А может, он, Ларя?
— Скажешь, — усомнился Иларион. — Сколь годов минуло, как сгинул. Поди-ко, и косточки давным-давно истлели. А ты — Меченый…
И все же два-три дня спустя, проезжая мимо поваленного осокоря, он полюбопытствовал: остановил бударку, сошел на яр и обомлел. На сыром суглинке цепочка расщепленных надвое следов перемежалась с трехпалым следом.
Он! Иларион почуял, как по спине мурашки поскакали. Не от страху, нет. При виде следов Меченого им овладело неудержимое возбуждение, даже руки у него зачесались. Теперь-то, злодей, не уйдет от него, не уйдет. Надо только все обмозговать, по-умному действовать.
Подивился Иларион живучести и долголетию одинца и зло порешил: будет, отжил.
10
Если бы зверь чувствовал намерения человека, то вряд ли Меченый лежал бы на веранде в ожидании спада воды. Ведь конец наводнению — это и его конец. Так решил Иларион. И потому, что порешил так, он уже спокойно, в упор рассматривал пришельца. Неожиданно для себя сделал несколько небольших, но любопытных открытий.
На спине, ближе к холке, средь бурой щетины, розовел длинный шрам — чья-то отметина. Пуля прошла поверху, но взбороздила шкуру знатно. А вот на ляжке старая рана обозначилась монеткой. Знать, Меченый носит кусок свинца.
Заслышав возню собак, когда Анна отнесла им в чулан по куску хлеба, Меченый приподнял голову и насторожил уши. И тут Иларион увидел у основания правого уха сквозную дыру — тоже след пули.
Бывалый зверь, что и говорить. Может, и его, Илариона, это отметины. На копыте — точно его. Еще в первый год жизни, в Чилимном култуке, оставил он ту тамгу.
А вот остальные… Вполне возможно, что его пуля застряла. А может, кто из поселковых царапнул. В последней облаве на Меченого и они участвовали. С собаками. Ох и потрепал их тогда Меченый.
…Когда Иларион убедился, что Меченый вернулся на прежние свои пастбища, он начал слежку за зверем. По какому бы делу, куда бы он ни поехал, то ли один, с Анной ли, или сопровождал прибывших на охоту гостей, ноющей занозой сидела в его голове мысль: найти, выследить.
И он выследил его. Но уже перед самым ледоставом. Напрасно Иларион месяцы напролет обследовал все ближние и дальние острова, непроходимые гривы и солонцы, заросли по берегам озер и култуков. Меченый хоронился под боком, чуть ли не на виду базы, в Чилимном култуке. Чилимный-то Иларион облазил в самом начале поисков, но ничего тогда не обнаружил. Меченый не выходил в култук, а пасся на сухом берегу в невеликих росчистях средь камышей. Так он мог жить годы, и никто не нашел бы его.
Помог случай.
Отлетали на юг последние стаи гусей. Редко-редко прогогочет вожак, видимо подавая какие-то сигналы стае.
Иларион после завтрака вышел на берег и укладывал в лодку нужное снаряжение — пока нет льда, хотел наловить рыбы да засолить впрок. И тут услышал он голос гусиной стаи. Ну, услышал и услышал. Ничего в этом примечательного. Иларион продолжал заниматься делом. Но гогот повторился, уже ближе. Понял Иларион, что летит стайка низко над камышами, не видит строений. И летит прямо на него.
Ружье лежало тут же в лодке. Он спешно загнал в стволы патроны и вскинул ружье. Стая запоздало обнаружила опасность, забеспокоилась, рассыпалась.
Первым выстрелом Иларион промазал, а вторым попал. Гусь вздрогнул всем телом, поджал крылья, но не упал, а отбился от стаи и повернул в сторону Чилимного. И по тому, как гусь перестал махать крыльями, а расправил их и медленно терял высоту, Иларион понял, что рана смертельна и сейчас гусь упадет камнем. Подобное бывало и не раз.
Так оно и произошло. Но упал гусь далеко, чуть ли не за версту — по ту сторону Чилимного култука. Иларион приметил камышовый залом неподалеку, отвязал куласик и поехал на поиски.
Добычу он так и не нашел — поди отыщи ее в многолетних завалах буйной растительности. А в росчистях меж колками гуся не было, — знать, в крепь завалился. Но охотник нисколько не жалел о нем: не ему, так еноту достанется. Уж тот копун за версту учует, не пройдет, полакомится дичиной.
А еще оттого не жалел Иларион, что открылось ему такое, чему он поначалу и не поверил. Да и как поверить, если столько времени ухлопал на безрезультатные поиски, а Меченый вот тут, рядом пасется. А то, что это он, никаких сомнений не возникало. Его след. Да и пятак, словно печать, на свежих рытвинах, — не двух-трехгодовалой свиньи, а старого великана, секача-одинца.
Вернулся Иларион на базу в добром настроении. Вернулся, а там Геннадий. Сидят с Анной, чаек попивают. Орнитолог, как всегда, балагурит, Анна улыбается его словам, а у самой глаза грустные. Это Иларион сразу приметил и встревожился.
— Жду-жду, а ты не являешься, — Геннадий пожал холодную руку Илариона. — Вот и приехал сказать, что хозяин не хочет больше ждать. Да и проститься заодно.
— Как проститься? Или в отпуск?
— В управление переводят, в город.
— А говорил, скукота там.
— Говорил. Мне сейчас надо диссертацию писать. С годик посижу в городе, а после защиты опять на волю.
— Сюда вернешься?
— Видно будет, что наперед загадывать.
— Так, — согласился Иларион и сообщил: — Меченый отыскался.
— Да ну?
— И где?! В Чилимном. Счас вот гуся шарил, да и напоролся на рытвины. Посидим, можа, ночку-другую?
— Нет уж, уволь. Утром уезжаю.
— Ну-ну. Придется с поселковыми договариваться. Одному не одолеть.
11
Съездил Иларион в город, нашел Геннадия и вместе с ним купил двух кобельков, в чем-то похожих один на другого. Хозяин, бородатый тучный мужчина, стал укорять Геннадия:
— Ты что же это глаза не кажешь. Давно бы сбыл, да слово тебе дал, а нарушить его не могу. Хожу за ними, обжорами, кормлю, а слово не могу не сдержать, — ворчал он. — Да и в плохие руки не хочется отдавать.
Кобельки меж тем спокойно лежали рядышком и любопытно глазели на незнакомцев.. Один — ему Иларион сразу же кличку нашел, Барс, — толстомордый, пушистый и был похож на огромного котенка. Второму, с черной спиной и желтыми подпалинами на боках, долго не мог придумать. И лишь со временем, спустя месяц, когда выявился ярый, взрывной характер кобелька, назвал Ураганом. Но это имя не прижилось, и его все приезжие, Анна, да и сам Иларион переиначили для краткости в Ургана. Так Урганом и остался.
Из него образовался грудастый напористый гончак. Он вихрем налетал на зверя, валил с ног. Вид у него был грозен, надбровья кустились, как у сердитого мужика.
А легаш Барс крупнее вымахал, с морщинистой мордой, отвислыми ушами-рукавицами. И добряк, несмотря на свой огромный рост и грозную кличку. Было раз, Иларион тому случаю и поныне не перестает удивляться, загнал Барс енота, повалил, прижал лапами к траве и беззлобно помахивает хвостом. А потом началось совсем непонятное: стал играть с енотом, блох в шерсти выискивать. Нет в Барсе кровожадности.
Когда Иларион купил обоих кобельков и возвращался на базу, он договорился с поселковыми охотниками устроить по перволеду облаву на Меченого.
Щенки глупые, понятно, в облавной охоте принять участия не могли, поэтому и о гончих было заранее обусловлено.
Иларион вспоминает о том предприятии, как о кошмарном сне. Накануне он сходил на Чилимный и удостоверился, что Меченый никуда не откочевал.
В назначенный час оцепили гривку полукругом с низовой стороны, чтоб зверь шел с ветру и духа человечьего не учуял.
До мельчайших подробностей Иларион помнит ту охоту. Три старых гончака сразу же напали на след и подняли Меченого. По переливчатому лаю собак было ясно, что Меченый не кинулся наутек, а засел в завале и отбивается от наседавших собак. Случается и такое на облаве. Но прошел час, на исходе был другой, а собаки не могли сдвинуть зверя с места, будто на приколе сидели. Это нарушало все правила гона и охоты.
Тогда было решено брать зверя с подхода. И едва охотники вышли из своих укрытий, коротко и обреченно вякнула одна из собак. На подходе к зверю вторая собака коротко взвизгнула. И в тот же миг Меченый покинул завал и метнулся в верхний конец гривы. Одинокий неуверенный лай сопровождал его некоторое время, а затем и он стих.
Наступила жуткая тишина. Что это означало, охотники поняли, когда подошли к завалу, где так долго хоронился Меченый. На облитых кровью камышах лежали перекусанные пополам два черно-белых кобеля-гончака, а третий, выпачканный кровью этих двух, поджав хвост, виновато отводил глаза от людей.
12
Такая вот долгая и жестокая вражда жила между человеком и зверем. Оттого-то, увидев Меченого на веранде, и потянулся Иларион к ружью. Его гневный порыв, желание расквитаться за четвероногих помощников и положить конец ненужной вражде и новым жертвам были естественны и понятны.
Но первая вспышка гнева была потушена рассудком: выстрелом можно спугнуть все звериное стадо и погубить его.
Иларион терпеливо ждал конца непогоды. Дни, проведенные взаперти, были невыносимы. Лишенный возможности привычно и громко разговаривать, двигаться, делать дело, Иларион изнывал от безделья, часами лежал на кровати, подолгу стоял у окна. Ему надоело и лежать, и выстаивать у окна чуть ли не по колено в воде, перешептываться с Анной…
Первые признаки усталости природы означились к вечеру второго дня. Меж буйными наскоками шторма стали образовываться все большие и большие промежутки. Они ослабляли его гнев и силу.
В эту ночь Иларион с Анной спали крепко и до солнца — сказалось нервное напряжение штормовых дней. Когда пробудились они, все вокруг было залито ярким светом. И — ни шороха за стеной.
Иларион, отыскивая сапоги, пошарил руками у кровати, но увидел, что воды в избе уже нет, и, не одеваясь, в подштанниках и белой нижней рубахе, прошелся к окну по сырому полу.
Вода с веранды сошла, — обнажились доски и даже верхняя приступка лестницы. Но вокруг по-прежнему было водополье, и все зверье оставалось на своих местах.
Возле строений плавали наносы камыша и сора, бревна, торчали сшибленные верхушки деревьев. Ближе к яру весь этот ненужный хлам попадал в круговерть, утягивался к ерику, а дальше, подхваченный течением, стремительно сплывал к взморью — Быстрый вернулся к своему изначальному и естественному ходу.
И оттого, что светило солнце и по полу скакали теплые желтые зайчики, физически, почти на ощупь воспринималась тишина, и Быстрый стал прежним, повеселело на душе у Илариона. Его уже не угнетало, что нужно по-прежнему сидеть невылазно средь молчаливых четырех стен, соблюдать тишину, питаться всухомятку. Он озорно подмигнул Анне:
— Живем!
— Живем, — в тон ему откликнулась Анна и впервые за эти дни улыбнулась.
Вода сходила бегом. К полдню на взгорках стала обнажаться желтая поблекшая трава. И кабаны пришли в движение. Те, что устроились с краю, мало-помалу стали спускаться по ступеням и, взмучивая остатки воды, разбредаться.
Зашевелился Меченый. И в ту же минуту Иларион схватил ружье и просунул ствол меж занавесками и прислонил щеку к холодной ложе. Анна вскинула на него глаза, прикусила нижнюю губу, да так и застыла в немоте.
Вот Меченый переступил раз, другой на затекших ногах, подошел к краю веранды и неуклюже головой вниз стал сходить к земле.
Иларион не терял его с мушки, вел стволы следом, уже собирался нажать на спуск, но неуклюжесть кабана, его шаткая походка остановили его, и он опустил двустволку.
— Ты че, Ларя? — встрепенулась Анна.
— А-а! Ладно. Из-за него стекло портить. — Иларион поморщился, как от боли, и отошел от окна.
— Я знала, что не будешь стрелять, — радостно, не тая голоса, сказала Анна. И будто свет от нее пошел.
По этому свету, по улыбке на лице Иларион понял, что жена одобряет его: негоже бить слабого да лежачего. Исстари так ведется, и человек, если он не лиходей, не может переступить того неписаного правила.
…А Меченый медленно убредал в крепь, не ведая о том, что смерть два дня жила с ним бок о бок.
Примечания
1
Курсак — живот.
(обратно)

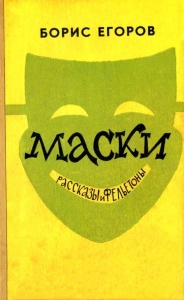



Комментарии к книге «Старая дорога», Адихан Измайлович Шадрин
Всего 0 комментариев