Юрий Рытхэу
― КОГДА КИТЫ УХОДЯТ ― (современная легенда)
Часть первая
1
Нау искала глазами этот неожиданный блеск, который к берегу становился ясно различимым — фонтан бил высоко, и солнечный свет в нем искрился разноцветной радугой.
Нау бежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и тихий смех девушки смешивался со звоном перекатываемых прибоем отполированных голышей.
Нау чувствовала себя одновременно упругим ветром, зеленой травой и мокрой галькой, высоким облаком и синим бездонным небом.
И когда из-под ног выбегали спугнутые птицы, евражки, летние серенькие горностаи, Нау кричала им радостно и громко, и звери понимали ее. Они смотрели вслед высокой девушке с развевающимися черными, словно крылья, волосами.
Она никогда не смотрела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличается от жителей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. Даже угрюмые черные камни были для Нау живыми и близкими.
И ко всему, что она видела — живому, имеющему свой голос и свой крик, безмолвному, но движущемуся, и пребывающему в вечном покое, — она относилась одинаково ровно и спокойно.
И так было с ней до тех пор, пока она не приметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана — Рэу.
Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна накатывалась, обжигая холодом босые ноги Нау.
В первые дни что-то удерживало девушку и она остерегалась подходить близко. Сильное и властное останавливало ее у прибойной черты, на той линии, где от малейшего прикосновения рассыпались в прах засохшие ракушки, где лежали просоленные в морской воде обломки древесной коры, а то и целые стволы деревьев.
Нау издали смотрела на кита, на громадное черное тело, в котором глубоко отражались солнечные блики, и ей казалось, что кит светится изнутри собственным светом.
С громким журчанием в пасть вместе с мельчайшими красными ракушками, медузами втекала вода, и над головой Рэу рождалась в водяной пыли солнечная радуга.
Она манила девушку, звала, заставляя переступать безмолвный запрет, невидимый порог, отмеченный намытой волнами грядой разноцветной гальки. Ей хотелось приблизиться к радуге, чтобы на ее тело упала хоть одна капля, в которой сверкало маленькое солнце.
И однажды Нау так близко подошла к киту, что фонтан окатил ее с головы до ног.
Это было неожиданно, но все было так, как она предчувствовала, — капли были теплые, блестящие, и Нау ощущала, как солнечные лучи обволакивают ее, по всему телу разливается новое, незнакомое чувство мягкой ласки, какого-то стеснения в груди. Частое дыхание прерывалось, кружилась голова, будто Нау долго смотрела с высоты на бегущие по воде тени облаков.
А кит купал ее в теплых струях, пронизанных солнечным светом, лаская мягкими, ласковыми ударами и тихим журчанием фонтана.
Нау чувствовала, как у нее в груди растет ее маленькое сердце, заполняя грудь, мешая ровному дыханию. Кровь согревалась, вбирая тепло китового фонтана, и девушка в растерянности стояла неподвижно, не зная, что делать. А ведь раньше она совсем не задумывалась над тем, что делала. Как ветер, волны, облака, пробивающаяся трава и прячущиеся в ней цветы, как евражки и летящие птицы, плывущие по морю звери и рыбы… Она была частью этого огромного мира, живого и мертвого, сверкающего и тонущего во мгле, убаюканного тишиной высокого неба и одеялом мягких облаков, ревущего, когда неожиданно сорвавшийся ураган раскачивал морские волны и они обрушивались на берег, стремясь достичь травы, в которых прятала свои озябшие ноги Нау.
А теперь что-то другое накатилось на нее. Будто она только что проснулась, и мгновение пробуждения затянулось, и она как бы заново видела небо, синее море, холмы с зелеными травянистыми склонами, и впервые слышала писк суслика, звон птичьего базара под скалами, журчание ручья… Будто она вдруг открыла, что морская вода отличается вкусом от той, что в ручье, а утренний холод исчезает по мере того, как над морем поднимается солнце.
Теперь, когда Нау бежала по тундре, упруго отталкиваясь от пружинящих кочек, она вдруг останавливалась и склонялась над крохотным голубым пятнышком цветка, словно осколком неба, упавшим с зенита. Голубой глазок качался на тонком зеленом стебельке, и Нау слышала пронзительный, уходящий вдаль звон.
Мир звуков разъялся, как и видимый, и теперь Нау знала, откуда идет грохот бьющих о скалы волн, шелестящий звук ветра, гладящего невидимой огромной ладонью тундровые травы, плеск мелких волн в лагуне, журчание воды в ручье, бегущем по каменистому склону.
По-разному заговорили птицы и звери.
Черный ворон каркал черными звуками, и звук этот был темный и холодный, будто тень на том берегу, куда не достигали солнечные лучи и где лежал вечный снег, темный и рыхлый от старости.
Летние лохматые песцы тявкали, словно выплевывая застывшие в глотке мелкие косточки морошки, остро и пронзительно свистели суслики, как бы окликая Нау, призывая ее взглянуть на черные глазки нор, вырытые под защитой камней.
Звенели морские птицы, гнездящиеся на прибрежных скалах, и порой, когда они разом взлетали, потревоженные росомахой, в их гвалте тонули все остальные звуки, и мир становился уныло-однообразным, серым и плоским.
Нау открыла, что звуки могут быть приятными для уха и такими, от которых хотелось бежать и укрыться куда-нибудь подальше. Зато птичий гомон над утренним ручьем Нау была готова слушать сколько угодно. В нем было что-то схожее с радугой над китовым фонтаном, и птичье щебетание рождало в душе светлое ожидание предстоящего чуда.
День ото дня тундра становилась ярче и цветистей. Ноги Нау чернели от сока ягод. Старая тундровая волчица лизала их и смотрела в глаза Нау преданными и тоскливыми глазами. Она чуяла приближение зимы, а для себя еще и смерти, потому что она уже ни на что не годилась: трудная жизнь и возраст стерли все ее зубы…
В этот день, как всегда, солнечные лучи разбудили Нау.
По яркости они были такими же, как прежде, однако в них уже не было того всепроникающего тепла, что раньше. В их прикосновении к закрытым векам Нау почувствовала предостережение, отзвук приближающегося ненастья.
Нау окончательно проснулась и утолила голод пригоршней морошки.
Чуткие уши ловили привычный шум морского прибоя, птичий звон над ручьем и шелест травы.
Нау поднялась на ноги и двинулась к морю.
Роса была непривычно студеной. Нау бежала, чтобы согреться и стряхнуть с себя остатки сна. Суслики свистели ей вслед, испуганные куропатки вспархивали из-под ног, но Нау не останавливалась, движимая каким-то тревожно-радостным предчувствием. Обычно на последней галечной гряде, намытой волнами, Нау подбирала плети морских водорослей, добавляя их к скудному завтраку. Но на этот раз она даже не замедлила шага.
Ей уже слышался в прибойном гуле знакомый свист возносящегося к небу китового фонтана.
Блеск моря слепил ей глаза, и Нау не могла как следует рассмотреть берег.
И вдруг она увидела необычное… Подумалось, что это просто видение ослепленных блеском воды глаз.
Да, был фонтан, в котором дробилось солнечное сияние, и кит, приткнувшийся к берегу. Но по мере того как Нау всматривалась в морского великана, он становился все призрачнее, как бы растворялся в облаке мельчайших капелек воды…
Нау моргнула несколько раз, чтобы рассмотреть кита.
Но его не было.
Не было и фонтана с солнечной радугой.
Вместо всего этого она видела на пенной оторочке прибоя человека.
Он стоял и смотрел на нее черными, как у нерпы, глазами. Нау кинула быстрый взгляд на море. Там было пустынно. Ничто не указывало на то, что кит, который только что был у берега, уплыл. На гребнях прибоя сидели морские кулички и дергали острыми головками. Стаи перелетных птиц низко стлались над водой.
Нау чувствовала, как холодно вокруг. Студеная галька жгла ноги, холоден был воздух, и даже сами солнечные лучи уже не грели. Человек сделал шаг навстречу, и Нау показалось на миг, что за его плечами мелькнула радуга. Его лицо вдруг переменилось: глаза сузились, рот полуоткрылся, и от всего его облика повеяло необычным теплом. От него исходило ласковое, греющее даже на расстоянии тепло, зовущее, заволакивающее мягким облаком.
Нау тоже сделала шаг навстречу, неожиданно почувствовав желание прижаться к груди незнакомца, спрятаться в нем от холода.
Мужчина взял Нау за руку.
Он шел легко, перешагивал мелкие лужицы, перепрыгивал через потоки, и поступь его была подобна полету птицы. Нау неслась словно на крыльях развевающихся черных волос за незнакомцем.
Утренний холод улетучился, стало даже жарко, и ноги горели, будто она бежала не по прохладной траве, а по раскаленным летним солнцем песчаным берегам тундровых рек.
Блеск солнца мчался вслед за ними по глади лагуны, по струям речушек и ручейков, по многочисленным лужам и озеркам.
Что же это?
Неведомая, огромная, сравнимая только с солнцем, радость. Легкость и тревожно-сладкое ожидание, теплое стеснение в груди от мысли, что он рядом, тот, в котором слилось все, что пришло этим летом, — и огромный кит, и удивительное тепло, и неожиданное открытие того, что она чем-то отлична от птиц и зверей, от трав и волн, от неба и земли…
Что же это такое?
Они поднялись на тундровые холмы, покрытые мягкими, чуть пожелтевшими травами. Под травами лежал подсохший светло-голубой олений мох — ягель, толщей своей защищающий растения от губительного воздействия вечной мерзлоты.
С высоты холмов открывалось море, уже далекое, с еле слышным приглушенным прибоем.
Мужчина остановился, не выпуская руки Нау.
Он повернулся лицом к морю, и девушка вместе с ним посмотрела в синюю даль.
За белой оторочкой прибоя резвились киты. Стая приблизилась к берегу, расцветив радужными фонтанами волны и спугнув куличьи стаи.
И лицо его вновь озарило выражение, от которого исходило тепло, и в его нерпичьих больших черных глазах зажегся теплый желтый огонь.
Мужчина взял ее вторую руку и чуть потянул к себе. Тепло казалось невыносимым, обжигающим, но зовущим. Слегка кружилась голова, и Нау вспомнила, как взбиралась на высокие прибрежные скалы и оттуда подолгу глядела на море, на движущуюся рябь, на чередующиеся волны… Вот так же кружилась голова и крутая даль тянула к себе, вызывая сладостную дрожь в ногах…
Но это совсем другое, лишь отдаленно напоминавшее зов бездны.
И снова это тепло, нежное, мягкое, как мягкий пух в гнезде гаги на холодных скалах, обращенных к морю, вечно обдуваемых ветром и смачиваемых солеными брызгами…
Лицо его было близко, и оно менялось, как меняются тундра и море под ветром с облаками, то открывающими, то закрывающими солнце.
От него пахло морским ветром и водорослями.
Да, она ждала именно его, вот такого, близкого, понятного, сильного и нежного одновременно. И вся ее тревога по утрам, беспокойство по вечерам, когда солнце уходило за морской горизонт, и ощущение радости, когда кит приплывал к берегу, было предчувствием именно этой встречи, ожиданием счастья.
Рэу опустился на траву, увлекая за собой Нау. Кружилась голова, все казалось окутанным радужной дымкой, и тело словно было погружено в теплый китовый фонтан, обволакивающий, ласкающий прикосновением своих нежных струй.
Иногда Нау казалось, что она летит высоко над поверхностью земли и мягкие светлые облака несут ее вслед за легким ветром. И одновременно с этим ощущением росло и другое: хотелось слиться воедино с мужчиной, и это желание было таким сильным, что Нау чувствовала боль от этого желания. Иногда боль наполняла все нутро ее, стараясь вырваться наружу, но не находила себе выхода.
Нау хотелось кричать от рвущихся изнутри воплей, но она не знала… не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь…
Нау слышала шум китового фонтана, взрывающего воздух над морской волной… Р-р-р-р-э-у!.. — чудилось ей.
— Рэу, Рэу, Рэу, — произнесла она несколько раз и открыла глаза.
Лицо Рэу было совсем близко, и большие его черные глаза вбирали в себя девушку, топя ее в мерцающей, жаркой черноте.
Теперь Нау не чувствовала ни страха, ни тревоги. Она еще и еще раз убеждалась в том, что именно этого ей не хватало, именно этого она и ждала. Она только не догадывалась, что это самое придет к ней в облике мужчины, вышедшего из кита.
И вдруг словно солнечный раскаленный луч прошел через все ее тело. И первая мысль ее была: разве боль может быть радостью? И тут же ответ: да, боль может быть самой высокой радостью, от которой хочется кричать и плакать светлыми, горячими слезами. Луч бродил по ее телу, зажигая его, рождая невидимый огонь, и хотелось только одного — чтобы это продолжалось бесконечно долго, вечно…
Когда Нау пришла в себя, то в первое мгновение она испугалась того, что все это ей показалось или приснилось.
Но Рэу — так она мысленно назвала мужчину — сидел с ней рядом и держал в руках ее черные волосы, переливая пряди из одной руки в другую. Он улыбнулся, и лицо его озарилось необыкновенным светом.
Он рассматривал Нау, приближая свое лицо к ней, касался кончиком носа ее носа, и это прикосновение снова разжигало теплившийся в сердцах огонь.
— Разве боль может быть радостью?
— Высшая радость приходит через боль, — ответил Рэу.
Вместе с его словами Нау ощутила знакомые запахи моря — соленой пыли, водорослей, мокрой гальки и распыленных по берегу красных морских звезд.
Перед заходом солнца Рэу встал с примятой травы и зашагал в сторону моря.
Нау шла рядом.
И чем ближе был шум морского прибоя, тем тревожнее становилось в ее душе. Впервые в жизни она без радости подходила к морю.
Вот уже прибой и куличьи стаи на его изломе.
Рэу остановился.
Солнце падало в воду. Над линией, где соединялось небо с водой, оставался верхний край диска, и от него по воде бежала звонкая светлая дорожка, упиравшаяся в мокрый галечный берег.
Рэу ступил на эту дорожку, шагнул в воду, и на том месте, где только что был человек, мелькнул на мгновение китовый фонтан.
Нау в порыве шагнула в воду, но что-то сильное и властное вытолкнуло ее обратно на берег.
А кит уходил все дальше, и вскоре его фонтан померк вместе с последним отблеском погрузившегося в море солнца.
2
Когда солнце вставало над лагуной, достигнув своей высшей точки, Нау спускалась на берег и стояла, пока вдали не начинала играть радуга.
Радость ее росла по мере того, как к берегу приближался кит и громче становилось его взволнованное дыхание.
Обратившись в человека, Рэу брал Нау за руку и шел вместе с ней на мягкие тундровые травы.
Они мало говорили. Многое из того, что нужно было передать друг другу, само собой изливалось через взгляд, прикосновение и даже просто через долгое молчание.
Проходили дни, полные счастья, невидимого и неслышимого полета души. И однажды Нау увидела, что дальние горы покрылись снегом.
— Что это?
— Это то, что погонит нас в другие моря, — ответил Рэу.
— Значит, ты покинешь меня?
Рэу промолчал.
С каждым днем свидания укорачивались, потому что солнце торопилось уйти в воду, сокращая свой небесный путь. В воздухе закружились белые снежинки. Падая на землю, на лужицы, в бочажки, они превращались в холодную воду.
Неуютно становилось на земле.
Птичьи стаи уходили на юг, оглашая опустевшую тундру печальными криками.
Умолк звонкий птичий гомон над ручьем, и сама вода в нем потемнела, загустела от частых дождей.
Нау бродила по тундре и разрывала мышиные норы, чтобы достать из них сладкие корешки. Бывали дни, когда она не могла приблизиться к морскому берегу: огромные волны бились о скалы, накатывались на галечную косу, кидаясь на одинокую девушку, стоявшую на высокой галечной гряде.
В такие дни Нау боялась, что Рэу не приплывет.
Но он приплывал.
Однако в его ласках появились тревога и нетерпение.
— Почему ты не остаешься со мной до утра?
— Потому что, если я не вернусь с последним лучом, я навсегда останусь на земле, — ответил Рэу.
— А ты этого не хочешь?
— Не знаю, — ответил Рэу.
Еще совсем недавно, по весне, когда он, молодой и сильный, резвился в морской упругой воде, он мог с уверенностью сказать, что никогда и ни за что не променяет вольную морскую стихию на земную твердь. А теперь… Он и не подозревал, что есть в мире такая сила, которая превращает кита в человека и держит его на берегу, заставляя забывать о великой опасности навсегда остаться на земле человеком.
Братья-киты предостерегали его. Отец показал на белую пелену на горизонте. Она с каждым днем приближалась к берегу. Скоро это холодное и белое скует морскую воду и закроет путь к живительному воздуху. Уже ушли в теплые края первейшие враги китов — морские косатки, уплыли моржи, тюлени, и даже мельчайшие морские обитатели, которыми кишели прибрежные отмели, последовали за большими зверями. Все пустыннее и молчаливее становились берега северного моря.
Наступил день, когда за каменным мысом появилась полоса белого льда, и от него ощутимо потянуло холодом и резким студеным запахом. Рэу приплыл не один. Остальные киты держались у кромки льда, пуская высоко в воздух хорошо видимые в стылом тумане фонтаны. Их было так много, что испуганные бакланы поднялись и улетели.
Рэу медленно приближался к берегу, сопровождаемый братьями. Они словно придерживали его, не давая ему коснуться прибрежной гальки. Но Рэу пробился к пенному прибою и вышел на берег.
Он тяжело дышал, и грудь его высоко поднималась.
— Нау, — сказал он, — я пришел к тебе.
— Навсегда?
— Навсегда, — ответил Рэу, и как бы в ответ на эти слова в воздух взметнулись десятки китовых фонтанов, раздробив солнечный свет и заглушив все остальные звуки.
Рэу взял за руку Нау и повел за собой в тундру, подальше от морского берега, от разъяренных китов-сородичей. Он торопился уйти, боясь, что переменит решение и уйдет вместе со своим китовым племенем далеко в южные теплые моря, подальше от надвигающихся льдов.
Они прошли тундровым зеленым берегом лагуны и углубились в холмы, где трава уже не была такой мягкой, а в земле чувствовалось приближение вечной мерзлоты, притаившейся от летнего теплого солнца за толстым слоем мха и прошлогодних трав.
Они уселись на пригорке и долго сидели молча.
Рэу был печален, и на лице его был туман, как в эти осенние утренники.
Нау дотронулась до его щеки пальцем.
Рэу вздрогнул и вздохнул.
— Что будем делать? — спросила Нау.
— Жить будем, — коротко ответил Рэу. — Новой жизнью, жизнью людей.
Нелегко пришлось в первые зимние дни. Рэу вырыл земляную нору и соорудил над ней свод из жердин, подобранных на берегу. Сверху свод покрыл дерном и сухой травой. Он смастерил копье из расщепленной кости моржа и заколол дикого оленя. Шкуру постлали на ложе, чтобы защитить себя от подземного вечного холода.
Нау вспоминала беспечные дни, как красивый сон, как то, чего на самом деле никогда не было. Иной раз ей даже казалось, что и Рэу никогда не был китом, потому что больше не было открытого моря, и, сколько охватывал глаз, простиралась белая пустыня, покрытая искореженными обломками торосов, вздыбленными ледяными полями, которые светились пронизывающим холодным мерцанием. Ветер бродил меж льдов, выбирался на берег и тщательно заметал все темное снегом, в ярости накидываясь на низкую пещеру-землянку, стараясь сровнять ее с белой равниной. Ветер ярился, обнаруживая каждое утро чернеющее отверстие, из которого поднимался пар живого дыхания людей.
Хотя усталость валила по вечерам с ног первых обитателей косы между лагуной и морем, они были счастливы, и большое, высокое и вечное, которое соединяло Нау и Рэу, горело с постоянством и силой летнего незаходящего солнца.
Охотничья удача сопутствовала Рэу, и оленьих шкур теперь хватало не только на подстилку, но и на то, чтобы защититься от холода.
Нау сучила нитки из сушеных оленьих жил и иглой, выточенной из кости косатки, сшивала высушенные и выделанные шкуры. Чтобы тело Рэу не терлось о шершавую мездру, Нау на полу тесной хижины мяла оленью шкуру твердыми пятками своих сильных ног.
Горел огонь в каменной плошке, словно маленькое солнце поселилось в занесенной тяжелыми снегами землянке.
Темнота подступала ближе и плотнее. Солнце показывалось лишь узкой красной полоской, но в сердцах Нау и Рэу была твердая вера в то, что обязательно придет новый настоящий день, который будет еще лучше вчерашнего, точно так, как прекрасными они находили друг друга каждое новое утро.
Прошлого как бы не существовало для них, потому что главным, от чего зависела жизнь, тепло в хижине, огонь в каменной плошке, было настоящее. И от настоящего зависело то, что будет завтра.
Часто дули ураганы. Слежавшийся снег поднимался в воздух, и плотная пелена мокрого снега и упругого ветра валила человека с ног, прижимала к земле.
Прислушиваясь к громыханию снега по крыше землянки, Нау вдруг ощутила толчок внутри себя.
— Что там? — встревоженно спросила она, приложив ладонь к животу.
Рэу положил руку на смуглую теплую кожу жены чуть выше темной точки пупка.
И почувствовал биение живого.
— Это будущая жизнь! — радостно сказал он. — Это новое утро нашей жизни! То, ради чего мы вместе!
— Это будущая жизнь, — тихо повторила Нау, прислушиваясь к себе.
Когда утихла пурга и Нау с Рэу вышли на волю, из-за дальних гор показалось солнце.
— Оно вернулось — источник тепла!
Они кричали от восторга и смотрели друг на друга счастливыми глазами.
Солнце еще было низко, и лучи его окрашивали снег в алый цвет на всем протяжении до горизонта, который с трудом просматривался вдали.
Рэу мастерил разные орудия. Глядя на него, на падающие на его лоб волосы, Нау припоминала что-то смутное, неправдоподобное, волшебное, что приключилось с ней неизвестно когда — то ли во сне, то ли наяву. Был ли вправду он китом?
На рассвете Рэу уходил на морской лед.
Нау с нетерпением ожидала его. Смотрела на торосы. Иной раз ей чудилось открытое море, зеленые волны и радужные блики вдали. Что это было? Сердце билось сильнее, жаркое волнение поднималось в груди, и становилось так тепло, что она откидывала капюшон оленьей кухлянки.
Рэу приходил с добычей, и Нау больше не вспоминала о странных мыслях и видениях, занятая разделкой добычи, приготовлением пищи.
Солнце оторвалось от Дальнего хребта и поплыло по небу.
Однажды Рэу заметил на южной стороне большого тороса щетинку еле видимых глазом крохотных сосулек.
Знакомая птичья песня разбудила Нау. Поначалу она не могла уяснить — то ли это у нее внутри поет или же за стенами хижины.
Маленькая серенькая полярная пуночка прыгала на тоненьких озябших ножках и звонко щебетала, подбирая остатки пищи. Она верещала и маленьким острым глазом лукаво посматривала на Нау, как бы поздравляя ее с приходом поры Большого Света.
Нау заметно отяжелела, тело ее округлилось. Она с трудом носила большой живот. Вместе с теплом в прибрежные разводья приплыли жирные нерпы. Они вылезали греться на солнце, и тут их настигал охотник. Иной раз за день он добывал сразу несколько нерп и в последующие оставался дома, поправляя жилище, побитое жестокими зимними ветрами.
Устроившись на солнечной стороне, где уже стаял снег, люди разговаривали о будущем.
— Пройдет время, — задумчиво говорил Рэу, — и рядом с нашей хижиной вырастут другие жилища, и род людей, который мы начали, распространится по морскому побережью. Здесь есть простор, море кишит зверьем, в тундре бегают олени — можно жить и ждать радостей, которые сулит завтрашний день…
— Как хорошо смотреть в будущее, — отзывалась Нау. — Когда глядишь вперед, кружится голова, будто смотришь с большой высоты.
На лагуне подтаял снег, и поверхность ее теперь была похожа на плешивую от сырости оленью шкуру.
Как-то Рэу, вернувшись с сопки, откуда он высматривал приближающиеся стада диких оленей, возбужденно сказал:
— Я видел открытое море.
— Открытое море? — тревожным эхом отозвалась Нау.
— Лед сломался, — сказал Рэу. — И большие птичьи стаи летят к этой воде через нашу косу.
— Откуда столько живого приходит на нашу землю? — спросила Нау.
— Должно быть, где-то есть иная земля, — ответил Рэу. — И, быть может, такие, как мы с тобой, существуют еще где-нибудь. Мы только еще не знаем их, еще не встретились с ними.
Теплый ливень разбудил обитателей хижины. Когда они вышли на волю, то увидели, что ото льда на лагуне осталось лишь несколько плавающих кусков, которые, повинуясь течению, плыли у берега, отдаляясь к проливу. А в море свободная ото льда вода уже была видна с порога хижины, и полузабытый запах моря снова щекотал ноздри, рождал смутные желания.
Рэу смастерил сеть из оленьих жил и натянул на круг из гибкой ветви. Он поднимался на прибрежные скалы и ловил сетью красноклювых топорков.
Последние льдины ушли из лагуны.
Нау непонятно и неудержимо тянуло к воде, и она была готова целыми днями сидеть, глядя на ровную поверхность, следя за толстыми бакланами-рыболовами, за снующими в прозрачной воде серыми бычками и плоскими рыбами, плотно прижимающимися к каменистому дну.
Это случилось ранним утром, когда солнце уже было высоко над мысом и собиралось двинуться в долгий путь над тундровыми холмами.
Она спустилась на прибрежный лужок со свежей, блестящей травой у устья ручейка, сбегающего с горы.
На ее крик прибежал Рэу.
— Подтащи меня ближе к воде, — попросила Нау.
Маленькие китята появились, когда ноги Нау наполовину оказались в воде. Новорожденные поплыли, пуская маленькие фонтанчики.
Нау повернулась лицом к Рэу и счастливо улыбнулась.
— Я рада, что они похожи на тебя.
Нау вошла в воду, и набухшие от молока груди оказались в воде. Китята подплыли и начали шумно сосать, касаясь грудей мягкими толстыми губами, меж которых розовели еще нежные, пушистые зачатки китового уса.
3
Рэу охотился на непрочном ледовом припае, добывая нерп и лахтаков.
А Нау почти не уходила с берега, возилась со своими детьми, которые росли, набирались сил и уже отваживались уплывать на середину лагуны, на самую глубину.
И тогда Нау тревожно окликала их, зовя именем отца:
— Рэу! Рэу! Рэу!
Китята высоко взметывали фонтанчики, торопились к ней, тыкались мягкими губами в распластанные на воде груди и долго и смачно вбирали в себя жирное материнское молоко.
В вечернюю пору, когда солнце покидало сушу и отправлялось в море, чтобы окунуться после долгого дневного перехода в прохладные воды, приходил отец и играл с детьми. Он кидал разноцветные камешки далеко в воду, китята бросались за ними, отыскивали их на дне лагуны.
У лагуны становилось шумно: всплески воды, шипение и свист китовых фонтанов, крики Рэу и Нау — все это смешивалось с щебетанием птиц над ручьем, с хлопаньем крыльев бакланов, удирающих от стремительно плывущих китят. На кочках стояли суслики и одобрительно посвистывали.
С заходом солнца китята отправлялись спать, а родители укладывались здесь же, на берегу, подстелив под себя оленьи шкуры.
Нау среди ночи часто просыпалась, прислушивалась к плеску воды, чтобы услышать сонное дыхание своих детей. Широко открытыми глазами она смотрела на светлое небо, где еще не было звезд: они зажгутся тогда, когда укоротится солнечный день. Лежа так, без сна, Нау чувствовала себя легким ветром, медленно парящим над сонными травами и цветами, над волной, плещущейся у уреза, чувствовала себя частью каменного берега, у которого текла студеная океанская вода, облаком под острым краем бледной луны… Она была всем, что вокруг нее, что являлось огромным миром, заполнившим все видимое пространство. Она знала, что с наступлением рассвета, когда солнечные лучи ударят в мокрые скалы у мыса и перепрыгнут на галечную косу, заиграют на утренней ряби лагуны, все это исчезнет, она как бы заново превратится в существо, отличное от окружения. Именно днем приходили трудные мысли о том, что вот китята, будучи ее детьми, плоть от плоти ее и Рэу, все же китята и они не могут даже взойти на берег и войти в родительскую хижину…
Нау утешалась слабой надеждой, что со временем китята превратятся в людей, как это случилось с Рэу.
Порой Нау хотелось поделиться тревожными мыслями с Рэу, но тот, казалось, не видел никакой разницы между собой и китятами. Видимо, ему и в голову не приходило, что они — отличные от него существа. Может быть, это оттого, что Рэу сам был китом в обличье человека…
В дневное время Нау снова становилась обыкновенным человеком. Ей приходилось напрягать разум, чтобы понять, чего хочет старый ворон, взобравшийся на побелевший от времени, отполированный ветрами моржовый череп, ей надо было задуматься, чтобы догадаться о смысле пения пуночек и свиста евражек. Это рождало тревогу и мысли, раздумья о происходящем.
Рэу был занят с утра до вечера.
Еще весной он загарпунил на льду несколько моржей и показал Нау, как нужно расщеплять кожи, чтобы они стали тонкими и упругими. Эти сырые кожи он долго держал в мелкой воде лагуны, и, пока они там мокли, собирал плавниковые жерди, подбирая их друг к другу. Нау казалось, что Рэу мастерит скелет какой-то неведомой гигантской рыбы. Он обтачивал дерево заостренными ножами из камня, полировал, сверлил трубчатыми костями и потом крепко связывал лахтачьими ремнями. Когда все было готово, Рэу достал из воды моржовые кожи и обтянул ими деревянный скелет.
— На этой лодке, — объяснил Рэу, — можно уходить далеко от берега.
Первое плавание совершили по лагуне.
Упругая вода била в днище, вызывая звонкий гром, ветер наполнил парус, сшитый из тонко выделанных нерпичьих кож, и лодка мчалась по лагуне. Дети-китята плыли вслед, радостно выпрыгивая из воды, стараясь высоким фонтаном обрызгать родителей.
Лодка шла вдоль галечной косы к проливу, соединяющему лагуну с открытым морем.
Нау громко окликала детей, и ей казалось, что они отзываются ей, лопочут детские слова, радуются вместе с ней изобретению отца.
Рэу, гордый тем, что сотворил такое чудо, выкрикивал сильное, громкое, приятное слуху. Толстые бакланы нехотя уступали дорогу, долго махая крыльями, чтобы подняться над водой, чайки с тревожными криками носились над лодкой, пересекая ей путь, а нерпы выныривали и долго смотрели вслед, не понимая, что случилось, стараясь уразуметь, что за неведомое чудище появилось в их водах.
— Теперь мы стали ближе к детям, — радостно сказала Нау, когда они приплыли обратно и вытащили на берег лодку.
— Завтра выйдем в открытое море, — сказал Рэу.
Море ласково приняло лодку. Нау чувствовала, как сильно и могуче оно, как велики волны, незаметные с берега. Они легко несли на могучей спине кожаную лодку. Сильный и ровный ветер наполнял парус, и вода легко журчала за бортом уходящей от берега лодки.
Глянув на Рэу, Нау удивилась: она никогда не видела на его лице такого выражения. Рэу словно бы слился с лодкой и был единым существом с ней. Каждый удар волны, каждый порыв ветра отражался в нем. Вздымаясь на гребень волны вместе с лодкой, Рэу как-то странно придыхал, словно выпускал из себя китовый фонтан. Ветер шевелил его волосы, обвевал напрягшееся, сузившееся лицо и выжимал слезы из широко открытых глаз.
А потом Рэу стал громко и протяжно кричать, и в этом крике были удивительные слова, словно окрашенные радугой:
Ветер, сильный ветер, Смешанный с пылью морской воды! Подними на могучую спину свою Кожаную ладью и вознеси На тропы морских родичей моих, Чтобы свиделся я с ними и Сказал, что есть великая сила В природе, что делает кита Человеком и дает жизнь Новому, доселе небывалому В природе…Нау, невольно поддавшаяся очарованию ритмичного крика, вдруг обнаружила, что кричит вместе с Рэу, и новорожденная песня людей звенит вместе с ветром, ударяясь о парус.
Галечная коса давно скрылась с глаз, и скалистые мысы, разноцветные вблизи от наростов лишайников и мхов, кое-где покрытые зеленой травой, стали синими, и расстояние смазало их очертания, уменьшило размеры. Теперь огромная водная ширь отделяла кожаную лодку от земли, и это волновало Рэу, наполняя его новой силой.
А Нау вдруг почувствовала страх.
Твердая, надежная земля оставалась уже далеко. Маленькой хижины нельзя было рассмотреть.
— Куда мы плывем, Рэу? — спросила Нау.
Рэу прервал пение, и последний звук унесся поверх паруса, смешавшись с шипением зеленых волн.
Выражение лица Рэу переменилось, словно туча нашла на него, и он тихо ответил:
— Не знаю.
Он сел на дно лодки, на частые переплетения деревянных планок, на которые была натянута моржовая кожа.
— Я вспомнил давние годы, — сказал Рэу. — Я был молодым и любопытным и часто отрывался от своих. Уходил далеко, чувствуя себя частью моря, ветра и синего неба. Меня предостерегали. Но я не слушал слова старших. Однажды на меня напали косатки. Они преследовали меня яростно и долго, стараясь прижать к берегу. Но я сумел уйти от них и воссоединился со своей стаей. В другой раз я оказался среди плавучих льдов, из которых едва выбрался, ободрав до крови все тело… И сегодня, выйдя в море, я снова почувствовал себя молодым и полным сил…
Рэу развернул лодку к берегу.
Когда впереди тонкой полоской обозначилась коса, рядом с лодкой взметнулся китовый фонтан и из глубины показалась голова кита.
— Это мой брат! — обрадованно закричал Рэу. — Гляди, Нау, а вон еще один! Другой позади нас! Они пришли ко мне! Нау, они радуются свиданию с нами!
Киты осторожно подходили к кожаной лодке и толкали ее вперед, придавая ей новую скорость. Их разинутые пасти, украшенные темным частоколом плотного китового уса, казалось, улыбались Нау.
Рэу стоял во весь рост и радостно смотрел на своих братьев.
— Как жаль, что они не понимают человеческого разговора, — сказала Нау.
— Понимать-то понимают, — ответил Рэу, — только говорить не могут. Чтобы иметь речь, надо стать человеком, надо полюбить женщину, как это случилось со мной… Так мне говорила мать, когда она вызнала, почему я так стремлюсь к берегу, отчего я так долго не возвращаюсь к стаду. И еще она говорила: все, кто живет на побережье, произошли от китов, которых преобразила любовь…
— Значит, мы не одиноки на берегу? — спросила Нау.
— Может быть, — ответил Рэу.
— Тогда почему я родила китят?
— Потому что я — кит, — ответил Рэу, и, словно в ответ на эти слова, братья, следовавшие за лодкой, взметнулись вверх, выпрыгнув из воды почти во всю свою огромную длину.
Поднятые ими волны едва не захлестнули кожаную лодку, но Рэу только смеялся и кричал громкое, радостное своим братьям.
Вместе с ним радовалась и Нау, и спокойствие возвращалось к ней по мере того, как приближался берег и издали уже можно было различить белую оторочку прибоя.
Рэу направил лодку в узкий пролив, соединяющий лагуну с морем.
За отмелью дети встретили кожаную лодку и пристроились к бортам, сопровождая ее, пока она плыла от пролива вдоль зеленых тундровых берегов.
На закате Нау покормила детей, и они отплыли на середину лагуны, где обычно проводили ночь.
За вечерней трапезой Рэу сказал:
— Мои братья признали меня. Они увидели, что я возвратился в море, остался верен ему.
* * *
Когда росы стали холодными и в тундре налились соком ягоды, Нау стала замечать, что детям все труднее подплывать к ней — они выросли.
На рассвете Нау уходила на зеленые холмы, пересекая низкую, болотистую луговину, на которой алела спелая морошка. Она собирала в кожаный туесок черную шикшу, голубику, морошку. К полудню возвращалась в хижину. А Рэу все не было: он уплывал в кожаной лодке к Одиноким скалам, торчащим далеко в море, и там охотился на нерпу, гарпунил моржей и встречался со своими братьями. Нау смешивала ягоды, сдабривала их нерпичьим жиром и ставила на холодок, чтобы угостить лакомством возвратившегося охотника.
На морской стороне галечной косы она ждала возвращения Рэу.
Сначала показывался парус. Он медленно рос, покачиваясь под ветром. Над парусом летели птицы, указывая путь к берегу, а рядом плыли братья-киты. Нау смотрела на приближающуюся лодку. Вот уже можно различить сидящего в ней охотника, его развевающиеся на ветру черные волосы. По бокам лодки были привязаны нерпичьи и моржовые туши.
На этот раз Рэу приволок большую тушу моржа.
Желтые клыки животного торчали под водой. Рэу и Нау пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытянуть на берег гигантское животное.
— Большая кожа у этого моржа, — сказал Рэу. — Мы сделаем из нее покрышку для новой хижины, чтобы нам было просторно в ней.
Он давно заметил, что Нау снова собирается стать матерью, и радовался этому.
С приходом темных ночей подросшие китята перестали подходить к берегу — мели не пускали их. Нау уже не кормила их своим молоком, и дети сами добывали себе еду.
— Им тесно в лагуне, — сказал Рэу и спустил лодку в воду.
Он посадил Нау в середину, сам устроился на корме, чтобы править парусом и рулевым веслом.
Китята ждали родителей на глубоком месте.
— Следуйте за мной! — крикнул им Рэу. — Плывите вслед за нашей лодкой!
Китята пристроились к корме. Они радовались, как всегда, свиданию с отцом и матерью.
Рэу направил лодку в пролив.
Нау молча смотрела на плывущих следом китят. Они издали поднимали головы, и в их глазах, блестящих и ясных, Нау видела невысказанную нежность и сыновнюю преданность. Теплом наполнялась грудь, и хотелось очутиться в воде и рядом с ними плыть широкой водной дорогой в открытое море.
В проливе китята чуть замешкались, как бы прощаясь со своей колыбелью — лагуной.
Впереди расстилалось море — широкое, могучее, глубокое, полное новых тайн, друзей и родственников.
Еще издали Нау увидела братьев Рэу, которые поджидали своих родичей.
Лишь только дети выплыли из лагуны, киты двинулись навстречу и окружили их, победно трубя фонтанами воды.
— Теперь я спокоен за них, — сказал Рэу. — Они в своей родной стихии, среди близких и родных.
Нау с грустью смотрела на уходящих в море детей.
— Не печалься, — сказал Рэу, дотрагиваясь до ее плеча. — У нас еще будут дети… Но дети, вырастая, всегда уходят из родного гнезда в собственную жизнь.
Дети Рэу и Нау еще много раз подходили к берегу, на свидание со своими родителями. Всем своим видом они показывали, что им хорошо и вольготно в море и они помнят отца и мать.
Когда кромка льда показалась на горизонте, Нау родила мальчиков-близнецов. Они лежали по обе стороны счастливой матери и орали во все горло.
Склонившись над ними, Рэу всматривался в новорожденных, и трудно было по его лицу догадаться, доволен он или нет.
Только вчера старшие ушли в теплые края, где будут зимовать вдали от острых льдин и смертельной стужи. Всем стадом они приплыли прощаться и долго резвились возле самого берега, пугая стаи перелетных птиц.
Опустел берег. На него, зловеще потрескивая, надвигался лед, шурша по мелководью. Свирепел ветер, гоня по галечной косе ледяной дождь, превращающийся на глазах в снег.
В хижине кричали два мальчика, оглашая близкую окрестность и вплетая в вой ветра человеческий голос.
Нау склонялась над ними, и почему-то на память приходили безмолвные первенцы, родившиеся китами и уплывшие в далекие моря. Какое счастье быть матерью!
Рэу строил большую ярангу.
Он воткнул колья полукругом и обтянул их нерасщепленной моржовой кожей. Затем соорудил коническую крышу и тоже покрыл кожей. Она еще была свежей, не потемнела, и дневной свет проникал внутрь. В теплом желтом свете было уютно. Но для настоящего тепла еще надо было сделать полог. Нау сшила его из шкуры белого медведя.
Кожаные туеса и деревянные кадки были заполнены моржовым жиром, в земляном хранилище был достаточен запас мяса. Впереди была зима, но люди не страшились ее, потому что их было уже много на этой занесенной снегами Галечной косе у Китового моря, скованного льдами.
Весной киты приплывали к берегам Галечной косы. Показывая на них, Нау говорила своим двум мальчишкам:
— Вон плывут ваши братья!
Братья-киты близко подплывали к берегу, почти касаясь головами гальки. Они плескались, ныряли и вдруг неожиданно всплывали, обдавая Нау и мальчиков брызгами теплой воды.
Мальчишки носились по берегу, и матери порой приходилось силой оттаскивать их подальше от прибоя.
Возвращались домой мокрые с головы до ног, и Нау сушила детскую одежду, шила новые торбаса и кухлянки, потому что одежда на ребятишках изнашивалась с невероятной быстротой.
Киты сопровождали Рэу и часто помогали, если добыча была тяжела и лодка едва шла по воде.
Киты и люди — это один народ! Соединившись, земля и море Родили людей, чье пастбище — Волны и пучина морская, Торосы в зимнюю пору!Рэу пел, и мальчишки затаив дыхание слушали его мощный голос, доносящийся из морской дали.
Волны морские, застыв, Обратились в тундровые холмы, Поросли травой, испещрились ягодой; И все живое, что есть на тундре, Имеет братьев в волнах морских…Мальчишки подходили ближе к воде и пели уже вместе с отцом:
Киты и люди — один народ! Мы — братья моря и земли! И рождены для вечной дружбы!Люди вытаскивали добычу на берег, разделывали ее, и чайки с громкими криками ликования носились над кусками мяса и жира. Волна тихо плескалась у ног, слизывая кровь, а вдали сверкали китовые фонтаны, прочерчивая небо, дробя солнечный луч.
Чередовались зимы и лета. Росли сыновья-первенцы, рождались другие дети, но уже не было больше китят в роду у первых поселенцев Галечной косы.
Ранней весной, как только острым южным ветром отрезало от берега припай, тот, кто первым видел на горизонте китовый фонтан, приветствовал его радостным криком:
— Братья идут! Братья к нам плывут!
Старели Нау и Рэу, но росли люди, рожденные и вскормленные ими. И не только мужчины были среди них, но и женщины.
Рядом с первой поднимались другие яранги, зажигались новые очаги, и девственный камень покрывался копотью огня, зажженного человеком.
Старел Рэу.
Он уже не выходил в море, и вместо него охотились сыновья — сильные и смелые люди.
Они носили имена, которыми различали друг друга, ибо похожи они были, как схожи их предки — морские исполины.
Двух старших звали Тынэн — Заря и Тынэвири — Спустившийся с Рассвета. Остальных сыновей тоже нарекли, сообразуясь с их характерами или же по близкому к их появлению событию. Одного звали Вуквун — Камень, другого Кэральгин — по имени северо-восточного ветра, дувшего с особенной силой в день его рождения… Девочек тоже назвали: Тынэна — Зорька, Тутына — Сумеречный Свет…
Но наступает осень не только в природе, но и в жизни человеческой. Рэу попросил Нау сшить ему штаны из белого камуса, снятого с ноги матерого зимнего оленя. Это означало, что старик готовится уйти сквозь облака и навсегда оставить этот мир.
В один из ненастных вечеров, когда дождь бил по мокрым моржовым крышам и ветер шарил по стенам, отыскивая вход внутрь жилищ, Рэу собрал своих детей.
— Мне скоро предстоит покинуть вас навсегда, — сказал он спокойно, оглядывая всех и на мгновение задерживаясь на каждом лице. — Как только рассеются тучи и путь в ясное небо будет открыт, я отправлюсь в дальнюю дорогу… Но прежде чем уйти, я хочу поговорить с вами… Самое главное — никогда не забывайте, что у вас есть могущественные родичи в море. От них вы ведете свое происхождение, и каждый кит — это ваш родственник, родной ваш брат. Быть братом другому — это не значит внешне походить на него. Братство в другом. Когда вы поднимаетесь на высокие скалы над морем, у вершины вы видите каменные обломки, многие из которых напоминают человека. Не приходит же вам в голову называть их своими братьями и вести свое происхождение от холодного камня… Мы пришли на землю, потому что есть высшее проявление живого — Великая Любовь. Она сделала нас людьми, сделала меня человеком. И если вы будете любить друг друга, любить своих братьев, — вы всегда будете оставаться людьми… Любовь всесуща. Я думаю, что в этом мире мы не одиноки. В старинных преданиях китового племени говорится о таких, как я… Может, где-то есть другие Галечные косы, на которых стоят яранги и ваши братья ловят нерп, добывают моржей и поют песни о море… Ищите и умножайте себе братьев, потому что только в единении вы будете сильны… И еще прошу вас помнить: моя дорога сквозь облака лежит через море…
В этот год у берегов Галечной косы было необыкновенное скопление китов, словно каждый из них хотел попрощаться с родичем своим, уходящим сквозь облака. Они приближались к берегу, где в безмолвии сидел Рэу. Иногда рядом садилась Нау, и они оба вспоминали молодость, когда на пустынном берегу Великая Любовь соединила кита и человека.
Рэу думал о тех, кто оставался в море и на берегу после него. Что же, он не сетовал на судьбу. Наверное, он был счастлив, потому что именно ему выпало стать человеком, познать Великую Любовь, о которой говорилось в древних китовых легендах. И всем казалось, что случившееся с Рэу могло происходить только в сказках… Значит, сказка — это правда, в которую иногда перестают верить…
Как это прекрасно — жить вместе с Нау!
Весь мир, со всей его красотой и нежностью, уместился в этой женщине, чье сердце больше неба и чья внутренняя теплота может соперничать с теплом солнца. Она и сделала Рэу человеком своей Великой Любовью.
Рэу повернулся к Нау.
Годы нанесли снега на черные волосы, положили морщины на лицо. Но она была прекрасна и сегодняшней своей красотой.
Как тепло делается в груди, когда смотришь на нее, видишь ее лицо. Да одна мысль о том, что она есть, существует на свете, наполняет сердце нежностью и благодарностью… Но ведь она будет с детьми. А потом придет время, и она соединится с ним в вечности.
— Мне было хорошо с тобой, — сказал Рэу.
Он угас, когда лед сковал море и первый снег припорошил трещины и разводья.
Сыновья совершили обряд печального прощания.
Обрядили Рэу в белые погребальные одежды, крепко завязали малахай на голове и зажгли костер у порога. Пронесли над очистительным огнем тело покойника и положили на нарту. Сыновья впряглись в нее. Нарта, скрипя полозьями по свежему снегу, двинулась в сторону моря.
Нау, в кэркэре из темного меха, стояла у стены яранги и печальным взглядом провожала своего мужа в вечность.
Она не плакала. Ведь Рэу дошел до конца своего пути, ушел достойно, как подобает человеку, завершившему все свои земные дела.
Ясный день стоял над Галечной косой, похолодавшее зимнее солнце скупо освещало тянущих похоронную нарту через прибрежные торосы на ровное ледяное поле, где уже была приготовлена широкая прорубь.
Нау смотрела вслед.
Невольная слеза катилась по щеке, холодила кожу и с верхней губы падала на нижнюю, вкусом похожая на крохотный обломок соленого морского льда. Как велик и печален мир! Мыслью своей пытаешься измерить протяженность жизни от далекого прошлого, начала которого не помнишь, а будущее теряется в тумане никем еще не испытанного пребывания в ином, заоблачном мире, где нет смерти, где нет сопоставления этого и другого мира… И все это — жизнь, которая сильнее и длиннее в бесконечности, чем просто бытие в этом мире… Как велик и печален мир!
Сыновья молча тянули нарту, стараясь выбирать среди нагромождений торосов ровный путь, чтобы ничто не тревожило навеки уснувшее тело.
Вода у краев погребальной полыньи то поднималась, то опускалась, выдавая взволнованное дыхание моря, словно оно и водная его глубина, где обрел жизни первое дыхание Рэу, понимали случившееся. В проруби образовалась ледяная кашица. Один из сыновей взял черпак, сделанный из тугого оленьего рога и переплетенный лахтачьим ремнем. Отчерпав шугу, прояснив зеленую, почти черную в глубине воду, он остановился и посмотрел на братьев.
Они без слов отвязали тело отца и положили на лед ногами к воде.
Постояв некоторое время, они слегка толкнули тело, и оно неожиданно легко и быстро скользнуло в воду.
За телом опустили в воду нарту, и она тотчас пошла ко дну, словно была сделана не из легкого дерева, а из моржовой тяжелой кости.
Старший из братьев приблизился к воде и заглянул. Там отражалось небо и виднелось уходящее вдаль улыбающееся лицо Рэу — словно он кидал прощальный взгляд сыновьям, остававшимся на земле.
А в небе, низко над горизонтом, сияло солнце. Тишина стояла в природе, будто все сущее, все живое затаило дыхание в удивлении и благоговении перед Великой Любовью.
Часть вторая
1
Эну сидел у костра и внимательно слушал Нау. Смеяться над ее рассказами о чудном происхождении приморского народа с некоторых пор вошло в привычку жителей Галечной косы и окрестных селений. Старуха стала местной достопримечательностью, и среди прочих новостей, которыми обменивались путники, обычно сообщалось о здоровье удивительной старухи и ее рассказах и поучениях.
Однако Эну не показывал виду, что не верит старой Нау. Да и кто знает, может быть, она права, несмотря на то, что говорила чудовищно неправдоподобные вещи: будто бы она в ранней молодости была женой кита и первые ее дети были киты. Никто не знает, сколько ей лет. Даже древние старики утверждали, что в годы своей юности они знали Нау уже глубокой старухой с теми же всем изрядно надоевшими рассказами о китовом происхождении приморского народа.
В общем-то, все, что рассказывала Нау, было давно, еще с детства, известно Эну.
Он вглядывался в сморщенное, словно печеная моржовая кожа, лицо старухи, в ее удивительно светлые и глубокие глаза, отливающие зеленью морской глубины, и ему становилось не по себе.
Нау не имела своего жилища. Она приходила в любую ярангу Галечной косы, устраивалась как у себя дома и жила несколько дней, а то и месяцев. Она утверждала, что все живущие — ее потомки. Кто знает, может быть, это действительно так? Никому никогда не приходило в голову отказать старой Нау в крове и пище. Но, когда она уходила жить в другую ярангу, люди облегченно вздыхали и не удерживали ее.
Несмотря на молодость, Эну почитался в селении мудрейшим человеком. Он знал все, что полагалось знать искусному врачевателю, предсказателю погоды, хранителю древних сказаний и обычаев. Но одного Эну не мог определенно утверждать: правду ли говорит старая Нау о происхождении приморского народа? Да, люди Галечной косы чтят морских великанов, как возможных своих предков, но уж больно разнятся между собой киты и люди. Мало того, что они живут в воде, киты к тому же огромны и бессловесны, даже голоса своего не имеют… Такие предки несколько неудобны для почитания. Однако вслух никто сомнений не высказывал, и культ китового предка соблюдался на протяжении многих поколений.
Старая Нау смотрела бездонными глазами на огонь, и Эну видел, как отблеск огня тонул в их бесконечной глубине.
— Через меня, — продолжала глухим голосом Нау, — соединились земля и море, во мне родился человек таким, каким живет он нынче вокруг нас.
— А как же слово? — осторожно осведомился Эну. — Как мысль?
— Когда я была юна и бегала, как молодая оленуха, по студеным, напитанным водой упругим тундровым кочкам, я и не задумывалась, кто я — песец, птица, волк или росомаха?.. Мне было все равно, кто я, пока не приплыл Рэу и не озарил меня Великой Любовью. Сама Великая Любовь была тайной, потому что неведомо, откуда она сошла на нас. И тайна родила мысль. Потому что, пока есть тайна, человек всегда будет пытаться разгадать ее и разум будет деятелен…
Нау замолчала.
— Выходит, пока есть тайна, будет жив и разум? — учтиво спросил Эну.
— Да, — ответила Нау.
— А речь откуда? Как человек научился разговаривать и общаться с другими? — продолжал спрашивать Эну.
— Нам с Рэу очень хотелось поговорить. Вот мы и заговорили…
Эну с выражением недоверия поглядел на Нау: слишком как-то все просто.
— Вещи ведь живут отдельно от человека вместе со своими названиями и именами, — продолжала Нау. — А слово приходит из всех живущих на земле только к человеку. И речь делает нас людьми…
Эну прислушивался к словам старой Нау не только разумом, но и чувствами своими. Что-то было в ее словах действительно весомое, мудрое. Мир для нее в самом главном всегда оставался единым. Наивысшим существом для нее всегда был кит…
— А откуда появились другие боги? — осторожно спросил Эну.
— Других богов в природе не существует, — сердито ответила Нау. — Их придумали себе люди. Из страха перед тайной. Когда нет желания разумом отгадать тайну, начинают делать богов. Сколько тайн, столько и богов, на которых легко свалить все. Когда человек проявляет слабость, он часто объясняет это вмешательством непонятных сил. А порой и силу свою начинает приписывать им… Это уже совсем недостойно человека!
— Однако мы все же чтим кита как предка своего, — напомнил Эну.
— Кит — не бог, — решительно сказала Нау. — Он просто наш предок и брат. Он просто живет рядом с нами, готовый прийти на помощь.
Эну шел по берегу моря, встревоженный разговором со старухой. Он наклонялся, брал обрывки морской травы, бездумно жевал их. Сырой морской ветер, пропитанный резким запахом водорослей, птиц, рыб и зверей, мешал мыслям. Какая-то неумолимая, но пугающая правда чувствовалась в словах старой Нау о том, что человек создал множество богов от страха перед непонятным и неведомым. С этим и боязно согласиться, и в то же время соблазнительно. Но как тогда быть с установившимися обычаями? Отказаться от привычного трудно, а тем более от богов… Разумная мудрость подсказывает, что не следует резко менять представления человека, если даже они и ложны…
Старая Нау… Ее имя обросло легендами, слухами и покрылось тайнами… Она говорила, что тайны побуждают человеческий разум к деянию. В этом она права. А разум устроен таким удивительным образом, что он часто удовлетворяется готовой отгадкой, видимостью истины, пусть непрочной, со множеством прорех от сомнений и непоследовательностей.
Сколько же Нау живет на земле?
Она говорит, что с самого начала была совсем одна и не знала, кто она — песец, волк, росомаха или евражка… А может быть, тогда она была каким-нибудь животным? Это вполне может быть и согласуется с древними легендами о родстве людей с разными животными.
Но вот ее сожительство с китом…
С китом, который силой Великой Любви превратился в человека.
И еще: память племени хранила множество рассказов о том, как киты помогали приморским людям добывать пищу, охотиться, уберегали от несчастий. Эти рассказы никто не подвергал сомнениям. Но вот превращение кита в человека… Почему этого больше не случается? Ведь становится же оборотнем охотник, унесенный на льдине в море. Его долго носит во льдах, ветер и буря треплют его одежду, и наконец он остается нагишом на холоде. Но природа не дает ему погибнуть. Иные неожиданно обрастают шерстью, короткой и жесткой, как у лахтака, обретают тюленьи черты, теряют речь и спасаются… Они потом бродят по тундре невдалеке от людских поселений. Они воруют еду, руша земляные мясные хранилища, похищают сушеное мясо с вешал и, случается, нападают на женщин. Потом рождаются странные люди с обилием растительности на лицах, порой немые и глухие или лишенные зрения. Но от китов больше никто и никогда не рождался на этом берегу…
И все-таки с дальних сумеречных лет идет почитание китов и трепетно-священное отношение к великанам моря. Да и как не уважать и не благоговеть перед теми, чьи огромные тела поднимают большие волны и чье дыхание взлетает ввысь? Остальные морские звери стараются держаться подальше от человека, боятся его, но киты никогда не уплывают, когда кожаные байдары приближаются к ним. Наоборот, они стараются держаться поблизости, и Эну был не раз свидетелем тому, как киты вели за собой охотников на места, богатые тюленями и моржами.
И все же, как уловил Эну, у жителей Галечной косы не было твердой и безоговорочной веры в рассказы старой Нау о ее жизни с китом. Это была сказка, придуманная выжившей из ума старухой. Однако существовала молчаливая договоренность между всеми: никогда не выражать сомнения самой Нау. Это было бы кощунством…
Старая Нау никогда не занималась врачеванием и предсказаниями, но если кто-нибудь обращался к ней за помощью, она никогда не отказывала. Лечила она только травами и настоями крепких бульонов, сдобренных кореньями, а ее предсказания поражали точностью, которая почему-то пугала людей. Может быть, потому, что она с одинаковым равнодушием предрекала и беду, и будущую радость. И оттого, что она не скрывала правды, мало было желающих обращаться к ней. Наоборот, остерегались ее острого языка и о важном и главном старались с ней не говорить, полагаясь в таком случае на Эну, который мог и утешить уклончивым ответом, и вселить надежду туманным, неопределенным обещанием.
Сколько живет на земле Нау?
Или она вечна, как скалы, холмы и скалистые берега? Но ведь она состарилась… Значит, жизнь и время накладывали на нее свой отпечаток. Если она помнит время первых людей, то как же она стара, ибо нынче люди расселились по всему побережью и по тундре…
Рассказывала Нау, что, когда был жив Рэу, олень был дик и на него охотились крадучись. А ныне оленьи стада пасутся спокойно, и человек ходит за ними, не скрываясь. Люди даже ездят на оленях, запрягая их в нарты. А ездовых собак тогда не было, утверждала Нау, и только похожие на них волки бродили по тундре, воровали мясо из земляных хранилищ и страшными голосами выли в лунные тихие ночи.
Плескалось море у берегов, загадочное, великое, называемое в песнях Китовым морем.
Там, в пучине, иная, отличная от земной жизнь, и ее признаки слабо доходят до приморских жителей в виде студенистых медуз, красных морских звезд с игольчатой кожей, раковин, мелких рачков и моллюсков.
Но и мир звезд и неба тоже загадочен!
Пристальный взгляд на звездное зимнее небо, когда невесть откуда появляются небесные огни — полярные сияния, — заставляет трепетать душу и вселяет в сердце благоговейный ужас. В светлом круге луны видятся то человеческое лицо, то тени умерших родичей, то живущие люди, которые охотятся, едят точно так же, как и обитатели земли. Можно ли после всего этого не задуматься о множественности миров, о том, что все эти миры пронизаны неведомыми загадочными силами, имя которым боги-кэлет?
Да, пусть киты остаются предками, но нельзя пренебрегать и другими богами.
Не каждому дано чувствовать неведомую силу и знать многое. Судьба выбирает из множества людей особенных и отмечает их даром прозрения и проникновения не только в суть окружающих вещей, но и за грань понятного. Может быть, сам отмеченный и не может объяснить многого, но его способность предчувствия и предвидения сама по себе благая ценность, которая должна служить людям.
Но вот как быть с Нау?
Быть потомком кита почетно и благородно, и это возвышает человека и дает ему гордость, стремление быть сильным и независимым, как сильны и независимы эти огромные морские животные. Но вера в кита должна быть благоговейной, покрытой некоей тайной. К этой тайне может иметь доступ лишь достойный и избранный судьбой. И чем больше неясного и непонятного в потемках прошлого, тем выше тот, который может объяснить многое.
В таком случае Нау — именно тот человек, к которому должны быть обращены почести. Но личность сама должна быть достойна положения, которое уготовила ей судьба. Не только облик, но и образ жизни, поведение должны соответствовать этому.
А Нау ведет себя так, что лишь отвращает от себя людей. Зачем посвящать каждого в такие подробности, которые только подрывают веру в китовое происхождение людей? Зачем рассказывать о том, что любил есть и как храпел по ночам Рэу? Зачем утверждать совсем неправдоподобное, будто сама Нау рожала китят и среди плавающих в море есть ее прямые потомки?.. Зачем такое говорить и каждый день твердить об этом, вызывая раздражение у людей?
Да, пусть китовое родство людей — далекая правда, но эта правда должна быть величественна, высока и доступна не каждому, без унижающих ее подробностей. Она должна сиять на расстоянии, как вершины дальних гор.
А как быть с Нау?
По всему видать, осталось ей жить недолго.
Она стара, это правда. Но вот что удивляло: она никогда не жаловалась на свои недуги, не кашляла, не задыхалась, как другие старухи.
Но ведь не вечна же она!
Эну остановился, вглядываясь в море.
Он видел, как недалеко от согбенной фигурки, в которой издали можно было узнать старую Нау, за линией пенного прибоя резвились два кита, высоко поднимая головы из воды и пуская шипящие, расцвеченные солнечной радугой фонтаны.
2
Охотники уплывали вдаль, в море.
Упругий ветер звенел в парусе из тонких нерпичьих кож, выдубленных и выбеленных в крепкой человеческой моче.
Охотники зорко всматривались в морскую поверхность, стараясь не упустить круглой головы нерпы, лахтака или усатой головы моржа.
На носу сидели два гарпунера, держа на коленях длинные орудия с острыми наконечниками из хорошо отполированных пластин обсидиана — вулканического стекла.
Наконечник был хитроумно устроен: впиваясь в кожу морского животного, он отскакивал от рукоятки и под натяжением ремня поворачивался в ране поперек, накрепко застревая и давая этим возможность держать добычу как бы на привязи.
На корме сидел Эну, одетый в непромокаемый плащ из хорошо выделанных моржовых кишок. Чуть желтоватая, шуршащая поверхность плаща хорошо предохраняла от любой сырости, особенно от морской, соленой, оставляя сухой внутреннюю одежду из пушистых оленьих шкур, снятых ранней осенью. Одной рукой Эну держал рулевое весло, а другой — конец, прикрепленный к парусу. С помощью руля и паруса Эну хорошо управлял лодкой и мог держать скорость даже против ветра.
В эту пору на морском просторе оживленно: откормившиеся на летних пастбищах птичьи стаи, вырастившие новое поколение крылатых, собираются вместе, чтобы отправиться в неведомые земли.
Эну предполагал, что там, куда они улетают, не кончается лето, нет зимних холодов и, по всей видимости, там и море не замерзает.
Если проследить за направлением полета птиц и дорогой уходящих китов, легко увидеть, что все они направляются в сторону полуденного солнца. В середине зимы красная заря указывает на присутствие солнца именно там… Значит, в ту сторону вслед за солнцем уходят и птицы, и киты, и другие морские звери. Немногие остаются здесь, чтобы переждать долгое холодное время…
Что же там за земля, где в зимнюю пору не замерзает море? И вдруг догадка пронзила Эну: так ведь когда солнце возвращается на эту землю, оно уходит оттуда, и, значит, там приходит черед зимних холодов!
Он уже хотел было раскрыть рот, чтобы рассказать товарищам о своем открытии, но воздержался — зачем? Они все равно не поймут всей глубины откровения. Ведь если дальше рассуждать, то, идя за солнцем и возвращаясь вместе с ним, можно жить в вечном лете, точно так же, как это делают киты… Эну от волнения вспотел. Вот оно — счастье человеческое, дорога к постоянному и теплому времени! Ведь главная забота здешнего человека — это уберечься от губительного дыхания холода. Только наступает лето, как женщины вытаскивают зимние пологи и начинают их латать, пришивая на прохудившиеся места новые лоскутки шкур белого медведя. К осени собирают сухую траву, обкладывают ею полог, чтобы теплый воздух дольше сохранялся в жилище. Но главное — это огонь, который нужно все время поддерживать в жирнике. Тепло — это жизнь, и тот, кто знает дорогу к постоянному теплу, тот настоящий спаситель людей…
Занятый своими размышлениями, Эну совершенно потерял интерес к охоте.
Как удивительно устроено человеческое мышление: стоило наткнуться на одну дельную мысль, как она потянула другую, за ней — третью. Если судить по времени холодной поры, которая длится очень долго, в отличие от короткого лета, солнце в полуденной стороне находится гораздо дольше, чем над здешними берегами. Значит, там лето дольше и зима короче!
Вот бы найти путь туда, дорогу к долгому теплу!
Вспотевшей рукой Эну сжал рулевое весло и не сразу сообразил, что кричат ему гарпунеры.
Они увидели стадо моржей и просили повернуть туда байдару.
Эну круто развернул кожаное судно, едва не зачерпнув воды накренившимся бортом.
Дорогу к долгому лету укажут киты. Если они настоящие братья, то они не откажут в помощи.
А может быть, старая Нау знает ту дорогу? Иначе откуда она пришла сюда? Не родилась же она от камней, от волков или росомахи… Может быть, она — заблудившаяся жительница теплых краев? А кит пришел ей на выручку, чтобы она не погибла здесь от холода?
Мысли обгоняли друг друга, выстраивались в стаи, разлетались и снова собирались вместе. Они волновали Эну.
Моржовое стадо уже было близко, и вода кишела как в гигантском котле.
Спустили парус. Длинные деревянные весла в деревянных уключинах заскрипели, и послушная им байдара устремилась к моржовой стае.
Вот они уже близко. Они поворачивают оснащенные огромными желтыми клыками головы и с ненавистью смотрят на приближающуюся байдару.
Вожак моржового стада — старый самец с обломанным левым клыком, покрытый бугристой, в морских паразитах и шрамах кожей, вдруг развернулся и пошел на байдару.
Может быть, в другое время Эну успел бы отвернуть байдару, чтобы избежать удара. Но на этот раз, отвлеченный размышлениями, он какое-то мгновение промедлил.
Эну видел, как обломанный клык мелькнул внутри байдары, меж ног впереди стоящего гарпунера. В байдару хлынула вода, и кожаная лодка стала оседать.
Ужас охватил охотников.
Никто не умел плавать, и единственное спасение было в том, чтобы держаться за надутые пыхпыхи, которые, к счастью, уже были приготовлены.
Разъяренный морж долбил и долбил байдару, и она только беспомощно содрогалась, погружаясь по самые борта в ледяную воду.
А родной берег был далеко.
В байдаре — пять человек. А пыхпыха — четыре. За один ухватились двое — Эну и юноша Кляу, в глазах которого застыл ужас. Ведь Кляу хорошо знал, что делает в таких случаях старейшина байдары. Когда нет надежды на спасение, когда родной берег лишь синеет туманной полоской на горизонте, тот, который сидел на руле, вытаскивает свой охотничий нож, закалывает товарищей, а потом — себя самого… Это делается для того, чтобы избавить людей от ненужных мучений.
Кляу это знал и видел перед собой лицо того, кто заколет его первым, потому что именно он оказался ближе всех. Когда бросались в воду, не было времени выбирать пыхпых, надо было спасаться…
Как прекрасна жизнь! Даже жалкие мгновения, оставшиеся до вечного забвения. Казалось бы, какая разница: быть заколотым чуть раньше или позже, и все-таки Кляу хотелось сейчас быть возле другого пыхпыха, подальше от Эну. Неужто не дрогнет рука у человека, которого в селении Галечной косы почитали мудрейшим, источником знаний и полузабытых обычаев? Он знал, как надо встретить новорожденного и проводить в последний путь умершего. Он знает, как избавить от лишних мучений…
Эну медлил, не решаясь приступить к печальному долгу. И все же это необходимо сделать. Им все равно не добраться до родного берега…
Как неожиданно и просто кончается жизнь! Кто-то другой найдет дорогу к незамерзающим морям, к земле, где долго тянется теплое лето и солнце высоко стоит в небе, где зимуют киты и другие теплолюбивые существа.
Товарищи Эну, зная о своей участи и стараясь отсрочить неминуемую смерть, старались отплыть от него подальше, незаметно отгребая в сторону.
Пусть первыми простятся с жизнью те, кто постарше. Вон Опэ. Он смотрит на берег. В глазах его горе и страх перед неизбежной смертью. В Галечной косе у него остаются жена и шестеро детей. Они еще малы, и общине придется взять на себя заботу о них. Так ведется исстари. Нет обделенных пищей и кровом, но есть те, кто потерял близких… Рэрмын… Тоже дети останутся у него да красивая жена. Однако она перейдет под покровительство старшего брата, оставшегося в живых… Комо… Все хорошие добытчики, сильные мужчины, веселые, искусные в громком пении и радостных танцах.
Эну крикнул:
— Эй, сближайтесь ко мне!
Хорошие люди были на байдаре. Все они откликнулись и даже те, кто старался отгрести подальше, смирившись со своей судьбой, поплыли к старейшине байдары, который уже нащупывал в намокших кожаных ножнах охотничий нож с длинным, хорошо заточенным лезвием.
Комо подплыл первым.
Эну не сразу стал кончать его, справедливо полагая, что вид крови может поколебать решение остальных.
Когда все сгруппировались недалеко от затопленной байдары, Кляу вдруг звонким голосом крикнул:
— К нам плывут киты! К нам плывет целое стадо китов!
Все враз глянули туда, куда показывал рукой юноша.
Словно осевший на воду туман, пронизанный радугой, приближался к терпящим бедствие.
Киты плыли с шумом, разрезая осеннюю студеную неподатливую воду.
— Они идут к нам на помощь! — кричал возбужденный юноша. — К нам плывут наши братья! Значит, старая Нау права — они наши кровные братья!
Эну налег на пыхпых, чтобы приподняться над водой, и тоже увидел китов. Они шли как флотилия волшебных кораблей из старинных сказаний о великанах, как огромная песня, надвигающаяся из морских глубин.
Страх и надежда боролись в душе Эну.
Нарушение обычая может вызвать наказание. Но кто будет наказывать? Кто истинные вершители судеб приморского народа?
Приближаясь, киты плыли тише, явно стараясь не повредить людям. Оки окружили потерпевших бедствие, повели их к синеющему вдали берегу.
Охотники старались держаться ближе друг к другу, ибо так китам было легче вести их.
Вот уже можно различить яранги и струйки синего дыма, тянущиеся к небу.
За линией прибоя киты остановились.
На берегу стояли люди и в изумлении смотрели на своих земляков, обессиленных, но счастливых своим чудесным избавлением от неминуемой гибели.
Кто-то догадался бросить ременной линь, и Эну ухватил конец.
Охотники встали в ряд перед старой Нау, и вода струилась с их мокрых одежд.
Старуха молча смотрела на них, часто переводя взгляд на стадо китов, медленно удаляющееся от берега.
— Брат всегда поможет брату, — тихо сказала она и пошла к ярангам.
В самой большой яранге, где обычно собирались мужчины Галечной косы, гремел бубен, сделанный из высушенного моржового желудка.
Обнаженный по пояс Эну в сопровождении Кляу исполнял новый танец, названный им Танец Кита.
Другие чудесно спасенные подпевали чуть охрипшими голосами, вознося хвалу морским братьям, и звуки новой священной песни уходили через дымовое отверстие к небу, растекались и скатывались к берегу, к невидимому в темноте морскому горизонту, где, затаив свое шумное дыхание, слушали киты.
Повинуясь ведущему Эну, люди взмахивали расписанными веслами, и там, под потолком, где вялились прошлогодние оленьи окорока, пропитываясь пахучим дымом, в отблесках костра, в волнах теплого тумана, плыло чучело кита, искусно вырезанное из темного плавникового дерева.
Человек только тогда человек, Когда брата он имеет, и душа Его жаждет отдать добро брату. Смерть отступила от нас, Черным крылом задев. Киты спасли нас. Возносим хвалу им И благодарность…В полутьме яранги песня стучала крыльями о просохшие моржовые шкуры, словно гигантский бубен, и жители Галечной косы, прислушиваясь к ней, возносились ввысь душой, преисполненной благодарности к морским братьям.
Иные с затаенным чувством стыда вспоминали, как посмеивались над словами старой Нау о братстве с китами и воспринимали ее рассказы о стародавних временах как причуды угасающего от старости разума.
Священный Танец Кита возвестил о рождении нового обычая в жизни обитателей Галечной косы и укрепил веру в их необычное происхождение.
Эну пел и чувствовал, как слова новой песни сами рождаются в его душе без усилия с его стороны, и он дивился этому своему состоянию, словно кто-то иной, новый поселился в нем и пел через него…
Брат — это не только тот, Кто просто похож на тебя. Брат — это тот, кто сочувствует Твоему несчастью и приходит на помощь…3
Когда Айнау вносила кусок синего льда в теплый полог, вместе с ним входило холодное облако, остро пахнущее стужей, щекочущее нос. Лед потрескивал как живой. Ребятишки украдкой прикладывали палец, смоченный слюной, и лед кусался, прихватывая кусочек кожи, белесой пеленой приклеивающийся к поверхности голубого излома.
В эту пору на воле все было темно-синим от сумерек и мороза, от темного неба, на которое робко выползали яркие зимние звезды, дрожащие и мерцающие от всепроникающего холода.
Стылую синеву нарушали лишь пятна желтого света, падающие на снег у порога жилищ: в ярангах ждали возвращающихся с зимнего промысла охотников.
Они шли с торосистой стороны моря, медленно обходя высокие льдины. За ними тянулся замерзающий след с яркими вкраплениями красной крови.
Люди держали путь на желтые пятнышки теплого света от горящих в жиру моховых фитилей.
Тишина висела над Галечной косой, над маленькой кучкой полузатопленных в снегу жалких в этом огромном мире яранг.
Кляу поднял глаза: на закатной стороне занималось полярное сияние — начинался веселый праздник богов, и отблеск их гигантских разноцветных костров отражался небом. Как плотно населен мир, кажущийся отсюда таким пустынным! И просторное небо, и дальние горы, и даже мрачные нагромождения скал — все полно жизни, неведомых существ, волшебных сил!
Кляу глубоко вздохнул и пошел быстрее, торопясь к своему жилищу, где его ждали жена и трое детишек — два мальчика и девочка. Он мысленно воображал детские личики, их ожидающие взгляды, особенно пристальные и пытливые глаза старшего, Арманто, ласковое спокойствие жены, и все его нутро, промерзшее на ветровом студеном льду, наполнялось теплом, идущим от самого сердца.
Айнау взяла ковшик из тонкого гибкого дерева, зачерпнула воды, захватив льдинку, и вышла из яранги. Она встала у порога, держа в поле зрения мелькающего меж торосов охотника. Из десятков людей она узнавала его по походке на любом расстоянии, которое только может охватить взгляд.
Сердце женщины омылось нежностью и теплом от мысли о мужчине, о ее Кляу, который с добычей шел домой. Отсвет Великой Любви, которая вызвала к жизни приморский народ и сделала кита человеком, лежал на счастливом лице Айнау.
Охотник медленным, неторопливым шагом приблизился к порогу жилища, молча скинул упряжь, на которой тащил убитую нерпу.
Айнау облила морду убитой нерпы водой, давая «напиться» зверю, отдала остаток воды мужу и втащила добычу в ярангу.
Детишки с радостным гомоном окружили нерпу, положенную на кусок разостланной на полу моржовой кожи. Но нерпа еще была мерзлая, и должно пройти время, прежде чем она оттает и мать начнет ее разделывать.
Пока Кляу тщательно выбивал снег из торбасов, развешивал охотничье снаряжение, Айнау толкла в каменной ступе мерзлое мясо, смешивала его с жиром, сдабривала квашеными зелеными листьями.
Это, конечно, еще не настоящая еда. Большое пиршество будет, когда сварится свежее нерпичье мясо.
Когда нерпа достаточно оттаяла, Айнау разрезала тушу, отделив шкуру с жиром.
Ребятишки, глотая слюну, ожидали своего череда.
Наконец мать вырезала из усатой головы два глаза, надрезала их и подала мальчикам. Причмокивая, постанывая от восторга, мальчишки отсасывали нерпичьи глаза, время от времени давая попробовать и сестренке.
Кляу снял с себя всю одежду и остался совсем нагишом, лишь бросив между ног клочок шкуры прошлогоднего молодого олененка.
Пока Айнау разделывала нерпу, в ярангу заходили соседки, и каждая уходила с куском мяса, и это наполняло радостью обитателей яранги, потому что считалось: делиться радостью, добром и едой — первейшая и приятная обязанность потомков китов.
С вершины зимы трудно представить, что наступит лето, и на Галечной косе не будет снега, и холмы за лагуной, покрытые глубокими снегами, зазеленеют травой, свободная вода потечет с гор широкими ручьями, и безмолвие полярной ночи огласится звонким птичьим щебетанием. Море очистится ото льда, и к берегу приплывут киты…
Когда сладкая боль первого насыщения прошла и легкая дремота мягкой пеленой накрыла тела распластанных на мягких оленьих шкурах обитателей яранги, глава семейства начал повествование…
Так водилось в каждой яранге. Дети должны знать свое прошлое, чтобы не чувствовать себя одинокими в этом огромном мире.
Голос Кляу глуховато звучал в теплом пологе, переполненном запахом свежей крови, теплого мяса, горящей в каменном жирнике нерпичьей ворвани…
— Раньше холод и мрак покрывали пространство, в котором не различались ни земля, ни небо, ни вода… Все было одинаково темно, как в пургу, — повествовал Кляу, а вокруг него затаив дыхание лежали его детишки, внимая рассказу о прошлом народа Галечной косы.
Луч солнца не пробивал темных туч, из которых вечно сочилась холодная влага… Но вот появилась женщина. Теплыми босыми ногами прошла она по холодной земле, и там, где ступала, вдруг выросла зеленая трава. Оглядевшись, она улыбнулась, и солнце, пробив черные, сочащиеся влагой тучи, ответило ей ослепительным светом, разогнавшим мрак и залившим все однообразное пространство теплом. И женщина увидела — есть земля и море, небо и скалы, есть Галечная коса, которая отделяет лагуну от моря. В норах живут евражки, песцы бродят меж зеленых холмов, птицы летят над морем… А само море — само море полно жизни, полно плавающих и ныряющих. И ходила женщина по берегу, кормилась ягодами и морскими травами. И не знала, что сама была человеком, ибо не было с ней никого рядом, с кем бы она могла говорить.
Пока не пришла к ней Великая Любовь.
Великая Любовь сделала из кита человека, и он взял в жены ту женщину.
И родила женщина маленьких китят. Росли они поначалу в лагуне, а когда возмужали, то их колыбель-лагуна стала им тесна и через пролив Пильхын они отправились к своим родичам в открытое море.
Потом женщина родила детей уже в человеческом обличье. И эти дети — наши предки, от которых мы и ведем наше происхождение.
Кляу приумолк и потом торжественно сказал:
— А та самая первая женщина и есть Нау! Она живет среди нас, и мы воздаем ей хвалу!
Последние слова Кляу дети слушали в полусне, и им чудилось далекое неправдоподобное время, когда кит мог превратиться в человека, а человеку для пропитания было достаточно ягод и морской травы.
Эту легенду они уже не раз слышали, как и рассказ самого Кляу о чудесном спасении китами.
Они видели Танец Кита и с детства учились ему, чтобы в торжественные минуты, когда благодарные чувства рвались наружу, можно было исполнить его в Большой яранге, где собирались отважные ловцы морских зверей.
Каждое утро уходил Кляу на морской лед. За спиной оставалась Галечная коса, яранги, утонувшие в снегу и напоминавшие о живой жизни лишь тоненькими струйками дыма.
Синева зимнего дня чуть розовела, и огромное зарево на южной стороне неба вот-вот готово было проклюнуться первыми лучами солнца.
Кляу обходил торосы, осторожно проходил по морскому льду на только что замерзших разводьях и думал о вечном, о том, что всегда волновало его.
В то, что кит может превратиться в человека, все же можно поверить… Но почему то, что произошло давно, никогда не повторяется?
Много было неясного и непонятного в старинных сказаниях. Когда-то Кляу обратил на это внимание Эну, но тот строго сказал, что так и должно быть: чем больше неясного в старинном сказании, тем оно достовернее и тем больше в него надо верить.
Но почему мир не может быть так ясен, как чист и свеж утренний воздух после душного и теплого полога?
Звездное небо тоже населено множеством существ, охотниками, девушками, оленями… Воображение соединяло невидимые линии созвездий и рождало картины небесной жизни. Казалось бы, это та самая жизнь, куда уходили умершие. Но нет! Умершие уходили через облака, это верно, но жили совсем в ином мире, о местоположении которого затруднялись говорить даже такие мудрые люди, как Эну. Но Кляу видел только звезды — светящиеся точки на небе — и по-своему думал, что небо — как бы гигантский рэтэм, натянутый поверх всего мира, в нем множество дыр, через которые изливается дождь, сыплется снег. И где-то под этим гигантским шатром живут иные народы. Дым от их костров в виде облаков поднимается в небо, затмевая свет и вызывая ненастную погоду.
Почему окружающий мир так отличен от того, о котором говорят предания? А не нарочно ли мудрецы все затуманивают, чтобы скрыть собственное незнание?
Чем дальше в море уходил Кляу, тем шире открывался захватывающий дух вид на хаотическое нагромождение синего льда.
До самого стыка земли и неба громоздились торосы. Среди них виднелись огромные обломки ледяных гор, голубые, словно светящиеся изнутри собственным светом. В ледовых пещерах было удивительно жутко и слышалось тихое потрескивание, словно кто-то невидимый таинственно брел по ледовой крыше в мягких, подбитых шкурой белого медведя торбасах.
Морской вид на первый взгляд однообразен, но это однообразие кажущееся. Вблизи торосистое море полно неожиданностей. А подальше от берега, где сильное морское течение постоянно ломает лед, в черных, курящихся на морозном воздухе белым паром разводьях тихо плывут нерпы, глядя огромными глазами на бело-голубой мир.
С моря, даже с высокого тороса, уже не различить темные пятнышки яранг. Жалкие, маленькие точечки, словно заяц наследил. За ними — закованная в лед лагуна, границы которой невидимы. Но к югу, где холмы поднимаются и, как морские волны, бегут к синеющим вдали горам, простирается твердая земля, такая же бесконечная, как море.
За зубчатыми вершинами Дальнего хребта бродит зимнее солнце.
Что там, за этим хребтом?
У подножия гор кочуют оленные люди, дальние родичи приморского народа, отколовшиеся еще в стародавние времена, которые хорошо помнит лишь старая Нау.
Еще недавно Кляу думал, что с возрастом все тайны откроются ему и все недомолвки взрослых людей — всего лишь попытка оградить юнца от того, что полагается знать только зрелому, настоящему охотнику.
А ведь незнание разжигает любопытство и гонит человека в неизведанное.
Как Эну.
Некоторые даже говорили, что тот сошел с ума, ибо здравомыслящему человеку не придет в голову говорить о далекой земле, где солнце вчетверо дольше светит в небе и лето такое долгое, что не успевает оно кончиться, как наступает новая весна.
— Это не сказка, — говорил Эну, — я уверен, что есть такая земля, и мы с тобой ее найдем… Помнишь тот страшный день, когда мы едва не погибли? Вот тогда и пришла мне в голову мысль о теплой земле. Кто знает, может, сами киты вложили в меня это открытие…
Кляу слушал Эну, и в душе его росла решимость последовать за ним.
4
На ноздреватом льду, изъеденном весенними жаркими лучами солнца, стояла большая байдара. Она просвечивала новой, только что натянутой кожей, и, когда кто-нибудь прикасался к ней, она гудела, как огромный ярар.
Вместе с Эну в удивительное, давно задуманное путешествие отправлялся Кляу.
Третьим плыл Комо, лентяй и шутник, однако искусный в том, что изображал на окрестных скалах все, что видел глазами.
Среди провожающих была старая Нау.
От весеннего солнца ее лицо еще больше потемнело, как покрышки яранг, пережившие зимние холода, снегопады, метели и яростное весеннее солнце.
Кляу никогда не думал, что расставание с родными и близкими, с женой и детьми, с Галечной косой, с привычным видом из яранги, окрестными холмами, скалами так мучительно больно, что хочется закричать в полный голос, потому что боль такая, словно на сердце упал тяжелый камень.
Этот камень не отпускал все то время, пока байдара плыла вдоль ледяного берега, еще не успевшего отойти от земли, мимо высоких скал, с которых Кляу зимой любовался широкими просторами, окружающими селение, и думал о том, что за теми дальними зубчатыми хребтами. Теперь им придется не просто убедиться в чьих-то давних рассказах, а самим увидеть дальнюю землю, где много солнца и где живут предки приморских жителей — киты.
Трудно было расставаться с женой, но еще больше — с детьми. В последние мгновения почему-то припомнились прекрасные дни, когда он собирался увести Айнау к себе в ярангу, бродил с ней вдали от селения, по тундровым холмам, так как мягки и ласковы травы…
Люди смотрели вслед уходящей байдаре, которая становилась все меньше, растворяясь в пространстве, как угасающий человек растворяется в бесконечном протяжении времени.
Многие именно так и думали, глядя вслед скрывающейся из поля зрения байдаре.
Все молчали.
Старая Нау поглядела на людей и громко сказала:
— Это зов предков. Ибо киты — вечные странники, вечно путешествующие в огромных морях. И человек не может долго жить на одном месте. Сначала он изобрел байдару, чтобы покорить морскую стихию, вернуться к изначальному…
— А потом возьмет да полетит в небо, — усмехнулся кто-то.
— Почему бы и нет? — задумчиво произнесла старая Нау. — Может и такое случиться… А пока пусть плывут сыновья китов по морю и ищут новое и непознанное. Только так человек почувствует себя настоящим жителем земли…
И еще долго говорила старая Нау.
Пока свежи были воспоминания об уехавших, ее внимательно слушали.
Но проходило время. Другие события затмевали троих безумцев, отправившихся тропой китов искать долгое лето, и только родные вспоминали их в ряду навсегда ушедших сквозь облака.
А речи старой Нау стали назойливыми. Слушали ее только из священной обязанности быть внимательными к старухе, пережившей само время.
Выросли дети Кляу, и лишь очень редко, в ряду полузабытых сказок, кто-то вспоминал о трех безумцах, отправившихся в далекое путешествие.
Никто тогда не мерил время, потому что оно и так было видно, отпечатываясь на облике людей, отмеченное родившимися и выросшими детьми, состарившимися и ушедшими сквозь облака.
Однажды в ясный зимний день с низким холодным солнцем, протянувшим свои озябшие лучи далеко в торосистое море, на залагунной стороне, где вдаль уходили волнистые холмы, показались три точки. Они медленно увеличивались, приближаясь к ярангам. Еще издали можно было догадаться, что это не кочевники, походка у них была иная. Это не были и гости с дальней стороны: те ездили на собаках и шумно приближались к селению.
А эти шагали очень медленно и даже несколько раз останавливались, как бы издали изучая берег.
Все люди Галечной косы высыпали на волю.
А незнакомцы все приближались, рождая смутную тревогу в сердцах встречающих.
Путники выглядели причудливо, их одежда была совсем непохожа на ту, что обычно носили жители Галечной косы. И эта одежда была отмечена печатью долгого, нелегкого путешествия. И еще одно обстоятельство внушало тревожные мысли: эти люди были далеко не молоды, уже в том возрасте, когда без особой нужды не отваживаются пускаться в дальний путь.
А путники все приближались, и на их изможденных, прорезанных глубокими морщинами лицах светилась радость.
Старик, одетый в белые оленьи штаны — знак готовности уйти сквозь облака, — спросил путников:
— Кто вы и куда держите путь?
Долго не отвечали пришельцы. Они жадно всматривались в лица встречающих, словно стараясь найти в них знакомых.
И вдруг старушка, которая долго всматривалась подслеповатыми глазами в одного из спутников, закричала страшно и громко:
— Кляу! Это мой муж, Кляу! Я узнала его!
И все поняли: это те, о ком рассказывали только в полузабытых преданиях, о ком вспоминали как об одержимых несбыточной мечтой познать пути китов.
— Значит, вы вернулись, — сказала старая Нау и пошла к Эну, седому тихому старичку.
Глаза его светились мудростью и теплом.
Путников повели в яранги, а они шли, жадно вбирая в себя заново облик родного селения, ибо это им грезилось в тоскливых сновидениях.
— Мы прошли по тем удивительным землям, о которых знали только по сказкам, — повествовал Эну. — Мы видели огнедышащие горы и дивились тому, что живущие у их подножий понимали нас и тоже почитали китов своими предками. Они утверждали, что именно там, под этими горами, находились жилища китов и эти горы есть их гигантские яранги, с вершин которых струится дым домашних костров. Множество рассказов о жизни китов мы слышали от дальних родичей. Будто в домашней жизни киты мало отличаются от нас и ведут такие же разговоры на своем, пока нам непонятном языке. У них даже случаются и ссоры, правда, очень редко. Тогда содрогается земля, дым из гигантских костров густеет и иной раз даже раскаленные камни взлетают над вершинами гор — жены китов, занятые ссорой, перестают следить за очагом.
Путники рассказывали по очереди. Когда один уставал, вступал другой, потом рассказ подхватывал третий. Вместе со всеми слушала рассказы старая Нау, и каждый из вернувшихся дивился тому, что она пережила многих и оставалась такой же крепкой, какой они оставили ее много лет назад.
— В тех краях мы не видели наших привычных зверей, на которых мы здесь охотимся, — вел рассказ Кляу. — Моржей нет, и белый медведь не заходит в те льды. Да и льдов настоящих там не бывает. На зиму образуется лишь небольшой припай, а за ним всю зиму плещется темное море. Люди живут там оленеводством и ловлей рыбы. От такой еды они малосильны и ростом небольшие. Зато этой рыбы там несметные косяки. Вода в реках кипит от нее. Не только сами люди питаются рыбой, но и собак своих кормят ею…
— Мы шли за солнцем, — продолжал Эну. — Ибо главная наша цель была достичь той земли, где солнце долго светит и тепло держится дольше, чем на нашей земле.
Мы видели настоящие деревья, покрытые зелеными листьями, шумящие ветвями, словно живые великаны. Они покрывают огромные пространства, и трудно представить, как человек живет в этом зеленом сумраке, как находит дорогу к рекам и к морскому побережью. Мы остерегались углубляться в леса и старались всегда держаться моря, ибо знали, что китовые тропы — это дороги морские.
— Сначала мы подумали, что дошли до китовых пределов, когда увидели огнедышащие горы, — сказал Комо. — Однако надо было найти вход в них. Нас удивило, что поблизости мы не видели китов. И пошли мы дальше, переправляясь через водные преграды с помощью тамошних жителей, ибо наша байдара давно обветшала и стала непригодной. Потом нам встретились люди, которые уже не понимали нашего разговора. Большинство почитали нас своими братьями, не обижали…
— Но не везде было так, — вздохнул Эну. — В одной стране, где живут, собирая выросшие за лето растения и разводят животных, чье молоко пьют, словно это простая вода, схватили нас вооруженные люди и заперли в сумеречный дом. Там они держали нас очень долго, несколько лет. Уже стали мы понимать их речь, а они все опасались нас и говорили, будто мы какие-то оборотни, пришедшие на их землю, чтобы причинить ее жителям вред. Однако остерегались нас лишать жизни, боясь еще большего несчастья.
Кормили нас всяческой травой, от которой мы поначалу сильно ослабели, но потом попривыкли и стали снова обретать прежнюю силу.
И вот однажды вывели нас на солнечный свет, от которого мы отвыкли так, что первое время не могли держать глаза открытыми, и повели в огромную ярангу, сложенную из больших камней. Там сидел важный человек, который хотел знать, откуда мы появились и что за намерения у нас.
И ответили мы этому любопытному человеку, что происходим мы от китов и идем по их тропам, чтобы познать земли, где много тепла и мало холода, где зимует солнце и перелетные птицы.
Внимательно выслушал нас важный человек и спросил, откуда мы знаем о своем происхождении. Тогда мы сказали, что живет в нашем селении прародительница наша — старая Нау, которая родила наш народ…
Сильно взволновали мы этим сообщением жителей теплой земли.
И сказал тот человек, что и они ведут свое происхождение от китов, однако предания старины они понимают как волшебные сказки и многие уже не верят тому, что где-то существует прародительница приморских людей.
— И рассказали они нам легенду о своем происхождении, — продолжал поседевший Кляу, в котором счастливая старая жена видела молодого мужа, уходившего в дальний путь. — Слушали мы ее, и словно звучал голос старой Нау и перед нами воскрешалось наше собственное детство. И сказали те люди нам, что издревле им завещано: пока брат будет чтить брата, помогать ему, беречь его жизнь, пока любовь и согласие будут царить между людьми, до тех пор где-то будет жить прародительница людей, жена Кита, человеческая женщина, мать всех приморских жителей.
— Мы шли дальше, потому что хотели познать вечное тепло, — заговорил Комо. — Мы продирались через гигантские травы и брели реками, вода в которых была горяча, как кровь только что убитого моржа. Солнце всегда стояло высоко, и снег выпадал только на одну ночь. Утром он таял. Тамошние люди все же страдали от этого, считая это страшным холодом. Они дивились нам и толпами собирались, когда видели, как мы обливаемся потом при таком тепле, которое для них жестокий мороз…
— А дорога китов шла еще дальше, — продолжал Эну. — Они уходили в теплое марево, блистая фонтанами. А у нас сил оставалось только на обратный путь, ибо понимали мы, что узнанное нами принадлежит не только нам, но и вам, потому что мы — часть одного целого, что называется приморским народом. Мы увидели многое и достигли края земли. Мы уже знали из рассказов тамошних людей, что дальше зимы нет, одно нескончаемое лето. Но та жизнь уже была не для нас, и мы повернули обратно.
— Мы торопились, — подхватил рассказ Кляу, — ибо нам хотелось увидеть родные лица, услышать полузабытые, но дорогие нам голоса, которые мерещились нам во снах… Мы торопились на свою родину, как спешат ранней весной киты, возвращаясь в студеные воды.
Несколько долгих вечеров рассказывали путники о своих приключениях, встречах с незнакомыми народами, обычаями, странной пищей и чудными зверями. Затаив дыхание, жители Галечной косы внимали словам о том, как в иных землях люди никогда не видят белого снега и с трудом верят в то, что вода может обретать твердость камня, а дождевые капли падают сверху в виде мягких белых хлопьев.
Когда иссякли рассказы и утомленные долгим повествованием путники все чаще и чаще стали замолкать, старая Нау спросила:
— Вы увидели новые земли, незнакомые народы и странных зверей, скажите нам, какая земля показалась вам самой прекрасной?
Путники переглянулись между собой.
И ответил Кляу:
— Это верно, что мы увидели много. Но мы познали великую истину: нет ничего прекраснее своей родины, родной земли, где ты появился на свет, где живут твои родные и близкие, где звучит родная речь и знакомые с далекого детства старинные сказания…
Эти слова прозвучали в притихшей яранге как звук крыльев волшебной птицы, принесшей важную весть.
И старая Нау сказала:
— Я именно об этом и думала: прекрасное — это то, что рядом с тобой. И киты всегда возвращаются с уходом льдов, потому что эти берега — их родина и родина нашего народа.
Эну был уже дряхл и немощен.
Комо мог только изображать на скалах еще не стершиеся из памяти картины, и лишь Кляу удалось сочинить и исполнить Танец Путешественника.
Сколько лет они провели в пути — никто не мог сосчитать. И все же, несмотря на то, что он был сед, Кляу еще был силен.
Он пережил своих спутников и скончался в глубокой старости, оплакиваемый родичами. Обряжала его в последний путь вечная старуха Нау. Седая, крепкая, с черным, словно дубленая моржовая кожа, лицом, она пришла в ярангу, где поселились горе и печаль. Готовый отправиться в последний путь, Кляу лежал в белых камусовых штанах, в белой кухлянке.
Нау молча прошла к пологу и откинула с покойника лоскут медвежьей шкуры.
У Кляу было просветленное и спокойное лицо.
Старуха попросила принести выквэпойгын.
Принесли отполированную, чуть согнутую палку с углублением в середине, куда вставляется каменный нож для выделки шкур.
Старая Нау угнездила конец палки под голову покойного и шепотом начала беседовать с ним.
Она задавала пространные вопросы и ждала, что ответит умерший. Ответы Кляу были односложны, но значительны. Он пожелал взять с собой крепкие торбаса и копье, которым он добывал пропитание.
Старая Нау тихим голосом передавала пожелания покойного, и у головы покинувшего этот мир вырастала кучка вещей, которые он брал с собой в последнее путешествие сквозь облака.
Мужчины понесли Кляу на Холм Усопших.
А жизнь продолжалась. Наступала новая весна, и поднявшееся над снегами солнце щедро освещало тундру и ледовитое море.
5
Внук Эну, Гиву, хрупкий и задумчивый юноша, пришел к старой Нау и спросил ее:
— В чем тайна твоего бессмертия?
Старуха удивленно посмотрела на него.
Об этом не полагалось спрашивать. Это было дерзко и кощунственно.
— Нет тайны и нет бессмертия, — ответила Нау.
— Но ты живешь всегда, — возразил юноша. — Значит, есть бессмертие и есть тайна.
— Я живу, — задумчиво ответила Нау и почувствовала, что этот ответ пришел неведомо откуда. — Я живу, потому что существует Великая Любовь.
— Значит, если ее не станет — ты умрешь? — спросил юноша.
— Но Великая Любовь вечна, — ответила Нау.
Гиву задумался.
Нау смотрела на него. Отчего он такой? Или его мучает значение собственного имени? Быть Вездесущим по имени нелегко. Ведь нарекают человека не просто так, а стараясь дать ему направление жизни. Сама Нау давала это имя, ибо рождался мужчина, который вел свое происхождение от самого Эну, человека, в чьей голове родилась идея пройти тропами китов в поисках истины и теплой земли.
— Много сомнений, — вздохнул Гиву. — Они мучают меня.
На прощание старая Нау посоветовала:
— Ты меньше спрашивай, больше старайся узнать сам.
Осенью, когда моржовое стадо вылегло под скалами мыса, несколько дней Гиву наблюдал за спариванием животных и дрожал от возбуждения, сдерживая себя, чтобы не кинуться на первую попавшуюся женщину. Они как раз невдалеке собирали ягоды, ворошили кладовые в поисках сладких кореньев. Но Гиву боролся с собой. Он решил не поддаваться страсти, смутно чувствуя, что ответы на его вопросы не там.
Он ушел в тундру.
Бродил в тишине прохладного дня и подолгу смотрел в прозрачные потоки, где плыли рыбы, медленно шевеля плавниками. Серо-голубые тела водных обитателей казались ожившими картинками, выбитыми на скалах Комо, одним из путешественников древности.
Гиву утолял жажду в речках, разглядывая свое отражение. На юношу смотрело худое удлиненное лицо с большими, широко открытыми глазами.
Кто-то говорил ему, что таким был в молодости его знаменитый дед Эну. Но Эну нашел выход своему ненасытному любопытству и отправился в путешествие, которое заняло у него всю жизнь.
Если Гиву пойдет по его следам, он увидит лишь то, что видели Эну, Комо и Кляу.
Куда идти?
И откуда все это — беспредельность мира, облака над тундрой и зеленая трава, которая каждую осень желтеет?
Откуда эти цветы, словно брызги небесной голубизны, красные ягоды морошки и потоки вод, в которых плывут молчаливые, полные спокойствия рыбы? Откуда звери, птицы, морские обитатели? Неужто тайна происхождения жизни людей объясняется так просто, как говорит об этом старая Нау?
И, наконец, почему так мучительно настойчивы эти вопросы, которые будят среди ночи, лишают сна, толкают на безумные поступки, рождают мысли об убийстве старой Нау?
Упругий устойчивый ветер гладил тундру, и волны по желтой траве напоминали морские.
Гиву шел по тундре, перескакивая неустойчивые моховые кочки, перепрыгивая через бочажки и мелкие ручейки. Он не чувствовал усталости, и легкий ветер казался ему собственными крыльями, несущими его над землей. Он ожидал появления такого ощущения, которое было у Нау, когда она была молода и еще не знала Кита Рэу. Гиву ожидал появления чувства слитности с окружающей природой, ему хотелось быть одновременно и ветром, и вот этим ручейком, и сонными рыбами на дне его, травой, упругой качающейся кочкой, облезлым линяющим песцом, стройным журавлем, вышагивающим на покрытом морошкой болоте, евражкой и мышкой, волочащей в нору сладкий корешок пэлкумрэн…
Но ничего такого у него не появлялось. Он несколько раз больно ударился о скрытый в траве камень, и боль в ноге все время напоминала о себе, отвлекая от мыслей.
Может быть, такого не было и у старой Нау?
Может быть, все это она выдумала?
И даже не было путешествия в теплые дальние страны, где солнце неутомимо бродит по небу и люди выращивают на земле пищу, питаются, как иные тундровые животные, травой?
Говорят, что сомневающиеся всегда были. Тот же Эну, предок Гиву, оттого и отправился в дальнюю дорогу, что сомневался.
Гиву уселся на пригорке.
Запах осенних трав слегка дурманил голову. Потом этот запах вместе с сухой травой на всю зиму поселится в яранге и в зимние оттепели будет усиливаться, напоминая о зеленом мире, полном тепла и ласкающих глаз цветов.
Большинство людей живет спокойно, не задумываясь об окружающем мире, стараясь не доискиваться причин удивительных природных явлений. Почему эти мысли и сомнения пришли именно к нему?
Гиву снова вспомнил о женщинах.
Странные существа. Почему природа создала их отличными от мужчин? Только ли для продолжения рода и для наслаждений, которые они сулят мужчинам? Почему самая высшая радость, которую когда-либо испытывает человек, связана с будущей жизнью? Тогда что же… Тогда, если убить другого человека? Что тогда испытывает тот, кто совершает это? Нечто противоположное радости? Но ведь жизнь светлее и радостнее смерти.
Гиву огляделся просветленными глазами. Одно открытие уже есть. Оно лежало совсем рядом, стоило только протянуть руку чуть дальше.
Обрадованный, Гиву прыжком поднялся и побежал в селение, черневшее приземистыми ярангами на другом берегу лагуны, с ее морской стороны.
Гиву не терпелось проверить открытие.
Он увидел женщину у ручья. Она сидела на корточках и набивала листьями кукунэт кожаный мешочек. Отчего это зеленые листья называются точно так же, как и сокровенное женское? Гиву остановился чуть поодаль. Он следил загоревшимися глазами за каждым движением женщины и мысленно приближался к ней, дотрагивался до нее горячими руками, срывал с нее меховой кэркэр…
А потом, не в силах удержать рвущееся наружу желание, он большими прыжками, словно тундровый бурый медведь, подбежал к женщине, заставив выронить кожаный мешочек, который скатился вниз по откосу.
— Ты меня испугал, — сказала женщина, когда Гиву отпустил ее со стоном разочарования, чувствуя, что он не ощутил той великой радости, которая бы свидетельствовала о том, что он зачал новую жизнь.
— Ты мне скажи, что ты почувствовала, когда я тебя взял? — спросил Гиву.
— Я же тебе сказала — испуг, — повторила женщина. — Ты мне не дал ничего почувствовать, кроме испуга.
— Значит, я виноват, — разочарованно протянул Гиву, поднимаясь с холодной, жесткой земли.
Отчего это так? Желал женщину сильно, словно горел внутренним огнем. Казалось, готов был ради нее пройти через вершины гор, а насытил огненное желание, и такое разочарование, будто пытался утолить жажду только что выпавшим снегом.
Он зашагал прочь от женщины, а та, отряхнувшись, медленно пошла вниз по откосу и принялась собирать рассыпанные, примятые кукунэт.
6
После того как забили моржей на лежбище, наготовили копальхена и наполнили мясные ямы, снежницы, сохранившиеся на теневых сторонах долин, выменяли у кочевых людей наполненные жиром кожаные мешки на мясо и шкуры оленя, принялись готовиться к Китовому празднику.
На деревянные обручи, сомкнутые над паром, натягивали хорошо выделанные моржовые желудки, приторачивали рукоятки, выточенные из моржовых клыков. Расписывали ритуальные весла, изображая старинную легенду о том, как киты спасли терпящих бедствие охотников.
Сочиняли новые песни и танцы, шили нарядную одежду и красили оленью мездру кровавой охрой, добытой у подножия Дальнего хребта.
В тот день жители Галечной косы были разбужены привычным гулом приблизившегося к берегу китового стада. Оно заполнило пространство от медленно надвигающейся на берег кромки льда до самых скал, о которые билась загустевшая от холода океанская вода.
На восходе все жители селения со стариками и малыми детьми направились на берег. На блюдах лежали красные креветки, раскрошенные лучи морских звезд, обломки ракушек, клешней, сушеные моллюски, обрывки морской травы. Все было сдобрено жиром нерпы.
Седовласые старики хриплыми голосами пели старинные песни, ведущие свое начало еще от легендарного Рэу. Им подпевали женщины и молодые люди.
От множества китовых фонтанов вода кипела, и в воздухе висела мельчайшая, похожая на пар, водяная пыль.
По знаку старейшего люди разбросали дары в волны, и киты, словно по единому приказу, возблагодарили высокими фонтанами земных братьев и медленно удалились привычной тропой к берегам, где в долгую зимнюю пору не замерзает вода.
Гиву вместе со всеми бросал в волны крошево священной пищи, которую сам бы ни за что не взял в рот, пел песни, но думал о своем, о том, откуда у человека такая крепкая вера в эти бессмысленные действия…
После захода солнца в большой яранге загремели бубны, и каждый исполнил Танец Кита, стараясь превзойти другого в искусстве выражения чувств и настроения.
Гиву медленно натягивал танцевальные перчатки: на черной нерпичьей коже силуэтами были нашиты маленькие китята. Когда танцор шевелил пальцами или двигал рукой, китята приходили в движение и казалось, что они плывут по темной морской воде.
Каждый раз, танцуя в такт ударам бубна, Гиву дивился про себя неожиданному ощущению. Он словно бы начинал заново расти, увеличивался в собственных размерах, заполняя просторную ярангу, вылетал через верхнее дымовое отверстие и растекался всюду, по всей Галечной косе, к проливу, за лагуну, в скалистые гроты, забитые прошлогодним снегом, превратившимся в темный лед.
Вместе с ним росло его сердце, легкие, которым уже мало было воздуху здесь, в яранге.
Когда он танцевал, занятый собственными ощущениями, он никого не видел, и звуки бубнов и голоса певцов звучали внутри него самого.
На этот раз Гиву вдруг увидел глаза женщины, которую он взял на берегу ручья и с которой жаждал зачать новую жизнь. Да, он тогда почти и не помнил, как это случилось, желание все затмило — небо, землю и даже жесткую, покрытую мелкими камнями землю…
Тепло росло изнутри, незнакомое, новое, будто кто-то забрался в грудь и разжигал огонь терпеливо, слегка дуя в маленький костерок.
Руки Гиву трепетали на уровне лица, он видел узор на перчатках, и сквозь него, сквозь тела нарисованных китят, плывущих по темному морю, глаза той женщины. Он с радостным беспокойством прислушивался к растущему теплу, к нежности, к новому чувству, в котором не было того яростного огня желания, а тихое пение, словно колеблющееся пламя на снежном поле.
С первым снегом Гиву поставил отдельную от родителей ярангу и привел в нее ту женщину, которая отныне считалась его женой.
Жаркими ночами Гиву ждал прихода наивысшего счастья, которое ознаменовало бы зарождение, зачатие новой жизни, но как ни старался он, этого не случалось.
Разочарованный, он уходил в тундру и бродил по пологим холмам, забираясь иной раз так далеко, что домой приходил только к утру.
Он долго размышлял наедине. Мысли роились в голове, как летние комары, появляясь и исчезая помимо его воли. Они были странные и назойливые, и от них уже нельзя было просто отмахнуться. Они требовали ответа.
Старая Нау пришла поздним вечером и устроилась в углу яранги. Она так и продолжала жить, переходя из одной яранги в другую.
Она разговаривала с женой Гиву о выделке шкур, о шитье одежды, о том, из каких жил выходят наилучшие нитки, как вялить нерпичьи ласты так, чтобы кожа снималась легко, как перчатка с руки…
Гиву слушал старуху, и единственная мысль билась, как пойманная в сеть птица: действительно ли она бессмертна?
Среди ночи Гиву проснулся в холодном поту. Он нащупал остро заточенный нож и представил, как лезвие входит в жилистую, со множеством каких-то движущихся частей старческую шею Нау и темная кровь окрашивает белую шерсть оленьей постели.
Он даже слышал, как хрипит старуха, испуская последний дух, и вечная жизнь уносится вдаль, в синее небо, сквозь зимние облака, просвечивающие луной и полярным сиянием.
Гиву не знал, как отвлечь себя, чем отогнать эти страшные мысли. Он прижался к жене, ощутив всем телом мягкую, излучающую тепло кожу. Жена покорно придвинулась к нему, раскрываясь навстречу, как весенний тундровый цветок.
Гиву вдруг почувствовал то долгожданное, сокровенное… Огромную, медленно слабеющую нежность, которая, словно сладкая боль где-то в глубине тела, долго не отпускала… А по мере того как она уходила, странное блаженство охватывало тело, возносило на волшебную вершину, откуда оно стремглав неслось вниз, и ветер так же свистел в ушах, как в те мгновения, когда мальчишкой Гиву на санках из моржовых бивней катился по склону горы, от вершины до заснеженной лагуны.
На этот раз он был уверен в том, что зачал новую жизнь. Мысль о старой Нау, о ее бессмертии теперь казалась такой маленькой и незначительной, что Гиву усмехнулся про себя и вышел из яранги в ночную свежесть зимней полярной ночи.
Он шел в тундру, окрыленный радостью и новой песней, которая рвалась из груди, из огромной нежности, облаком заполнившей грудь. А вдруг это и есть та Великая Любовь, о которой толкует старая Нау? И он приобщился к ней, и она осенила его, наградив за терпение и упорство.
Гиву видел перед собой густую синеву, которая постепенно переходила в усыпанное яркими звездами ночное небо. На северной стороне, за спиной Гиву, полыхало полярное сияние, отблески огня пирующих в подземельях китов освещали уснувшую землю морских охотников.
Гиву пересек лагуну и, пройдя через пологие холмы к восходу недолгого солнца, оказался у подножия Дальнего хребта.
Далеко он зашел. Он бы прошел и дальше, но тут вдруг его остановил голос:
— Стой и оглянись!
Гиву покорно остановился.
Все было по-прежнему, и ничего нового и особенного он не увидел. Так же светили в вышине звезды, только чуть поблекли перед восходом солнца, да полярное сияние погасло…
— Как ты теперь видишь?
Голос был странный, словно им было все наполнено вокруг. Он исходил отовсюду — сверху, снизу, куда бы ни поворачивался Гиву. Он не удивился появлению этого голоса, словно так и должно было случиться.
Гиву еще раз, повинуясь невидимому голосу, огляделся и вдруг стал замечать, что видит он и впрямь как-то иначе, словно его глаза промылись, очистились от пелены некоего тумана. Все было удивительно отчетливо: каждая складка отполированного ветром снега, каждый оттенок цвета его, меняющегося вместе с освещением неба, камешек или сухая травинка, торчащая из-под снега. Ноздри чуяли дальние и ближние запахи речного льда, промерзшей насквозь земли, изнемогающей под толстым слоем снега…
— Отныне ты будешь видеть и слышать больше и лучше, чем любой человек!
Так сказал невидимый голос, и настороженное ухо Гиву уловило, как голос стал затихать, словно горное эхо, уносящееся в пространство.
Из груди рвался вопрос: кто ты? Почему ты избрал именно меня, а не кого-то другого? Почему ты ничего не сказал о тайне старой Нау?
Гиву вернулся в селение, и жена с молчаливым удивлением взглянула на него: она никогда не видела мужа таким просветленным, счастливым, не обремененным какими-то смутными мыслями.
С тех пор Гиву всегда возвращался с добычей, — ноги как бы сами несли его туда, где таились нерпы, вылезающие на снежный покров морского льда.
Заметив его удачливость, жители Галечной косы стали спрашивать его о видах на охоту, и, к собственному удивлению, Гиву отвечал уверенно и давал всегда дельные советы.
И повелось в селении, что к Гиву стали приходить по всякому поводу, даже когда заболевала собака или ребенок.
И Гиву давал советы, снабжал людей лекарствами, сделанными из трав и снадобий, куда входили разные части морских животных, желчь белых медведей и загустевшая черная кровь лахтака.
Иногда Гиву чувствовал необходимость сам вызвать Голос, и тогда он брал бубен, смачивал гудящую поверхность водой, тушил огонь в пологе и начинал петь, время от времени останавливаясь и прислушиваясь.
Слова приходили неведомо откуда, но Гиву ни разу не пришло в голову искать источник этих голосов. Лишь глубокие бездонные глаза старой Нау вызывали беспокойство, но стоило подумать о чем-то другом, как мысли об этой старухе сами собой исчезали.
Незаметно и постепенно Гиву стал самым известным и необходимым человеком в селении, и люди, перед тем как приступить к важному делу, считали своим долгом посоветоваться с ним.
И стали называть его Энэныльын — что означало «исцеляющий».
Жена Гиву родила крепкого коричневого мальчишку, который сразу же заорал громко и требовательно. Старая Нау обтерла его синим весенним снегом, завернула в мягкий пыжик. Присыпала пупок пеплом жженой коры, а каменное лезвие, которым обрезала пуповину, положила в кожаный мешок и спрятала в укромное место.
— Как китенок, — приговаривала старая Нау, любуясь лоснящейся кожей малыша.
Голоса предрекли мальчишке благополучие, и Гиву чувствовал, как в его груди бьется огромное счастливое сердце, переполненное нежностью.
— Наверное, это и есть Крылья Великой Любви, — высказал предположение Гиву за вечерней трапезой.
Старуха молча покачала головой.
— Великая Любовь простирается на всех людей, — сказала она. И еще: — Если бы в твоем сердце не было удовлетворения от того, что ты делаешь, тогда ты мог бы сказать — я познал Великую Любовь…
В селение пришла никогда не виданная болезнь.
Люди вдруг начинали плохо видеть, теряли вкус к еде, лежали целыми днями, безучастные ко всему, пока тихо не уходили сквозь облака.
Покойников торопливо свозили на Холм Усопших, но некормленые собаки приволакивали обгрызенные руки, ноги и даже головы умерших.
В ярангу Гиву пришли растерянные жители Галечной косы.
— На тебя одного надежда, — сказали люди.
Гиву молчал, ибо не знал, как ответить несчастным, испуганным людям. Он сам был в полной растерянности и каждое утро со страхом прислушивался к сонному дыханию сына, с тревогой ожидая признаков надвигающейся болезни. Он словно носил в себе хрупкий сосуд, наполненный драгоценной жидкостью, в котором сосредоточилась его любовь к новой жизни, к мальчику.
— Мы знаем, что ты видишь и слышишь лучше, нежели мы, — говорили опечаленные люди, — и вся наша надежда только на тебя.
Гиву тщательно оделся, натянув поверх меховой кухлянки длинный замшевый балахон, украшенный полосками разноцветной шерсти оленя, кусочками замши и меха. На ногах у него были низкие торбаса с тщательно вышитым орнаментом, повторяющим рисунок на ритуальных веслах. На руки он медленно надел теплые рукавицы и взял священный посох из легкого суставчатого дерева с кружком на конце, чтобы не проваливаться в снег.
Стояла удивительно тихая погода. Солнце светило с вершины небосвода, и лучи его, отражаясь от снега, от полированных склонов сугробов, больно били по глазам. Гиву вытащил из-за пазухи кожаную накладку на глаза с узкой прорезью и повязал на лицо. Повязка хорошо защищала зрение и оберегала глаза от мучительной болезни.
Несмотря на хорошую, ясную погоду, Галечная коса поражала пустынностью и безлюдьем. Даже собаки лежали неподвижно, свернувшись у яранг, и равнодушно смотрели на единственного человека, который шел мимо них, широко размахивая посохом из священного суставчатого дерева.
Синяя тень прыгала с сугроба на сугроб, словно стараясь обогнать человека, и тень от священной палки то изламывалась, то укорачивалась.
Гиву прошел последнюю ярангу, прошагал по снежному полю и подошел к подножию скал.
Отсюда, повинуясь какому-то наитию, Гиву повернул в сторону моря и на возвышении, намытом волнами, но нынче покрытом снегом, остановился и огляделся.
Под скалами темнела синяя тень, торосы уходили вдаль, и повсюду кругом царила ослепительная солнечная тишина, от которой в груди росла тревога и сохло в горле.
Здесь пролегала дорога, по которой жители Галечной косы уезжали на собачьих упряжках в море, в гости в соседние селения. В другое время снег в этих местах был бы испещрен следами полозьев нарт, но сейчас это была девственная белая поверхность.
Что это?
Какие-то мухи, комары…
Но разве они могут существовать на снегу? Днем еще можно ощутить солнечное тепло, да и то если долго и неподвижно стоять, повернувшись лицом к свету, а ночью бывает такой мороз, что даже покрытые густой шерстью собаки просятся в ярангу. А тут какие-то насекомые…
Гиву поспешил к мелькающим на снегу темным пятнышкам и вдруг остановился в изумлении. Сердце забилось от ужаса: перед ним стоял человек. В кухлянке, в торбасах, на голове его красовался малахай. Самый что ни на есть взаправдашний человек, с отчетливыми чертами лица, улыбающийся с виноватым видом, но… величиной с сустав мизинца, а может быть, даже меньше. Гиву уставился на него и похолодел — еще шаг, и он бы наступил на этого человека и раздавил его своими лахтачьими подошвами.
— Ты кто такой? — спросил Гиву, опустившись на колени.
— Мы — рэккэны, — ответил человечек.
И тут Гиву заметил, как отовсюду к нему торопятся, переваливая через снежные ямки, казавшиеся им глубокими рытвинами, такие же человечки. Они широко размахивали руками, и поэтому только вблизи их можно было как следует рассмотреть. Но еще более Гиву удивился, когда увидел мчавшуюся к нему собачью упряжку и запряженных в нее собачек размером чуть больше мухи.
— Что же вы тут делаете? — спросил Гиву.
— Болезнь везем, — ответил человечек. — Знаем, какую беду мы причинили вашему селению. Но такова наша горькая доля. Мы стараемся всегда проезжать вдали от людских селений, но на этот раз пурга запутала нам следы, сбила нас с дороги и мы оказались здесь. Теперь ваши люди будут болеть до тех пор, пока мы не проедем. А для нас, которые намного меньше вас, для наших собачек расстояние от первой яранги Галечной косы до последней — велико. Нам требуется несколько дней, чтобы одолеть его. На ночь мы останавливаемся, отдыхаем, а утром — дальше в путь.
— Так что же нам делать? — с беспокойством спросил Гиву.
— Уж и не знаем, как быть, — вздохнул человечек, и Гиву увидел, как из его крошечного ротика вырвался еле видимый парок.
Голоса у рэккэнов были тонюсенькими, чем-то походили на птичье щебетание, но слова они произносили отчетливо, ясно.
— А много вас тут? — спросил Гиву.
— Десяток нарт, — последовал ответ.
Остальные рэккэны внимательно слушали разговор, а некоторые даже присели на торбаса Гиву и удивленно разглядывали швы, видимо казавшиеся им гигантскими.
— Давайте я вас провожу через селение на своей нарте! — предложил Гиву.
— Это было бы хорошо! — обрадовался человечек. — Только будь с нами поосторожнее — ты же великан!
— Я постараюсь, — пообещал Гиву.
— И еще одно: наше существование — для людей тайна, — многозначительно произнес рэккэн.
— Я понимаю, — ответил Гиву.
Он бегом вернулся к своей яранге, снял с крыши легкую нарту, перевернул ее полозьями вверх и нанес на них тонкий слой льда, чтобы они хорошо скользили по снегу.
Хотел было запрячь собак, но, подумав, решил от них отказаться: кто знает, не поедят ли голодные псы этих маленьких рэккэнов вместе с их упряжками.
Гиву спешил, почему-то боясь, что вот придет он на место, а там ничего такого не окажется: уж очень неправдоподобными показались ему человечки. Эта неправдоподобность, как ни странно, усиливалась еще и тем, что они были такие же точно, как настоящие люди. Гиву вспоминал маленький клочок пара, вырвавшийся изо рта рэккэна, и его охватывало какое-то удивительное волнение.
Рэккэны ждали Гиву.
Они подогнали крохотные нарты с каким-то непонятным грузом, крепко увязанным на них, а мухоподобные собачки еле слышно тявкали, и Гиву сдерживал себя, чтобы не улыбнуться, глядя на них.
Сами рэккэны были очень серьезны. Они попросили Гиву помочь им погрузиться на его нарту, потому что это для них было очень высоко. Гиву снял рукавицы и осторожно, двумя пальцами, стал поднимать рэккэнов и их собачек на нарту. Он чувствовал сквозь кожу пальцев их живые крохотные тельца, ощущал движения их ручек, ножек, одетых в рукавицы, в торбаса, всматривался в их серьезные лица и все ждал, что вот он проснется — и это причудливое видение улетучится, как это всегда бывает после красочного сна. Но Гиву не пробуждался. Он осторожно грузил рэккэнов на свою нарту, пристраивая их так, чтобы они не свалились.
Наконец все было готово, и он впрягся в упряжь.
Он шел кромкой морского льда так, чтобы со стороны яранг его не было видно. Иногда он оглядывался и видел рэккэнов, сгрудившихся на нарте, крепко вцепившихся друг в друга. Он слышал повизгивание крохотных собачек, вскрики человечков и старался идти потише и выбирать путь поровнее, смекая, что маленький для него снежный заструг — для рэккэнов высочайшая гряда торосов и легкий удар полозьев о кусок льдинки может вышибить из них дух.
Гиву прошел последнюю ярангу и взял направление на юго-запад, чтобы и соседнее селение осталось в стороне от дороги этих рэккэнов, везущих болезнь.
Еще грузя их на свою нарту, Гиву старался рассмотреть, что же это за болезнь и как она выглядит. Но груз плотно был увязан, и ничего нельзя было увидеть.
Недалеко от пролива Пильхын Гиву остановился.
Рэккэн прошел по доске к передку нарты и сказал:
— Отсюда мы поедем сами.
Гиву осторожно поснимал нарты, собачек и самих рэккэнов.
Они хлопотали вокруг упряжек, распутывали постромки, покрикивали на своих собачек, и Гиву снова чувствовал себя странно и неловко, и ему порой приходила мысль о том, что он попросту несказанно вырос, стал великаном.
Рэккэны сели на свои нарточки. Тот, кто первым повстречался с Гиву, подошел к его правому торбасу и сказал:
— Мы едем дальше. Благодарим тебя за то, что ты помог нам. Но еще больше ты помог своим землякам. Мы и так стараемся идти в обход, но плохо знаем землю, и случается иной раз так, что натыкаемся на людское селение…
— А как выглядит сама болезнь? — решившись, спросил Гиву.
Лицо рэккэна перекосил ужас, и он таинственным шепотом сказал:
— Этого не дано никому видеть. Болезни уложены на наши нарты, и мы не смеем распаковывать их. Но оттуда исходит дух, который поражает людей, когда мы проезжаем через поселения…
— А сами-то вы подвержены этим болезням? — спросил Гиву.
— Нас они щадят, — ответил рэккэн. — Иначе на чем бы они ездили?
Рэккэны тронули свои нарты и поехали вперед, оставляя на снегу еле видимый след от полозьев крохотных нарт, который можно было разглядеть лишь низко нагнувшись. Через некоторое время, когда нарты исчезли из поля зрения. Гиву сделал несколько шагов вперед, чтобы догнать рэккэнов, но уже не мог ни увидеть их, ни даже снова найти следы на снегу — они словно растворились в голубом весеннем воздухе, пронизанном солнечным светом.
Гиву медленно возвращался в селение.
Гиву вошел в чоттагин своей яранги и громко сказал жене:
— Болезнь уехала!
Старая Нау заметила недоверие на лице женщины и укоризненно сказала:
— Он сказал правду.
А потом, к вечеру, когда солнце склонилось над розовыми снегами, старая Нау сказала людям, собравшимся в яранге Гиву:
— Правда всегда удивительнее выдумки, и в нее иной раз трудно верить. Бывает, что человек собственным глазам не верит. Но сегодня вы стали свидетелями великой правды — Гиву спас людей. Судьба отмечает таким даром только избранных, способных верить в то, во что никогда не поверит обыкновенный смертный.
Часть третья
1
Гиву было уже много лет. У него росли внуки, а сын, которого он уберег от болезни, увезенной рэккэнами, прославился по всему побережью силой и удачливостью.
Гиву чувствовал приближение старости, словно притаившуюся за горами зиму. По утрам ему уже не хотелось вставать, и он долго лежал в постели, высунув голову из полога, разглядывая небо в дымовое отверстие, вдыхал свежий воздух и думал о тайне бессмертия. Да, это было так — старая Нау оставалась в точности такой же, как и в годы его детства, юности, зрелости и, наконец, старости — его, самого знаменитого человека, самого уважаемого и почитаемого не только в Галечной косе, но и в далеких окрестностях. Ничто ее не брало — ни голод, который не раз переживали в селении, ни холод, ни дожди, ни снежные бураны.
В Священные Китовые праздники, когда встречали первые стада или провожали их на долгую зиму, старую Нау по-прежнему сажали на почетное место, но обращали на нее столько же внимания, сколько на ритуальное весло, расписанное изображениями китов.
Зато люди не переставали славословить Гиву, большого человека, вездесущего, способного указать места, богатые зверем, предсказать погоду, вылечить занедужившего.
А что старая Нау?
Кроме сказок о китовом происхождении людей да неправдоподобных россказней о том, что она была женой Кита Рэу и даже сама рожала китят, от нее не было толку. Даже в то, что она живет вечно, никто не верил, потому что проверить это было невозможно.
Но Гиву знал: если Нау и не бессмертна, то во всяком случае она живет столько, сколько не живет обыкновенный человек. В редкие месяцы, когда она переселялась в ярангу Гиву, он старался высмотреть нечто особенное, что отличало бы старуху от обыкновенного смертного жителя Галечной косы. Но старая Нау была обычна до скуки. Она ела все, что едят в ее возрасте, остерегалась жесткой и грубой пищи, ибо зубы ее были стерты до самых корней. Она спала чутко и часто просыпалась среди ночи. Разговаривала о совершенно обычных вещах, и, если на нее не находил зуд рассказывания историй о китах, она сплетничала, судачила о чисто женских делах. Стыдно в этом признаться, но Гиву не только внимательно присматривался к привычкам и поведению старухи, но и подсматривал за тем, как она справляла свои естественные нужды. Ничего особенного, все точно так же, как у всех людей ее возраста…
Так в чем же дело?
И снова Гиву спросил ее об этом.
— Не первый раз задают мне такой вопрос, — с оттенком недовольства заметила Нау.
— Людям любопытно, — настаивал Гиву.
— Я не чувствую себя долгоживущей, — уклончиво ответила Нау.
— Однако какая ты была в годы моего детства, такая осталась и по сию пору, когда я уже старик, — сказал Гиву.
— Почему ты спрашиваешь о несущественном? — раздраженно заметила старая Нау. — Разве у тебя нет других забот?
— Однако если тебя попытаться убить — интересно посмотреть, умрешь ли ты от телесной раны? — спросил Гиву.
Старуха с удивлением поглядела на него, и две мутные слезинки выкатились из ее глаз.
— Как ты мог такое сказать? — всхлипнула она. — Ты, верно, нездоров… Разве может человек поднять руку на человека? Да он перестанет быть человеком, если только сделает это…
Гиву понял потом, что именно этот неосторожно вырвавшийся вопрос ускорил его уход через облака в другой мир… Как же он мог такое спросить? И после этого Гиву во взгляде старой Нау улавливал глубокое сочувствие и сострадание, хотя старик на вид был крепок, ничем не болел до самой смерти. Только силы от него уходили, словно в середине лета иссякал ручей, по мере того как уменьшался питающий его снежник.
И у старого Гиву напоследок даже не осталось сил, чтобы ненавидеть старую Нау.
Он понял, что как бы ему ни было хорошо, какие бы почести ему ни воздавались, настоящее счастье у старой Нау, которая и с виду, и по жизни — обыкновенная старуха. Но старуха, которая знает тайну бессмертия и Великую Истину. Да, она говорила о Великой Любви, но все уже относились к ней как к древней сказке.
Поворочавшись в мягкой оленьей постели до полудня, старый Гиву выходил из яранги и садился на большой камень, служивший грузилом для моржовой крыши. Он сидел, и мимо него проходили люди. Они почтительно здоровались с Гиву и по привычке просили у него совета.
После него все останется. И это высокое небо, облака, скалы, море… Его земляки потом умрут, но вместе с вечными горами, облаками, небом и ветром будет существовать и эта старуха — старая Нау.
Подбежал внук — Армагиргин. Он чуть не свалил с камня деда и громко расхохотался, когда увидел, как тот зашатался и стал хвататься за воздух.
— Недобрый ты, — укоризненно сказал ему Гиву. — Разве можно смеяться над слабым и немощным?
— Но это так весело! — уверял его Армагиргин. — Как рыба канаельгин, когда окажется на берегу!
Гиву смотрел на внука и точно себя видел в детстве. Правда, в отличие от него, Армагиргин был крепок телом, оживлен и общителен. Но внутренние особенности Гиву у его внука были выставлены наружу, словно нашитые на кухлянку яркие украшения. Честолюбие, стремление властвовать над другими, сладкое удовлетворение от повиновения других — все это было так знакомо… И если Гиву утолил жажду честолюбия долгим и упорным трудом и размышлениями, то Армагиргин брал все это с ходу.
Многое объяснялось, конечно, тем, что он был внуком такого человека, как Гиву.
Но каково будет разочарование, когда он увидит, что есть человек, через которого не переступить. Даже когда делаешь вид, что Нау не существует, что ее присутствие не волнует, все равно она — как немой укор, как олицетворение совести. Эта старая Нау, вечная старуха, которая живет как бы вне времени с одной и той же сказкой о китах.
Гиву вспомнил, что сказал Армагиргин, когда услышал о том, что в море плавают его братья-киты. «Не хочу, чтобы эти безобразные чудовища были моими братьями! — кричал мальчишка в истерике. — Они огромные, черные и страшные!»
Старая Нау с ужасом смотрела на мальчика и что-то шептала — наверное, свои китовые заклинания. Тогда с трудом удалось успокоить мальчика. Но с возрастом он не изменил своего отношения к сказкам старой Нау, и на его лице всегда бродила усмешка, когда кто-нибудь при нем начинал рассказывать старую-престарую сказку о происхождении приморского народа.
Когда Армагиргин впервые пошел на молодой лед, только что покрывший море, Гиву дал ему в руки чудесный посох из легчайшего суставчатого дерева и сказал ему:
— Этот посох через многие дальние земли пронес наш предок Эну в поисках Истины.
— И он нашел ее? — торопливо спросил Армагиргин.
— Он сказал, возвратившись из дальнего пути: истина одна — нет ничего лучше нашей земли, родины…
— И это все, что он привез? — усмехнулся Армагиргин.
— И еще — он принес эту палку, которая переходит в нашем роду к достойнейшему, — сказал Гиву.
Армагиргин взял безо всякого видимого трепета суставчатую священную палку и подивился ее легкости.
— Пусть она принесет тебе счастье и удачу, — сказал голосом, дрожащим от волнения и избытка любви к внуку, Гиву.
— Прежде всего я сам постараюсь добыть зверя, — сказал Армагиргин и отправился в море вместе со своими сверстниками.
Возвратились они с богатой добычей: Армагиргин тащил трех нерп. Его спутники потом рассказывали, как он удачливо ловил тюленей. Поймав зверя, он уволакивал его подальше от воды, садился на него верхом и с громким хохотом тащился на спине бедного животного к воде. У самой воды он соскакивал снова, оттаскивал тюленя подальше от воды и опять садился на него, пока зверь в изнеможении не клал голову на снег.
Эти рассказы веселили всех, и только старая Нау укоризненно качала головой и шептала свои китовые заклинания.
Когда Гиву почувствовал, что смерть уже стоит у входа в ярангу, он повелел позвать к нему Армагиргина. Внук пришел веселый, нетерпеливый, и, видно, ему не хотелось долго оставаться в затхлости плохо проветриваемого полога, где уже ощутимо пахло тленом.
— Внук мой, — проникновенно заговорил Гиву и крепко взял за руку Армагиргина, словно боясь, что он не даст договорить, не послушает и убежит к своим громогласным друзьям, шумевшим за стенами яранги. — Хочу тебе на прощание сказать: ты многого добьешься в жизни, большего, чем я, — я это чувствую… Только предостеречь тебя хочу: ты никто, пока не разгадаешь тайну этой старой женщины…
— Какой женщины? — удивился Армагиргин.
— Старой Нау…
— Ах, этой! — махнул рукой Армагиргин. — Так она сумасшедшая. И все, что она говорит, всем уже давным-давно надоело, потому что это неправда!
— Армагиргин, — Гиву попытался сжать сильнее руку внука, но тут последние силы покинули старика, и его оставил дух, вознесшийся прямо через широко распахнутое дымовое отверстие и через облака…
2
Да, это был настоящий человек, которым любовались всюду, где только жили морские охотники и оленные люди.
Сильный, красивый, высокий, с громким голосом, от которого рябилась спокойная вода на лагуне, Армагиргин говорил, что все счастье человека в его силе, в том, что человек может все и ему все дозволено.
Он еще в детстве смеялся над теми женщинами, которые оставляли в мышиных норах часть корешков и еще отдаривали мышей кусочком сушеного мяса.
— От этих маленьких ничтожеств надо брать все! — Говорил Армагиргин и костяной мотыжкой разорял мышиные норы, выгребая оттуда последние пэлкумрэт. Если он заводил невод в лагуну, то старался бросить в котел все, до последнего малька.
И при этом говорил и хохотал громко.
Людям было хорошо с ним, потому что каждый мог говорить то, что хотел, делал то, что ему надобно, и удовлетворял свои желания так легко и просто, как спал и ел.
Понемногу люди перестали благодарить морских великанов за помощь в морской охоте. Армагиргин утверждал, что это только кажется, что киты пригоняют морских зверей к берегам. А на самом деле животные приходят сами, по своей нужде.
Осенью, когда за мысом, на Галечном пляже, омываемом пенистым студеным прибоем, вылегли моржи, решено было бить их ранним утром, когда выйдет солнце.
Охотники подкрались сверху, тайком спустились и напали на мирно отдыхающих животных. Они кололи всех не разбирая, старых и молодых. Глухой стон моржей и тяжкий дух поднимался над морем, вплетаясь в резкий запах холодного прибоя.
Когда последний морж был заколот, Армагиргин поднял вверх окровавленный нож и крикнул так громко и победно, что с соседних скал поднялись тысячные стада гнездующихся птиц.
А вдали плыли киты и фонтаны поднимались над водой.
— Мы! — кричал Армагиргин. — Мы настоящие хозяева земли! Все, что нам надобно, мы будем брать, не благодаря и не спрашивая об этом никого!
Всю зиму жители Галечной косы валялись в сытой истоме. Подземные мясные хранилища были переполнены. На охоту ходили, лишь истосковавшись по свежему нерпичьему мясу. По вечерам в Большой яранге били в бубны и пели песни о человеческой удачливости, о том, что сильным людям все дозволено и доблесть человека, настоящего мужчины, в том, чтобы суметь ухватить сегодняшнее счастье, словно красавицу за развевающиеся волосы.
Армагиргин взял себе еще одну жену, ибо при таком обилии еды сил у него было столько, что ему уже мало было одной женщины, а через год, когда было разорено моржовое лежбище, взял и третью.
Певцы сочиняли о нем песни и в танцах изображали его великим человеком, подарившим людям настоящее счастье сегодняшней жизни. Это не было обещанием будущих благ, это не было призрачным утешением, когда несчастный человек кидал крошки сушеного мяса непонятным богам, — это было сытое счастье, от которого человек громко рыгал и смотрел на все сверху, словно неожиданно воспаривший над землей.
На следующую осень моржи не вылегли на лежбище. Они далеко обходили Галечную косу, и людям приходилось гнаться за ними далеко от берега.
Но это только раззадоривало и воспламеняло охотников, которые не знали, куда девать силу, накопленную сытой зимой. Сильными руками они гребли и сообщали байдарам такую скорость, что иной раз пытались состязаться с китами, которые по-прежнему, не опасаясь людей, плавали рядом с их байдарами.
— Эй вы, предки! — кричал им Армагиргин. — А ну покажите, братья, как вы плаваете!
И киты, словно понимая вызов, мчались рядом с байдарами, обдавая сидящих в них брызгами фонтанов.
Когда охотники возвращались к берегу, ведя на буксире убитых моржей, на берегу уже ждали женщины и старики. Вместе с ними стояла старая Нау, ставшая за последние годы очень молчаливой. Она как бы еще больше состарилась, хотя никогда не жаловалась на свои недуги.
Переселяясь из яранги в ярангу, она обходила жилище Армагиргина, но тот только криво усмехался и говорил, что присутствие этой старухи, рассказывающей пустые сказки, навевает на него тоску.
— Разве человек может поверить в то, что эти толстые бессловесные твари, горы жира и мяса, наши братья? — разглагольствовал Армагиргин. — Чтобы выдумать такое, надо обладать болезненным воображением, старческим слабоумием и не верить в великое превосходство сильного человека над всеми зверями!
Люди внимали словам Армагиргина и сначала в душе, а потом и вслух стали с ним соглашаться, ибо то, что он говорил, было ясно и понятно в отличие от странных утверждений старой Нау о родстве с китами.
Они любовались своим земляком Армагиргином и всячески прославляли его, упоминая его имя при всяком случае.
А Армагиргин не знал, куда приложить свои великие силы.
Раз он вышел на охоту в одиночном каяке в Ирвытгыр — сужающийся залив, отделенный от моря длинной косой с двумя высокими горами на ней.
Он греб маленьким двухлопастным веслом навстречу поднимающемуся солнцу и громко пел:
Я превыше всего на свете! Сила моя неодолима никем! Морские пучины, небесные выси — Все я достану, стоит мне Только захотеть этого!Каяк мчался по солнечной дорожке, словно летел поверх воды, обретя невидимые крылья. Вода журчала под кожаным днищем, подпевая охотнику, и каяк на ней подпрыгивал и звенел.
Когда берега скрылись в дымке, Армагиргин остановился и огляделся. Он любил вот так, один, выходить в море, чтобы испытать свою силу, ощутить еще раз, как много может сильный человек, вооруженный острым копьем.
Невдалеке мелькнула голова нерпы. В одно мгновение Армагиргин вонзил в нее гарпун и привязал бездыханное тело к борту каяка. Еще немного времени — и вторая нерпа покоилась в воде у другого борта. Хотелось совершить что-то необычное, потешить себя, поиграть своей силой.
Хоть бы налетел ветер, чтобы побороться с волнами, ощутить силу стихии и выйти победителем в борьбе с ней. После таких испытаний становишься еще сильнее и взор твой как бы пронзает большие расстояния.
Но безоблачное небо и тишина указывали на то, что спокойствие и хорошая погода воцарились на морском просторе.
Армагиргин играл двухлопастным веслом, вертел каяк, переворачивался в нем, но не было никого на огромном пространстве, кто мог бы увидеть и оценить его силу и ловкость. Лишь, как обычно, невдалеке резвились киты, и чувствующий к ним всегдашнюю неприязнь Армагиргин выкрикивал обидные и вызывающие слова в их сторону.
Солнце начало свой путь обратно к горизонту, и Армагиргин поплыл к берегу, медленно рассекая воду веслом.
Когда в поле зрения показались яранги, охотник заметил впереди усатую голову лахтака.
Лахтак почти до ластов высунулся из воды и с любопытством смотрел на проплывающего охотника.
Армагиргин почувствовал, как в нем начинает играть кровь. Он отцепил нерп, которые тут же пошли на дно, и погнал каяк к лахтаку. Но тот нырнул, оставив на воде лишь медленно расходящиеся круги.
Армагиргин с досады плюнул на воду и медленно повел каяк к тому месту, где, по его предположению, мог вынырнуть лахтак.
Зверь показался так близко, что от неожиданности Армагиргин вздрогнул. Лахтак как бы насмешливо посмотрел на охотника и так же издевательски медленно ушел под воду, и Армагиргин отчетливо видел, как отлого вниз, в глубину, уходило серое тело усатого тюленя.
Это окончательно разгневало Армагиргина, и он готов был отправиться в морскую пучину вслед за насмешливым лахтаком.
Охотник подплыл к тому месту, где должен был вынырнуть лахтак, и, как только он показался, Армагиргин быстро нагнулся и двумя руками ухватил его за усатую голову, но… лахтак легко выскользнул и нырнул круто вниз.
Армагиргин крепко выругался и приготовил гарпун.
На этот раз лахтак вынырнул довольно далеко от каяка. Охотник бросил гарпун, вложив в удар всю силу злости. Острие прошило лахтачью кожу, как бы привязав животное к лодке. Армагиргин осторожно потянул к себе ременной линь, медленно приближая раненое животное, чтобы не причинить ему вреда.
Огромными глазами, как бы умоляя избавить его от мучений, лахтак смотрел на Армагиргина, но тот, усмехаясь, громко пел песню и греб изо всех сил. Каяк его шел так быстро, что следом вспенивалась вода.
На берегу, как обычно, стояли земляки и громкими криками приветствия встречали Армагиргина, славя его силу и удачливость.
Армагиргин подтащил лахтака и сказал:
— Не надо его добивать!
С этими словами он выскочил на берег и кинулся с острым ножом на лахтака. Снял с живого зверя шкуру вместе со слоем жира. Люди никогда такого не видели, и, как они ни уважали и ни боялись Армагиргина, на этот раз они примолкли, охваченные ужасом.
Тело бедного лахтака представляло собой сплошную кровоточащую рану. Со злорадным громким смехом Армагиргин высоко поднял лахтака и бросил в воду, оставив на берегу снятую вместе со слоем жира его кожу.
— Ну, теперь плыви и расскажи своим морским богам о том, как силен и велик Армагиргин! — кричал охотник. — Расскажи им сказку, как рассказывает наша сумасшедшая старая Нау! А где она? Почему она не пришла на берег?
— Занедужила она, — сообщил кто-то.
— Как занедужила? — нахмурившись, спросил Армагиргин. — Она ведь вечная и никогда не болевшая!
И вправду, никто не мог вспомнить, чтобы старая Нау когда-нибудь болела.
Но на этот раз она действительно слегла и не выходила из яранги.
Ободранный лахтак медленно отплывал от берега, и в прозрачной, ясной воде за ним тянулся кровавый след.
Солнце быстро опускалось к воде, и вдруг невесть откуда над горизонтом появились тучи и потянуло ветром. Гладкая морская вода покрылась рябью, и, когда люди поднялись к ярангам, в берег ударила первая волна.
На побережье погода меняется быстро и неожиданно, но такого, как это случилось сегодня, никто не помнил. Порыв ветра сразу же сорвал несколько крыш. Большое кожаное ведро с грохотом протащило мимо укрепленных на подставках байдар. Гирлянды сушащихся моржовых кишок посрывало и унесло за лагуну.
Словно и не было ясного летнего дня: все почернело, потемнело, и с низкого неба хлынул проливной дождь.
Крики людей, укрепляющих жилища, смешивались с воем ветра, гул накатывающихся на берег волн пронзался воем испуганных собак и плачем ребятишек.
В довершение всего мрак осветился вспышками молний.
— Илкэй! Илкэй! — в ужасе кричали люди.
Огненные стрелы прочерчивали небо, и дымовые отверстия яранг освещались синим зловещим светом.
Армагиргин сидел в своей яранге и дрожащими руками сжимал рукоятку священного бубна, оставленного ему покойным Гиву. Он пытался вспомнить слова песнопений, но на память приходили совсем другие слова, с которыми он привык обращаться к морю, к животным и даже к своим землякам.
Как же они звучат, эти слова добра и любви?
В тщете оставив бубен, Армагиргин выполз из своей яранги и, пригибаясь под ветром, цепляясь за неровности почвы, пробрался в ярангу, где лежала больная старая Нау.
— А, это ты пришел, — слабым голосом сказала старуха.
— Что это? — в испуге спросил Армагиргин. — Неужто в отместку за то, что я сделал с лахтаком?
— Это только предостережение, — слабо произнесла Нау. — Буря пройдет, она вечно продолжаться не может, однако ты должен взглянуть на себя со стороны и увидеть себя другими глазами.
— Какими же? — спросил Армагиргин.
— Глазами Великой Любви.
Армагиргин промолчал: он с детства слышал эту сказку, но даже сейчас, при свете молний и в грохоте бури, он продолжал сомневаться…
— А что делать? — спросил Армагиргин.
— Жить согласно совести, — сказала старая Нау.
— А как это? — не понял Армагиргин.
Старая Нау приподнялась на локте и с удивлением взглянула на Армагиргина.
Армагиргин ушел от старой Нау в непонятном для себя состоянии. Да, он понимал, что своими поступками он вызвал возмущение природных сил. Но, с другой стороны, и раньше бывали сильные бури…
Огромные волны перекатывались через низкие места Галечной косы. Жители яранг, расположенных на морской стороне, покинули свои жилища и, сгибаясь под тяжестью своего домашнего скарба, бежали на другой берег лагуны, куда не могли достать волны.
Армагиргин с трудом добрался до своей яранги.
Волны уже разрушили одну стенку, обращенную к морю, и пенистая вода заполняла чоттагин. Очаг затопило, и вперемешку с пеплом плавали морские звезды и обрывки водорослей. Еще одна волна ударила, и выплыл маленький моржонок с только что пробивающимися клыками. Он смешно бил ластами, пытаясь уцепиться за землю, и жалобно моргал маленькими, спрятанными за толстыми кожаными складками глазами. Ничего особенного в этом моржонке не было бы, если бы не его ярко-красная кожа, которая словно сама горела.
Следующей волной моржонка смыло обратно в море.
К утру ветер стал немного утихать.
Армагиргин выбрался наружу.
Ветер еще был так силен, что море казалось кипящим. Огромные волны светились вершинами, вспененные верхушки отсвечивали, и отблеск их простирался далеко, до самого горизонта.
Молчаливый и подавленный вернулся Армагиргин в свою ярангу.
3
Люди заметили, как сильно переменилась старая Нау после памятной бури, когда едва не снесло яранги Галечной косы. Раньше она хоть и была старой женщиной, но крепкой еще, а теперь она выглядела просто дряхлой, и, наверное, стала видеть хуже, потому что путала людей, и часто отвечала невпопад. Единственно, что она хорошо помнила и всегда рассказывала, — это всем известную сказку о китовом происхождении приморского народа.
Люди прятали усмешку, если она дрожащим от старости голосом повествовала о давней странной жизни в одиночку, когда, босая и счастливая, она бродила по мягкой траве в ожидании Великой Любви, которая явилась ей в образе кита из морской дали.
Когда ребятишки начинали громко дразнить старуху, уже мало кто останавливал их: было не до нее.
Трудно стало жить приморскому народу. Часто случалось так, что к наступлению холодов лишь наполовину были наполнены мясные хранилища, и звонкой студеной зимой людям приходилось вышагивать по морскому льду огромные расстояния в поисках тюленей или белых медведей.
Холодными вечерами, когда скудный огонь освещал внутренность полога, кто-нибудь вспоминал, что было время, когда берега Галечной косы кишели зверьем и охота была больше развлечением и пробой сил для молодых мужчин, нежели тяжким трудом.
Несколько раз в Галечную косу приезжали рэккэны и привозили болезни. Но уже не было такого человека, который бы нашел их и помог им быстрее проехать селение. Поэтому люди умирали, и дорога на Холм Усопших не заносилась снегом.
Армагиргин не щадил себя. С первыми проблесками зари он уходил на лед и возвращался лишь глубокой ночью. И чаще всего с пустыми руками — морозы сковали всю открытую воду, ветра не было и повсюду в море был лед.
Чаще всего встречались следы белых медведей. Армагиргин смекнул, что если идти по следу хозяина льдов, то иногда можно набрести на полуобглоданную тушу верпы. В другое время принести такую добычу домой считалось не только кощунственным, но и в высшей степени позорным. Но, когда дома ждали голодные ребятишки да и самому так хотелось есть, что судороги пустого желудка причиняли боль, выбирать не приходилось.
Вот и теперь охотник шел, стараясь не потерять следов белого медведя. Они часто виднелись на снегу, словно в них была налита синева темного зимнего неба вместе с блестками звезд и радужными осколками полярного сияния.
Острый зимний воздух резал легкие, выстуживал последние остатки тепла. Армагиргин старался дышать медленно, берег каждый выдох и шел размеренным, но широким шагом. Медведь выбирал ровную дорогу, обходил высокие торосы и ропаки.
След его был чист, и это настораживало охотника: значит, медведь был без добычи и поделиться с человеком ему нечем.
Когда Армагиргин уже подумывал прекратить преследование, он увидел медведя. Умка стоял на невысоком торосе и смотрел на человека. Он стоял спокойный, уверенный в себе и в своей силе. В его чуть заостренной морде с маленьким черным кончиком носа таилась откровенная насмешка над слабым, голодным человеком.
Армагиргин ощутил в груди гнев.
А почему бы ему не убить белого медведя? Пусть он один, нет у него помощника, который бы отвлек внимание зверя, — так обычно охотились на умку жители Галечной косы.
Но медведю, видно, не хотелось вступать в сражение с человеком. Он не спеша спустился с тороса и так же неторопливо зашагал прочь, загребая выворотом лап сухой, мелкий снег.
Армагиргин с копьем наперевес кинулся на медведя. Зверь, услышав погоню, оглянулся, и на его бесстрастной морде застыло выражение удивления.
Он остановился и повернулся к охотнику.
Армагиргин подбежал и, собрав все свои силы, вонзил копье под переднюю лапу, в область сердца.
Как-то по-человечески охнув, медведь упал и сломал древко копья. Глаза его, в которых еще светилось выражение удивления, постепенно заволокло туманом смерти.
Армагиргин некоторое время неподвижно стоял над поверженным зверем и чувствовал, как в нем растет огромная горячая лавина радости и гордости за себя.
Не в силах сдержать своих чувств, он закричал дико и громко, и голос его отражался от острых граней торосов, разносился по белой пустыне, загроможденной хаосом битого льда.
— Я один убил умку! Я своей рукой вонзил копье, и вот он, владыка льдов, лежит поверженный передо мной! А ну, есть еще кто в море? Есть, кто хочет помериться со мной силой?
И, только прокричав несколько раз эти слова, Армагиргин принялся разделывать убитого зверя: надо было торопиться — мороз скоро так скует тушу, что никакой нож уже не возьмет. Разделывая умку, Армагиргин то и дело кидал в рот куски еще теплого мяса, с удовольствием чувствуя, как сытость входит в тело, наполняет густым теплом кровь.
Он постарался взять столько, сколько мог унести на себе.
Тяжелая ноша не тяготила его, потому что это было мясо, это была жизнь, которая обещает спокойствие, крепкий сон, уверенность в будущем и наслаждение ощущением своего могущества.
Армагиргина встретили домочадцы и многие соседи, которые еще издали по мелькающей среди торосов тени распознали, что охотник идет с добычей и добыл он по меньшей мере умку, потому что если бы это была нерпа, то он бы тащил ее волоком по снегу.
Армагиргина радостно встретили. Он коротко и точно указал, где остатки умки, и туда бегом на своих быстрых и сильных ногах отправились юноши.
Женщины поставили большие котлы над огнем, и перед рассветом, когда мясо сварилось, в ярангу созвали самых уважаемых и знатных жителей Галечной косы.
— И старую Нау позовите, — напомнил Армагиргин.
Старуха пришла. Седые космы почти скрывали ее изможденное лицо. Глянув на ее руки, Армагиргин подумал, что кожа на них напоминает уже старый, потемневший от дождей плащ из моржовых кишок. Сильно сдала за последнее время вечная жительница Нау!
Старуха пристроилась возле ярко горящего жирника, где было тепло и сильнее пахло свежей едой.
— Удача пришла к тебе, — тихо сказала она охотнику.
Армагиргин победно усмехнулся:
— Я ее взял своими руками!
— Да, — кивнула старая Нау. — Удача идет к тому, у кого сильные руки.
— И тому, кто чувствует себя настоящим хозяином жизни, — добавил Армагиргин.
— И это верно, — согласилась старуха. — Но для полноты жизни надо любить друг друга, любить брата, а не только себя…
— Ну вот, опять ты за свои сказки! — засмеялся Армагиргин. — Давайте лучше будем есть!
Женщины поставили перед собравшимися длинное деревянное блюдо, на котором дымилось и исходило паром мясо умки. Все с нетерпением принялись за еду, и долгое молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем и глуховатыми стонами насыщающихся людей, царило в просторном пологе сильнейшего и удачливейшего человека в Галечной косе.
По мере того как желудки наполнялись мясом, развязывались языки, и люди начинали вспоминать времена удачливой охоты, вожделенно мечтали о наступлении лета, когда будет вдоволь моржового мяса и не будет долгих, темных, голодных ночей, как зимой.
— Лето будет трудное, — сказала Нау, кладя на очистившееся деревянное блюдо хорошо обглоданную косточку.
— Откуда ты знаешь? — с вызовом спросил Армагиргин.
— Просто знаю, — спокойно ответила Нау.
— Кто тебе об этом сказал?
— Я сама знаю, — возразила старуха, — зачем мне еще кого-то слушать?
Армагиргин долгим взглядом смерил старую женщину.
— Тогда предскажи нам, чтобы удачи было больше…
— Об этом надо было раньше думать, — ответила старая Нау. — Любить надо не только себя, но и всех людей, но любить бескорыстно. А ведь позвал ты сегодня гостей не оттого, что хотелось тебе поделиться с ними мясом, а единственно из желания похвастаться, чтобы люди видели и знали — вот я каков, Армагиргин!
— А если даже это так, то это не твое дело! — сердито заметил Армагиргин. — Твое дело рассказывать сказки, а не учить людей, как им надо жить.
— Тогда я тебе расскажу другую сказку, — спокойно ответила старая Нау. — Вот послушай…
— Да что нам тебя слушать! — махнул рукой Армагиргин. — Все твои сказки знают даже малые дети. Сказки прошлой жизни…
— Я тебе расскажу сказку о будущем, — возразила старая Нау.
Это насторожило Армагиргина, и он снисходительно кивнул старухе:
— Ладно. На сытый желудок можно и сказку послушать.
Старая Нау поудобнее устроилась возле жирника и начала глуховатым голосом:
— Каждая сказка начинается словами: вот было так. Начало этой звучит иначе — будет так… Будет так… Родится один человек, удачливее и сильнее, чем ты, Армагиргин, хоть у него и будет другое имя. В море он будет добывать самых сильных и жирных зверей, догонять на суше самых быстрых и своими сильными руками сможет душить волков и медведей. Люди будут его всячески славить и даже сочинять сказки и легенды о нем. Но мало ему покажется того, что люди лицезреют его живого и веселого. Он захочет, чтобы он всегда присутствовал в каждой яранге. Искусные резчики вырежут его изображение на моржовой кости, начертают его изображение на белой коже и будут вешать его на высокие шесты… Но этого ему мало будет. Мало будет, чтобы его изображение было в каждой яранге. Он захочет, чтобы и запах его незримо присутствовал в каждом жилище, и заставит всех обнюхивать его, где бы он ни появлялся, и запахом его будут наполнять яранги… И этого мало будет ему. Самые лучшие и новые одежды будут на нем, но он захочет их расцветить, и самые искусные вышивальщицы будут украшать его одежду, он будет сиять, как отражение солнца… Да, да, и с солнцем его будут сравнивать, но и этого мало ему будет. И захочет он, чтобы настоящие звезды украшали его одежду… И будут посланные люди уходить за звездами, которых пожелал он, и погибать в пути… И останется он одиноким, в снова будет пустынно и дико на морском побережье, как тогда, когда я пришла сюда в молодости…
Старая Нау закончила свою сказку. Молчали и все остальные, потому что много непонятного было в словах старухи.
Широко зевнул Армагиргин и сказал:
— Однако надо и поспать… Мы хорошо поели, выслушали сказку старой Нау… Что нам еще нужно, кроме долгого и сладкого сна?
И все разошлись по своим ярангам.
4
К весне в Галечной косе стало совсем худо: люди выскребывали налипь со стен мясных хранилищ, вымачивали и варили лахтачьи ремни, добывали из-под снега прошлогоднюю зелень. Много было умерших просто от голода, особенно малых детишек, которые тщетно пытались выжать хоть капельку молока из тощих, похожих на сушеные кожаные рукавицы материнских грудей.
Весеннее солнце и пришедшее с ним тепло не принесли ожидаемой подвижки льда, и только с прилетом первых птиц кое-где появились разводья и охотники стали возвращаться с добычей.
Но уже не было изобилия прошлых лет.
Что-то случилось в природе, и никто не мог этому найти объяснения, кроме старой Нау, которая утверждала, что все дело в человеческой жадности и неумении, в неуважении друг к другу, к природе и звериному населению земли и моря.
Эти рассуждения больной старухи вызывали только усмешку у измученных и изголодавшихся людей, знавших, что нерпа никогда сама не идет к охотнику и птицы не ищут сетей, чтобы запутаться в них на радость ловцам.
Удача шла к тем, кто, не щадя себя, проводил дни и ночи на льду.
С уходом ледового припая стало полегче.
Люди охотились на больших байдарах, подкарауливали моржей на их привычных путях, когда они стаями шли через пролив из южного моря в северное. Охотники настигали их здесь, гарпунили и приволакивали к берегу, где уже ждали женщины с остро отточенными ножами.
Пылали костры в ярангах, и дух вареного мяса распространялся по всему селению, радуя сердца людей, рождая на досуге веселые песни, в которых прославлялась мужская доблесть Армагиргина, человека, который бросил вызов всему сущему.
Люди отъедались за зиму. Не только нерпичьим и моржовым мясом. Открыли, что и птичьи яйца необыкновенно вкусны, да и сами птицы тоже — их можно было сгребать большими сетями, сплетенными из оленьих жил.
В тихие вечера ловили острогами сонных рыб, плывущих по мелководью, отправлялись за голубыми цветочками, смешивали их с нерпичьим жиром и лакомились этой необыкновенно вкусной едой. Старались перепробовать все, вознаграждая себя за долгие месяцы голода. На моржовых крышах раскладывали ребра лахтаков и нерп, и, когда мясо высыхало и чернело и на нем появлялись белые пятнышки личинок, считалось, что оно как раз поспело. В укромных теплых местах держали нерпичьи ласты, потом снимали с них кожу, словно перчатки, и острым ножом резали на мелкие куски мякоть, которая обретала от долгого пребывания в теплом месте необыкновенно острый вкус, будто начинялась массой невидимых жалящих иголок.
Еда стала не просто способом восстановить истраченные силы, а наслаждением, насыщением с изощренным удовольствием. Кто-то догадался начинить очищенные моржовые кишки кусками сердца, печени, легкого, утробным жиром и все это сварить на медленном огне… Так появилось и это лакомство у жителей Галечной косы, охваченных жаждой утонченного насыщения.
Да, люди ели, и ели неплохо, может быть, даже лучше, чем в прежние, славящиеся изобилием, годы. Но за нынешним насыщением чувствовалась неуверенность, какая-то жадная поспешность и стремление набить свою утробу.
Поедали все, что добывали. Но запаса не могли сделать. Когда наступали ненастные дни, сначала съедали немногое, что оставалось, потом принимались за рыбную ловлю, а потом и вовсе подтягивали потуже пояса, терпеливо дожидаясь, пока утихнет ветер и можно будет выйти в море за проходящим моржовым стадом.
Вода у берегов Галечной косы больше не кишела зверьем, как недавно, не торчали столбиками любопытные головки нерп, лахтаков, не резвились птицы и не купались в прибрежнем прибое моржи. Все это куда-то ушло, уплыло, улетело. Конечно, и раньше бывали скудные времена, но не такие, как в этот год. Словно звери каким-то образом разузнали о ненасытности приморских жителей и поспешили в другие места. А ненасытность и впрямь была такая, что, несмотря ни на что, жители Галечной косы отличались тучностью и едва умещались в кожаных байдарах. И даже говорить стали меньше, ибо рты чаще всего были заняты разжевыванием какой-нибудь еды.
А тем временем кончалось короткое лето, и на том месте, где раньше вылегали моржи, где жители Галечной косы запасались моржовым мясом на зиму, было пусто и уныло. Прибой полировал чистую гальку, перекатывал старые, оставшиеся от прошлых забоев сломанные моржовые бивни, слизывая покалеченные раковины, и, тихо шипя, откатывался назад, в холодное пустынное море.
И только киты по-прежнему хранили верность этому берегу и стадами плавали на виду у селения, играя высокими фонтанами, в которых дробилось солнце.
Возвращаясь в пустой байдаре, Армагиргин с нескрываемой ненавистью смотрел на них, на их гладкие огромные тела, медленно уходящие в пучину вод, и думал, какие, в сущности, это огромные туши, настоящие клады мяса и жира. Почему надо верить таким фантастически неправдоподобным рассказам старой Нау о китовом происхождении приморского народа? Почему именно киты — их предки? Не моржи и не тюлени? В конце концов, лахтак куда более смахивает на человека, особенно если он лежит на льду и смотрит на охотника. Именно это сходство и оказывается часто роковым для него. Подкрадывающийся охотник подражает движениям лахтака, и усатому тюленю кажется, что к нему приближается его сородич… Или — почему не волк предок человека? Волк живет на суше, ест мясное, как и человек, а эти огромные туши мяса и жира даже неизвестно чем питаются, ибо, насколько это известно людям, киты не едят ни тюленей, ни моржей…
Нет, если поразмыслить здраво, нет никакого сходства между китом и человеком, и, правду говоря, люди-то никогда всерьез и не верили россказням выжившей из ума старухи…
И добыть-то не составит большого труда, если напасть сразу тремя-четырьмя байдарами.
Так думал Армагиргин, и с каждым днем эта мысль укреплялась в нем.
Потом пришло время поделиться этими мыслями со своими сородичами. Удивительно, но и они признались, что давно думали так же, как и Армагиргин. А что касается сказок старой Нау, мало ли сказок о других зверях, где вороны разговаривают человеческими голосами, моржи поют песни и лисы строят настоящие яранги…
И все же что-то еще некоторое время удерживало Армагиргина. Может быть, то, что изредка все же попадались моржи и тюлени, людям было что есть, а может быть, старая Нау… Она была так слаба, что уже не выходила из яранги, почти не ела и разговаривала шепотом. На все твердила о том, как родила китят, которые братья ныне живущим людям… Но никто уже всерьез не прислушивался к словам старой женщины.
В этот раз китов у Галечной косы было необыкновенно много. Они бороздили море у самой прибойной черты, обрызгивали радужными каплями тех, кто оказывался поблизости.
Армагиргин все еще надеялся, что моржи придут на старое лежбище и можно будет запастись мясом и жиром на зиму. Но на берегу было пусто, и моржовые стада не просто не вылегали на старое место, но остерегались и приближаться, далеко обходя его.
Каждый раз, проплывая мимо китового стада, Армагиргин мысленно примеривался то к одному, то к другому киту, высматривая наиболее уязвимые места. А на берегу мастерил большие копья и уходил с друзьями в тундру, где из мягкого дерна с глиной было изготовлено чучело большого кита.
Однажды, возвращаясь из тундры, Армагиргин шел мимо яранги, где жила старая Нау. Он услышал стоны старухи и вошел в чоттагин.
Старая Нау узнала его.
— Болеешь? — как бы сочувствуя, спросил старуху Армагиргин.
— Худо мне, — жалобно простонала старая Нау. — Иной раз ничего, а бывает так, словно кто-то колет меня.
Армагиргин вышел из яранги растерянный… Неужто удары его копья отдаются в теле старой женщины? Но ведь это невозможно и неправдоподобно! Может быть, кто-то рассказал о тайных упражнениях Армагиргина и товарищей, и старая Нау пытается предостеречь его от исполнения задуманного?
Китовое стадо паслось недалеко, на виду у селения. Оно было последнее, то самое, которому в предыдущие годы приносились жертвы. Киты ждали этого прощального жеста людей и подплыли ближе, как только байдары вышли в море.
Но вдруг стадо, почувствовав опасность, резко развернулось и двинулось прочь от берега.
— Коли ближнего! — закричал Армагиргин и первым кинул копье вперед, пронзив кожу молодого кита. Брызнула кровь, окрасив воду, и вслед за копьем Армагиргина полетели другие копья.
Но кит все еще был полон сил и быстро плыл вслед за своими товарищами, которые уходили в морскую даль, спасаясь от преследовавших их людей.
Армагиргин направил байдару наперерез стаду и отрезал раненого кита от остального стада. В израненное животное летели копья, уснащенные поплавками из шкур нерпы. Эти поплавки не давали нырять раненому, и кит, обессилевший от потери крови, замедлил ход.
Из многочисленных ран широким потоком лилась кровь, вид ее пьянил людей, и каждый сидящий в байдаре старался вонзить в кита еще что-нибудь острое.
Кит делал последние отчаянные попытки догнать свое стадо, но на пути стояли байдары с кричащими, размахивающими копьями людьми, и он, как бы смирившись со своей участью, остановился.
Тут его и добили. Привязали бездыханное тело к байдарам и поплыли к берегу.
Поднявшийся ветер позволил поднять паруса, и флотилия победителей двинулась к галечному берегу.
Плыли долго. Ночь уже давно накрыла берега, и наступила такая темень, что люди едва различали друг друга. На небе не было ни одной звезды, и даже луна не появилась в эту ночь.
Гордый Армагиргин сидел на корме передней байдары и правил длинным веслом.
На берегу охотников встретили радостными криками.
Армагиргин повелел, чтобы все расходились по своим ярангам.
— Кита разделаем утром, — устало сказал он.
Армагиргин медленно поднимался к себе.
Проходя мимо яранги, где жила старая Нау, он услышал стон. Армагиргин приподнял шкуру, закрывающую вход в жилище.
Старая Нау глянула на него горящими глазами и хрипло произнесла:
— Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не был похож на тебя, то завтра…
И тут голова старой Нау упала, и не стало вечной женщины, которая, по преданиям, пережила всех, и смерть не могла справиться с ней.
…Рано утром мужчины с остро отточенными ножами спускались к берегу, чтобы приняться за разделку кита.
Впереди шел Армагиргин. Широко открытыми глазами смотрел он вперед.
Но где кит? Где эта огромная гора жира и мяса, которую они вчера приволокли?
Армагиргин сбежал к воде. У края прибоя виднелось что-то небольшое, омываемое волнами.
Кита не было.
Вместо него лежал человек. Он был мертв, и волны перебирали его черные волосы.
А далеко, до стыка воды и неба, простиралось огромное, пустынное море, и не было на нем ни единого признака жизни, ни одного китового фонтана.
Киты ушли.
― СЛЕД РОСОМАХИ ― (повесть)
1
Вертолет летел над кромкой берега, угадывающейся по гряде битого льда, наползшей на галечную косу серыми, голубыми, зелеными ледяными обломками, припорошенными снегом. Тень неслась по торосам и ропакам, по ровной глади нетронутого снега, неправдоподобно белого и непривычного для глаз городского человека.
Пристроившись в тесной кабине между двумя пилотами, Тутриль не отрывал взгляда от этой белой до боли в глазах пустыни.
Пилот искоса поглядывал на пассажира и примечал, что этот человек, которого так уважительно и сердечно встретили в районном центре, внешне и впрямь заметно отличается от своих земляков. Одет в добротную, хорошо выделанную дубленку, на голове из того же материала шапочка пирожком, а на лице — большие очки.
Иван Тутриль, научный сотрудник Ленинградского института языкознания, кандидат наук, летел к себе на родину, где не был уже много лет.
Смятенно было на душе у Тутриля: все эти годы родной Нутэн оставался в бесконечно далеком детстве, и вот вдруг он совсем рядом, в десяти минутах полета.
Пилот обернулся к пассажиру и показал пальцем вниз.
Тутриль подался вперед. Вертолет снизился, и вдруг впереди на белом снежном поле возникла яранга. Она стояла у самого берега, и торосы подступали к ней вплотную, угрожая жалкому древнему жилищу, такому беспомощному и сиротливому на этом огромном, пронизанном светом просторе.
От яранги шла еле видимая дорога на север, казавшаяся отсюда, с высоты полета, следом зверя.
Вертолет промчался над ярангой, и Тутриль увидел собачью упряжку. Поначалу собаки, да и каюр не обратили внимания на вертолет, но, когда машина снизилась над нартой и с ревом пронеслась над ней, собаки помчались в торосы.
Нарта опрокинулась, и каюр, вцепившись в серединную дугу, потащился вслед за испуганной упряжкой.
Тутриль укоризненно посмотрел на пилота. А тот, весело подмигнув, сделал вираж и посадил машину недалеко от нартовой дороги.
Не дождавшись, пока лопасти остановятся, Тутриль выскочил на лед и побежал в торосы, откуда слышался собачий лай и человеческий голос.
Перевалив через высокий ропак, он увидел разъяренного каюра.
Он замахнулся остолом на Тутриля и вдруг опустил палку с железным наконечником.
Это была совсем молоденькая девушка.
— Это вы? — с изумлением выдохнула она.
— Здравствуй, — растерянно произнес Тутриль. — Ты кто такая? Что ты тут делаешь?
— Здравствуйте, — ответила девушка. — Айнана я.
В этой взрослой девушке с каким-то пытливым, немигающим, пристальным взглядом трудно было узнать крохотную Айнану, которую он едва помнил, — внучку дяди Токо и тетушки Эйвээмнэу.
Девушка, казалось, уже оправилась от неожиданной встречи. Переложив в другую руку остол, она подала теплую, только что выпростанную из оленьей рукавицы ладонь с налипшими белыми волосками.
— Значит, вы приехали, — медленно произнесла она. — А мы-то думали, что больше никогда не увидим вас…
— Почему же? — смущенно улыбнулся Тутриль. — Это же моя родина… Ты откуда едешь?
— Из яранги, — ответила Айнана. — Я живу гам с дедом и бабушкой, вон там, — она показала назад. — Сейчас еду в Нутэн по делам.
— В яранге? Почему ты живешь в яранге, а не в Нутэне? — Тутриль был очень удивлен.
— Это долго объяснять, — ответила Айнана. — Прилетите в Нутэн, сами обо всем узнаете.
Тутриль с детства звал Токо дядей, хотя он и не был кровным родственником семье Онно. В этом не было ничего удивительного — так водилось исстари среди близких друзей, которых трудная жизнь роднила куда теснее, чем кровное родство. Мальчишкой Тутриль часто подолгу живал в яранге Токо, и с ним нянчилась Эймина, единственная дочь четы Токо, мать Айнаны…
Дядя Токо славился как лучший сказочник не только в Нутэне, но и далеко по всему побережью полуострова. Его любили в окрестных селениях и старались зазывать в гости. Он рассказывал не просто волшебные сказки, а так называемые действительные повествования, которые, как впоследствии уяснил себе Тутриль, являлись устной историей народа, сказаниями, рисующими памятные события жизни народа с древнейших времен до современности, точнее — до того времени, которое помнил с детства дядя Токо. Но легенды дядя Токо пересказывал так, что они запоминались. В них была глубокая мысль, своеобразие, особая интонация. Вспоминая в Ленинграде его устные рассказы, Тутриль все больше и больше убеждался в том, что дядя Токо был большим поэтом, хотя ни одна его строка не была до сих пор записана.
— Послушай, Айнана…
Тутриль хотел что-то сказать, но тут из-за тороса показался летчик. Выражение лица Айнаны переменилось, и она укоризненно произнесла:
— Миша, тебя же снимут с полетов.
Собаки заволновались и громко залаяли.
Летчик виновато склонил голову:
— Извините… Хотел вот с гостем познакомить.
— Какой он гость? — хмуро заметила Айнана. — Он наш.
— Еще раз прошу прощения, — повторил пилот. — Хороший сегодня день.
И вправду: было удивительно тихо, прозрачно, чисто и неожиданно тепло.
— Может, полетишь с нами? — предложил летчик.
— А собаки? — ответила Айнана.
— И собак возьмем: машина все равно пустая! — летчик вопросительно посмотрел на Тутриля.
Он не знал, как быть, и в ответ пожал плечами.
— А почему бы нет? — весело заметил второй пилот. — Когда мы снимали со льдины охотников, так там даже три упряжки было. Давайте грузиться!
Айнана села на нарту, подвела упряжку к вертолету и с помощью летчиков затолкала в него собак вместе с нартой.
Подняв на земле небольшую пургу, вертолет взял курс на Нутэн.
2
На посадочной площадке, обозначенной крашеными пустыми бочками, собрались встречающие: председатель сельского Совета Роптын, низенький мужчина неопределенного возраста; директор совхоза Гавриил Никандрович Забережный, высокий, худощавый; сельский библиотекарь Долина Андреевна, рослая и румяная женщина, а рядом с ней — Коноп, плотный, внушительного вида парень в зимнем пальто с каракулевым воротником, но в малахае. Тут же топтались школьники в белых камлейках, с пионерскими галстуками. Чуть поодаль стояли родители Тутриля — Онно и Кымынэ. На Онно была праздничная белая камлейка, из ее широкого выреза торчала темная, загорелая шея, голова с поредевшими седыми волосами. Кымынэ нарядилась в длинный замшевый балахон, украшенный пышным мехом: такая одежда нынче большая редкость в чукотских селах.
Роптын нетерпеливо посматривал то на часы, то на небо.
— Ничего не понимаю! — сердито воскликнул он. — По времени они уже должны быть здесь! Онно! — окликнул Роптын. — Почему вы там встали? Надо всем вместе, организованно встретить нашего знатного земляка.
— Нет уж, вы там встречайте организованно, — отмахнулся Онно, — а мы по-своему… Десять лет не видели сына.
— Почему он сердится? — пожал плечами Коноп. — Радоваться надо.
— Может, сердится за то, что Тутриль так долго не приезжал? — предположил Роптын.
— Летит! — закричал один из мальчишек.
Все сразу уставились в еле видимую точку над горизонтом, которая быстро росла, увеличивалась, пока не превратилась в желтый с красным вертолет.
Машина прогремела над встречающими, ушла на морскую сторону, низко пронеслась над селением и только после этого стала прицеливаться к посадочной площадке.
— Летчик показывал Тутрилю родное селение, — догадался Коноп.
— Впереди, значит, иду я, как представитель Советской власти, потом родители, а за ними — пионеры, — торопливо напомнил порядок встречи Роптын и с приветливым и радостным выражением лица медленно и торжественно двинулся к вертолету.
Открылась дверца.
Роптын остановился, напрягшись от волнения, и мысленно повторил приготовленную приветственную фразу. Школьники с любопытством наблюдали, как председатель сельского Совета беззвучно шевелил губами, словно что-то жевал.
Но вместо Тутриля из раскрытой дверцы вывалилась собака, за ней другая, третья, четвертая… Потом показалась нарта, а следом — смущенная Айнана.
Разинув от удивления рот, Роптын застыл на месте.
Айнана распутала собак, отъехала в сторону, и только тогда показался Тутриль.
— Какомэй, етти! — коротко произнес Роптын, позабыв о приготовленной речи. Он крепко пожал руку Тутрилю, который глазами уже искал родных.
Он хотел было двинуться к ним, но тут звонкий голос пионера остановил его:
— Дорогой наш земляк, Иван Оннович Тутриль! Мы рады приветствовать вас на родной земле! Мы гордимся тем, что учимся в той же школе, которую окончили вы!
Долина Андреевна что-то подсказала мальчишке, и тот с новой силой прокричал:
— Мы даем торжественное обещание учиться так же хорошо и отлично, как вы учились!
Тутриль беспомощно оглядывался, не зная, как себя держать. Его растрогала, смутила эта встреча. Перед ним стояли люди, которые помнили его маленьким мальчиком. Гавриил Никандрович — русский человек, которого в Нутэне почитали за своего. Он приехал молоденьким пареньком, заведующим факторией, женился на чукчанке. Когда началась война, Гавриил Никандрович ушел на фронт, а вернувшись, не застал в живых свою Гальгану. Двое его сыновей давно закончили институты. Тутриль хорошо помнил, как Гавриил Никандрович несколько раз собирался уезжать навсегда с Чукотки — распродавал, раздаривал имущество, увязывал вещи и… в конце концов оставался. В последние годы он даже перестал ездить в отпуск на материк. Роптын, первый учитель Тутриля… Коноп — школьный приятель, товарищ по детским играм. Долина Андреевна… Бедная девочка! Сколько она перетерпела из-за своего имени: отец ее, большой любитель песен назвал ее Долиной, понравившимся словом из песни: «По долинам и по взгорьям». Рассказывали, что он сначала хотел назвать дочку Дивизией, но его отговорили… Да, не ожидал Тутриль такой встречи в родном селе! Он взял большой желтый чемодан и поймал сочувственный взгляд Конопа. Коноп улыбнулся, подошел и отнял чемодан:
— Давай помогу.
Тутрилю пожали руку Роптын, директор совхоза, Долина Андреевна, и только после этого он смог подойти к родителям. Тутриль остановился перед отцом и матерью, слегка наклонил голову, не зная, как поздороваться с ними: чукчи не привычны шумно и напоказ выставлять свои чувства.
Онно всмотрелся в сына и негромко произнес:
— Етти.
— Ии, — ответил Тутриль, чувствуя, что комок застрял у него в горле.
Кымынэ с каким-то судорожным всхлипом бросилась на грудь сыну и запричитала сквозь рыдания:
— Наконец-то приехал!.. Сколько же я ждала тебя, думала, что уже никогда больше не увижу…
Онно растерянно и виновато огляделся и тронул за плечо жену:
— Ну, хватит… Люди смотрят… Пошли домой…
Кымынэ вытерла глаза концом рукава и смущенно улыбнулась.
Вся процессия по узкой тропке через снежную целину двинулась в селение.
Чуть в сторонке на нарте ехала Айнана. Роптын время от времени бросал в ее сторону строгие взгляды, но девушка ехала спокойно, искоса посматривая на идущих по тропе.
Впереди с большим желтым чемоданом шагал Коноп, необычно важный и торжественный от сознания, что несет багаж своего знатного земляка и одноклассника.
Собаки медленно перебирали лапами и вместе с каюром искоса посматривали на идущих.
Нарта почти поравнялась с ними, и Тутриль услышал песню:
Высокое небо, Чистое небо… Ветер, идущий с теплой страны. Летите, птицы, вестники счастья, Несите на крыльях любовь и весну!Роптын укоризненно покачал головой.
Айнана пела тихо, почти про себя, но в огромной тишине весеннего дня ее голос был слышен отчетливо и далеко.
Долина Андреевна сердито прошептала:
— Она еще и поет!
— Пусть поет! — весело отозвался Коноп. — Хорошо, когда человек поет.
Встречные почтительно здоровались с Тутрилем, поздравляли его с приездом. Старухи кидались обнять, и каждая считала своим долгом прослезиться и попричитать.
Над ухом гудел голос Роптына:
— В нашем Нутэне не осталось ни одной яранги. Построили новую косторезную мастерскую. Гляди! Это первые каменные дома в селе. Вон там котельную ставим. Вообще-то у нас уже кое-где есть центральное отопление, держали курс на то, чтобы все село охватить единой системой, но теперь смысла нет.
Тутриль почти не слушал Роптына, охваченный странным чувством: он так стремился в родное село, видел его во сне, воображал, как он приедет сюда… А настоящей радости не было, как не было Нутэна его детства, оставшегося в памяти и зовущего его тихими ленинградскими ночами.
Дом Онно находился на том самом месте, где раньше стояла яранга.
Упряжка Айнаны остановилась у соседнего домика, и девушка принялась распрягать собак и сажать их на длинную металлическую цепь.
— Все приходите вечером, — позвал Онно встречающих. — Отметим приезд сына.
Коноп подал чемодан Тутрилю и смущенно попросил:
— Ты мне рубль дай…
Тутриль удивленно поглядел на него, порылся в кармане, вытащил смятую бумажку и сочувственно спросил Конопа:
— Может, тебе больше надо?
— Не знаю, — нерешительно ответил Коноп. — Не знаю, сколько надо…
— А на что тебе рубль?
— Не знаю…
Тутриль пристально вгляделся в лицо Конопа.
— Я читал и слышал, что так полагается там… — Коноп как-то неопределенно махнул рукой.
— Где там? — не понял Тутриль.
— Там, откуда ты приехал…
— Не понимаю, — пожал плечами Тутриль.
Онно вышел из домика, обеспокоенный задержкой сына.
— Послушай, Онно, объясни сыну… Помнишь, Каляу нам рассказывал о поездке в санаторий? — обратился к нему Коноп.
— Ну и что?
— Так он, помнишь, рассказывал?.. Пальто снять и надеть — надо рубль дать… Помогает человек нести чемодан — тоже надо дать… Поел в ресторане — сверх платы надо положить бумажку…
— Чего ты вдруг это вспомнил? — удивился Онно.
— Да я за чемодан у него рубль попросил, а он обиделся, — с оттенком раздражения сказал Коноп. — Я, наоборот, хотел как лучше, согласно тамошнему обычаю…
Тутриль вдруг громко засмеялся:
— Выходит, ты с меня чаевые взял! Ну, Коноп! Насмешил ты меня!
Коноп хмуро посмотрел на смеющихся.
— Не собирался я вас смешить… Хотел как лучше, согласно тамошним обычаям. Как в настоящих городах. А своего чаю у меня довольно. Есть и байховый, и кирпичный… На, возьми обратно свой рубль.
Он подал Тутрилю смятую бумажку и понуро зашагал прочь.
3
В комнате домика Онно был накрыт стол.
Из большого приемника звучала музыка.
Тутриль встречал гостей.
Вошел Коноп в шуршащем плаще-болонье. Раздеваясь, он с оттенком хвастовства шепнул Тутрилю:
— В райцентре на меховую кухлянку выменял у одного геолога. Правда, мороза боится, но в дождь да в мокрый снег — отличная вещь.
Из кухни показалась Долина Андреевна, неся большую миску с пельменями. Она громко сказала Тутрилю:
— Я нашла старые библиотечные формуляры, Иван Оннович, и должна сказать, что ты и тогда уже читал серьезные книги.
— А мой не видела? — спросил Коноп.
— И твой нашла, — ответила Долина Андреевна. — Надо же — почти полгода держал «Приключения Гулливера»!
— Я тогда любил читать о великанах, — как-то виновато признался Коноп. — Потом военные приключения, а теперь вот все про любовь читаю…
Тутриль достал небольшой пакет.
— Вот тут мои книжки для библиотеки. Правда, не про великанов и не про любовь…
— «К вопросу об инкорпорации в чукотском языке», — начал вслух читать Коноп. — «Устное народное творчество азиатских эскимосов», «Общность сюжетов фольклора Древней Берингии»… Да, брат, — произнес он с подчеркнутым уважением, — серьезные книги… Может быть, если бы я в детстве читал такие книги…
— Может быть, из тебя тоже бы вышел ученый? — спросила Долина Андреевна, забирая у него книги.
Коноп как-то странно посмотрел на нее, втянул голову в плечи, словно стал меньше.
— Я еще не знаю, какой ученый мой сын, — заметил Онно, — но такого водителя вездехода, как Коноп, поискать надо…
Пришел Роптын. Под кухлянкой у него был надет синий костюм.
Гавриил Никандрович принес большой портфель, в котором позвякивали бутылки.
Коноп весело упрекнул его:
— А сказал, что весь запас вышел.
— Да самая малость осталась, — сказал Гавриил Никандрович.
Когда все разместились за столом и разлили вино по стаканам, Онно выскочил в сени и вернулся с двумя заиндевелыми тарелками, в одной была рыбная строганина, а в другой — из моржовой печенки. От белых и темно-коричневых стружек поднимался холодный пар.
Первый тост произнес Гавриил Никандрович.
— Я предлагаю выпить за нашего земляка Ивана Онновича Тутриля, — торжественно начал Гавриил Никандрович. — Его жизненный путь нам хорошо известен. Много лет назад он уехал из родного Нутэна в долгий путь за знаниями. Учился в Анадырском педагогическом училище, затем успешно окончил университет и аспирантуру при Институте языкознания. Он стал одним из первых ученых-чукчей.
Когда Гавриил Никандрович сделал паузу, Коноп хотел было приложиться к стакану, но его остановила Долина Андреевна.
— Вроде бы не такая долгая жизнь прожита Тутрилем, — продолжал директор совхоза, — но в этом маленьком отрезке времени уместились тысячелетия. В его жизни вся история Чукотки: от жирника до энергии атомного ядра, от шаманства до науки!
Все выпили.
Тутриль сидел между отцом и матерью. Кымынэ, не сводя влюбленных глаз с сына, подкладывала ему лучшие куски.
— Ты такого, наверное, не ел в Ленинграде…
— Не ел, ымэм…
— Я тебе еще наварила свежего нерпичьего мяса.
— Спасибо, ымэм…
— Жаль, что ты один приехал…
— А верно, почему ты свою жену не взял? — отставив пустой стакан, спросил Коноп. — Посмотрели бы на нее. А то только на фотографии видели.
— Занята она очень, — сдержанно ответил Тутриль. — У нее большая научная работа.
— Научная работа? — спросил Коноп.
— Она тоже кандидат наук, — с гордостью и важностью сообщил Онно.
— Сочувствую, — вздохнул Коноп.
— Это почему? — спросил Гавриил Никандрович.
— Да просто с умной женщиной и то нелегко, — ответил Коноп. — А с ученой…
— А ты-то откуда знаешь? — Долина Андреевна подозрительно посмотрела на Конопа.
— Наблюдал! — поднял палец Коноп.
— Ну, тоже скажешь! А любовь, дружба?
— Это только в книгах и у лекторов, — Коноп, несмотря на бдительность Долины Андреевны, успел без очереди приложиться к стакану.
— Счастливая любовь — это украшение жизни, нравственный идеал, — нравоучительно сказала Долина Андреевна.
В сенях тявкнула собака.
Открылась дверь, и вошла Айнана.
Увидев множество людей, девушка смутилась, сделала движение уйти, но ее решительно остановила Кымынэ.
— Етти, Айнана, — сказала она, — иди, садись с нами…
— Да я за спичками, — смущенно сказала Айнана. — Печка потухла…
— Садись, садись, — строго сказал Онно, — зачем нарушаешь обычай, отказываешься?
— Тем более такой интересный разговор для молодежи, — сказал Роптын. — О любви!
Айнана нерешительно потопталась, бочком прошла в комнату.
Ей освободили место рядом с Тутрилем, поставили стакан, налили вина.
— Ты за какую любовь? — вдруг спросил Коноп у девушки.
Айнана смутилась от неожиданного вопроса, посмотрела на Долину Андреевну, на Тутриля, словно ища у них поддержки.
— Почему одни счастливы в любви, а другие — нет? Что главное в семейной жизни? — продолжал Коноп. — Вот в чем вопрос, как сказал тонконогий человек из кинофильма — Гамлет.
— По-моему, ты хватил лишку, — шепотом заметила Долина Андреевна.
— Пусть Айнана ответит, — настаивал Коноп. — Для нее это важный вопрос, поскольку она молодая и красивая.
— По-моему, любовь не бывает счастливая и несчастливая, — тихо произнесла Айнана.
— То есть как это? — насторожилась Долина Андреевна.
— Любовь и есть любовь, — еще тише сказала Айнана.
— Да откуда ей знать, какая любовь бывает! — снисходительно сказала Кымынэ. — И что вы пристали к девушке?
— Подождите! — Коноп вырвал свой стакан из цепких рук Долины Андреевны и торопливо выпил.
— Значит, ты утверждаешь, что любовь не бывает счастливая, несчастливая, радостная или грустная? А? — утирая губы рукавом, спросил Коноп.
Айнана беспомощно оглянулась.
— Ты, девочка, глубоко ошибаешься, — строго и наставительно произнесла Долина Андреевна. — Я вот уж скоро десять лет как работаю в библиотеке. Знаю, как читатель тянется к высоким примерам: любовь Анны Карениной, Ромео и Джульетты, Онегина и Татьяны, Григория Мелехова и Аксиньи…
— Но разве это были счастливые любови? — застенчиво возразила Айнана.
Долина Андреевна как-то осеклась, призадумалась.
— Товарищи, товарищи! — заговорил Гавриил Никандрович. — Мы здесь собрались не на лекцию о любви, дружбе и товариществе. Мы пришли сюда, чтобы отметить приезд нашего знатного земляка Ивана Онновича Тутриля… Поэтому предлагаю снова выпить за него…
— Правильно! — поддакнул Коноп и, не обращая внимания на строгие взгляды Долины Андреевны, первым опрокинул стакан.
— Вы будете только в Нутэне работать? — учтиво спросила Долина Андреевна.
— Хотелось бы, — не сразу ответил Тутриль. — Но те, с кем я бы хотел встретиться, здесь больше не живут…
Онно поднял голову и долго смотрел в глаза сыну.
— Сейчас много говорят об охране окружающей среды и загрязнении природы, — продолжал Тутриль. — Оберегают чистую воду… Однако есть еще один источник, который для человека не менее важен, это наша древняя память. Сказки, легенды и предания. В быстром движении вперед мы часто оставляем позади драгоценное и нужное, тот чистый источник, который питал наших предков и нас на протяжении веков…
— Не только сказки и предания, но и язык начинают забывать! — сердито произнес Роптын.
— А время такое и вправду было, когда думали, что все наше — это ненужное, в коммунизме негодное…
— А язык — это знак жизни народа, — продолжал Тутриль. — Он может быть и орудием, иной раз даже более грозным, чем огнестрельное, и единственным средством, которое может выразить такое чувство, как нежность…
Коноп протянул было руку за строганиной, но тут ею настигла Долина Андреевна и заставила взять вилку.
— Это ты верно про язык говоришь! — заталкивая в рот стружки строганины, заметил Коноп. — Язык может быть и орудием демагогии!
Тутриль засмеялся в ответ на эти слова.
— Когда умирает язык, умирает и сам народ, — продолжал Тутриль. — Можно произнести много речей об уважении к человеку, к народу, но если сказать всего лишь несколько слов на его родном языке, можно сделать человека другом на всю жизнь…
— Во — это верно! — одобрительно сказал Коноп. — А то ведь иной человек приедет на Чукотку, до пенсии доживает и, кроме «какомэй», другого слова сказать не может…
— Когда я впервые услышал чукотский язык, — вспомнил Гавриил Никандрович, — я подумал: никогда мне не выучиться ему.
— Зато когда мы впервые услышали твое имя да отчество, так месяц учились выговаривать! — со смехом заметил Роптын. — У меня просто уставал язык выговаривать: Гавриил Никандрович. Как мы завидовали кэнискунцам, у которых заведующего факторией звали легко и просто — Иван Иванович.
Айнана встала.
— Ну, я пойду… А то у меня еще много дел, а завтра уезжать.
Айнана ушла, и некоторое время за столом было тихо.
— Бедная девушка! — проронила Долина Андреевна. — Такая способная, талантливая и несчастная…
— Несчастная? — с любопытством переспросил Тутриль.
— А что хорошего? — пожала плечами Долина Андреевна. — Живет со стариками в тундре.
— Трудно ей пришлось. — Роптын повернулся к Тутрилю: — Всю жизнь без матери: она развелась с первым мужем, когда еще Айнана была маленькой. Вышла за другого и уехала в Петропавловск. Айнану оставила старикам.
— Девочка сама по себе росла, — заметила Кымынэ.
— Нынче многие так растут, — сказал Роптын. — Только родится ребенок — его тут же забирают в ясли, потом в детский сад. В школу пошел — переселяется в интернат. В иных семьях дети только на бумаге числятся, а в домах ребячьего голоса не слышно… Вот недавно я был в тундре, в бригаде Тутая. Чую: что-то от меня скрывают. Потом увидел мальчишку. Года три ему. Оказывается, прятали его от меня, будто я враг какой-то… А в райцентре меня вот за таких ругают: нет охвата воспитанием…
Роптын тяжко вздохнул.
Коноп искоса глянул на Долину Андреевну, на стакан и вдруг сказал:
— Давайте выпьем за нашу школу] Только не за сегодняшнюю, а за ту, в которой мы учились.
Когда все выпили, Роптын сказал Тутрилю:
— Как выстроили новую школу, мы старую под клуб приспособили. Завтра мы тебе покажем наши танцы, споем песни…
— Надо Амману попросить, чтобы не уезжала, — напомнила Кымынэ. — Никто лучше ее не танцует.
Тутриль распрощался с гостями на крыльце домика.
4
На улице было тихо. Огромное, светлое от звезд небо сняло над домиками, приютившимися на берегу скованного льдом океана. Казалось, оттуда, сверху, из космической дали на заснеженную землю неслышно изливалась тишина, затопляя все — домики, голубые айсберги, сугробы, морское побережье, тундру, каждую ямку, звериную нору и синий след росомахи, протянувшийся от песцовой приманки к низким, скрытым под снегом ивовым зарослям на берегу реки.
На стук открыла Айнана. Она была как-то странно одета — в синем фартуке, обсыпанном чем-то белым, словно припорошенном снегом.
— Это вы? — удивленно спросила Айнана.
— Ты не ждала?
— Нет.
В комнате, возле окна, Тутриль увидел станок, куски моржового бивня, несколько готовых пиликенов, фигурок нерп, моржей…
— Это ты делаешь? — с удивлением спросил Тутриль.
Айнана молча кивнула. Она взяла со стола большой клык и подала Тутрилю.
— Узнаете?
Перед Тутрилем был Нутэн его детства: два ряда яранг на узкой галечной косе, три деревянных круглых домика, магазин и здание старой школы, выделявшееся и величиной, и блестящей крышей из оцинкованного волнистого железа. На морском берегу разделывали моржей, вытаскивали из воды вельботы, несли на плечах байдары. Возле школы толпились ребятишки, и среди них — учительница, высокая, худенькая, с длинными светлыми волосами. На лагунной стороне молодые парни кидали бол в пролетающие утиные стаи. Чуть дальше яранг, на пустыре, стоял ветряк — электростанция, вокруг — несколько домиков. Над домиками парил метеорологический змей с грузом приборов…
— Откуда ты все это взяла? — с удивлением спросил Тутриль.
— У деда сохранилась старая фотография, — ответила Айнана. — И еще — он много мне рассказывал.
Вглядевшись пристальнее в изображение старого Нутэна, Тутриль нашел отцову ярангу. На камне у стены сидел мальчик.
— Это я? — с улыбкой спросил Тутриль.
Айнана глянула через плечо.
— Может быть… Теперь переверните клык.
На другой стороне был изображен новый, сегодняшний Нутэн. Каменные дома косторезной мастерской, двухэтажная школа, деревянные домики — многоквартирные, голубые и серенькие одноквартирные, — такие, как у Онно…
Клык был раскрашен акварелью. Неярко, словно краски уже выцвели от времени. И в этой бледности красок было что-то трогательное, щемящее, как мимолетное, смутное воспоминание.
— А ты, оказывается, настоящий художник, — тихо сказал Тутриль, искренне пораженный увиденным.
Тутриль не знал, как себя держать, снова взял в руки клык, оглядел комнату. Если не считать станка — обыкновенное убранство современного чукотского жилища: кровать, шифоньер, стулья, стол, полка с книгами…
— Расскажи-ка подробно, как вы оказались в яранге, — попросил Тутриль и уселся на стул.
Айнана смахнула костяные крошки с фартука, придвинула ближе второй стул и устроилась напротив.
— Я приехала сюда, когда дед с бабкой уже были в яранге, — начала Айнана. — После окончания Дебинского медицинского училища я работала в Анадыре, в окружной больнице. Как-то получаю письмо от матери — она сейчас с новым мужем, моряком, живет в Петропавловске. Писала она, что с дедом что-то случилось, просила поехать в Нутэн, навестить стариков.
— А почему сама не поехала?
— У нее маленький ребенок, моя сестричка, — смущенно, с виноватым видом произнесла Айнана. Потом подняла глаза на Тутриля, улыбнулась и продолжала: — Приезжаю в Нутэн, и вправду ни деда, ни бабки в доме нет. В дверях палочка торчит вместо замка. Стала узнавать, что случилось. И рассказали мне все, что случилось между дедом и вашим отцом.
— Но из-за чего? — с нетерпением спросил Тутриль.
— Из-за переселения, — ответила Айнана. — Есть такой проект: Нутэн и окрестные селения перевести в районный центр и сделать один большой благоустроенный поселок… Называется это концентрация. Много разумных доводов приводили — там и дома большие можно построить со всеми удобствами, и работа всем будет…
— А что, здесь работы нет? — перебил Тутриль.
— Многие ведь кончили семилетку, а то и десятилетку, — с улыбкой ответила Айнана, — охотиться не хотят… А там — всякие учреждения, конторы, большая звероферма. Загорелись многие. Стали мечтать: вот, говорили, и в город не надо будет ехать, свой город построим в тундре… На собрании выступали, рассказывают, все единодушно… А вот дед встал и сказал про Наукан… Вы знаете?
Тутриль хорошо помнил Наукам — знаменитое когда-то эскимосское селение. Оно располагалось прямо на берегу Берингова пролива, на крутом обрывистом берегу, рядом с географической точкой мыса Дежнева. Тутриль хорошо помнил старый памятник русскому землепроходцу — большой деревянный крест и медную доску с выгравированным на двух языках — русском и английском — приглашением поддерживать этот памятник в знак уважения к подвигу Семена Дежнева. Науканские яранги стояли на такой крутизне, что в зимние дни люди едва не ползли по обледенелым тропам. С большим трудом выстроили там школу, магазин и полярную станцию… В пятидесятые годы, когда на Чукотке вместо яранг стали строить дома, было решено Наукан перевести в другое место… И тут была совершена непоправимая ошибка: науканцев в большинстве своем переселили в Нунямо, в чукотское селение, мало связанное с эскимосами. Вдруг вспомнились давно забытые распри, легенды и сказания… Науканцы стали уходить из Нунямо — селились в Лорине, в Пинакуле, уезжали в Уэлен. Разрывали давние родственные связи, распадалась веками скрепленная дружба… Во время весенней моржовой охоты старались заехать в древнее обиталище, высадиться на берег, побродить по старым, памятным тропинкам, посидеть на пороге родного покинутого жилища, глядя на широкий простор Берингова пролива… — Дед напомнил Наукан и сказал, что не хочет причинять горе своим землякам и поэтому голосует против переселения… Ну, и ваш отец накинулся на него. Стал обвинять чуть ли не в предательстве… Вы знаете, что дед и ваш отец дружили с детства. Даже, говорят, у них какое-то древнее родство.
— Ну, а ты-то почему здесь осталась, не вернулась в Анадырь?
— Как же я покину их? — пожала плечами Айнана. — Они же там совсем одни. Когда я приехала к ним, первое время никак не могла привыкнуть к яранге, к пологу: я ведь родилась в домике, а ярангу только в букваре видела… А тут — такая древность. Сначала все не так делала — жирник у меня коптил, костер то совсем не горит, то дыму полно в чоттагине… А с собаками сколько мучилась! Сколько раз пешком шла с середины дороги — опрокинут собаки нарту и убегут. А когда подружилась с вожаком — все стало хорошо. Теперь они меня больше понимают, чем некоторые люди… А вот охотиться и сейчас трудно…
— Как, ты и охотишься? — удивился Тутриль.
— А почему нет? — просто и спокойно ответила Айнана. — Деду одному трудно — охотничий участок большой. Училась ставить капканы, выслеживать зверя… Нынче у меня забота такая — появилась росомаха, повадилась таскать песцов из моих капканов. Никак не могу поймать ее, иной раз целый день иду по ее следу, а она все уходит… Я и нерпу стреляю… Видела несколько раз умку, но он под охраной…
— А не скучно в яранге?
— Некогда скучать, — ответила Айнана. — Когда непогода — из кости вырезаю пиликенов или вот разрисовываю клыки… Знаете, я зарабатываю здесь в несколько раз больше, чем в Анадыре, в больнице. Хватает на все.
Тутриль смотрел на Айнану и ощущал себя как-то странно, непонятно. Он и впрямь пришел, чтобы разузнать поподробнее о дяде Токо, об Эйвээмнэу, но его все больше привлекала девушка, такая непохожая на других.
— Ну а теперь тебе нравится жить в яранге? — спросил Тутриль.
— Коо [1], — пожала плечами Айнана. — Дело нравится, а сама яранга я не сказала бы, что нравится, хотя, наверное, у нее есть свои преимущества перед деревянным домиком. В пургу тепло, уютно, но помыться негде, стол поставить некуда, да и много других неудобств. Дед с бабкой не замечают всего этого — может быть, потому, что сами как следует еще к деревянному дому не привыкли.
— А Токо продолжает рассказывать сказки?
— Он не любит, когда это называют сказками, — ответила Айнана. — Да и по заказу он ни за что даже рта не раскроет. Иногда просишь, просишь, особенно в пургу, когда тоска, работать неохота, батарейки сели в приемнике, а он все отнекивается и даже сердится. Говорит: нельзя по принуждению рассказывать… Зато, когда находит на него вдохновение, заслушаешься… Я думаю, если бы он был по-настоящему грамотным человеком, он стал бы писателем…
— Вот и я, так думал, — улыбнулся в ответ Тутриль.
Ему не хотелось уходить отсюда, от этого спокойного и тихого голоса, от этого удивительного для него, нового ощущения непонятной нежности.
Перед ним на столе лежал моржовый клык с панорамой старого Нутэна, с родной ярангой, где он родился и вырос. Воспоминания детства мешались со словами Айнаны. Он вспоминал весенние горячие дни, когда мальчишкой он украдкой плакал, оставленный в море меж торосов взбунтовавшимися собаками. Он тогда возил моржовое мясо от кромки ледового припая в селение. Отцы охотились на вельботах, старшие ребятишки тоже находились при них, а вот младшие были заняты перевозкой сала и мяса. Трудная это была работа. Лед по всем направлениям был изборожден трещинами, покрыт лужами талой воды. Кое-где уже образовались промоины — дыры во льду до самой соленой воды. Как ни старались юные каюры обходить лужи и трещины, все же мокли с ног до головы… Как сладко было потом спать в меховом пологе, на мягкой оленьей постели! Никогда и нигде больше не доводилось Тутрилю так сладко спать.
И еще — собирание дров по берегу моря после штормовой погоды. Надо было встать на самой заре, когда восток только начинает слегка алеть. В темноте светился океан, слышалось шумное дыхание волн, и разгоряченное от сна лицо покрывалось студеными мелкими солеными каплями. Тутриль шагал по мокрой гальке. Ноги скользили и разъезжались, а глаза цепко шарили по берегу в поисках чего-нибудь светлого. Иногда это был обломок доски, бревнышко, обточенное волнами, иногда огромный ствол с обломанными сучьями, обломок борта лодки, дверь, железная или деревянная бочка… В эти часы вспоминались рассказы о редких удачных находках, когда счастливец находил целый корабль, нагруженный разными удивительными товарами.
Кроме дров, можно было найти ритльу — дар моря — дохлого моржа, лахтака или, если очень повезет, кита. Но такое редко случалось…
Тутриль нагибался, брал длинные петли морской травы и ел их, смачно хрустя. Потом, через много лет, впервые испробовав малосольные огурцы, он нашел удивительное сходство их со вкусом морской травы на берегу Нутэна.
Вспоминалась утиная весенняя охота, когда спозаранку снаряжались упряжки и охотники ехали к Пильгыну — проливу, соединявшему лагуну с морем. Там через безлюдную косу с тундровой стороны в море перелетали утиные стаи. Такая охота не считалась серьезной. Эта страда для Тутриля была одним из самых приятных детских воспоминаний…
А игры на лагуне, когда по свежему льду, отталкиваясь острыми палками, мчишься как ветер и через прозрачную поверхность видишь шевелящиеся и стелющиеся по дну травинки, сонных, укрывающихся на зиму рыб?..
— Я думаю, что деду все равно надоест в яранге, — убежденно сказала Айнана, — но ему надо побыть там… Он ведь не может без людей, без друзей. Да и бабка все время его пилит, попрекает…
— Как бы мне хотелось побывать в яранге, — сказал Тутриль.
— А вы приезжайте, — просто сказала Айнана. — Дед и бабушка будут рады…
— Ты думаешь?
— Я уверена, — ответила Айнана. — Они иногда вас вспоминают, ваше детство.
— И что говорят? — с любопытством спросил Тутриль.
— Ничего особенного, — вздохнула Айнана.
Тутриль с трудом заставил себя подняться.
5
В сенях толпились люди, но в зал еще не пускали.
— У нас был такой клуб! — с сожалением вспоминал Роптын. — Там была настоящая сцена. Красивый занавес из материи, похожей на шкуру неродившегося нерпенка, — бархат называется… Сгорел он…
— Отчего?
— От елки, — вздохнул Роптын. — В тот год нам самолетом привезли настоящую лесную красавицу. Хотели нарядить по всем правилам. Кто-то сказал — надо свечи зажечь, живым огнем украсить.
Тутриль посмотрел в окно. За покрытой снегом лагуной, за пологими холмами синели далекие горы.
Сюда он пришел первоклассником. Учителем был Роптын.
— Помните, вы вошли с классным журналом. Вон там висел портрет Ворошилова. Вы смотрели на него и причесывались. Потом вынимали изо рта табачную жвачку и начинали урок…
— А ведь и я начинал здесь учиться, — с улыбкой принялся вспоминать Роптын. — Еще в ликбезе. У Петра Петровича, а потом Валентины Дмитриевны. Не думал тогда, что сам стану учителем.
— Но ведь научили же и нас грамоте! — напомнил Тутриль.
— А ведь выходит, что твоя ученость начиналась от меня, — грустно улыбнулся Роптын.
— Что верно, то верно, — весело ответил Тутриль.
— И все-таки какая дерзость была у нас! И у твоего отца, Онно, и у Токо. Мы сразу все хотели переделать! Всю жизнь. Хотели все новое. Делали окна в ярангах, учились грамоте и даже новым танцам. Нынче молодые не такие… Вот возьми, к примеру, Конопа. У него шесть классов образования. Сравнить с тогдашним образованием — он прямо академик! Умелый механик, с вездеходом разговаривает как с другом… А Долины Андреевны побаивается. Признавался мне: стесняется, что по уровню образования не подходит…
— А она как?
— Тоже непонятно себя держит: вроде бы у них между собой ничего такого — дружба и товарищество. — Роптын огляделся. — А все знают, Коноп у нее ночует. Это, конечно, ничего не значит с точки зрения закона… Но хорошо бы по всей форме, с женитьбенной бумагой. А то взяли теперь привычку — без бумаги жить. Скажу тебе по секрету, многие не хотят получать женитьбенную бумагу, особенно многодетные.
— Почему?
— Потому что получают от государства пособие как одинокие матери, — пояснил Роптын. — Нашли лазейку. Живут по двадцать, а то и больше лет в незарегистрированном браке… А Конопу с Долиной Андреевной чего бояться? Детей-то у них нет!
Появился Коноп в белой камлейке, в расшитых бисером танцевальных перчатках с бубном в чехле из защитной плотной ткани.
В маленькую комнатку, примыкающую к сцене, собирались мужчины и женщины. Тутриль поначалу не узнал Айнану: она накрасила ресницы, подвела глаза.
Айнана глянула на Тутриля и улыбнулась.
Роптын громко похвалил девушку:
— Ты сегодня очень красивая. Ну прямо настоящая артистка.
Зрительный зал быстро заполнился.
Раздвинулся занавес, и первые же удары бубна возвратили Тутриля в старый Нутэн. Вспомнилась старая яранга с потемневшими от дождей и снега моржовыми кожами. Старый Нутэн ожил в памяти Тутриля, царапая сердце тоской и окутывая его светлой грустью.
На сцену вышла Айнана.
Полуприкрыв глаза, она смотрела в зал. Ее гибкое тело угадывалось сквозь просторную камлейку. Простые движения, знакомая с детства мелодия, отмеряемая резкими ударами бубна, рождали в груди Тутриля теплую волну нежности.
Почему-то вдруг вспомнился Ленинград. Яркий солнечный день, мост Лейтенанта Шмидта и сфинксы у спуска к Неве, напротив Академии художеств, Лена в легком белом платье и ветер с Невы, развевающий ее светлые волосы.
Тутриль едва дождался конца концерта и ринулся за кулисы, чтобы отыскать Айнану.
Но его перехватили Гавриил Никандрович и Роптын.
— Иван Оннович! Вас ждут в столовой!
— В какой еще столовой? — удивился Тутриль.
— Банкет! — значительно произнес Роптын. — Сельский Совет дает в твою честь торжественный банкет.
— Извините, но мне нужно… — сказал Тутриль.
— Все участники концерта приглашены, — прервал его Роптын. — Народ ждет.
Окна столовой на берегу лагуны ярко светились. Весь обеденный зал занимал роскошно убранный стол, на котором стоял цветок в горшке.
— Постарались наши повара, — гордо сказал Гавриил Никандрович, — фирменные блюда приготовили.
— Вот! — Роптын показал на стол. — Долина Андреевна даже свой цветок принесла!
Казалось, в столовую собрался весь Нутэн: пришли охотники, оленеводы, работники полярной станции, пограничники. Каждый считал своим долгом подойти к Тутрилю, поздороваться с ним, поздравить с приездом.
Айнана не появлялась.
Все уселись за стол, и Гавриил Никандрович уже встал, чтобы произнести тост. Заметив беспокойство сына, Кымынэ спросила:
— Что с тобой?
— Почему нет Айнаны?
— Придет, — спокойно ответила Кымынэ. — Может быть, она переодевается… Она хорошая, добрая. Ах, если бы ты привез Лену! Так мне хочется встретиться с ней!.. Может, еще будут у вас дети?
— Может быть, будут, — безразлично ответил Тутриль, думая о другом.
— Я знаю, вам трудно было, — сказала Кымынэ. — Без квартиры, в общежитии — какой ребенок?..
Да, все так и было. Общежитие, диссертация, а потом, когда появилась квартира, — диссертация Лены, ее научная работа…
Ну почему Айнана не идет?
— …Достижения в культурном развитии народа ярко проявились в судьбе Ивана Онновича Тутриля! — слышались слова Гавриила Никандровича.
— Тутриль! — услышал он возглас Конопа. — За тебя! Чтоб ты стал академиком!
— Я для Лены сшила торбаса, маленький пыжиковый жилет с вышивкой, — тихо говорила Кымынэ. — Отвезешь и скажешь: от меня. Пусть носит в Ленинграде, когда мороз. Ах, если бы она сюда приехала. Мы бы встретили ее как родную. Никто еще из нашего селения не женился на тангитанской женщине. Ты первый…
Тутриль встал.
— Ты куда? — насторожился отец.
— Я выйду.
— И верно, — кивнул Роптын, — душновато здесь. Сколько раз говорил директору столовой, чтобы поставил электрический вентилятор! А он: все тепло выдует! Приехал на Север и холода боится… Иди, иди подыши воздухом..
Тутриль пробрался к выходу.
Тишина накрыла весеннюю ночь.
Он постоял на крыльце, соображая, куда идти. Запутался совсем в новом Нутэне. Он мысленно представил нарисованный Айнаной Нутэн и зашагал.
Снег мягко осыпался в следе: он уже не был сухим и ломким, как в середине зимы.
Тутриль пересекал светлые пятна от освещенных окон, обрывки разговоров, музыки.
Ни одно из окон домика Токо не было освещено.
В железной петельке входной двери вместо замка торчала палочка. Догадываясь о случившемся, Тутриль еще раз обошел домик и увидел, что толстая железная проволока с цепями пуста. С крыши тамбура исчезла нарта. В снегу остались круги от собачьих лежек. Следы полозьев вели в темноту.
Тутриль постоял возле домика и медленно побрел обратно в столовую, навстречу музыке.
6
Далеко за полночь Тутриль с родителями возвратился домой.
Окно и Кымынэ были оживлены.
— Кыкэ вай! — тихо сказала Кымынэ. — Я не помню, чтобы кого-то еще так чествовали в нашем селе. Разве только кандидата в депутаты… Но для него банкета не устраивали… А тебе устроили.
Тутриль, занятый своими мыслями, коротко отвечал и вымученно улыбался.
— Жаль только, что дяди Токо и тети Эйвээмнэу не было, — заметил он.
— И хорошо, что их не было, — строго сказал Онно.
— Что же у вас тут случилось такое, что ты разошелся с самыми близкими друзьями? — спросил Тутриль.
— Хотел я отложить этот разговор, — задумчиво произнес Онно, — но раз тебе хочется знать, что случилось между мной и Токо, так и быть, расскажу… Кымынэ, дай-ка нам чаю.
Кымынэ принесла чай, поставила вазочку с колотым сахаром и ушла на кухню, чтобы не мешать мужскому разговору.
— Мы крепко поспорили с Токо… И спор наш — не просто ссора, а — как бы тебе сказать? — принципиальные разногласия…
Эти слова Онно произнес с некоторой запинкой.
— Так вот слушай: лет десять прошло с тех пор, как мы покинули яранги и построили вот эти домики. Все были довольны, хотя поначалу нашлись и такие, что отказывались переселяться из яранг в дома. Но ведь не они вели людей, полных решимости порвать все связи с прошлой, постылой жизнью… Довольно быстро мы обнаружили, что эти маленькие домики плохо приспособлены к нашему суровому климату. В них холодно и тесно. Начали перестраивать, утеплять… Потом стали строить двухкомнатные дома… Тоже не то. Вот построили для косторезов многоквартирные, с центральным отоплением… Но это только для них… Колхоз не мог себе позволить такого. Ведь и деревянные дома мы получили от государства, почитай, даром. Плата-то за них была чисто символическая. Сейчас возникла нужда в другом жилище — в таком, в каком живут в городах. Чтобы все, значит, удобства были здесь… Однако в каждом маленьком селе строить большие дома дорого и невыгодно. Ведь здесь должны быть и школа, и почтовое отделение, и магазин, и баня, и всякое другое бытовое обслуживание. В ином селе всего несколько сот человек, но вся обслуга должна быть… И, кроме того, надо всех обеспечить работой. Ведь раньше как — каждый сам по себе охотился, а сейчас одна бригада может обеспечить мясом все село… А остальным что делать?
— Все, что ты говоришь, верно, и многое мне известно. Однако какое это имеет отношение к Токо?
— Самое прямое, — усмехнулся Онно. — Вот слушай дальше… Родилась идея сселить такие маленькие селения, как Нутэн, в большое село или даже поселок. Выбрали Кытрын как центр. Есть проект. Построят несколько многоэтажных домов, Дом быта, телефонную станцию, станцию «Орбита», чтобы телевизор можно смотреть… Но самое главное — большое производство там будет. Много рабочих мест… А то ведь иные в нашем совхозе в месяц рублей по десять — пятнадцать зарабатывают — нечем занять людей…
Онно отхлебнул остывшего чаю.
— Когда кончилось собрание и надо было голосовать за переселение, один человек был против — Токо. Это меня так удивило, что я подумал, что он ошибся. Переспросил, а он твердо отвечает: да, я против. Вот так.
Потом мы встретились поговорить, и знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я не люблю своего народа и собираюсь предать его… Ты представляешь, что он сказал, — предать народ? Он мне напомнил Наукан…
И вот что он мне еще сказал, — продолжал Онно. — Хорошо, мы переселимся в Кытрын. Вселимся в удобные квартиры с теплыми туалетами. Будем организованно ходить на работу на звероферму. Смотреть телевизор или широкоэкранное кино. Вечером ходить в ресторан и культурно выпивать на белых скатертях. А что останется от чукотского народа? Ведь всякий народ, сказал Токо, отличается от другого своеобразным трудом… Мы — морские охотники, и должны жить как морские охотники. И еще сказал: мы постепенно утратим свои обычаи, позабудем родной язык… и вконец утратим свой собственный облик… Понимаешь, как рассуждает твой любимый дядя Токо?
Я сначала с ним спорил, пытался его убедить словами, — говорил Онно, — но он уперся на своем. Он сказал: хорошую жизнь надо строить там, где ты живешь, а не искать на стороне. Он даже обозвал меня эмигрантом. Говорит: сегодня ты захочешь переселиться из Нутэна в Кытрын, завтра в Анадырь, потом в Магадан, и так далее… Как только у него поворачивался язык говорить такие слова?
— И что же, он один против? — спросил Тутриль.
— Открыто — он один, — ответил Онно. — Гавриил Никандрович воздержался и получил за это выговор.
— Выходит, не один Токо против переселения? — сказал Тутриль. — А может, он прав? Ведь и телевидение, и разные удобства, наверное, можно устроить и в Нутэне…
— Ты меня не понял, — мягко возразил Онно. — Дело не в удобствах, а в том, что будто разбежались и остановились… Вот это плохо.
— Нет, что-то тут не так, — с сомнением покачал головой Тутриль. — Покинуть Нутэн? Как же так легко все согласились? Покинуть родину…
Онно пристально посмотрел на сына.
— Да ты что — сомневаешься?
— Сомневаюсь.
— И что же, может, как Токо, в знак протеста в ярангу переселишься? — с усмешкой спросил Онно.
— В ярангу переселяться не буду, но поеду к дяде Токо, — сухо сказал Тутриль.
— Ты знаешь, что он тебе не родной дядя? — спросил Онно.
— Знаю, — ответил Тутриль, — но он тебе брат по дружественному браку. А это тоже кое-что значит.
— Все это — пережитки прошлого, — сердито сказал Онно.
…Дружественный брат… Как это далеко и давно, но все равно волнует, когда вспоминаешь об этом. Токо и Онно росли вместе с малых лет. Посторонним и впрямь казалось, что они родные братья… Но они были лишь дружественными братьями. Их отцы появились в Нутэне незадолго до больших перемен, когда к этим берегам стали часто наведываться корабли тангитанов. Они пришли из дальних сел, вымерших от голода и болезней. В Нутэне они поначалу были чужаками. К тому же оба были уже женаты и не могли породниться с нутэнцами. Каждый мог их обидеть, и не у кого им было искать защиты. Единственное, что могло им помочь, это обычай старинного дружественного брака, который делал их родственниками.
И отцы Токо и Онно сговорились между собой обменяться на время женами и закрепить таким образом дружбу.
Они делали это открыто, на виду всего Нутэна, и все понимали, что отныне между двумя этими семьями возникло новое, освященное обычаем родство. Никто уже безнаказанно не мог обидеть одного, ибо на помощь к нему тотчас мог прийти другой.
Родились два сына — Токо и Онно — и никто в той и в этой семье в точности не мог сказать, чьи это дети. Удивительно было и то, что они походили друг на друга как настоящие братья.
Всю жизнь шли они рядом, рука об руку, вместе стали одними из первых комсомольцев Нутэна, соединили упряжки, когда надо было помогать челюскинцам, а потом вместе работали, перестраивали жизнь в старинном чукотском селении Нутэн.
И вот их дороги разошлись.
7
Тутриль приготовил магнитофон, проверил его, вытащил блокнот и авторучку. Сегодня обещала прийти бабушка Каляна и рассказать сказку. Конечно, это не то, что повествования Токо, но и такого рода образцы народного творчества тоже надо было собирать. А если уж говорить точнее, то весь известный науке фольклор чукчей был собран именно таким способом — записыванием вслед за рассказчиком. Магнитофон появился совсем недавно и произвел целый переворот в технике записывания текстов.
Рано утром Онно ушел на охоту, и Тутриль проводил его с чувством зависти и сожаления.
— Сделаешь свои дела — успеешь и поохотиться, — утешил его отец. — Весна запоздала, нерпа только начала вылезать на лед.
Это было тоже воспоминанием — проводы отца на морскую охоту. Весь этот ритуал раннего чаепития, снаряжения, когда надевались тонкие нерпичьи торбаса, кухлянка, белая охотничья камлейка, а поверх всего — эрмэгтэт, содержащий в себе акын — грушу из легкого дерева с острыми крючьями, чтобы доставать убитых нерп из воды, бечевки, костяные кольца, ремни, винтовка в чехле из выбеленной нерпичьей кожи и «вороньи лапки» — лыжи-снегоступы.
Проводив отца, Тутриль не стал ложиться спать, а занялся приготовлением к работе.
— Может быть, сначала бабушку чаем угостить? — спросила Кымынэ.
— Не знаю, — несколько растерянно ответил Тутриль. — Может быть.
— Она большая чаевница, — сказала мать. — Увлечется чаепитием и не станет сказки рассказывать… Что делать?
Каляна пришла неожиданно рано. Она принарядилась, словно шла на любовное свидание, — надела новую камлейку из цветастой ткани, а вниз — вязаную кофту, что недавно давали в магазине за сданную пушнину.
Кымынэ ревниво оглядела гостью и ехидно заметила:
— Кто же у вас пушного зверя промышляет, что ты такую кофту купила?
— Да внук мой — кладовщик, будто не знаешь, — добродушно ответила Каляна. — Зачем ему пушного зверя сдавать, ежели он и так все, что надо, может достать?
Кымынэ многозначительно посмотрела на сына и вышла на кухню, чтобы не мешать его работе.
— Дай-ка я сначала тебя как следует рассмотрю, — прошамкала Каляна. — А то в клубе ты далеко сидел да боком… Однако гладкий ты, как весенний лахтак. И упитанный… Чем же кормят тебя в Ленинграде, ежели ты такой толстый? А? Или работа такая твоя, все на месте сидишь?
— Он же научный работник, разве ты этого не знаешь? — с оттенком ревности произнесла Кымынэ, появляясь из кухни с чайником и чашками.
— И то, смотрю, прямо районный работник, — продолжала Каляна. — Такие вот оттуда и приезжают. И наш какой-нибудь, как станет руководящим кадром, так на глазах глаже становится… Может, когда все переедем в Кытрын, такие станем. Упитанные да гладкие.
Каляна засмеялась и принялась за чай.
Напротив сидел Тутриль и в ожидании, пока старушку посетит вдохновение, тоже прихлебывал чай.
Обеспокоенная молчанием, из кухни снова появилась Кымынэ и спросила:
— Бабушка, когда же ты станешь сказку сказывать? Тутриль ведь ждет.
— А ты не мельтеши перед глазами, не мешай, — сердито сказала Каляна. — Иди займись своим делом и не трогай нас.
Кымынэ хотела ответить что-то резкое, но сдержалась и, поджав губы, молча вышла в кухню.
— Ты потерпи, Тутриль, — тихо сказала Каляна. — Я вспоминаю… Я вспоминаю одну легенду… Ты слышал такое выражение — «он пошел по следу росомахи»?..
— Слышал, но не очень хорошо понимаю смысл, — ответил Тутриль.
Он попытался припомнить… Что-то неясное, отдаленное, словно полузабытая колыбельная. Тутриль считался в научных кругах признанным знатоком чукотского фольклора, но почему-то легенда о росомахе в его памяти почти не сохранилась. Должно быть, в ней не было достаточно яркого социального или исторического содержания.
— Да и откуда тебе знать, — кивнула Каляна. — Ты ведь уехал, еще не став взрослым человеком… Хотя и пошел по следу росомахи.
— По следу росомахи? — удивленно спросил Тутриль.
— Да, ты из тех, — загадочно произнесла Каляна, поставила чайное блюдце на стол и уселась поудобнее. — Энмэн…
Каляна вдруг остановилась и подождала.
— Почему не берешь ручку?
— Магнитофон пишет, — кивнул Тутриль.
— Такой маленький? Кыкэ вынэ! У нас в магазине продавались, но большие, тяжелые, пожалуй, потяжельше швейной машины… А этот такой маленький, будто книжка…
Наконец Каляна уселась поудобнее, но только произнесла «энмэн!», как громко зазвонил телефон.
Тутриль сердито взял трубку. Это была Долина Андреевна:
— Тутриль, ты не забыл, что сегодня у тебя встреча с читателями?
— Нет, не забыл, помню.
— И еще — после встречи с читателями я приглашаю тебя в гости, хорошо?
— Хорошо, хорошо, — торопился закончить разговор Тутриль, искоса поглядывая на нетерпеливо моргающую Каляну.
Он сел напротив и весь обратился в слух.
Но Каляна снова налила себе чаю и принялась молча и сосредоточенно пить.
Тутриль терпеливо ждал.
На пороге комнаты появилась Кымынэ.
— Ну что ты молчишь, бабушка?
— А тебе какое дело? — спокойно ответила Каляна. — Не к тебе пришла, а к нему… Да вот не получается что-то, — вдруг жалобно произнесла она. — Не приходит слово… Пришло было и вдруг ушло… Что делать?
Каляна искренне была расстроена и чуть не плакала.
— А вы не торопитесь, отдохните, соберитесь с мыслями, — успокаивал ее Тутриль.
— Да как собраться-то с мыслями, когда они разбежались, — причитала старуха. — Шла я к тебе как на праздник, наряжалась, думала — надо ему рассказать о следе росомахи, о людях, которые идут неведомыми тропами… Ведь что говорят — росомаха такой след делает, чтобы ее никто не мог настигнуть… И след этот ведет в неведомое, в непривычное. И тот, кто идет по следу росомахи, находит или большое счастье, или беду… Кыкэ вынэ вай… Совсем ушли слова.
Тутриль не менее бабушки Калины был расстроен.
А она уже стала собираться, натянула на себя камлейку, поправила рукава и пошла к выходу, продолжая сокрушаться:
— Не сердись на меня, Тутриль, в следующий раз приду…
Тутриль закрыл за ней дверь и вернулся к столу. Магнитофон крутился. Он сердито нажал на кнопку и сел у окна.
На крыше сельского Совета полоскался красный флаг из яркой синтетической ткани. Справа виднелся домик дяди Токо… Надо ехать к нему.
Собираясь в командировку, Тутриль решил записывать тексты только у настоящих сказочников, и это он обещал научному редактору будущего сборника. Конечно, можно за два дня выполнить весь объем работы, если пойти по пути предшественников, записывающих сказки и легенды от всех и без разбору. Но тогда эти записи не будут иметь настоящей художественной ценности, то есть того, ради чего, собственно, и создается устное произведение.
В тишине домика Тутриль вдруг услышал песенку. Пела мама. Старую полузабытую колыбельную, которую так любил Тутриль.
Мальчик вышел из яранги — Вон какой большой, Болой он поймал птицу — Вон какой большой! Он родился весной, В самые длинные дни, Под крыльями весенних сумерек, На заре весны…Тутриль включил магнитофон и на цыпочках подошел к раскрытой двери.
8
Нутэнская библиотека помещалась в том же здании старой школы, что и клуб.
Довольно просторный читальный зал был набит до отказа: пришли не только взрослые читатели, но и школьники.
За столом, покрытым красной скатертью, с непременным графином и граненым стаканом, важно восседал Роптын. Рядом с ним — взволнованная Долина Андреевна. Она то и дело вскакивала, бежала в зал, с кем-то шепталась, поправляла книги Тутриля, выставленные на отдельном стенде.
— Гляди-ка, сколько у тебя читателей! — с искренним удивлением заметил Долине Андреевне Тутриль.
— Большинство пришло, чтобы встретиться с тобой, — сказала Долина Андреевна. — Сначала я не хотела, чтобы школьники приходили, но директор настоял: говорит, живой положительный пример может послужить поднятию успеваемости.
Роптын постучал стаканом о графин.
Учительница зашипела на расшалившихся ребятишек.
Установив тишину, Роптын заговорил:
— Товарищи! Мы сегодня встречаемся с нашим земляком, сыном Онно и Кымынэ, кандидатом филологических наук Иваном Онновичем Тутрилем. Посмотрите на него. Он такой же, как и его сверстники — Коноп, Кымыргин и Долина Андреевна… Он сын нашего народа, а достиг ученых вершин. Не каждому это дано. Взобраться на вершину знаний могут только те, кто упорен. Это упорство есть у нашего земляка. Я приметил его, когда он только начинал постигать грамоту вот здесь, в этой комнате. Тогда я был учителем. Мы только начинали новую жизнь, и настоящих ученых среди нас еще не было… Наша родная Советская власть дала возможность сыну простого охотника Онно, выросшему в яранге при свете каменного жирника, подняться до ученого. Вот. Я все сказал и даю слово Тутрилю.
В зале громко и яростно захлопали.
И больше всех старалась Долина Андреевна.
Тутриль подождал.
— Товарищи, — тихо начал он. — Я очень волнуюсь. Роптын уже сказал, да и многие из вас знают: вот здесь, на этом самом месте, я начал учиться грамоте. Я хорошо помню этот день. Роптын вошел в класс и положил на наши парты две книги, на одной было написано «Чычеткин вэтгав», а на другой — «Родное слово». И он сказал нам: «Отныне и русская, и чукотская речь будут для вас родным языком». И через второе родное слово — русский язык — мы познакомились с несметными богатствами русской и мировой литературы. Через русский язык мы познали богатство и красоту родного чукотского языка… А ведь некоторые думали и даже говорили: «Зачем нам свой родной чукотский язык, если русский богаче и выразительнее». Может быть, поэтому я и стал специалистом по родному чукотскому языку…
Тутриль рассказывал о своем учении в Ленинграде, о будущем сборнике.
— Это будут не просто сказки и легенды, не просто тексты, а подлинные художественные произведения, и поэтому я буду записывать только от тех, кто их по-настоящему хорошо знает и умеет рассказывать.
— Тогда тебе надо ехать к деду Токо, — сказал кто-то из зала.
— И к нему обязательно поеду, — ответил Тутриль.
Спрашивали больше любознательные школьники, и Роптын решил навести порядок, обратившись к взрослым:
— Почему всё ребятишки спрашивают? Пусть и взрослые задают вопросы.
— Вот ты собираешь сказки, — поднялся с места Элюч, пожарный инспектор. — Как тебе платят — поштучно, или и качество проверяют тоже?
Этот вопрос вызвал большое оживление.
— Мне отдельно за каждую сказку не платят, — серьезно ответил Тутриль. — Я получаю твердую заработную плату.
— Хорошая работа: двойное удовольствие — и сказки слушаешь, и деньги получаешь, — заметил чей-то голос.
— А не скучно тебе в Ленинграде? — полюбопытствовала старушка из дальнего ряда.
— Скучаю, — коротко ответил Тутриль, — по родному Нутэну скучаю.
— А как это так? — снова поднялся Элюч. — Вот ты изучаешь наш язык, сказки и легенды, а живешь в Ленинграде? Может, лучше здесь жить?
Тутриль растерянно огляделся, словно ища помощи у Роптына: вопрос был трудный.
— Так получилось, что научное изучение чукотского языка велось в Ленинграде, — начал Тутриль. — Там находится Институт языкознания, где работают специалисты не только по языкам народов Севера, но и по другим языкам народов нашей страны, а также зарубежных… А нам надо собираться, обмениваться мыслями, печатать свои статьи и книги.
— Печатать можно и здесь, — авторитетно заявила уборщица совхозной конторы Рытыр. — Сейчас новые машинки привезли, от электричества работают.
— Это совсем другая печать, — возразил пожарный инспектор Элюч.
— А все равно — читаешь, будто в книге написано, — настаивала Рытыр.
Наконец Роптын поднялся и сказал, что на этом встреча заканчивается. Повернувшись к Долине Андреевне, он с упреком произнес:
— Тоже мне время выбрала — пришли одни школьники, пенсионеры да лодыри. Все серьезные люди сейчас на работе — кто на охоте, кто в мастерской. Нехорошо получилось, серьезных вопросов не задавали, никто не спросил о международном положении…
— А я очень доволен, — весело сказал Тутриль. — Мне приятно было.
Когда все разошлись, Долина Андреевна напомнила:
— Так, значит, ко мне?
Долина Андреевна жила на берегу лагуны в маленьком домике, выстроенном еще в начале пятидесятых годов. Домик состоял из просторных сеней с угольным ящиком, кладовкой и довольно большой комнаты, куда был вход через кухню.
Раздеваясь, Тутриль осматривался в комнате, примечая необычное ее убранство. Вместо кровати стояло странное сооружение — видимо, это все же когда-то была кровать, но спинки были срезаны автогеном и устроено нечто вроде тахты, покрытой ярким цветным ковром. У противоположной от двери стены от полу до низкого потолка стоял книжный стеллаж, торшер и кресло, покрытое хорошо выделанной нерпичьей шкурой.
Меж двух крохотных окон на стене висел выжженный на фанере портрет Хемингуэя.
Под ним — магнитофон, занимающий половину туалетного столика, уставленного флаконами с духами, коробками с пудрой и косметикой.
У кровати-тахты — стол, бывший нормальный обеденный, но с укороченными ножками.
Заметив, как внимательно гость осматривает обстановку, Долина Андреевна извиняющимся тоном произнесла:
— Сейчас, говорят, в моде полированная мебель. Но она до нас не доходит, оседает в районном центре…
Усадив Тутриля на кровать-тахту, Долина Андреевна принялась хлопотать. Поставила на столик крабовые консервы, икру в банке, чуть сморщившиеся яблоки, пару апельсинов, красивую бутылку венгерского коньяка «Будафок», крохотные рюмочки и торжественно водрузила бутылку ликера «Старый Таллин».
— Я сварю кофе, — сказала она, — ведь настоящие ученые любят кофе.
— А я люблю чай, — виновато признался Тутриль. — Пробовал привыкнуть к кофе, не могу.
— Ну, хорошо, пусть будет чай, — быстро согласилась Долина. — Честно говоря, я тоже предпочитаю чай. А кофе я хотела сварить, чтобы сделать тебе приятное.
— Если ты действительно хочешь сделать мне приятное, то не мельтеши, а садись и угощай меня, — с улыбкой сказал Тутриль.
— Нет, я должна кое-что приготовить, — отмахнулась Долина Андреевна. — Я с утра налепила пельменей и положила в холодильник.
Тутриль улыбнулся в ответ. Где-то когда-то он слышал анекдот о предприимчивом коммивояжере, который ухитрился продать партию холодильников эскимосам Аляски… Но холодильники были и в домиках Нутэна, несмотря на то, что большую часть года за стенами стояла минусовая температура.
— Знаешь, Тутриль, как я тебе завидую! — сказала Долина Андреевна, освободившись на минуту и присев на кончик тахты-кровати. — Какая у тебя счастливая судьба! Живешь в культурном городе, в культурном окружении, не то что я…
— Тебе грех жаловаться, — сказал в ответ Тутриль. — У тебя отличная благородная работа, тебя в селе уважают…
— Я это уважение знаешь каким трудом добыла?
Долина Андреевна тяжело вздохнула, помолчала.
— Главное — не с кем поделиться, некому душу раскрыть… Жизнь меня не баловала. У меня ведь тоже была семья, муж, дочка… Знаешь, давай-ка выпьем с тобой за наше детство, за нашу школу…
Ока налила вино, лихо выпила и закусила кусочком соленой рыбы.
— Я рано вышла замуж, и моя дочь уже взрослая девушка… А вот с мужем не могла ужиться. Вроде бы хороший человек был, военный, политически грамотный, но уж больно скучный. Прямо расписание, а не человек. Пожила вместе с ним в Караганде, оттуда он родом, а потом уехала, забрала дочку… А дочка-то пожила-пожила на Чукотке и уехала к отцу. Все ей здесь не нравилось — и холодно, и снабжение плохое, и народ… представляешь, она даже такое сказала: народ дикий… И когда она такое произнесла… Не то что прогнала ее, но и не стала удерживать… И вот пока за чем-то гналась, годы шли. Приехала сюда, в родной Нутэн, как в последнее прибежище. Стали разное шептать. Всякое говорили, а я работала стиснув зубы. Здешняя библиотека совсем была в развале. Многие ценные книги поворовали, иные обветшали. Хозяйского глаза не было. Стала устраивать читательские конференции. Приохотила людей к книгам на родном языке… Ты знаешь, с чукотским языком у меня неладно получилось. Забыла… Вроде бы все могу сказать, все понимаю, а разговаривать боюсь. Как-то пробовала — смеялись надо мной…
В кухне что-то зашипело, и, оборвав себя на полуслове, Долина Андреевна бросилась туда.
Вернулась она смущенная и виноватая:
— Ну вот, заболталась я с тобой, забыла про пельмени, а они разварились, совсем испортились.
— Да ты не беспокойся, я не голодный.
— Ну, все равно ведь угостить полагается… Ты подожди, я другие поставлю.
Возвратившись в комнату, Долина Андреевна некоторое время молчала, потом улыбнулась:
— Извини, Тутриль, разжаловалась я тут на свою судьбу… Ты не обращай внимания.
— Что ты, Долина, я вот слушаю тебя и думаю… Думаю, что ты зря жалуешься. Конечно, тебе нелегко пришлось, но оглянись, посмотри вокруг, какие люди живут здесь, в старом Нутэне.
— В старом Нутэне, которого скоро не будет, — с неожиданно грустной ноткой произнесла Долина Андреевна, тряхнула волосами и весело сказала: — А я рада, что скоро мы все будем в Кытрыне! Худо-бедно, а все же районный центр.
Рассказ Долины Андреевны разволновал Тутриля. Он хотел сказать, что во всяком движении вперед, наверное, есть какие-то издержки. Кто-то отрывается, уходит вперед, часто не ведая, куда он идет на самом деле. Отец Долины, человек горячий, увлекающийся, назвал свою дочь словом из партизанской песни, не понимая значения этого слова. Но он знал, что это хорошее слово — слово, с которым люди шли вперед, завоевывая свободу для таких, как он. Потом, когда до его сознания дошло, что без русского языка невозможно в новой жизни, он стал усердным посетителем курсов, заставил всех в своей яранге изъясняться только по-русски и дочь свою учил только русскому языку, говоря при этом, что в новом обществе чукотский язык будет не нужен… В пылу спора он даже договаривался до того, что вообще всех других языков не будет… Останется один язык — язык социализма и коммунизма, великий революционный русский язык…
На этот раз пельмени получились, и Долина, несмотря на протесты, наложила Тутрилю тарелку с верхом.
В сенях послышался шум, распахнулась дверь, и в комнату без всякого предупреждения вошел Коноп. Он сделал вид, что не ожидал увидеть здесь Тутриля, и с нарочитым удивлением произнес:
— Какомэй! Ты здесь? А я-то думал, что ты фольклор записываешь на свой магнитофон.
— Надо же человеку и отдохнуть! — сердито возразила Долина Андреевна. — И что за манера — входить без стука, приходить без приглашения?
Коноп некоторое время пристально смотрел на Долину Андреевну, потом решительно подошел к столу, взял бутылку и громко прочитал:
— «Будафок»… А ты меня таким не угощала… Так, — он нагнулся и принялся рассматривать керамическую бутылочку ликера «Старый Таллин». — Как снаряд… «Старый Таллин». Наверное, крепкое. Говорят, чем старее вино, тем оно крепче.
Тутриль встал.
— Ну, мне пора.
— Что ты, посидел бы еще, — потухшим голосом произнесла Долина Андреевна.
— Может, человеку по делу надо, — сердито заметил Коноп. — В научную же командировку приехал.
Коноп вышел следом за Тутрилем и закрыл за ним дверь.
9
Выйдя из домика, Коноп зажмурился от яркого солнечного света. Все сверкало и блестело. По кромке крыши висели длинные сосульки, а из подтаявших сугробов кое-где торчали обломки ледяных копий.
Направляясь к гаражу, находящемуся на морской стороне селения, он вдруг встретил Тутриля.
— Етти! Чего так рано встал?
— Тебя ищу, — озабоченно ответил Тутриль.
— Что-нибудь случилось? — встревоженно спросил Коноп.
— Ничего, — стараясь казаться спокойным, ответил Тутриль. — Не подбросишь к яранге Токо?
— Это ерунда, — весело ответил Коноп. — Я как раз мимо буду ехать.
У гаража, искрошенный гусеницами, был в масляных пятнах снег.
Коноп отпер большой висящий замок и отодвинул широкие ворота.
— Входи в мои владения, — пригласил он гостя.
Глаза постепенно привыкли к полутьме. Тутриль увидел грузовой автомобиль на колодках и вездеход. В дальнем углу — токарный станок, верстак, инструменты.
— Даже автомобиль у тебя тут, — заметил Тутриль.
— Летом ездим, — отозвался Коноп. — В отлив по береговой полосе можно гнать, как по асфальту. До девяноста выжимал вдоль прибоя. Песок мокрый, держит отлично! Жаль, сейчас зима, а то прокатил бы с ветерком. До Токовой яранги можно берегом ехать. Я сейчас чай поставлю. Проходи сюда.
Уголок возле верстака был украшен яркими журнальными картинками. На отдельной тумбочке — проигрыватель. Возле скамьи стоял низенький столик, на нем стаканы и большая фарфоровая чашка. Колотый сахар был насыпан в консервную банку.
Коноп налил воды в электрический чайник, включил вилку в штепсель.
— Вот мое хозяйство, — с гордостью произнес он. — Мечтаю получить мотонарты. Говорят, теперь такие делают… И еще — хочу получить новый вездеход. Этот старенький, чиненый-перечиненый. Держится только на честном моем слове…
Коноп разливал крепко заваренный чай, не переставая разговаривать:
— А к Токо съездить любопытно и интересно… Я сам люблю там бывать. Не понимаю, что это такое, может, наука может объяснить: каждому ясно — нынче яранга изжила себя, лучше жить в доме, да не просто в доме, а чтобы, так сказать, с удобствами, с водопроводом и прочим. А как войду в чоттагин, увижу меховой полог и чувствую щекотание в горле, будто неразведенного спирту хватанул… Может быть, потому, что в детстве жил в яранге? Но вот Айнана: она родилась в доме, всю жизнь провела в интернатах и общежитиях, а тут — живет в яранге, и вроде бы ей нравится.
— Откуда ты знаешь, что нравится? — спросил Тутриль, ожидая, пока остынет чай.
— Сама сказывала, — ответил Коноп. — Как-то мы с Долиной Андреевной беседовали с ней.
— О чем?
— Да про все. Про нее, про ее моральный облик, — пояснил Коноп. — Комсомолка, а живет в яранге… Приезжал к ней парень из Анадыря — вроде жених. Только почему-то быстро уехал. Непонятно. Вот ты как насчет этого думаешь?
— Насчет чего? — спросил Тутриль.
— Ну, этого самого… — Коноп посмотрел на Тутриля. — Вот как ты думаешь: правильно Долина рассуждает?
— О чем? — не понял Тутриль.
— Да об этом самом, — Коноп сделал какое-то неопределенное движение. — Долина Андреевна говорит, что, мол, наши девушки слишком легко идут на сближение…
— На что?
— На сближение, — повторил Коноп. — Это ее выражение — сближение, близость… Так вот Долина Андреевна осуждает наших девушек. Главное, за то, что рожают детишек. Но ведь ясно, что именно от этого и бывают ребята. Я это еще в третьем классе, между прочим, знал.
— А как ты сам об этом думаешь? — осторожно спросил Тутриль.
— Честно?
Тутриль молча кивнул.
— Конечно, жалко девушек, — медленно проговорил Коноп. — Но парней маловато, а те, кто приезжает, — на время. Руки, значит, в нашей кассе, а глаза видят леса, поля, уши слышат песню петуха… Я знаю тут одного бывшего пограничника. Остался работать строителем в совхозе. Деньги копит на машину…
— Не все ведь такие, — попытался возразить Тутриль.
— Конечно, не все, — легко согласился Коноп. — Но когда народу маловато, то такие очень заметны…
Тутриль и Коноп некоторое время молча пили чай. Потом Тутриль осторожно спросил:
— А как у тебя самого? Почему ты не женат?
Коноп помедлил с ответом.
— Все как-то не получалось… Тех, кого я любил и на ком бы женился, моя персона не интересовала. А кому я был интересен, те мне почему-то не подходили… А потом с годами становишься осторожнее…
— А Долина Андреевна?
После продолжительной паузы Коноп неопределенно сказал:
— Много рассуждает…
— Эгей! Есть кто тут? — послышался голос Гавриила Никандровича. — Ворота нараспашку, механика нет.
— Как нет? — весело отозвался Коноп, видимо обрадованный тем, что прервался трудный для него разговор. — Мы тут! Чай пьем!
Гавриил Никандрович поздоровался с Тутрилем и спросил:
— А как машина, готова?
— Товарищ директор! — укоризненно произнес Коноп. — Когда было такое, чтобы у Конопа не была готова машина?
— Это уж точно, — удовлетворенно произнес Гавриил Никандрович. — Ну, а если так, то через двадцать минут можем выезжать. Значит, вы с нами, Иван Оннович?
— До яранги Токо, — ответил Тутриль.
— Добре, — сказал Гавриил Никандрович.
10
Вездеход, гремя гусеницами, круша снег, медленно проехал по главной улице селения. Гавриил Никандрович, уступивший переднее сиденье Тутрилю, гудел за спиной, стараясь перекричать шум двигателя:
— Как сойдет снег — прекращаем ездить на вездеходе в черте селения. Такое постановление вынес на совете Роптын. Чтобы не нарушать почву.
Вездеход, ныряя в сугробах, как будто судно в волнах, пронесся мимо последнего домика, оставил слева вертолетную площадку и вырвался в открытую тундру, полную солнца и сверкающего снега.
Проехав немного по снежной целине, машина повернула к морю и, держась границы торосов и покрытого снегом берега, помчалась вперед, взметывая позади искрошенный гусеницами снег.
Коноп, видимо, старался показать Тутрилю свое умение водить вездеход и держал высокую скорость. Сидевший на узкой железной скамье Гавриил Никандрович только покряхтывал.
Не прошло и часа, как на мысу показалась яранга Токо.
Она резко выделялась на снегу. От чуть заостренной конусом крыши шел дымок.
Тутриль ощутил волнение и подумал, что вот так, наверное, волновался путник в далекие времена, когда после долгого пути по белой пустыне, среди холода и одиночества, он вдруг видел перед собой знак живой жизни, человеческое жилье.
Обитатели одинокой яранги еще издали заметили вездеход и вышли встречать его.
Тутриль сразу узнал сильно постаревшего Токо и его жену Эйвээмнэу.
Рядом с ними никого не было.
Коноп осторожно подвел машину к сугробу, наметенному вокруг яранги, и весело крикнул:
— Гостя вам привез!
— Какомэй, Тутриль! — приветливо сказал Токо. — Смотри, Эйвээмнэу, кто к нам приехал!
— Кыкэ, Тутриль! — запричитала старуха. — В очках, как доктор! Ни за что бы тебя не узнала, если бы Айнана не рассказала. Ну, наверное, Кымынэ рада!
— А ты разве не рада, Эйвээмнэу, что у вас такой знатный земляк? — спросил Гавриил Никандрович.
— Рада, конечно, рада, — торопливо ответила старуха. — Айнана нам столько пересказала! Входите, входите в ярангу. Чайник давно вас ждет… Еще как увидели вездеход, поставили.
Пригнувшись, Тутриль шагнул в сумерки чоттагина.
Некоторое время он стоял неподвижно у двери, ожидая, пока глаза привыкнут к полутьме.
Первое впечатление — запахи. Прелой собачьей шерсти, дыма костра, квашеной зелени, прогорклого нерпичьего жира и еще чего-то неуловимого, далекою и смутного…
Глаза понемногу привыкли к освещению чоттагина. Сначала Тутриль увидел огонь, закопченную цепь над ним и черный чайник. Очаг был обложен поседевшими от пепла камнями. За горящим огнем виднелась пестрая меховая стенка полога и во всю ее ширину — бревно-изголовье, к которому вплотную был придвинут коротконогий столик.
Вдоль стен яранги стояли деревянные бочки с припасами, ящики, на гвоздях висели ружья, мотки лахтачьих и нерпичьих ремней, связки песцовых и лисьих шкур. Под крышей из моржовой кожи на перекладинах валялись оленьи окорока.
Тутриль шагнул в глубь чоттагина, и Токо услужливо придвинул ему китовый позвонок.
Вошедший следом за Тутрилем Коноп тихо шепнул:
— Ну, что я тебе говорил? Волнуешься?
Тутриль молча кивнул и уселся на китовый позвонок.
Пока хозяйка хлопотала, готовя угощение, гости рассаживались вокруг столика. Гавриил Никандрович вытащил бутылку водки и, ставя ее на столик, сказал, как бы оправдываясь:
— По случаю приезда гостя…
— Давненько, однако, я не пробовал водки, — заметно оживился старик. — Айнана говорит: в Нутэне не продают водку. Борются с алкоголизмом… Ну как, Гавриил Никандрович, скоро победу будем праздновать?
— До победы над этим злом, — вздохнул директор, глянув на бутылку, — далековато, прямо скажем… Продажу мы ограничили, это верно. Так что Айнана правду говорит — борьбу ведем: разъясняем…
— Кстати, где она? — спросил Тутриль.
— Капканы поехала проверять, — ответил старик. — Теперь только к вечеру вернется. Погода хорошая, чего торопиться в ярангу?
— Это верно: в ярангу чего торопиться? — подхватил Коноп. — Вот в Нутэн она бы старалась поскорее вернуться.
— Это почему? — спросил Токо.
— А потому, — Коноп подтянул чашку поближе к себе. — Там — кино, клуб, хороший дом. Вот перед ученым земляком говорю тебе: чего за ярангу уцепился? Что ты этим хочешь доказать? Какой пример молодежи подаешь?
— А мне здесь хорошо, — упрямо и сердито ответил Токо. — Никто не командует, не укоряет, не учит жить… А потом — охотиться отсюда удобнее: далеко ездить не надо.
— И чего в яранге жить? — разошелся Коноп. — Мы тебе предлагали охотничью избушку поставить, а ты отказываешься, говоришь — яранга лучше. Сильны еще в тебе пережитки капитализма, товарищ Токо.
Во время этого разговора Тутриль несколько раз ловил какой-то виноватый, извиняющийся взгляд Токо, которому явно было неловко.
Гавриил Никандрович, заметив, что Тутрилю не по себе от этого разговора, сказал:
— Коноп! Откуда у старого Токо пережитки капитализма?
— Как откуда? Он же человек преклонного возраста. Родился и вырос до революции…
— Чукотский народ, как говорил приезжий лектор, прямо из первобытности в социализм переселился, — напомнил Гавриил Никандрович. — Перепрыгнул через рабовладельческое общество, феодализм и капитализм. Один ученый-эвенк книгу написал. Так и называется — «Некапиталистический путь развития народов Севера»…
— Да? — обескураженно протянул Коноп. — Не попадалась…
Хозяйка разлила чай и подала в большой миске испеченные в нерпичьем жиру лепешки.
Тутриль взял лепешку, поглядел в дырку и словно увидел себя много-много лет назад, когда вот в такой яранге он ждал, пока мать испечет в кипящем нерпичьем жиру кавкавпат.
— Вкусно? — тихо спросила Эйвээмнэу.
— Очень! — ответил Тутриль.
— Вот! — встрепенулся Коноп, завидев лепешки. — А в поселке пекарня, свежий хлеб. Чем гостя угощаешь?
— А мне нравится, — сказал Тутриль. — Детство вспомнил.
Токо отломил кусок лепешки, пожевал и задумчиво, спокойно сказал, обращаясь к Тутрилю:
— Все агитирует и агитирует! Как приедет, все одну песню поет.
— Но ты пойми, что нельзя так! — немного сбавил тон Коноп.
— Кому я мешаю? — спросил Токо.
— Общей картине, — ответил Коноп. — Выпадаешь как-то, как бы в стороне оказываешься… Добро бы дома у тебя не было, а то ведь есть! Хочешь — дадут с центральным отоплением?
Токо вздохнул и сосредоточенно принялся пить чай.
— Мало погостили, — сказала Эйвээмнэу. — Побыли бы еще. Тутриль, ты тоже едешь?
После чаепития собрались ехать дальше.
— Я же к вам приехал, — улыбнулся Тутриль. Старик как-то растерянно посмотрел на него, оглянулся на жену.
— Да-да, — торопливо сказал он, — конечно… Эйвээмнэу, разве ты не видишь — Тутриль к нам приехал. Понимаешь, к нам!
— Ну что же, — задумчиво произнес Коноп. — Можно, конечно, в научных целях и в яранге пожить…
Вездеход умчался.
Токо и Тутриль долго смотрели вслед машине, пока она не растворилась, не исчезла в белой тишине тундры. Напрягши слух, еще долго можно было слышать шум двигателя, слабое эхо, прокатывающееся по заснеженным долинам к торосистому морю.
11
Ясный день стоял над одинокой ярангой.
После полудня по направлению к Нутэну пролетел вертолет.
Солнце медленно перемещалось по огромному чистому небу. После обеда Тутриль и Токо выбрались из яранги и уселись на нагретую солнцем старую нарту.
Раскурив трубку, Токо глубоко затянулся и спросил, удивив Тутриля:
— В Русском музее давно был?
— Давненько, — растерянно ответил Тутриль, вспоминая с неожиданным стыдом о том, что был в этом прославленном музее всего раз или два, да и то в студенческие годы.
— Был бы я в Ленинграде, — мечтательно сказал Токо, — дневал и ночевал бы там. Люблю картины. Особенно Айвазовского, который море рисовал… А как там с воздухом?
— С каким воздухом? — не понял Тутриль.
— С загрязнением, — ответил Токо. — Говорят, столько машин нынче развелось, что уже человеку воздуху не хватает… Я это понимаю: когда Коноп отъезжает на вездеходе, я еще полдня чувствую запах моторного дыма.
— Машин действительно много, — ответил Тутриль, — но воздуху еще хватает.
— Ты не удивляйся моим вопросам, — сказал Токо. — Я же грамотный человек. Много читаю, слушаю радио: у меня здесь хороший приемник. Ты не гляди, что живу в яранге, я в курсе мировой политики. Сам всю жизнь строил новое, сносил яранги, ставил первые дома в Нутэне. Ты Конопа не слушай — никаких пережитков капитализма у меня нет… Только обида. Поругались мы с твоим отцом крепко.
— Я знаю, — кивнул Тутриль.
— Поэтому я в ярангу и переселился, — продолжал Токо. — Не могу я с ним согласиться… Не могу… Здесь тоже много думал, старался понять его.
— А Айнану не жалко? Она ведь из-за вас вынуждена жить здесь, — сказал Тутриль.
— А ей здесь нравится, — ответил Токо. — Хотя и грустно…
— Почему?
— Любовь была… И кончилась. Уехал он. Вот ему не понравилось здесь, испугался. Побоялся жить в яранге. Что же, он прав: ведь ярангу он только в букваре увидел… А тебе яранга понравилась. Я это сразу заметил по твоему лицу. Ты ведь родился точно в такой. У нас и яранги одинаковые были, никакой разницы не было. Ты хорошо сделал, что приехал сюда. Я тебя ждал и верил, что приедешь. Я много думал о тебе, пока ты был далеко, учился. Когда ты в письмах вспоминал нас с Эйвээмнэу, мне было хорошо на душе: ты же мне был как сын, потому что сын брата все равно что твой собственный, если считать по старинному обычаю.
— Ты знаешь, для чего я приехал? — спросил Тутриль.
Токо кивнул:
— Айнана мне сказала… Хорошее дело затеял. Иногда, когда задумаюсь о смерти, пугаюсь… Не смерти, а того, что все уйдет вместе со мной сквозь облака. В небытие. Почему-то мне казалось, что именно ты придешь за ними, за моими легендами, за моими сказками…
— В Нутэне Калина приходила ко мне, хотела рассказать легенду о росомахе, да не смогла… Вдохновение покинуло ее, — с улыбкой вспомнил Тутриль.
— А ты не смейся, — строго прервал его Токо. — Она хорошо сказывает. И легенды о росомахе серьезные… Какую она хотела рассказать?
— О следе…
— Расскажу как-нибудь, — пообещал Токо. — Потерпи, если не торопишься…
— Время у меня есть.
— Вот и хорошо… Мне надо с тобой о многом поговорить, порасспросить тебя. Все же ты ученый человек. Гляжу на тебя, и радуюсь, и не верю: Тутриль — ученый! Кандидат наук называется твое звание, правильно я говорю?
Тутриль кивнул.
— Говорят, у нашего народа такого еще не было… И даже у тангитанов не всякому такое звание дают… Это хорошо, что ты приехал за моими сказками и легендами, — повторил Токо и испытующе посмотрел в глаза Тутрилю так, что тот не выдержал и отвел взгляд.
— Я смотрю на тебя и думаю: сердцем ли ты приехал за ними или по долгу службы?
Тутриль растерялся и поначалу не нашелся, как ответить.
— Ну, во-первых, у меня командировка есть, ну, конечно, и сердцем…
— Ты мне скажи прямо, вот если бы сейчас тебе сказали: дадим тебе большие деньги, сделаем тебя самым большим начальником, только не слушай старого Токо, — как бы ты поступил?
— Все равно слушал бы тебя, — с улыбкой ответил Тутриль и снова услышал:
— А ты не смейся… Серьезное тебе говорю. Поживи у нас. Вернись не только телом своим в ярангу, но и сердцем, и разумом… Я посмотрю на тебя и, когда увижу, что ты готов понять, тогда все тебе расскажу… Все, что берег многие годы. И про след росомахи. О том, что верили раньше люди в то, что идущий по ее следу самой-то росомахи может и не найти. А найдет он или беду, или большую удачу. Или то, или другое… А кому охота так рисковать? Шли только те, кто к вероятности прибавлял еще и свою уверенность… Стань тем Тутрилем, которому я в детстве любил рассказывать старинные предания…
— Человек обратно во времени не возвращается, — задумчиво заметил Тутриль.
— А тебе не надо возвращаться во времени, возвратись в себе самом, — тихо сказал Токо. — И пусть крылья весенних сумерек напомнят тебе родину.
«Крылья весенних сумерек»… Как удивилась Лена, когда он перевел свое имя на русский. «„Крылья весенних сумерек“? — переспросила она. — Как это красиво! Твой отец — настоящий поэт!»
— А вам тут скучно не бывает? — спросил Тутриль старика.
— Почему тут должно быть скучно? — возразил Токо. — Скучно бывает внутри человека. Здесь у меня много дел. Встаю утром на рассвете, и все равно времени не хватает. Пойдем, покажу тебе мой завод, — сказал Токо, с громким кряхтеньем поднимаясь с нарты.
С тыльной стороны яранги прямо на снегу стояли самодельный верстак и несколько полуготовых нарт.
— Видишь? — с оттенком гордости спросил Токо. — Никто в нашем районе больше не делает таких. Только я!
Нарты были сработаны прекрасно. Токо мастерил их точно так же, как их делали сотни лет назад, без единого гвоздика, скрепляя только ремнями и деревянными шипами.
— Я ведь понимаю, — с грустью произнес Токо, — нарт все меньше требуется. Вездеходы нынче бегают по тундре. Вот, говорят, сюда скоро мотонарты придут. Аэросани. Может, через два-три года нарты уже никому не будут нужны… Но мне все равно нравится их делать…
Старик вдруг напрягся, прислушался:
— Айнана едет…
Он заторопился в ярангу и вышел оттуда с биноклем.
Приладив к глазам обведенные губчатой резиной окуляры дорогого бинокля, Тутриль увидел среди торосов мелькающую упряжку. На таком расстоянии трудно было разглядеть Айнану, но хорошо было видно, как ловко она направляла нарту между торосами.
Упряжка выехала с морского льда, выбралась на высокий берег и по кромке устремилась к одинокой яранге.
— Она на собаках и в тундре лучше иного парня, — с нескрываемой любовью и гордостью сказал Токо.
— Ока красивая девушка, — тихо сказал Тутриль.
Старик ничего не ответил.
Еще издали Айнана заметила и узнала Тутриля рядом с дедом.
— Етти, — приветствовал ее Тутриль.
— Ии, — смущенно ответила Айнана.
— Ты иди помоги бабушке, — сказал ей Токо, — а мы тут с Тутрилем распряжем собак.
Помахивая плеткой, Айнана сняла с нарты трех закоченевших песцов и молча скрылась в чоттагине.
— Сердится почему-то, — заметил Токо, глядя ей вслед.
— Может, она недовольна, что я приехал? — спросил Тутриль.
— Как можешь такое говорить? — сердито отозвался Токо. — Она, наверное, стесняется… Когда она вернулась из Нутэна, о тебе только и говорила.
Эйвээмнэу, захлебываясь словами, рассказывала в чоттагине внучке:
— Глядим — кто выходит из вездехода? Сам Тутриль, ученый человек! К нам в гости! Я скорее обратно в чоттагин, разожгла сильный огонь, поставила большой чайник… Натолкла мороженой нерпы — хорошо, вчера старик приволок свежую… Я помню Тутриля мальчишкой. Кто мог подумать, что он станет таким? Вот счастье Кымынэ!.. Я так старалась, чтобы ему у нас понравилось…
— Ну, и что он? — с интересом спросила Айнана.
— Решил остаться у нас, погостить…
— А где он будет спать?
— Поставим гостевой полог, — ответила Эйвээмнэу. — В отдельном пологе ему лучше будет. Спокойнее… А знаешь, наш старик как оживился! Разговаривает с ним, беседует, толкует про разное важное. Мне тут слышно, в чоттагине. О следе росомахи толковали…
— О следе росомахи? — удивилась Айнана.
— О легенде! — с благоговением произнесла Эйвээмнэу. — Как по радио разговаривал. Грамотно. Не ожидала от нашего старика.
Айнана переоделась: сняла белую охотничью камлейку мужского покроя, меховую кухлянку и дорожные белые торбаса.
Вся ее охотничья одежда была светлая, чтобы быть незаметной в белой тундре.
Она вышла в чоттагин в теплом красном свитере и плотных лыжных брюках, заправленных в легкие оленьи торбаса.
12
На западе, перемещаясь к северу, медленно угасало слабое свечение. Небо уже готовилось к утренней заре, такой быстрой в пору длинных и светлых дней. Не было ни ветерка. Тишина накрыла все огромное пространство. Сонно дремали наметенные сугробы, снежные козырьки на прибрежных скалах, обломки айсбергов, торосы, звери и зимние птицы.
Айнана и Тутриль прошли мимо полуготовых нарт, мимо собак, устроившихся в своих ямках, и оставили позади в голубых сумерках одинокую ярангу.
Тутриль, шагая вслед за девушкой, удивился про себя тому, что тишина может быть такой большой… Другого слова просто нельзя было подобрать к этому удивительному состоянию природы. Не верилось, что в этих местах могут быть пурга, ураганы, когда в снежной круговерти не видно ничего.
— Когда тишина, такая внутри тебя радость растет, даже пугаться начинаешь, — проговорила Айнана. — Все слышно: и сердце, и тайные мысли…
— У тебя есть тайные мысли? — улыбнувшись, спросил Тутриль.
— Наверное, у всякого человека они есть, — немного помедлив, проговорила Айнана, — даже самому себе не признаешься в них. А вот в такой тишине они прямо так и вылезают, пугают…
— Что же это за тайные мысли? — настойчиво спросил Тутриль.
Айнана остановилась, пристально посмотрела на Тутриля так, что он смутился. Какой у нее взгляд… Пронзительный и в то же время теплый, как бы обволакивающий.
В торосистом море обломки айсбергов словно светились изнутри собственным светом. Почему-то Тутриль вспомнил, как много лет назад он пароходом плыл из бухты Провидения во Владивосток и ночью наблюдал свечение моря: корабельный винт перемешивал фосфоресцирующую воду, и за кормой, до самого горизонта, оставался светлый след. Может быть, из этой воды и образуются эти светящиеся в темноте льдины?
— Дед все, наверное, обо мне рассказывал? — пытливо спросила она, продолжая смотреть прямо в глаза Тутрилю.
— А что он мог рассказать? — пожал плечами Тутриль.
— Про все… А вам нравится яранга?
— Я родился и вырос в яранге, — ответил Тутриль.
— Нет, сейчас она вам нравится?
— Нравится, — не очень уверенно ответил Тутриль, чуя в этом настойчивом вопросе какой-то подвох.
— Пока нравится, — с торжеством произнесла Айнана. — А одному человеку, как сказала я, что будем долго жить здесь, сразу разонравилась… А поначалу все говорил, говорил: романтика, возврат к предкам, первобытная жизнь… Но всего этого ему только на неделю хватило… У вас на сколько командировка?
— На месяц.
— И все время думаете жить у нас?
— Еще не знаю…
Айнана помолчала.
— Наверное, ваша любовь к яранге — это другое… Детство, возвращение в прошлое, в котором вы все равно не останетесь… Знаете, когда я вас увидела там, у вертолета, вы мне сначала не понравились, — вдруг заявила Айнана. — Я вообще не люблю, когда к нам проявляют какой-то научный интерес…
— Что, что? — переспросил Тутриль.
— Научный интерес, — подчеркнуто повторила Айнана. — Добро бы тангитаны, а то и наши появились. В прошлом году приезжал Нанок из Анадырского музея. Все скупал — старые кожаные ведра, драные снегоступы… Он мне тоже не понравился.
— Но почему?
— Ну, как бы вам сказать… Словно он встал в стороне от всех нас, отделился, что ли…
— Значит, и я, по-твоему, тоже отделился?
Айнана не сразу ответила. Она молча шла, широко размахивая руками.
— Я еще в вас не разобралась, — тихо ответила она.
«Удивительная девушка, — думал про себя Тутриль, наблюдая за ней. — Что она? Действительно такая самостоятельная или нахваталась где-то таких рассуждений? Хотя, в общем, то, что она говорит, поучительно и справедливо».
Разве он сам не чувствует некую отделенность, возвратившись на родину? Если честно признаться, то такое чувство есть. И смотрят на него не просто как на своего соплеменника, а как на человека, отмеченного особым знаком, не совсем даже и своего. Ведь никому в Нутэне из тех, кто занимается исконным делом — охотится, работает на звероферме, в косторезной мастерской, — не придет в голову сделать своей профессией собирание сказок и легенд…
Айнана остановилась и посмотрела на светлый горизонт.
— Пойдемте в ярангу. Холодно стало, да и спать уже пора…
От распахнутой двери на снег падало желтое пятно света, точь-в-точь как в далеком детстве, когда Тутриль с отцом возвращались с ледовитого моря после дневной морской охоты.
Рядом с большим пологом был поставлен второй, крохотный, одноместный, скорее похожий на большой меховой спальный мешок. Передняя его стенка была приподнята и подперта палкой, а в глубине горела белым пламенем стеариновая свеча. Весь пол занимала пушистая оленья шкура, а сверху лежало одеяло, сшитое из пыжиковых лоскутков.
— Как здесь хорошо! — не удержавшись, громко произнес Тутриль.
— Нравится — живите сколько хотите, — радушно сказала Эйвээмнэу. — Нам только приятно.
— Это правда, — поддакнул Токо.
И только Айнана промолчала.
Она быстро сняла верхнюю одежду и проскользнула в большой полог.
Тутриль разделся и влез в свой полог. Завернувшись в пыжиковое одеяло, опустил переднюю стенку, потушил свечу и высунул голову в чоттагин. Закурив сигарету, при свете спички он увидел головы Токо, Эйвээмнэу и Айнаны.
Старик разжег свою трубку.
— Послушаем последние известия?
— Давайте, если никому не будем мешать, — согласился Тутриль.
Токо выставил в чоттагин транзистор и поймал станцию.
Мир из этой яранги казался очень далеким, почти недоступным. Меховая стенка занавесила всю многовековую цивилизацию, тысячелетнюю культуру, большие города, расцвеченные морем электрических огней, затопленные половодьем новостей, музыкой, трагедиями, фарсами, вооруженными схватками, заверениями в любви и преданности, коварством и лестью…
И все же тот мир прорывался в ярангу радиоволнами, звучал голосами дикторов, бесстрастно сообщающих о событиях во всех концах света. Далекий мир…
Вот так, в детстве, читая книги, Тутриль пытался одолеть мыслью беспредельность расстояний.
Но жизнь приблизила другой мир, и вскоре Тутрилю пришлось физически окунуться в него на долгие годы, став жителем большого города. И оттуда уже, из города, неправдоподобно далекой казалась жизнь в яранге, далекой не только по расстоянию, но и по времени. Тутриль был убежден, что ему уже больше никогда не доведется спать в меховом пологе, завернувшись в пыжиковое одеяло, не придется высовывать голову в чоттагин, ощущая привычные с детства запахи прелой травы, собачьей шерсти, смешанные с острым, щекочущим ноздри холодным воздухом, пришедшим с ледовитого моря и заснеженной тундры.
Диктор сообщил новости о начале весеннего сева на Украине, о начале курортного сезона в Крыму, о положении на Среднем Востоке, о разногласиях членов Европейского общего рынка…
Выкурив сигарету, Тутриль погасил окурок о земляной пол и повернулся на бок.
Токо выключил радио, и чоттагин погрузился в тишину, которую изредка нарушало сонное дыхание собак.
Тутриль ожидал, что он быстро заснет, но сладкое забытье не приходило. Наоборот, в этой тишине, словно обрадованные тем, что они будут услышаны, пришли мысли, перебивая друг друга, набегая одна за другой, как морские волны.
Он еще раз вспомнил весь разговор с Айнаной. Она, пожалуй, права. Нужно некоторое время, чтобы снова почувствовать себя настоящим жителем яранги. И то, что у него есть некоторый взгляд со стороны, тоже правда. Может быть, именно поэтому и Каляна не смогла рассказать ему легенду о росомахе, а Токо не торопится открыть ему свои сокровенные хранилища сказок и древних преданий.
Завтра надо будет написать письмо в Ленинград.
Как там Лена? Как ее сердце? В последнее время она часто жаловалась на свое здоровье. Все это отголоски ленинградской блокады. Маленькой девочкой она осталась одна. Сначала умер отец, за ним старший брат, а потом и мать… Полуживую девочку нашли товарищи отца — рабочие Балтийского завода. Они устроили ее в больницу, потом помогли разыскать бабушку, перевезли к ней и прикрепили к столовой усиленного питания. Лена иногда рассказывала, как она под бомбежкой, под обстрелом с противогазом через плечо бегала в столовую. «Только в противогазе ничего не было — так, пустая коробка. В эту пустую коробку я складывала половину того, что давали в столовой, чтобы накормить голодную бабушку…» Бабка померла только в прошлом году. Она была крепкая и здоровая, истово верила в бога и за глаза называла Тутриля нехристем.
А потом мытарства, встречи урывками в общежитии, скитания по углам. Только пять лет назад они наконец получили двухкомнатную квартиру у парка Лесотехнической академии.
Лена, провожая его в эту поездку, сказала: «Я почему-то очень тревожусь за тебя. Ты так любишь свою родину, что, мне кажется, готов ради нее даже расстаться со мной…» Тутриль ответил так: «Да, я люблю свою родину. И, наверное, когда-нибудь вернусь домой. Но только вместе с тобой…» Но это было сложно. Единственный институт, который занимался научными проблемами чукотского языка, находился в Ленинграде. А научные интересы Лены были далеки от Чукотки — проблемы общей лексикологии романо-германских языков…
В последние годы она все чаще заговаривала о детях… Ходили к врачу оба. Седая, усталая женщина-врач сказала, что в свое время не надо было отказываться от ребенка…
Потом мысли обратились к сегодняшнему вечеру, к разговору с Айнаной. Интересно, со всеми она говорит так прямо и откровенно? Если так, то трудно ей придется. Закрывая глаза, Тутриль каждый раз неотступно видел перед собой разгоряченное разговором лицо Айнаны и слышал ее голос… Что же это с ним?.. Уж не влюбился ли?
Эта мысль отогнала надвигающийся сон.
Тутриль осторожно выглянул в чоттагин.
Сонно посапывали собаки, ветер шарил мягкими ладонями по моржовой крыше, по стенам, нечаянно влетал в ярангу, касаясь концом холодного крыла разгоряченного лица Тутриля.
Ему показалось, что шевельнулась меховая стенка большого полога и в чоттагин высунулась головка Айнаны. Может быть, она тоже не спит и думает о том же, о чем и Тутриль?
Сверху светилось дымовое отверстие. Чуть отсвечивали какие-то металлические вещи — шкала транзистора, консервные банки… Тутриль вспомнил, что волосы Айнаны такого же темно-коричневого цвета, что и олений мех на пологе…
13
— Тутриль!
Он открыл глаза и не сразу сообразил, где находится. Постепенно почуял сначала дым костра, потом увидел огонь, возившуюся у очага Эйвээмнэу и широко улыбающееся лицо Токо.
— Вставай, — сказал Токо и покосился на груду мехов. — Я тебе приготовил одежду, охотничье снаряжение.
Возражать не было смысла: Токо отправлял его на морской лед, на припай — добыть нерпу. Хочет испытать, что осталось в нем от морского охотника, от того, чему он учил в детстве.
Тутриль выскользнул из полога и вышел наружу, в яркое прохладное солнечное утро.
Пришлось вернуться за солнечными очками — так нестерпимо блестело все вокруг до рези в глазах.
Помогая Тутрилю одеваться, Токо напутствовал его:
— Ты иди сначала прямо по припаю, а уж отойдя километров пять, сворачивай влево, к северу. Там сейчас много разводьев. Далеко не уходи, сейчас нерпы везде много.
Тутриль натянул на шерстяное белье кухлянку мехом наружу, нерпичьи штаны, нерпичьи же короткие непромокаемые торбаса, а поверх всего — белую, тщательно выстиранную камлейку. Камлейка пахла морским ветром и снегом — это была настоящая охотничья камлейка, которая держалась всегда на вольном воздухе, подальше от резких запахов, которые могут въесться в ткань. На спину Тутриль закинул эрмэгтэт — специальный набор ремней, разных бечевок, костяных пуговиц — и старый карабин в чехле из белой кожи.
— Ружье у меня пристреляно по центру, — деловито сообщил Токо.
В правую руку Тутриль взял легкий посох с противоснежным кружком на кончике, а в левую — вторую палку, со щупом на конце и острым, круто загнутым крючком. В этой же руке он нес «вороньи лапки» — лыжи-снегоступы, которые он решил надеть, ступив на морской лед.
Тутриль медленно шел к торосам, а Токо стоял у яранги и смотрел ему вслед, делая вид, что не слышит жену.
— Разве дело посылать ученого человека на охоту? Что ему делать в море? А если он все позабыл?
Токо молча вернулся в ярангу, взял рубанок и пошел к верстаку.
Легкое облачко обиды понемногу проходило. В общем, дядя Токо, как всегда, прав. Надо было пойти на охоту, глотнуть настоящего морского воздуха, походить в кухлянке и в торбасах. Все это должно было вернуть Тутриля в жизнь, которую он покинул много лет назад. В свою жизнь, в жизнь людей, родившихся и выросших на берегу ледовитого моря.
Тутриль прошел первую гряду торосов, образовавшуюся от движения осеннего молодого льда, и вышел на сравнительно ровную поверхность, которая и являлась собственно припаем.
Вторая гряда была пониже. Она была границей, за которой уже начиналась стихия морских течений, сжатий, глубоких трещин до самой океанской воды и разводий, где плескались весенние нерпы.
У первого же разводья Тутриль построил себе ледовое убежище — засаду из нескольких плоских льдин, отгородив себя от воды. Сделал небольшую бойницу, укрепил в ней кончик ствола с мушкой и уселся поудобнее в ожидании нерпы.
В тишине моря слышались шорохи трущихся друг о друга льдин, осыпающегося подтаявшего снега, плеск воды и тонкий звон, странно удаляющийся, если прислушаться к нему.
Казалось, в такой тишине должны приходить глубокие мысли, но хотелось ни о чем не думать, а просто слиться с этим огромным, чистым и ясным пространством.
Лишь изредка Тутриль смотрел на гладкую водную поверхность, но ничто не указывало на то, что под неподвижным зеркалом воды таится своя жизнь. И он вздрогнул, когда вспоролась водная гладь и показалась нерпичья голова, гладкая, блестящая, словно отлакированная. Огромные глаза с тревожным любопытством озирались кругом, словно искали спрятавшегося за ледовым убежищем Тутриля.
На секунду Тутрилю показалось, что он встретился глазами с нерпой, с этим удивительно человеческим взглядом, в котором таились и мысль, и тревога, и любопытство…
И если бы не было встречи глазами, он бы давно выстрелил. Но эти глаза…
«Энмэн… В стародавние времена пошел охотник во льды на промысел нерпы. Он шел проторенной тропой морских охотников, ибо это было дело его предков, отцов и братьев… Только в прошлом году его старшего брата унесло на льдине, когда неожиданно задули ураганные ветры. Осталась после него вдова, и по старинному обычаю младший брат на себя взял заботу о ней…
Идет охотник по льду и видит — лежит на льдине нерпа, большая, весенняя, с толстым пушистым мехом. Спит нерпа под лучами весеннего теплого солнца, не подозревая, что смерть крадется за ближайшим торосом.
Уже близко охотник, и копье крепко зажато в руке, мускулы напряжены… Но тут нерпа подняла голову и посмотрела на охотника человеческими глазами… Где же он видел эти глаза, широко раскрытые, добрые?
И вспомнил охотник — это глаза его брата, унесенного прошлой весной на льдине в открытое море.
Значит, правду говорят старинные предания, что человек, покинувший по воле ветра родные берега, становится тэрыкы — оборотнем. Приглядевшись, охотник увидел, что это не нерпа перед ним, а человек, вместо ласт у нее — ноги и руки, и только все тело покрыто короткой густой шерстью, похожей на нерпичью.
И сказал брат человеческим голосом: „Не убивай — я твой брат…“
Опустил копье охотник и ушел без добычи домой.
И с тех пор перестал удивляться и искать виновного, когда пропадало мясо из хранилища, или по ночам вдруг собаки начинали беспокоиться и лаять, кто-то входил в чоттагин, колыхал меховую занавесь полога… И не удивился, когда вдова погибшего вдруг родила сына…»
Эту древнюю легенду Тутриль слышал от дяди Токо еще в детстве, и сейчас ему казалось, что оттуда, с морской стороны, из-за торосов исходит глуховатый, проникновенный голос, повествующий о давнем…
Нерпа бесшумно плыла прямо на Тутриля, лишь журчала вода и в ушах звенело от напряжения.
Он шевельнулся, и нерпа исчезла под водой.
Тутриль медленно шел к берегу.
Он не торопился в ярангу Токо, размышляя о случившемся. Значит, он настолько переменился, что уже не может хладнокровно выстрелить в эти смотрящие в упор на него глаза? Почему же так? Ведь чукотские охотники бьют нерп, но не становятся от этого жестокосердными?
У одинокой яранги стояли Токо и Айнана. Девушка держала в руках ковшик с водой, чтобы встретить охотника и дать «напиться» добыче.
Токо внимательно смотрел в бинокль. Снег скрипел и оседал у него под ногами.
Отняв от глаз бинокль, он коротко сказал Айнане:
— Унеси воду…
14
В тот вечер Токо ничего не сказал, встретив возвратившегося с охоты Тутриля. Он лишь пристально посмотрел на него.
Молча поужинали, и на этот раз Тутриль даже не стал слушать по радио последние известия.
И не удивился, когда на следующее утро его снова разбудил Токо.
От утреннего морозца все было звонко — чистый воздух, маленькие сосульки, наросшие за ночь на яранге, подмерзший снег и образовавшийся на нем наст.
Тутриль уже не нашел вчерашнего разводья — льды сомкнулись на этом месте, а вода открылась в другом конце припая. В эти весенние дни, когда открытая вода уже просматривалась на горизонте, ледовый покров океана «дышал». Ледяные поля смыкались и размыкались, открывались новые трещины, и весенним нерпам не было нужды искать вольную воду — она была повсюду.
И сегодня Тутриль не ушел далеко от одинокой яранги.
Соорудив ледовое убежище, он уселся в ожидании нерпы. Он старался ни о чем не думать, чтобы уже ничто не могло помешать ему выполнить свой охотничий долг. Когда на воде с легким всплеском появилась нерпа, он, почти не целясь, нажал на спусковой крючок.
Выстрел разорвал тишину, заполнил грохотом все огромное пространство, и Тутриль удивился тому, что один выстрел произвел столько шума.
Кровавое пятно расплывалось по воде там, где только что виднелась нерпичья голова. Нерпа не пошла ко дну — весенние нерпы не тонут, об этом Тутриль хорошо помнил. Он размотал кожаную бечеву-акын с деревянной грушей, утыканной острыми металлическими крючьями, и выловил добычу из воды. Пока он это делал, пятно на воде расплылось и радужная пленка под действием легкого ветерка ушла под лед, словно здесь ничего и не было.
Тутриль подтянул нерпу на ледяной берег, вытащил ее и уселся в ожидании следующей.
Он старался найти в своей душе ту радость, которую он ощутил много-много лет назад, когда добыл первую нерпу. Тогда дядя Токо взял его с собой в море после долгих просьб, горячих обещаний слушаться во всем и учиться хорошо.
Это тоже было весной, может быть, в эту же пору Длинных Дней, когда сердце полно тревожного ожидания и неясных предчувствий. Сколько было ликующей радости, когда пуля, выпущенная из мелкокалиберной винтовки, поразила нерпу, с любопытством взирающую на мальчишку в белых камусовых штанах!
В ту ночь, после возвращения с охоты, дядя Токо проделал обряд посвящения в охотники, помазав лоб Тутриля свежей кровью и произнеся шепотом заклинания, обращенные к морским богам.
Вторую нерпу за сегодняшний день Тутриль добыл, когда день перевалил на вторую половину.
Странное у него было чувство, когда он тащил по припаю двух нерп, оставляя за собой кровавый след. Он начинал понимать дядю Токо, снявшего с него привычную одежду и пославшего его в море, прежде чем рассказывать старинные легенды и предания. Он думал о себе как бы со стороны, и для него не было ясно, который же настоящий Тутриль: тот ли, кто не решился поднять руку на нерпу, пожалевший живое существо, или вот этот, который тащит за собой двух нерп, оставляя позади на белом снегу алый след?
И снова, как в первый раз, у яранги стояли двое — Токо и Айнана.
Тутриль подтащил добычу к порогу и устало скинул упряжь. Айнана с сияющим лицом медленно и торжественно «напоила» нерп и подала остаток воды охотнику.
Тутриль с удовольствием попил воды из старого жестяного ковшика, выплеснул несколько оставшихся капелек в сторону моря и только после этого посмотрел в глаза Айнане, улыбнувшись ей.
— Поздравляю, — тихо сказала она и помогла втащить туши в чоттагин.
Снимая с себя охотничью одежду, Тутриль, как это полагалось, рассказал о состоянии льда, о направлении течений, которые хорошо угадывались по грядам битого льда.
Токо слушал молча и изредка кивал.
За вечерней трапезой, когда были обглоданы косточки и в большие чашки налит крепкий чай, Токо сказал долгожданное:
— Энмэн!
Этим словом начинается долгое повествование, сказка, легенда или же историческое сказание.
Токо вспоминал о далеком времени изначальной жизни, когда человек только что осознал себя главным и верховным существом среди живых существ, населивших землю, водное пространство и небо.
…Не было ничего — одно лишь пустынное пространство, простиравшееся беспредельно. Тьма, густая, как моржовая остывшая кровь. Холод. Никто ничего не знал, и обиталища богов находились по другую сторону вселенной, не предназначенной для человека.
Неведомо откуда появилась птица. И она летела, не ведая направления, не зная, где верх, где низ, пока не наткнулась на твердь. Стала она клевать эту твердь своим острым клювом и пробила дырочку. Оттуда хлынул свет. С непривычки птица чуть не ослепла. Она зажмурилась, отлетела в сторону и медленно открыла сначала один глаз, потом другой. Отверстие, которое птица проклюнула, увеличивалось, занимая все окружающее пространство. И впервые птица оглядела себя, узнала, что у нее есть крылья и перья. Но поскольку птица была из тьмы и сама раньше была частью беспредельной изначальной тьмы — она была черная.
Птица та была Ворон.
Ворон видел, как тьма отступала перед светом, а свет заполнял все пустынное пространство. Источник света — солнце стояло высоко в небе, озаряя своими щедрыми лучами широкую водную гладь, без земли и без берегов.
Ворон расправил крылья и полетел.
Он рассекал неподвижный, никогда не знавший ветра, снега и дождя воздух и смотрел вниз.
Долго летел Ворон. Устали крылья, но сесть было некуда — кругом лишь беспредельная вода да неизмеримое пространство.
Ворон уронил одно маховое крыло — и вдруг на водной глади возник остров.
Упало маленькое перышко с груди — возник небольшой островок.
Тогда Ворон выклевал из себя перья — и возникли земли: острова, большие и малые.
Так была создана Земля, и засияло над ней Небо, по которому плыло великое Солнце — источник света и тепла.
О зарождении жизни, о появлении первоначального человека повествуют пространные сказания.
Первый человек возник сразу и отовсюду. От зверя, от камня, от рассвета и заката, от проходящего облака. Ибо вся вселенная была переполнена подобием человека, которое неуловимо для праздного взгляда. Одни люди произошли от Кита. Те составили впоследствии приморский народ, охотников на плавающего зверя. Другие от Оленя, третьи — из Камня…
…За каждым произнесенным Токо словом у Тутриля возникало воспоминание детства. Такая же яранга в прибрежной части селения. Зимние вечера, когда недолгое низкое солнце торопилось уйти за горизонт. С наступлением сумерек в каждой яранге зажигали плошку-маяк — смоченный в тюленьем жиру мох. Светлые пятна на снегу были видны издалека, и возвращающиеся с морского льда охотники держали на них направление.
Стояли мужчины, женщины, старики и дети. Ждали кормильцев.
А потом рассказ о морских течениях, дрейфующих льдах. За этим рассказом следовали легенды и сказания.
Он продолжал и в другие вечера, словно предвосхищая появление нынешних многосерийных телевизионных фильмов. Тутриль слушал эти повествования, и в его сознании воссоздавалась картина прошлого, история освоения трудной земли.
Утром Тутриль вставал на заре, вместе с отцом. Онно уходил в густую синеву ледовитого моря, а он отправлялся в школу, в класс, где на учительском столике стоял зеленый глобус, а на стенах висели карты полушарий.
А вот как родилась песня у человека.
…Песня родилась раньше речи, ибо песней человек выражал главные чувства — радость, любовь и гнев…
Среди многих живущих людей был юноша. Он отличался особенной силой, ловкостью и почитался лучшим охотником и добытчиком зверя. Однажды, бродя в тундре, у подножия высоких горных хребтов встретил он девушку необыкновенной красоты. Она сидела на сухом пригорке, и вокруг нее не было снега — он растаял от ее присутствия. Красота девушки была такая, что трудно было смотреть на нее — словно глядишь на солнечный диск.
И все же отважный юноша приблизился к ней.
Они полюбили друг друга, но каждый раз, едва солнце склонялось над горизонтом, девушка уходила от любимого, растворялась в лучах вечернего заката.
То была Дочь Солнца.
И когда юноша попытался задержать ее, она сказала: «Если я останусь в тени ночной земли, я погибну и вся моя красота увянет, как увядают к осени прекрасные цветы тундры».
Опечаленный юноша отпустил Дочь Солнца.
Всю ночь он думал, как быть. С каждым разом ему все труднее было отпускать Дочь Солнца от себя.
Пошел юноша посоветоваться к мудрым шаманам. И сказали они: «Если хочешь сохранить жизнь и красоту Дочери Солнца, если хочешь оградить ее от стужи ночной тени, добудь росомаху и мехом ее защити красоту своей любимой».
И пошел юноша по следу росомахи… Но это уже другое повествование…
В этот вечер усталый Тутриль не записывал и не включал магнитофон. Он еще был таким, как днем во льдах, возле разводья, под огромным весенним небом, — возвратившимся к самому себе.
15
Тутрилю показалось, что он спал всего несколько минут.
Его разбудил ветер и тающий снег на лице.
Он, видимо, так и заснул, высунув лицо в чоттагин.
Токо разжигал костер.
— Запуржило, — сообщил он Тутрилю вместо приветствия. — Весенняя пурга. Не знаешь, когда кончится. Может, и через час прояснится и утихнет, а может, дней через десять. Скучно тебе в такую погоду сидеть в яранге со стариками.
— А где Айнана? — невольно вырвалось у Тутриля.
— Спит, — тихо ответил Токо. — Она еще любит поспать, молодая. Я считаю так: старость у человека начинается, когда он рано просыпается по утрам…
— Да я уже проснулась! — весело заявила Айнана, высунувшись из полога.
Сон освежил девушку, и она, несмотря на оленьи шерстинки, прилипшие к волосам, выглядела так, точно только что искупалась в студеной воде тундрового ручья.
Айнана выскользнула из полога.
Появилась Эйвээмнэу с деревянным блюдом.
Пришлось и Тутрилю выбираться из своего полога-мешка.
Он потер ладонями лицо.
— Будем умываться? — спросила его Айнана.
— А где? — беспомощно оглядевшись, спросил Тутриль.
— К сожалению, на улице, в пурге, — улыбаясь, объяснила Айнана, — а можно и в чоттагине. Я полью вам из ковшика.
Тутриль умылся, побрился механической бритвой, оказавшейся у Токо, и почувствовал себя свежим, хорошо отдохнувшим.
Ветер сотрясал ярангу, врывался вместе со снежинками в чоттагин, тревожил пламя костра, но в древнем жилище было уютно. Особенно вблизи огня, рядом с потрескивающими деревяшками.
Айнана притащила какие-то консервные банки.
— По случаю непланового выходного дня сегодня на завтрак будет мороженое, — объявила она, открывая охотничьим ножом банку со сгущенным молоком.
Молоко на морозе застыло и на вкус было похоже на сливочное мороженое.
Утреннее чаепитие продолжалось долго.
Приемник сообщил последние известия. Покрутив его, Айнана поймала музыку и, помыв посуду, вытащила свои инструменты, разложив их на том же низком столике, на котором только что пили чай.
Тутриль примостился рядом. Он с интересом разглядывал маленькие напильнички, ножички, сверла, тисочки и какие-то загнутые крючочки.
— Хороший у меня инструмент? — с гордостью спросила Айнана.
— Прекрасный, — ответил Тутриль, искренне любуясь тщательно отделанными никелированными инструментами косторезного искусства.
— А ведь это хирургические инструменты, — с улыбкой сказала Айнана.
— Хирургические? — удивился Тутриль.
— Да, — смеясь подтвердила Айнана. — Я заказала их в магаданском магазине медицинской техники.
— Остроумно! — заметил Тутриль.
— Как узнали в мастерской, снарядили в Магадан завхоза, и он накупил там всяческого оборудования на тысячу рублей… А это узнаете?
Айнана показала на стоящий в темном углу чоттагина какой-то станок.
— Что-то знакомое, но припомнить не могу, — пробормотал Тутриль.
— Это же бормашина!
От этих слов Тутриля передернуло.
Айнана вытащила два полуготовых моржовых клыка и принялась полировать их куском сукна.
— А что ты нарисуешь на этих клыках? — спросил Тутриль.
— Я еще не знаю, — неопределенно ответила Айнана. — Все жду, что дедушка расскажет. В прошлый раз я рисовала легенду о Пичвучине.
Легенда о Пичвучине… С детства знакомые образы смелых охотников, застигнутых бурей в море. Они уже отчаялись и не надеялись больше увидеть родные берега. И вдруг впереди на льду какая-то странная пещера, сшитая из меха гигантского оленя. Втащили туда охотники свою байдару и стали там пережидать бурю. Лежат они на теплом меху и радуются, что нашли такое чудное убежище. Утром видят: что-то огромное ползет вовнутрь, да не одно, а целых пять! Одно чудовище вдруг отделилось и поползло в ответвление пещеры. Схватили охотники копья. Кто-то загрохотал громом за стенами пещеры, содрогнулся воздух, и услышали люди вскрик. А чудовища тем временем проворно отползли назад. Тогда самый смелый из охотников выглянул из пещеры и увидел великана, стоящего по колено в открытом море. В одной руке он держал кита и ел его, а другую руку тщательно рассматривал — эти вползшие чудовища были пальцами руки великана! А пещера, в которой пережидали охотники бурю, оказалась рукавицей.
«Это Пичвучин!» — сказал охотник. И все обрадовались, потому что Пичвучин был добрым и великодушным существом. Обликом он был в точности как человек, только все у него было очень большое. На утреннюю трапезу ему было как раз двух китов достаточно. Ложась спать, он отламывал вершину ближайшей горы и клал под голову вместо подушки.
Пичвучин догадался, что в рукавице люди. Он осторожно вытащил оттуда байдару и посадил в нее людей. Когда он заглянул в рукавицу своим огромным глазом, сияние было такое, что все зажмурились. Посадив людей, он легонько дунул, и поднятый парус наполнился попутным свежим ветром, который ходко гнал байдару до самого родного берега…
Такова была одна из самых распространенных легенд о Пичвучине.
— Об охотниках и Пичвучине? — спросил Тутриль.
— Нет, сначала о рождении Пичвучина, — ответила Айнана. — Ведь Пичвучин родился обыкновенным человеком, а потом стал великаном…
— Все люди рождаются обыкновенными, — заметил Токо. — Только потом человека отделяют именем от других, обозначают его.
— Но как пришло в голову моему отцу назвать меня Тутрилем? — спросил Тутриль. — Не слишком ли красиво?
— Имя дает не обязательно отец, — заметил Токо. — Имя может дать близкий друг семьи. Иногда он один сохраняет спокойствие и ясную голову в радостной и бестолковой суматохе появления нового человека… Тот день был хороший, — продолжал Токо, — добычливый.
— И я помню, — вступила в разговор Эйвээмнэу. — Охотники с утра ушли на припай бить весеннюю нерпу, и Кымынэ очень беспокоилась, потому что поднимался южный ветер. Боялись, что оторвет припай, унесет охотников.
— Вы это так хорошо помните? — с удивлением спросил Тутриль.
— Рождение человека не такое событие, чтобы его забыть, — сказала Эйвээмнэу.
— Мы тогда еще не старые были, — рассказывала Эйвээмнэу. — В ликбезе учились у нашего Роптына, который нынче Совет возглавляет… А Кымынэ рожала тебя с помощью доктора. Девушка была молоденькая, Вера Семенова. Как услышали в селении, что Кымынэ будет по-новому рожать, так повалили в ярангу любопытные. Пришлось их отгонять… Комсомольцы мы тогда были…
— Бабушка, неужели ты вправду была комсомолкой? — с улыбкой спросила Айнана.
— А почему ты смеешься? — недовольно ответила Эйвээмнэу. — Ты вспомнишь свой смех, когда тоже будешь бабушкой и станешь внукам рассказывать, какой была.
— Не сердись, эпэкэй, — Айнана продолжала с улыбкой. — Я ничего плохого не хотела сказать. Я знаю, что буду смешной, когда вспомню, как была комсомолкой.
— Почему смешной? — не поняла Эйвээмнэу. — Ничего смешного нет.
— Ну, хорошо, — миролюбиво сказала Айнана. — И вправду, что тут смешного? Расскажи лучше, как по новому обряду появился на свет Тутриль.
— Сначала пришла шаманка Вэтлы, — продолжала Эйвээмнэу. — Однако ее в ярангу не пустили. А мы, подруги Кымынэ, сидели в чоттагине и грели воду. В большом котле и в чайнике… Когда я свою Эймину рожала, столько воды не грели… Гадали, отчего такой жадный до воды ребенок? Чай, что ли, любит?.. Я подавала воду в полог, а там, кроме жирника, зажгли принесенную из больницы большую керосиновую лампу. Светло в пологе, как на улице в солнечный день. С потолочных перекладин идолы глядят, будто наблюдают, как ты, значит, на свет рождаешься… Ну, значит, появился ты, закричал, заплакал, как полагается, а тут и весть пришла, что возвращаются наши охотники. Вера Семенова заторопилась: ее муж, учитель, тоже на охоту ходил. Наказала мне следить за роженицей и убежала. А я осталась. Смотрю я на тебя — ну ничего такого не вижу, обыкновенный парень. Жмуришься на яркий свет, глаз не открываешь — керосиновая лампа мешает. А Кымынэ попросила меня помазать жертвенной кровью домашних идолов в благодарность за твое благополучное прибытие. Помазала, а потом мы вместе и пошли на берег…
— С роженицей? — удивилась Айнана.
— И с новорожденным тоже, — спокойно ответила Эйвээмнэу. — Погода тогда была хорошая — ветер утих, и словно большая добрая птица осенила крыльями Нутэн… И радость была сильная: охотники благополучно вернулись с добычей, и новый человек появился. Гости приходили в ярангу, подарки получали, имя спрашивали. Тогда и сказал Токо: «Тутриль — имя новоприбывшего…» А Иваном уже в школе назвали…
— А я ведь этого не знал, дядя Токо, что вы мне имя дали, — благодарно произнес Тутриль.
— Я исполнил долг перед другом, — с достоинством сказал Токо.
— Спасибо вам, дядя Токо…
— А отчество когда появилось? — спросила Айнана.
— Это уже когда я паспорт получал, — ответил Тутриль.
После обеда Тутриль достал блокнот и подробно записал рассказ о своем появлении на свет.
Писал и изредка посматривал на Айнану.
Она была поглощена работой. Заостренным концом металлического резца закрепляла на моржовой кости карандашный рисунок. Руки, колени, подол камлейки и даже одна щека были обсыпаны, словно желтоватой пудрой, мелким костяным порошком.
На верхней губе выступили мелкие капельки пота, влажная прядь волос упала на лоб.
И в который раз Тутриль почувствовал в груди странное тепло и пугающее желание обнять ее, прижать к себе, маленькую, нежную…
Яранга сотрясалась от порывов ветра, и сверху, с дымового отверстия, на пол чоттагина сыпались снежинки. Они падали и на склоненную голову Айнаны и не таяли на волосах.
Тутриль осторожно смахнул с макушки Айнаны снег.
Она вопросительно посмотрела на него.
— Там был снег.
— А я и не чувствую, — слабо улыбнулась Айнана и отставила моржовый бивень. — Когда я работаю, ничего не слышу и не вижу. Только рисунок… Так интересно, будто ты сам создаешь, воскрешаешь ту жизнь…
— Тебе нравится рисовать то, что было? Старый Нутэн? — спросил Тутриль.
— Там можно выдумывать, — ответила Айнана. — Есть простор для мечты. Если на сегодняшней стороне нарисуешь что-нибудь от себя, обязательно спросят: а разве такое было?..
Айнана взяла моржовый бивень. Половина старого Нутэна уже обрела свои очертания. На берегу снаряжали на охоту байдару. От яранг спускались охотники. Несли ружья, гарпуны, несколько человек тащили свернутый парус. Тутриль нашел свою ярангу и увидел женщину с ребенком…
— Это я еще раньше набросала, — пояснила Айнана. — В старом Нутэне я рисую яранги, домики такими, какими они были на самом деле. А люди у меня всегда разными делами занимаются. Помните, на том бивне, который вы видели в доме у меня в Нутэне, вот здесь делали байдару?
— Ну, помню, — кивнул Тутриль.
— Вот она теперь, эта байдара, уже готовая, — показала Айнана.
И тут Тутриль понял, что Айнана воссоздает жизнь на моржовом бивне точно так же, как, наверное, это делает писатель на страницах своих книг. Вспомнилось где-то прочитанное интервью с Хемингуэем. Журналист спрашивал, что в книгах знаменитого писателя выдумано и как эта выдумка соотносится с реальной жизнью. На это Хемингуэй ответил, что действительность в его книгах — большая реальность, чем то, что происходит в так называемой живой жизни…
— А ты настоящая художница… — тихо сказал Тутриль.
Айнана подняла на него полный благодарности взгляд:
— Правда, вам нравится?
16
Ветер сразу отшиб дыхание, и Тутрилю пришлось остановиться и постоять некоторое время. Рядом, не выпуская его руки и отвернув лицо, Айнана боролась с ветром, стараясь удержаться на ногах.
Они почти ползли по снегу. Тутриль тащил топор, Айнана несла ведро, сразу же наполнившееся снегом и ветром.
Увэран — подземное мясное хранилище — находилось над берегом, и крышкой ему служила старая, побелевшая от времени костяная китовая лопатка, придавленная большим камнем.
Камень пришлось сначала расшатать, он примерз, но, к счастью, не был занесен снегом.
Трудно что-нибудь уловить обонянием при таком ветре, но едва только Тутриль отодвинул в сторону китовую лопатку, как на него из глубины земляной ямы пахнуло знакомым с детства прокисшим копальхеном. Спустившись, он отбил кмыгыт и вытащил его на поверхность. Здесь он отрубил несколько кусков. Айнана подобрала их и сложила в ведро.
— Давно не ели копальхен? — спросила она.
— С тех пор как уехал из Нутэна.
Он отсек топором тонкий кусок и положил в рот. Странное было ощущение. В общем, копальхен — это слегка подгнившее мясо, точнее, кожа моржа с полоской жира и мяса.
Айнана выжидательно смотрела, как Тутриль ел копальхен.
— Ну, как?
— Ничего, — ответил Тутриль.
Тутриль примечал, что Айнана как бы испытывает его, выясняет, остался ли он настоящим чукчей или начисто утратил качества лыгьоравэтльана.
Нарубив корму для собак, Тутриль и Айнана побрели к яранге, стараясь не отрываться друг от друга.
А ему было радостно оттого, что он безо всякого отвращения и брезгливости ел старый прокисший копальхен, предназначенный для кормления собак.
Обратный путь к яранге одолевали долго, часто останавливались, чтобы взять верное направление. Разговаривать было невозможно, и Тутриль, поглядывая на озабоченное, припорошенное тающим снегом лицо Айнаны, был охвачен такими же, как эта снежная круговерть, смятенными мыслями. Кто же он сам? Ученый, кандидат наук… В ленинградском институте его уважают, ценят, при всяком торжественном случае сажают в президиум, выдвигают в комиссии, демонстрируют иностранным делегациям, каждый раз подчеркивая, что вот он, Тутриль, родился в яранге, вышел, так сказать, из первобытности в социализм. До какого-то времени это было даже приятно… А однажды, когда Тутриль на международном симпозиуме сделал доклад на английском языке и это обстоятельство потом особо подчеркивали, кто-то сказал: «Когда же перестанут восхищаться тем, что ты, идя по Невскому проспекту, при этом еще не держишь в зубах кусок сырого мяса?»
Тутриль полюбил Ленинград. Этот город стал как бы второй родиной Тутрилю. Не только потому, что он здесь получил высшее образование, учился в аспирантуре, полюбил и женился. Нет, главное то, что именно здесь Тутриль обрел уверенность в себе. Откровенно говоря, первое время в Ленинграде он чувствовал себя не только временным жителем, но и людское окружение для него было поначалу чуждым. Он считал, что вот пройдет время, и он вернется в привычную обстановку, к ярангам, охоте на моржа и нерпу, в знакомую атмосферу причудливого смешения мифологических и волшебных представлений о мире с научным видением.
…Шли годы учения, Тутриль получал из дому письма, и между скупых строк, неумело написанных отцом, в старательно выведенных, словно вышитых матерью буквах читал о больших изменениях в родном селении, на всей Чукотке. В его отсутствие произошло переселение из яранг в дома. Можно было только представить, каково было расставаться с привычным, испытанным тысячелетиями жилищем. Строилась новая Чукотка, а его, Тутриля, там не было. Он жил вдали, не слыхал грохота машин на новых комбинатах, тихого плача стариков, которые, стиснув зубы, жгли потемневшие от копоти и жира деревянные остовы покинутых яранг и зябко входили в залитые дневным светом комнаты, с непривычки такие просторные… Люди шли вперед, зная, что идущие быстро часто оставляют позади и дорогое… Все это время Тутриль просидел в прохладных залах Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, рылся в книгохранилищах Академии наук, составляя картотеку словарного состава чукотского языка, штудировал фольклорные тексты, записанные еще Богоразом-Таном, разбирал экспедиционные записки своего учителя Петра Скорика, бывшего когда-то учителем в Уэлене. Тутриль читал чукотские газеты и каждый раз волновался, словно при живом свидании, встречая знакомые имена. А сам он свыкался с городской жизнью и уже не думал так часто о покинутой родине. Нет, он не забыл о ней, тосковал по ночам, просыпаясь от неожиданного воспоминания. Он повернулся к Айнане, рукой она показывала вперед. Там мелькнуло что-то темное. Это была яранга. Пурга обходила стороной конусообразное жилище, и возле самих стен снегу почти не было. Тутриль скатился с сугроба, следом — Айнана. Она упала в объятия Тутриля. Очутившись близко, лицом к лицу с ним, так, что смотреть было больно, она хотела было отвернуться, но коснулась губами губ Тутриля и уже не могла оторваться…
— Как это хорошо! — тихо проговорила она и приблизила свое лицо к лицу Тутриля, втянула в себя воздух, сказала: — Пахнет снегом и ветром.
Она еще раз поцеловала Тутриля, а потом горестно улыбнулась, смахнула рукавицей налипший на ресницы снег.
— Если бы пурга была вечной! И вы не могли бы уехать отсюда!
Из-за грохота бури они почти не слышали друг друга, но понимали каждое слово.
В чоттагине было уютно и спокойно. Пурга осталась за порогом, за закрытой дверью.
Тутриль взял протянутую Айнаной снеговыбивалку — гнутый отросток оленьего рога — и тщательно выбил снег с кухлянки, торбасов, рукавиц.
Ярко горел костер. Эйвээмнэу мяла нерпичью шкуру, распялив ее на доске. Токо возился у полога с каким-то прибором.
— Я собирался искать вас, — сказал он, глядя на отряхивающихся Айнану и Тутриля. — В такой ветер легко направление потерять.
— Что это вы чините? — с любопытством спросил Тутриль.
— Рацию.
— Разве у вас есть рация?
— Полагается, — деловито ответил Токо. — В пургу, в ненастье или если что случится, положено выходить на связь с Нутэном два раза в сутки. В четыре у меня сеанс…
Токо натянул на седую голову наушники, покрутил рычаги и с удовлетворением произнес:
— Ожили. Батареи у костра погрел. Заработали.
Покормив собак и вымыв руки, Айнана снова уселась у столика, склонившись над моржовым бивнем с бледными очертаниями летнего селения Нутэн.
Токо наладил радиостанцию, покрутил рычажки.
— Алло! Алло! Говорит яранга! Говорит яранга! — Старик повернулся к Тутрилю и, прикрыв ладонью телефонную трубку, пояснил: — Это мои позывные…
Кто-то, видимо, отозвался, и деловитым и будничным голосом Токо сообщил, что в яранге все в порядке.
— Больше новостей нет, — сказал он в заключение. — Да, да… Гостем интересуетесь? Гость тоже хорошо чувствует себя и в Нутэн пока не собирается… Не беспокойтесь, Никандрыч… Хорошо, сейчас передам трубку. Никандрыч хочет с вами поговорить… Держите трубку. Когда слушаете, отпускайте вот эту кнопку, а когда говорите — нажимайте…
Слышимость была хорошей. Гавриил Никандрович спросил о самочувствии, поинтересовался, не собирается ли Тутриль в Нутэн.
— Собираюсь, — ответил, оглянувшись на Айнану, Тутриль. — Передайте отцу и матери: скоро приеду.
— Если надо, пошлем за вами вездеход. Коноп по компасу доберется.
— Не надо никого посылать, — отказался Тутриль. — Кончится пурга, Айнана меня привезет.
Тутриль кивнул на рацию с улыбкой.
— Не думал, что мне придется из яранги по телефону разговаривать.
— Хорошая штука, — отозвался Токо. — Ее можно и на нарту поставить. Кати себе по тундре и беседуй.
— Девочки на почте говорят, что можно даже с Москвой соединиться через их станцию и Анадырь, — добавила Айнана.
За стенами яранги выла и бесновалась весенняя снежная пурга, гуляя по широкому простору тундры и ледового моря.
17
В Нутэне бушевала пурга.
Школа была закрыта, но работали магазин, пекарня, почтовое отделение. Люди ходили на работу группами, старались держаться друг друга.
Долина Андреевна и Коноп брели к дому Онно.
Остановившись передохнуть, Коноп сказал:
— Почаще бы дула пурга для нас с тобой.
— Почему? — спросила Долина Андреевна.
— Это лучшая погода для тебя и для меня, — ответил Коноп. — Никуда не надо ехать. Это раз. Второе — твои читатели сидят по домам, и мне с тобой можно гулять по улице.
— Коноп, — строго произнесла Долина Андреевна и, глотнув ветра со снежинками, закашлялась. — Сколько раз я тебе объясняла, что нам нельзя афишировать нашу связь. Ты же знаешь: мое положение в селе, мое общественное лицо…
Ветер не дал ей договорить, потащил дальше.
Перебежав несколько десятков метров, Коноп и Долина Андреевна схоронились под железной стеной склада.
Коноп заботливо стряхнул снег с платка спутницы.
— Может быть, все-таки поженимся? — жалобно спросила она.
Коноп усмехнулся:
— Кто же делает предложение в такую пургу? А потом: я должен просить у тебя руки и сердца… Кажется, так?
— С тобой нельзя серьезно разговаривать…
— Не могла выбрать другого места и другого времени?
— Ты же сказал, что это лучшая погода для нас с тобой, — повторила Долина Андреевна. — Только сейчас нам и разговаривать, чтобы никто не видел и потом не сплетничал…
— Слушай, Долина, — помедлив, заговорил Коноп. — Может быть, я и женился бы на тебе. Когда ты только вернулась сюда. Но ты была очень гордая. Поначалу и не глядела в мою сторону. А потом сказала это слово — аморально. А я ведь шел к тебе с чистым и открытым сердцем. А теперь и не знаю, что делать… Вот ты говоришь — жениться. А я все думаю о том, что у тебя высшее образование, а у меня всего шесть классов.
— Я так думаю, — твердо заявила Долина Андреевна. — Можно по-другому: один человек воспитывает и тянет за собой другого. Как бы шефство берет над ним… Я согласна!
— На что — согласна? — не понял Коноп.
— Чтобы я тебя воспитывала, тянула за собой…
— Глупости говоришь, Долина… Может, я этого как раз и не хочу. Мне дорога моя свобода.
Последний отрезок пути преодолевали почти ползком. Входная дверь наполовину была занесена, и Конопу пришлось сначала отгрести снег.
— Ты не сразу входи со мной, — попросила его Долина Андреевна.
— Ну уж нет, — ответил Коноп. — Даже собаку в такую погоду не оставляют на улице.
Он шумно и решительно вошел следом за Долиной Андреевной в сени и крикнул в комнату:
— Это мы пришли. Коноп и Долина Андреевна!
Онно подал снеговыбивалку из оленьего рога.
— Чуть не заблудилась! — возбужденно рассказывала Долина Андреевна. — Если бы случайно не встретился Коноп, ветром унесло бы меня в море…
— Ну, такую большую не унесет, — пробормотал Коноп, тщательно обрабатывая свои торбаса.
— Увидела его возле гаража… Попросила проводить до вашего дома…
Коноп выпрямился во весь рост и выразительно посмотрел на Долину Андреевну.
Но та, казалось, не замечая его взгляда, продолжала:
— Читать надоело, скучища… Дай, думаю, загляну к вам… А Иван Оннович не приехал?
— Как же он приедет в такую пургу? — заметил Коноп.
— По телефону звонил, — сообщила Кымынэ. — Хорошо ему там. Нравится.
Стряхнув последнюю снежинку, все перешли в комнату, где на столе стоял никелированный электрический самовар.
— Хорошо чайку выпить с мороза, — потирая руки, сказала Долина Андреевна.
— По случаю субботы и кое-что покрепче найдется, — сказал Онно.
За стенами гремел ветер, и порой казалось, что что-то тяжелое, но мягкое падает на домик, пригибая его к земле.
Прислушавшись, Долина Андреевна зябко повела плечами:
— Представляю, каково сейчас в яранге!
— Хорошо там, — сказал Коноп.
— Электричества и отопления нет, стенки тонкие, теснота, грязь…
— Долина Андреевна, — возразил Онно. — У Эйвээмнэу грязно не бывает. Там, кроме стариков, еще и Айнана.
— Да, это верно, — кивнула Долина Андреевна. — Я почему-то совсем про нее забыла.
— Она хорошая, добрая девушка, — сказала Кымынэ.
— Рисует хорошо! — добавил Онно.
Долина Андреевна налила себе чаю.
— Может быть, и впрямь она достойная девушка, — задумчиво сказала она, глядя куда-то мимо Конопа. — Но меня удивляет ее легкомыслие: зачем она отказала тому парню?
— Потому что женщина! — Коноп взялся за рюмку.
— Вам уже хватит, товарищ Коноп, — строго сказала Долина Андреевна и продолжала: — Лично я против Айнаны ничего не имею… Но надо смолоду думать о будущем. Твердо стоять на земле, а не витать в облаках… Тем более что росла одна, без отца…
— Между прочим, уважаемая Долина Андреевна, я тоже вырос без отца, — сообщил Коноп.
Некоторое время в комнате было тихо.
За стенками домика шумела буря да дребезжала какая-то железка в дымоходе кухонной плиты.
— Я ведь о чем, — снова заговорила Долина Андреевна. — Разумеется, я уверена в моральной устойчивости и политической грамотности Тутриля. Но то, что он надолго задержался в яранге, это тревожно…
— А что именно, Долина? — спросил Окно.
— Мы тут все взрослые, — усмехнулась она. — Я выражаюсь достаточно ясно.
Онно вздохнул:
— Давайте лучше выпьем за тех, кого в пути застигла пурга.
— До дна! — сказал Коноп.
Кымынэ прислушалась.
— Еще гость к нам идет, — тихо произнесла она и открыла дверь в тамбур.
Вместе с воем ветра в облаке снега ввалился Гавриил Никандрович. Отряхиваясь, заглянул в комнату.
— Да тут пир горой! Выходит, верно я учуял, где можно скоротать пурговое время… О чем разговор?
— Да вот толкуем о Тутриле, — ответила Долина Андреевна. — Что-то он в яранге задерживается.
— А я его понимаю, — задумчиво произнес Гавриил Никандрович. — Это как бы возвращение в детство. Я ведь тоже родился и вырос почти что в яранге. Наша изба в Тресках по своему внутреннему убранству да по удобствам не лучше была. И когда я думаю о своей деревне, именно эту избу и вспоминаю. Тут уже ничего не поделаешь, — вздохнул Гавриил Никандрович.
Долина Андреевна поджала губы и вместе со всеми слушала Гавриила Никандровича.
— Родина всегда напоминает о себе детством, тем, что ты увидел впервые в жизни…
— А наши внуки увидят уже другую родину, — заметил Онно. — Даже те, кто родился в Нутэне, видят ярангу только на картинках да на старых фотографиях. Янранайские, чутпэнцы, нымнымские — все будем жить вместе, как в настоящем большом городе, в Кытрыне.
— Охота там плохая, — заметил Гавриил Никандрович.
— Будем на машинах ездить на охоту! — весело сказал Коноп. — Лично я давно мечтаю жить в городе. В нашем чукотском городе. Чтобы народу было много и чтобы были просто незнакомые.
— А зачем тебе незнакомые? — подозрительно спросила Долина Андреевна.
— Это же интересно! Идешь себе по улице — и вдруг тебе незнакомый человек попадается. Ты с ним сначала здороваешься, потом знакомишься, начинаешь разговаривать…
— Какие-то странные у тебя желания, — заметила Долина Андреевна. — Разве тебе плохо с людьми, которых ты хорошо знаешь?
— Не всегда! — ответил слегка захмелевший Коноп. — Больно много знают и еще больше хотят знать… А незнакомец ничего не знает и все узнает от тебя лично… Потом, когда он тебе станет близким другом, можно его позвать к себе в гости, показать новую квартиру, включить для него телевизор, угостить чем-нибудь таким вкусным и интересным… Ну, напился он чаю, захотелось ему облегчиться, и не надо его гнать в пургу на улицу… Культурно проводил его в другую дверь. Он там отдохнул, дернул за веревочку, и опять чистота и гигиена…
— Это за какую веревочку надо дергать? — с любопытством спросила Кымынэ.
— Есть такое устройство в тангитанских уборных, — объяснил Коноп. — Очень удобная штука.
— Из-за этой веревочки переселяться? — задумчиво произнес Гавриил Никандрович. — Люди ведь живут в определенном месте совсем из-за другой веревочки. Другая связь. Именно на этом самом месте чувствуют себя крепко стоящими на земле, настоящими людьми.
— Патриотизм это называется, — солидно заметила Долина Андреевна.
— Правильно, патриотизм, — кивнул Гавриил Никандрович. — Вот вспоминаю войну. Каждый солдат нашей роты воевал за весь Советский Союз. Но когда мы думали о родине, каждый вспоминал свое: казах Тлендиев — свой аул, украинец Кириченко — свое село, русский Смольников — свой город Углич, а я — свои Трески и Нутэн. Это все вместе наша Советская Родина. Однако, если мы будем скакать с места на место за веревочкой, что получится? Не потеряем ли мы что-то важное и главное? Может быть, проще эту веревочку сюда приделать? А?
Гавриил Никандрович задумался.
— Вот Токо, — продолжал он. — Худо ему стало — он ушел в ярангу. Может, для другого, постороннего — блажь, но я его понимаю. Он там, в этой яранге, окрепнет духом и с новыми силами вернется к нам.
— Зря он на нас обиделся, — заметил Онно. — Разве так можно? Это же позор для коммуниста!
— Я помню чукотскую поговорку, которая гласит: телесная рака не так болит, как душевная, — задумчиво произнес Гавриил Никандрович. — Почему так? А я думаю — вот почему: люди привыкли к голоду и холоду, боли и потерям… Все это легче переносится, чем словесные раны… Душа человеческая — нежная.
— Раньше почему-то он не был таким ранимым, — с усмешкой произнес Онно.
— Его обида душевная, — еще раз повторил Гавриил Никандрович.
Коноп внимательно слушал разговор, и было видно, что он хочет вставить свое слово.
И когда наступил удобный момент, он громко сказал:
— Все это — лирика!
— Что? — не понял Гавриил Никандрович.
— Пустые разговоры, — махнул рукой Коноп. — Ну чего он такой гордый? Нынче надо и против словесных обид закаляться…
Он искоса быстро взглянул на Долину Андреевну.
Гавриил Никандрович строго заметил:
— Не то ты говоришь, Коноп, путаешься.
— Правильно! — поддержала его Долина Андреевна. — Путаные у тебя мысли, товарищ Коноп. Учиться надо, повышать общеобразовательный и культурный уровень.
Гавриил Никандрович посмотрел на часы, разлил остаток вина по стаканам:
— Ну, за тех, кто в тундре!
Он засобирался, и тут Долина Андреевна встала и сказала:
— Я с вами, Гавриил Никандрович.
— Да я потом тебя провожу, — сказал Коноп.
— Нет уж, — поджав губы, сказала Долина Андреевна. — Ты не совсем трезв, товарищ Коноп.
Коноп что-то пробормотал, но не стал спорить.
Ей пришлось вцепиться в спутника, чтобы удержаться на ногах. Переждав порыв ветра, они медленно побрели по улице, мимо полузанесенных снегом домиков. Долина Андреевна висела на левой руке Гавриила Никандровича, тянула его своей тяжестью к земле, мешала шагать. Пройдя немного, Гавриил Никандрович предложил:
— Давайте чуток передохнем.
Встали под защиту склада.
Снежные заряды неслись низко над землей. Сверху просвечивало низкое небо, и случалось, что прорывался солнечный луч, словно заблудившийся, мелькал перед глазами и мчался дальше вслед за снежной метелью.
Долина Андреевна смахнула с лица налипший мокрый снег, несколько раз глубоко вздохнула и сказала:
— Давно хотела я у вас, Гавриил Никандрович, попросить дружеского совета.
— Рад буду помочь, — с готовностью ответил директор, потряхивая затекшую от тяжкой ноши левую руку.
— Повоздействуйте на Конопа…
— Что? — спросил Гавриил Никандрович.
— На Конопа… — Долина Андреевна сначала замялась, но быстро обрела уверенный тон. — Вы бы ему деликатно намекнули…
— Я с ним говорил, — сказал Гавриил Никандрович. — Он мне обещал воздерживаться. И надо сказать — слово он свое держит.
— Да не об этом речь! — горячо произнесла Долина Андреевна. — Дело не в том, что он выпивает. Не это главное.
— А что?
— А то, что он компрометирует меня…
— Что, что делает?
— Компрометирует…
Гавриил Никандрович как-то внимательно посмотрел на Долину Андреевну.
— Я еще раз прошу вас — поговорите с ним, — умоляюще произнесла Долина Андреевна.
— Опять не понял, — мотнул головой Гавриил Никандрович.
— Ну какой вы непонятливый! — воскликнула Долина Андреевна. — Вот слушайте меня внимательно… Наверное, я сама виновата в этом. У нас это давно с Конопом. Может быть, со стороны это выглядит не очень романтично: ведь мы оба не очень молоды, но все же какое-то чувство есть… Я в этом уверена… Конечно, в моей жизни тоже были ошибки. Но нельзя же все время назад оглядываться… Гавриил Никандрович, вы уж как-нибудь поднажмите на него.
— Но как? — простодушно спросил Гавриил Никандрович. — Дело ведь личное и деликатное.
— Вы же умный человек, — заметила Долина Андреевна. — И он вас очень уважает, всегда говорит о вас только хорошее. Наверное, если вы ему скажете, то он послушается.
Гавриил Никандрович что-то пробормотал про себя.
— Я попробую, конечно, но дело это для меня новое и непривычное, — признался Гавриил Никандрович.
— Может быть, по общественной линии? А?
— Нет, это нельзя! — решительно заявил Гавриил Никандрович. — Вот что: попробуйте сами сначала, своими силами.
— А это как?
— Ну, уж не мне вас учить, — улыбнулся Гавриил Никандрович.
Ему жаль было Долину Андреевну, и он искренне сочувствовал ей.
Она выросла на его глазах, и, надо признаться, в свое время Гавриил Никандрович радовался, как она быстрее всех и лучше всех научилась говорить по-русски, как она пела с отцом, старым охотником Кулилем, научившимся виртуозно играть на мандолине.
Но потом что-то не сладилось в личной жизни Долины Андреевны. А как тут помочь? Если бы личное счастье можно было поровну распределять между людьми… К сожалению, так не бывает… Всегда кому-то не достается даже, казалось бы, простого, семейного счастья.
Конечно, Долина Андреевна во многом сама виновата. Уж кому-кому, а Гавриилу Никандровичу вся жизнь водителя совхозного вездехода и его симпатии к заведующей сельской библиотекой были хорошо известны. Правда, они не были секретом и для других жителей Нутэна.
Да, Конопу пришлось много пережить и перетерпеть, прежде чем ему удалось обратить на себя внимание Долины Андреевны, которая поначалу держала себя уж очень независимо по отношению к нему.
По доброте своей Гавриил Никандрович, конечно, не мог отказать в просьбе Долине Андреевне, и он сказал на прощание:
— Я намекну ему… Не знаю, как это сделать, но постараюсь.
— Уж я буду благодарить вас! — вспыхнула Долина Андреевна.
А ветер выл, швырял в лицо подмокший снег, носился по крышам домов, уносился в море, в тундру, на вольный простор, где не было никакой преграды.
18
Уже на второй день пурги установился особый распорядок дня, приспособленный к медленному течению времени под вой ветра и хлопанье покрышек яранги.
Просыпались поздно, когда весь чоттагин был залит ровным синеватым светом, как если бы над дымовым отверстием зажигалась люстра люминесцентных ламп дневного света. Свет был рассеянный, словно разъятый на мельчайшие пылинки, растекающиеся по всему чоттагину, покрывающие ровным сероватым налетом все закоулки, деревянные бочки с припасами нерпичьего жира и мяса, охотничье снаряжение, аккуратно развешанное по полукруглой стене, свернувшихся калачиком, почти не просыпающихся собак, переднюю меховую стенку полога, бревно-изголовье и даже пламя костра.
Тутрилю еще ни разу не удавалось проснуться раньше Эйвээмнэу. Когда остатки сна покидали проясняющееся сознание, он чувствовал чуткими ноздрями запах дыма, слышал потрескивание маленьких щепочек, которые старушка подкладывала под донышко закопченного чайника. Несколькими палочками она ухитрялась вскипятить воду, сварить мясо. Ни один язычок пламени не пропадал даром. Костер почти не дымил, и от этого в чоттагине всегда было чисто и свежий воздух лишь слегка пахнул дымком-воспоминанием.
Из большого полога выползала уже одетая Айнана.
— Доброе утро! — весело здоровалась она.
— Топри утра! — в тон ей отзывалась бабушка. Утренние приветствия не приняты в чукотской яранге, но русский возглас ей нравился, словно доброе шаманское заклинание, возвещающее добро и будущие радости.
Умывались обычно возле плотно притворенной входной двери, куда пурга намела небольшой сугроб. Айнана осторожно лила на руки Тутрилю.
Самое трудное состояло в том, чтобы использовать минимальное количество воды.
Потом показывался Токо с неизменной трубкой в зубах. Казалось, старик так и не расставался с ней всю ночь.
— Топыр утыр! — здоровался он, поддерживая введенный внучкой обычай, и протягивал руку к дымящейся чашке чая.
За утренним чаепитием слушали поздние московские новости, словно вести с другой планеты, как что-то невероятное, невозможное. О севе на Кубани, о цветущих садах Молдавии, о начале навигации на реках Сибири, о купаниях в Черном море. Потом шли международные вести из Индокитая, Среднего Востока, Европы, Америки…
Видимо, Токо не разделял мыслей Тутриля о дальности внешнего мира. Наоборот, он рассуждал о событиях, происходящих в невероятной дали, так, будто они случались в соседнем селении. Он был хорошо осведомлен о делах как внутри страны, так и за рубежом и часто удивлял Тутриля осведомленностью.
После неторопливого завтрака все принимались за работу, которая не убывала несмотря на пургу.
В середине дня выходили на связь с Нутэном и, поскольку новостей, в общем-то, особых не было, сеанс связи заканчивали довольно быстро.
Зараженный общим трудовым настроем, Тутриль заполнял страницы блокнота записями. Именно здесь ему впервые пришла мысль о том, что человек, каким бы он ни был точным в соблюдении грамматических форм языка, как бы заново примеривает и приспосабливает их к себе. Да, существует единственный, общий для всех чукотский язык, но каждый пользуется им, если можно так выразиться, в меру своего таланта.
Иногда Тутриль отрывался от блокнота, задавал вопросы то Токо, то Эйвээмнэу. И у каждого был свой, часто отличающийся едва уловимыми тонкостями язык. Это не было открытием, но Тутриль радовался тому, что он ясно видит и улавливает эти тонкости и различия, те особенности, которые делают язык живым.
Обитатели одинокой яранги иногда спорили друг с другом, а то и надолго замолкали. В этом молчании часто было больше смысла, чем в многословии.
И еще одно уяснил себе Тутриль: чтобы осязать и чувствовать язык, надо постоянно находиться в окружении живой речи, в потоке движущихся слов. Чтобы быть моряком, надо плавать, а он…
Теперь он вознаграждал себя за долгие годы собственного языкового мелководья, смело опускался в самые глубины речевого моря, уверенный, что трое обитателей одинокой яранги всегда придут ему на помощь. Он и не предполагал, что обыкновенный разговор, сам процесс выговаривания слов, произнесения их, свободное владение ими может доставлять такое удовольствие. Иногда одно слово обладало такой выразительностью, что вызывало в воображении красочную картину или выражало состояние.
Вскоре весь блокнот был полностью исписан. Айнана предложила альбом для рисования. Рисунки заполняли одну сторону листа, а другая была чистая.
— Разве они тебе не нужны? — спросил Тутриль.
— Это черновики, — равнодушно ответила Айнана.
Прежде чем начать писать в альбоме, Тутриль перелистал его. Некоторые рисунки были и вправду набросками. Но за ними угадывалось нечто важное, значительное в своей невысказанности, та самая смысловая наполненность паузы, которая иной раз намного богаче и выразительнее многоречия.
С замиранием сердца Тутриль листал альбом, словно заглядывая в душу Айнаны.
Она часто рисовала деда и бабушку. Вот Токо, низко склонив голову, мастерит нарты. Тщательно выписаны руки, лицо и дальний берег моря, заваленный обломками льда… Эйвээмнэу выделывает нерпичью шкуру, распластав ее на широкой доске. Кэркэр бабушки низко опущен, и поверх меховой оторочки лежит ее грудь. Однако не было ничего натуралистичного в этом изображении. Рисунок излучал добро, тепло и свет большой и настоящей жизни, полной трудов и радостей, забот о детях, о муже…
Иногда на листе была нарисована яранга. То вблизи, то издали… Морские берега Нутэна, дальние острова. Птицы, песцы. Вертолет в воздухе. Собачья упряжка и девушка-каюр. Он искоса бросил взгляд на Айнану. Но она была занята делом — осторожно и сосредоточенно водила острым резцом по едва наведенному на моржовый клык рисунку.
Тутриль глубоко вздохнул, и этот вздох в тишине яранги показался неожиданно громким. Айнана подняла голову, вопросительно посмотрела на Тутриля, прислушалась и вдруг сказала:
— Ветер утих!
Токо глянул на неожиданно прояснившееся и посветлевшее дымовое отверстие и удивленно произнес:
— Так заработался, что и не заметил прихода хорошей погоды.
Он открыл дверь. На гладкой снежной стене отпечатались тонкие дощечки и ручка из куска моржовой кожи.
Совместными усилиями осторожно отгребли снег, пробили выход. Снаружи сияло солнце, и ничто не напоминало о том, что еще час тому назад бушевала пурга. Поверхность пологих сугробов матово сияла, глубокие тени таили стужу, но тепло от солнечных лучей явственно чувствовалось.
Тутриль махал легкой, но вместительной лопатой — китовой костью, насаженной на черенок, отбрасывая от дверей снег, и чувствовал, как ему хорошо вот так просто кидать свежий, еще не слежавшийся белый снег, двигаться, дышать холодным воздухом, вобравшим в себя всю свежесть тундровых и морских просторов. Рядом с ним работала Айнана, поглядывавшая на него с загадочной, чуть насмешливой улыбкой.
— Хорошо, — просто сказал Тутриль, втыкая лопату в снег.
— Я люблю, когда вот так неожиданно кончается пурга, — отозвалась Айнана. — И вообще люблю все неожиданное… А то ведь когда все знаешь наперед да еще долго ждешь, вся прелесть пропадает.
Тутриль слушал ее голос и чувствовал, как волна нежности не дает выхода словам. Да и говорить не хотелось… Хотелось подойти к Айнане, взять ее за руку, притянуть и прижать к себе.
— Когда я начинаю что-то новое рисовать, — продолжала Айнана, — я часто наперед и не знаю, что получится. Чувствую только настроение и желание рисовать.
— Мне очень понравились твои рисунки в альбоме, — сказал Тутриль.
— Это я так, — смутилась Айнана. — Пробовала, что может получиться. Я ведь по-настоящему-то рисованию не училась. В мастерской присматривалась да сама иногда упражнялась.
Аммана откинула капюшон и подставила лицо солнцу и легкому ветерку, похожему больше на ласковое дыхание усталого великана.
— А вон летит вертолет…
Звука еще не было слышно, но на ясном голубом небе, над далекими зубчатыми вершинами висела темная точка.
Вертолет быстро обрел свои очертания, довольно странные и уродливые для летательного аппарата.
— Долгое время я не могла привыкнуть к вертолету, — задумчиво произнесла Айнана. — А дедушка, когда впервые увидел, даже тихо сказал: что-то непонятное… А сейчас привыкли…
Вертолет низко пролетел над одинокой ярангой и унесся дальше к Нутэну, оставляя в леном небе легкий дымный след.
Айнана проводила его взглядом.
— Почта будет, новые журналы, газеты…
Из яранги вышел Токо и позвал Тутриля:
— К телефону требуют.
Тутриль вошел в чоттагин, темный от резкого перехода из яркого солнечного света, ощупью пробрался к пологу и взял холодную трубку.
Это был Гавриил Никандрович. Он спросил о самочувствии и поинтересовался, надо ли посылать за ним вездеход.
— Я сам приеду, — ответил Тутриль, — на собаках.
— Ну, воля ваша, — сказал Гавриил Никандрович. — Можно разок для интереса и на собаках прокатиться. В таком случае до завтра.
Тутриль положил трубку. На улице пела Айнана:
Высокое небо, Чистое небо… Ветер, идущий с теплой страны. Летите, птицы, вестники счастья, Несите на крыльях любовь и весну!Тутриль вышел из полутемного чоттагина на солнечный свет.
— Хотите пойти со мной за льдом? — спросила Айнана.
Она стащила с крыши нарту, приладила потяг и положила большой тяжелый топор.
— Пойдем к Красивому ручью, — сказала Айнана, — там лед самый вкусный.
До Красивого ручья надо было довольно долго подниматься но склону. Зато оставшийся отрезок пути Айнана с Тутрилем промчались на нарте, тормозя пятками по убитому недавней пургой снегу.
Ручей как тек, так и замерз в стремительных струях, застыв голубыми, припорошенными снегом прожилками. Айнана постучала топором, и лед отозвался звоном.
— Что-то вы стали грустный и тихий, — задумчиво произнесла Айнана. — Наверное, надоело вам в нашей яранге.
— Нет.
— Вспоминаете Ленинград?
Тутриль отрицательно мотнул головой.
Айнана пытливо посмотрела на него. Он сделал шаг к ней и, поскользнувшись на льду, крепко ухватился за ее камлейку.
Он целовал ее и думал об этой ранней весне с невероятно ярким солнцем, с мягким снегом, об этих удивительных девичьих губах: твердые, чуть шершавые, прохладные, чем-то напоминающие недозрелые ягоды морошки. Он отдавался неожиданно нахлынувшему чувству всем сердцем, всеми мыслями, всеми чувствами.
Айнана отвечала на поцелуи, и Тутриль чувствовал за твердостью чуть шершавых губ что-то новое, словно морошка дозрела, налилась, готовая брызнуть сладким соком…
Она колола лед и смотрела, как голубые осколки со звоном катились, подскакивая на замерзших струях, до самого низа, до морского берега.
Она подняла голову.
Солнце било ей в глаза, она прищурилась, и за опущенными ресницами чудилась бездонная черная глубина потаенной, непонятной души. И Тутриль оробел. Он ничего не сказал ей.
Айнана улыбнулась. Она подавала Тутрилю острые, тяжелые куски прозрачного льда, и тот относил их на нарту.
Обратная дорога с нагруженной нартой показалась легкой и быстрой, потому что все время шла под уклон. Тутриль с Айнаной сидели на острых ледяных обломках, слегка тормозя подошвами торбасов. Айнана громко пела свою любимую песню о весне…
— Откуда у тебя эта песня?
— Сама сочинила, — просто ответила Айнана, — поэтому она мне нравится. Это дед мне говорит: нехитро чужое приспособить к себе, а ты вот возьми и сделай свое… Вы бы поговорили с ним по душам, — посоветовала Айнана. — Мне кажется, что он к вам хорошо относится. Может, вам удастся на него повлиять…
— В каком смысле?
— Уговорить его переселиться обратно в Нутэн.
— Ничего не понимаю, — удивленно произнес Тутриль. — То вы все в один голос говорите, что вам хорошо в одинокой яранге, а теперь получается, что не совсем…
— Но вы же сами видите, что здесь трудно и ему, и бабушке, и мне.
Айнана уперлась пятками в снег и остановила нарту.
— Он уехал в ярангу, можно сказать, сгоряча, — Айнана повернулась к Тутрилю. — Как прослышал, что Нутэн хотят сселять в райцентр, расстроился. Стал всем говорить обидные слова. Что они не любят своей земли… Это и есть главная причина того, почему он уехал в ярангу. Ведь все равно считается, что живет в селе, вы видели — там домик у нас… Поговорите с ним, прошу вас.
Скатившись с холма, Тутриль и Айнана впряглись в нарту и подтащили ее к яранге.
Снаружи уже стоял Токо, поджидая их.
— Разговаривал по телефону, — сообщил он Тутрилю. — Просят завтра приехать, потому что почта для тебя есть. Отец твой говорил.
— Хорошо, — ответил Тутриль. — Завтра меня Айнана отвезет на собаках.
— И то верно, — кивнул Токо, — все равно ей в село надо. За продуктами и за свежими газетами и журналами…
После позднего обеда Тутриль исподволь заговорил о жизни, о том, что человек нуждается в разных удобствах: они облегчают жизнь и оставляют время для более важных дел.
Токо внимательно его слушал и прятал усмешку в редкие с желтой проседью усы.
— Где-то давно я читал, — сказал старик, внимательно выслушав туманные рассуждения Тутриля, — что один из русских царей, разузнав из отчетов экспедиции о том, что на Чукотке холодно и нет пригодной для хлеба и овощей земли, повелел своей царской властью переселить чукчей в теплые, более благоприятные края…
— Разговор не об этом, — возразил Тутриль, набираясь смелости под ободряющим взглядом Айнаны. — Речь идет о том, чтобы мелкие селения, где нет возможности развивать хозяйство, где нет возможности строить хорошие, со всеми удобствами дома, сселить на хорошие места, где есть предприятия, где можно ставить большие каменные здания…
— Помнишь Наукан? — перебил Тутриля Токо. — Трудное это было для жизни место. Но люди жили. Уговорили их переселиться. И не стало науканского народа. Только песни остались. А большой радости нет. Все, что ты говоришь, — верно. Однако еще вернее то, что тот человек достоин уважения, кто на своем месте строит хорошую жизнь, а не скачет с места на место. Я тоже за то, чтобы у всех была хорошая, удобная жизнь. Но на том месте, где живешь. Почему прошлые поколения находили дело для своих рук, а нынче вроде бы работы не хватает? Какой работы? Об этом надо подумать. Одно для меня ясно — когда уйдем со своей земли, потеряем свое лицо…
В рассуждениях Токо Тутриль чувствовал убежденность.
— Я тут поживу, — продолжал Токо, — подумаю. Пройдет время, вернусь в Нутэн и снова буду жить в своем домике. Слов нет, там удобнее, хотя, чего-то все равно не хватает…
Слушая Токо, Тутриль время от времени поглядывал на Айнану.
Она ловила каждое слово деда.
Перед вечерним чаепитием Айнана и Тутриль покормили собак.
Тишина накрыла тундру и морское ледовое побережье.
На еще светлом небе горели неяркие весенние звезды, а над дальними горами угадывалось солнце.
Айнана и Тутриль долго сидели на прогретых за день камнях, придерживающих покрышку из моржовой кожи, и молчали. Не хотелось нарушать тишину весенней ночи.
— Вы вернетесь обратно? — тихо спросила Айнана.
— Обязательно, — ответил Тутриль. — Возьму новые батарейки для магнитофона… Если, конечно, ты не против…
В ответ Айнана только вздохнула.
Осторожно вошли в затихшую ярангу. Серые сумерки смешались с пеплом догоревшего костра.
Тутриль разделся в чоттагине и нырнул в прохладный пушистый полог. Не зажигая света, он забрался под меховое одеяло и замер в ожидании, пока тепло собственного тела нагреет постель, одеяло и весь полог.
Он был уже в полудреме, как вдруг почувствовал, что передняя стенка полога чуть приподнялась и внутрь скользнула Айнана. Улегшись рядом и уняв прерывистое, взволнованное дыхание, она прошептала:
— Я боюсь, что ты не вернешься… Поэтому я пришла.
19
Едва Тутриль вошел в родительский домик, как Кымынэ подала ему пачку писем. Все они были от Лены. Тутриль удивился: жена никогда не отличалась любовью к писанию писем. Разложив их по почтовым штемпелям в хронологическом порядке, Тутриль принялся читать.
«Дорогой мой!
Пишу тебе буквально вслед за тобой: никогда еще ты так надолго не уезжал от меня. И знаешь, у меня даже появилась ревность к твоей Чукотке. Пока ты только говорил о ней и вспоминал ее, все было как-то понятно и естественно. Но вот ты уехал, и с первого же дня меня не покидает тревожное чувство. Я вспоминаю каждый день, прожитый с тобой, с того самого утра, когда мы с тобой встретились. Помнишь, вы двое, с другом, подошли к университету, спросили что-то у швейцара, а потом пошли прочь по набережной. Я подошла к вам и предложила помощь… Я тогда сразу же обратила на тебя внимание. Почувствовала какое-то тепло в груди. Ты же знаешь, как я была одинока. После того как все мои родные погибли, казалось, никогда у меня не будет близкого и родного человека. Но вот появился ты. Видимо, люди не замечают своего счастья, пока не лишаются его. Вот так и случилось со мной. Как мне тоскливо и холодно без тебя!..»
Дальше Лена сообщала институтские новости, но часто ровное течение ее письма нарушалось неожиданным взрывом, лирическими отступлениями. Тутриль не знал жену такой — она всегда была сдержанна, даже несколько замкнута. А тут… Может, в этом виновата болезнь сердца, отголосок давней военной беды?
Тутриль со вздохом положил последнее письмо. Кымынэ остро глянула на него и спросила:
— Что с ней?
— Ничего.
— Скучает? Тутриль молча кивнул.
— Вот, — наставительно произнесла Кымынэ. — Надо было ее взять с собой.
— Трудно ей летать, — сказал Тутриль.
— Ничего, — махнула рукой Кымынэ, — сейчас летать не страшно.
Время до вечера прошло незаметно. Вернулся с охоты Онно, усталый и счастливый, с добычей. Кымынэ проделала все, что полагалось: «напоила» убитых нерп водой и осторожно втащила их в кухню, на разостланную на полу яркую клеенку.
Разделав добычу, Кымынэ подала сыну давнее детское лакомство — нерпичьи глаза. Тутриль ел, односложно отвечая отцу, погруженный в свои мысли. Заметив стопку писем, отец понимающе замолчал.
Тутриль походил по комнате, увидел телефон, поднял трубку, и звонкий девичий голос ответил:
— Алло!
— Скажите, можно переговорить с Ленинградом?
В трубке что-то зашуршало, и Тутрилю пришлось немного подождать, прежде чем он услышал:
— Можно, но надо заранее заказать… Будете заказывать?
Поколебавшись, Тутриль ответил:
— Нет, пока не надо.
На душе было как-то зябко.
Он стал одеваться. Кымынэ удивленно подняла на него глаза:
— Ты куда?
— Пройдусь немножко перед сном.
— Верно, иди погуляй, — ласково сказал отец.
Но не успел Тутриль дойти до двери, как резко зазвонил телефон.
Мать взяла трубку, послушала и удивленно произнесла:
— Тебя, Тутриль.
Тутриль удивился не меньше матери, услышав в трубке голос Айнаны.
— Ты откуда, говоришь? — спросил он.
— Из яранги, — ответила Айнана. — Девчата с почты соединили. Они могут вас и с Ленинградом соединить.
— Знаю…
— Вы на меня не сердитесь?
— Нет.
— Когда я вас довезла до Нутэна, потом вернулась сюда, мне так захотелось снова услышать ваш голос… Правда, не сердитесь на меня?
— Нет, я очень рад тебя слышать.
— А я хочу вас увидеть…
Слышимость была такая, что Тутриль чувствовал взволнованное дыхание Айнаны.
— Может быть, я еще раз приеду…
Онно и Кымынэ посмотрели друг на друга.
Тутриль закончил разговор и, осторожно положив трубку, вышел из домика.
Он прошел по улице, машинально здороваясь со встречными, и спустился к морскому берегу. Торосы уходили вдаль, и оттуда ему вдруг почудился голос дяди Токо:
«Энмэн: Пошел охотник искать во льдах нерпу. Шел он, шел по торосам, по замерзшим разводьям и вдруг видит — лежит во льду возле лунки большая нерпа…»
Надышавшись ледяного морского воздуха, Тутриль медленно побрел обратно.
Отец с матерью еще не ложились.
— Знаешь, — сказал Онно сыну, — завтра к тебе придет рассказывать сказки Роптын. Он тоже много знает. А потом — он все же был учителем. Я тебя прошу — встреть его поласковее.
Рано утром, проводив отца на охоту, Тутриль уселся за стол.
Роптын вошел в комнату важный и торжественный, словно в давние годы на свой первый урок.
Садясь напротив за стол, он не преминул сказать:
— Будто ты стал маленьким мальчишкой, а я помолодел!
Кымынэ поставила чай, вазочку с мелко наколотым сахаром и удалилась на кухню, где на полу она кроила шкуры для зимней кухлянки.
Отхлебнув из чашки, Роптын спросил, кивнув на магнитофон:
— Машинка готова?
— Готова.
— Тогда слушай. Энмэн: Приходит Ворон к Богу и говорит: «Товарищ начальник…»
— Как говорит? — переспросил Тутриль.
— Товарищ начальник, — повторил Роптын. — А как же еще? Ведь Ворон — лицо, так сказать, подчиненное, а Бог для него — вышестоящий орган, начальство. Что Бог скажет — то для Ворона директива, указание…
Тутриль едва сдерживал смех, но ему не хотелось обижать старого человека.
Однако Роптын заметил улыбку и предложил:
— Если эта сказка тебе не нравится, могу другую рассказать.
— Не надо, — отказался Тутриль.
Он вздохнул, и Роптын сочувственно посмотрел на него.
— Не умею я сказки рассказывать, — с сожалением признался он. — Много их знаю, а вот другому рассказать, чтобы было интересно, — не дано мне этого.
Роптын оделся и ушел.
После него приходил Элюч, въедливый старик, служащий пожарным инспектором. Те сказки, которые он рассказал, давно были известны, и сообщались они таким бесцветным и деловым языком, будто это письменный отчет. Зато Элюча очень заинтересовал портативный кассетный магнитофон, и он даже спросил, не может ли Тутриль уступить эту вещь за сходную цену перед отъездом.
— Я бы записывал на него разных должностных лиц, — мечтательно проговорил Элюч. — А то ведь черт знает чего наговорят, наобещают, а потом начисто забывают все. А на домах нет ни лопат, ни багров, ни пожарных ведер. Разве это порядок? А? Ты скажи, Тутриль? Ведь огонь — страшное зло на севере!
Элюч говорил на редкость гладко, и Тутриль понял, что он наизусть пересказывает содержание инструкции по пожарной охране в селах Чукотки.
Приходили еще два-три человека, но все это было не то. Тутриль все больше убеждался, что ему надо снова ехать в ярангу…
Как-то утром, не дождавшись очередного сказочника, Тутриль спросил у матери:
— Как позвонить Конопу?
— Он испортился, — коротко ответила Кымынэ.
— Телефон?
— Коноп.
— Что с ним?
— Запил.
Тутриль оделся и вышел из домика.
Последняя пурга намела большие сугробы в Нутэне. Над снегом торчали крыши низеньких старых домишек. Возле школы ребятишки катались с высокого снежного надува. Когда Тутриль проходил мимо, ребятишки притихли и что-то зашептали вслед.
Гараж можно было найти лишь по торчащей трубе. Сбоку в снегу была прорыта ведущая к дверям глубокая траншея. Тутриль остановился в удивлении: из гаража доносилась музыка — кто-то бил в бубен и пел старинные чукотские плясовые песни.
Потянув на себя тяжелую, обитую облезлыми оленьими шкурами дверь, Тутриль вошел в гараж.
Яркая лампочка горела под потолком. Длинная лампа дневного света прочерчивала стену. Музыка гремела из включенного на полную мощность проигрывателя. Посередине гаража, в пространстве между трактором и вездеходом, Коноп задумчиво танцевал.
Он быстро глянул на Тутриля, выключил проигрыватель и спросил:
— Ехать надо?
Коноп действительно выглядел расстроенным.
— Если надо ехать, то придется подождать, — грустно сказал он, — У меня поломка. Виноват я, конечно, нехорошо, но так получилось…
Коноп беспомощно развел руками.
Он подошел к шкафчику и достал оттуда бутылку.
— Хотите?
— Нет, — ответил Тутриль.
— И я уже больше не хочу, — вздохнул Коноп. — Экимыл… Точно названа.
Он сел. Напротив него — Тутриль.
— Скажи, как быть мне?
— Прежде всего надо протрезветь, — ответил Тутриль.
— Это я знаю, — Коноп махнул рукой. — Раз я сюда пришел, значит, дело пошло на поправку. Вот ты мне скажи: можно ли полюбить плохого человека?
Тутриль пожал плечами.
— Вот я и думаю… Это не любовь, если плохой человек. Это другое. Но тогда что это такое? Вот ты, ученый человек, можешь мне растолковать?.. Не можешь. Научная загадка. Разум говорит: да плюнь ты на все. Я не могу. Всякое у меня было, а это первый раз…
Коноп включил электрический чайник, заварил покрепче чай.
— А может, всего этого не надо? — спросил он совсем другим голосом.
— Чего? — переспросил Тутриль.
— Переживаний, — пояснил Коноп. — Жить, как жили наш предки… Наши отцы и матери.
— Думаешь, у них не было этого? — с сомнением сказал Тутриль.
— Коо. По наружности не скажешь. Или умели скрывать свои чувства.
Коноп пристально посмотрел на Тутриля.
— У тебя тоже что-то случилось?
Тутриль молчал.
— Тогда надо ехать, — просто сказал Коноп и добавил в кружку с крепким чаем сгущенного молока.
— Попей этого, — предложил он. — Очень ободряет.
Хлопнула входная дверь, и в гараже появился Гавриил Никандрович.
Лицо его было хмуро и озабоченно. Он искоса глянул на дымящиеся кружки и как-то неопределенно произнес:
— Чай пьете… Налей и мне.
Некоторое время все трое молча пили чай, усердно и шумно дуя на горячую жидкость.
— Тутрилю ехать надо, — сказал Коноп, ставя кружку на стол.
— А сможешь?
Гавриил Никандрович испытующе посмотрел на него.
— Гавриил Никандрович! Ну с кем не бывает!
Он встал и отошел к вездеходу.
— В ярангу поедете? — спросил Гавриил Никандрович.
— Да, — ответил Тутриль и зачем-то добавил: — Мне надо кое-что записать на магнитофон, уточнить. Интересная статья вырисовывается.
— Понимаю, — кивнул Гавриил Никандрович. — А ему надо в дальнюю охотничью избушку, кое-что забрать. По пути и вас забросит…
— Вы не сердитесь на Конопа, — попросил Тутриль.
— Ведь золото парень! Вот я иногда думаю: может, и хорошо, что он дальше-то и не учится? Вы меня поймите правильно, я не против образования. Но Коноп именно такой и должен быть, какой он теперь. Наверное, для каждого человека природа определила свой предел, при котором он может быть самим собой… Вот, понимаете, есть такие, вроде бы образованные, люди, которые даже учат других, но эта образованность у них вроде какого-то уродливого нароста. Этот нарост они выставляют напоказ, не понимая, что этим они свое исконное, человеческое заслоняют… Ведь главное — это быть человеком! И ценен человек именно своей человечностью… Вы уж извините меня, Иван Оннович, что я так разболтался…
— Что вы! — горячо возразил Тутриль. — Я давно хотел с вами поговорить. И о Токо…
— Токо — мужик трудный, — неопределенно произнес Гавриил Никандрович. — Я его уважаю. Вот он как рассуждает: если мы веками находили пропитание в этих местах, то почему сегодня мы не можем жить здесь?
— Вы думаете, он не прав? — спросил Тутриль.
— Со своей точки зрения он прав, — ответил Гавриил Никандрович, — а с точки зрения государственной…
— Он ведь тоже, так сказать, частичка государства…
— Он так думает, а вот другие за то, чтобы жить на современном уровне, — сказал Гавриил Никандрович.
— За веревочку! — с усмешкой сказал Тутриль.
— А вы не смейтесь, — серьезно возразил Гавриил Никандрович. — Если хотите, то эта пресловутая веревочка может решить многое. Вы никогда не интересовались, почему у сельских жителей часто застужены внутренние органы? Извините за грубость, но если раньше житель яранги обходился ачульхеном в тепле, то теперь он должен в любую погоду отправляться в промерзшую, насквозь продуваемую будочку, которая частенько бывает по крышу занесена снегам!
— Товарищ начальник! — по-военному доложил Коноп. — Машина готова!
— А водитель?
— И водитель, — улыбнувшись, ответил Коноп.
Тутриль пошел собирать вещи.
Отец уже вернулся с охоты.
— А я думал, что ты пойдешь со мной в море, — сказал отец, наблюдая, как сын укладывается.
— Еще успею, — стараясь не глядеть на него, ответил Тутриль.
— Сейчас в море нерпы много, — продолжал Онно. — Пока обратно шел, попадались прямо на льду. Лежат и загорают. Близко подпускают… Письма-то возьмешь с собой?
— Я их уже прочитал.
— Может, нерпятины свежей попробуешь?
— Вездеход ждет.
Мать все же положила в полиэтиленовый мешочек несколько кусков свежего мяса.
— В яранге сварите, — сказала она и спросила: — Надолго едешь?
— Точно не знаю, — ответил Тутриль. — Работу надо сделать.
Он боялся поднять глаза на отца и мать, чувствуя и вину, и стыд… Но уже ничего не мог поделать с собой.
С чувством огромного облегчения Тутриль услышал шум подъехавшего вездехода.
Ныряя в неровностях снежной тундры, вездеход шел, торя новую дорогу после пурги. Коноп, крепко вцепившись в рычаги, смотрел вперед, стараясь угадать под сугробами старую колею. Он повернулся к Тутрилю и сказал:
— Смотрю, кто-то нам навстречу едет.
Собачья упряжка приближалась, и вскоре можно было догадаться, кто сидит на нарте. Коноп притормозил и сказал Тутрилю:
— Думаю, что дальше она тебя повезет.
Тутриль спрыгнул с вездехода, Коноп подал ему вещи — дорожный мешок, магнитофон, — лихо развернул вездеход и, взметывая гусеницами снег, умчался.
Айнана остановила упряжку, сошла с нарты и подошла к Тутрилю.
— Ну здравствуй, — сказал Тутриль и шагнул ей навстречу.
— Вы, наверное, очень рассердились на меня?.. — тихо сказала Айнана. — Наверное, это очень дурно, да?
— Айнана… — хрипло ответил Тутриль.
20
Токо и Эйвээмнэу сидели у скудного костерика, ожидая, пока закипит чайник. Они не разговаривали, однако хорошо понимали друг друга.
Токо улавливал осуждающие мысли жены и мысленно же возражал ей. Оттого, что слова не произносились вслух, они были убедительны, и Токо радовался тому, что одерживал верх в безмолвном споре с женой.
«Такое не судят со стороны. Тем более если это настоящее, редкое и светлое. Никто в этом не разберется, кроме них самих. Я, может быть, раньше всех заметил в самом зародыше этот росточек. В улыбке Айнаны, в едва уловимом изменении ее голоса. И начал тихо радоваться, потому что всю жизнь привык встречать улыбкой все доброе и хорошее. Верно, у Тутриля жена в Ленинграде. Но когда расцветает подснежник, думают о его сегодняшней красоте, а не о том, что пройдет лето и цветок увянет. Когда рождается ребенок, восклицают: „Да здравствует жизнь!“, а не говорят: „Придет время, и он умрет“…»
Эйвээмнэу быстро подняла глаза.
«Да, все, что ты говоришь, правда. Но речь идет совсем о другом. Погляди, в каком смятении Айнана. Она места себе не находит. Раньше времени, среди ночи возвратилась из Нутэна, поспала часа два и умчалась в тундру. Может быть, ей нужна помощь, душевный разговор, совет старшего?»
«А ты вспомни, — Токо скользнул взглядом по лицу жены, — ты вспомни, кто нам давал советы? Сами до всего доходили, и, честно говоря, если бы кто-нибудь имел намерение поучать нас, я бы ему показал, как совать нос не в свое дело. Оттого и счастливы были, что все было наше, все было внове. И открытие, пусть давно принадлежащее всему миру, было для нас открытием нового мира. Я не хочу осуждать. Пусть судит сама жизнь, которая и родила это удивительное чувство, и не надо было нарекать его именем, потому что ни одно даже самое великое и громкое слово не может объять его, вместить в себя суть, вобрать все краски и выразить глубину. Оно везде — вне и внутри нас…»
— Нарта едет, — тихо произнесла Эйвээмнэу, и Токо поначалу не понял, подумала она так про себя или вслух сказала, пока она не крикнула ему в ухо: — Нарта!
Токо выскочил наружу, успев прихватить бинокль.
Собаки были уже в поле зрения. Нарта приближалась к одинокой яранге, нарушая скрипом полозьев подмороженную вечерним заморозком ломкую тишину.
Смешанное чувство охватило старика. Да, он знал, что трепетная птица не любит, когда ее пугают, нежный росток будущего цветка требует затаенного дыхания, но что из всего этого вырастет, куда полетит птица?
Нарта остановилась у яранги, и первым сошел Тутриль. Он выгрузил свои вещи, и старик понял, что он надолго.
— Амын етти! — приветствовал его Токо. — Снова к нам?
— Работу надо закончить, — деловито ответил Тутриль. — Будем записывать сказки и легенды.
— Хорошее дело, — заметил старик.
Эйвээмнэу уже успела согреть чайник и натолкла в каменной ступе нерпичьей печенки, на которую сразу же накинулся проголодавшийся Тутриль.
Маленький полог, предназначенный для гостя, уже был снят и свернут, и это царапнуло его сердце. Едва уловимое, но вместе с тем подчеркнутое желание старика и старухи показать, что все остается по-прежнему, доказывало, что они догадались обо всем.
Надо бы уехать, но Тутриль уже не был властен над собой, и иная сила руководила его поступками.
Он оглядел ярангу и спросил:
— Менять покрышку в этом году будете?
— Нет, — после некоторого раздумья ответил Токо, — и нужды в этом большой не будет: намереваемся пожить в селе.
За поздним обедом и за вечерним чаепитием разговор все шел о весне и изменчивой погоде.
Ночью Тутриль проснулся, почувствовав рядом Айнану.
— Как хорошо, что вы снова приехали! — шептала она сквозь слезы.
21
Иногда среди дня за стенами яранги слышался мягкий шорох, будто белый медведь проводил широкой лапой по насту, — это оседал подтаявший на весеннем солнце снег.
По вечерам, когда Тутриль закатывал рукава перед умыванием, он видел резкую границу между светлой кожей, защищенной одеждой, и почерневшей на солнце.
Несколько раз на вездеходе приезжал Коноп и привозил почту для Тутриля, газеты и журналы для обитателей одинокой яранги. Раз, передавая письма, он сказал Тутрилю:
— Твои, наверное, соскучились…
— Да вот закончу работу — вернусь, — торопливо, пряча глаза, ответил Тутриль.
Он понимал, что надо побыть с родителями, но все откладывал, а тут Айнана собралась к отдаленным капканам, и Тутриль обещал пойти с ней.
Все письма от Лены были похожи: жалобы на одиночество. После этих писем Тутриля мучили угрызения совести. В дни прихода почты Айнана замыкалась в себе.
А весна брала свое: снег таял, на южных склонах холмов появились первые проталинки, и льдины казались облитыми глазурью. Весеннее настроение проникло повсюду, выветривая из яранги студеный воздух долгой темной зимы.
Каждый день над одинокой ярангой пролетал вертолет. А за ним летели птицы, прокладывая путь на далекие арктические острова, где их ждала пробуждающаяся родина, остывшие за зиму гнездовья.
В один из таких дней, когда был не просто ясный, солнечный, а какой-то восторженный день, вдали показался вездеход. Услышав его шум, все обитатели одинокой яранги вышли встречать машину.
Первой, неуклюже цепляясь за железные скобы, вышла из кабины Кымынэ. Тутриль бросился помогать ей.
— Етти, — удивленно поздоровался он с матерью. Следом вылез Онно, а потом показался малахай Гавриила Никандровича.
Коноп стоял чуть в стороне и выразительно посматривал на Тутриля.
— Кыкэ вай! Какие неожиданные и хорошие гости! Скорее идите в ярангу! — Из яранги с приветственными причитаниями выбежала Эйвээмнэу.
Онно, захватив довольно объемистый мешок, последовал за хозяйкой.
Гавриил Никандрович и Коноп потащили картонный ящик.
— Сегодня у нашего сына день рождения, — объяснил свой неожиданный приезд Онно. — Не принято было в старину отмечать этот день, но нынче повелось так. Это хороший обычай.
— И верно! — поддакнул Токо, явно смущенный приездом Кымынэ и Онно.
Казавшаяся до этого просторной, яранга стала тесной. Из чоттагина изгнали собак, благо на улице было тепло и тихо. Токо принес ворох оленьих шкур, настелил на земляной пол. Эйвээмнэу на помощь костру зажгла примус, принялась толочь мороженое мясо.
Коноп и Тутриль составили два столика, покрыли их старыми газетами, а поверх — яркой клеенкой с изображением всяческих яств. Гавриил Никандрович принялся строгать мороженую нельму, Кымынэ открыла консервы, и вскоре на столе было такое изобилие, что перед ним померкли нарисованные на клеенке арбузы и виноград.
— Что же ты мне не сказал, что у тебя сегодня день рождения? — упрекнула Айнана.
— Честное слово, забыл, — ответил растерявшийся Тутриль.
Он никогда, как, впрочем, и родители, не придавал этому дню большого значения. Но Онно, видимо, нужен был предлог, чтобы приехать сюда.
Отец держал себя ровно, спокойно, только почему-то очень пристально разглядывал внутренность яранги, будто попал в это жилище впервые.
Токо, пряча усмешку, наблюдал за ним.
— Ну как? — спросил он, когда Онно потянулся за горящей щепкой из костра, чтобы прикурить.
— Что — как?
— Яранга, — Токо взял из руки Онно щепку и раскурил свою трубку.
— Огнем поменялись, — вдруг улыбнулся Онно, вспомнив старый обычай.
Обменяться горящим огнем означало многое: забыть старые распри, установить мир, начать жить в согласии.
— Нынче все старые обычаи… — Токо неопределенно махнул рукой. — Бывает, идут по священному и даже не задумываются.
— А что священно? — спросил Онно. — Уж не это ли? Он сделал широкий жест рукой, как бы обнимая чоттагин.
Тутриль старался быть поближе к матери, всячески ей помогал, а она удивленно и смущенно говорила:
— Да что ты, я сама…
Наконец все уселись за пиршественный стол.
По привычке Гавриил Никандрович первым поднял кружку с вином:
— Дорогие друзья! Мы сегодня отмечаем день рождения нашего земляка Ивана Онновича Тутриля. Мы решили торжественно отпраздновать этот день, потому что он пришелся на время пребывания нашего друга на родине, в кругу его близких, родных, друзей…
— И еще, — встрял Коноп, — это происходит в яранге, в жилище, в котором Тутриль появился на свет.
— Конечно, это тоже важно, но не в этом суть, — возразил Гавриил Никандрович, продолжая свой тост. — Появление всякого человека — это чудо и самое величественное событие не только в его собственной жизни. Ведь появляется не только новый человек, а возникает целый новый мир…
Когда было выпито вино и съедена закуска, мужчины вышли на улицу покурить.
Онно зашагал в сторону моря, сделав знак Тутрилю следовать за собой.
От огромного ледового простора еще веяло зимней стужей, но под ногами уже чувствовалась галька.
Остановившись перед торосами, Онно пошарил в кармане и вынул конверт.
— Письмо? — спросил Тутриль.
— Не тебе, а нам письмо, — сказал Онно. — Лена нам написала. Вот тут для тебя вложена открытка с поздравлением ко дню рождения.
В открытке были обычные слова поздравления, пожелания здоровья…
— Ну и что же она вам пишет? — как можно спокойнее спросил Тутриль.
— Пишет, что скучает по тебе… Послушай, сын… — Я не хочу тебя ни в чем упрекать. Однако некоторые люди уже начинают посмеиваться, говорят: это что же за научный такой труд — сидеть возле молоденькой женщины?
Тутриль сделал протестующий жест, но Онно властно остановил его:
— Не оправдывайся и ничего не говори! Не позднее послезавтрашнего дня — в Нутэн!
— Но ведь я не закончил…
— Закончишь дома! — строго прервал отец. — Запомни, не позднее послезавтрашнего дня…
— Я люблю ее…
— Любовь не должка причинять страдания другим, — ответил Онно. — Настоящий мужчина всегда должен об этом помнить.
— Подожди…
Онно остановился.
— Я люблю Айнану…
— А Лену?..
— И Лену люблю, — ответил Тутриль, помолчав.
— Значит, двоих любишь? — с усмешкой спросил Онно. — Впервые такое слышу.
— А разве так не бывает?
— Почему не бывает? Бывает. Только это называется по-другому, — жестко сказал Онно. — Будет так, как я тебе сказал. Через два дня.
Тутриль ничего не ответил.
В чоттагине уже начинали пить чай.
Тутриль сел в сторонке и молча принялся за чай, ловя на себе испытующие взгляды Айнаны.
Она взглядом спрашивала Тутриля, но он ничего не мог сказать ей: рядом с ним сидела Кымынэ и что-то говорила и говорила. И Тутриль лишь улавливал обрывки ее слов:
— Я для Лены сшила новые торбаса. Повезешь ей… Пусть носит в Ленинграде. Я сделала высокие подошвы, можно и в сырую погоду их надевать… Ты все-таки почаще пиши ей. Она тебя любит и беспокоится…
Покончив с чаем, гости засобирались.
Попрощавшись, они уехали в синие сумерки весеннего долгого вечера по окрепшему насту.
22
Тутриль и Айнана шли по весенней тундре, руша ногами подтаявшие сугробы, скользя по обнажениям ледового покрова речушек, а то и просто тундровых лужиц и бочажков, всю зиму покрытых толстым слоем льда и освобождающихся нынче под горячими лучами весеннего солнца.
Видно было далеко кругом, и с вершины холма просматривалась такая даль, что дух захватывало. В этой огромной чистоте и тишине само собой куда-то ушло все неприятное, точившее душу, щемящее сердце. Словно все внутри расправилось, разгладилось, и хотелось просто идти и идти, растворяясь в этой чистой тишине, в прозрачном свете.
Айнана напевала песенку, легко шагая впереди Тутриля:
Высокое небо, Чистое небо… Ветер, идущий с теплой страны. Летите, птицы, вестники счастья, Несите на крыльях любовь и весну!Птичьи стаи летели на север.
На проталинах сидели евражки и пристально смотрели идущим вслед.
Часа через два Айнана остановилась и весело сказала:
— Будем чаевать.
Тутриль вынул из нерпичьего заплечного мешка большой термос, кружки, галеты и сахар.
Расположились на пригретом солнцем сухом пригорке, обращенном на южную сторону.
Прихлебывая еще горячий чай, Айнана смотрела на тундровую сторону и мечтательно говорила:
— В такую погоду хочется идти, не останавливаясь, вперед и вперед. Иногда сама пугаюсь — что это? Но ноги сами идут, а сердце рвется, торопит… Иногда даже бегу, спотыкаюсь, падаю, встаю и снова бегу… Наверное, это какая-нибудь весенняя болезнь? Да?
— Может быть, — осторожно согласился Тутриль, чувствуя, что сегодня и у него такое же настроение. Ему хотелось уйти как можно дальше от одинокой яранги, от Нутэна, от всего, что могло помешать ему быть вместе с Айнаной.
— Как хорошо здесь! — вздохнула Айнана. — Правда, лучше, чем в весеннем лесу или в поле? Тут так все чисто, светло и высоко. Будто самого тебя нет, а есть только то, что вокруг… Как жаль, что не все люди знают настоящую красоту тундры. Показать бы им все это…
— Тогда все приедут сюда, потопчут цветы, натаскают пустых бутылок, консервных банок, а может, даже и пожар устроят… — с горькой усмешкой сказал Тутриль. — Ты не представляешь, что делается вокруг больших городов. Вот, кажется, ты попал в девственный лес, и вдруг что-то звякнуло под ногами — а это пустая бутылка из-под водки. Однажды я шел по лесу недалеко от Зеленогорска, под Ленинградом. Зашел далеко, даже испугался, что могу заблудиться, а вышел на поляну, гляжу — несколько машин «скорой помощи» стоят. Сначала подумал: несчастье какое. А потом спросил у шофера — оказалось, работники «скорой помощи» выехали за грибами…
Айнана улыбнулась в ответ.
— Это что, — сказала она. — Вот в Анадыре я сама видела, как под видом санитарного рейса летали охотиться на гусей… Да и сейчас, наверное, в Канчаланской тундре гремят выстрелы. Мне один тамошний пастух рассказывал, что там делается во время гусиного перелета. Десанты на парашютах спускают! Вездеходы, вертолеты, самолеты. Прямо как военные маневры. И так каждый год! Несмотря на запреты, ограничения, постановления…
— Так что скоро и до этих мест доберутся, — заключил Тутриль.
— Неужели ничего нельзя сделать? Но как может человек уничтожать такую красоту? Он же сюда должен входить с трепетом души, с чистым сердцем… Наверное, так входят в храмы, да?
— Не знаю, как входят в храмы, — с сомнением покачал головой Тутриль.
— Но в Ленинграде же есть действующие церкви?
— Есть, но я там никогда не бывал, — сам удивляясь этому, ответил Тутриль.
— Странно, — задумчиво произнесла Айнана. — А я бы пошла, хоть и комсомолка. Это так интересно. Ведь не все верят в бога. Большинство, наверное, хотели просто поразмышлять, подумать… А я где-то читала про природу: как храм… Наверное, это хорошо…
Напившись чаю и налюбовавшись на пробуждающуюся природу, Тутриль и Айнана отправились дальше.
— Успеем вернуться к вечеру? — спросил Тутриль.
— Мы дойдем до последних капканов только к закату, — сказала Айнана. — Оттуда — в охотничью избушку, там переночуем, а завтра поутру двинемся обратно. Так хорошо, давайте не будем торопиться.
— Хорошо, не будем, — весело согласился Тутриль, радуясь возможности подольше побыть наедине с Айнаной.
По подтаявшему склоку они спустились в долину реки Вээм. Синий, набухший водой лед обнажался, и уже кое-где поверх бежала талая снежная вода.
Во всей этой весенней ясности и чистоте было только одно маленькое облачко, омрачавшее настроение Тутриля: приказ отца не позже завтрашнего дня возвратиться в Нутэн. Конечно, можно взбунтоваться и пренебречь отцовским приказом — человек он взрослый и самостоятельный, полностью отвечающий за свои поступки. Но вчера, когда отец тихим и твердым голосом сказал: не позже послезавтрашнего дня, — Тутриль вспомнил себя маленьким мальчишкой. Онно не был многословен и, по обычаю чукотских родителей, не баловал своего единственного сына. Скорее он держал его в строгости и довольно жестоко воспитывал. Поутру Тутриль часто просыпался от удара пучка засохших оленьих жил по мягкому месту. Не успев открыть глаза, он выскакивал в чоттагин и, не разбирая дороги, наступая на спящих собак, скользя по льдинкам псиной мочи, выбегал наружу, чтобы обозреть горизонт, запомнить облачность, направление ветра, блеск звезд. Тело охватывал мороз, словно клещами, ноги жгло, и, чтобы согреть их, Тутриль старался попадать теплой струей на ступни. По часам это было что-то около пяти утра. После скудного завтрака Онно отправлялся в ледовое море, но Тутрилю уже не полагалось ложиться спать. В эти тихие утренние часы под еле слышимую материнскую песню он готовил уроки, читал книги.
Чаще всего отец возвращался уже в зимних сумерках, под отблеском звезд и полярного сияния. К этому времени Тутриль привозил лед с речки, готовил корм для собак, убирая снег вокруг яранги. Все это время не полагалось входить в полог, и было только два места, где можно было согреться, — школа или полярная станция.
Онно почти не интересовался школьными успехами сына, но Тутриль заметил, как он втайне гордился, слыша от учителей похвальные слова о нем.
Тутриль никогда не сомневался в том, что отец хоть и строг, но справедлив к нему. Но теперь… Может быть, это тот случай, когда Тутриль сам разберется, без посторонней помощи?
— Я давно не проверяла дальние капканы, — призналась Айнана, — с тех пор, как вы приехали. Боялась почему-то далеко уезжать… Наверное, их там позанесло снегом.
— А если добыча?
— Добычу волки и росомахи давно поели, — усмехнулась Айнана.
Голос Айнаны заглушал собственные тягостные размышления, и он, оглядевшись вокруг слегка прищуренными от солнечного блеска глазами, вернулся к состоянию удивительной легкости, к ощущению свободы.
Несколько раз путники останавливались передохнуть. После полудня устроили большой привал и даже разожгли костер, набрав сухих щепок на обнажившейся из-под снега галечной косе. В основном это были просоленные куски древесной коры. Они горели слабым синим пламенем, и дым от них был горький, возвращающий в детство, в яранги, весеннюю оттепель, когда через косу летят утки.
— А ведь скоро утки должны полететь, — сказал Тутриль.
— Около двадцатого мая, — отозвалась Айнана. Она резала острым охотничьим ножом кусок вареного нерпичьего мяса.
— Чаю бы попить…
Айнана посмотрела на Тутриля.
— В избушке почаюем.
Она встала, прошла к снежной низине, потоптала ногами и из ямки набрала чистой холодной снеговой воды.
Тутриль пил студеную до ломоты в зубах воду и через край кружки смотрел на Айнану, чувствуя, как снова растет у него в душе мягкое, большое облако нежности.
Далеко позади осталось место привала. Тихо скрипел под ногами подтаявший снег.
Взобравшись на пригорок, Айнана перекинула бинокль вперед и достала его из футляра.
Пока она обозревала окрестности, Тутриль сидел на снегу. Хотелось пить, но он знал, что есть снег — только разжигать огонь и усиливать сухость во рту. Он с вожделением смотрел на низину, где под голубоватым от отраженного неба снегом угадывалась талая, холодная вода.
— Что-то там есть, — сказала Айнана, отнимая от глаз бинокль. — Кто-то копошится. Похоже, росомаха.
Она ходко пошла вперед, и Тутриль едва поспевал за ней, стараясь не отставать.
Теперь и Тутрилю было хорошо видно, как росомаха возилась у капканов.
Он напряг силы и поравнялся с Айнаной.
— По-моему, она попала в капкан, — торопливо сказал Тутриль. В его голосе чувствовалось волнение азарта. — Вот тебе и подарок будет от меня. Ты знаешь, если уж говорить о ценности меха, то самый лучший — это росомахи. Теплый, прочный, на морозе не индевеет… Сошьешь зимнюю шапку, и еще на воротник останется.
Однако росомаха, увидев приблизившихся людей, отбежала от капкана и обглоданного тюленьего костяка — приманки.
— Ах ты подлая! — выругался Тутриль и торопливо вытащил из чехла мелкокалиберную винтовку.
Он встал на одно колено, прицелился и выстрелил. Росомаха отбежала еще на несколько шагов и остановилась, как бы дразня людей.
Тутриль погрозил в ее сторону кулаком. В одном капкане лежал почти целый песец, а в другом виднелись только клочья шерсти.
Айнана вытащила капканы, очистила их от снега.
Исследовав остатки песца, она коротко сказала:
— Пригодится.
Росомаха стояла на дальнем торосе, на морской стороне, и продолжала следить за людьми.
По морскому торосистому льду было идти гораздо труднее, чем по тундровому снегу. То и дело преследователи проваливались в мягкий, подтаявший снег, под которым хлюпала вода. Быстро намокли торбаса, набухли влагой.
Тутриль несколько раз останавливался и стрелял в зверя, но росомаха стояла далеко, а прерывистое дыхание не позволяло хорошо прицелиться.
Пока перебирались через гряду торосов, потеряли зверя из виду, и Айнана устало сказала:
— Ну ее, росомаху! Обойдусь без шапки и воротника!
Тутриль поднял на нее разгоряченное, блестевшее от пота лицо и удивленно произнес:
— Как же так? Да мы ее запросто догоним! Вон ее следы. Пойдем по ним. Она от нас далеко не уйдет.
Тутриль это сказал так, что у Айнаны не осталось никаких сомнений: он будет преследовать зверя до конца.
Она уныло поплелась за Тутрилем. Улучив минутку, напилась досыта снежной воды, припав разгоряченными губами к лужице.
— Зря ты это делаешь, — сказал Тутриль. — Так будет труднее идти.
Он оказался прав. Уже через несколько минут Айнана почувствовала, что задыхается. Вода булькала и переливалась в пустом желудке, и она с раздражением слышала ее шум.
Тутриль шел не останавливаясь, изредка отрывая взгляд от следа и обозревая возвышающиеся торосы.
— Росомаха дойдет до воды и повернет обратно, — со знанием дела сказал Тутриль.
— Тогда, может быть, не будем торопиться? — предложила Айнана. — Раз она все равно повернет?
— А может, она другим путем будет возвращаться? — возразил Тутриль. — Главное — не упустить след.
Айнана поняла, что спорить с охваченным азартом Тутрилем нет смысла, и, стиснув зубы, собрав силы, побежала следом за ним, карабкаясь через торосы, хлюпая мокрыми торбасами по сырому подтаявшему снегу.
Она мысленно ругала росомаху и кляла себя за то, что не решается прекратить погоню: это значило бы уронить себя в глазах Тутриля.
Айнана задыхалась, ловила широко открытым ртом воздух. Сердце колотилось под самым подбородком, словно желало выскочить наружу, на вольный воздух.
Тутриль несся легко, будто для него не существовало неровностей морского льда. Айнане порой казалось, что он перелетает через торосы и ропаки.
Перебираясь через высокий, сглаженный солнечными лучами край тороса, Айнана поскользнулась и упала к его подножию, оцарапав лицо острыми кристаллами фирнового снега.
Она очнулась, почувствовав, как что-то сладкое и холодное льется ей в рот. Она открыла глаза и увидела близко над собой глаза Тутриля — широко раскрытые, встревоженные, полные ласки: он поил ее чаем из термоса.
— Что с тобой? Тебе плохо?
— Нет, теперь мне хорошо, — прошептала Айнана и снова закрыла глаза.
Понемногу сознание прояснилось, возвратились силы, и через несколько минут, к великой радости Тутриля, Айнана уже могла поднять голову, сесть и внятно говорить.
— Ну, где росомаха? — со слабой улыбкой спросила она.
— Ушла, — сокрушенно вздохнул Тутриль. — Так мне хотелось тебе сделать подарок. Чтобы ты помнила меня…
— Я и так буду вас помнить, — сказала Айнана. — Всю жизнь…
Она сняла оленьи рукавицы и теплыми ладонями потерла щеки Тутриля.
— Всегда буду вас помнить, — шептала она. — Наверное, так и должно было случиться в моей жизни… Ведь правда? Пусть что угодно думают и говорят другие, а я знаю: больше такого счастья у меня никогда не будет. У человека в жизни, наверное, должна быть такая вершина: поднялся на нее и все увидел. Потом уже ничего не страшно… Я точно знаю — такого больше не будет. Так бывает только один раз.
23
Токо медленно строгал на верстаке заготовку для полоза. Тонкая стружка с легким шелестом падала к его ногам и словно оживала, шевелясь под усиливающимся ветром. Солнце уже давно перешло береговую черту и висело над морскими льдами, медленно, словно нехотя, снижаясь над горизонтом. По часам приближалась полночь, но ни Айнаны, ни Тутриля еще не было. Тревожиться, в общем-то, нечего — Айнана в тундре не растеряется, да еще в такую погоду… И Тутриль не мальчишка. Когда хорошо вдвоем, спешить некуда.
Токо вздохнул и перестал строгать.
Он взял бинокль и принялся обозревать горизонт. Сильно подтаяла тундра. Однако, глядя на морскую сторону, не скажешь, что уже весна, если не приглядишься и не заметишь посиневший и отяжелевший снег, пропитанный талой водой.
Нехороший этот ветерок. Он дует с юга и может превратиться в неистовый весенний ураган, который отрывает береговой припай и открывает свободную воду.
В яранге возилась Эйвээмнэу, давая знать мужу, что не ложится спать и ждет. Она гремела посудой, почему-то ходила за водой к береговой снежнице, усердно выбивала постели на снегу.
Токо еще раз глянул на солнце, осмотрел в бинокль окрестности и, убрав инструмент, вошел в ярангу.
На часах было уже около одиннадцати.
— Не вернулись? — сказала Эйвээмнэу.
— Не успели, — ответил Токо. — Дорога плохая, снег мокрый, идти трудно.
— На собаках бы поехали…
Токо посмотрел на жену и терпеливо объяснил:
— Полозья менять надо на нарте, деревянные на железные…
Будто она не знает, почему Айнана не поехала на собаках. Лишь бы поговорить.
Токо медленно разделся и улегся в постель, высунув, по обыкновению, голову в чоттагин. Он курил и думал, что именно чоттагина ему и не хватает, когда он живет в домике. Как хорошо перед сном выкурить последнюю трубку на студеном свежем воздухе, освежить усталую голову и заснуть просветленным и отдохнувшим.
Порыв ветра рванул моржовую покрышку яранги, и Токо лицом ощутил снежинки.
— Пурга! — испуганно произнес он.
Торопливо одевшись, Токо выскочил наружу. Ветер нес густую, казалось, непроницаемую стену тяжелого мокрого снега. Он больно хлестал по лицу, пригибал к земле. Токо торопливо снимал с вешал песцовые и нерпичьи шкурки. Побросав все это в чоттагин, он кинулся убирать распяленную на снегу лахтачью кожу. Его чуть не унесло ветром вместе с кожей, которая, как парус, тянула в море.
Токо уже подумывал выпустить из рук гремящую кожу, как вдруг почувствовал облегчение и увидел рядом Эйвээмнэу.
Вдвоем все, что могло быть унесено ветром, они убрали в чоттагин, втащили собак и тщательно закрыли дверь. Прислушиваясь к шуму ветра, он обозрел кожаную покрышку и, заметив почти невидимые дырочки, заделал их специальными тонкими палочками.
Забравшись в полог, он высунул голову в чоттагин и закурил.
— Как там Тутриль и Айнана? — тревожно спросила Эйвээмнэу.
— Сидят в избушке, радуются…
— Чему радоваться в такую непогодь?
— Что одни остались.
Токо отвечал жене, а в сердце заползала тревога: а если они не успели добраться до избушки? Весенняя пурга коварная, она налетает неожиданно и может застигнуть вдали от жилища. Правда, можно схорониться в снежной норе. Но это день-два: без пищи и питья трудновато.
Токо ворочался, кряхтел, чувствовал, что и жена не спит, однако не показывает виду.
Токо мысленно проходил путь, по которому пошли Айнана и Тутриль. Сначала вдоль берега моря. Потом надо пересечь лагуну и снова выйти на берег, где была положена выброшенная осенними штормами приманка — протухшая туша лахтака. Недалеко оттуда, в четырех часах хода, — охотничья избушка. От избушки ближе к Нутэну, чем к одинокой яранге. А вдруг они решили пойти в село? Сидят там в домике и чай пьют, а тут волнуйся за них…
Кряхтя, Токо осторожно выполз из полога.
— Ты куда? — насторожилась Эйвээмнэу.
— Спи, спи, — успокоил ее старик. — Рацию надо включить.
— Ты что? — Эйвээмнэу пристально поглядела на старика. — На ночь-то зачем тебе радио?
— Может, они к Нутэну пошли, — раздраженно ответил Токо. — А потом, ты знаешь, в пургу полагается держать радио включенным — мало ли что…
Токо поставил радио у изголовья, так, чтобы можно было легко дотянуться до телефонной трубки, вполз обратно в полог и неожиданно для себя быстро и крепко заснул.
24
В тот же день, перед вечером, в Нутэн пришел вертолет.
Никто не ожидал гостей, приезда районного начальства не намечалось, и поэтому на вертолетную площадку отправился, таща за собой пустую нарту, только начальник сельской почты Ранау.
Выждав, пока лопасти остановятся, он поближе подтащил нарту к дверце, чтобы сподручней было грузить мешки с почтой, и был страшно удавлен, увидев перед собой молодую женщину со смущенной и растерянной улыбкой.
— Здравствуйте! — приветливо произнесла женщина и спрыгнула на снег.
— Етти! — ответил Ранау.
Женщина поздоровалась и заметила:
— А я знаю, что такое — етти!
Из вертолетного чрева появился летчик и объяснил Ранау:
— Елена Петровна, жена Тутриля…
Ранау снова уставился на женщину, потом вдруг круто повернулся и побежал, размахивая руками и крича:
— Онно! Кымынэ! К вам гость!
Летчик крикнул вслед почтарю:
— Эй, Ранау! А почту кто получит? Нам ведь обратно улетать, погода портится.
Ранау остановился, вернулся и виновато сказал Елене Петровне:
— Хотел обрадовать стариков. Но ничего, все равно я первым принесу им новость…
— Почему стариков? А где Тутриль?
— Тутриль в яранге, — ответил Ранау.
— В какой яранге?
— Фольклор собирает, — с трудом выговорив слово, сообщил Ранау. — Да вы не беспокойтесь, это совсем близко отсюда. На вездеходе часа полтора.
Летчики вместе с почтой вынесли чемоданчик Елены Петровны и положили на нарту.
Лена попрощалась с летчиками, поблагодарила их.
Ранау впрягся в нарту и оттащил ее от вертолета, который уже раскручивал лопасти.
Искоса поглядывая на спутницу, Ранау отмечал про себя, что Тутриль выбрал себе хорошую, можно даже с уверенностью сказать — красивую жену.
Лена шла рядом с Ранау, жадными глазами вглядываясь в утонувшие в снегу домики. Подальше стояло несколько двухэтажных зданий.
Ветер, неожиданно холодный, заставлял отворачивать лицо, и Ранау заметил:
— Однако пурга будет…
— Пурга? — отозвалась Лена. — Вот интересно! Я много читала и слышала про чукотскую пургу… А тут летела — везде отличная погода. Вы представляете — от Москвы до Нутэна я летела всего четырнадцать часов! Говорят, что это рекорд.
— Почему рекорд? — заметил Ранау. — Нынче быстро стали летать. По почте заметно. Иногда мы «Правду» получаем на следующий день, а бывало, месяцами не видели свежих газет.
Возле домика, стоящего на отшибе, Ранау остановился и сказал:
— Тут живут Онно.
Он постучал в дверь и торжественно сказал выглянувшей Кымынэ:
— Вот твоя невестка приехала. Жена Тутриля.
Кымынэ не могла поверить глазам. Но это была она, правда немного не такая, как на фотографии, но точно она — Лена Тутриль.
— Кыкэ! — тихо воскликнула по-чукотски Кымынэ и добавила по-русски: — Ой! Да что вы стоите, заходите!
Лена видела, как растерялась Кымынэ, и, стараясь не смущать ее, весело сказала:
— Да вы не беспокойтесь!
— Как же так? — причитала Кымынэ, вводя за руку Лену в домик. — Ни Тутриля нет, нет и Онно…
— Я уже знаю, Тутриль в яранге работает, — сказала Лена. — Да вы не беспокойтесь!
— Сейчас чайник поставлю… Наверное, вы устали? Мой русский язык плохой…
— Ничего не надо. — Лена сняла пальто, села на стул, с любопытством оглядывая просто обставленную комнату. На полу она заметила лоскутки шерсти, острый ножик, нитки и иголки.
Заметив ее взгляд, Кымынэ собрала свое шитье и виновато произнесла:
— Не успела прибраться…
Кымынэ суетилась, бралась то за одно, то за другое. Кое-как ей все же удалось собрать на стол, помочь Лене умыться. Перед чаепитием невестка открыла чемодан и достала большую красивую коробку с конфетами.
— Это вам.
— Ой, большое спасибо, — засмущалась Кымынэ.
Она налила чай, уселась напротив и принялась разглядывать Лену.
Мимо дома прогрохотал вездеход, и Кымынэ вскочила со стула, бросив гостье:
— Подождите!
Вездеход умчался к гаражу, поднимая снежную пургу за собой. Кымынэ вернулась в дом и взялась за телефон.
— О, у вас даже телефон есть! — с удивлением заметила Лена.
— Есть, — почему-то тихо ответила Кымынэ и набрала номер гаража.
Услышав голос Конопа, Кымынэ торопливо заговорила по-чукотски:
— Алло! Слушай, что случилось! Нет, никакого несчастья нет, наоборот даже: приехала жена Тутриля… Она самая. Сидит у меня и чай пьет. Но нет ни Тутриля, ни Онно. Не знаю, как быть. Пришли, пожалуйста, Долину Андреевну, пусть поможет…
— Интересно, а в Ленинград можно позвонить отсюда? — спросила Лена.
— Наверное, можно… В четыре можно вызвать ярангу и поговорить с Тутрилем, — сказала Кымынэ.
— Правда? — обрадованно спросила Лена.
— А что тут такого — каждый день разговариваем.
Лена попросила налить еще и сказала:
— А мне тут нравится…
Кымынэ опять засмущалась:
— Да у нас ничего такого… Мебель хорошую не везут… А вообще, снабжение хорошее. Раз по ошибке завезли автомобиль «москвич». Предлагали Онно, как лучшему охотнику и ветерану, но мы подумали и отказались — куда поедешь на нем…
Припорошенные снегом, в комнату вошли Коноп и Долина Андреевна.
— Вот какая жена у Тутриля! — удовлетворенно заметил Коноп и получил толчок в бок от Долины Андреевны. — Приветствуем на родине вашего мужа, так сказать… Вот пурга началась, а многие охотники не вернулись…
— Это опасно? — встревоженно спросила Лена.
— Ерунда! — махнул рукой Коноп. — Ничего страшного, унесет в море — и дело с концом!
_ Что ты говоришь, Коноп! — Долина Андреевна поторопилась успокоить гостью. — Это он шутит…
— Да вы садитесь, — пригласила всех за стол Кымынэ. — А ты, Коноп, сбегал бы в магазин, попросил бы ради такого случая бутылку шампанского…
— Да у меня есть! — обрадованно сказала Лена. — Бутылка сухого вина. Давайте откроем!
— Давайте! — с готовностью отозвался Коноп. — Где она?
Лена достала бутылку из чемодана и подала Конопу. Тот поглядел на этикетку и заметил:
— Двенадцать градусов всего…
Долина Андреевна, всегда такая самоуверенная и громкоголосая, на этот раз держалась как-то странно тихо и робко. Коноп не узнавал ее и потихоньку радовался тому, что она не делает замечаний и не учит всех, как и что надо делать.
Зазвонил телефон. Кымынэ взяла трубку, послушала и с сияющим лицом сообщила:
— Гавриил Никандрович звонил. Возвращаются охотники. Видели Онно уже под скалами. Двух нерп тащит, поэтому медленно движется.
Лева старалась держаться непринужденно, но это не получалось у нее. Может быть, потому, что чувствовала настороженное к себе отношение. Пока один лишь Коноп был ясен и понятен. Он разговаривал с Леной безо всякой хитрости, расспрашивал ее о Ленинграде, шутил и пил вино.
— Мы ведь с Тутрилем в одном классе учились. За одной партой сидели. Скажу честно, особенной учености он не проявлял. Иногда списывал у меня…
— Коноп!
Коноп даже не обернулся на возглас Долины Андреевны и продолжал как ни в чем не бывало:
— Списывал. Задачи по арифметике ему трудно давались… А я у него русский списывал. Взаимопомощь у нас с детства была налажена, как у настоящих друзей..
Кымынэ взяла старенький жестяной ковшик, зачерпнула из ведра воды со льдинкой, пригладила руками волосы и виновато сказала:
— Выйду встречать охотника.
— А можно мне? — спросила Лена.
Секунду поколебавшись, Кымынэ ответила:
— Конечно, можно… Вы ведь член нашей семьи…
Охотник подтащил убитых нерп к самому порогу, молча, исподлобья глянул на Лену, и что-то мелькнуло в его лице. Лена понимала, что она сейчас должна стоять тихо и ничего не говорить. Тутриль часто вспоминал этот обряд, и теперь он совершался на ее глазах.
Кымынэ подождала, пока Онно снял с себя упряжь, потом облила водой нерпичьи морды, а остаток вместе со звеневшей льдинкой подала мужу. Охотник медленно, со вкусом выпил воды, а льдинку сильным взмахом выплеснул в сторону скрытого пургой моря.
— Ну, а теперь здравствуй, — сказал Онно Лене, будто знал, что она приедет, и ждал ее.
Нерп втащили в домик и положили на разостланную клеенку оттаивать.
Онно выбил снег из одежды и вошел в комнату.
— Какомэй, сколько гостей! — удивился он.
— Иди садись за стол, — позвал его Коноп, — я тут оставил тебе немного вина. Сухое называется, но пить можно… На материке все умные люди перешли на него.
— С чего бы это? — спросил Онно.
— Вот Лена говорит, беседовать под это вино хорошо, и пользу организму приносит.
Онно отпил вина из стакана, поморщился:
— Ничего. На квас похоже.
Разговор за столом почему-то не клеился. Необычно молчаливая Долина Андреевна вдруг заторопилась домой, но в это время пришел Гавриил Никандрович. Он тепло поздоровался с Леной и сказал:
— Я только что звонил в ярангу…
— Ну и что? Тутриль вернулся?
— Не вернулись они, — ответил Гавриил Никандрович. — В дальнюю охотничью избушку ушли. Видно, там будут пережидать пургу.
Он оглядел комнату и позвал Онно в кухню:
— Куда же вы ее положите?
— На диван, куда же еще?
— В одной комнате с вами?
— Не на кухню же.
— Не знаю, не знаю… Понравится ли ей?
— Уж если она вышла замуж за моего сына, нравится или не нравится ей у нас, пусть терпит, сама выбирала! — сердито ответил Онно.
Он, как и Кымынэ, тоже чувствовал неловкость, стесненность, и это его раздражало. Черт знает, как надо держать себя при тангитанской невестке? Куда проще было бы, если бы женой сына была чукчанка.
— Может, поместить в дом приезжих? — осторожно предложил Гавриил Никандрович.
— Да ты что? От живых родственников? Нет, так дело не пойдет! — сердито ответил Онно.
Когда мужчины вернулись в комнату, Долина Андреевна по-прежнему молчала и сердито посматривала на Конопа, который, несмотря на слабость вина, был очень оживлен и красен.
— Товарищ Коноп, — неожиданно томным и слабым голосом попросила она, — не проводите ли меня домой?
Коноп на полуслове оборвал разговор с Леной, удивленно поглядел на свою тайную подругу и послушно встал, произнеся со вздохом:
— Ну что же, пошли…
После их ухода Кымынэ засуетилась, готовясь к разделке добычи.
— Давайте я вам помогу, — предложила Лена.
— Да что вы, — махнула рукой Кымынэ, — запачкаетесь…
— Ну и что? — весело ответила Лена. — Мне так хочется все попробовать — и нерпу разделать тоже… Мне Тутриль много рассказывал, и сейчас у меня такое чувство, будто я вернулась домой после долгого отсутствия, будто я уже тут давным-давно жила…
Онно внимательно и настороженно слушал эти слова, и на душе у него становилось легче.
Женщины ушли на кухню.
— Завтра, если пурга не усилится, можно послать Конопа к дальней избушке, — сказал Гавриил Никандрович.
— Не надо, — строго произнес Онно. — Завтра Тутриль сам придет. Он мне обещал.
— В такую пургу? — усомнился Гавриил Никандрович.
— Должен прийти, — уже с оттенком сомнения произнес Онно.
25
Давно был потерян след росомахи, и Айнана с Тутрилем брели наугад, стараясь держаться направления на берег. Обоих тревожила одна и та же мысль: лишь бы не оторвало лед. И еще — мокрые торбаса. Несмотря на талый снег, хлюпающую воду, торбаса почему-то смерзались, сжимая ноги в тесные, будто железные колодки. Идти становилось все мучительнее.
Тутриль остановился под защитой большого тороса и сказал спутнице:
— Посушим торбаса.
— Как? — удивилась Айнана, втайне радуясь, что удастся передохнуть.
— Как в детстве меня учил дядя Токо, — сказал Тутриль и сел прямо на снег. Он, видно, тоже устал и некоторое время сидел закрыв глаза. Снег таял на его лице, стекал по щекам, по подбородку, и было такое впечатление, что он плачет. Айнана испугалась и крикнула:
— Тутриль!
Он открыл глаза и улыбнулся ободряющей улыбкой:
— Ничего, сейчас будет все в порядке. Разувайся.
Пока Айнана негнущимися, замерзающими пальцами пыталась развязать разбухшие, сырые завязки, покрывшиеся к тому же льдом, Тутриль сгребал снег. Потом сам снял торбаса и чижи. Он изо всех сил колотил обувь по снегу. Наконец Айнана стянула и свои торбаса и последовала примеру Тутриля.
— Если бы мороз был покрепче! — сквозь ветер прокричал Тутриль. — Снег мокрый, плохо сушит мех.
И все же, после того как чижи и торбаса были обработаны снегом, они, к удивлению Айнаны, оказались гораздо суше. Во всяком случае, они не были такими мокрыми, хотя и чувствовалась сырость.
— Ну, а теперь пошли, — решительно сказал Тутриль.
— Посидим немножко, — умоляюще произнесла Айнана.
— На берегу отдохнем, — обещал Тутриль. — Оторвет на льдине, что будем делать?
— Спасут, — уверенно ответила Айнана. — На вертолете снимут, а потом в газетах напечатают.
— Нет уж, этого не надо — ни вертолета, ни газет, — серьезно сказал Тутриль. — Пошли!
Айнана с едва сдерживаемым стоном поднялась на ноги и поплелась следом за Тутрилем, который, низко пригнувшись, прокладывал путь сквозь пургу.
Айнана смотрела на его согнутую спину, скрытую белой камлейкой, видела, как он едва удерживается на ногах, борясь с порывами ветра, и стыд разгорался в ней. Она догнала Тутриля.
— Теперь я пойду вперед!
— Ты же дороги не знаешь.
— А будто вы знаете?
— Нет уж, идем, как шли.
Айнана только дивилась, откуда у ее спутника такие силы, и едва поспевала за ним. Самое неприятное было то, что приходилось идти против ветра. Летящий снег больно хлестал по лицу, выжимал слезы и не давал возможности как следует разглядывать дорогу. Путники часто падали, спотыкаясь о мелкие льдинки, обломки торосов.
Внезапно Тутриль заметил трещину прямо перед собой. Сначала он не понял, что это такое, но тут его сзади схватила Айнана и закричала:
— Вода!
Трещина была еще неширокая. Видимо, лед только что оторвался. Зеленая темная вода была удивительно спокойна и действовала как-то завораживающе.
— Скорее! Скорее прыгайте! — кричала Айнана.
Повинуясь ее крику, Тутриль перемахнул через расширяющуюся на глазах трещину и оказался на другом ледовом берегу.
— А ты что стоишь? — крикнул он Айнане.
Через секунду Айнана была рядом.
— Я хотела, чтобы вы первым прыгнули, — объяснила она свою медлительность. — Пошли скорее. Может быть, это не последняя трещина.
И снова — в путь через пургу, через хлещущий ветер.
Эту гряду торосов преодолевали особенно долго. Она отняла последние силы, и, перекатившись на другую сторону, Тутриль в бессилии повалился на снег. Рядом упала Айнана. Она тяжело дышала, и лицо ее горело от ударов тысяч сырых, острых снежинок.
— Сколько же времени мы идем? — переведя дыхание, спросила она.
Тутриль зацепил рукавицей край рукава, посмотрел на часы.
— Половина пятого утра… Берег уже должен быть близко. Пойдем.
— Давайте немного отдохнем? — взмолилась Айнана.
— А если опять трещина?
Айнана ничего не ответила. Как мучительно подняться на ноги и сделать шаг!
Теперь Тутриль и Айнана шли рядом, поддерживая друг друга. Они ложились грудью на упругий ветер, отвоевывая пространство у пурги.
Вдруг Айнана схватила Тутриля сзади и закричала:
— Вода!
Трещина была такая же примерно, как и первая. Но она, видно, только что возникла и увеличивалась прямо на глазах.
Тутриль, не задумываясь, перемахнул через нее и оглянулся. На другой стороне стояла Айнана и с ужасом смотрела на расширяющуюся трещину.
— Скорее! Скорее прыгай! — закричал ей Тутриль.
Но трещина уже была такая, что Айнане ее ни за что не перепрыгнуть. Правда, она отошла назад, разбежалась, но остановилась у самой воды.
— Скорее! Прыгай! — в отчаянии кричал Тутриль.
Ветер трепал матерчатую камлейку Айнаны, ворошил меховую опушку капюшона, а она стояла неподвижная, словно застыв от мороза. Она неотрывно смотрела, словно заколдованная, на черную, тяжелую, холодную воду.
Он отошел назад, чтобы взять разбег.
— Не надо! Не прыгайте! — услышал он крик Айнаны.
Но было уже поздно. Он упал в воду, у края трещины, но успел ухватиться руками за лед. Айнана подбежала и начала вытаскивать его. Ей трудно было тащить намокшее тяжелое тело. Она кричала, плакала, что-то говорила, а Тутриль молча, обдирая пальцы в кровь, подтягивался все выше и выше, пока не вылез окончательно из густой, ледяной воды.
26
Дверь чуть не вырвало у него из рук — такой силы был ветер, но Токо все-таки выбрался из яранги, прополз вокруг и увидел над собой небо — пурга была низовая, именно такая, какая бывает весной. Снегу уже почти не было — один ветер бесновался, рыская повсюду в поисках остатков снежного покрова.
Судя по цвету неба над морем, припай оторвало и открытая вода вплотную подступила к берегу. Кончится пурга — надо будет собираться в Нутэн, сворачивать ярангу, паковать вещи. Летом начинается совместная охота: одному не добыть моржа, не загарпунить кита. Да и, честно говоря, устал он от зимней жизни в яранге. Отвык, что ли? Он с затаенным удовольствием думал, как будет сидеть у окна в просторной комнате и смотреть на море. Если перейти к другому окну — видна лагуна и утиные стаи, пересекающие косу, на которой расположился Нутэн. Нет ничего приятнее, как ожидание возвращающихся вельботов тихим летним вечером. Белые суда показываются из-за мыса и медленно приближаются к селению. На берег спускаются встречающие, все охвачены волнением и радостным ожиданием.
Прижимаясь к земле и кое-где ползком, Токо обошел ярангу и возвратился в чоттагин, довольный осмотром жилища.
Эйвээмнэу разожгла костер, но пламя было тревожное и металось под закопченным дном чайника.
— Плохо, — отдышавшись, сказал Токо. — Ветер сильный.
— Каково там нашим ребятам в избушке, — вздохнула Эйвээмнэу.
— В избушке хорошо, — ответил Токо. — Продукты есть, угля хватит.
После утреннего чаепития Токо услышал гудение зуммера и взял трубку.
Он услышал знакомый голос Гавриила Никандровича. Директор совхоза поинтересовался самочувствием.
— У меня все хорошо! — бодро ответил Токо. — Все системы работают нормально.
— У нас тоже все в порядке, — сказал Гавриил Никандрович. — Есть намерение вездеходом добраться до вас, а оттуда к охотничьей избушке. Снегу сейчас не так много, думаю, что Коноп не заблудится…
— А куда спешить? — возразил Токо. — Ребята сидят в избушке. Продуктов и топлива у них на две недели хватит. Зачем зря гонять вездеход, да еще в такую погоду?
— Понимаете, тут такое дело, — Гавриил Никандрович несколько раз кашлянул в трубку, — жена Тутриля приехала.
Токо отнял от уха черную телефонную трубку, поглядел на нее, скова приложил и спросил:
— Как же она ухитрилась из такой дали, из Ленинграда, да еще в пургу?
— Вчера последним вертолетом прибыла.
— Раз такое дело — пусть Коноп едет к избушке.
— Ну добре, тогда ждите гостей.
Токо положил телефонную трубку и сказал старухе:
— Тутриля жена прилетела из Ленинграда.
— Кыкэ вынэ! — всплеснула руками Эйвээмнэу. — Что же теперь будет?
— На вездеходе Коноп поедет в избушку, — тихим голосом сообщил Токо. — Готовь одежду, поеду с ними проводником.
Вездеход прибыл к одинокой яранге после полудня. Рядом с водителем сидела одетая в камлейку светлая женщина. Эйвээмнэу узнала камлейку Кымынэ и догадалась, что это и есть жена Тутриля.
Еще издали в проблесках пурги Лена увидела ярангу, и странное, щемящее чувство охватило ее. В этом древнем жилище, стоящем одиноко в огромном открытом просторе, было что-то беззащитное, слабое и жалкое. Ей, привыкшей к большим городам, к бесконечным рядам огромных каменных зданий, было странно представить себе людей, находивших убежище в этом хрупком на вид сооружении из звериных шкур и тонких деревянных жердей.
Лена вспомнила рассказы Тутриля о детстве, в которых сквозила тоска по яранге, по меховому пологу…
Люди вошли в чоттагин, и, по неизменному чукотскому обычаю, Эйвээмнэу предложила им чай.
Мужчины принялись обсуждать предстоящий путь к охотничьей избушке. Они о чем-то горячо спорили по-чукотски, а Эйвээмнэу молча и ласково улыбалась непривычной гостье. Сначала Лена подумала, что старушка по-русски не говорит, но вдруг услышала ласковое, тихое:
— Кушайте, кушайте.
— Спасибо, — ответила Лена и еще раз оглядела древнее чукотское жилище.
Так вот в какой обстановке родился и вырос ее муж. Значит, не зря в нем было что-то не до конца понятное, словно скрытое под толстым слоем снега. За стенами свистал и бесновался ветер, и Лена удивлялась, как не уносит ярангу в море. Она чувствовала усилия, с которыми яранга сопротивлялась буре, и тут поняла, почему чукотский человек так крепко связан с ярангой: она для него не только жилище, а существенная часть его самого.
Гавриил Никандрович обратился к Лене:
— Для вас лучше будет, если вы останетесь в яранге и здесь подождете. Дорога трудная, тряская, душу из вас вымотает.
Откровенно говоря, езда в вездеходе Лене не понравилась: ее укачало, и она с радостью согласилась обождать в яранге.
— Вы не беспокойтесь, — добавил Онно, как всегда сдержанный и немногословный, — тут вам будет хорошо. Эйвээмнэу — хорошая хозяйка, она о вас позаботится.
— Да вы обо мне не тревожьтесь! — заверила его Лена. — Мне тут очень нравится!
Онно ревнивым взглядом окинул ярангу, но вслух ничего не сказал и вышел вслед за другими.
Эйвээмнэу плотно закрыла дверь, заткнула пучком травы щель, чтобы в чоттагин не летел снег, и вернулась к пологу, где у низкого столика сидела Лена.
Какое-то время сквозь пургу было слышно урчание вездехода, но потом оно постепенно растворилось в удивительно однообразном и усыпляющем грохоте бури.
Эйвээмнэу прислушалась, улыбнулась Лене и сказала:
— Уехали.
— А долго они пробудут в дороге?
— Не знаю, — просто и спокойно ответила Эйвээмнэу.
Она вползла в полог и вернулась оттуда с приемником. Включила его, поймала какую-то душещипательную мелодию и поставила приемник на длинное изголовье, представляющее собой обыкновенное обтесанное бревно.
— Японская музыка, — сказала Эйвээмнэу.
Музыка лилась тихо и чисто, словно станция была рядом. Лена подумала, что оно так и есть — отсюда до Японии в несколько раз ближе, чем до Москвы и до Ленинграда. В стремительном полете, протекавшем без всяких приключений, она и не почувствовала этих десяти с лишним тысяч километров, которые отделяли Чукотку от Ленинграда.
— Вечером послушаем утренние московские известия, — сказала Эйвээмнэу, прибирая в чоттагине.
Она вполголоса ругала сонных, развалившихся в ленивой истоме собак, отпихивала их ногами и пучком утиных крылышек сметала сор.
Эйвээмнэу была одета в традиционный кэркэр — женский меховой комбинезон. Один рукав болтался сбоку, и правая рука была обнажена до плеча.
Она изредка поглядывала на гостью и соображала, чем же ее покормить в обед. Придется варить русский суп, за который она давно не бралась. Хорошо, есть свежая оленина, бульон будет вкусный. А на второе можно поджарить нерпичью печенку, благо сковородка есть. Третьим блюдом будет персиковый компот…
— Если вы хотите отдохнуть, можете раздеться и лечь в пологе. Есть книги и журналы — можно почитать, — предложила Эйвээмнэу.
Сонливость напомнила о десятичасовой разнице во времени, и Лена с благодарностью приняла предложение Эйвээмнэу. А кроме того, ей любопытно было побывать в пологе, о котором она так много слышала от мужа.
— Хотите — в большой полог можете лечь, а то вот сюда — здесь Тутриль спал.
— Можно туда, где Тутриль спал? — спросила Лена.
— Можно, — закивала Эйвээмнэу, — тут его вещи остались, магнитофон и разные бумаги.
С некоторым волнением Лена вползла в полог. Внутри было темно. Эйвээмнэу чиркнула спичкой и зажгла свечу. Пламя осветило меховую внутренность помещения величиной с половину вагонного купе. В углу лежал магнитофон и аккуратно сложенная стопка полевых дневников.
Лена взяла блокнот и стала читать. Слова были чукотские, непонятные, но почерк был знакомый, словно затаивший чуть глуховатый, с едва заметным акцентом голос Тутриля. Лежали журналы и газеты… Это было какое-то удивительное сочетание седой древности и современности. В научном журнале Лена читала о яранге как о жилище человека позднего неолита… И вот теперь она находилась в том давно пережитом цивилизованным человечеством окружении, словно возвращенная фантастической машиной времени в прошлое…
Она сняла с себя верхнюю одежду и осталась в спортивном костюме. Улегшись на оленью постель, Лена высунула голову в чоттагин.
— Хорошо? — спросила Эйвээмнэу.
— Очень хорошо.
— И Тутрилю нравится тут, — сказала Эйвээмнэу. — Как приехал в Нутэн, так сразу сюда перебрался жить. Говорит, надоело в тангитанском жилище, хочется в своем исконном.
— А вы тоже по этой причине живете здесь? — спросила Лена.
— И по этой тоже, — кивнула Эйвээмнэу. — Когда надоест в яранге, переберемся в Нутэн. Там у нас свой дом есть, рядом с вашим…
— А что тут делал Тутриль? — спросила Лена.
— Много писал, записывал легенды и всякую мудрость, — охотно принялась рассказывать старуха. — Очень нам понравился магнитофон. Я раньше слышала о нем, но когда мой голос отделился и сам по себе зажил — жутко стало…
Лена улыбнулась в ответ.
Несмотря на несмолкаемый грохот бури, удивительное чувство умиротворенности охватило ее. Да и сам шум пурги был такой однообразный и монотонный, что со временем она перестала обращать на него внимание.
Незаметно для себя она уснула.
Эйвээмнэу заметила это и осторожно закрыла полог.
27
Снежный потолок был так низко, да и вообще нора эта была такая тесная, что каждый раз, когда Тутриль шевелился, отовсюду на лицо, за ворот, на все открытые части тела падала противная сырая снежная пыль, от которой становилось еще холоднее. Поначалу Тутриль стеснялся дрожи и усилием воли старался ее унять, но, заметив, как дрожь бьет и Айнану, перестал сдерживаться.
Айнана с Тутрилем старались прижаться друг к другу плотнее. Так было теплее.
Часы у Тутриля стали, и невозможно было установить, сколько же в действительности прошло времени с тех пор, как они остановились возле снежного надува и Тутриль убедил Айнану вырыть здесь нору и переждать бурю.
— Нам больше не найти такого сугроба, — убеждал ее Тутриль. — На льду снега все меньше и меньше. Куда идти — не знаем, силы на исходе. А если упадем под ветром на открытом льду? Тогда пропадем…
В первые же минуты, как только они забрались в снежную нору, вместе с промозглым холодом они ощутили голод.
— Как хочется есть! — мрачно сказала Айнана.
— У нас есть недоеденный росомахой песец, — напомнил Тутриль.
— Опять росомаха! — Айнану даже передернуло. — Все из-за нее.
— Не надо сердиться, — спокойно сказал Тутриль, — она все же оставила нам большую половину тушки.
— Я не буду есть, — заявила Айнана и отвернулась. Она слышала, как Тутриль хрустел тонкими песцовыми косточками, и рот ее наполнялся горькой слюной.
Не выдержав, она повернулась и попросила:
— Дайте кусочек!
Мясо было как мясо, ничего особенного, если бы она не знала, что этот песец — тот самый, которого глодала росомаха, чьи следы завели в эту снежную нору.
Еда немного согрела и вызвала дремоту.
Но Тутриль не дал Айнане уснуть, пока она не разулась. Она пыталась возразить, но Тутриль терпеливо объяснил, что и он тоже разуется и свои озябшие ноги спрячет ей под кухлянку, а она свои — под его. Айнана могла только подивиться его сообразительности.
Но холод не уходил. Он тряс их, забирался под одежду, шарил холодными костяными пальцами по самым укромным местам.
Чтобы не видеть белого снега, ввергающего его в еще большую дрожь своим неумолимо холодным светом, Тутриль держал глаза закрытыми, стараясь обратить свои мысли к воспоминаниям, начинающимся теплым пологом в одинокой яранге с меховой оленьей постелью и пыжиковым одеялом… Он мысленно видел полный горячего, обжигающего губы чая закопченный чайник над костром в чоттагине, свернутых калачиком собак, их теплое, сонное дыхание под вой пурги… Потом он вспоминал отцовский домик в Нутэне, аккуратную комнату, кровать под голубым покрывалом, чистую постель. Баня на окраине селения, над ручьем, запах горячего дерева, пропитанного паром… Другая баня, под Ленинградом. Когда-то, еще до войны, в Елизаветине Ленины родственники снимали дачу. Хозяева помнили девочку и сдали Тутрилям на лето светлую комнату с большими, затянутыми чистой марлей окнами. Банька хозяев стояла у пруда, и топили ее по-черному. Конечно, копоть на стенах была, но полки чистые и белые, и, главное, дух в баньке был отличный от той, что топилась по-белому. Лена хлестала веником распластанного на полке мужа, и так хотелось побыстрее выскочить из обжигающего пара и окунуться в прохладные, мягкие воды деревенского пруда… Очутиться бы в этой баньке и лежать, и лежать на горячих чистых досках, вбирая в себя тепло…
— Не спи, проснись, — растолкал он Айнану.
— Да не сплю я…
— Слышу: перестала дрожать, испугался — не уснула?
Тутриль услышал громкие рыдания, приподнялся на локте и удивленно спросил:
— Ты что, Айнана? Не надо плакать… Лучше прижмись ко мне покрепче, и тебе будет тепло.
Айнана послушно придвинулась к Тутрилю, спрятала заплаканное лицо на его груди и затихла.
— Вот кончится пурга, и мы вернемся в Нутэн, — продолжал утешать Айнану Тутриль.
— А я уже придумала, что вам подарить, — сказала Айнана, отнимая лицо от груди Тутриля. Я вам подарю тот клык, где изображен новый и старый Нутэн. Там, где нарисована ваша старая яранга и маленький мальчишка возле нее… Только я еще нарисую в сегодняшнем Нутэне собачью упряжку на окраине, между вертолетной площадкой и первыми домами. И на нарте двоих… Вы догадываетесь, кто это будет?
— Догадываюсь, — с улыбкой ответил Тутриль.
Некоторое время Тутриль и Айнана молчали.
— Только не спи, — снова попросил ее Тутриль.
— А я не сплю, думаю…
— А ты думай вслух, не стесняйся.
— А вы расскажите о чем-нибудь, — попросила Айнана, — о городе расскажите…
— Да что о городе рассказывать? Ты тоже бывала в городах — в Анадыре, в Магадане…
— Тогда о деревне, — сказала Айнана. — Я думаю: наверное, нет ничего прекраснее русской деревни… Я так представляю: стоят дома, с красивыми, обрамленными резными наличниками окнами, такие же красивые ворота, деревянная церковь, как в Кижах. За домами поле, за полем — лес, а на опушке девушки в разноцветных ситцевых платьях водят хоровод… Ну еще речка, березка и калина красная… Так в русской деревне?
— Примерно так, — сквозь дремоту ответил Тутриль.
— Не спите! Не спите! — принялась тормошить его Айнана. — Не надо спать…
— Да я и не сплю, — непослушными губами пытался ответить Тутриль, не в силах сопротивляться мягкому, теплому облаку, которое ласково обволакивало его, оберегая от холода, от пурги, от снежного студеного окружения.
А покорная ветру льдина все дальше уходила от берега в открытое море.
28
Проснувшись, Лена сначала не могла сообразить, где она. Ей снился Ленинград, распахнутое окно в квартире, в которое врывался уличный шум. Она открыла глаза, но не увидела света в окне, хотя шум оставался.
Понемногу она вспомнила, где находится. Нащупав край меховой занавеси, она высунула голову в чоттагин, наполненный теплым легким дымом и запахами приготовленной еды.
— Проснулась? — услышала она ласковый голос и увидела перед собой лицо Эйвээмнэу.
— Как хорошо в пологе! — потягиваясь, произнесла Лена. — Давно так спокойно не спала.
— А теперь будем обедать, — сказала Эйвээмнэу.
Лена ела и похваливала стряпню Эйвээмнэу, заставляя краснеть от гордости и удовольствия хозяйку. О том, что еда и вправду понравилась гостье, свидетельствовала просьба еще налить супу.
Эйвээмнэу хотелось, как следует рассмотреть эту русскую женщину, вышедшую замуж за чукчу, но как-то неловко было, поэтому она старалась занять Лену разговором, исподволь изучая ее.
— Не скучает в Ленинграде Тутриль?
— Некогда ему скучать, — улыбнувшись, ответила Лена. — Много у него работы. Сейчас он заканчивает сборник сказок и легенд Чукотки.
— Про это он нам рассказывал, — кивнула Эйвээмнэу.
— Это будет самое полное собрание за всю историю существования чукотского языка, — с оттенком гордости сообщила Лена.
— Там будут и наши легенды, — сказала Эйвээмнэу. — Мы ему наговорили на магнитофон. Все говорили — и я, и Токо, и Айнана.
— А сколько лет вашей внучке? — спросила Лена.
— Двадцать лет.
— Так она совсем еще девочка!
— Ии, — кивнула Эйвээмнэу.
— Наверно, трудно быть охотником такой молоденькой, — заметила Лена.
— В жизни все трудно, — вздохнула Эйвээмнэу..
После чаепития Эйвээмнэу принялась за работу. С молчаливым изумлением Лена смотрела, как женщина сучила нитки из оленьих жил — так ловко и быстро, что, казалось, нить самостоятельно растет из ее ловких, сильных бугристых пальцев.
Затем старуха взяла размягченную кожу и принялась зубами формовать подошву будущего торбаса. Лена как-то не поверила мужу, когда на присланных его матерью тапочках он показал ямочки и сказал, что это следы зубов. Но это было так, и кусок кожи постепенно превращался в «лодочку», к которой пришивались голенища.
— Мы все просим, чтобы нам прислали граненые иголки, — рассказывала Эйвээмнэу. — Когда такой иголкой протыкаешь кожу, получается треугольная дырочка, а не круглая. Она потом хорошо и плотно прижимается к жильной нитке и не пропускает воду… И чего нам шлют круглые иголки?
Лена слушала неторопливый говорок Эйвээмнэу и ловила себя на мысли, что происходящее вокруг порой кажется каким-то сном. Может, это оттого, что многое узнавалось по описаниям Тутриля. В его рассказах о родине каждая мелочь была дорогой и милой сердцу. Даже просто костер, вот этот очаг, обложенный поседевшими от пепла камнями, железная прокопченная цепь, деревянные жерди, поддерживающие свод из моржовых кож, полог, обыкновенное деревянное бревно-изголовье… Она еще и еще раз оглядывала жилище, и в ее ушах звучал голос Тутриля, низкий, глуховатый, вспоминающий ярангу…
— Кажется, вездеход движется, — насторожилась Эйвээмнэу и бросилась раздувать угасающий огонь в костре.
Лена прислушивалась, но, кроме привычного грохота пурги за стенами яранги, нельзя было уловить ничего.
Но вот распахнулась дверь, и вместе с ветром и снегом в ярангу вошли люди. Лена стояла посередине чоттагина, пытаясь узнать среди запорошенных снегом людей мужа. Но Тутриля не было. Она вопросительно смотрела то на одного, то на другого, пока Токо не сказал:
— В избушке их не оказалось…
— Так где же они? — встревоженно спросила Лена.
По лицам мужчин, по их глазам, которые они прятали, она чуяла что-то неладное.
— Мы проехали до самых дальних капканов, — сказал Гавриил Никандрович.
— Что же это такое? — сердце у Лены упало.
— Да вы не беспокойтесь, — успокоил ее Гавриил Никандрович. — Где-нибудь сидят и пережидают пургу. Народ они опытный, не пропадут. Они проверили дальние капканы, значит, были на пути домой. В самом худшем случае сидят где-нибудь в снежной норе.
— Так ведь там холодно, в этой норе!
Онно подошел, уселся напротив и заговорил:
— Лена, мы тоже немножко обеспокоены, но повода для большой тревоги нет. Кончится пурга — они появятся. Придется потерпеть… Собирайтесь, мы сейчас поедем в Нутэн…
Лена растерянно огляделась, потом спросила:
— А когда кончится эта пурга?
Онно пожал плечами.
— Они сюда должны вернуться?
— Да, — ответил Токо.
— Тогда я остаюсь ждать здесь, — решительно сказала Лена.
— Елена Петровна, — принялся уговаривать ее Гавриил Никандрович. — Вам там будет удобнее, здесь же все-таки яранга, неудобства всякие…
— Но ведь люди-то здесь живут, — возразила Лена, — и Тутриль здесь жил…
— И ему очень нравится здесь, — вставила свое слово Эйвээмнэу.
— Я уже тут поспала в пологе, так что первое представление у меня есть… Разрешите мне остаться здесь? — обратилась она к Онно.
Поколебавшись, Онно сказал:
— Ну что же. Может быть, так лучше… Только просьба: как только они появятся — сразу же сообщите нам по телефону.
— Это мы сделаем обязательно, — обещал Токо.
Путники наскоро попили чаю, и вездеход умчался в ветер и пургу, взяв направление в селение Нутэн.
29
В испуге Тутриль открыл глаза. Ему показалось, что он остался один в снежной пещере, превратившейся в могилу. Он протянул руку и нащупал теплое, вздрагивающее от холода тело Айнаны.
В далеком детстве Тутриль однажды видел, как хоронили русского, милиционера Савина, убитого в тундре кулаками-оленеводами. Тело милиционера, завернутое в рэтэм [2], лежало на нарте возле домика райотдела, пока мастер на все руки Гэматтын сколачивал гроб. Тутриль не впервые видел умершего, но его сородичей всегда клали на землю, а тут покойного не только собирались запереть в ящик, но еще рыли для него в вечной мерзлоте глубокую яму.
На холме гремели взрывы, и мерзлая земля летела далеко.
Тутриль был вместе с теми, кто поднялся на холм. Он слышал, как трещали доски под тяжестью наваленных на гроб камней, вздрагивал от громкого залпа множества ружей — прощального салюта над могилой, разглядывал фанерный обелиск с жестяной звездочкой, вырезанной из консервной банки, и думал, каково веселому молодому милиционеру лежать под тяжелой толщей мерзлой земли и камней… Потом Тутрилю иногда снилось, что его закапывают в землю, и каждый раз после такого сна он просыпался в холодном поту…
Сколько же может продлиться пурга? Как далеко унесет их от берега?
А если еще день-два? Ведь сил уже мало, и вполне может случиться так, что к наступлению хорошей погоды у них не будет сил подняться на ноги.
Он растолкал Айнану.
— Послушай, может быть, нам лучше пойти?
— Куда? — слабым голосом отозвалась Айнана.
— К берегу, — ответил Тутриль. — Идти все же лучше, чем вот так ожидать в бездействии. Никто не знает, сколько продлится пурга, а льдина может подойти к берегу.
— Как же мы пойдем? — с сомнением произнесла Айнана. — Мы такие слабые — ветер унесет нас.
— Не унесет, — уверенно сказал Тутриль. — Надо бороться изо всех сил, а не лежать вот так в ожидании неизвестно чего.
— А вы знаете, куда надо идти? — спросила Айнана.
— Ветер южный, можем и по ветру ориентироваться.
— Легко сказать — по ветру.
— Но согласись, что нельзя добровольно ложиться в могилу.
— В какую могилу? — испуганно спросила Айнана.
— Вот в эту снежную могилу, — ожесточенно произнес Тутриль. — Мы уже не можем бороться со сном. Если бы мне не приснилось страшное, мы бы так и остались здесь. Идем, Айнана… Это единственное наше спасение.
— Дед меня учил: в пургу лучше всего оставаться в снежной норе — только так можно остаться в живых. Потому что в пургу, даже зная направление, можно запутаться, закружиться и в конце концов обессилеть.
— Послушать дедов — так можно просидеть на месте до смерти.
Айнана дотронулась пальцем до впалой щеки Тутриля и тихо попросила:
— Не надо говорить о смерти.
— Но сейчас мы в таком положении, когда смерть нам угрожает. Давай не будем терять времени.
Он пошевелился, задевая телом стенки снежной норы. Снег сыпался отовсюду на лицо, за шиворот, таял на теле, но дрожь больше не появлялась, просто больше не было сил на нее.
— Идем, — решительно сказал Тутриль и принялся пробиваться наружу. Наверху намело порядочно снегу, и пришлось долго трудиться, чтобы пробить отверстие. В пещеру ворвался ветер со снегом, выбивая дыхание. Тутриль закашлялся, отпрянув назад.
— Вот видите, — сказала Айнана, залепляя отверстие снегом.
Работа отняла последние силы Тутриля, и он некоторое время лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша.
— Я пойду вместе с вами даже на верную гибель, — тихо сказала Айнана. — Но послушайте меня внимательно: идти сейчас в пургу — это безумие. Я это знаю…
Ей еще хотелось сказать, что Тутриль за время долгой жизни в Ленинграде забыл, что такое пурга в тундре, и не подозревает, на что идет…
Но Айнана сдержалась…
Сквозь полузакрытые веки Тутриль чувствовал, как на него все ниже и ниже опускается снежный потолок. Вот он касается груди, прижимает ее своей тяжестью, ограничивая дыхание, снег лезет в рот, в глаза, в уши… Тутриль рывком приподнялся и стукнулся головой.
— Идем!
Собрав последние силы, он пробил снег. Ветер подхватил его и понес, не дав опомниться. Тутриль упал на колени, потом распластался на снегу и только тогда остановился. Он кричал, звал Айнану, но ветер уносил в сторону крик. На секунду мелькнула мысль, что Айнана, пожалуй, была права… Но какое это теперь имело значение? Куда идти? Где Айнана? Где оставленная снежная нора? Прижимаясь к снегу, Тутриль лихорадочно думал… Что же делать? Ветер южный. Значит, надо ползти против ветра. Царапая лицо о снежный покров, Тутриль двинулся. Он теперь не обращал внимания на снег, забивающий рот, ветер, останавливающий дыхание.
Ему послышался слабый крик. Это Айнана! Тутриль приподнялся и крикнул:
— Я здесь! Я здесь!
Что-то мелькнуло в белесой мгле, и, протянув руки, Тутриль вцепился в развевающуюся на ветру камлейку Айнаны…
— О-о-о! — простонала со слезами Айнана. — Я думала, что не найду вас… Милый мой, хороший… Живой…
— Живой я, живой, — радостно повторял Тутриль, целуя Айнану. — Идем обратно, к пещере. Ты права.
Пойдя против ветра, они поняли, что промахнулись, прошли мимо снежного надува, где была вырыта нора.
Повернули обратно, часто останавливаясь, тщательно осматривая все вокруг.
— Может, выроем другую нору? — предложил Тутриль.
— Где? — возразила в бессилии Айнана. — Глядите!
Она ковырнула носком торбаса снег — слой был всего сантиметров в четыре-пять.
— Найти бы тот сугроб, — с надеждой в голосе проговорила она.
— А может, нам его не искать, а пойти все же вперед? — нерешительно предложил Тутриль. — Попадется по дороге снежный надув, там и остановимся.
Шли молча, с трудом преодолевая напор ветра. Тутриль догадывался, что ветер относит влево, но молчал, только каждый шаг старался делать так, чтобы хоть немного забирать вправо.
Айнана часто останавливалась, чтобы перевести дыхание, садилась на снег. Потом стала ложиться и закрывать глаза. Тутриль пристраивался рядом, но уже через минуту-две поднимался и тормошил ее.
— Надо идти, не надо останавливаться.
— Я знаю, — с раздражением отвечала Айнана. — Вот наберусь сил и пойду.
— Не закрывай глаза! Не спи!
— С чего вы взяли, что я засыпаю? — шептала Айнана. — Снег в лицо, вот и закрываю глаза.
А веки такие тяжелые, словно потолстевшие, опухшие и налитые свинцом. Держать их открытыми — мука.
Тутриль тормошил ее, пытался поднять, и Айнана вставала, утешаясь мыслью, что через несколько шагов она снова упадет и полежит хоть несколько мгновений.
Но всюду, куда они шли, была вода. Открытая океанская вода, кипевшая под ураганным ветром.
Тутриль обследовал окрестности и позвал Айнану:
— Иди сюда! Здесь почти нет ветра и можно подольше отдохнуть!
Айнана поползла на зов и вправду оказалась в защищенном от ветра укрытии, образованном стоявшей стоймя льдиной.
Она привалилась спиной к ней и тотчас закрыла глаза.
— Только не спи, я прошу тебя!
— Не буду спать, — распухшими губами произнесла Айнана.
— Тогда говори, говори, — просил Тутриль.
— Хорошо… Слушай… Ты хотел дослушать до конца легенду о росомахе. Энмэн… Влюбился юноша в Дочь Солнца, а она не может жить в тени ночной земли. Холод тьмы губителен для нее… Только росомаший мех мог ее защитить. Длинный и теплый, он не боится мороза, на нем не бывает инея… И пошел юноша по следу росомахи, чтобы добыть ее, чтобы любимая всегда была с ним… Идет он, идет…
Тутриль то впадал в забытье, то вдруг отчетливо слышал голос Айнаны. Иногда ему казалось, что ее нет рядом и все лишь воображение, игра затуманенного сознания.
Он видел себя то на берегу моря, теплого, ласкового, то вдруг вместо затухающего голоса Айнаны слышал Лену…
И где-то вдали, у морского горизонта, звучала песня:
Высокое небо, Чистое небо… Ветер, идущий с теплой страны. Летите, птицы, вестники счастья, Несите на крыльях любовь и весну!30
К утру пурга стала утихать, хотя ветер еще был силен. Но уже открылись дальние горы, и было ясно, что буря идет на убыль.
Лена высунулась в чоттагин, окунувшись в уютный дым от костра, смешанный с запахом свежих лепешек на нерпичьем жиру.
Эйвээмнэу возилась у костра.
— Доброе утро! — весело сказала Лена.
— Кыкэ — доброе утро! — отозвалась Эйвээмнэу. — Токо запрягает собак, сейчас поедет.
Пока Лена умывалась с помощью Эйвээмнэу, вошел Токо и принялся налаживать рацию.
Лена с интересом смотрела на него. По всему видать, старик хорошо разбирался в этой технике, движения у него были уверенные и точные.
— Я вижу, вы хорошо разбираетесь в технике, — заметила Лена.
— Да тут ничего хитрого. Только никак не пойму, почему эта радиостанция называется «Недра». Наверное, для шахтеров предназначалась…
— А может быть, для геологов? — предположила Лена.
— У них станция получше нашей, — сказал Токо.
— Вы меня не возьмете? — с надеждой спросила Лена.
Токо помолчал.
— Можно бы взять, однако собачки будут ехать медленно… А потом, если кто обессилел — Тутриль или Айнана, — вам тогда пешочком придется идти… В другой раз покатаетесь на собаках. Айнана свезет вас в Нутэн, если хотите.
Токо взял в руки телефонную трубку, и сразу же выражение его лица переменилось, будто он оказался там, где находился его невидимый собеседник.
— Алло! Алло! — произнес он несколько раз.
Лена прислушивалась к его разговору.
— У нас пока нет новостей, — отвечал Токо. — Сейчас выезжаю на собаках в сторону дальней охотничьей избушки. А вы — в другую сторону. Пока не надо… Чего зря людей тревожить да машину гонять.
Токо положил трубку и поймал взгляд Лены.
— Из района звонили: как стихнет, вертолет поднимется. Онно уже выехал на собаках.
— А что так? — встревожилась Лена.
— Вот я им сказал: нечего панику поднимать, — сердито произнес Токо и принялся за чаепитие.
Но уж таков закон Севера. Еще Токо пил чай, а от конторы Нутэнского совхоза уже отъехал вездеход.
На маленькой посадочной площадке районного центра разогревали моторы небольшой одномоторный самолет «Ан-2» и вертолет. Они ждали, когда стихнет ветер, чтобы подняться в воздух.
Онно уже давно находился в пути, ведя свою упряжку по береговой, еще покрытой снегом полосе.
По телефону, по радиотелефону от Нутэна до Анадыря неслась тревожная весть: двое не вернулись, и неизвестно их местонахождение.
Токо вышел из яранги. Следом за ним женщины — Эйвээмнэу и Лена. Запряженные собаки возбужденно перебирали лапами и нервно повизгивали. Ветер почти стих, но иногда вдруг с прежней силой налетал порывами, поднимая шерсть на собаках.
Токо выдернул из снега остол, тихо чмокнул и тронул нарту. Собаки рванули, и каюр на ходу плюхнулся на тонкие доски сиденья, заставив скрипнуть тугие ременные крепления.
Лена и Эйвээмнэу стояли возле яранги, пока нарта не скрылась из виду.
Токо сидел бочком, поставив подошву правого торбаса на полоз, и думал о своем.
Об Айнане, о Тутриле и Лене… В его молодости все было не так. Она, эта любовь, может, и была на самом деле, но не занимала большого места в жизни. Они с Эйвээмнэу об этом и не задумывались. Может быть, только в самом начале, когда были молодые… Может быть, просто времени на это не было? Тяжкая работа и зимой, и летом. Надо было строить свою ярангу, кормиться и растить детей. Было два сына и дочь. Один умер в младенчестве, второй утонул на охоте. Осталась дочка. Росла, училась в школе, пионеркой была, потом комсомолкой. Веселая, красивая. Все мечтала о больших городах. Рано родила, не стала учиться дальше. А потом встретилась с тем моряком, за которого и вышла замуж, оставив деду и бабке Айнану.
Эх, Айнана, Айнана… Каково тебе будет сейчас? Острая жалость шевельнулась в сердце Токо, даже слезы навернулись на глаза. Да ведь иначе и не может быть — вернется Тутриль к своей жене, она небось тоже страдает… Грустно и холодно будет на сердце Айнаны, хоть рядом дед и бабка. Но, видно, отстали они от внучки своей, у которой свои понятия о жизни. Почему так? Или это от воли, от этой огромной свободы, которая дарована этому поколению? В самом деле: Токо, может, и сам бы хотел быть таким вольным, но жизнь цепко держала его на одном месте и мысли направляла только по одному руслу: добыть зверя, чтобы жизнь не угасла в жилище. А потом, когда строили новый Нутэн, сносили яранги, мечтали о светлой жизни — а эту мечту надо было своими руками строить… А Тутриль да Айнана уже в новое время входили в жизнь. Учились в школе, жили в интернатах, почти и не заглядывая в ярангу, а некоторые их сверстники стеснялись и яранги, и то, басоэ, и даже своего родного чукотского языка… Да, были и такие! Правда, они до того были смешны, что сами потом поняли это.
Токо, чтобы отвлечься, тряхнул головой и огляделся. Вожак упряжки посмотрел, как бы спрашивая — так ли он идет, как надо. Токо тихо произнес:
— Поть-поть.
Нарта чуть изменила направление.
В тишине смолкнувшей бури послышался рокот мотора, и, напрягши зрение, Токо увидел на горизонте темную точку, быстро превратившуюся в летящий самолет.
Летчик заметил упряжку и покружил низко над каюром. Значит, они все же пустились на поиски. Токо подумал об этом с досадой, сотому что Айнана будет переживать и это тоже — сколько людей потревожили, оторвали от работы…
Того прикрикнул на собак, и они прибавили шагу. Токо держал путь на дальние капканы.
За время пурги снег подсох и подмерз, и парта хорошо катилась. Токо доехал до места, где были поставлены дальние капканы, но, кроме обглоданного остова лахтака, ничего не обнаружил, — капканы были сняты. Значит, Айнана побывала здесь. Отсюда они должны были направиться либо обратно в ярангу, либо к дальней избушке, либо в Нутэн.
Токо решил сделать круг.
Через некоторое время вожак шумно потянул носом и оглянулся на каюра.
Токо увидел след росомахи. Зверь прошел давно, и пурга почти совсем замела его след. Но вожак учуял его. Он почти не поднимал голову от следа, сильно натягивая средний ремень, к которому были пристегнуты все собаки.
Нарта мчалась все быстрее и быстрее прямо к синеющей вдали открытой воде.
В это же время с другой стороны в этом же направлении ехала из Нутэна другая упряжка, и каюрил на ней Онно.
У самой воды цепочка следов оборвалась.
Карта остановилась, Токо сошел с нарты и подошел к воде. Он долго смотрел вдаль, на плавающие льдины. Где-то там льдина, на которой Айнана и Тутриль.
Услышав скрип снега за спиной, Токо обернулся и увидел Онно.
— Они пошли по следу росомахи, — тихо произнес Токо.
Старики медленно побрели к нарте и сели рядом.
Долго они сидели молча, устремив глаза в пространство.
Кругом стояла тишина. Только где-то далеко рокотал вертолет и тарахтел мотор вездехода.
И в мертвой звенящей тишине в памяти стариков уходящим воспоминанием звучал голос Айнаны:
Высокое небо, Высокое солнце… Ветер, идущий с теплой страны… Летние птицы, вестники счастья, Несите на крыльях любовь и весну…― Рассказы ―
ЧИСЛА КАКОТА
Когда Амундсен выразил желание взять поваром Какота, чукчи пришли на «Мод» упросить его переменить решение и стали предлагать других.
Сам Какот стоял в стороне и молчал. На лице его было задумчивое страдание. Взор его был устремлен на диковинные очертания мыса Сердце-Камень, и казалось, одна только мысль, что он покинет этот серый каменный осколок, была мучительна для него.
— Жалко тебе отсюда уезжать? — спросил его Амундсен.
Какот молча кивнул.
— Тогда я могу взять другого, — сказал Амундсен.
Какот, ничего не говоря, направился к трапу, намереваясь вернуться на берег.
— Постой!
Амундсен бросился вслед, в душе ругая себя за чувствительность, но уже ничего не мог поделать с собой. Он проникся неожиданной симпатией к этому человеку, такому непохожему на своих земляков-чукчей, этих арктических оптимистов, не теряющих улыбки даже в самую сильную стужу, в ураганный ветер, даже в голодные темные зимние месяцы.
Какот задержался у борта.
— Я беру тебя поваром, — громко объявил Амундсен, чтобы слышали все.
Готфрид Хансен, стоявший рядом, спрятал в усах улыбку.
Какот перебрался на «Мод» и поместился в маленькой каютке, где стояла койка и небольшой, прикрепленный к деревянному борту столик.
В первый день пребывания на корабле новому коку устроили паровую баню и сменили одежду. Какот облачился в шерстяную фуфайку, в матерчатые брюки, но на ногах оставил свои старые нерпичьи торбаса.
Готовить еду учил его сам Амундсен. В камбузе находилась плита и еще множество различных приспособлений. Рядом с плитой стоял удивительный ящик. В нем целыми днями томилась овсяная каша, которую потом команда «Мод» ела с большим аппетитом. Довольно скоро Какот научился жарить оленину, рыбу, готовить суп из консервов, варить компот из сушеных фруктов. Но печь булочки он так и не научился. Рослый большеносый Амундсен пек их сам, а Какот стоял в сторонке и смотрел, как норвежец колдует над тестом, ставит беленькие булочки в духовку и оттуда вынимает их пышными и румяными.
Вечерами, после ужина, Какот тщательно мыл руки над лоханью, обтирал лицо мокрой тряпкой и бочком проходил в кают-компанию. Из широкого деревянного горла граммофона вырывались странные, щемящие душу звуки. Они уносили мысли далеко, туда, куда Какоту больше не хотелось возвращаться… Там осталась могила любимой жены… Там у чужих людей живет маленькая дочка, весенний птенчик, маленькое солнышко.
Путешественники веселились, играли в непонятные игры, что-то писали на листах бумаги. Какот знал, что значки на бумаге — это слова, и пишут их для того, чтобы послать кому-нибудь весть или сделать заметку на будущее, запомнить.
Но один человек всегда писал нечто отличное от всех. Это был Оскар Вистинг. Он располагался на краю большого стола и раскрывал толстую книгу, испещренную небольшими аккуратными значками.
Оскар вглядывался в них с видимым удовольствием и порой даже шевелил губами, что-то шептал про себя. Какот однажды не выдержал и спросил:
— Хорошие слова?
— Где? — встрепенулся Вистинг.
— Вот тут, — Какот ткнул пальцем в страницу, где стройными рядами стояли непонятные значки.
— Это не слова, — ответил Вистинг, — это числа.
Вистинг говорил по-английски, и Какот понимал эту речь. Но этого слова — «числа» — Какот не знал.
— Что это такое?
— Числа? — задумчиво переспросил Вистинг. — Ну как бы тебе объяснить… Вот у тебя один палец, — Вистинг показал на аккуратный палец Какота, ноготь на котором собственноручно обрезал Амундсен. — Рядом второй, третий, четвертый и пятый… Пишу цифру пять. Обозначаю пять пальцев… Понятно?
— Проще руку нарисовать, — заметил Какот.
Вистинг озадаченно посмотрел на грустного кока.
Но знак, которым Вистинг обозначил пять пальцев, так и стоял перед глазами Какота, странно волнуя разум. Иногда посреди работы Какот вдруг останавливался, задумывался и долго в раздумье смотрел на свои руки, вспоминая значок, похожий на крюк для большого котла, вобравший в себя значение пяти человеческих пальцев.
Вторая рука ничем не отличается от первой. Потом — ноги, и на каждой столько же пальцев, как и на руках. Общее число пальцев называется «кликкин», что значит мужчина, человек мужского пола. Правда, общее число пальцев у женщины такое же, как у мужчины, но все же главное число счета называется «кликкин», и все большие числа содержат двадцатки.
Большие числа… Насущной необходимости в их знании у берегового жителя не было. Для счета убитых моржей и тюленей хватало пальцев на собственных руках и ногах, а в более удачливые времена к услугам были конечности всех членов семьи, которые всегда были на виду в теплом пологе, где надлежало сидеть без одежды и, следовательно, без обуви.
Какот орудовал у жаркой плиты и рассуждал о числах. Амундсен сшил из белой бязи большой поварской колпак и специальную камлейку, которую полагалось носить только у плиты, хотя, по мнению Какота и его земляков, в такой одежде очень удобно преследовать песца или красться к вылегшему на лед тюленю. Колпак был один, и белая камлейка тоже одна. Кастрюль было три. Все, что находилось в камбузе, было легко сосчитать.
А Вистинг каждый вечер садился на уголок стола и принимался писать свои числа.
Судя по значкам, это были невероятно большие числа, которые разумом невозможно даже представить. Сколько же это двадцаток? Тьма!
Какот приближался к Вистингу, и, когда начинал дышать в ухо, тот недовольно поднимал голову, и кок виновато отходил в сторону.
Однажды Вистинг не выдержал и спросил:
— Разве это тебе интересно?
— Очень интересно! — с замиранием сердца сказал Какот.
Оскар Вистинг показал единицу, двойку, тройку и так далее, до десятка. Какот сразу схватил суть, но споткнулся на десяти. Ненадолго. На пятый вечер Какот сообразил, что белые люди, в отличие от чукчей, считают десятками, а не двадцатками.
Теперь на всем, на чем можно было писать, Какот изображал цифры, и так старательно, что они почти ничем не отличались от печатных. Все, что видели глаза Какота, подвергалось счету. Он быстро сосчитал команду «Мод», число приезжающих гостей, песцовые шкурки, которые выменивал Амундсен, развешанные на палубе шкуры белых медведей. Какот подбирал каждую выброшенную бумажку и старательно разглаживал ее, чтобы вечером, усевшись рядом с Оскаром Вистингом в кают-компании, под звуки граммофона записать цифрами все, что видел он за целый день.
Когда не хватало бумажек, Какот спускался на лед и железной кочергой писал цифры на снегу.
За ним устремлялись собаки, зная его причастность к самому соблазнительному месту на корабле, старательно обнюхивали начертанные на снегу цифры, рыли их лапами, пытаясь отыскать под ними какое-нибудь лакомство, и разочарованно отходили, оглядываясь на кока, стоящего у разворошенного снега с удивленным и глуповатым лицом.
Какот и сам чувствовал как бы постыдность своих занятий и норовил заниматься писанием цифр один или же рядом с Оскаром Вистингом, который с усмешкой посматривал на кока и дивился тому, что находил Какот в бессмысленном, на его взгляд, писании чисел.
— Сколько это? — спросил как-то Вистинг, ткнув на одну из цифр, записанных на обертке от липтоновского чая.
— Это Александр Киcк и его четырнадцать собак, — ответил Какот, отчетливо вспомнив, как к кораблю подъехал торговец, вколотил остол в слежавшийся снег, поднялся на палубу и тотчас стал принюхиваться, стараясь определить: есть ли водка на корабле. Когда Какот подал ему брусничный сироп, Киcк долго его нюхал, пробовал на язык, а потом, сморщившись, выдул одним духом, словно горькое лекарство.
Но чем больше становились числа, тем больше теряли они свою определенность, привязанность к известному месту и событию. Тогда Какот перестал их писать.
Вистинг заметил, что Какот не пишет, и, решив, что коку не на чем изображать цифры, подарил толстую красивую тетрадь, предназначенную для записи магнитных наблюдений.
Какот долго не прикасался к ней. Предчувствие беды всякий раз охватывало его, когда он листал пустые, девственно белые страницы. Сколько же цифр можно здесь поместить! Какие числа, какие невероятные величины могут поместиться на этих строках! Дух захватывает! И все ведь начинается только с единицы, с одной палочки, которая значит «один». Один человек, одна муха, одна собака, один корабль, один Какот, один Амундсен… Одна дочка! Дочка, которая осталась в далеком селении у дальних родственников.
Как-то вечером Какот все же не выдержал. Он заперся в каютке и раскрыл тетрадь на первой странице. В руке у него был остро отточенный карандаш. В левом верхнем углу страницы он написал «1» и остановился. Это была дочь. Какот уронил карандаш, подпер голову рукой, и перед его глазами встало маленькое детское личико.
На следующий день Какот объявил Амундсену, что ему необходимо отлучиться с корабля.
— Что случилось, Какот? — спросил Амундсен. — Тебе не нравится здесь?
— Мне нравится, — ответил грустный кок. — Но мне надо поехать проведать дочь. Мне кажется, что она больна.
Когда на «Мод» надежда на его возвращение уже была потеряна, Какот появился в кают-компании с небольшим меховым свертком. В оленьих шкурах лежала его дочь, девочка лет шести.
Ее развернули, и даже видавшие виды путешественники отвели глаза: крохотное, страшно исхудавшее тельце ребенка почти сплошь было покрыто струпьями чесотки.
Амундсен тяжело вздохнул, покачал головой и решительно сказал:
— Горячую воду, мыло, чистые полотенца!
Каждый старался помочь. Один принес медный таз, другой притащил большую кастрюлю теплой воды, третий давал советы, а Амундсен, засучив рукава, подвязав передник, орудовал ножницами, состригая кишевшие насекомыми тонкие, нежные волосы.
Один Какот сидел в стороне, безучастный на вид, словно не его собственное дитя купали.
Он смотрел на дочь и думал, что у чисел есть и другое свойство — уменьшаться. И дочь его — это то, что осталось после страшной болезни, унесшей всех близких Какота — родителей, жену, братьев и сестер… Почти все селение вымерло. Тех, кто остался в живых, можно было сосчитать в пределах одного человека — «кликкина» — двадцатки.
Хлопоты о маленькой дочери Какота захватили всю команду. Через несколько недель заботливого ухода Мери превратилась в милую девчушку, и Какот часто ловил себя на мысли: а его ли это дочка? Но глаза, выражение лица и даже цвет ее волос все больше напоминали покойную жену.
По вечерам в кают-компании Мери выслушивала множество предположений и планов о своем будущем. И когда было окончательно решено, что Мери вместе с младшей дочерью торговца Чарлза Карпентера поедет учиться в Осло, Амундсен спросил Какота, согласен ли он.
А Какот давно принял решение. Он только боялся, что Амундсен передумает. Разве отец может лишить дочь лучшего будущего? Уж Какот-то знал, что у белых даже самая нищенская жизнь не может сравниться с вечным голодом на этом берегу!
Может быть, он и теряет дочь навсегда. Ведь если Мери выучится в далеком Осло и станет совсем другой — может, она и не захочет возвращаться на родину? Что ей делать здесь, если она не будет уметь выделывать шкуры, разделывать нерпу, шить мужу торбаса и кухлянку?
Зато она узнает сущность больших чисел…
И Какот снова вернулся к ним.
Он открыл страницу и увидел цифру «1», которая сиротливо стояла в левом верхнем углу, словно дожидаясь гостей, собеседников, товарищей. Какот пониже медленно вывел цифру «2». Потом «3» заняло свое место. Очень скоро пришлось переходить на другой столбец, а числа не могли остановиться, словно прорвалась снежная запруда и огромный шумный поток хлынул на чистые страницы тетради.
Какот почувствовал, как его охватывает жар, на лбу появилась испарина, словно он волок на себе тушу жирного оленя. Дыхание участилось, а кончик карандаша прыгал, как оживший; с маленького остро отточенного кончика одно за другим стекали числа и становились в ряд…
Какот с усилием оторвал карандаш от бумаги и бросил. С глухим стуком карандаш ударился о палубу. Еще больших усилий потребовалось, чтобы закрыть тетрадь. Но и сквозь толстую обложку Какот чувствовал невидимую силу чисел, их таинственное излучение.
Какот поискал, куда бы положить тетрадь так, чтобы она не попадалась на глаза, чтобы не искушала десятками чистых страниц, как бы ожидающих нашествия магических чисел.
Он выволок из-под койки дорожный баул из нерпичьей кожи и положил тетрадь на самое дно, под кожаные рукавицы и запасные торбаса.
По вечерам Какот старался отсесть подальше от Оскара Вистинга, чтобы не поддаваться чарам больших чисел, возился с дочкой, которая становилась все красивее, украшаемая новой одеждой, которую шили по очереди все участники экспедиции Амундсена.
Ровным светом горела электрическая люстра под потолком, далекая мелодия лилась из горла граммофона, звенела посуда, потрескивала палуба над головой, покрытая толщей снега, мерно текло время, приближаясь к тому часу, когда все разойдутся по своим каютам. Беседа угасала, словно истощившая жир лампа, а в душе Какота росло беспокойство.
Он с неохотой шел в свое жилище, медленно открывал дверь из тонких, плотно пригнанных друг к другу реек и вступал в полосу тревоги и беспокойства. У него едва хватало сил, чтобы не нагнуться и не выволочь из-под койки кожаный баул и не достать злополучную тетрадь, где было начало неведомому и таинственному.
Какот довольно скоро убедился, что Оскар Вистинг пишет числа беспорядочно, совсем не так, как они выстраивались в мозгу Какота и просились на белое поле бумаги. Значит, то таинственное открытие, которое он сделал, принадлежит ему одному, и чувства, которые он испытывает при прикосновении к духу больших возрастающих величин, также принадлежат ему одному.
Тогда он стал присматриваться к людям корабля «Мод». Иногда он не вникал в слова, которые говорил ему сам Руал Амундсен, а просто смотрел на его рот, на кончик розового языка, на большие крепкие зубы и размышлял: доступна ли этому человеку, который, как утверждают, покорил огромные пространства и побывал на таком юге, что дальше уже вовсе ничего нет, — доступна ли ему истина о бесконечно возрастающих числах? Скорее всего нет. Потому что Амундсен все время ищет конец. Конец земли. Значит, он всегда уверен в том, что есть пределы земным и водным пространствам. Но есть кроме зверей, людей, растений — всего того, что окружает человека с самого рождения и сопровождает до смертного часа, кроме того, что можно сосчитать, чему всегда можно найти конец, — числа. Бесконечный ряд чисел, волшебное возрастание количества, таинственная упругость, превращающаяся в твердость непреклонной головокружительной высоты. И есть ли конец той бесконечности?
Так стоял Какот, держа в вытянутых руках блюдо, и не слышал и не понимал, что говорил ему Амундсен.
— Вы что, оглохли? — заорал в самое ухо великий путешественник.
Какот с состраданием посмотрел на Амундсена и подумал, что этот человек с громким голосом и внушительной внешностью ни больше ни меньше как один из людей, член большой человеческой семьи, один экземпляр человека. Можно сосчитать не только команду корабля «Мод», жителей близлежащего стойбища, жителей всей Чукотки и противоположного берега, — наверное, можно сосчитать и жителей далекой Норвегии, откуда приплыл Амундсен с товарищами…
— Сколько человек живет в Норвегии? — спросил Какот, не обращая внимания на сердитый голос Амундсена.
— Что? — опешил Амундсен.
— Сколько человек живет в Норвегии? — повторил вопрос Какот.
Амундсен сделал шаг назад и, круто повернувшись, вышел из тесного камбуза.
Его громкий голос долго доносился до слуха Какота.
Какот тем временем вернулся в свою каюту и быстро собрал свои нехитрые пожитки. Теперь он не боялся тетради с числами. Он положил ее на самый верх, чтобы чувствовать твердую обложку через кожаный верх мешка.
Амундсен не пожелал разговаривать с Какотом. Он послал Оскара Вистинга, человека, который открыл Какоту тайну чисел, не понимая всей таинственной силы возрастающего количества.
— Руал Амундсен спрашивает: хотите ли дальше работать на корабле или предпочитаете списаться на берег?
Оскар Вистинг. Всего лишь единица из множества поддающихся учету людей, живущих на земле.
— Я сойду на берег, — ответил Какот. — Вернусь к своему народу.
Какот сошел на берег в тот же вечер, перекинув через плечо кожаный баул с тетрадью, в которой были записаны первые ряды бесконечной вереницы чисел.
Дочь осталась на корабле. Да и куда Какот мог ее взять? У него не было ни собственной яранги, ни даже ближайших родственников. Единственный выход — идти к кому-нибудь в ярангу приемным мужем.
Недалеко от того места, где зимовала «Мод», Какот нашел пристанище у одинокой вдовы, которая прельстилась несколькими отрезами пестрой ткани, тремя ящиками морских сухарей, двумя мешками муки и другими драгоценными вещами, полученными Какотом за работу.
Едва устроившись в яранге, Какот достал тетрадь и принялся за работу. Он решил написать столько чисел, сколько может выдержать. Совесть его была спокойна: он принес в ярангу достаточно еды, чтобы не испытывать чувства долга перед женщиной, которая отныне считала его своим кормильцем.
Когда наступал рассвет, Какот выползал из теплого полога и устраивался в холодной части яранги, аккуратно расположив тетрадь на низком столике. Перед ним на стене висели охотничьи доспехи, но он даже не поднимал на них глаз. Собаки бродили вокруг него, заглядывали через плечо, пытались лизнуть в низко склоненный вспотевший лоб, но человек был погружен в числа.
Иногда он отрывал взгляд от тетради и смотрел куда-то поверх разлегшихся в чоттагине собак, в приоткрытую дверь яранги.
Бочком проходила жена. Спроси кто-нибудь в эту минуту Какота, как зовут его жену, вряд ли он мог припомнить… Огромный ряд чисел. Человечество перед ним — ничтожество. Один человек тем более. Будь он даже Амундсеном!
Иногда в ярангу заглядывали соседи. Они смотрели на Какота издали, словно он был поражен заразной болезнью. А он не испытывал потребности в общении. О чем он мог бы с ними говорить? Для него уже стали неинтересны разговоры о морских течениях и состоянии льда, о тюленях, которые с приближением весны все чаще стали выползать на лед… Вот новая жена его хорошо понимает. Она еще не сказала ни одного слова в осуждение его. Напротив, она старалась оградить его от любопытных.
Она смутно чувствовала, что ее новый сожитель озабочен чем-то очень важным и недоступным не только ей, но и многим соседям.
А Какот все писал числа. Он уже не мог назвать того огромного количества, которое значилось у него на страницах тетради. Это было непостижимое уму число!
К нему можно прибавить еще единицу, к полученному результату — еще единицу, и так изо дня в день…
Вечером Какот бывал так опустошен, что не обращал внимания на вкусную еду, которую готовила жена, выменивая лакомства на муку и морские сухари.
А когда в пологе угасал жирник, Какот чувствовал, как к нему жарким бедром прижимается истосковавшаяся по мужской ласке женщина. Он равнодушно исполнял свой мужской долг, думая о том, что при счастливом стечении обстоятельств может родиться ребенок, который восполнит человечество, однако скорее всего в эту минуту кто-то умирает, и таким образом общее число людей остается примерно на одном и том же уровне. Но даже если человечество растет, все равно оно не бесконечно…
Однажды, улучив момент, жена достала тетрадь Какота. В длинных рядах цифр она ничего не поняла. Значки были ни на что не похожи. Но что-то в них было такое — не зря Какот сидел, уткнувшись в них, и покряхтывал от усилий.
Она приблизила к лицу тетрадь, стараясь вдохнуть что-нибудь незнакомое, но тут почувствовала пронзительный взгляд. Она оглянулась и встретилась с черными глубокими глазами Какота. Нет, он не сердился, и в его взгляде не было гнева. Мужчина смотрел с интересом и ожиданием.
Но по виду женщины и по ее глазам Какот заключил, что та не почувствовала ничего такого, что сам он смутно ощущал, но не мог выразить словами.
Какот молча взял тетрадь и раскрыл на той странице, где остановился. И по мере того как он вглядывался в ряды чисел, знакомое волнение охватило его, неведомые крылья подняли его и унесли в мир чистых размышлений.
Женщина с опаской удалилась в полог.
Весна разрушила ледяной припай.
Птицы полетели на север, на открывшиеся водные просторы.
За Какотом приехали норвежцы и спросили, не желает ли он попрощаться с дочерью.
Какот уселся на нарту и поехал, не забыв прихватить с собой тетрадь.
Он увидел девочку — совсем не ту, какую оставил. Она уже произносила некоторые норвежские слова и удивленно поглядывала на Какота, даже сторонилась его и с видом сожаления дотрагивалась до его жиденькой бородки, такой непохожей на пышную растительность норвежцев.
Какот представил, как было бы трудно дочери вернуться в ярангу, в чад жировых ламп, в липкую сырость стылого полога, и порадовался про себя тому, что дочь едет в иную, может быть лучшую страну.
Вечером в кают-компании Какот пристроился рядом с Вистингом и важно раскрыл свою тетрадь. Оскар заглянул через плечо и даже присвистнул от удивления.
Он взял в руки тетрадь и понес показывать членам экипажа. Сам Амундсен долго держал тетрадь, листая страницу за страницей, и говорил какие-то очень разумные слова, которые не имели никакого отношения к приготовлению пищи, поэтому Какот их и не понимал.
И все же Какот убедился, что даже до этих белых не дошел смысл бесконечности. Дело ведь не в том, что можно прибавить еще одну единицу… Это даже невозможно выразить. Это отрицание смысла жизни, отсутствие всякой цели. Ведь такого у человека не может быть! Это значит признать бессилие человеческого разума!
А норвежские путешественники уже забыли про тетрадь Какота: они завершали свою цель — проплыв северо-восточным проходом! А многие больше того — заканчивали кругосветное путешествие по полярным морям планеты!
Какот осторожно сложил тетрадь и незаметно вышел на палубу. Оттуда по трапу он спустился на лед и выбрался на берег. Ночь была светлая: солнце стояло близко за линией горизонта. В такую погоду ничего не стоит пешком добраться до стойбища.
Он уходил в светлую дымчатую ночь, оставляя позади себя корабль «Мод», на котором его дочь поплывет в дальние края и не будет знать холода и голода здешней жизни.
Ломался со звоном ледок под ногами, человеческое дыхание заполняло безмолвие ледового побережья, а мысли так и рвались из головы и шумели вокруг Какота слышными лишь ему голосами. Вот так он шел год назад, пробираясь через весенние, отполированные солнечными лучами торосы. Он шел к знаменитому Акру, владельцу острова Аракамчечен, могущественному шаману и другу людей, чтобы он спас жену Какота.
Шаман молча выслушал сбивчивый рассказ и спокойно ответил, вселяя словами удивительную покорность судьбе: «Не горюй, парень. Ничем уже не помочь твоей жене. Она уйдет сквозь облака, как уходят многие и многие люди. И с этим ничего не поделаешь. Такова жизнь, и не наша с тобой забота делать ее другой. Горе — такая же необходимая часть жизни, как и радость…» Шаман рассуждал очень долго и, наверное, убедительно, но Какот видел угасающие глаза жены и громкий крик дочери, которая просила есть… Как родилась, так и просила есть. Сначала просто бессмысленным, но понятным родителям криком, потом выучила первые слова, которые значили — «есть»…
Неужели человек и создан только для того, чтобы проживать отпущенные ему годы в вечном поиске еды и теплого жилья?
На исходе ночи, когда солнце уже высоко поднялось над морским простором, Какот присел на подтаявший пригорок и впервые оглянулся. Он вдруг почувствовал странную, ноющую боль в груди, словно кто-то оторвал кусок живой плоти и оставил незащищенную рану. Только сейчас до его мозга дошла мысль о том, что его дочь осталась на корабле, продолжение его жизни, то, что осталось от ушедшей сквозь облака горячо любимой жены.
Какот круто повернул и побежал вдоль морского побережья, перепрыгивая через тающие льдины.
«Мод» плыла далеко от берега, огибая мысы. До нее не дошел крик, исторгнутый из глубины отцовского сердца. Слабый человеческий голос упал на расстоянии брошенного камня и растворился в великом молчании холодного моря.
Какот опустил голову и понуро побрел в стойбище.
Он снова взялся за тетрадь, но теперь каждая цифра давалась ему с трудом, и казалось, что он каждый раз переступает через собственное сердце.
Какот даже стал выходить в море и приносить добычу в ярангу. В весеннее время добыть нерпу не представляет большого труда, но все же женщина в яранге была довольна и могла называть своего мужа настоящим кормильцем.
В женской ласке Какот почувствовал что-то новое, и это заставило его задуматься. От размышлений родилась тоска по дочери, и он с новой силой почувствовал, как глупо и жестоко он поступил, отдав дочь в руки Руала Амундсена. Что же это такое? Вроде бы не так долго прожила дочь вместе с ним. Когда была жива жена, она заботилась о дочери, а после ее смерти родственники взяли девочку к себе.
Что-то случилось и с числами. Какот понял, что, как бы он ни торопился, конец будет отодвигаться с той же скоростью, что и написание очередных чисел. Конец ли? Но почему нет? Бесконечность — это ведь тоже нечто определенное!
Море очистилось ото льда, и байдары вышли на моржовую охоту. Какот пристроился к одной артели. Он исправно нес службу гарпунера, получал причитающуюся ему долю, а светлыми вечерами сидел в чоттагине и писал числа, пока, понукаемый страстными вздохами женщины, не влезал в жаркий меховой полог.
Числа перешли на вторую половину тетради. Каждый раз, усаживаясь на китовый позвонок, Какот ожидал, что на этот раз случится чудо и числа перейдут в какое-то новое качество, что-то скажут ему такое, что он чувствовал скрытым за безмолвными рядами гигантских величин.
Но числа молчали.
Сущность чисел не проявилась. Для постороннего человека эта тетрадь — простой набор возрастающих чисел. А для Какота на этих страницах, быть может, заключена вся его жизнь, все его размышления о смысле жизни. Разве может другой человек найти среди нагромождений торосистых цифр тоску по увезенной Амундсеном дочери?
Лето пролетело быстро и незаметно. Так же незаметно для себя Какот покрыл ярангу новой моржовой кожей, наполнил деревянные бочки запасом моржового жира, утеплил меховой полог. Главной была тетрадь, и ряд чисел приближался к концу последней страницы.
Тревога все чаще охватывала Какота. Он вдруг почувствовал, что теряет нечто такое, что его роднило со всеми людьми. А заметил он это, когда увидел округлившийся живот жены. Значит, пока он писал числа, жизнь шла своим чередом и будущая жизнь зарождалась независимо от мучительных размышлений о смысле существования вещей и живых существ…
Он старался быть поласковее с женой, пытался даже говорить с ней, но часто ловил себя на том, что замолкает на середине фразы и возвращается к заветной тетради.
Выпал снег. Море покрылось льдом, и к ярангам потянулись кровавые следы убитых нерп.
Какот уходил ранним утром и возвращался уже при свете звезд. Жена зажигала яркий светильник и выставляла его к порогу.
Льды подступили вплотную. Теперь открытой воды не будет до самой весны, и путь, по которому уплыла дочь, закрыт замерзшей водой.
Какот дошел до места, где зимовала «Мод». Ничто не указывало на то, что здесь был корабль великого открывателя земель. Торосистое море простиралось на огромные расстояния. Взором эти просторы не охватить, но мысленно можно пройти путь до самого Нома. «Мод» держала курс на Ном. Какот бывал в Номе. Скопище деревянных домишек. А вот где Норвегия и город Осло? Что-то кольнуло в сердце Какота, и он вдруг понял, что ему не представить, где это Осло и страна Норвегия, земля, куда уехала его дочь… Дочь, которой он дал иноземное имя Мери. А может быть, не в числах сущность, а в нем самом? И виноват он сам? И в смерти жены, которую он не берег, и в том чудовищном поступке, когда он согласился отдать дочь Руалу Амундсену? Правда, путешественник сказал, что она вернется, когда научится грамоте и письму. Но грамотная Мери — это уже не дочь Какота!
А там, в селении, на берегу ждет его жена. Не просто жена, а тоже человек, со своим именем — Вээмнэут, что значит Речная Женщина. Быть может, в эту минуту рождается новый человек, а Какот все бродит во льдах и ищет смысл больших чисел.
Какот повернул к берегу. На этот раз он шел без добычи, убив время на размышления и воспоминания. Не надо было ему приходить на это место. Воспоминания разбередили его душу, всколыхнули такие мысли, от которых становилось и жарко, и страшно.
Тетрадь лежала в охотничьем мешке за спиной. Какот всегда чувствовал ее присутствие и значимость больших чисел, лежащих в мешке из нерпичьей кожи.
Теперь числа прожигали белую камлейку, пронзали меховую кухлянку и сжимали болью истерзанное сердце Какота. В голове мешались мысли, кровь стучала в висках.
Какот остановился передохнуть и машинально скинул кожаный мешок. Не думая о том, что делает, Какот развязал ременные застежки и вытащил тетрадь. Она казалась распухшей от заключенных на ее страницах больших чисел. Может, и не от чисел, а от сырости, от капель жира, которые неизбежны в пологе, в котором горит жировая лампа…
Какот, не раскрывая тетрадь, положил ее на снег и отошел в сторону. Сделать несколько шагов — и она исчезнет с глаз, а потом ветер унесет и растреплет ее на отдельные листочки.
Но вдруг кто-то найдет эти страницы, исписанные числами, и задумается. Откинет в сторону охотничий посох, забудет о том, что ушел во льды добывать нерпу, и вопьется пытливыми глазами в обозначения чисел…
Какот вернулся к тетради и присел на корточки. Разбухшая тетрадь дышала… Это было ужасно. Тут же в мозгу мелькнуло объяснение: легкий ветерок шевелил страницы. Но поначалу тетрадь показалась настоящим живым существом.
Кончиком посоха Какот пошевелил тетрадь. Она раскрылась, и черные ряды чисел зарябили в глазах, словно отделяясь от белых полей страниц и выпрыгивая на снег.
«Уничтожить надо тетрадь», — решил Какот. Он скинул ружье, положил на снег лыжи-снегоступы и уселся на них. Из-за пазухи достал замшевый кисет, оттуда спичечный коробок. Сдунув табачную пыль, Какот вынул спичку и зажег. Край листка почернел и тотчас вспыхнул ярким желтым пламенем.
Странное дело: страница сгорала довольно быстро, но числа держались дольше всего, словно не хотели уходить в небытие, сопротивляясь всепожирающему огню.
Страницу за страницей сжигал Какот злополучную тетрадь. Огонь то вспыхивал ярким пламенем, то едва теплился, слизывая черные значки чисел.
Вот и последняя страница. Она горела вместе с обложкой. Какоту пришлось несколько раз шевельнуть листки, чтобы не погас огонь.
Сгорел последний клочок, и на снегу осталась горка серого пепла. Какот осторожно тронул ее носком торбаса: пепел рассыпался, развеялся, и на снегу осталось лишь небольшое углубление с подтаявшими краями.
Какот глубоко вздохнул и огляделся.
Торосы подступили ближе: надвигалась ночь. Бесчисленные звезды усыпали небо, и прелесть была в том, что не надо было думать, сколько их на небе. Это было просто звездное небо. Небо со звездами или звезды на небе.
Какот надел на себя охотничье снаряжение и двинулся в селение. Он шел, всматриваясь в торосы, далеко выкидывая вперед посох с острым наконечником.
Он еще издали увидел свет в яранге и прибавил шаг. Он мысленно видел жену, которая сидит на бревне-изголовье, бережно придерживая большой живот коленями, и ждет мужа. По стенам яранги стоят бочки. Они уже наполовину пусты. Копоть хлопьями висит на жердях и на толстой цепи над костром. Собаки устало поднимут головы и равнодушно глянут на возвратившегося охотника.
Простые мысли, простая жизнь.
Может быть, это и есть настоящий смысл жизни?
У порога Какот остановился, увидел в глубине чоттагина жену точно в том положении, в котором ожидал, и громко сказал:
— Пришел я — Какот!
ЛЮБОВЬ
В нагромождении торосов Айе нашел ярко-красный пластмассовый ящик с надписью «Sapporo» и осторожно обколол ножом. Ящик был удивительно легкий, разделенный внутри на ячейки, поэтому его и не раздавило во льдах.
По длинной галечной косе, далеко выдававшейся в море, но скрытой нынче под слоем снега, Айе шагал, держа на плече ярко-красный ящик, и размышлял о его назначении.
С косы хорошо была видна одинокая яранга, притулившаяся к океанскому берегу. Сколько помнил себя Айе, она всегда стояла здесь. Было время, когда она была не одна — здесь располагалось довольно большое стойбище, жители которого одновременно занимались морским промыслом и оленеводством.
Потом люди ушли — переселились на новое место, где построили большие деревянные дома, школу, большой магазин, провели электричество. Айе до недавнего времени тоже жил там, пока учились дети, пока были силы работать в правлении колхоза.
Три года назад Айе переехал в старую ярангу. Многие, в том числе и дети, уговаривали не делать этого: как жить вдали от людей, от большого магазина, кино, почты, телевидения? Как жить без общения с друзьями, близкими, без долгих разговоров-воспоминаний со сверстниками? И последний довод: если что случится, заболеет кто — как узнать об этом, как помочь?
Айе усмехался про себя. Конечно, все это прекрасно — хороший поселок, большой магазин, кино и телевидение… Может быть, ради этого он работал без отдыха, терпел насмешки и издевательства, когда в годы далекой молодости агитировал за колхоз, вечерами сидел за партой, постигая грамоту… Но приходит такое время к человеку, когда нужно осмыслить себя и свой путь, когда воспоминания прошлого с удивительной силой тянут на то место, где родился, когда хочется прожитое переживать наедине…
Что касается магазина, то на это есть вертолет, который летает мимо яранги, летом ходит шхуна, проверяет маяки, и, наконец, у Айе хорошая упряжка… Правда, телевизора нет, но есть отличный транзисторный приемник и портативная радиостанция, с помощью которой в любое время можно связаться с поселком.
Из всех близких только жена, Умкэнэу, не отговаривала его. Не потому, что была покорна, это совсем не так. Просто за полвека совместной жизни она так свыклась с поступками и мыслями мужа, что иной раз ей казалось, что разговаривают они с мужем, даже не произнося вслух слова… Только когда Айе начинал говорить что-нибудь особенное, вычитанное из книг или журналов, она начинала чувствовать какое-то душевное неудобство. Обычно после таких разговоров внезапно менялась погода.
Айе шагал, высоко держа пластмассовый ящик, и размышлял о том, что думает Умкэнэу, глядя издали на красное и непонятное. Нынче море щедро на подарки. Возле яранги стоят четыре бочки солярки, выловленные в осенние шторма, бочонок сливочного масла, множество пустых деревянных ящиков, доски, обломки шлюпок. Особенно много всяческой пластмассовой посуды — бутылки, фляжки, канистры, банки… В некоторых сосудах сохранялось неизвестного назначения содержимое, иногда отдававшее хорошо знакомым запахом спиртного. Но дочка-врач настрого приказала не притрагиваться к этим подозрительным жидкостям. Вертолетчик Теплов, хорошо знающий английский, как-то тщательно изучил надписи на банках и рассортировал их: большинство были разного рода жидкие масла — для мытья головы, тела и даже отдельно для ног, средства для стирки и уничтожения насекомых. Водки и вин не было. Да и какой уважающий себя моряк выкинет или ненароком уронит такое добро за борт?
У яранги стояли несколько отлично сработанных нарт, самодельный верстак и разные инструменты на нем. В первые же месяцы после приезда сюда Айе обнаружил, что не может жить только охотой. Вспомнил, что когда-то делал нарты. Они пользовались большим спросом, а материал поставляло море: нерпы и лахтаки — ремни, а волны — почти неограниченный запас разнообразных пород дерева. Айе иные нарты оснащал сиденьями из красного дерева. Только полозья каждый раз были или дубовые, или березовые.
Умкэнэу вышла из яранги.
Такая стояла тишина, что на большом расстоянии Умкэнэу отчетливо слышала скрип снега под подошвами и глубокое, шумное дыхание Айе.
Умкэнэу попыталась разглядеть, что это несет старик, но, пересилив любопытство, принялась кормить собак, встряхнув каждую из них, чтобы не примерзали к снегу.
Затем она вернулась в чоттагин. В такую погоду можно и гостей дождаться. Путь вертолета, облетающего оленеводческие стойбища, пролегал как раз над одинокой ярангой, и летчик Теплов приземлялся у яранги хотя бы на полчаса, чтобы поговорить со стариком, снабдить его новыми книгами, журналами и газетами.
Пока Умкэнэу подметала пол утиными крылышками, прибирала книжную полку, оттирала иней от глянцевых журнальных обложек, она не переставала прислушиваться к приближающимся шагам.
Небольшой чайник стоял на горящем примусе.
Когда Айе подошел к яранге, он услышал шум пламени и с удовольствием подумал о предстоящем чаепитии. Потом, до захода солнца, можно будет немного поработать на свежем воздухе, а вечером почитать.
Эти дни Айе читал роман Льва Толстого «Воскресение». Книга давно была у него на примете, но Айе почему-то был уверен, что это повествование о том, как проводили выходной день помещики времен Льва Толстого. В разговоре с Тепловым Айе узнал, что значение названия совсем не такое, как он думал.
Многие книги Айе читал вслух и делился своими мыслями с женой. Но в этом романе было много странного: волнующие, глубинные, затаенные чувства. Айе переживал это необычно, молча, тревожа этим Умкэнэу, заставляя ее просыпаться среди ночи от незнакомых, тут же улетучивающихся сновидений.
Иной раз, отложив книгу, Айе начинал говорить. Надо было напрягать внимание, чтобы следить за ходом его мысли, за часто непонятными и туманными рассуждениями о природе человеческого сердца, отягощенного чувством вины, о преступном себялюбии, которое губит человека и отрывает его от других людей…
Айе вошел в чоттагин и опустил на промороженный земляной пол ярко-красный ящик с черными буквами на всех его четырех стенках — «Sapporo».
— Гляди, что нашел, — сказал он жене.
— Хороший ящик, — заметила Умкэнэу и, осмотрев внутренние ячейки, на минуту задумалась и сказала: — Очень удобно хранить в нем стеклянные бутылки.
— А ведь верно! — усмехнулся Айе. — Как я сам не догадался! Именно для этого и предназначен ящик. Двенадцать бутылок можно поместить, и не надо бояться, что побьются.
— А что это за слово? — спросила Умкэнэу, показав на надпись. — Название напитка?
— Нет, — ответил Айе. — Это название города в Японии. Несколько лет назад там проходили зимние олимпийские состязания.
Айе начинал учиться грамоте еще тогда, когда чукотская письменность пользовалась латинскими буквами.
После чаепития Айе вышел из яранги. Погода портилась. Солнце низко висело над хребтом: красное, огромное, прихваченное морозом. Оно садилось в низкие, похожие на размазанные чернила тучи.
Старик поставил на верстак заготовку и принялся строгать. Мысли его перескакивали с одного на другое, пока почему-то не вернулись к ящику из ярко-красной пластмассы с надписью «Sapporo».
Эти буквы… Латинский алфавит… Это было так давно. Крадучись, Айе ходил в школу. Поздними вечерами, когда засыпали собаки и люди. Школа стояла на косе — маленький двухкомнатный фанерный домик. В одной комнате жил учитель, в другой помещался класс. Вместе с Айе учились еще Теркинто, Ильмоч и Гэматтин. Потом они и составили первую комсомольскую ячейку. Первым секретарем у них стал учитель Павел Князев. На другой год в школу уже ходили не таясь, к ним присоединились другие жители села, в том числе и девушки. Только там, в школе, Айе как следует разглядел свою соседку. Яранга родителей Умкэнэу находилась рядом с ярангой Айе. Но только в фанерном домике Айе увидел, что Умкэнэу выросла и превратилась в высокую девушку. Под тонкой камлейкой, накинутой поверх кэркэра, угадывались высокие твердые груди. Сосредоточенное лицо Умкэнэу с мелкими бисеринками пота на верхней губе непонятно волновало, чудилось в короткие минуты перед сном. Уши слышали ее голос, негромкий, но удивительно теплый. Иной раз Айе удавалось заглянуть в глаза девушке. В глубине черных зрачков мелькали искорки, от которых у него перехватывало дыхание. Понемногу он понял, что и Умкэнэу чувствует неодолимую силу, которая тянет их друг к другу, не дает спать ночами, а днем заставляет их искать встреч.
И как-то длинным летним вечером они ушли далеко в тундру, где синели, отражая небо, тихие глубокие озера. На сырой, прохладной траве они сплели тела, оба дивясь великому открытию, которое делают только двое. Потом вместе вернулись домой, в ярангу родителей.
— Я взял ее, — сказал Айе своим, что означало в то же время: я женился на ней.
Никакого особого обряда по этому случаю не было. У бедных семей не было обычая торжественно отмечать женитьбу.
Айе души не чаял в Умкэнэу, но, как это полагалось исстари, не выказывал своих чувств. Лишь в темноте полога, когда не было ни взглядов, ни слов, чувства эти обретали реальность. Соприкосновение разгоряченных тел создавало новый, огромный, волшебный мир, который не нуждался в словах. Иной раз с ощущением некоторой неловкости Айе где-нибудь на охоте вдруг обнаруживал, что с тоской думает об Умкэнэу, вспоминает ее теплое, предутреннее дыхание.
Айе надеялся, что со временем это у него пройдет, он будет относиться к жене как все — как соседи, сверстники. Но с годами чувство у Айе росло и крепло, словно в груди зажегся постоянный, ровно горящий и никогда не гаснущий огонек.
Пошли дети. Умерли один за другим родители, проторив новую дорогу на священный холм, где белели кости похороненных по древнему обряду.
О своих чувствах и переживаниях ни Айе, ни Умкэнэу за всю свою долгую жизнь не сказали друг другу ни слова. Не только потому, что такого не водилось в народе, а скорее оттого, что в этом не было никакой надобности.
Впоследствии Айе начал догадываться, как называется это чувство, связавшее навеки его и Умкэнэу. В книгах и в кино о любви говорилось очень много. Порой не оставалось ни слова для других, тоже важных дел. Именно это обстоятельство вызывало большое сомнение у Айе, он не мог отнести свое счастье к тому, что называлось любовью.
Айе еще раз прищурившись посмотрел на солнце. С каждым днем уменьшается светлое время. Недели через две солнце будет подниматься над горизонтом часа на два, не больше. А потом наступят долгие сумерки. Умкэнэу будет ждать его у яранги, время от времени светя электрическим фонариком. В молодости она зажигала мох в плошке с тюленьим жиром и широко распахивала дверь в чоттагине, чтобы пламя отражалось на снегу и служило путеводной звездой возвращающемуся с моря охотнику. И Айе чувствовал издали излучающее тепло жены, ее тревожное ожидание.
Интересно, почему это вдруг вспомнилось именно теперь, сегодня? Может быть, оттого, что пришло время подумать и об этом?
Сумерки уже сгустились так, что дальше строгать не было смысла: можно испортить будущий полоз.
Айе убрал инструменты и посмотрел на небо. Жаль, конечно, что Теплов не прилетел, но что делать: глупо сетовать на изменчивость северной погоды.
За вечерней трапезой Айе молчал, заново переживая неожиданное воспоминание. Иногда он кидал пытливый взгляд на жену, словно отыскивая в ней черты той, которая покорно пошла вместе с ним на мягкие тундровые травы.
Умкэнэу чувствовала что-то новое, незнакомое в настроении мужа, и это вызывало у нее смутную тревогу.
Перед сном Айе долго крутил приемник. Послушал последние известия, потом поймал Анадырь, голос чукотского диктора. Выключив приемник, Айе принялся за чтение. Но что-то не читалось. Вспомнил, как его унесло на льдине. В общем-то, с каждым морским охотником случалось такое. Айе вышел на твердую землю на седьмой день. А когда пришел в селение, Умкэнэу, вопреки обычной сдержанности, кинулась ему на шею и смочила все его обмороженное лицо горячими слезами радости.
Айе аккуратно положил книгу, запомнив номер страницы, и вдруг неожиданно для самого себя окликнул жену:
— Умкэнэу!
— А?
— Знаешь, Умкэнэу, сегодня мне не дает покоя одна мысль… Не знаю даже, как тебе и сказать…
— Что такое? — встревоженно спросила жена, подумав тут же: не заболел ли старик?
— У нас все-таки была любовь, — тихо сказал Айе, произнеся последнее слово по-русски.
— Любовь? — переспросила Умкэнэу.
— Что-то близкое к этому, — торопливо ответил Айе. «Погода испортится», — подумала про себя Умкэнэу. Так бывало всегда, стоило старику заговорить о чем-нибудь необычном и малопонятном. Вот так недавно было, когда он рассуждал о том, что люди стали делать много мусору и загрязнять природу. Попрекал жену, что она пускает сор по ветру, тундру портит. Умкэнэу не отвечала на его слова, полагая, что все это пустое. Но когда Айе прочитал ей статью из журнала о катастрофе танкера, о птицах со склеившимися крыльями, об огромных кучах дохлой рыбы, ей стало страшно. Всю ночь ее преследовали кошмары, а под утро она проснулась от шума пурги. Метель продолжалась четыре дня.
Почему вдруг Айе заговорил о любви? Это что-то новое. То все рассуждал о научном или о политике, а тут — о любви. Может быть, оттого, что давно не видел других людей? Надо будет уговорить его съездить в поселок, повидаться с детьми, понянчить внуков. Умкэнэу любила эти поездки. Не потому, что ей не нравилось здесь. В этих гостеваниях главная прелесть была в том, что они в любое время могли вернуться сюда, в эти места, которые связаны с самыми дорогими воспоминаниями.
Порой, когда Айе охотился в море или уходил в тундру, Умкэнэу бродила по косе и воссоздавала в памяти исчезнувшее селение, свою ярангу. От нее остались лишь большие круглые камни, которые удерживали жилище на земле во время урагана. Ветер давно смел сухой мох, на котором настилали пол из моржовых кож, выветрил все жилые запахи. Лишь приглядевшись, можно было увидеть очаг — закопченные, прокаленные камни.
На стороне косы, обращенной к морю, виднелись полуразрушенные стены бывшей школы. Каждый раз, даже теперь, когда большая часть прожитого осталась позади, подходя к этим стенам, побелевшим от ветров, дождей, снега и соленых морских брызг, Умкэнэу чувствовала волнение. И тотчас в памяти отчетливо вставало, как она впервые по-новому взглянула на Айе. И чтобы не показаться в его глазах смешной, она с необыкновенным усердием училась грамоте и русскому языку. И книг прочитала она не меньше, чем муж, только не признавалась ему в этом, считая, что нельзя лишать мужчину чувства превосходства. А какой был день в мягких тундровых травах на берегу озера! В этот день Умкэнэу поднялась на вершину счастья и, несмотря на ветер и снег, дожди и ураганы, крепко держится на ней.
Умкэнэу засыпала с тревогой.
Ночью шум ветра разбудил ее, и она с неожиданным облегчением вдруг подумала: «Ну вот, так и знала: пурга».
Стараясь не разбудить мужа, она осторожно выскользнула из полога.
В лицо ударило снегом и ветром. Отцепляя по одной, перевела всех собак в чоттагин. Потом ощупью нашла распяленную на снегу нерпичью шкуру и принялась выдергивать колышки. И тут она почувствовала рядом мужа. Айе молча помог принести шкуру в чоттагин.
Забравшись под теплое оленье одеяло и чувствуя, как тепло возвращается в остывшее тело, Умкэнэу снова вспомнила слова мужа о любви. И, засыпая под усилившийся вой ветра и хлопанье моржовых кож по крыше, она подумала: «А может, это действительно любовь?»
СЕГОДНЯ В МОДЕ ПИЛИКЕНЫ
Почему это время прошло? Она ведь видела каждую травинку, каждый листочек и каждый камешек на морском берегу! Небесная синь была для нее разной густоты от горизонта до зенита, и цвет морской воды менялся от ее собственного настроения. Неужели это было только свойством детского восприятия, способностью детского глаза?
«Почему я вижу вместо отдельных травинок сплошной зеленый покров, галечный пляж, небосвод и океан и мне нужно напряжение и внимание, чтобы вглядеться в очертания отдельного зеленого листочка?»
Однажды Эмуль спросила сама себя об этом и удивилась.
Новорожденную вынесли на берег моря. Дед Гальматэгин окунул ее макушку в соленую воду Ледовитого океана и сказал:
— Хорошо, что родилась летом. Зимой пришлось бы в снег.
Эмуль родилась почти бездыханной. Шаманке-повитухе пришлось вдохнуть ей собственное дыхание, а чтобы синяя кожа покрылась румянцем, она велела деду Гальматэгину окунуть внучку в студеную волну.
Все это происходило в строгом секрете от отца. Рочгын в это время заседал в домике сельского Совета и обсуждал вопрос об искоренении старинных вредных обрядов. Когда он узнал, было поздно: на шее дочери висел амулет, вырезанный Гальматэгином и изображавший маленького тюлененка с белой, серебристой шерстью.
— Кому это мешает? — возразил Гальматэгин на намек сына насчет того, что не мешало бы снять с шеи внучки знак невежества и пережитка. — Это все равно что снять с шеи Павловны ожерелье из стеклянных бус.
Павловна была женой колхозного бухгалтера и работала продавцом в магазине. Она усердно помогала искоренять вредные пережитки и первая пошла по ярангам собирать бубны и старинные амулеты. В колхозном клубе она открыла курсы современных танцев, а ее муж обучал молодых охотников и девушек игре на балалайке, гитаре, мандолине и гармошке.
Тихими вечерами из-за тонких стен клубной яранги неслись звуки песни «Светит месяц», и полярное сияние цветными сполохами отзывалось на дружные аккорды.
Гальматэгин был уже стар для морской охоты и поэтому устроился работать в местную косторезную мастерскую. Здесь сидели такие же старики, как он, да несколько калек — Кэрголь с искривленными с детства ногами и горбатый Аамро, пришедший откуда-то из глубинной тундры.
Родители Эмуль были занятые люди: отец был председателем сельского Совета, а жена его возглавляла комиссию по внедрению нового быта. Поэтому с девочкой больше возился Гальматэгин, а когда отпала необходимость кормить ее грудью, Эмуль полностью перешла на попечение деда, который таскал ее повсюду с собой. Когда он пошел работать в мастерскую, то мастерская стала родным домом для Эмуль.
Бурные годы пришлись на детство Эмуль. Прогремела Великая Отечественная война. Она запомнилась Эмуль названиями далеких городов от Сталинграда до Берлина, разговорами о нехватке табака и приездом американских эскимосов.
Эмуль уже ходила в школу, хорошо говорила по-русски и изучала английский язык.
К концу войны Эмуль завершила свое семилетнее образование и получила свидетельство, красивый лист, похожий на облигацию займа. Директор школы уговаривал ее ехать в Анадырское педагогическое училище, а после училища можно поступить и на северный факультет Ленинградского университета, но Эмуль осталась в родном селении. В ее решении остаться многие увидели вполне разумное желание помочь своим родителям: к тому времени, когда Эмуль кончила семилетку, в сельсовет пришел другой человек, а мать больше не бралась за внедрение нового быта, потому что за военные годы пришлось вспомнить многое древнее, чтобы продержаться. Даже школьные классы иногда освещались жирниками, которые в своих обличительных речах мать Эмуль называла не иначе как «дымными», «извергающими черную копоть пережитков».
Отец оказался не очень расторопным во льдах и на вельботе. К величайшему его огорчению и разочарованию тех, кто в свое время предлагал его кандидатуру в председатели сельского Совета, он оказался чуть ли не на последнем месте.
Эмуль пошла работать в столовую. Ей нравился чистый просторный зал в новом доме, который был открыт тремя большими окнами всем утренним лучам. Но самое интересное и привлекательное было в том, что в столовую в основном приходили новые люди, приезжие, командированные из районного центра, из Анадыря, из области. В отличие от постоянных посетителей, они хвалили отбивные из нерпичьего мяса и моржовую печенку. Они любезничали с официантками, назначали им свидания возле нового колхозного клуба, спрашивали, у кого можно купить нерпичьи шкурки, вышитые тапочки и пиликены из моржовой кости.
Да, пиликены в последние годы пошли в ход. Изображения сытого, прижмурившегося божка украшали стеллажи учителей, стояли на письменных столах и даже висели в ушах у некоторых модниц.
Они десятками изготовлялись из отходов моржовой кости и сбывались «налево». Ни один из косторезов не избежал «пиликеновой лихорадки». Дольше всех сопротивлялся искушению Гальматэгин, но потом плюнул и взялся за изготовление божков.
Многие приезжие прямо в столовой подходили к Эмуль, передавали приветы от знакомых и просили устроить десяток-другой божков-пиликенов. Эмуль передавала заказ деду, тот по вечерам включал домашнюю бормашину, и острая фреза с визгом вгрызалась в моржовую кость.
Однажды Эмуль спросила, что значит этот маленький божок, который пользуется такой популярностью. Дед замялся: «Это символ невежества и алчности. Его вешали на охотничье снаряжение, чтобы все дурное сосредоточивалось в нем, уходя от живого обладателя. Это как бы мусорное ведро, которое человек носил всегда с собой, как иные больные носят при себе плевательницу. Если человек начинал чувствовать, что его одолевают темные помыслы и нечистые желания, он заводил пиликена, а избавившись от дурных страстей, избавлялся от него, выбрасывал его… Сейчас пиликена покупают, в общем-то, хорошие люди, мне совестно, но ничего не могу поделать. Я им объяснял, что значит этот бог, но меня не слушали: говорили, что пиликен нынче очень моден».
Кончина деда была печальной неожиданностью не только для родных и близких Гальматэгина, но и для всех жителей селения.
Старика хоронили по новому обряду, в гробу, с речами, а на могиле поставили фанерный обелиск с красной звездочкой на вершине, и по этому поводу кто-то проронил:
— Словно партизан, а не косторез.
При жизни Гальматэгина никто не задумывался об этом. Но после его смерти оказалось, что престарелый косторез, по существу, содержал всю семью. Вдруг обнаружилось, что не на что купить чаю и сахару, из посудного шкафчика исчезли такие лакомства, как сгущенное молоко и конфеты.
Рочгын недоуменно разводил руками и посылал жену занимать деньги к соседям.
Однажды Эмуль заглянула в рабочий ящик Гальматэгина. Все его инструменты — от ножной бормашины до набора различных фрез, шильцев, напильничков, шлифовальной бумаги — были в идеальном порядке. В другом отделении лежали десятка три недоделанных пиликенов и что-то тяжелое и длинное, завернутое в мягкую оленью замшу.
Эмуль осторожно развернула сверток и вздрогнула от удивления: перед ней лежал расписанный моржовый клык.
Эмуль пристально вгляделась в рисунки, и тихое волнение охватило ее. Она не знала, что коснулась большого искусства и таинственные струны ее души оказались созвучны мыслям рисовавшего.
На клыке был изображен тот мыс, на котором впоследствии построили мощный маяк. Именно с этого мыса и открывается лучший вид на селение, когда можно различить каждый дом и даже узнать каждого прохожего. Одна половина клыка изображала старое селение с ярангами и с несколькими европейскими домиками. На другой половине стоял уже современный поселок с рядом деревянных домиков, протянувшихся от подножия мыса до старого, поставленного еще в тридцатые годы ветродвигателя.
Возле домов можно было различить людей. У морского побережья выгружали из вельботов моржовое мясо, а чуть поодаль, приткнувшись к берегу, стояла баржа, и грузчики катили на берег бочки. На рейде дымил пароход. И этот пароход тоже не был пароходом вообще. На его борту можно прочитать выведенное маленькими буквами «Анадырь» и порт приписки — Владивосток.
Эмуль рассматривала клык и чувствовала, как слезы застилают глаза. В душе возникала нежная горечь от мысли, что это мгновение, запечатленное в чуть поблекших красках дедова рисунка, уже больше никогда не вернется, как не встанет из могилы и не заговорит дед Гальматэгин.
Разглядывая клык, Эмуль чувствовала себя возвращенной в детство, когда она видела каждую травинку, каждый листочек и каждый камешек на морском берегу… Ее зрение уходило в глубь моржового клыка и вызывало мысли и чувства, образы и звуки прошлого, пережитого. И многократно усиленный луч вдруг возвращался в настоящее и высвечивал уже в ином свете то, что казалось таким знакомым и обыденным.
Эмуль осторожно завернула клык и положила на место.
Как-то раз в столовой к ней подошел синоптик полярной метеорологической станции Прохоров и смущенно сказал:
— Ваш покойный дед обещал мне сделать десять пиликенов… Может быть, он уже и сделал их, но просто не успел передать… Тем более деньги за них он уже получил… Извините меня. Посмотрите, пожалуйста…
Гладко выбритое лицо Прохорова, румяное, плотное, не поддавалось его усилиям изобразить на нем жалость и неловкость, оставаясь по-прежнему жизнерадостным, сытым и самодовольным.
— Я посмотрю, — склонив голову, пообещала Эмуль.
Вернувшись домой, она достала дедов рабочий ящик и стала перебирать заготовки пиликенов. Ни одного готового не оказалось. Эмуль взяла одну заготовку, достала инструменты и принялась обтачивать податливый моржовый клык. Довольно легко она выточила круглое брюшко, торчащие из-под нависшего живота ножки, отвислые груди, но на лице резец запнулся… Эмуль пыталась воссоздать тот примелькавшийся, стандартный облик божка, но рука, еще недавно такая уверенная, вдруг стала робкой.
Первый пиликен был отложен. И Эмуль, возможно, никогда бы к нему не вернулась, если бы Прохоров не напомнил:
— Дед отличался честностью и порядочностью. Когда я предложил ему деньги вперед, он отказывался, но я сам настоял. Знаете, у меня скоро отпуск, хочу привезти отсюда подарки. Вышитые тапочки у меня уже есть, нерпичья шапка тоже, вот только остались пиликены, а они нынче в моде. Неужели он так ничего и не оставил? Посмотрите, пожалуйста, хорошенько.
— Хорошо, посмотрю, — обещала Эмуль.
На этот раз не надо было диктовать руке. Она сама уверенно повела резец, и Эмуль делала лишь одно усилие — не упускала розовое и гладкое лицо наблюдателя, который силился изобразить сочувствие и смущение.
Остальные пиликены были похожи на первый как две капли воды. Под конец Эмуль уже не пользовалась резцом, а поставила бормашину и обтачивала божков с помощью крутящейся фрезы.
Прохоров был очень доволен. Он долго вертел в руках пиликены, цокал от удовольствия языком.
— Я не ошибся, когда заказывал вашему деду пиликенов. Какие выразительные рожицы! Сразу видна рука большого художника. И никакого тут примитива нет! Это по существу самый честный взгляд на мир.
Но Эмуль плохо слушала наблюдателя, на душе у нее было легко и светло от мысли, что она защитила память деда и вернула его долг.
Придя с работы, Эмуль застала отца за дедовским рабочим ящиком. Рочгын держал перед собой разрисованный моржовый клык, и что-то новое, необычное появилось в выражении его лица.
— Боюсь, что за него много не дадут, — задумчиво проговорил отец. — Ничего особенного, выдающегося. Просто жизнь… Да, не умел соображать дед, не умел идти в ногу со временем. Когда другие осваивали новые темы, он все резал охотника на тюленя да зверей. Гоголя сделали из моржового клыка, а дед оленя полировал! А что нарисовал Куннакай на моржовом клыке? Не знаешь? Взятие новых обязательств на звероферме. Вот что значит идти в ногу со временем!.. А это, — Рочгын пренебрежительно пожал плечами, — в лучшем случае годится на премирование уходящего на пенсию. Да, много не дадут…
— Ты хочешь продать этот клык? — спросила Эмуль.
— Да, — ответил Рочгын. — Что он будет без пользы лежать в ящике? Глядишь, рублей двадцать за него дадут.
— Отец, не продавай! — взмолилась Эмуль. — Я лучше тебе наделаю пиликенов!
— А на что тебе этот клык? — усмехнулся отец. — Ты уже не маленькая, чтобы забавляться.
— Я тебя очень прошу, — притихшим голосом просила Эмуль. — Каждый пиликен ты можешь продать за пятерку.
— Пиликены — это хорошо, — с довольным видом сказал Рочгын. — Они теперь в моде. Хорошо, дочка, подожду продавать клык.
Эмуль положила клык обратно в дедов ящик и принялась за работу. За несколько дней она выточила из дедовых заготовок десятка полтора пиликенов. Рочгын был доволен и хвалил дочь:
— Твои пиликены самые лучшие! Так говорят знатоки. У них осмысленное выражение.
По вечерам в домике Рочгына жужжала бормашина и белая пыль ложилась на волосы склонившейся над куском моржового клыка Эмуль. На небольшом столике рядком выстраивались один за другим божки и тускло отсвечивали отполированными животами при ярком электрическом освещении. Через некоторое время Эмуль обнаружила, что изготовление пиликенов доставляет ей удовольствие. Ей нравилось брать холодный, мертвый клык и оживлять его собственным теплом. И порой ранним утром, еще до того, как надо было идти в столовую, Эмуль брала недоделанного пиликена, и он бывал еще нагрет вчерашним теплом. В каждом из божков, с огромным, от уха до уха ртом, с длинными, свисающими ушами, Эмуль старалась воплотить чей-нибудь облик.
Обычно это был портрет самого заказчика, но был он сделан так, что только одна Эмуль могла узнать в веселом и самодовольном божке лицо реально существующего человека.
Заказов становилось все больше, и Эмуль едва успевала и в столовую, и точить вечерами уже порядочно надоевших божков.
Но отец был очень доволен и, сидя за рюмкой вина, глядя на сосредоточенно склонившуюся голову дочери, говорил:
— Дедово умение перешло к тебе! Странная вещь: вроде я был ближе к нему, а сделать из кости ничего не могу — не дано мне это мастерство!
Эмуль молча выслушивала его, выполняла свою вечернюю норму и ложилась в постель. Электрический свет в селении выключали ровно четверть первого, и до того, как лампочка начинала моргать в знак скорого угасания, девушка успевала уже в который раз внимательно рассмотреть картины на моржовом клыке.
Затаив дыхание она всматривалась в нежные голубоватые тона на белом, чуть желтоватом полированном клыке, и перед ней возникал отчетливый, понятный до последней травинки, до отдельной песчинки на морском берегу, большой, прекрасный мир. Какое волшебство было в этих моржовых клыках? Какую неведомую силу таили тонкие, наполненные красителем черточки, штрихи?
Начинала мигать лампочка, и Эмуль торопливо прятала под подушку бивень. Она чувствовала его всю ночь и, просыпаясь, ощущала далекое тепло дедовских рук, оставшееся в глубине моржовой кости.
Она начинала думать о себе самой, о том, что вот она живет просто так, без мыслей о том, что должно быть в будущие годы. У всех ее подруг были любимые или хотя бы те, по ком они вздыхали, каждая мечтала в будущем переменить свою жизнь, уйти из столовой куда-то в другое место, а вот Эмуль никогда не задумывалась об этом, и не было у нее парня, по которому она бы вздыхала. Со всеми своими ухажерами она была ровна и одинакова, и парни терялись в догадках, кому она отдает предпочтение, и выжидали или же находили таких, кто был определеннее и умел на главный вопрос жизни дать прямой ответ.
— Ты какая-то странная! — говорили Эмуль подруги, но она загадочно улыбалась и ничего не говорила в ответ. Так было до недавнего времени, когда в столовой появились археологи во главе со своим молодым бородатым начальником Геннадием Барышевым.
В осенний штормовой рассвет она ушла на берег моря. Иногда зоркий глаз мог найти в разноцветии отполированной холодной гальки осколок цветной моржовой кости. Выпавшие клыки, пробыв долгое время в морской воде, обретали иной цвет на всю глубину кости. Они были особенно дороги, и пиликен из такого обломка ценился раза в два выше, чем из обыкновенной белой кости.
В темноте долгого утра светились верхушки волн, и соленая водяная пыль освежала лицо. На галечном берегу лежали выброшенные волной морские звезды, плети морской капусты, пустые раковины, голоспинные рачки, красные креветки. Иногда попадались искореженные пустые консервные банки с диковинными этикетками, и Эмуль пыталась прочитать их, вспоминая полузабытые школьные уроки английского языка. Она жалела, что мало училась, но это сожаление появлялось время от времени, когда она встречала в книге непонятное слово или какой-нибудь командированный гость заводил вдруг очень ученый и загадочный разговор. А какие слова говорил Геннадий Барышев: палеолит, неолит, уэленско-оквикская культура…
Экспедиция Академии наук намеревалась разгадать загадку заселения американского материка. Они приехали ранней весной, пробыли несколько дней в селении, наняли два вельбота, нескольких рабочих и отправились в старинное поселение на мысу, в котором уже давно никто не жил. Там они провели в палатках все лето, изрыли лопатами все холмы и набили находками четыре огромных ящика и с десяток мелких. Все командированные предпочитали пользоваться воздушным транспортом, но археологи не поместились бы ни в самолет, а тем более в вертолет, и ничего другого не оставалось, как дожидаться парохода, который должен был завезти новые товары. Археологи толпой явились далеко до часа открытия в столовую и шумно топтались на высоком крыльце, время от времени нетерпеливо постукивая в запертую дверь…
Эмуль дошла до скалистого обрыва. Дальше было опасно: какая-нибудь сильная волна могла припечатать человека к отвесной каменной стене и навсегда отбить охоту лезть на галечную отмель, которая чем дальше, тем больше сужалась, пока не сходила на нет.
Эмуль повернула обратно. В одной руке она несла охапку сладковатой морской капусты — мыргот и медленно жевала длинную плеть. Солнце уже пробивалось узкой красной полоской под черными, низко нависшими тучами. Мрак понемногу рассеивался, и верхушки высоких волн уже больше не светились. Затарахтел двигатель электростанции, вспыхнули окна деревянных домов, а вдали, где селение кончалось и начинался пустынный галечный берег, на вышке, на которой болтался полосатый рукав указателя ветра, вспыхнул красный фонарь, похожий издали на потухающую звездочку.
Эмуль прибавила шагу. Чуть справа и сзади ей помогал устойчивый сильный ветер, толкая вперед ровно и напористо. Ей подумалось, что Барышеву и его товарищам придется порядочно просидеть в селении — в такую погоду пароход не придет, пройдет мимо или разгрузится где-нибудь в южном пункте полуострова, где ветер дует от берега.
Когда она дошла до столовой, к двери уже подходили подруги-официантки, а у крыльца толпились собаки в ожидании большого бака с объедками.
— Нашла драгоценный клык? — спросила заведующая.
Эмуль отрицательно покачала головой и аккуратно сняла здесь же на крыльце покрытый солеными каплями плащ-болонью. Плащи эти появились сравнительно недавно и пользовались большим спросом у жителей побережья, где все лето — ветер и сырость. Эмуль стряхнула соленую влагу и вошла в столовую, уже нагревшуюся от рано затопленной плиты. Из кухни тянуло вкусными запахами, и Эмуль почувствовала, как от предвкушения еды ей сжало челюсти где-то возле ушей.
До открытия столовой оставалось уже немного времени. Эмуль вместе с подругой обтерла покрытие цветным пластиком столы, поставила стаканчики с аккуратно нарезанными салфетками, проверила, есть ли во всех перечницах и солонках содержимое, поставила хлеб на все столы и только после этого села завтракать за крайний столик, стоящий у окна. Она ела горячее оленье мясо и смотрела на высвечивающуюся из сумерек улицу селения. На горизонте, как раз в том месте, откуда должно было подняться солнце, белела полоска чистого неба. Она уже не была ни красной и ни алой — в этом месте цвет был уже дневной. Эмуль перестала есть и подождала, пока не проклюнулся первый луч солнца. Край светила рос на глазах, и который уже раз Эмуль удивилась про себя, как стремительно в своем начале движение солнца: оторвавшись от линии горизонта, оно замедляет свой полет по мере удаления от него. Не успела Эмуль допить чай, как солнце полностью вынырнуло из воды и уже верхним краем коснулось нижнего края облака, предвещая пасмурный ветреный день.
Археологи явились за пятнадцать минут до открытия столовой. Заведующая, выглянув в окно, разрешила:
— Ладно уж, впустите этих копателей.
Археологи сели вместе, сдвинув два стола. Они приветливо и громко поздоровались с девушками, и Барышев тут же заказал:
— Все, что есть, — по одной порции!
Это значило, что каждому надо подать по порции тюленьей печенки, оленьего рагу, по стакану кофе со сгущенным молоком и полной тарелке оладий. Аппетит у молодых ученых был завидный. И хотя они ни на минуту не прекращали за столом разговора, девушки едва успевали им подавать.
В столовой не разрешалось курить, поэтому после кофе ученые не задерживались и старались быстрее выбраться из-за стола и выйти на крыльцо, где они еще стояли с полчаса, с наслаждением выкуривая первую утреннюю сигарету.
Но сегодня Барышев остался. Он как-то несмело, чуть бочком подошел к Эмуль и сказал:
— Я давно хотел с вами познакомиться…
Услышав это, Эмуль едва не выронила стакан с горячим чаем, который она несла бухгалтеру.
Она стояла и не знала, как ответить на эти слова, пока Барышев не продолжил:
— Вас-то я знаю как зовут.
В столовой завсегдатаи окликали девушку нездешним именем, полученным ею еще в школе от учительницы, — Эмма.
— А меня, — продолжал Барышев, — зовут Геннадием. Геннадий Барышев, — сказал парень и протянул смущенной девушке руку.
Эмуль от неожиданности и растерянности протянула ему руку, в которой держала стакан, потом поправилась и подала левую.
— Вы подадите чай, — мягко произнес Геннадий Барышев, — а потом я вам что-то скажу.
Эмуль почти бегом донесла стакан до столика, за которым сидел бухгалтер, и вернулась.
— Я узнал, что вы хорошая мастерица, — сказал Геннадий таким голосом, что Эмуль от смущения отвернулась в сторону. — Да, это правда! — горячо продолжал археолог. — Мне удалось кое у кого посмотреть ваших пиликенов. Это настоящие маленькие шедевры. Они чем-то напоминают древние костяные маски, которые иногда попадаются в неолитических захоронениях… Так вот, у меня к вам огромная просьба: сделайте мне десяток пиликенов! Хорошо? Пусть это будет памятью о Чукотке и о вас, — Геннадий Барышев учтиво поклонился.
— Конечно, мне бы хотелось увезти более характерное произведение косторезного искусства, но времени нет. И вот я вас прошу, Эмма, сделать мне такое, чтобы я снова захотел приехать сюда… Договорились?
Геннадий Барышев улыбнулся и ласково заглянул в глаза Эмуль.
— Все это, разумеется, — добавил он приглушенным голосом, — за соответствующее вознаграждение.
Этот день был самым длинным днем в жизни Эмуль. Она не могла дождаться закрытия столовой, чтобы убежать к себе домой и засесть за работу… У нее есть обломок темного клыка, найденный в прошлом году. Она уже знает, что вырежет из него. Она вырежет такое, что Геннадий Барышев захочет вернуться на Чукотку.
Эмуль взяла в руки обломок клыка, отполированного морскими волнами, и вгляделась в него. Кость была почти черная, с едва заметным коричневым отливом. В глубине просматривались легкие переходы тонов. Обломок был большой, почти половина огромного моржового бивня. Кость была плотная, крепкая. Эмуль долго вертела ее в руках, пока она не стала такой же горячей, как и ее ладони.
Что же изобразить такое, что бы волновало человека, напоминало ему о самом сокровенном и близком сердцу? Эмуль принялась перебирать впечатления своей недолгой жизни, и вдруг словно неожиданный проблеск солнечного луча озарил ее память.
Трудно назвать год, когда это было. Однажды дед Гальматэгин взял ее в свою маленькую легкую байдарку. Они плыли по направлению к большой, отдельно стоящей скале Янравыквын. В прозрачной воде висели медузы, птицы любопытными взглядами провожали маленькую кожаную байдарку, а Эмуль не могла оторвать глаз от прозрачного днища утлого суденышка, и от сознания того, что под этой непрочной кожей огромная глубина, замирало сердце и какой-то сладкий сироп бился в коленках вместо горячей крови.
Косые лучи низкого солнца стлались над морской поверхностью, и птицы пугались собственных огромных теней. Гальматэгин греб молча и сосредоточенно. Вода со звоном капала с лопастей весел, а нос суденышка с журчанием рассекал морскую поверхность.
Эмуль с трудом отвела взгляд от переливающейся под тонким кожаным днищем воды и посмотрела вперед, где в солнечных лучах купался утес Янравыквын с заплатами зеленого мха и белыми потеками птичьего помета. Эмуль вздрогнула от неожиданности: на одном из верхних уступов, опершись на короткие лапы, стояло удивительно красивое животное. Его гладкое, будто отлакированное тело блестело на солнце. Но самым прекрасным была линия изгиба тела, — это было такое волшебство чистой линии, что Эмуль не сдержалась и воскликнула:
— Как красиво!
Дед перестал грести и обернулся.
— Это отлек — сивуч! — сказал он. — Редкий гость.
Отлек шевельнул головой и вдруг взлетел! Это был необыкновенный полет. Упругое и удлиненное тело отлека мелькнуло таким совершенством линий, что Эмуль застонала от восторга.
— Очень красиво полетел, — заключил дед Гальматэгин, проследив за тем, как сивуч вонзился в воду и ушел в глубину.
Позже много раз Эмуль с волнением вспоминала полет отлека, и сейчас, когда она держала в руке нагретый от ладони моржовый клык, она вдруг почувствовала: если ей удастся воспроизвести линию тела отлека, чистоту и выразительность — получится как раз то, что всегда будет напоминать Геннадию Барышеву о прекрасной земле Чукотке.
Эмуль пристроилась под электрической лампочкой и принялась резать. Она ничего не видела вокруг себя — ни мать, ни отца, машинально выпила вечерний чай и снова вернулась к обломку моржовой кости: перед ней стоял лишь отлек и чистая линия сивучьего тела.
Неожиданно погасла лампочка: выключили свет. Эмуль вздохнула и, пожалев о том, что у нее нет запаса свечей, легла в постель. Закрывая глаза, представила она, как подаст Геннадию Барышеву сивуча на скале Янравыквын и парень вспыхнет от удивления и счастья. А может быть, действительно будет так, что он вернется на Чукотку, и может быть, может быть… когда-нибудь они будут вместе. От этой мысли Эмуль стало неловко и стыдно перед собой, и она закрыла зардевшееся лицо краем одеяла, словно кто-то мог ее видеть в этой кромешной темноте.
На следующий день она пошла в столовую с удовольствием. Эмуль не задумывалась над тем, что ей будет приятно увидеть еще раз Геннадия Барышева, его улыбку, услышать его голос: просто ей было хорошо.
— Работа идет? — весело подмигнул он Эмуль.
Девушка кивнула.
В тот же день несколько человек из экспедиции Барышева обратились к Эмуль с просьбой сделать для них пиликены, но девушка ответила, что она уже взяла заказ.
Первый раз в жизни Эмуль молила погоду, чтобы ветер держался дольше и волна била о берег: она боялась, что не успеет сделать своего отлека и преподнести Геннадию Барышеву на память о Чукотке.
Когда уставали глаза и руки не могли держать инструмент, Эмуль доставала дедовский клык и рассматривала рисунки. Она снова и снова задумывалась над волшебством этих бесхитростных линий, и волнение охватывало ее, жарко становилось в груди, и она начинала думать о Геннадии, о его глазах. Взор заволакивался туманом, приходилось долго ждать, чтобы вернулась зоркость и можно было продолжать работу.
Отлек обретал свои черты. Утес уже давно был готов, и даже, если внимательно приглядеться, на каменных его боках можно было увидеть шершавость мха.
Сзади молча подходил отец и долго стоял, наблюдая за работой дочери. Эмуль не любила, когда за ней подсматривали, но отцу она не могла сказать, чтобы тот отошел, и в эти минуты она водила по кости замшевым лоскутом. А отец вздыхал и тихо, как бы про себя, недоумевал:
— Почему отлек, а не пиликен? Пиликен был бы дороже.
Рочгын отходил, а Эмуль нужно было время, чтобы вернулось прежнее настроение, волнение, когда рука с резцом нетерпеливо отсекала от кости все лишнее и ненужное, что мешало выявиться стройному отлеку, который ждал так долго, чтобы выглянуть из своего костяного плена. Отлек должен быть в таком положении, чтобы через секунду-две он мог очутиться в воздухе. И, что самое интересное, Эмуль не делала его таким — он и был таким, лишь надо было убрать все, что мешало ему изготовиться к прыжку.
Иногда, чтобы вернуть глазам зоркость и способность различать мельчайшие детали, Эмуль вынимала драгоценный дедовский клык и подолгу его рассматривала, обретая вместе с острым взглядом волнение нетерпения.
А времени оставалось все меньше и меньше. Пароход полным ходом шел к берегам Чукотки, а синоптик полярной станции Прохоров сообщал об ожидаемом улучшении погоды, ходил с таким видом, словно он сам усмирял ветер и сметал тучи с небосвода. Приближались те несколько дней, когда природа как бы набирает силы перед окончательным штурмом на остатки скудного северного лета, делает передышку.
В канун того дня, когда должен был прийти пароход, Эмуль трудилась всю ночь. Наконец она осторожно обтерла готовую скульптуру лоскутком оленьей замши и поставила на край стола.
Тихо потрескивали свечи. За окном, смешанная с густой холодной темнотой осенней ночи, распростерлась тишина. Только сильно напрягши слух, можно было уловить слабый всплеск волны и сонное дыхание натрудившегося, усталого океана.
Отлек стоял, готовый прыгнуть в родную морскую пучину, а на сердце Эмуль вместо радости была странная пустота и горечь. Было такое ощущение, словно она вынула из своего сердца отлека и поставила его на край стола, а все эти дни, пока она его вырезала из моржовой кости, были днями, когда она мучительно выдирала из собственной души запечатленный образ прекрасного.
Но когда Эмуль представила себе, как зажгутся от радости глаза Геннадия, стало легче, и она уже критическим взглядом окинула отлека на скале Янравыквын.
На первый взгляд в куске потемневшей моржовой кости не было ничего особенного. Да, можно было увидеть скалу, приготовившегося к прыжку отлека. Но надо было вглядеться, всмотреться в ту единственную линию, которую Эмуль сумела передать, вырезая морское животное. Все было в этой линии — и песня, и робкий намек, и невысказанная нежность. Только надо всмотреться.
Эмуль со вздохом сожаления завернула отлека в оленью замшу и положила в специально приготовленную деревянную коробку.
Накинув на плечи плащ, Эмуль осторожно выскользнула из дома в студеную серость наступающего дня. В ноздри ударил запах замерзающего моря. Луч маяка одиноко бродил по спокойной морской глади в поисках свидания с кораблем. Эмуль шла вдоль притихшего, застывающего моря и чувствовала себя этим световым лучом, наедине с огромным темным простором.
С берега моря она поднялась в селение и прошлась по тихой улице. Ночевавшие на свежем воздухе собаки поднимали морды и провожали удивленным взглядом одинокую девушку. Эмуль дошла до домика, в котором расположились участники археологической экспедиции, постояла под темными окнами и медленно двинулась по морской стороне улицы.
Она шла медленно, очень медленно и все же довольно скоро дошла до своего дома. Ей не хотелось входить в помещение, и она снова повернула к морю.
Близкое солнце развеяло тьму на море, и неожиданно Эмуль увидела пароход, идущий к берегу. Корабль шел в тишине, словно на невидимых крыльях. Он сверкал огнями, переливался. Эмуль побежала обратно к домику, где жили археологи, и громко постучала в окно:
— Пароход пришел! Пароход пришел!
В эту минуту затарахтел двигатель колхозной электростанции, и селение вспыхнуло десятками электрических огней. Эмуль с гордостью подумала, что с моря селение, должно быть, выглядит так же красиво и величественно, как плывущий к берегу корабль. Раздался низкий, густой и сочный звук пароходного гудка, и загрохотала якорная цепь.
Эмуль заторопилась домой: надо успеть переодеться — сегодня предстоит горячий день, в столовой будет много посетителей. В дни прихода корабля все жители селения, от самых больших начальников до подростков, превращались в грузчиков. Помогали им и женщины, поэтому в домах некому было готовить и все устремлялись в столовую.
Когда Эмуль подходила к крыльцу столовой, там уже толпились люди, и среди них, конечно, Геннадий Барышев со своими товарищами. Он приветливо, как хорошо знакомый, кивнул Эмуль и крикнул:
— Как мои дела?
— Все в порядке, — ответила Эмуль. — Я все сделала, вечером принесу.
— Молодец, Эмма! — похвалил ее Барышев.
День прошел в сумятице и в беспрестанной беготне. Пришлось взять еще несколько человек и на кухню, и на раздачу, и все равно люди ворчали и покрикивали на сбившихся с ног официанток.
Наконец наступило время ужина.
Грузчики пришли, перемазанные в угольной пыли, оставляя на полу черные следы. Но поделать ничего нельзя — переодеваться некогда. Синоптик Прохоров принес известие о том, что на берег идет ненастье. Пароход надо было разгрузить до наступления шторма.
Пришли поужинать и археологи. Геннадий Барышев подошел к Эмуль и напомнил о том, что ждет ее после работы в своем домике.
— Мы сегодня уже грузимся на пароход, — сказал Геннадий.
— Я обязательно приду, — обещала Эмуль.
После работы она побежала домой. В домике никого не было: отец и мать были на разгрузке. Эмуль тщательно причесалась перед большим зеркалом и даже тронула помадой губы. Надела новую шерстяную кофточку, купленную на пиликены, а на ноги — новые красные японские сапожки.
Эмуль шла по улице, и прохожие с удивлением оглядывались на нее: в этот день никто не наряжался. Девушка дошла до домика и в нерешительности остановилась перед дверью. В домике слышались возбужденные голоса, передвигались какие-то тяжелые ящики, звенели бутылки. Эмуль пришлось несколько раз постучать, прежде чем она услышала голос, разрешающий войти.
— Эмма! — обрадованно воскликнул Геннадий Барышев. — Вот наконец я дождался!
В комнате укладывали чемоданы. На кроватях лежали вещи — белье, фотоаппараты, обувь, расшитые бисером тапочки и огромное количество пиликенов. Каждый вез не менее десятка костяных божков.
Эмуль заметила, что почти все божки сделаны наспех, кое-как, даже не отполированы как следует.
— Принесла? — нетерпеливо спросил Геннадий.
— Принесла, — тихо ответила Эмуль и принялась разворачивать кусок ткани, в которую была завернута деревянная коробка.
Товарищи Барышева бросили свою работу и столпились вокруг. Конечно, Эмуль предпочла бы вручить отлека одному Геннадию, без посторонних наблюдателей, но тут уж ничего не поделаешь.
— Ого! — сдержанно воскликнул один из археологов. — Целая коробка!
Эмуль сняла крышку и приблизила ящик к Геннадию. Тот с недоумением запустил руку и вытащил отлека.
Эмуль наблюдала за Геннадием. Сначала на его лице родилось выражение любопытства и некоторого недоумения. Но то, что потом увидела Эмуль, встревожило и огорчило ее: на лице Барышева возникло выражение глубокого разочарования. Он вертел в руках отлека. Но неужели это так трудно увидеть? Эту единственную линию, которая выражает все? Может быть, в комнате слишком светло?
Геннадий Барышев был еще очень молод, и на его лице еще не загрубели мускулы, поэтому, как он ни старался скрыть улыбкой разочарование, Эмуль все поняла и все увидела.
— Да, конечно, все это здорово, — нарочито бодрым голосом протянул Барышев, — но ведь сегодня в моде пиликены! Как я без них покажусь в Ленинграде?
Эмуль круто повернулась и бросилась вон из комнаты. Она слышала, что парень кричал и даже, ей показалось, бежал за ней, но Эмуль не оглядывалась. Она бежала прочь от этого домика, от большого парохода, мимо домов, в тундру, туда, за маяк, где гора поднимается все выше и выше, пока не становится вровень с облаками.
Поднявшись, Эмуль уселась на камень лицом к морю. Так она просидела до позднего вечера. Слезы обиды и горечи застилали глаза, а там, внизу, гремел лебедками пароход.
Зашло солнце, стало прохладно.
Эмуль вытерла слезы и встала. Пароход выбрал якорь и дал протяжный прощальный гудок.
Она смотрела вокруг прояснившимися омытыми глазами и чувствовала, как к ней возвращается то, что она считала навсегда утраченным: она снова видела каждую травинку и каждый камешек. Горизонт был резко очерчен, и морская синь была густо-черной, и облака были объемны в небе, и мысль оставалась незамутненной, лишь с легкой грустинкой, с той линией несбывшейся нежности, которую уносил большой пароход.
ХРАНИТЕЛЬ ОГНЯ
Кэвэв шел, с трудом вытаскивая ноги из рыхлого снега. Позади оставался кривой след — беспощадное свидетельство возраста человека. Лет двадцать назад цепочка снежных ямок от ног казалась вычерченной по длинной ровной линейке на розовом снегу. Кривая линия следов напоминала Кэвэву о том, что ему пора проведать склад погребальных дров, укрытый над таежным озерком в потаенном месте. Свой дровяной запас старик держал в секрете, о нем не знала даже жена. С годами дерево стало сухим, березовые поленницы потемнели…
Кэвэв присел отдохнуть.
Как прекрасна тайга! Даже такая редкая и мелкая, как здесь, на самой границе тундры. И деревья похожи на северных людей — коренастые, крепко держащиеся за землю. Попробуй выкорчуй вон ту иву! Придется переворошить всю землю, долбить ломом вечную мерзлоту.
Кэвэв встал и зашагал дальше, стараясь аккуратно ставить ногу, чтобы не провалиться в снег. Он глубоко вдыхал свежий воздух, и легкая боль в груди была сладостной. Свежесть, верил старик, разглаживает морщины в легких, отслаивает наросший за многие десятилетия черный табачный налет.
Неожиданно в воздухе почуялось что-то новое, необычное, странное. Кэвэв приостановился, прислушался.
Так он делал всякий раз, когда в таежных дебрях что-то настораживало его. Словно внутри существовал какой-то второй человек, который всегда был начеку, чуткий, как тугая тетива лука.
В те годы, когда Кэвэв еще охотился в тайге, этот умный двойник работал круглые сутки, приносил ему славу лучшего добытчика пушнины. И теперь, когда Кэвэв почувствовал запах дыма, услышал людские голоса, увидел высокое пламя, он догадался о случившемся, и силы покинули его. Он свалился возле разоренной поленницы.
Подбежали люди, подняли старика и понесли к огню.
Кэвэв отбивался, рвался, но люди были сильные и крепкие.
— Дедушка, да ты что? — удивленно кричал самый большой, в собачьей меховой шапке. — Что ты брыкаешься? Чего ты боишься? У-у, дикий какой!
— Сама ты дикий! — закричал ему в лицо Кэвэв. — Дикий и дурной человек. Взяли мои дрова! Жаловаться буду в Москву! Бумагу напишу!
— Пиши, пиши, — ласково сказал большой, усаживая старика на проталину от огня. — Жадность свою покажи Москве.
Кэвэв увидел близко от себя высокое, чистое, чуть синеватое сильное пламя и над ним, над этим священным огнем, большое закопченное ведро с клокотавшим варевом. Это было кощунство.
— Зачем так обидели? — выкрикивал старик сквозь слезы. — Почему взяли? Сколько дров вокруг — вали да руби…
Высокий парень присел рядом.
— Извини, старик, — сказал он взволнованно. — Не знали, что это твои дрова. Завтра утром нарубим… Ребята устали. В наледь попали, промокли. Надо было обсушиться. А тут — дровяной склад. Вернем дровишки, не сердись.
Кэвэв вдруг понял, что до этого высокого парня не доходит самое главное — какие дрова он сжег, на каком огне варит суп в закопченном ведре.
— Не простые это дрова, — всхлипнув, сказал Кэвэв.
— Знаю, — отозвался высокий парень, сдвигая собачью шапку на затылок.
— Таких дровишек поискать. Может, деньги заплатить?
— Да что я, на деньгах твоих буду гореть? — с болью воскликнул старик.
— Не понимаю, — сказал высокий парень, виновато улыбаясь.
— Понимать нечего! — ответил Кэвэв. — Когда помру — на чем буду гореть? Сожгли мои погребальные дрова!
Он мечтал: огонь будет жарким, высоким и бесцветным. Это будет хорошее пламя — свидетельство хорошо прожитой жизни…
— Извини, дед. Если бы мы знали… Как же так получилось? Игнат!
На зов прибежал молоденький паренек. Он держал в руке дымящийся котелок с гречневой кашей, заправленной колбасным фаршем. Содержимое котелка Кэвэв безошибочно определил по запаху.
— Кто дал распоряжение взять эти дрова? — спросил высокий.
— Вы, товарищ Петров, — быстро ответил Игнат. Петров опустил голову.
— Верно, я распорядился. — Он повернулся к старику. — Один я виноват. Можешь меня наказывать как хочешь.
— Как я тебя могу наказать?
Понемногу к Кэвэву возвращалось спокойствие. Священные дрова, конечно, сожгли не из озорства, а по необходимости. Да и откуда этим русским знать древний их обычай.
— Мы тебе нарубим новых дров, — пообещал Петров. — Не сердись, старик. Поужинай с нами.
Кэвэву подали большую алюминиевую ложку. Когда в тайге предлагают еду — грех отказываться. Он принялся за кашу, черпая ее из общей миски.
Костер пылал, кое-где дрова уже прогорели, и синий пепел вздрагивал от мощного потока теплого воздуха.
— Я знаю, как хоронили в старину чукчи, и эскимосы, и коряки… А вот такое — впервые мне попадается, — заметил Петров.
— А я из старинного рода кереков, — заговорил Кэвэв, — мы давно смешались с чукчами и коряками. Только речью отличались да некоторыми обрядами. И покойников хоронили по-своему. Сейчас, правда, все совершают обряд по-новому, в ящиках хоронят. А раньше пылали костры в лесотундре. Особенно когда мор или голод. Снег таял в лесах от жарких погребальных костров!
Кэвэв рассказывал с увлечением, но вместо почтительного интереса ловил в глазах слушателей ужас.
— Красиво было… — задумчиво закончил свой рассказ Кэвэв и взял сигарету, предложенную Петровым.
Он наблюдал, как геологи готовили ночлег, разбивали палатки, расстилали внутри оленьи шкуры и спальные мешки.
— Тут будете спать? — спросил он Петрова.
— Где же нам еще? — весело ответил геолог. — Приглашаю вас в свою палатку.
Палатка начальника партии стояла у самого огня.
Кзвэв не стал влезать внутрь спального мешка. Он улегся поверх и закурил свою трубочку.
Мысли мешались в голове. Он искал в душе обиду и досаду на этих ребят — и не находил. Да и думал он сейчас о другом. Он догадался, что группа Петрова из тех, что будут строить новую автомобильную дорогу через всю лесотундру на новые прииски. О них часто говорили по радио.
Наутро старик поднялся раньше всех. Легкий ветер шевелил невесомый белый пепел на кострище. Чайник и ведро стояли холодные.
Поколебавшись с минуту, Кэвэв взял топор, вынул из оставшейся поленницы чурку и принялся настругивать растопку.
Когда занялся огонь и затрещали дрова, изыскатели начали просыпаться.
Из палатки вышел Петров, увидел Кэвэва, хотел что-то сказать, но промолчал.
А старик тем временем подвесил чайник, натопил снеговой воды для утренней каши.
— Ребята, подъем! — скомандовал Петров.
Изыскатели выходили из палаток и радовались большому жаркому костру. Кэвэв охапками носил дрова, валил в огонь и с какой-то отчаянной веселостью покрикивал:
— Давай! Давай! Огонь, гори! Вари кашу, вари чай!
После завтрака изыскатели принялись рубить дрова. Старик работал вместе с ними, носил расколотые чурки к поленнице и аккуратно укладывал их.
— Морозом быстро их высушит, — говорил он. — К весне как раз будут годны.
— Да ты что! — Петров даже остановился. — Не собираешься же ты весной помирать!
— Не собираюсь, — деловито ответил Кэвэв. — Зачем собираться! Пенсия теперь у меня хорошая, живу со старухой. А дрова пусть все-таки про запас будут.
К полудню, когда изыскателям надо было отправляться дальше, весь дровяной запас старика был восстановлен.
Тепло попрощались и погрузились на вездеход. Кэвэв долго смотрел ему вслед. В селение возвращаться не хотелось. Кэвэв решил заглянуть в свою охотничью избушку.
Избушка так была скрыта среди деревьев, что ее мог отыскать разве лишь сам хозяин. Дверь занесло снегом, и пришлось порядочно поработать, чтобы откопать вход.
Приведя в порядок домик, Кэвэв остался проверить старые пасти и ловушки, поставленные на пушного зверя.
На третий день он почувствовал, что достаточно силен и бодр, чтобы провести в тайге еще один охотничий сезон.
К концу недели он услышал урчание вездехода и направился на его звук. Кэвэв ожидал увидеть Петрова, но это были другие люди. Они стали лагерем там же и снова жгли его священные дрова.
— Здравствуй, дед, — поздоровался обросший до самых ушей золотистой бородой парень.
Он выпростал из рукавиц большую ладонь и подал старику.
— Твои дрова?
— Мои, — кивнул Кэвэв, но не стал рассказывать, для чего они предназначены.
— Не волнуйся, мы заплатим, — сказал бородатый.
Утром старик принялся восстанавливать поленницу. К вечеру, закончив работу, он услышал знакомый звук вездехода.
Молодая девушка, оказавшаяся, на удивление, старшей в этой группе, весело захлопала в большие рукавицы и крикнула своим спутникам:
— Глядите! Добрый дед-мороз приготовил нам дрова! Айда варить кашу и кипятить чай!
Кэвэв молча, вместе со всеми носил дрова к костру, пил чай и улыбался на благодарные слова.
Теперь старику потребовалось два дня, чтобы восстановить запасы дров.
Потом пришли еще две группы, которые тоже пришлось обогревать.
А тем временем по таежным партиям большой комплексной экспедиции пошел слух о чудном старике, который готовил дрова для проходящих групп, щедро делился огнем с замерзшими путниками.
Эти слухи дошли до Петрова, и он навестил старика.
— Здравствуй, Кэвэв! — сказал изыскатель, вылезая из кабины вездехода.
— Здравствуй, Петров, — ответил старик.
Он похудел, но выглядел бодрым и здоровым.
— Как твои запасы дров?
— Держу наготове, — коротко ответил Кэвэв.
— Слышал я, что делишься священными дровами с моими людьми?
— Пусть греются, — тихо сказал Кэвэв. — Мне приятно.
— Но тебе же нужно иметь свой запас?
— Живым людям нужнее.
— Смотри, Кэвэв, — задумчиво произнес Петров. — Хочешь, оформим тебя на работу?
— Разве это главное?
— Главное не главное, а порядок нужен. Будешь у нас хранителем огня.
— Хорошо, — согласился Кэвэв.
Так и живет до сих пор на границе тундры и леса старый керек Кэвэв. Дрова у него всегда есть, и любой путник — будь то изыскатель, геолог, охотник — знает, что в этом квадрате обширной корякской тундры они всегда найдут тепло священных дров, костер жизни.
ДЖЕЙМС БОНД СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
Мягкий снег падал на не замерзшую еще землю и быстро таял, превращаясь в жидкую кашицу, по которой разъезжались и скользили мои ярко начищенные ботинки, — я их долго полировал под пристальным взглядом портье в вестибюле маленького отеля «Желтый Нож» (звучало это как «Йеллоу Найф») в городке того же названия, на северном берегу Большого Невольничьего озера.
Я не успел заглянуть в путеводитель, и все эти названия — и Желтый Нож, и Большое Невольничье озеро — еще таили для меня множество загадок и причудливых ассоциаций. «Конечно же, — думал я на следующее утро после приезда, — недаром, совсем не зря эти названия стоят рядом». Протянешь руку к стопке бумаги, вложишь лист в машинку, и тут же готов заголовок — «Желтый Нож с Большого Невольничьего озера». Это должна быть захватывающая история времен покорения белым человеком канадского Севера, а может быть, еще и тех времен, когда Генри Фробишер, обманувшись блеском пирита, нагрузил свои корабли простым булыжником и отправился к берегам Англии, победно распустив паруса, чтобы снова вернуться и найти себе могилу невдалеке от этих суровых берегов… Или эти названия родились еще раньше, во времена викингов?.. Но это не моя тема. И приехал я в Желтый Нож совсем не за тем, чтобы ковыряться в истории. Главная цель моего путешествия в эту северную провинцию Канады состояла в том, чтобы увидеть, как живут мои дальние родичи — канадские эскимосы.
Но сегодня я не могу заняться своим делом — сегодня большой праздник, все дела отложены на завтра.
Утром я надел чистую рубашку, тщательно повязал галстук, вырезал бритвой из глянцевой красной обложки какого-то журнала флажок и булавкой прицепил к отвороту пиджака.
На этот-то флажок более всего смотрел портье, а не на то, что я чистил обувь машинкой, перед тем как выйти в такую слякоть.
Сыпал снежок и таял, кое-где оставляя белые пятна. Серое небо низко нависало над яркими, добротно сработанными домиками Желтого Ножа. На улице — ни одного прохожего, если не считать мальчишку на другой стороне улицы, разглядывающего выставленный в витрине усовершенствованный индивидуальный снегоход… Тихий, серый, унылый вторник.
А ведь это было седьмое ноября 1967 года, пятидесятая годовщина Великого Октября!
Я представил, что делается сейчас в Москве, в Ленинграде, на всей большой нашей земле, от моего родного Уэлена до Балтики, и у меня защемило сердце: угораздило же меня в такой день оказаться в этом Желтом Ноже, на берегу Большого Невольничьего озера!
Я прошел мимо здания почтового ведомства, мимо высокого каменного дома, принадлежащего, судя по вывеске, Канадской национальной телевизионной компании, мимо торгового центра… Через несколько домиков улица уперлась в низкий, запорошенный снегом берег озера. Тихо плескалась волна, слизывая талый снег, а вдали налитые водой свинцовые тучи смыкались с волнами того же цвета.
На этом моя праздничная демонстрация была окончена. Возвращался я той же дорогой, воображая себя то на Красной площади, то на Дворцовой в Ленинграде, то в Уэлене у косторезной мастерской, закрытой сегодня по случаю праздника, то в Анадыре, на площади перед Домом культуры… Анадырь отсюда — самое близкое место моей родины. Почти одна и та же широта. Примерно шестьдесят пятая параллель. Расхождение может быть только на несколько минут. Летного времени часа три. И все-таки, чтобы снова увидеть Анадырь, мне придется облететь почти вокруг всего земного шара: отсюда через Саскатун и Эдмонтон мне надо сначала попасть в Торонто, из Торонто — в Монреаль. Полет Монреаль — Москва занимает чуть меньше времени, чем рейс Москва — Анадырь.
Я вернулся в гостиницу. Хорошо строят канадцы — умело, добротно. В моем номере пахло лиственницей, и еще здесь жили какие-то лесные запахи. Их источали толстые бревна, из которых сложены стены дома. Встречали меня и принимали исконные канадцы с редкой доброжелательностью и гостеприимством. Ведь в тот год работала выставка «ЭКСПО-67», на которой наш советский павильон пользовался грандиозным успехом. Едва только мои собеседники узнавали, что я из Советского Союза, как тут же начинался восторженный разговор о советском павильоне. Можно подумать, что каждый канадец побывал в Монреале, посетил наш павильон, полюбовался космическими аппаратами, посмотрел советские кинофильмы, побывал на концертах многочисленных ансамблей, отведал яства русской кухни в выставочном ресторане.
Но здесь, далеко на севере Канады, отзвук монреальской выставки уже был приглушен расстоянием и, может быть, до некоторой степени нелюбопытством обитателей Желтого Ножа.
Я открыл припасенную бутылку «Советского шампанского» и в одиночестве уселся в кресло. Я пытался читать, но строки расплывались — мысли мои были далеко от этого места. Тихо падал снег за окном, тишина царила в полупустом отеле. Только где-то слышалось приглушенное гудение пылесоса.
Я включил приемник. Комната наполнилась музыкой. Медленно поворачивая ручку настройки, я пытался поймать Москву. Послышалась русская речь, но это была не советская станция… На английском языке звучали новости со всего света. Где-то у Гавайских островов разбился большой пассажирский лайнер. Шейх занял в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» целый этаж. Потом пошли внутренние новости: новая демократическая партия одержала победу на выборах в парламент провинции Онтарио… И только в конце коротенькое сообщение: сегодня Советский Союз отмечает военным парадом на Красной площади пятидесятилетие революции, совершенной в семнадцатом году под руководством Ленина… И все.
Но вот наконец Москва. Музыка, а потом голос диктора — торжественный, праздничный. Я с трудом разбирал слова, но успел услышать, что первыми сегодняшний праздник встретили жители далекого Уэлена… Так и должно быть: Чукотка живет на десять часов впереди всей страны, и этим немало гордятся ее жители. Затем слова диктора заглушил треск. Что поделаешь — высокие широты, начинается пора полярных сияний, когда бывает, что помехи начисто отрезают всякую связь.
Перед обедом я выглянул на улицу. Снег наконец воцарился, вся главная улица Желтого Ножа стала белой, ее прочертили во всех направлениях свежие автомобильные следы. Тучи поднялись выше, и вокруг стало как-то просторнее, шире и словно воздуху прибавилось. Пахло свежим снегом наступающей зимы.
Остаток дня прошел в тщетных попытках поймать Москву: иногда это удавалось, но разбушевавшиеся магнитные бури каждый раз забивали родную речь.
Наступал вечер. Долгий вечер в далеком Желтом Ноже… И вдруг мне пришла в голову отличная мысль: а ведь можно позвонить в Оттаву, в советское посольство! Там небось праздник, веселье, а я тут словно на другой планете. Я поднял трубку и попросил портье соединить меня с Оттавой, назвав ему номер нашего посольства. Через минуту послышался телефонный звонок, и служащий телефонной станции, извинившись, сообщил, что придется некоторое время подождать. Времени для ожидания у меня было более чем достаточно, бутылка шампанского чуть начата. Из радиоприемника лилась тихая музыка, за окном уже стемнело, а на сердце у меня было тяжело и грустно. Я пытался утешить себя мыслью, что до возвращения домой осталось меньше двух недель. Скоро я увижу своих близких, родных, друзей… А ведь есть люди — я их видел в Торонто, в Монреале и даже в маленьком городе Порт-Хоуп на берегу озера Онтарио, — которым уже никогда не вернуться на землю, где они родились… Вспомнил и старинную эскимосскую легенду о двух странниках, решивших обойти мир и найти истину. Эти два странника, уйдя в путешествие совсем юными, возвратились домой уже глубокими стариками и сказали людям: «Истина в том, что нет лучшей земли для человека, чем его родина, земля его отцов, земля его родного языка».
Послышался тихий стук в дверь.
Я подошел и спросил:
— Кто там?
— Джеймс Бонд…
Такое я испытал, когда, неловко оступившись, упал с палубы судна в студеные воды бухты Провидения. Что это? Глупая шутка? Провокация? Ведь Джеймс Бонд, этот непобедимый агент 007, - всего лишь вымысел… Кто же это стучится в мою дверь? Странные дела творятся в этом Желтом Ноже, однако… Позвонить в полицию, портье? Всякое бывало в моих путешествиях, но с Джеймсом Бондом я, слава те господи, не встречался пока.
Тихий стук повторился. Я почему-то на цыпочках подошел к двери и спросил:
— Кто там?
— Джеймс Бонд, — ответил тот же тихий, если не сказать — робкий голос, который явно не мог принадлежать супершпиону, гиганту борьбы с коммунистическими агентами, которые мерещатся всюду буржуазному обывателю.
Меня начало разбирать любопытство. Хорошо бы поглядеть на того, кто взял себе это грозное имя. Как он выглядит, этот самозванец, решившийся напугать меня таким неразумным способом?
Решительно подойдя к двери, я твердым голосом спросил:
— Кто там?
— Джеймс Бонд. — В голосе слышались просительные нотки.
Мне очень хотелось взглянуть на него. По-видимому, этот Джеймс Бонд, или как его там, один.
Взяв за горлышко бутылку «Советского шампанского», я подошел к двери, повернул ключ, отворил ее и увидел перед собой худого пожилого эскимоса в парке из потертой шкуры карибу. Под мышкой у него торчала початая бутылка дешевого виски. Я невольно быстрым взглядом окинул оба конца коридора, но ничего подозрительного не обнаружил.
— Это я стучал, — сказал эскимос и для подтверждения ткнул себя пальцем в грудь, — Джеймс Бонд.
— Так вы — Джеймс Бонд?!
— Я, — застенчиво ответил эскимос, переступая порог. — Так меня прозвали белые. Им не выговорить моего эскимосского имени — Ангмарлорток, и для удобства они меня назвали так.
Джеймс Бонд, то есть Ангмарлорток, оглядел комнату, увидел бутылку шампанского у меня в руке и улыбнулся.
— Я пришел, — произнес он торжественно, — чтобы от имени нашей эскимосской общины поздравить советского человека и нашего соплеменника с великим национальным праздником!
В моей бутылке было еще достаточно вина. Я достал стакан и налил его до краев пенистым напитком. Сердце мое переполнилось благодарными, нежными чувствами. Я сказал:
— Спасибо тебе, дорогой мой гость! Как хорошо, что ты, именно ты пришел ко мне в этот торжественный для меня день!
Мы прикончили шампанское, принялись за виски. Я вспоминал наши старинные песни, и Ангмарлорток подпевал мне хриплым голосом.
А потом мы долго разговаривали. Ангмарлорток рассказывал о себе, о своих товарищах, работающих на золотом прииске. Эскимос, как настоящий сын своего народа, не жаловался на жизнь — он просто рассказывал. Настал и мой черед: я описал эскимосские села, в которых мне довелось бывать, — Чаплино, Сиреники; называл людей, которых хорошо знал, рассказывал о старом Нутетеине, создателе и руководителе чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Ангмарлорток внимательно слушал и кивал в знак одобрения.
— Правильно живут, — сказал он, не скрывая зависти.
Зазвонил телефон. Ночной портье осведомился, не беспокоит ли меня поздний гость.
— Нет! — резко ответил я и положил трубку.
— Раньше я жил в Тиктоюктаке, — рассказывал Ангмарлорток. — Там хорошая охота на моржа. Приехал сюда на прииск, чтобы заработать денег на моторный вельбот, да и застрял здесь. Женился на индианке из племени кри. А с ней возвращаться в Тиктоюктак нельзя… Не любят у нас индейцев. Женятся ваши на иноплеменных? — спросил меня Ангмарлорток.
— Да, — сказал я, — женятся на русских, чукчанках, украинках, эстонках, казашках — на тех, кого любят.
— Это хорошо, — кивнул Ангмарлорток.
Я провожал его под утро. Ночной портье открыл нам дверь, и мы шагнули в девственную белизну первого зимнего дня. За ночь приморозило, стало ясно, свежо. Ангмарлорток сердечно попрощался со мной. Мы не обнимались, не целовались — у наших народов это не принято. Просто пожали друг другу руки.
Ангмарлорток ушел в светлое рождающееся утро, за ним остался темный, четкий след, словно ушел человек на охоту, в только что замерзшее, припорошенное изморозью море.
ЖЕНИТЬБЕННАЯ БУМАГА
Аймет ехал на попутной машине, хотя до морского берега, где стоял его вельбот, было пешего ходу минут десять. Он увидел Кумы и почувствовал, как в душе у него шевельнулась жалость, словно он чем-то обидел старого друга.
А ведь все было хорошо, вроде бы нечего тревожиться: проводы на пенсию устроили в плохую погоду, когда в море выходить нельзя — шторм, сильный северный ветер.
Было торжественно. В помещении старой школы, которое теперь служило сельским клубом.
Кумы сидел рядом с женой, с которой прожил, наверное, с полсотни лет. И хотя это было давно, Аймет отлично помнит, как друг женился. Кумы взял свою Эймину на аляскинском берегу. Тогда она была настоящая красавица, понимала это, гордилась и сильно упиралась, когда Кумы тащил ее на свой вельбот. Она была сирота, и дальние ее родичи, у которых она жила, не захотели за нее заступиться.
В Улаке Эймина в знак протеста года два не разговаривала на чукотском языке. А потом все же заговорила.
Машина выехала за последний дом, за строительную площадку, где в гальку закапывали огромные каменные глыбы, которые должны защищать новое здание косторезной мастерской от морских волн, и Аймет увидел свой вельбот.
Он спрыгнул, кивком поблагодарил шофера и зашагал к судну, с которого уже были сняты поддерживающие его подпорки.
Через полчаса после того, как вельбот отошел от берега и моторист заглушил двигатель, Аймет вдруг снова вспомнил стоявшего у дома Кумы, и опять чувство вины шевельнулось в его душе, стало зябко, неуютно, хотя день был отличный, безветренный, а Аймет оделся так, как привык одеваться, выходя летним утром в Чукотское море: меховые брюки, поверх нерпичьи — предмет зависти всех приезжих, — на свитер надел тонкую кухлянку и непромокаемую камлейку из медицинской клеенки.
Что же может его тревожить? Ведь проводили Кумы как полагается, да и пенсия у него солидная: лет десять назад председатель колхоза не получал столько. В клубе собрались друзья, пришли даже школьники, вернувшиеся из пионерского лагеря. Председатель сельского Совета Иван Толстой произнес речь. Говорил он по-чукотски и по-русски. Хороший парень. Строителем был после службы в погранвойсках, понравилась ему медсестра Аня Кулиль, он взял и женился на ней.
Косторезная мастерская преподнесла Кумы шариковую авторучку. Стержень фабричный, а сама ручка из моржового клыка. Директор мастерской сказал, чтобы Кумы, когда будет получать пенсию, «сумму прописью» писал именно этой ручкой…
А потом был маленький банкет, который Иван Толстой назвал «приемом от имени сельского Совета». Вино привезли из Иночуона на вездеходе. Пока сидели и произносили речь в маленьком домике сельского Совета, Аймет слышал, как за плотно занавешенными окнами бродили те, кто не был приглашен. Порой слышались крики с угрозой сообщить куда следует об этом безобразии — коллективной пьянке в официальном помещении.
Виновник торжества держался хорошо. Он только в президиуме все наклонялся к Аймету и просил, чтобы его гарпун берегли, не давали в худые руки, чтобы доверяли только тем, у кого хороший глаз и крепкие руки.
— Гоному не давай, — гудел над ухом Кумы. — Удар у него сильный, но неточный, а мой гарпун любит, чтобы его не зря кидали.
Аймет вежливо кивал и делал вид, что внимательно слушает Акилькака, который по праву старейшего пенсионера селения на каждом торжестве непременно произносил речь. Эту речь все уже знали наизусть. Акилькак говорил о себе, о своей семье как о живом примере интернационализма. И действительно, его внучки, которых у него было множество, словно сговорились собрать в Улаке представителей всех национальностей страны. Среди зятьев Акилькака был даже нанаец с далекой реки Амур, где, говорят, одежду шьют из рыбьей кожи. Нанаец учил детей математике и был очень молчалив.
А Кумы, видя, что Аймет слушает его вполуха, оглядел зал и вдруг внятно и громко сказал:
— В следующий раз так же хорошо будут говорить обо мне, когда меня будут провожать на Линлиннэй.
Линлиннэй — это холм, на котором хоронят умерших.
В чем же вина самого Аймета? В детстве вместе играли на берегу лагуны, ловили рыбу, потом провожали родителей на весеннюю моржовую охоту. Вместе сели за парты, когда пришли первые учителя и позвали тех юношей и девушек, которые не считали зазорным попытку овладеть грамотой. Стали первыми комсомольцами в Улаке. Почти в один день вступили в партию… Они провели вместе на одном вельботе большую часть жизни.
Несмотря на то что они дружили, их еще связывало и скрытое соперничество. Каждый всегда старался делать что-нибудь лучше, чем другой. Они всегда присматривались друг к другу. В разное время на вельботе то один, то другой был бригадиром. Если Аймет садился к кормовому веслу, Кумы становился на нос и брал в руки гарпун. В следующий раз бывало наоборот. И то и другое считалось почетным — первый гарпунер и рулевой. Правда, последние годы Кумы все больше сидел на корме, у рулевого весла. Со здоровьем стало худо. Пальцы перестали слушаться. Это с того дня, когда байдару выбросило у мыса Дежнева, накрыло волной, а Аймету сломало ногу. Тогда Кумы долго тащил друга на себе. Не так тяжел Аймет, но мерзли руки… Так мерзли, что покрывались коркой льда, и Кумы приходилось осторожно опускать друга на землю и обивать руки о твердую, осеннюю тундру.
Всю жизнь они прожили вот так, бок о бок, подтрунивая друг над другом, помогая и… соперничая.
Аймет огляделся. Зачем горевать Кумы? Скоро и Аймет сойдет на берег навсегда и тоже получит пенсию. Разве в этом дело? Главное — все остается молодым, сильным. Вот эти синие берега, скалистые мысы, покрытые ржавчиной мха, далекая полоска родной Улакской косы, на которой стоят уже такие большие дома, что даже отсюда виден блеск их окон. Все остается… Все ли? Уже не волнуются сердца молодых охотников, когда они видят китовый фонтан. Не надо бить кита. Говорят, нерентабельно. Слово-то какое! Плавает большой корабль-китобоец. Вместо вельбота. Он и бьет китов, привозит к берегу, и улакцам, когда-то прославленным китобоям, остается только буксировать туши к берегу. Скоро и моржей-то останется только для заповедников и зоопарков. Дети еще знают, что такое морской промысел, а внуки уже рвутся в тундру, на прииски, на обогатительные фабрики. Рабочим классом становятся…
Выстрел прервал течение мыслей Аймета. Моторист рванул заводной шнур, и вельбот понесся к пятну на воде. Это был лахтак. Лахтак пока нужен. Из его кожи делают подошвы для торбасов. Да и мясо хорошее, вкусное.
Тем временем по берегу моря медленно шел Кумы и невеселые мысли путали его шаг. Берег стал грязноват. То и дело попадаются полуобглоданные собаками китовые кости. Надо бы сказать Ивану Толстому: пусть наведет порядок на берегу. И что это случилось с собаками? Раньше так кость обгладывали, что она становилась белая и блестящая, а тут челюсть кита даже до кости не обглодали.
Кумы уже прошел далеко за полярную станцию. Иногда он пытался разглядеть вельботы в морской дали, вынимая из кожаного футляра старинный бинокль. То ли глаза слезились, то ли действительно состарились и стекла старого бинокля, но у горизонта было мутно и пусто.
Впервые в жизни случилось так, что вельбот ушел без него в море. И Аймет там один. Ликует, наверное. Сколько лет мечтал оказаться без Кумы рядом. Честно признаться, и Кумы был бы рад, если бы Аймет не лез со своими советами на вельботе. До сих пор не забыть, как они упустили лет тридцать назад огромного гренландского кита. Из-за его советов…
Всю жизнь шли вровень, и вот Аймет вырвался. На автомашине на берег поехал и даже не обернулся. Но Кумы придумал такое, что Аймет еще позавидует ему!
Для того чтобы стало ясно, что задумал Кумы, надо вернуться к самому началу года, когда проводилась перепись населения. О том, что людей будут считать, в Улаке узнали давно. Да и уже переживали такое событие не раз. И теперь готовились достойно встретить счетчиков, запаслись угощением и еще кое-чем, несмотря на то, что председатель сельского Совета Иван Толстой строго-настрого наказал ничего такого не предпринимать. Но почему нельзя немножко угостить гостя? Тем более это не старое время, когда в яранги не пускали людей, которые вдруг начали считать людей. Это было в конце двадцатых годов. Кумы тогда был молодой и возил русского парня Семушкина, который потом стал писателем. Кто-то впереди нарты пустил слух, что людей считают, чтобы потом уничтожить. Ведь считают же оленей, перед тем как забивать их. Вот так и с людьми. Никто как следует и не задумывался над этой глупой новостью, но на всякий случай запирали двери, и молодому каюру приходилось долго стучаться и умолять хозяев пустить погреться и переночевать. Сколько он слов переговорил, поясняя, что пересчет людей идет не для уничтожения, а наоборот, для того, чтобы в Москве знали, сколько нужно ружей и патронов прислать на Чукотку, сколько материи на камлейки, сколько сахару, чаю… И все это Кумы обещал щедро, от имени Советского правительства, потому что тот, которого возил он, убедил Кумы: каждый чукча — тоже представитель власти, ибо в стране народная Советская власть.
Перепись в зиму этого года напомнила Кумы его молодость. Не только тем, что в памяти его встала давняя поездка, занесенные снегами селения и стойбища, перепуганные лица людей, а еще и тем, что счетчик, молодой парень Саша Нутек, сказал Кумы:
— А брак ваш надо зарегистрировать!
Это было сказано очень строго и укоризненно, ибо сам Нутек женился полтора месяца назад и процедура регистрации своей торжественностью исполнения еще прочно сидела в его голове, заслоняя другие важные стороны семейной жизни.
— Это тебе надо регистрировать брак, — сердито ответил Кумы. — Настоящему мужчине эта бумажка, заменяющая железную цепь, не нужна.
— Хотите сказать, что я на цепи? — обиженно заметил Нутек.
— Ну, пока ты этого не чувствуешь, — усмехнулся Кумы.
Счетчик и хозяин сидели за столом. Строганина из нерпичьей печенки сверкала кристалликами льда. Стаканы отсвечивали прозрачной жидкостью.
— Совсем не понимаю регистрации, — спокойно продолжал Кумы. — Ну зачем она нужна? А? Ведь если ты с Татьяной своей не захочешь жить, никто не заставит тебя, будь у тебя хоть двадцать бумажек.
— И все равно — закон надо соблюдать, — веско заметил Саша Нутек и заторопился в соседний дом, где его ждали принаряженные жители с угощением на столе.
Кумы проводил его, вернулся к столу, положил в рот слегка подтаявший кусок нерпичьей печенки и усмехнулся, представив себе, как полсотни лет назад предъявил бы своей Эймине бумажное свидетельство… Да ее порой лахтачьими ремнями приходилось привязывать к среднему столбу в яранге, чтобы она обратно не сбежала на свой американский берег!
Но сегодня утром, когда Кумы проснулся и долго лежал на кровати, невесело думая о том, что ему не надо вставать, спускаться на берег моря, что Аймет один будет сегодня на вельботе, он вдруг вспомнил тот разговор с Сашей Нутеком, представил, как он торжественно под руку с Эйминой стоит перед столом Ивана Толстого, и ему стало вдруг легко и радостно: вот такого у Аймета не было!
Кумы смотрит на море. Ничего не видно. Лишь кое-где плывут отдельные льдинки. Подует северный ветер, и лед пригонит к берегу вместе с моржами. Тогда можно будет поохотиться. Кто ему может запретить? Море принадлежит всем, даже тем, кто вышел на пенсию.
А пока надо спешить в сельский Совет, попросить Ивана Толстого выписать бумагу, да не позже вечера, чтобы новость о регистрации встретила Аймета, когда тот сойдет на берег.
Кумы круто свернул с морского берега, миновал жиротопный цех, возле которого возились женщины, перешел главную улицу и вошел в домик сельского Совета. Иван Толстой сидел за большим письменным столом и что-то писал.
— Етти, Кумы! — приветствовал председатель посетителя и пригласил его сесть. — Какая новость?
— Жениться пришел, — сказал Кумы.
Иван Толстой поднял голову.
— Я серьезно говорю: жениться мне надо, — повторил Кумы.
— Поссорился с Эйминой? — тактично спросил Толстой.
— На ней и хочу жениться, — пояснил Кумы.
— Ничего не понимаю, — помотал головой Толстой.
— Женитьбенную бумагу хочу получить, — сказал Кумы, и Иван Толстой облегченно вздохнул.
— Раз такое пожелание есть, то надо написать заявление, подождать две недели — и мы выдадим вам брачное свидетельство.
— Так не выйдет, — твердо сказал Кумы. — Бумага мне нужна сегодня.
— Отчего такая спешка? — спросил Толстой.
— Очень надо, — ответил Кумы, поглядел на Толстого и вдруг понял, что Иван неспроста говорит о двух неделях ожидания: видно, такое правило.
— Иван, мы живем с Эйминой уже, наверное, пятьдесят лет, зачем нам нужно еще две недели ждать?
— Я понимаю вас, — озабоченно произнес Толстой, немного подумал и сказал: — Я позвоню в район, посоветуюсь. А пока напиши заявление. Наташа Пины тебе поможет.
Толстой нажал кнопку, и из соседней комнаты пришла секретарь сельсовета Наташа Пины.
— Помоги оформить заявление о вступлении в брак, — строго сказал Иван Толстой.
Пока оформляли документы, Кумы сидел важный и непроницаемый. Толстой заказал разговор с районным центром, о чем-то пошептался с секретарем и сказал Кумы:
— Я думаю, что все будет в порядке. Приходите в три часа, и мы вас зарегистрируем.
Кумы быстро прикинул: в три еще далеко до возвращения вельбота. Хорошо бы в пять. Как раз в этот час вернется Аймет. Пока будут вытаскивать вельбот, закреплять его, сдавать добычу, как раз и кончится регистрация, и Кумы будет медленно и торжественно идти с Эйминой по главной улице селения.
— Лучше в пять, — попросил Кумы.
— Хорошо, пусть будет в пять, — согласился Толстой.
Кумы вышел из здания сельского Совета.
Он шел, погруженный в свои мысли, и, чем ближе подходил он к своему домику, тем неспокойнее было у него на душе. Как сказать Эймине?
Жена сидела на своем обычном месте — на полу кухни, на плитках яркого цветного пластика, который положил младший сын, Игорь Кумы, перед тем, как уехал учиться в мореходное училище. Она кроила шкуру, собиралась шить кухлянку из шкуры годовалого оленя.
На электрической плитке пыхтел чайник. В большой комнате громко стучал будильник.
Кумы стянул через голову камлейку и повесил на гвоздик.
Он уселся напротив жены. Постарела Эймина, сгорбилась от вечного сидения перед очагом. Ведь в доме только десять лет живут, а до этого вся жизнь в яранге прошла.
— Важное дело хочу сказать, — вкрадчиво начал Кумы. — Только ты не волнуйся и не пугайся. И не перебивай меня.
Эймина подняла встревоженное лицо.
— Если что-то с детьми случилось — говори сразу!
— Не с детьми, а с нами, со мной, — махнул рукой Кумы.
Эймина внимательно оглядела сидевшего перед ней мужа и в гневе отвернулась:
— Зачем пугаешь меня?
— Может быть, обрадовать хочу! — весело сказал Кумы и сразу же выложил: — Жениться на тебе хочу!
— Я тебе всегда говорила, — назидательно произнесла Эймина, — ты такой дурак, что до старости лет говоришь глупости, недостойные даже несмышленыша.
— На этот раз я говорю тебе всерьез! — сердито крикнул Кумы. — Я хочу жениться на тебе по-настоящему, на бумаге!
— Это что такое? — испуганно спросила Эймина.
— Я хочу, чтобы у нас была женитьбенная бумага, — прямо сказал Кумы. — Это очень важно, — добавил он.
— Зачем она тебе вдруг понадобилась? — подозрительно спросила Эймина. — Всю жизнь прожили без нее.
Настоящую причину Кумы сказать не мог. Потому что Эймина всегда смеялась над соперничеством Кумы и Аймета.
— Разве ты забыла, что сказал Саша Нутек, когда проводили перепись? — напомнил Кумы. — Сейчас иметь женитьбенную бумагу так же необходимо, как паспорт.
Эймина молча продолжала шить кухлянку. Нитка, туго скрученная из оленьих жил, с характерным шелестом проходила сквозь оленью шкуру, оставляя ровный, чистый шов, словно шила электрическая машинка «Тула», а не эти старые, скрюченные пальцы, через которые прошли километры оленьих жил.
— К пяти часам, — Кумы отогнул рукав камлейки, — надень свою лучшую одежду — кофточку, что сын прислал, новую камлейку.
— Люди будут смеяться, — тихо сказала Эймина и тяжело вздохнула.
Всю жизнь она подчиняется сумасбродствам своего мужа и терпит вместе с ним насмешки односельчан. Так было, когда Кумы, не дожидаясь постройки нового дома, продырявил ярангу, прорубил окна, поставил кровати, а в пологе установил керосиновые лампы, от которых так воняло, что приходилось все время спать высунувшись лицом в чоттагин… Много было такого. Правда, в большинстве случаев потом оказывалось, что Кумы бывал прав.
— Пусть смеются, — ответил Кумы. — Знаешь, сколько в нашем Улаке народу живет без женитьбенной бумаги? Почти поколение. А мы будем с тобой первыми. Над первыми сначала смеются, ты это хорошо знаешь.
Эймина еще раз вздохнула, в знак согласия кивнула головой и пошла в комнату готовиться к церемонии получения женитьбенной бумаги.
К пяти часам принаряженные Кумы и Эймина пошли в сельский Совет. Новость о том, что старый Кумы, персональный пенсионер, еще вчера только бывший бригадиром совхозного вельбота, женится заново на своей Эймине, уже стала известна всему селению, и любопытные стояли возле своих домов, образовав живой коридор. Порой что-то кричали вслед, но Кумы не откликался, боясь выйти из себя, а Эймина была словно глухая и только пристально смотрела себе под ноги.
Иногда выкрики были явственны:
— Уж если жениться заново, так надо брать молодую!
— Дорогому жениху физкультпривет!
Последний выкрик принадлежал Напанто. Он только что отсидел в районном центре пятнадцать суток за мелкое хулиганство, и, видно, это не охладило его.
Трудно было молча идти через все селение. Понастроили новых домов, и маленьких, и двухэтажных многоквартирных с паровым отоплением, и селение так вытянулось по косе, что главная улица терялась где-то далеко за полярной станцией.
Чтобы как-то развеселить жену, Кумы шепнул ей:
— Мы идем с тобой, как Фидель Кастро…
— Что ты сказал? — не поняла Эймина.
— Помнишь, в кино мы смотрели, как Фидель Кастро приезжал в Москву, ехал в открытом автомобиле, вдоль дорог стояли толпы и кричали ему приветствия, как сейчас нам?
— Они не приветствия кричат нам, а смеются, — в голосе Эймины послышались слезы.
Кумы взял за руку жену и прибавил шагу.
Красный флаг над сельсоветом был уже близко.
На крыльце стоял сам Иван Толстой в черном торжественном костюме, в белой рубашке, при галстуке. Он сказал, когда Кумы и Эймина подошли к крыльцу сельского Совета:
— Милости прошу, — и поклонился.
В комнате был народ. Курил трубку старейший учитель, который уже давным-давно не учил детей, а был охотником, — Канто, сидел на стуле секретарь парткома Нотанто, у окна стояли директор школы Валентина Ивановна и Гриша Гоном в пионерском галстуке. Наташа Пины тоже была нарядна, да и все в комнате собрались словно бы на торжественное заседание.
Иван Толстой прошел за боковой стол, над которым висел большой герб Советского Союза. Кумы посмотрел на герб и прочитал слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Соединяемся», — ответил мысленно Кумы и весело огляделся.
— Дорогие Кумы и Эймина! — начал Иван Толстой. — Разрешите церемонию регистрации брака, которому уже пятьдесят лет, считать открытой!
Послышались аплодисменты. Они были жидковаты.
— Мы тут посоветовались, — продолжал Иван уже другим голосом, — и решили отметить вашу регистрацию торжественно, потому что, как я выяснил, живете вы в мире и согласии уже около пятидесяти лет, а может быть, даже и больше…
— Больше, больше, — подтвердил Канто.
— В таком случае ваша свадьба может считаться золотой! — завершил свою речь Иван Толстой и вручил Кумы брачное свидетельство в красной полиэтиленовой папке. — А теперь от юных пионеров слово имеет Гриша Гоном.
— Мы, юные пионеры, — заговорил звонким голосом Гриша Гоном, кося одним глазом на директора школы, — даем торжественное обещание брать с вас пример…
Кумы и Эймина выслушали речи внимательно, никого не перебивая.
— Слово предоставляется виновнику торжества персональному пенсионеру товарищу Кумы, — объявил Толстой.
Кумы подождал, пока стихнут жидкие аплодисменты, и коротко сказал:
— Собственно, это не свадьба, а получение женитьбенной бумаги.
— Все равно надо отметить, — сказал Иван Толстой. — Такое событие случается не каждый день. Прошу всех вас пройти в столовую.
В столовой, в углу общего обеденного зала, был накрыт стол. Кумы посмотрел в окно, на идущий к берегу вельбот. Он подозвал Гришу Гонома, который уже успел сесть за стол, и послал его на берег:
— Как только Аймет сойдет на берег — зови его сюда.
Как ни хотелось Грише Гоному остаться за столом, но слово старшего — закон.
Садились за стол чинно, неторопливо, словно нехотя. Когда сели, наступила напряженная тишина, и Иван Толстой произнес еще одну речь, в которой на все лады расхваливал достойную подражания совместную жизнь товарищей Кумы и Эймины.
Кумы смотрел в окно. Он видел, как вельбот на малом ходу причалил к берегу, как вытаскивали на берег куски моржатины, цепляя их железными крючьями, и грузили на небольшую платформу, которую потащил трактор к леднику.
Потом увидел Аймета, идущего позади Гриши Гонома.
Бывший учитель Канто рассказал, как Кумы с Эйминой учились грамоте в ликбезе, как они были старательны. Секретарь парткома Нотанто вспомнил, как Кумы давал ему рекомендацию в партию.
Кумы слушал, а душа его все больше напрягалась в ожидании прихода Аймета. Что скажет друг?
Когда распахнулась дверь и в обеденный зал влетел Гриша Гоном, все обернулись и увидели Аймета. Он удивленно посмотрел на накрытый стол и прямо спросил во весь голос:
— Это правда, что ты, Кумы, женитьбенную бумагу получил?
Кумы молча кивнул. Он был удовлетворен. Аймет и вправду был поражен, это было написано на его лице.
— Совершенно верно, — ответил за него Иван Толстой. — По такому случаю и торжество. Золотая свадьба. Прошу вас за стол, товарищ Аймет.
Аймет скинул камлейку, помыл руки под краном, тщательно вытер и уселся за стол.
— Русские в таком случае говорят «горько», — сказал Аймет и поднял вверх рюмку.
Кумы вопросительно посмотрел на Эймину, наклонился и шумно вдохнул, коснувшись своим носом кончика носа жены.
— Хорошо! — сказал Аймет.
Время от времени Кумы опускал руку за пазуху и шуршал новой женитьбенной бумагой. Очень хотелось ее вытащить и показать Аймету. Похвастаться перед другом. Но чем больше сидели за столом, тем меньше говорили о женитьбенной бумаге, разговор поворачивался на другое. Спорили, где поставить новый интернат и надо ли защитить здание косторезной мастерской от морских волн.
Аймет и Кумы не спеша шли рядышком.
Кончился день. Люди были заняты своими делами, и на пустынной улице попадались лишь собаки да редкие прохожие, идущие из магазина.
Кумы все шуршал бумагой, пока Аймет не попросил:
— Покажи-ка женитьбенную бумагу.
Кумы вытащил папку из красного пластика, осторожно вынул свидетельство о браке. Аймет долго изучал бумагу. Рассмотрел ее со всех сторон и вдруг сказал:
— В точности как у меня.
— Мы получили такую бумагу в Анадыре, — словно отвечая на немой вопрос Кумы, продолжал Аймет. — Приехали мы с Анканной в окружной центр, пошли в гостевой дом, а нам говорят, что жить мы будем врозь, ибо нет у нас женитьбенной бумаги. А раз нет бумаги, значит, я не муж Анканне и она мне не жена. Пошли в загс, написали заявление.
Кумы слушал друга, и все у него переворачивалось в душе. Он словно смотрел на себя со стороны и видел смешного, впавшего в ребячество старика, ковыляющего рядом с морским охотником Айметом, который только что добыл моржа и усталый идет домой.
— Вот я думаю: для какой надобности тебе женитьбенная бумага? — продолжал рассуждать Аймет. — На что она вам с Эйминой?
— А в Москву мы собрались, — вдруг сказал Кумы. — Может, там будем жить в большом гостевом доме?
Аймету ничего другого не оставалось, как невнятно произнести:
— А-а.
А Кумы, открывая дверь в свой домик, громко сказал, чтобы слышали все:
— Эймина! Собирайся! В Москву поедем! Так я решил!
МОЛЧАНИЕ В ПОДАРОК
Андрей ступил на самолетный трап и на миг остановился, пораженный красотой. Вокруг высились покрытые чистым, белым снегом сопки. Они матово отсвечивали, отражая яркое весеннее солнце: снег слегка подтаял, образовав корку. Она и служила зеркалом солнечным лучам.
На обочине посадочной полосы стояла упряжка, и молодой парень в камлейке с откинутым капюшоном пытливо оглядывал спускающихся на землю пассажиров.
В районном центре Андрея предупредили о том, что до стойбища придется добираться на собаках: в эту пору, перед вскрытием рек, пускаться в путь на вездеходе опасно. «Это прекрасно! — сказал Андрей. — Я так мечтал когда-нибудь проехаться на собачьей упряжке!»
Председатель райисполкома, худая, энергичная женщина, почти не вынимавшая сигареты изо рта, чуть улыбнулась и сказала: «Ну вот и попробуете».
Андрей Хмелев, выпускник ветеринарного института, приехал на Чукотку в конце прошлого года.
Его оставили работать в окружном сельскохозяйственном управлении, где он просидел над бумагами всю долгую зиму, и нынешняя поездка для него, в сущности, была первым знакомством с настоящей тундрой. Надо было обследовать стада Провиденского района перед отъездом.
— Я Андрей Хмелев, — представился он каюру, сбежав по трапу.
— Очень приятно, — хмуро ответил парень и выпростал из оленьих рукавиц теплую ладонь с прилипшими к ней белыми шерстинками.
— Едем! — весело сказал Андрей, бросив рюкзак на нарту и усевшись на громко скрипнувшие две неширокие доски-сиденья.
— Сейчас поедем, — спокойно ответил парень, — только сначала встаньте.
Андрей послушно поднялся. Каюр принялся увязывать груз.
— Больше у вас ничего нет?
— Все мое хозяйство в рюкзаке.
Каюр выкрикнул что-то гортанное, выдернул из снега плотно пригнанную палку с железным наконечником, и собаки, отряхиваясь, начали подниматься из уютно примятых снежных ямок. Нарта двинулась вперед, в гору, и Андрей бросился вслед, закричав:
— Послушайте! Подождите! Вы меня забыли!
— Бегите за мной, — бросил на ходу парень, держась за дугу посередине парты.
Андрей потрусил вперед, проваливаясь по колено в снег, ругаясь про себя. Он совсем иначе представлял себе езду на собаках: снежный вихрь клубится за мчащейся партой, звонко лают собаки, выбрасывая из-под лап комья снега. Сколько раз он видел такое в кино, по телевидению… А тут нарта едва ползла по косогору, собаки, вытянув хвосты и высунув розовые языки, медленно перебирали лапами, поминутно оглядывались и смотрели на каюра и на Андрея ненавидящими глазами.
Андрей чувствовал, что задыхается: давненько ему не приходилось так бегать. Но не хотелось показывать свою слабость этому неприветливому каюру. Ему-то что: он привычный да еще держится за дугу.
Андрей собрал силы, догнал нарту и вцепился обеими руками в дугу. Сразу стало легче. Каюр покосился на Андрея и улыбнулся. Улыбка у него была добрая, чуть застенчивая.
— Как мне тебя называть?
— Оттой — по-чукотски, а по-русски — Андрей.
— Тезки, значит, мы с тобой.
— Выходит, так.
— Я тебя буду называть Оттой, можно?
— Почему нет? В тундре все меня так зовут.
Оттой внимательнее поглядел на приезжего. Чуть постарше его, а уже окончил институт. А вот Оттой не попал в прошлый раз, не прошел по конкурсу. Не захотел воспользоваться льготами для северян, решил сдавать, как все, в Дальневосточный государственный университет. Профилирующие предметы сдал хорошо, сочинение написал на четыре, а по устной литературе схватил двойку. Неожиданно для самого себя. Главное, когда вышел из аудитории, все вспомнил. Но, как говорят спортивные комментаторы, гол в ворота уже был засчитан… В этом году Оттой собирался сделать вторую попытку, упрямо отказавшись и на этот раз от внеконкурсного поступления. Старший брат, пастух оленеводческой бригады, у которого Оттой зимовал, предрекал ему новый провал. Ну и пусть! Если надо, Оттой пойдет и в третий раз сдавать и в четвертый! Всю долгую зиму он читал, готовился к экзамену по литературе. И не жалел об этом. Он понял, что, пренебрегая на школьных занятиях уроками литературы и предпочитая физику и математику, он прошел мимо волшебной горы, не заметив ее, не оглянувшись на нее… И теперь он был по-настоящему потрясен новым прочтением и Пушкина, и Лермонтова, и Тургенева, и Толстого, и Чехова, и Горького… Видимо, в школе у них была просто никудышная учительница по литературе, которая только и умела требовать от учащихся, кого и с какой силой изобличил в своем произведении изучаемый писатель. А ведь, кроме обличения, было и другое — внутренняя красота человека, то, что не видно снаружи, неуловимо даже в разговоре, но оно, это прекрасное, трепетное, всеобщее для всех людей, чудесное, как рождение первого теленка…
Нарта поднялась на перевал. Собаки почти выбились из сил, да и люди тоже. Надо передохнуть. Оттой тихо произнес:
— Гэ-э-э-э! — И собаки тут же остановились и залегли. — Привал.
Андрей глубоко вздохнул и сел на нарту. Сердце бешено колотилось, и парню казалось, что стук его слышен далеко вокруг.
— Устал с непривычки, — виновато произнес Андрей.
— Я тоже устал, — признался Оттой, садясь рядом с Андреем. Движением плеч он передвинул висевший на спине малахай на грудь и меховой оторочкой вытер вспотевшее лицо.
Отдышавшись, Андрей огляделся. С высоты открывался широкий вид на долины, еще полные снега. Но уже кое-где обнажился синий лед, под которым чувствовалась готовая вырваться на волю вешняя вода. Синева неба отражалась в снежных сопках, густо ложилась на затененные склоны. Прозрачный воздух открывал Дальний хребет, словно нарисованный неумелым художником на стыке неба и земли. Все кругом было наполнено величайшим спокойствием, возвышающим душу человека.
— Как здесь прекрасно! — громко произнес Андрей, и его слова разорвали воздух, спугнув собак и заставив вздрогнуть Оттоя.
Андрей нагнулся, взял пригоршню снега и только открыл рот, как услышал:
— Не смейте этого делать!
Андрей испуганно выронил снег и недоуменно посмотрел на каюра.
— Снегом не утолите жажду, — мягче сказал Оттой, — только разожжете ее. Вот, если хотите пить.
Оттой выпростал из поклажи термос. Чай был крепкий, горячий и сладкий. Андрей с удовольствием выпил два стаканчика-колпачка.
— Мне здесь безумно нравится, — произнес он громко. — Такая величественная, спокойная красота! И все кругом так девственно чисто, нетронуто. Как хорошо!
Андрей шумно вдохнул и выдохнул воздух.
Оттой отошел к собакам поправить постромки, но ему хорошо был слышен голос Андрея.
— И как подумаешь, что скоро доберутся и до этой красоты, — грусть берет… Как хорошо, что загрязнение окружающей среды еще не достигло этих мест…
Оттой поправил алык у передовой пары, осмотрел лапы собак. В эту пору снег острый, колючий, с растущими кристалликами, образовавшимися от солнечного тепла, и псы часто ранят подушечки лап до крови. На этот случай Оттой держал на нарте несколько пар кожаных чулочков.
— Даже такие огромные водные пространства, как океан, уже нельзя считать чистыми, — продолжал Андрей. — Тур Хейердал, плывя на своем папирусном корабле «Ра», прямо посреди океана встречал загустевшие комочки нефти, пластмассовые бутылки и разный мусор… Это поразительно! Человечество может утонуть в собственных нечистотах, если не принять решительные меры!
Осматривая лапы собак, Оттой дошел до нарты, и голос Андрея теперь гудел у него над самым ухом.
— Понимаешь, сейчас уже почти нет естественно чистых продуктов за очень редкими исключениями. Все надо подвергать предварительной очистке перед потреблением. В Центральной Европе вы уже не можете просто вот так наклониться над лесным ручьем и напиться: а вдруг где-нибудь поблизости химическое предприятие спускает неочищенные стоки или проходит канализационная труба? А продукты? Все выращивается с помощью химических удобрений, и даже в животноводстве для форсирования привесов мы вынуждены обращаться опять же к химическим добавкам…
— Поехали, — коротко произнес Оттой.
Андрей, замолкнув на секунду, вскочил на ноги.
— Сейчас можно сидеть, — сказал Оттой, — под гору поедем, собакам легче будет.
«Жалеет животных», — уважительно заметил про себя Андрей.
Собаки бежали не спеша, легко, и нарта катилась — здесь был уклон, хотя и не очень крутой.
— Ты сколько классов кончил? — спросил Андрей.
Оттой ответил.
— В институт не подавал? В университет?.. Ничего, не огорчайся, со второго захода должно получиться… Нынче в вузы большие конкурсы, но если у человека цель — он своего добьется. Нужно только упорство. Любишь животных?
Оттой пожал плечами. Он никогда над этим не задумывался. Просто олени и собаки были рядом с ним с самого детства.
— Я это заметил, — с торжествующей улыбкой сказал Андрей. — Вот когда мы ехали в гору, ты не позволил сесть на нарту. Жалко тебе было собак, верно?
Может быть, действительно ему было жалко собак. Только Оттой прекрасно знал: если бы они оба уселись на нарту, собакам просто не под силу было бы сдвинуть груз с места. Только при чем тут любовь?
— Хороший человек познается по его отношению к природе, к животным… Ты читал статьи Сергея Образцова о любви к животным? Нет? Надо почитать! Очень поучительные рассуждения.
Собаки чуть замедлили бег: упряжка выехала на речной лед, на котором лежал набухший водой снег. В следах от полозьев вода не исчезала, оставаясь двумя голубыми ленточками.
Оттой думал о своем. Через месяц-полтора ему снова плыть во Владивосток. Прекрасный город, такой неожиданно волнующий, встающий из сопок и зеленых склонов белоснежными высокими домами. Он снова поселится в общежитии и вечером, когда голова загудит от занятий, будет бродить по ярко освещенным, оживленным улицам, пройдет в морской порт и долго будет сидеть в ресторане, где прямо в большие окна заглядывают океанские корабли.
Ему всегда хотелось жить в городе. Столько людей вокруг, весело, словно живешь в непрерывном празднике…
— Город, — словно отзываясь на его мысля, продолжал Андреи, — по мнению многих авторитетных социологов — среда, вредная для человека. Излишняя урбанизация, ты понимаешь это слово?
— Какое слово? — переспросил Оттой.
— Урбанизация.
Оттой кивнул.
— Так вот. Излишняя урбанизация лишает человека его естественных связей с природой, его единения с окружающей средой, — продолжал Андрей. — Интересно отметить, что пастушеское скотоводство, куда входит и оленеводство, невозможно без того, чтобы человек не ощущал себя частью природы, естественным продолжением всего живого…
«Интересно, — подумал Оттой, — когда он устанет и замолчит?»
Но ветеринару казалось, что он нашел благодарного и понимающего слушателя. Когда собаки потянули нарту на склон и пришлось идти, держась за дугу, Андрей все равно не умолкал. Он рассказывал о себе, об учебе в ветеринарном институте, о радости, когда узнал, что ему придется работать в таком романтическом краю, как Чукотка…
Солнце уже давно перевалило за полдень. До стойбища оставалось еще километров десять. Оттой поначалу опасался, что дорога займет больше времени: вдруг пассажир вздумает все время сидеть на нарте? Но Андрей к середине пути втянулся, знал, когда надо соскакивать с нарты, помогал собакам. Одно было плохо: он не умолкал. Добро бы говорил сам, но все время пытался втянуть Оттоя в разговор, заставлял его отвечать на вопросы и даже понуждал высказывать свои суждения.
— Понимаешь, здесь даже чай имеет другой вкус, чем в городе. И причина этому — особая чистота воды. Ведь основная масса воды на Чукотке — это талая снеговая вода, богатая ионами, полезными для здоровья…
Показались яранги. Раньше их почуяли собаки, туго натянув постромки и позволив Оттою и Андрею подъехать к стойбищу на нарте.
Андрей впервые видел чукотское оленное стойбище. Три яранги стояли на возвышении, увенчанные столбиками синего дыма. Вокруг расстилалось огромное чистое пространство голубого воздуха, белого снега, обнажившихся кое-где моховищ и синели ленты набухших готовых вскрыться рек.
Андрей чувствовал необыкновенный подъем, восторг. Поздоровавшись с бригадиром, ветеринар, пригнувшись, вошел в древнее жилище тундрового кочевника. Сначала в глаза бросились предметы, выделявшиеся на общем фоне: книжная полка, забитая потрепанными, зачитанными томами, радиостанция, установленная на ящике из-под болгарских фруктовых консервов, и целая батарея примусов. Потом Андрей разглядел типичные предметы тундрового обихода: чааты, деревянные кадки, какие-то непонятные приспособления, похожие на теннисные ракетки, и несколько тщательно вычищенных, поставленных в ряд ружей.
— Как доехали? — спросил бригадир.
— Отлично! — восторженно ответил Андрей. — Я даже ничуть не устал. У вас тут так хорошо, просторно, чисто…
— Извините, но вам придется поместиться в пологе.
— Это же прекрасно! — воскликнул Андрей.
— Мы пологи целый день держим на снегу, так что можете не бояться, — продолжал бригадир.
— О чем разговор! — сделав обиженное лицо, заметил Андрей.
У костра хлопотали женщины. Молодая девушка поставила столик. Вошел Оттой, распрягавший собак, и молча примостился у столика.
— Когда мы подъезжали к стойбищу, мне вдруг стало ясно, почему ваш народ так любит свою землю: такой простор, такие величественные, широкие горизонты и ощущение неограниченной свободы… Это так прекрасно, не правда ли?
Бригадир вежливо отозвался:
— Это правда.
Девушка поставила небольшой тазик с вареным мясом. Соль лежала отдельно, на пластмассовой тарелочке. Бригадир протянул Андрею нож.
— Только осторожнее, он очень острый.
— Вы знаете, — проглотив первый кусок, заговорил Андрей, — оленье мясо по своим питательным свойствам стоит на первом месте. И это научно доказано. В книге известного специалиста по северному оленеводству профессора Андреева есть сравнительная таблица питательности мяса разных животных…
Бригадир что-то сказал, девушке, и та, порывшись на книжной полке, достала книгу Андреева.
— Вот-вот! Именно в этой книге, — обрадованно сказал Андрей и принялся дальше рассуждать о свойствах оленьего мяса. — Оно легко усваивается организмом. В желудке оно не давит, вы не ощущаете его тяжести…
Оттой слушал и с некоторой завистью думал о том, что будь у него так же ловко подвешен язык, запросто сдал бы экзамен по литературе. И откуда у гостя берется столько слов? Все говорит и говорит, а на лице никакой усталости.
— Вот почему человек, живущий в тундре, с точки зрения современной медицины, ведет наиболее оптимальное существование: здоровая, полноценная пища, чистый воздух и постоянное движение позволяют ему находиться в состоянии полного телесного и душевного равновесия…
Девушка убрала мясо и поставила на стол огромные кружки.
— Вам кофе или чай? — спросила она гостя.
— Конечно, чай, — отозвался ветеринар. — По последним данным медицины, кофе способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а чай, наоборот, полезен. Это хорошо, что вы предпочитаете чай.
Бригадир, воспользовавшись тем, что гость сделал глоток, спросил:
— Какие новости в Анадыре?
— Анадырь строится, — живо ответил Андрей. — Сдали два новых жилых дома, новую школу…
— Гостиницу достроили?
— Достраивают, — ответил Андрей. — На мой взгляд, строительство идет не так, как надо бы, не по-научному. Понимаете: ведь дома-то возводятся по материковым проектам…
— Разве это плохо? — осторожно спросил бригадир.
— Для Севера, — торжественно заявил Андрей, — нужны специальные проекты зданий с максимумом комфорта! Только такие жилищные условия могут закрепить специалиста в этих суровых, экстремальных условиях…
«Прямо как по радио говорит», — восхищенно подумал про себя Оттой.
Он выбрался из-за стола и вышел из яранги. Из-за кожаной стены наружу доносился голос ветеринара:
— Сейчас в печати идет дискуссия о том, какое жилище нужно в районах Крайнего Севера. Есть различные мнения по этому поводу…
Оттою придется уступить свой личный полог гостю. Так каждый раз. Когда кто-нибудь приезжает, Оттою приходится вместе со своими книжками и учебниками перебираться в общий полог. Там рано тушили свет, и Оттою не удавалось почитать перед сном. А это так приятно, особенно когда попадалась хорошая книга. После чтения снились удивительные, необычные, красочные сны, которые почти не запоминались, но оставляли долго не проходящее впечатление пребывания в ином, непривычном мире. Проснувшись поутру, Оттой чувствовал себя вернувшимся из путешествия в волшебную страну. Сегодня этого не будет. Все постараются пораньше уснуть: утром надо отправляться в стадо. А туда километров пятнадцать. Придется гонять упряжку. Значит, и завтрашний день пропал для занятий… Оттой почувствовал досаду. И, чтобы отвлечься от недостойных мыслей, он стал смотреть вдаль, за холмы, куда ушли олени. Через день-два стадо разделится: важенки, ожидающие телят, будут пастись на лучшем пастбище южного склона. Кое-где там уже растаял снег, и камни, покрытые мягким мхом, держат до утра дневное тепло долгого весеннего солнца… Если на этот раз удастся поступить в университет, тогда навечно прощай, тундра. Оттой уже не вернется в стойбище. И не будет больше вот так стоять у яранги и смотреть вдаль… Да, он будет приезжать на каникулы, а потом в отпуск, но уже как гость, как временный житель, который может уехать в любой день, в любой час. И у него уже не будет ощущения простоты и естественности, всего того, что его окружало с детства. У него появится потребность в осмыслении всего: и этого убегающего вдаль ряда холмов, южного теплого склона водораздела, яранги, оленей и своих родичей. Может быть, он научится так же чувствовать и восхищаться, как это хорошо делает гость… Он, Оттой, станет другим, и его отношение к тундре, ко всей здешней жизни, тоже изменится.
Ему вдруг стало зябко и неуютно. Но он уже видел себя в воображении другим: шумливым, многословным, имеющим множество полезных сведений на все случаи жизни. И так же, как приезжий ветеринар, он будет поражать земляков своей осведомленностью и умением упоминать нужное.
Солнце садилось за Дальний хребет, удлиняя тени от пустых бочек, стоящих на другом берегу речки и казавшихся издали группой людей, направлявшихся в стойбище. Протянулись тени и от яранг, и даже дым от костров имел свою подвижную тень на покрасневшем от закатных лучей снегу.
— От-той! — услышал он голос.
В чоттагине горели свечи, пробивая светом расходящийся дым догорающего костра. Чаепитие продолжалось.
— Оленеемкость пастбищ — это, конечно, сдерживающий фактор, — рассуждал Андрей. — Но есть другие пути: улучшение структуры стада, увеличение живого веса оленя. На острове Врангеля, где нет овода и гнуса, где столетия моховища оставались нетронутыми, вес одного оленя часто в два раза превышает материкового…
— Олень там большой, как корова, — кивнул бригадир.
Оттой разделся в чоттагине и нырнул в полог. Некоторое время он прислушивался к несмолкающему голосу ветеринара. Это было как шум бегущего по камням ручья. Он усыплял усталого Оттоя.
Звонким ранним утром две собачьи упряжки побежали в оленье стадо. Солнце еще не успело размягчить затвердевший на ночном морозе наст, и полозья катились легко. Собаки, словно чуя, что дорога недолгая и беречь силы ни к чему, бежали резво.
— Я познакомился с интересными цифрами в окружном центре, — говорил Андрей. — Одна собака в среднем съедает в день два килограмма мяса или рыбы. Содержание одной упряжки в год обходится приблизительно в девятьсот рублей. Это большая сумма. Так что проблема легкого транспорта для северных районов нашей страны сейчас встала во весь рост. Разве не лучше было бы тебе сейчас сидеть за штурвалом какого-нибудь снежного мотоцикла?
— Наверное, это было бы хорошо, — нерешительно ответил Оттой.
— Это было бы здорово! — воскликнул Андрей. — В считанные минуты ты у оленьего стада. Надо тебе в райцентр смотаться — каких-нибудь два часа на это!
Собаки подняли морды и натянули постромки: почуяли оленье стадо. Олени паслись в залитой солнцем долине.
Навстречу уже бежали пастухи, размахивая свернутыми чаатами.
Упряжки остановились в отдалении от стада, но собаки долго не могли успокоиться: повизгивая, они смотрели в сторону оленей.
Ветеринар взял сумку и в сопровождении бригадира отправился к оленям.
Оттой остался караулить упряжки.
Люди растворились среди оленей, словно сами превратились в них. В неожиданно наступившей тишине, свободной от голоса Андрея, можно было услышать отдаленное хорканье оленей, поскрипывание снега и какой-то далекий звон, словно где-то в бесконечной дали на легком ветру звенела тонкая струна. Оттой часто ее слышал, когда один оставался в тундре или в предвечерний тихий час выходил из яранги. И чем тише и яснее погода, тем явственнее и чище этот звон, выше тон… Интересно, будет ли он слышен в городе? Оттой как-то раньше не задумывался над этим, считал, что такой звук присущ только тундре. А, может быть, он есть и в городе, только у него не было времени прислушаться… Большие города… Скоро они будут и здесь, может быть, даже в этой долине, точно так, как выросли города в Западной Чукотке. И все-таки тундра останется тундрой с ее бесконечными просторами.
Прошел час, другой. Оттой подремал на нарте. Сквозь далекий звон и хорканье оленей он услышал знакомый голос, и сон улетучился. К упряжкам возвращались бригадир, ветеринар и пастухи.
— Сегодня биология как наука по значению выходит на первое место, — различил слова Оттой. — Особенно исследования на молекулярном уровне, генетика. Живая клетка оказалась подлинным окном в таинства жизни… Верно, Оттой?
— Может быть, — уклончиво ответил Оттой.
— Это надо знать, — твердо сказал Андрей. — На определенном этапе биология обязательно состыкуется с физикой. Это неизбежно, ибо полностью согласуется с материалистическим взглядом на единство мира, на единство природы…
Попрощавшись с пастухами, уселись на нарты и помчались в стойбище. Снег подтаял, собаки, однако, тянули хорошо, торопясь на кормежку.
— Я бы на твоем месте, — сказал Оттою ветеринар, — выбрал специальность поближе к занятиям твоих родителей. Покидать такую красоту неразумно. А вдруг из тебя не получится большого ученого? Тогда придется довольствоваться преподаванием в школе…
Этого и хотел, между прочим, Оттой. Открывать скрытые чудеса окружающего мира для любознательных и пытливых глаз — что может быть приятнее? Он видел себя хозяином школьного физического кабинета, человеком, который может с помощью хитроумных приборов продемонстрировать ученикам все великие опыты прошлого, воссоздав величественные ступени знания, по которым восходило человечество к нынешнему состоянию. Оттой считал это своим призванием. И не любил, когда это обсуждали люди посторонние.
— Профессиональная ориентация — вопрос государственной важности. Сколько мы недополучаем только от того, что человек работает не на своем месте, трудится вполсилы, потому что не любят своего дела, потому что когда-то ошибся в выборе профессии, поддался минутному увлечению, не послушался разумного совета…
Оленье стадо скрылось в долине, и тишина накрыла упряжки.
Пришли долгие солнечные дни. Если и задует теперь пурга, то ненадолго, и сквозь летящий снег будет пробиваться солнечный луч, не то, что в глухую зиму, когда во тьме бури смешиваются ночной мрак и дневные сумерки.
Итак, если Оттой на этот раз выдержит экзамены, то долго ему не видеть оленьего стада и не испытывать удивительной радости при виде новорожденного теленка, с трудом поднимающегося на дрожащие, еще слабенькие ножки. Конечно, Оттой будет тосковать по тундре, вспоминать не только хорошие, но и ненастные дни, но это тоска о покинутом прошлом ради лучшего будущего. Оттой так погрузился в свои мысли, что перестал слушать пассажира, пока тот не подтолкнул его локтем.
— Ну что ты думаешь об этом?
— О чем? — растерянно переспросил Оттой.
— Да ты что, спал? — удивился ветеринар. — Я говорив о полувольном выпасе. О том, чтобы предоставить оленю свободу.
— Они разбегутся, — ответил Оттой.
— Но дикие олени не разбегаются, — возразил Андрей.
— Они совсем другие, — ответил Оттой, дивясь непонятливости дипломированного животновода. — Наши разбегутся, а потом пропадут. Они привыкли к тому, что их охраняет человек.
— А все-таки попробовать не мешало бы. Надо избавить человека от необходимости быть вечно привязанным к оленьему стаду.
Оттой понимал разумом, что все рассуждения приезжего ветеринара правильные, но в душе его неожиданно для него самого зрело глухое раздражение. Будто долго слушаешь радио, которое нет возможности выключить.
— Тундровый быт нуждается в коренной перестройке, — продолжал Андрей.
«Одну ночь поспал в яранге и уже по-другому запел», — со злорадством подумал Оттой.
— Разве оленный пастух не заслужил права жить в комфортабельном жилище — с ванной, с горячей и холодной водой, с паровым отоплением? И чтобы пищу готовить не на дымном костре, а на газовой или электрической плите? Ну что ты молчишь, будущий Эйнштейн?
Оттой сделал вид, что не слышал последних слов ветеринара. Он резко притормозил парту и принялся осматривать лапы собак. На снегу четко выделялись яркие пятнышки крови. Так и есть, передовой пес порезал лапу. Оттой вытащил из поклажи чулок и приладил на собачью ногу.
— Проблем множество, — заговорил ветеринар, когда нарта тронулась. — С той же противооводовой обработкой. Намучается пастух, пока таскает на себе помпу. А почему не сделать это, скажем, с вертолета? Загнать стадо в кораль, опрыскать один раз — и все готово.
Возле яранги Оттой распряг собак, посадил их на цепь и спустился к ручью. У проруби он опустился на колени и увидел в воде отражение своего загорелого лица: обыкновенное лицо обыкновенного чукотского парня. Оттой улыбнулся своему отражению, опустил голову и долго с наслаждением пил вкусную воду тундрового подледного ручья.
У яранги он услышал голос ветеринара. Андрей говорил по радиотелефону:
— Отклонений от нормы нет. Признаков заболеваний некробациллезом не обнаружил. Стадо хорошо упитано… Надо благодарить пастухов, особенно бригадира Тутая. Завтра буду в аэропорту… Конец.
Положив черную трубку радиотелефона, Андрей заговорил другим голосом, видимо, продолжая:
— Историки утверждают, что первыми одомашнили оленя коряки. Потом и чукчи завели себе домашних оленей. С этого и пошло чукотское оленеводство, которое впоследствии распространилось по всей чукотской тундре…
— А как раньше жили чукчи? — с любопытством спросил бригадир.
— Как свидетельствуют древние казачьи отписки, или, если сказать по-современному, донесения, чукчи били мигрирующих оленей, когда животные проходили большие реки, — ответил Андрей. — Между прочим, таким образом охотились на оленей еще в начале нынешнего века канадские материковые эскимосы, живущие на пустынных землях Барренс…
Оттой вышел покормить собак. Таз с оленьей требухой несла двоюродная сестренка Номнаун, не захотевшая после восьмилетки учиться дальше. Она пока числилась чумработницей, грозилась уехать в Провидения и поступить в профтехучилище. Но для всех было ясно, что она скоро выйдет замуж за пастуха Аканто.
Собаки, почуяв еду, поднялись со своих лежек, звеня цепями, громко, до хруста и визга зевая огромными пастями со снежно-белыми рядами острых клыков.
Оттой поставил таз у ног и принялся бросать куски в разверстые собачьи рты.
— Какой гость к нам приехал! — восхищенно заметила Номнаун. — Я таких интересных разговоров давно не слушала: ни от приезжих лекторов, ни даже по радио. На все случаи жизни у него есть полезные сведения. Очень умный человек. Сразу заметно, что у него высшее образование.
Оттой был почти согласен с Номнаун.
— И еще, — продолжала сестренка, — он выносливый человек: столько говорит и не устает.
До позднего вечера в яранге звучал голос ветеринара. И во время вечерней трапезы, и в продолжение долгого чаепития, и даже после того, как все забрались в полог и Тутай высунул голову в чоттагин, чтобы выкурить последнюю папироску.
Так и заснул Оттой, убаюканный голосом ветеринара. Под утро ему приснилось, что он сидит в аудитории Дальневосточного университета и пятый день подряд слушает лекцию. На кафедре Андрей Хмелев…
Выезжали рано утром, чтобы поспеть к двухчасовому самолету. Погода стояла такая же ясная, как и три дня назад. Только ехать было легче: снег еще не подтаял, дорога шла под уклон, с водораздела, где паслись олени.
Когда под полозьями выступила вода, Андрей попросил остановиться и зачерпнул из следа крышкой термоса.
— Где еще, скажи, Оттой, можно сделать вот так: зачерпнуть воды прямо под собой? Чистейшей, холодной?
Андрею и впрямь было хорошо в тундре. С того момента, как увидел упряжку и этого молчаливого парня в живописном наряде тундрового кочевника, его не покидало приподнятое, какое-то удивительное жизнерадостное настроение. Все вокруг виделось ему прекрасным. Может быть, оно и вправду было так. Андрей никогда и нигде не чувствовал себя свободно и раскованно. Застенчивый по натуре, он вдруг ощутил в себе потребность общения, потребность долгого и интересного разговора. Он видел на лицах пастухов открытую, широкую улыбку, чувствовал, как им интересно его слушать, и это внимание распаляло его, разжигало в нем огонь костра общения. Хотелось бы подольше побыть в стойбище, глубже окунуться в эту необычную жизнь, где все так открыто, просто и чисто… Конечно, про ярангу такого не скажешь, но ведь придет время, и вместо тундровой яранги придумают что-нибудь другое…
— Как ты думаешь, можно чем-нибудь другим заменить ярангу? — спросил Андрей каюра.
Оттой молча пожал плечами.
— А эти домики, в которых живут полярники дрейфующих станций, подойдут?
Оттой еще раз молча пожал плечами.
Отчего он такой неразговорчивый? Это Андрей заметил сразу. Может, у него такой характер или он чем-нибудь обидел парня? Спросить у него прямо? Плохо, что не видно его лица. Оттой сидит спиной к пассажиру и время от времени что-то говорит собакам. Вожак оглядывается на голос, понимающе моргает и поворачивает в нужном направлении, удивляя Андрея своей понятливостью.
Начался подъем, и пришлось соскочить с нарты. На ходу трудно разговаривать, и Андрей поневоле замолчал. На перевале Оттой остановил упряжку. Вытащил из поклажи хлеб, масло, термос и молча протянул Андрею. Сам он есть не стал. Собаки отдыхали, иногда оглядываясь на жующего человека.
— Я слышал, что собак в пути не кормят, — заговорил Андрей, плотно завинчивая крышку термоса, — интересно, чем это объясняется?
Не дождавшись ответа, он продолжал:
— Очевидно, собака, знающая, что ее накормят лишь в конце пути, хорошо тянет. Словом, тут играет роль условный рефлекс, павловское учение…
Оттой молча встал, осмотрел лапы собак. Осторожно стянул с лапы вожака надетый вчера кожаный чулок, осмотрел ранку и надел чулок.
Тронулись в путь.
Демонстративное молчание каюра и его явная неприязнь угнетающе подействовали на Андрея, и он замолчал.
Раза два пришлось вставать и помогать на подъеме собакам, но зато всю последнюю треть пути сидели на нарте — ехали под уклон. Оттою иной раз даже приходилось пускать в дело тормозной остол.
В аэропорт прибыли задолго до прилета самолета. Оттой сгрузил с нарты рюкзак ветеринара и протянул ему на прощание руку.
— Нет! — резко сказал Андрей. — Пошли в буфет, выпьем по стакану чаю.
В буфете Андрей сам принес чай, пирожки и сел напротив Оттоя.
— А теперь скажи мне прямо, чем я тебе не угодил? Может, я тебя обидел или твоих родичей? Могло и такое случиться: ведь я еще не знаю всех ваших обычаев… Скажи мне, я не обижусь. Наоборот, скажу тебе спасибо.
— Да ничего такого нет, — просто ответил Оттой. — Все было очень хорошо. В стойбище вы всем понравились. Тутай жалел, что вы так скоро уезжаете.
— Ну, а почему ты тогда всю дорогу молчал, словно немой? Может, у тебя какая-нибудь обида на меня?
— Да нет же! — горячо возразил Оттой. — Просто я… просто я хотел сделать вам приятное.
— Сделать приятное? Ничего не понимаю!
— Я хотел подарить вам молчание… Тишину… Долгое молчание…
Андрей с удивлением уставился на Оттоя и потом, когда смысл сказанного дошел до него, медленно с удивлением произнес:
— Ну, спасибо тебе, Оттой!
ВОСПОМИНАНИЕ О БАФФИНОВОЙ ЗЕМЛЕ
Вдали от городских кварталов Торонто, разделенные лучами широких автомагистралей, стоят аккуратные кварталы частных домов, окруженные ровными квадратиками подстриженной зелени.
От автобусной остановки, расположенной недалеко от гостиницы «Холидей Инн», пустырем по обочине дороги шагал человек. Он стороной обходил лужи, следил за тем, чтобы грязь не попала на тщательно вычищенные башмаки.
Да, разросся Клейнборг. Еще недавно дома здесь были редки и отстояли далеко друг от друга.
Поворот здесь. Как не знать землю, которая знакома тебе до мельчайшей складки.
Свернуло и ответвление шоссейной дороги, неся на себе бесшумно плывущие автомашины. Здесь ездят только легковые.
Со стороны Онтарио неслись влажные, плотные, как мокрые одеяла, тучи. Мелкая водяная пыль висела в воздухе и сгущала быстро надвигавшуюся мглу.
Показалась знакомая красная черепичная крыша и высокая каминная труба. Над ней курился легкий дымок — значит, в камине пылают дрова и Агнус Прайд, завернув застуженные в дальних северных путешествиях ноги, сидит перед огнем и предается вечерним размышлениям или смотрит телевизионную передачу.
Путник отчетливо представил его рыжую курчавую бороду, уже порядком поредевшую и поседевшую, и теплое чувство неожиданно возникшей нежности захлестнуло его сердце.
Человек медленно приближался к дому, и с каждым шагом его все теснее обступали воспоминания. Они заполняли все вокруг, и каждая зеленая травинка на подстриженном газоне перед домом была знаком навсегда ушедшего прошлого.
Вблизи от дома человек замедлил шаги. Он постоял перед крыльцом, огляделся и медленно приблизился к парадной двери с медной позеленевшей монограммой. Осторожно прикоснувшись к дверной ручке, он постоял с минуту и, круто повернувшись, быстро зашагал прочь, в дождливые сумерки наступавшей ночи.
Уходивший человек носил фамилию владельца дома, известного ученого-этнолога Прайда.
В 1948 году археологическая экспедиция этнографического музея Торонто производила раскопки на Баффиновой Земле. В тот год эскимосское племя посетила страшная болезнь, унесшая в долину вечных льдов многих жителей острова. Опустели целые селения. В одной из хижин среди мертвых тел молодой ученый Агнус Прайд подобрал чуть живого малыша. Он привез мальчика в свой дом.
Поступок молодого ученого вызвал одобрение соседей, и торонтская «Глоб энд Мейл» поместила на своих страницах небольшую заметку о благородном порыве видного жителя провинции Онтарио.
Маленький эскимос, нареченный Джеком, стал всеобщим любимцем. Молодая жена Агнуса Прайда, миссис Хэлен, не чаяла в нем души.
Когда соседки выходили прогуливать своих породистых собак, Хэлен Прайд одевала своего воспитанника в стилизованную под эскимосскую, специально сшитую для него одежду, сажала в санки с полозьями из моржовых бивней, привезенные Агнусом с Севера, и возила его перед своим домом, вызывая зависть соседок и непритворное умиление усыхающих в безделье старушек.
— Какая прелесть! — всплескивали руками женщины.
— Чудо! — коротко заключали мужчины, вылезая из своих автомашин, чтобы взглянуть на такую редкость.
Вечера перед камином проходили в спорах о том, как следует воспитать маленького Джека, какое будущее ему дать.
— Дорогая, — обращался к жене Агнус, — Джеку самой судьбой предназначено стать мостом между нами и представителями его племени. С его помощью мы сможем установить точки истинного соприкосновения с загадочной душой эскимоса, которая для науки поныне остается белым пятном…
— Милый, — Хэлен нежно касалась рукой плеча мужа, — я не позволю, чтобы мой дорогой Джек снова вернулся в провонявшие тухлым тюленьим жиром, грязные хижины, чтобы он снова облачился в звериные шкуры, ел сырое мясо и страдал от холода. Пусть хоть он поживет по-человечески за все бедствия своих братьев и сестер. Агнус, милый, позволь мне сделать из него настоящего джентльмена…
Лишь брат Агнуса, художник Дэви, который изредка появлялся в доме Прайдов, не разделял всеобщего восторга и умиления. Мрачно взглянув на Джека, он требовал стакан рома и гитару. Дэви садился перед огнем и часами наигрывал нечто ему одному ведомое и приятное.
Агнус сочувственно посматривал на брата и тяжело вздыхал. Жене и знакомым он объяснял:
— Таким его сделала Испания.
Когда Дэви впервые показали Джека, он равнодушно поглядел на мальчика и заметил брату:
— Привез бы лучше белого медвежонка. Вырос — в зоопарк отдали бы. А с ним… — И он, махнув рукой, принялся щипать свою старую гитару.
Джек рос крепким и здоровым. Болезни, обычные для белого ребенка, обошли его стороной, и восьми лет он вместе со сверстниками пошел в школу.
Школьные успехи Джека не отличались ничем особенным. Во всех отношениях это был нормальный человек, и мистер Агнус был слегка разочарован тем, что Джек оказался таким заурядным.
К тому же Хэлен наконец родила крепкого, здорового мальчика, сделав Агнуса подлинным отцом и воцарив в семействе долгожданное равновесие.
Появление маленького брата обрадовало Джека. Он часами наблюдал за крохотным маленьким существом, которое скоро стало центром жизни дома Агнуса Прайда. Вокруг этого существа теперь сосредоточилось все, что было раньше вокруг Джека. Но он не чувствовал себя обделенным ласками, ибо считал, что так и должно быть: ведь родилось слабое существо, которому надо отдать все.
Джека перевели в другую комнату, в дальнем углу дома. Миссис Хэлен с серьезным и озабоченным выражением на лице разъяснила ему, что между положением в доме настоящего сына и его — воспитанника — существует большая разница… А потом Джек стал замечать, что на улице его порой окликают не по имени, а просто — эскимос!
Трудно было ему смириться с новым положением, трудно было переучиваться по-иному называть людей, которых он считал своими родителями.
Все чаще он думал о своей далекой родине, которую никогда не видел и никогда не знал. Баффинова Земля. Где она? Познакомившись с географической картой, он отыскал на далеком Севере остров, отделенный полоской голубой воды от материка.
К четырнадцати годам он хорошо знал свою историю и твердо усвоил, что его в этом доме терпят из великой милости и человеколюбия: куда же деваться эскимосу?
Из веселого, общительного мальчика Джек превратился в замкнутого, молчаливого юношу.
Миссис Хэлен с гордостью заявляла своим соседям, что Джек ведет себя так тихо и почтительно, что она даже не чувствует его присутствия.
По-прежнему по вечерам уютно трещали дрова в большом камине. Стареющий на глазах Дэви щипал струны гитары и играл что-то далекое и трогающее глубины сердца. Однажды Джек почтительно осведомился у дяди, как называется эта музыка.
— «Воспоминание об Альгамбре», — ответил Дэви. — Она прекрасна, как молодость.
С удивлением Джек обнаружил у себя тоску по невиданной родине, особенно когда слушал игру Дэви.
Агнус Прайд несколько раз заводил разговор о том, что было бы неплохо подготовить Джека в Торонтский университет, но каждый раз его жена задавала трудноразрешимый вопрос: а кто будет платить за обучение Джека?
Постепенно все становилось чужим. И улица, на которой Джек начал сознавать себя, и соседи, и сверстники, с которыми он рос и играл, и даже этот дом, который он считал родным…
Джек долго готовился к этому разговору. И однажды, когда снова горел в камине огонь и музыка Дэви Прайда будила неясные мысли, Джек обратился к поседевшему и пополневшему Агнусу со словами, которые он давно вынашивал и повторял про себя:
— Па, я хочу уехать на свою родину…
— Что ты сказал, мой мальчик? — не понял Агнус.
— Я хочу вернуться на свою родину, — повторил Джек.
— Но, мой мальчик, там у тебя никого нет, — растерянно пробормотал Агнус, — вряд ли кто помнит даже твоих родителей. И что ты будешь там делать?
— Волчонок, возмужав, возвращается в лес, — глубокомысленно изрек Дэви. — Правильно делаешь, Джек.
— Милый Джек, — мэм давно не была так ласкова. — Нам будет так недоставать тебя. Ведь ты нам как родной…
— Постойте, — пытался разобраться Агнус. — Что ты говоришь, дорогая? Еще ничего не решено. Быть может, мне удастся получить для Джека стипендию…
— Нет, я решил твердо, — еще раз повторил Джек и вдруг ощутил, что он уже совсем взрослый и что-то в этом мире действительно принадлежит ему — хотя бы то, что он принял свое, собственное решение.
— Ты даже представить не можешь, что тебя там ждет, — мрачно произнес Агнус.
— Но зачем противиться естественному желанию человека возвратиться на свою родину? — подняла брови мэм. — О чем ты говоришь, Агнус? Где твоя гуманность?
Через несколько недель Джек улетел на север.
Он прощался с зеленой землей и думал о том, что никогда ему не увидеть большие деревья, огромную автостраду, по которой с ревом проносятся машины, весь этот привычный, обжитой и знакомый с детства, уютный мир.
Джека провожала вся семья Прайдов. Даже дядя Дэви приехал. Без гитары, с огромными обвисшими усами, в толстом вельветовом пиджаке, с опущенными плечами, он походил на большую грустную птицу.
Джек едва сдерживал слезы. Они комом стояли у него в горле, и он не мог произнести ни слова, боясь разрыдаться. Мэм то и дело прикладывала платок к глазам, а па Агнус был какой-то растерянный и все бормотал:
— Бедный мальчик, бедный мальчик…
— Пиши нам, не забывай нас, — всхлипнув еще раз, повторила мэм.
А когда Джек уже поднимался по самолетному трапу и оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на землю, которую он покидал навсегда, он увидел, как мэм, припав к плечу своего мужа, содрогается от рыданий. Он едва не сбежал обратно на землю.
Впечатления от первого в жизни полета немного отвлекли Джека, и он даже стал мечтать о том, что непременно постарается разыскать кого-нибудь из родственников. Не может быть, чтобы не отыскалось никаких следов. Кто-то, пусть даже самый дальний родственник, должен быть жив. Любой эскимос ближе, чем Агнус Прайд, мэм и добряк Дэви. Свой народ, своя земля, своя кровь…
Он постарается передать своим соплеменникам знания, которые он получил у белых людей. Они нужны его народу, чтобы стать наравне с белыми, которые неизвестно по какому праву считают себя хозяевами земли. Он разбудит у них гордость, и эскимосы возвысят голос так, что их смогут услышать другие народы. Люди есть люди, независимо от места рождения и цвета их кожи…
Джек не замечал, что рассуждает словами, которые он не раз слышал в гостиной Агнуса Прайда, когда тот встречался со своими университетскими коллегами, такими же учеными, как и он сам, такими же знатоками культур и языков экзотических народов мира.
Дорога заняла больше недели. Из Черчилля пришлось плыть на грузовом судне «Гудзон бей компани», развозившем перед зимним ледоставом товары по торговым точкам, лежащим на побережье Гудзонова залива.
На судне Джек Прайд впервые встретился со своими сородичами, возвращавшимися на родину, — эскимосской семьей. Обрадованный этой встречей, Джек кинулся к главе семьи, седому эскимосу с печальными глазами. Джек стоял перед стариком, неловко переминаясь с ноги на ногу, пока тот не спросил его на ломаном английском:
— Что вам угодно, сэр?
— Ничего, ничего, — поспешно ответил Джек. — Просто мне хотелось поближе познакомиться с вами… поговорить…
Старик внимательно оглядел Джека. Сначала он изучал его лицо, потом перевел взгляд на одежду, на руки…
— Я плохо говорю по-английски, — сказал старик.
— Вы с острова Баффина? — спросил Джек.
— Да.
— Я тоже родился там, — сказал Джек.
Старик еще раз внимательно оглядел собеседника, в его глазах сверкнул огонек недоверия.
— Да, да, — заторопился Джек. — Я там родился, но не знаю своих родителей…
И он, волнуясь и запинаясь, рассказал свою историю.
Взгляд старика стал теплее, и он сочувственно спросил:
— В гости решили поехать?
— Нет, я решил возвратиться навсегда, — ответил Джек.
Старик помедлил с ответом.
— Трудно вам будет, — многозначительно сказал он.
Пароход пришел в небольшое эскимосское селение на берегу Гудзонова залива и стал на рейде.
Джек жадно вглядывался в незнакомую землю, представшую перед ним сквозь медленно расходящийся утренний туман. Первой показалась остроконечная, увенчанная крестом крыша церкви, еще одно здание, крытое гофрированным железом, на котором огромными буквами было выведено: «Гудзон бей компани», два-три приличных домика, а чуть поодаль скопище жилищ, сооруженных из обрезков жести, досок. Домики были врыты в землю, плотно обложены дерном, крошечные окошки подслеповато смотрели в сторону моря. Напротив домиков стояли вытащенные на берег вельботы, а на высоких стойках покоились каяки, эти знаменитые эскимосские суда, знакомые Джеку по экспозициям Национального музея Онтарио. Под стойками для сушки шкур бродили стаи собак, а люди плотной кучкой стояли на берегу, и на тихом рейде слышен был их возбужденный разговор.
— Загалдели, как голодные гагары, — беззлобно произнес один из матросов. — Почуяли виски. Ну и дело будет сегодня вечером здесь!
На деревянном вельботе Джек Прайд переправился на берег, оставил чемодан у бармена в лавке «Гудзон бей» и отправился помочь разгружать привезенные для жителей селения товары.
В вечерний час, когда весь поселок шумел в пьяном веселье, Джек Прайд вспомнил слова моряка. Толпы шатающихся людей переходили из одной хижины в другую. В здании «Гудзон бей компани», в сторонке от прилавков, оборудовали импровизированный бар, за которым стоял молодой белокурый паренек и проворно наливал виски в подставляемые посетителями кружки, стаканы, чашки.
В толпе шныряли моряки судна, на котором приплыл Джек Прайд, выменивали виски на тюленьи шкуры, моржовые бивни, обувь, расшитую бисером, сувенирные перчатки, украшенные богатым орнаментом.
Казалось, в этом селении были пьяны все, даже дети и собаки. Лишь в домах белых людей было тихо и из-за плотных занавесей не пробивалось ни звука, ни полоски света.
Джек ходил по хижинам. Единственный знакомый эскимос — старик, который плыл с ним на теплоходе, — разнес по селению новость о том, что приезжий ищет родственников.
Старик затерялся в этом небольшом селении, в котором всего-то жило не более полутораста эскимосов. Но алкоголь сделал все лица странно похожими, и Джек с трудом мог отличить нового человека от того, с которым уже разговаривал.
Никому не было дела до его поисков, — пароход приходит один раз в год, виски бывает немного и ненадолго: надо успеть насладиться весельем и опьянением.
Джек едва волочил ноги от голода и усталости, когда в одной хижине хозяин предложил ему войти и выпить кофе.
Низко нагнув голову, Прайд вошел в хижину, миновав холодную часть, где возились и глухо рычали собаки. В небольшой комнате господствовал огромный пружинный матрац, положенный прямо на пол. На матраце были навалены подушки и одеяла, а с краю сидела немолодая женщина и кормила дряблой, обвисшей грудью мальчика лет семи-восьми.
— Я слышал, что вы ищете своих родственников, — сказал хозяин, внимательно следя за тем, как гость бережно наливает из термоса кофе.
В отличие от других жителей селения, хозяин не был пьян, хотя на столе стояла початая бутылка виски, заткнутая мятым куском бумаги.
— Да, — ответил Джек, с наслаждением чувствуя, как в его желудке плещется горячая живительная жидкость.
— Может быть, это я — ваш родственник? — просто, словно о чем-то незначительном, спросил хозяин. — Меня зовут Татмирак. В тот год страшной болезни умер мой брат, умерла его жена… Мы узнали об этом лишь тогда, когда болезнь ушла дальше на север, покинув нас, оставив после себя хижины, заполненные мертвецами. Несколько дней мы хоронили умерших. Когда дошла очередь до жилища моего брата, мы нашли в нем только тела его и жены. Ребенка не было. Да, я знал, что во время болезни сюда приезжали белые люди, но никому из нас не пришло в голову, что они могут взять ребенка. Мы решили, что его съели изголодавшиеся собаки. И такое бывало…
Татмирак вгляделся в лицо гостя, вынул бумажную затычку из бутылки, отхлебнул и продолжал:
— Может быть, ты и есть тот, которого взяли белые. Но я не могу с уверенностью сказать. Очень ты похож на белого человека. И даже пьешь кофе не так, как мы, сидишь по-иному. Вот только лицо… Нет, я должен быть трезвым. Но ты чем-то похож на моего брата…
— Расскажите мне о нем, — робко попросил Джек.
— О ком? — переспросил Татмирак.
— О своем брате.
— Что о нем говорить! — махнул рукой Татмирак. — Просто был человек. Сейчас он видится прекрасным. Люди, как горы: чем дальше от нас, тем кажутся прекраснее. Вот и он. Отсюда он выглядит великолепным, а может быть, был простой человек… Ты, друг мой, ложись спать здесь.
Джек сходил за чемоданом. Жена Татмирака постелила ему на полу, в противоположном от матраца углу.
Утром он проснулся от неловкого ощущения и, открыв глаза, увидел над собой склонившегося Татмирака.
— В тебе что-то есть, — тихо произнес Татмирак. — Смотрел я на тебя трезвыми глазами и находил знакомые черты. Может быть, ты и есть сын моего брата и тебя не сожрали голодные собаки.
Джек Прайд остался в селении, в сложенной из плотного дерна хижине Татмирака. Ему отгородили небольшой уголок, где он из досок сколотил себе ложе. С первыми заморозками, когда битый лед заполнил Гудзонов залив, Джек снарядился на охоту вместе с Татмираком. Жители селения настороженно следили за ними, и в их взглядах было больше отчуждения, нежели сочувствия.
Охота кончилась неудачно. Джек дважды проваливался под лед, пока выведенный из терпения Татмирак не повернул обратно.
— Тебе надо учиться вещам, которые человек должен знать с самого рождения, — недовольно заметил он смущенному Джеку. — Ты не умеешь охотиться, добывать еду, ты не знаешь самого главного дела настоящего мужчины. Ты выглядишь как белый человек.
Конец фразы стегнул Джека по сердцу, и он вздрогнул. Слова «ты выглядишь как белый человек», «ты стал словно белый» у этого народа означают высшую степень презрения. В их глазах стать подобным белому — это значит пасть так низко, как только может пасть человек. Ниже — невозможно. Действительно, как еще можно назвать человека, который по всем внешним признакам является эскимосом, а на самом деле даже не может добыть себе еды?
Татмирак стал остерегаться брать с собой на охоту Джека, хотя тот старался изо всех сил не быть ему обузой. На остатки своих денег Джек купил ружье в лавке «Гудзон бей», но приобретение ружья не прибавило ему уважения в глазах жителей селения.
Он пытался сойтись поближе со своими сверстниками, но те сторонились его, а один из парней откровенно высказал ему:
— Когда я с тобой разговариваю на инглиш и не могу перейти на свой родной язык, мне все кажется, что ты притворяешься. Будто ты все понимаешь по-нашему, но не хочешь говорить.
Джек старался научиться языку своих отцов. Он уже мог произносить простейшие фразы, но, должно быть, коверкал их, потому что его собеседники не могли сдержать улыбку, слушая его эскимосскую речь.
Девушки тоже сторонились его, предпочитая проводить время со своими парнями или с холостяком-торговцем, или носили воду настоятелю Объединенной церкви. Настоятель был человек здоровый и жизнерадостный, и по селению бегало около десятка ребятишек, удивительно похожих и светлыми волосами, и чертами лица на святого отца.
Горизонт одиночества раздвигался для Джека все дальше и дальше. Вместо уважения и сочувствия, которые он ожидал найти у соплеменников, к нему росло презрение и безразличие.
В морозные темные дни еды в хижине Татмирака было немного, а тут еще приходилось кормить Джека. Каждый раз за трапезой у Джека кусок комом становился в горле. Он в одиночку уходил на крепкий лед Гудзонова залива и даже, случалось, приносил в хижину тюленя. Но и это не изменило к нему отношения эскимосов, а лишь вызывало удивление: почти белый человек, а поступил как эскимос.
Иногда в метельные темные ночи, когда сон уносился вдаль вместе с ураганным ветром, Джек думал, что лучше было бы уйти из этой жизни, из этого мира, в котором для него нет места: пустота кругом от горизонта до горизонта. Но он еще так молод. Он только начинает жить. Может быть, есть все-таки место и для него?
Возвращение в прошлое не состоялось. Он был чужим среди этих людей, у которых своя жизнь, свои привычки, свои обычаи. И они его не принимали не потому, что он ничего не умел и не знал, а потому, что, будучи таким же эскимосом, как и они, он не имел достоинств, которые делали бы его полноценным человеком в их глазах.
Джек с нетерпением ждал наступления теплых дней. Он написал несколько писем в Клейнборг, и каждый раз, когда он садился за лист бумаги, Татмирак следил за ним: никто из эскимосов в этом селении не умел ни читать, ни писать.
Ранней весной, когда Гудзонов залив очистился ото льда и пришел первый корабль, Джек Прайд продал ружье и несколько добытых шкур нерпы и отправился в обратный путь, на берега великого озера Онтарио, где он вырос.
Эскимосы молча провожали его, и только Татмирак виноватым голосом сказал:
— Так уж получилось… Ты стал другим, неспособным жить среди нас. Иди к тем, кто вырастил тебя и воспитал. Тебе будет лучше среди них.
Джек испытал чувство облегчения, когда за горизонтом скрылись пустынные, отвергнувшие его берега Баффиновой Земли.
Сердце колотилось от волнения, когда Джек подходил к знакомому дому. Зеленый ковер газона ласкал уставшие от блеска льдин глаза.
По знакомым четырем ступенькам Джек поднялся к парадной двери с узорным матовым стеклом и позвонил. Было мгновение, когда он хотел уйти, но тут распахнулась дверь, и он увидел знакомое лицо дяди Дзви.
— Бог мой! — воскликнул он. — Кого я вижу! Вернулся?
Джек прошел в знакомую гостиную, и его глазам предстала привычная картина у камина, которую он так часто представлял на далеком, холодном и чужом Севере.
Па Агнус и ма Хэлен со смешанным выражением удивления и замешательства уставились на него. И тут сами собой на язык Джеку пришли слова, которые вывели из оцепенения хозяев дома.
— Я ненадолго приехал к вам, — тихо произнес Джек. — Очень хотелось вас видеть, и вот решил навестить.
— Как хорошо ты сделал, что навестил нас! — с облегчением воскликнула ма Хэлен. — Мы так соскучились по тебе.
— И правильно сделал! — громко заявил доктор Агнус. — Здесь ты всегда дома.
Джек Прайд прожил в доме, в котором провел большую и лучшую часть своей жизни, несколько дней. Тайком он искал работу и вскоре нашел место грузчика в грузовом отделе Торонтского международного аэропорта. Сняв комнату, Джек объявил Агнусу и Хэлен, что уезжает, но просил не провожать его. Снова были слезы, напутствия, но на этот раз Джек был совершенно спокоен, и в уголках его губ застыла едва заметная горькая улыбка.
Теперь на свой родной дом Джек Прайд смотрит только издали. И лишь в дождливые осенние вечера он крадучись пробирается к крыльцу, чтобы дотронуться до бронзовой ручки входной двери. Он живет этой единственной радостью, но, прежде чем решиться подойти к дому, он заворачивает в бар отеля «Холидей Инн» и торопливо опрокидывает в рот подряд несколько стаканчиков виски.
Иногда он слышит, как наигрывает на гитаре дядя Дэви. Музыка знакомая, щемящая. Джек забыл ее название, только помнит, что это название чего-то далекого, несбывшегося, и мысленно он называет эту мелодию «Воспоминание о Баффиновой Земле».
Примечания
1
Коо — не знаю.
(обратно)2
Рэтэм — обстриженные оленьи шкуры.
(обратно)


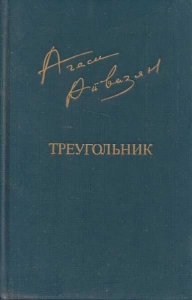

Комментарии к книге «Когда киты уходят: Повести и рассказы», Юрий Сергеевич Рытхэу
Всего 0 комментариев