Осенним днем в парке
В КОМАНДИРОВКЕ Рассказ
Уже перед самым отходом поезда Кущ вспомнила, что не взяла папку с выписками из личного дела Пелехатого. Она досадливо повела плечами, но ничего не сказала спутнику. Ефимочкин, худощавый, узкогрудый, в очках, в кургузой курточке, походил скорее на серьезного мальчика-шахматиста, чем на солидного работника треста. Он долго устраивался на своей полке, потом достал из чемодана книгу, комнатные туфли и уселся.
Поезд медленно плыл вдоль перрона. В последнюю минуту в купе вбежал мужчина в кожаном пальто, в руках — огромный портфель с застежкой «молния». Он плюхнулся на диван, отдышался и бодро сказал:
— Ну, тронулись-двинулись! Чуть не опоздал… А-а, старые знакомые!..
Фамилию этого человека Кущ позабыла, хотя помнила, что он работал у них в тресте и уволился вскоре после того, как она туда поступила. Фамилию назвал Ефимочкин:
— Кривцов! Откуда? Куда?
— В Балашихинск. И вы? Какое совпадение! — Кривцов жизнерадостно захохотал.
Кущ вышла в коридор к окну.
Простирались по-сумеречному печальные, прихваченные заморозками поля Подмосковья. Сады уже облетели, облиняли, утратили пеструю осеннюю красу. Все отцвело, опало, буграми лежала на огородах развороченная земля, валялись веревки увядшей картофельной ботвы.
Пейзаж был унылый, как будто в природе остались только две краски — черная и серая, но он не нагонял тоски. Кущ было весело и хорошо. И даже мысль о забытой папке не могла испортить ей настроение.
Командировка радовала ее.
Поезд бежал все быстрее. Темнело. Тьма проглатывала поселки, колодцы, дачные платформы, палисадники. В далеких домиках зажглись редкие, одинокие огоньки. Ели подступили к железнодорожной насыпи, вытягивая свои мохнатые лапы…
В купе Ефимочкин расспрашивал Кривцова:
— Что же вы теперь делаете?
— А что делать бедному крестьянину? Ха-ха-ха… Читаю лекции. От Общества по распространению… Меня всегда тянуло к теории. Вы же помните…
Ефимочкин нерешительно подтвердил:
— Ну да… — И спросил: — Но что это вам дает как экономисту?
— Как что? Ясно, как разжеванный апельсин. Кругозор, наблюдения… И заработок неплохой. А вы зачем в Балашихинск? Позвольте, Балашихинск — это же вотчина Николая Павловича Викторова…
— Была. И может быть, скоро опять будет…
— Это же прекрасный мужик, Викторов!
Кущ не увидела, а скорее почувствовала, как Кривцов глазами и движением бровей показал на нее, и Ефимочкин, отзываясь на его немой вопрос, ответил:
— Вот с Александрой Александровной Кущ, нашим инспектором по кадрам, едем на его бывшую фабрику.
— Кто же теперь директор?
— Некто Пелехатый…
— Пелехатый? Не слыхал, не знаю.
Ефимочкин пожаловался:
— Будь он неладен, этот Пелехатый! Я собирался идти сегодня на «Плоды просвещения». Билеты купил…
— Что ж, нельзя было отложить поездку? Такая срочность? — беспечно спросил Кривцов. — Не сгорела бы ваша балашихинская фабрика за одни сутки… Да и вообще… Подумаешь, какое грандиозное предприятие! Какое уж там значение имеет их продукция в общем плане треста!
— Да, фабрика маленькая, невзрачная, а вот подите, Викторов рвется обратно…
— Ну, он известный энтузиаст… Если бы не он, никто бы и не знал про эту балашихинскую фабрику.
«Он прав, — подумала Кущ, прижимаясь лбом к холодному стеклу и наблюдая, как над вершинами сосен появляется бледный молодой месяц. — Он прав, этот Кривцов. Продукция балашихинской фабрики действительно занимает очень малое место, или, как принято говорить, имеет малый удельный вес в общем плане треста. Верно, если бы не Николай Павлович, никто бы и не вспомнил об этой фабрике».
Она с удовольствием слушала, как хвалят Викторова.
Кущ мало с кем дружила в тресте. Среди сослуживцев она слыла сухой и замкнутой. Она не без гордости замечала, что ее даже побаиваются, — хотя какое же она начальство? Если приходилось заглянуть во время перерыва в буфет, прекращался хохот и шутливое ухаживание за молоденькими машинистками и никто не задерживался там после звонка. Если ей нужна была справка, сотрудницы переставали улыбаться и переговариваться между собой, принимали деловой, озабоченный вид. Ну и что ж? У нее не было ни времени, ни охоты на болтовню и пересуды.
Исключение Кущ делала только для Викторова. Из всех директоров предприятий, приезжающих в трест, она отличала его одного.
Викторов нравился ей своей простотой, даже грубоватостью, прямотой, энергией. Как будто степной ветер врывался в душные коридоры треста, когда появлялся этот шумный, веселый, напористый директор фабрики. Всем говорил «ты», всех называл по именам, угощал сливами и яблоками из своего сада. Он хвалился: «У меня жена — мичуринец. Снимает богатый урожай…»
Старые сотрудницы говорили, что раньше он был просто неотразим. Теперь чуть потолстел, огрубело лицо, поредели русые, мелко вьющиеся волосы. Но и теперь еще он выглядел молодцом — пышущий здоровьем, с богатырскими плечами, беспечный, веселый, щедрый.
Когда «балашихинский патриот» приезжал и в коридоре раздавался его зычный голос, Кущ с нетерпением ждала, что он войдет в ее узкую комнатку, заставленную шкафами и ящиками с карточками. Он обязательно приходил, приносил ей яблочко и говорил: «Самое лучшее для вас, Шурочка… пардон… извиняюсь, Александра Александровна».
Он шутил, балагурил, хохотал.
Но сотрудники не давали ему посидеть с ней, теребили его, звали, торопили. Он всем был нужен.
Викторов частенько поругивал начальство за то, что недостаточно поворачивается лицом к производству, но, странное дело, начальство все же любило его.
Если надо было докладывать в главке и на доклад вызывали с мест директоров больших предприятий, управляющий обычно включал в список и руководителя маленькой балашихинской фабрики. «Давай, давай! — подбадривали Викторова на совещании. — Послушаем голос из провинции. Интересно». Викторов, лукаво щурясь, почесывал затылок. «Что ж, но поимейте в виду — я буду критиковать невзирая на лица!» Управляющий слушал его пересыпанную шуточками и прибауточками критику, крякал, поднимал брови, крутил головой, как бы говоря: «Ну и дает, чертяка, ну и дает!..»
Викторов часто бывал в тресте — то на совещаниях, то на слетах. Его включали в бригады по изучению опыта передовых предприятий или в комиссии по обследованию. Он безропотно соглашался. Только изредка забегал в плановый отдел, просил: «Братцы, какие там сведения с фабрики? Что там у меня? Не жизнь, а карусель. Закружился с вашими чертовыми обследованиями. Вы уж меня не режьте».
Интересы своего предприятия Николай Павлович отстаивал страстно, с пылом. Ему не «завышали» план, охотно «подбрасывали» в конце квартала лимиты и фонды, а уж сырье он всегда добывал в полном ассортименте.
Викторова жалели. Жалели, что талант такого хозяйственника попусту гибнет на маленькой и старой фабричке с допотопным оборудованием, и очень обрадовались, когда стало известно, что его решено перебросить на большую фабрику, оснащенную современной техникой, одну из лучших в системе треста.
Но сам Викторов почему-то не обрадовался. «Эх, неохота мне из Балашихинска уезжать! Ой, до чего неохота! Вдруг еще не справлюсь на новом месте?» Это он сказал управляющему. Тот усмехнулся: «Скромность, она, конечно, украшает, но…» — «И Глафира моя может не захотеть. Это же надо знать, какая упрямая женщина!»
Управляющий захохотал: «У всех есть свои Глафиры. Ничего, Николай Павлович, не робей. Посоветуй лучше, кого можно выдвинуть на твое место. Кто с тобой работал? Пелехатый?»
Вот тогда Кущ впервые обратила внимание на эту фамилию — Пелехатый.
…Поезд, замедляя ход, приближался к станции. По стеклу замелькали золотые отблески огней.
Ефимочкин позвал:
— Что это вы уединились, Александра Александровна? Давайте пить чай.
Кущ вошла в купе.
Кривцов, искоса поглядывая на нее, на мгновение умолк, стараясь казаться серьезным. Он еще не знал, как будет держать себя Кущ: так же, как в отделе кадров, неприступно и сухо, или как-то по-другому. Но Кущ посмотрела на него благодушно и даже милостиво, спросила, как бы укоряя:
— Значит, бросили нашу систему?
— Да, вышел на океанские просторы.
Кривцов оживился, улыбнулся. На лице его, где странно сочеталась девичья нежность с синевой быстро растущей жесткой бороды, обозначились ямочки.
— Я ведь поссорился с шефом, вы знаете… Вдрызг. Не хотел меня отпускать. Но я… откровенно говоря, натура у меня широкая, в аппарате мне тесно.
Добродушное самодовольство, горделивое сознание собственной значительности, сквозившее в каждой черте Кривцова, мешали ему оставаться спокойным, незаметным. И когда поезд пошел, он снова сказал свое любимое: «Ну, тронулись-двинулись. Что остается делать бедному крестьянину? Надо закусить». Самодовольство выступало из каждой поры его существа, как выступал нежный, прозрачный жир на розовой семге, которую он достал из промасленной бумаги.
Кущ тоже взяла из сумочки свои завернутые в целлофан бутерброды с тусклой копченой колбасой, купленные на вокзале. Ефимочкин аккуратно разложил на салфетке взятую из дома снедь, стал разрезать хлеб на тонкие, ровные ломтики.
Он смущенно угощал:
— Прошу вас… тут котлетки свежие… пирожки… пожалуйста…
Кущ спросила у Кривцова:
— О чем же вы читаете лекции?
— Переключился на моральные темы… Но разработаны они у меня оригинально, не шаблонно… Я не люблю, когда все ясно, как разжеванный апельсин… Я ставлю перед собой задачу…
Вид у него вдруг стал озабоченный, напряженный, он быстро встал, перевесил на другой крючок пальто — подальше от разложенной еды, повернул его подкладкой наружу, любовно огладил мех на пыжиковой шапке и даже потрогал зачем-то «молнию» на портфеле.
— У меня склонность к обобщениям… Это мой конек… «Хобби», как говорят англичане.
Какая-то мысль осенила его, он стукнул себя по лбу и выхватил из карманчика автоматическую ручку.
— Это надо записать. Идея! Это же замечательный факт, новое явление в психологии советского человека: привязанность к своему месту работы. Колоссально! Я приведу этот пример в своей лекции, честное слово!
— Он даже похудел, Николай Павлович, на новом месте, так болел душой за Балашихинск, — рассказывал Ефимочкин. — Чудак! Писал, звонил, телеграфировал, жаловался. Ко всем приставал: «Думаете, моя Глафира переехала? И не собирается даже! Живу на холостяцком положении». Обращался к управляющему, но тот…
— Шеф не любит отменять собственные приказы, о нет! — подтвердил Кривцов. — Если сказал — все!
— Вот именно, — согласился Ефимочкин. — Но тут уж Макаров, начальник планового отдела, помог… подлил масла в огонь: подсунул сводку именно в ту минуту, когда управляющий сильно не в духе вернулся из главка.
Кущ не нравился этот разговор. Она лучше других была осведомлена, что произошло в кабинете управляющего. Управляющий согласился с Макаровым потому, что остро встал вопрос о выполнении плана всеми предприятиями без исключения, и потому еще, что повысились требования к качеству и ассортименту.
Устало почесывая затылок, управляющий сказал: «Надо заняться этими маленькими фабричками, будь они прокляты!» — и уставился на жирно подчеркнутые красным карандашом показатели балашихинской фабрики…
«Так Викторов же слезами плачет, просится назад. — Макаров взмахнул руками и всей своей угловатой фигурой сделал движение, будто хочет взлететь. — При Викторове фабрика гремела. А при Пелехатом, вы меня извините…» — «Ну что ж, я не возражаю. Надо это предприятие поднимать. — Управляющий вдруг внимательно посмотрел на Кущ и распорядился: — Вот вы и поезжайте, товарищ Кущ. До каких пор, понимаете, будем терпеть? Надо снимать этого прекрасного Пелехатого. Надо на его примере научить других уважать государственную дисциплину. Возьмите с собой инженера — и с богом!»
Кущ даже растерялась. Снимать директора должен был, по сути дела, заместитель управляющего, ну, в крайнем случае, главный инженер. Пусть даже маленького директора, плохого… И то, что управляющий поручил это ей, было признаком доверия и уважения. Ей не могло не льстить такое серьезное, ответственное поручение.
Конечно, она могла бы рассказать обо всем этом больше, чем Ефимочкин, если бы считала уместным обсуждать деловые вопросы в вагоне с посторонним человеком.
Ефимочкин заметил ее нахмуренные брови и попытался изменить тему разговора, но Кривцов пел как соловей, ничего не видя вокруг:
— Ну, а Пелехатый? Как же я его не помню? Старый, молодой?
— Пожилой, пожалуй, даже старый, — после некоторого колебания ответил Ефимочкин. — Он был недавно в тресте, но впечатления ни на кого не произвел. Молчит, слушает, не возражает, обещает выправить положение… Как будто там можно выправить положение без дополнительных капиталовложений! В общем, не чета Викторову. — Он покосился на Кущ. — Можно сказать, серый человек.
— Так это же ясно, как разжеванный апельсин, — с апломбом заявил Кривцов. — На современном этапе хозяйственник должен иметь ярко выраженное лицо. Директор, который не выдвигает проблем, не поднимает вопросов, — это не руководитель, не фигура. Это наш вчерашний день. О, у меня нюх на людей! Ведь Викторова я открыл… Вот с ним можно делать дела. Он откликается на каждое мероприятие, чуткий, как мембрана… Я Викторова буквально продвигал, буквально тащил…
Кущ сухо заметила:
— Викторов не из тех работников, которых надо тащить.
Ей почему-то вспомнилось, как она вышла из кабинета, получив распоряжение ехать в Балашихинск, и в коридоре увидела Викторова. Как мальчишка, которому обещан билет в цирк и он не верит своему счастью, Николай Павлович спросил шепотом, беря ее под руку и хитро щуря узкие голубые глаза: «Ну как? Выходит дело, живем? — И попросил, тесно прижимая локоть: — Вы уж там не делайте слишком строгих выводов. А? Я ведь вашу непримиримость знаю… Все-таки он симпатичный старик, Пелехатый. Останется при мне, как и раньше, заместителем, со мной он еще потянет». И засмеялся так заразительно громко, что Кущ не могла не улыбнуться.
Она вспомнила, как он в порыве чувств прижал ее локоть, и по спине ее пробежал холодок… Уже захрапел на верхней полке Кривцов, стих Ефимочкин — до этого он долго, как мышонок, шуршал в своем углу жестким одеялом, а она все не спала.
В жизни ее было мало радостей. Командировка, да еще такая ответственная, явилась для нее большим событием. Что-то новое, интересное вошло в ее жизнь. Она была честолюбива, служебный успех окрылил ее. У нее ведь не было сейчас других интересов…
После войны муж не вернулся в семью, остался с вертлявой медсестрой, которую встретил на фронте. Кущ глубоко затаила обиду, никогда не жаловалась на свое одиночество, одна растила детей.
Соседка по квартире, веселая блондинка с двойным подбородком, не раз укоряла ее: «На вашем месте я бы уже давно вышла замуж… У вас фигура хорошая. Вы занимаете определенное положение, у вас две комнаты…» Кущ отшучивалась, делая вид, что она довольна своей жизнью: «Я не гонюсь за новым ярмом. И, кроме того, за мной никто не ухаживает». — «Ухаживайте сами, разве теперь ждут, пока мужчина начнет ухаживать!»
Кущ с соседкой не дружила, считала ее мещанкой. И с детьми у нее не было особой близости. Она воспитывала их строго, приучала к труду. Дети выросли в детском саду, потом стали ходить в школу, летом уезжали в пионерский лагерь.
Работала она много, и если не успевала управиться до шести, то засиживалась в тресте допоздна, перечитывала, изучала личные дела сотрудников, отмечала прохождение по службе, наклеивала выписки из приказов. Она отлично знала все повышения в должности и переводы, благодарности и «на вид». У Кущ была своя особая система учета, которой она гордилась: сложные картотеки, списки, карточки, и на любой запрос из любого учреждения она могла ответить немедленно, лишь заглянув в свои ящики с алфавитом.
Иногда ей и во сне мерещился шорох бумаг, она искала утерянную справку. Летом за городом, поехав навестить в пионерский лагерь дочь, она шла задумавшись, услышала шелест листьев и испугалась: показалось, что это ветер сдувает со стола разбросанные документы. Тогда ей сделалось смешно, и грустно, и немного тревожно… Неужели вся ее жизнь пройдет среди бумаг? Неужели не будет у нее живого дела? Радости? Счастья?
Сегодня ей смутно верилось, что наступил перелом.
Кущ ворочалась на своей постели. Тонкий матрац сползал с полированной полки. Но дома у нее тоже был тощий, жесткий матрац. Она не привыкла заботиться о своих удобствах…
Просто не хочется спать. Так всегда: пока живешь обычным распорядком, все хорошо, а вошел в поезд, замелькали за окнами вагона елки и березы — и ты уже одинокий бродяга, забывший обо всем на свете, ты хочешь счастья, неожиданных приключений. Она и на курорты старалась из-за этого не ездить. Что там делать одной? Гулять по дорожкам, любоваться на горы, слушать рассказы соседок про своих мужей? Сама она уже давно поставила крест на личном счастье. Считала, что оно невозможно, совершенно невозможно. Поздно…
Но сегодня… Сегодня ей подумалось: «Ну а если возможно? Если не поздно?» Она чувствовала себя такой молодой и полной сил…
Если бы сотрудники не уводили Викторова из ее комнатки, если бы она хоть раз встретилась с ним вне мрачных стен треста! Какой взгляд он всегда бросал на нее! Нежный, полный значения… Просто она не разрешала себе угадывать значение этого взгляда.
Озноб пробежал по ее спине.
И вдруг под стук колес, под неясное, тревожное, как лунный свет, мерцание синей лампочки Кущ пришла в голову мысль — ошеломительная, горячая, как мольба, неожиданная, как открытие: если ей суждено еще раз испытать любовь, то… пусть это будет такой человек, как Викторов. Викторов ей нравился. Она не хотела признаваться в этом себе самой, ни за что не хотела, но он ей нравился…
От небольшого пустынного двора, официально именуемого фабричной территорией, веяло чем-то домашним и милым. Первый снег, выпавший ночью, совершил чудеса. Припорошил закопченные крыши на приземистых фабричных корпусах, стоящих в глубине; бархатной каймой лег на забор, на трубы, на карнизы окон, выступы стен; опушил ветки тонких рябинок с рдеющими сморщенными ягодами. Снегом замело огромную, как башня, поленницу дров у конторы, скамейку у входа, где примостилась забежавшая откуда-то кошка. Даже неподвижные облака на низком небе казались вылепленными из снега.
Необычайная для городского уха тишина распростерлась над фабрикой, над прилегающими улицами, над огородами и полями, начинавшимися за забором. В механическом отделении работал двигатель, и похоже было, что вздыхает и беспокойно ворочается в стойле гигантская корова.
— Я выросла в провинции, — сказала Кущ с волнением, — мне это так напоминает детство — тишина, белизна… Ну и отчаянной же девчонкой я была! С братьями голубей гоняла…
— О! — уважительно произнес Ефимочкин.
Они вошли в низкое, темное помещение. В углу жарко пылала печь, из ее открытой дверцы выбивались красные отсветы, придавая всему теплый, радостный колорит, как на старинной картине. Посредине помещения, около тускло поблескивающего металлическими частями разобранного пресса, суетились, переругиваясь и споря, несколько рабочих в промасленных спецовках. Из-под станка торчали ноги в подшитых валенках; переносная лампа, стоявшая на полу, освещала их белым, ослепительным светом.
Ефимочкин вгляделся и, не найдя Пелехатого, спросил:
— Скажите, будьте любезны, директор ушел?
Его не сразу услышали в шуме голосов, потом кто-то, вытирая пот со лба, переспросил:
— Вам директора?
И наконец снизу, откуда торчали ноги в валенках, раздался голос:
— Тут я. А в чем дело? Кто меня спрашивает?
Озадаченный Ефимочкин, как птица, наклонил голову набок.
— Товарищ Пелехатый, где вы там? Здравствуйте! Это Ефимочкин. Из треста.
— Ефимочкин? Очень, очень приятно…
Пожилой человек, кряхтя, вылез из-под машины и начал вытирать паклей руки. Ефимочкин не сразу признал Пелехатого. Здесь он выглядел моложе, коренастее, энергичнее. И глаза у него играли ярко и весело.
— Мы у себя небольшую модернизацию затеяли, — бодро заговорил Пелехатый, — укорачиваем путь движения продукции… увеличиваем число ударов штампа. Да вот… эксцентрик немного закапризничал. Кстати прибыли, товарищ инженер. Ой как кстати! Мы у вас проконсультируемся. — Пелехатый повернул голову и вдруг заметил в полутьме Кущ. — А-а… Комиссия, значит, приехала… — Тень прошла по его лицу, но он усмехнулся. — Торопились, хотели кое-какие новшества у себя ввести, а то беда: оборудование старое, заплата на заплате.
Директор старался говорить спокойно, естественно, но складка на лбу сделалась глубже, воодушевление и даже нежность, с которыми он поминал эксцентрик, пропали, голос звучал глухо, а руки все медленнее и медленнее перебирали паклю. Он повторил, словно думая о чем-то совершенно другом:
— Да, заплата на заплате…
Ефимочкин обиделся. Он оглянулся на Кущ, надеясь, что она вступится за честь треста. Но Кущ молчала. Тогда с легким оттенком неуверенности в голосе инженер ответил:
— Однако… насколько я осведомлен, заявок на оборудование вы не подавали.
— Не подавали, нет, — согласился Пелехатый. И опять усмехнулся. — Хотели еще кое-что выжать из старого. Использовать внутренние ресурсы.
Все молчали. Слесари и механики с любопытством смотрели на приезжего инженера. Кущ почудилось что-то недоброе в их настороженном любопытстве. И задорный вид Ефимочкина ей не понравился. Она вмешалась:
— Мы пока познакомимся с документацией. Вы не возражаете?
— Что ж… — Пелехатый попросил механика: — Леша, будь добр, проводи. Скажи Верочке, чтобы открыла мой кабинет.
Они вышли из цеха. Первое впечатление нетронутого зимнего царства уже развеялось. Во дворе гудел грузовик, выбрасывая из выхлопной трубы струйки синего ядовитого дыма. Хрупкую белизну снега избороздили глубокие колеи от колес.
Механик Леша, рослый красивый парень в матросской тельняшке, видневшейся из-под спецовки, с открытой, несмотря на мороз, шеей, догнал их и спросил:
— Тут Николай Павлович приезжал. Викторов. Так говорил — вроде хотят дать нам кое-какое оборудование… Обещано будто…
Кущ удивилась:
— Разве Викторов приезжал? Когда это?
— Только-только уехал. Супруга у него здесь… ну, и на фабрику заходил. — Он прибавил с иронией: — Соскучился, говорит…
Поднялись по ступенькам крыльца, вошли в контору. Верочка, молоденькая девушка в красной вязаной кофточке, с чернильными пятнами на руках, встретила приезжих с нескрываемым детским интересом.
Она засуетилась, забегала, открыла дверь в кабинет — тесноватую комнату с письменным столом и еще одним, узким, для заседаний, с холодным, неуютным, обитым дерматином диваном. Обычный кабинет руководителя небольшого предприятия — с диаграммами, групповыми снимками и образцами продукции в шкафах.
Кущ сказала Ефимочкину:
— Ну, что же вы? Устраивайтесь. Вы займетесь техническими вопросами, я — организационными…
Они уселись за столы.
В кабинет входили люди: начальник заготовительного цеха, завскладом, старший мастер, бухгалтер. Верочка вносила и выносила груды отчетов и дел. Не показывался Только Пелехатый.
Было уже под вечер, когда Ефимочкин отважился пошутить:
— Неужели мы так и останемся без обеда сегодня?
Кущ пожала плечами. Обычно заботу о так называемом бытовом устройстве командированных берет на себя директор. Но Пелехатый забыл о них.
В эту минуту дверь отворилась и вошла свежая с холода, румяная женщина с крупным носом и высоким начесом темных волос надо лбом. Она была в платке и мужском пальто, накинутом на плечи.
— Что же это такое, люди дорогие? — сказала она, поворачиваясь то к Ефимочкину, то к Кущ и протягивая к ним растопыренные, унизанные перстнями пальцы. — А ну, по-простому, по-советскому… складывайте бумажки, и пойдем обедать… Как же так? — играя глазами, говорила она. — Сослуживцы моего Николая Павловича — и не хотят зайти до нашей хаты. Так, товарищи, не годится… У меня же все свое — и гуси, и картошка, и огурцы, и наливка. Николай Павлович на развод подаст, если узнает, что я вас не накормила. Я Пелехатого еще утром предупредила, что вы обедаете у меня.
Ефимочкин галантно поклонился, но Кущ отказалась:
— Нет, мы не можем.
Ефимочкин постарался смягчить:
— Очень жаль, но у нас срочные дела.
— Да разве их можно переделать за один день? Все равно нельзя. Я ведь по-простому, без церемоний… — Женщина прекрасно понимала, что все зависит от Кущ, и обращалась теперь только к ней: — Где же вы пообедаете с дороги? Рабочая столовка уже закрыта, в ресторане у нас очереди, невкусно, пьяные. Разве там место для такой серьезной сотрудницы, как вы? И ночевать останетесь, у нас все удобства, телефон. С Москвой можете переговорить.
Она то улыбалась, поблескивая золотыми зубами, то скромно поджимала губы. Круглые, как вишни, глаза искрились. Она сдернула с вешалки пальто, готовая силой напялить его на плечи упрямой Кущ, потом, опомнившись, повесила обратно.
Ефимочкин не знал, куда деваться от смущения.
— Вы нас извините… кажется, Глафира…
— Семеновна, — подсказала женщина. — Ну что ж! — вздохнула она. — Напишу Николаю Павловичу, что вы побрезговали моим борщом…
— Мы пойдем сейчас в город, — перебила ее Кущ.
— Пешком? — удивилась Глафира Семеновна. — Да что вы? — И взялась за трубку решительным движением человека, привыкшего распоряжаться. — Нюша, — уже другим тоном, властным и жестким, сказала она в телефон. — Нюша, дай конный двор. Конный? Петров? Слушай, Петров, запряги сейчас же в пролетку Буланчика и подъезжай к конторе. — Она опять заулыбалась. — У нас здесь просто, без бюрократизма.
Кущ и от пролетки отказалась. Ефимочкин слегка пожал плечами, но смолчал. Глафира Семеновна проводила их до ворот, постояла немного и с горечью сказала:
— Разве при Николае Павловиче так было? Теперь все запущено, все кое-как… Вон, глядите, на заборе краска облезла… Вахтер ворон ловит… — И, как будто ей больно было на все это смотреть, отвернулась. Опустив угол подкрашенного рта, посмеиваясь над собственной слабостью, она прибавила: — Коля мне всегда говорит: «Тебе-то что за дело? Ты-то здесь при чем?» И может, верно — при чем здесь я?
…Когда они уже шли по плохо освещенным улицам окраины, Ефимочкин сказал:
— Странно все-таки, что Пелехатый не зашел… Хорошо еще, что жена Викторова догадалась о нас позаботиться.
— Хитрая женщина эта жена Викторова, — вдруг резко ответила Кущ. — Можно только удивляться… — Она не договорила и ускорила шаг.
Ефимочкин был голоден и зол. Зол на Кущ, на Пелехатого, которого почему-то надо снимать с работы, на эту унылую улицу с редкими фонарями и редкими прохожими, на ветер, забиравшийся в рукава пальто, на то, что не попал на «Плоды просвещения» и не знал, кому жена отдала второй билет. Он был ревнив.
— Какая же хитрость? Скорее простодушие.
— Много же вы понимаете в людях! — насмешливо, почти презрительно сказала Кущ.
Ефимочкина взорвало.
— В женщинах, представьте, я кое-что понимаю! — вскинув подбородок, высокомерно заявил он. — И если хотите знать, она не меньшая балашихинская патриотка, чем сам Николай Павлович.
— Сравнили! — иронически сказала Кущ.
Ефимочкин сразу остыл. И пробормотал:
— Конечно, я не утверждаю… Но мне кажется…
В центре, в освещенном квартале между аптекой и кино, где толпились гуляющие, уже висели большие рукописные афиши, извещавшие о лекции Кривцова. Ефимочкин уважительно поднял короткие брови.
Они вошли в ресторан при гостинице. Народу было мало, официанты, утомленные дневной сутолокой, лениво, с безразличным видом передвигались по залу. За стеклянной перегородкой щелкала на счетах кассирша. Время обедов уже кончилось, начиналась пора ужинов. На невысокой эстраде сидели, пересмеиваясь, музыканты. Отдыхали. Только один, молодой, с большой шевелюрой, тихо наигрывал нежную мелодию, всматриваясь в ноты, лежавшие на пюпитре. Он раскачивался и резко вскидывал голову. На стене металась огромная кудлатая тень…
Кущ редко слушала музыку, плохо знала ее, но простые, печальные мелодии волновали ее до слез. И сегодня ей, усталой, иззябшей, вдруг под негромкие звуки скрипки, полные жалоб на обманутые надежды, примерещился осенний пейзаж. То ли желтые деревья в саду, то ли река… Она вспомнила, как еще девочкой до поздней осени, почти до заморозков, бегала на реку, смотрела, сидя на берегу, на темную, холодную воду. Шелестел пожелтевший камыш. Коричневый плюш на камышинках, такой нарядный летом, осенью полинял и облез, как на жакетке, которую ей перешили из бабушкиного салопчика. Из коротких рукавов высовывались ее исцарапанные красные руки. Ветер гнал по берегу листья из редкой рощи, что тянулась вдоль берега. Листья глухо шуршали на вытоптанной земле. Выгибая белые шеи, шипели и гоготали тяжелые гуси, выщипывали последние травинки. Что ей нравилось тогда на берегу, чего она ждала там часами? Какого чуда? Пришло ли оно, это чудо, сбылось ли?..
— Не знаю. — Она покачала головой.
— Что вы сказали? — спросил Ефимочкин.
— Я? Музыка хорошая…
Ефимочкин казался несколько удивленным.
— Вы любите музыку?
Кущ поколебалась, стараясь быть честной.
— Люблю…
Скрипач увлекся, заиграл громче. Музыканты перестали болтать, слушали. Перестала щелкать костяшками кассирша.
Кущ машинально сгребала ножом крошки на скатерти.
Замер последний томительный звук скрипки, вспыхнула люстра под потолком, озаряя позолоту на стенах, и бодрый, оживленный Кривцов влетел в зал, как будто только дожидался этой минуты. Он весь сиял. Сверкали золотые зубы, глаза, очки, шелковый яркий галстук. Он радостно бросился к столику, за которым обедали Кущ и Ефимочкин. В зале, точно это Кривцов внес оживление, задвигали стульями, заговорили, засмеялись. В оркестре настроили инструменты.
Кривцов с подкупающей искренностью расспрашивал:
— Ну как, друзья? Как ваши дела? Тронулись-двинулись? В горкоме были? Нет? Председатель горсовета здесь мировой мужик, мы с ним подружились. Вдрызг. А каким оказался этот ваш Пелехатый? Как вы его нашли?
Ефимочкин засмеялся:
— Нашли в весьма непрезентабельном виде — лежал в старых валенках под станком.
— Шутите?
— Нет, не шутим, — подтвердила Кущ.
Кривцов сделал серьезное, полное сочувствия лицо.
— Но это же злая карикатура на руководство…
Он поманил к себе официанта, привычным жестом ткнул в меню, показал что-то на пальцах, и оживившийся официант, наклонив голову набок, резво побежал в буфет.
— Обязанность директора не в том, чтобы чинить и всякое такое. Это ясно, как разжеванный апельсин. Искусство руководить, между прочим, в том и состоит…
— Нет, не скажите, — вдруг перебил его Ефимочкин. — Я сам наблюдал, что на маленьких предприятиях очень, уважают директора, который умеет показать, как надо сделать…
— Ну что вы! — уже смеялся Кривцов. — Рабочие никогда не простят директору такого стиля работы… это же ясно…
— Как разжеванный апельсин? — сорвалось у Кущ. — А откуда вы знаете? Почему расписываетесь за рабочих? Вы ведь не рабочий.
Кривцов так удивился, что даже не обиделся. Он только пошлепал губами и сказал вежливо:
— Есть такая французская пословица: «Для того чтобы сварить хороший суп, повару не нужно самому влезать в кастрюлю». Я читаю газеты, товарищ Кущ, я изучаю и обобщаю. Это же ясно, как… — последнее слово он проглотил.
Он сказал это назидательно и вместе с тем так мягко, искренне, что Кущ смутилась. Ну что она могла возразить? В тресте тоже считали Пелехатого плохим руководителем…
Когда утром Ефимочкин зашел за Кущ, чтобы идти на фабрику, она сказала ему в своей обычной, несколько резкой манере:
— Позвоните, пожалуйста, Пелехатому, скажите, что надо встретиться. Мы приехали не развлекаться и не обижаться друг на друга. Пусть потрудится нас обождать.
Деловито и строго разглядывая себя в зеркало, Кущ стала надевать меховую шапочку. Ефимочкин долго крутил ручку телефона. Наконец ему ответили. И у него вдруг стало такое странное выражение лица, что Кущ, увидев его отражение в зеркале, испугалась.
— Что? Что такое?
— Непонятное что-то… — пролепетал Ефимочкин.
Кущ вырвала у него из рук трубку.
— Что? — Она тоже растерялась. — Я сейчас… Мы сейчас придем…
Она постояла, раздумывая, побарабанила по столу, потом обвела Ефимочкина странным, остановившимся взглядом и сказала:
— У Пелехатого был сердечный припадок… он умер…
— Позвольте, но как же так? — пробормотал Ефимочкин.
— Что «как же так»?
— Но как же так?.. Мы из-за него приехали, и вдруг… — Он едва понимал, что говорит, так был подавлен.
С горестным видом поплелся он вслед за Кущ. Шнурок на ушанке развязался, и один наушник болтался, придавая Ефимочкину сходство с виноватым, обиженным щенком.
Весь вид Ефимочкина выражал молчаливый упрек, протест. Он досадовал, что поездка обернулась таким неожиданным, странным образом.
— Я был однажды в театре, и там во время второго акта умер артист, игравший главную роль.
— Пелехатый не артист…
Ефимочкин обиженно пожал плечами.
— Все уговаривали меня ехать в Балашихинск, уверяли, что командировка легкая. И вот пожалуйста…
Кущ резко оборвала его:
— Будет вам… хныканьем не поможешь.
На фабрике заплаканная Верочка рассказала, что Пелехатый был болен уже давно, сердце у него больное, а он не берег себя, не лечился, не отдыхал.
Она по-детски терла кулачками глаза и заливалась слезами.
В кабинете было сумрачно, холодно. Расстроенная уборщица не протопила печь. В углу белела охапка березовых дров.
В конторе толпились посетители. Грузчики требовали денег, наседали на старичка бухгалтера. Унылый долговязый человек в шапке фасона «гоголь», стоя около Верочки, негодовал, как будто Верочка была в чем-то виновата:
— Но позвольте, девушка! Как мне теперь быть? Нам этот заказ вот как нужен! — и он привычным, равнодушным движением резал себя пальцем по горлу. — Тем и славился ваш Пелехатый, что слово его было закон!
— Пелехатый, Пелехатый! — плаксиво повторила Верочка. — Нет больше Пелехатого.
— Но как же мне быть? Нет, вы мне скажите, девушка: как мне теперь быть?
Бухгалтер возмутился:
— Произошла трагедия. Можете вы это понять? У меня чеки в банк не подписаны, с грузчиками не могу расплатиться… Умер человек. Понимаете вы это?
Бригадир грузчиков, рослый парень в твердом, как жесть, плаще, надетом поверх ватника, забормотал простуженным, хриплым голосом:
— Разве же мы не понимаем? Петра Иваныча жалко, это да, а деньги за фабрикой не пропадут…
Он мигнул своим ребятам, и они пошли, гремя плащами, к выходу. Бригадир только спросил:
— Хоронить когда, в воскресенье будете?
Верочка заплакала, потом утерла глаза, попудрилась и подошла к двери кабинета.
— Вам дать вчерашнюю сводку?
— Давайте, — ответила Кущ.
Ефимочкин пожал плечами:
— Человек умер, а фабричный механизм продолжает вертеться как ни в чем не бывало…
— Но, дорогой товарищ Ефимочкин, — с иронией посмотрела на него Кущ, — ведь фабрика продолжает давать продукцию, сотни людей работают. С этим нельзя не считаться…
Она сказала, что надо пойти на квартиру к покойному. Ефимочкин со вздохом согласился. Вышли из ворот, свернули направо, прошли мимо новенького директорского коттеджа с яркой крышей, где жила Глафира Семеновна. Во дворе металась на цепи огромная овчарка. Показался стандартный дом — большое двухэтажное здание барачного типа.
Дом был густо заселен, на окнах висели занавески разных цветов и узоров. Между рамами на белой вате красовались желтые кленовые листья, бессмертники, мелко нарезанные пестрые бумажки.
Квартира Пелехатого находилась на первом этаже.
Во дворе, на утоптанном снегу, на крыльце, в кухне толпились соседи, с любопытством и страхом заглядывали в комнату. У притолоки, привалившись, стоял механик Леша и нервно, жадно курил в рукав. Он поднял глаза на вошедших, но ничего не сказал, бросил окурок, затоптал его каблуком и с тем же сухим и злым блеском в глазах вошел в дом.
Еще в сенях пахнуло теплом, квашенной с тмином капустой, цветами. Широкая, большая комната казалась темной из-за вазонов, кадок, деревянных ящиков. Даже с потолка свисали подвешенные на крюках горшки с вьющимися растениями. Повсюду в беспорядке стояли сдвинутые с мест кресла и стулья с высокими спинками, покрытые белыми чехлами. Полки над письменным столом были забиты вспухшими книгами. На столе навалом лежали слесарные инструменты.
У стены сидели, пригорюнившись, две худенькие старушки, плечистый мужчина в брезентовой куртке, старичок вахтер, дежуривший вчера в проходной. Леша стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, как будто под ним качалась палуба корабля, а корабль несло и несло куда-то в бушующее море. И все они — и Леша, и старушки, и вахтер, и плечистый мужчина — с жадностью смотрели в одну точку, туда, в глубь квартиры, где на диване лежал человек с закрытыми глазами.
На Пелехатом был черный праздничный костюм с чуть потускневшим от времени орденом Боевого Красного Знамени на лацкане узкого пиджака.
Кущ вспомнила, что в этом пиджаке, но только без ордена Пелехатый приезжал в трест, где произвел невыгодное впечатление. Но сейчас лицо директора выражало задумчивую строгость, почти суровость. Меж бровей залегла гневная складка, словно Пелехатый хотел что-то сказать, потребовать. И ей показалось странным, что его большие руки так неподвижно сложены на груди, большие, сильные руки с потемневшими от табака и машинного масла пальцами.
У нее вдруг защемило сердце от жалости к тому простому дядьке в валенках, что еще только вчера жил, дышал, лежал у пресса, работал, ругался, создавал.
У нее не было ни страха перед покойником, ни желания все смягчить и приукрасить перед лицом смерти. Она выросла в простой рабочей семье, где к смерти относятся как к естественному закону природы, просто. Но эта смерть была так случайна, так нелепа…
С затуманенным взглядом, как будто она смотрела сквозь окно, залитое дождем, Кущ подошла к женщине, в которой угадала жену Пелехатого.
— Вот, — сказала вдова, стараясь не плакать. — Вот… не пожилось ему, голубчику…
Она сидела на краешке глубокого кресла, полная, уже немолодая, с седеющими волосами, зашпиленными на макушке, и вертела в руках пакет, густо заклеенный марками.
— Задание вот пришло из заочного… а выполнять уже некому…
Она посмотрела на Кущ, словно надеясь, что та может изменить совершившееся, вмешаться, понять всю несообразность того, что произошло.
И в эту минуту, хлопнув дверью, сбивая пестрые половики, в комнате появилась Глафира Семеновна. Задыхаясь, она спросила:
— Почему же меня не разбудили? Ведь я же ничего не знала. Ах, дорогая Ольга Сергеевна, голубка моя! Это наше общее горе. Николай Павлович так любил работать с вашим Пелехатым…
— Теперь уже придется… одному ему… — вздохнула вдова.
Глафира Семеновна заморгала густыми ресницами, из блестящих глаз, как горошины, посыпались крупные слезы. Нос набух и покраснел.
— Такое несчастье! — ломала она пальцы. — Я не покину вас. Гроб заказали? Надо достать оркестр. Я сейчас позвоню. Мне не откажут.
Кущ осторожно напомнила:
— Ведь есть похоронная комиссия.
— Ой, везде нужен свой глаз! — воскликнула Глафира Семеновна. — Вы не знаете наших работничков. Могут напутать, недоглядеть.
Леша круто повернулся и вышел из комнаты.
Кущ с раздражением следила, как Глафира Семеновна непрестанно двигалась, говорила, советовала, утешала, переставляла цветы, передвигала стулья, задергивала и отдергивала занавески. Мелькали рукава ее платья, стучали каблуки. Глафира Семеновна накапала из пузырька в рюмку и заставила Ольгу Сергеевну выпить валерьяновых капель, потом, подумав, взяла из буфета вторую рюмочку и накапала этого лекарства себе.
Кущ шепнула Ефимочкину, что пора идти. Глафира Семеновна проворно пошла за ними и деловито зашептала:
— Может, вызвать Николая Павловича?
— Для чего?
Глафира Семеновна посмотрела на Кущ как на дурочку.
— Ведь есть же принципиальное согласие управляющего трестом… вы, я надеюсь, в курсе…
Кущ с силой толкнула наружную дверь и чуть не налетела на Лешу. Он неподвижно стоял на крыльце, взгляд его блуждал где-то над двором с его сарайчиками, над крышами соседних домиков, там, где сердито бежали по серому небу белесые облака.
Пелехатого хоронили в морозный ясный день. Ярко синело небо, вызолоченное солнцем. Солнце слепило глаза. Пылали холодные металлические инструменты оркестра. Сверкали сосульки на обледеневших деревьях. Пламенели сугробы.
Гроб несли на полотенцах, грузовик с бортами, обтянутыми красной и черной материей, медленно плыл позади процессии.
Громко рыдала большая труба. Медные тарелки рассыпали стекляшки печальных звуков.
Колыхались венки из бумажных роз и лилий. Ветер отгибал и загибал края гигантских лепестков, и, когда стихала музыка, становился слышен их жесткий тревожный шелест. Две девочки-ученицы с испуганными и торжественными лицами высоко держали портрет в траурной рамке, с которого глядел моложавый мужчина, мало напоминавший Пелехатого.
За гробом шло множество народу. Мастера, грузчики, слесари, монтеры, шоферы терялись в густой женской толпе. Старые работницы, одетые в теплые шали, в пальто с меховыми воротниками, в валенки и блестящие калоши, шли как попало, не в такт, не под музыку, вели с собой и внуков. Многие плакали, шумно сморкаясь в большие платки, вздыхали, всхлипывали. Молодые шагали, схватившись под руки, рядами, все в ярких шляпках, в пестрых шерстяных носках, надетых для тепла поверх тоненьких чулок.
Рядом с Кущ очутился Леша. Он только что сменился у гроба и все еще шел без шапки. К взмокшему лбу прилипли густые русые пряди. Он тяжело и часто дышал.
Этот молодой парень со злыми глазами заинтересовал Кущ с той минуты, когда он с чуть уловимой иронией отозвался о Викторове. Как будто он знал что-то очень важное, очень нужное для всех, очень значительное. Она ни разу не разговаривала с ним, но чувствовала на себе при каждой встрече его недобрый взгляд. На что он сердится? Чего хочет? Какая связь между его злостью, их приездом, Викторовым, Пелехатым?
— Видимо, рабочие любили директора, — сказала она. — Вон сколько народу провожает.
— Народ Петра Ивановича знал, уважал, — сердито сдвигая красивые брови, произнес Леша. — Может, где его и не знали, не уважали, а мы…
— Где же это его не уважали и не знали? — спросила Кущ, глядя прямо в недобрые, ястребиные глаза механика. — В тресте, что ли?
— А хоть бы и там… — Леша встряхнул головой и надел на затылок кубанку. — Николай Павлович ведь прямо сказал, что Пелехатый в тресте неугоден. Над затеями его смеялся, говорил: «Лучше я нового оборудования добьюсь». И Глафира Семеновна очень смеялась. — Уже не вызов, не враждебность, а горечь и боль звучали в его голосе. — Конечно, Пелехатый виду не подал, работу не кинул… Он самостоятельный, твердый был человек…
— А при чем здесь самостоятельность? — не поняла Кущ.
— А при том… — И, наклонившись к ней, Леша шепнул: — За спиной у Пелехатого спокойно жилось. Николай Павлович это учитывал. Пелехатый тянул воз, а он пыль начальству в глаза пускал… Вот как было.
Кущ возмутилась:
— Ну, это несправедливо!
— Может, и несправедливо, — насмешливо согласился Леша. — Зато правда. И люди эту правду видят…
Дорога вела уже через открытое поле. Простор до самого горизонта был завален сугробами, в выемках и впадинах распластались угловатые лиловые тени.
Показалось кладбище, высокие выщербленные кирпичные столбы ворот, маленькая часовня с давно не крашенными куполами, железная ограда.
Председатель фабкома взволнованно и громко, срывающимся голосом закричал, как на собрании:
— Товарищи! Мы опускаем в могилу… Это был чуткий, преданный делу рабочего класса, золотой человек…
Спотыкаясь и увязая в сугробах, все стали проталкиваться ближе к могиле. Кущ прислонилась к решетке, над которой раскинулось странное черное дерево с обрубленными, торчащими, как распростертые руки, ветвями. Глаза у нее слезились от белизны и блеска, ноги устали от долгой и медленной ходьбы. Из головы не выходил разговор с Лешей. Ее возмущали эта открытая злоба, это недоброжелательство по отношению к Викторову. Возмущали и тревожили одновременно. Чего они не поделили, Викторов и Леша, какая может быть между ними вражда? Леша — рядовой механик. Викторов — директор, хозяйственник.
Она приоткрыла глаза, обвела взглядом кладбище. У могилы, покрывая своим плачем тихие всхлипывания вдовы, рыдала, прижимая к красному носу платок, Глафира Семеновна.
Кущ с раздражением отвернулась от нее.
На дальней аллейке она заметила Ефимочкина. Он нервно ходил взад-вперед.
Снегом замело все тропинки и холмики, запорошило кусты. Как будто кто-то неутомимый и рьяный старался все скрыть, все уравнять перед лицом смерти. Но нет. Над могилами верующих темнели кресты, у неверующих высились столбики со звездочками наверху, над могилой летчика краснел пропеллер. И надписи на памятниках были разные: и от неутешного сына, и от убитого горем мужа, и от коллектива товарищей. Каждый человек, уходя из жизни, оставлял после себя свой собственный, неповторимый след.
«Какой же след оставил ты, Петр Иванович? Что привело по твоему следу всех этих людей на далекое от города кладбище в морозный день? Доброта твоя, простота? Легкий, удобный для всех характер?»
Кущ поглядела вдаль, на белый простор поля, и увидела на дороге легковую машину, мчавшуюся на большой скорости к кладбищу. У выщербленных кирпичных ворот машина остановилась. Выскочил человек в меховой куртке и быстро пошел, почти побежал к могиле.
Стоявшая неподалеку молодая женщина в пуховой косынке, с нежными серыми глазами на обветренном лице сказала:
— Ой, это же Филатов! А мы думали — не приедет, загордился…
— Какой Филатов? — спросила Кущ.
Женщина в пуховой косынке посмотрела на нее не без удивления.
— У нас один Филатов. Из горкома… — И пояснила: — Тоже бывший наш, фабричный. Он Петра Ивановича хорошо знал… А кто его не знал, Пелехатого? Хороший был человек… — Она утерла слезы концом платка. — Разве ж раньше, до него, были такие условия для работниц, такие ясли, такой детский сад? Сравнения нет… — Она покосилась на Глафиру Семеновну. — Николай Павлович, тот тоже не сказать чтобы гордый. Забывчивый только. Пообещает и не сделает. А у Петра Ивановича обещание было твердое. Он уважал людей.
Филатов стоял теперь рядом с председателем фабкома. Солнце зашло. Сразу стало холоднее, подул ветер. Филатов говорил тихо, и Александре Александровне трудно было разобрать его слова, уносимые ветром. До нее долетело:
— Это был настоящий человек, товарищи! Настоящий коммунист…
Стали забрасывать землей могильную яму. Кущ вместе со всеми кинула горсть мерзлой земли. Застучали лопаты.
Народ стал расходиться.
Кущ подошла к Филатову и представилась. Он не сразу оторвался от своих дум, не сразу понял, кто она. Потом вспомнил:
— А-а, слышал, что вы приехали. Будем с вами ругаться, с вашим трестом. Не помогаете вы нашей фабрике, не помогаете…
Злясь на себя, на тех, кто послал ее в Балашихинск, Кущ пробормотала:
— Вот… хотели как раз заняться…
Филатов все еще смотрел на свежий холмик рыжей глинистой земли.
— Ведь это учитель мой был, мой мастер. Он мне и рекомендацию в партию давал… Хорошо, что успел проститься… — Филатов наклонился, расправил ленту, на венке. Потом сказал Кущ: — Я сейчас обратно в район, дня через два вернусь… Прошу вас зайти в горком. Надо основательно потолковать…
Кущ отошла. Она видела, как Филатов бережно взял под руку Ольгу Сергеевну и повел ее к своей машине. Глафира Семеновна поддерживала вдову с другой стороны.
Сумерки сгустились. В небе вспыхивали и быстро потухали краски заката. Стемнело. И только у самого края горизонта догорало розовое зарево.
— Кажется, я приморозил уши, — сказал Ефимочкин, подходя. — Только этого еще не хватало…
Они шли, изредка перебрасываясь незначительными фразами. Стало очень холодно, грустно, бесприютно, как будто они затерялись вдвоем в заснеженной степи. Кущ даже обрадовалась, когда из темноты вынырнул и зашагал рядом с ними мрачный, молчаливый Леша.
В городе, когда они проходили мимо киоска «Пиво и воды», Леша, с сомнением глядя на Ефимочкина, неожиданно предложил:
— Ну, товарищ инженер, выпьем, что ли, за помин души хорошего человека?
Они вошли в маленькое помещение, сели за столик, покрытый темной клеенкой. Толстая буфетчица подала им графинчик, хлеб, огурцы, сыр.
Кущ почувствовала, как тепло от рюмки водки растеклось по всему телу. Ефимочкин с ожесточением тер уши.
Леша, сверкая дерзкими, горячими глазами, убежденно говорил:
— Это правильно сказал Филатов. Пелехатый красивых слов не любил. Не знал их. Он молча работал. Зато с душой. И механизмы и живое существо понимал и чувствовал. Он сверху не лакировал, вглубь смотрел… — Виной ли была тельняшка с яркими синими полосками или открытая шея, или якорек, вытатуированный на левой руке, но снова показалось, что под Лешей не пол, а палуба и самому ему не страшны ни штормы, ни бури, ни морские ветры. Он зашептал горячо, проникновенно, взволнованно, хватая собеседника за руки, заглядывая в глаза: — Умер, это я понимаю… Каждому свой век, тут никто не виноват… Но ты не глуши его дела, ты делу не дай умереть. А Николай Павлович заглушит, он легкую жизнь любит…
— Почему вы такого мнения о Николае Павловиче? — в упор спросила Кущ. — Что он вам сделал плохого?
— Мне? — Леша горделиво улыбнулся. — А что он мне может сделать? — И медленно процедил сквозь зубы: — Я вам одно скажу: вы еще вспомните нашего Пелехатого, когда фабрика начнет перевыполнять план. Это его труд. Это он обеспечил…
Кущ встала и, недовольная собой, недовольная тем, что, поддавшись порыву, очутилась за этим столиком, покрытым мокрой клеенкой, сделала резкое движение рукой, как будто подвела черту.
Они пошли домой.
На перекрестке Леша попрощался.
В гостинице, в коридоре, отпирая дверь в свой номер, Кущ, прищурившись, вдруг гневно спросила Ефимочкина:
— Интересно, что бы на все это сказал ваш мудрец Кривцов, какие бы он сделал обобщения из всех этих фактов? Ведь ему все ясно, у него на все есть готовый ответ.
Ефимочкин растерянно мялся, снимал и надевал очки, подбирал слова. И наконец спросил:
— Александра Александровна; ведь, в сущности, можно так понять, что миссия наша закончена?
— Почему это?
— Ну как почему? Потому что какой же смысл теперь, — он сделал ударение на слове «теперь», — в нашем обследовании?
Кущ нахмурилась.
— Мы приехали проверять работу фабрики, а не расчищать путь для нового директора.
— Вы так думаете?
Ефимочкин уставился на груды дел, лежавших на столе. Он долго смотрел на них, словно впервые видел столько бумаг, испещренных цифрами. Затем вдруг сорвался с места, осененный внезапной догадкой.
— Я пойду в цех… Надо все-таки узнать — наладилось ли там с эксцентриком?
И с решительным видом, точно собираясь на дрейфующую льдину, в район Северного полюса, Ефимочкин нахлобучил шапку и вышел.
Кущ в замешательстве посмотрела ему вслед. Почему она сказала «путь для нового директора»? Разве она забыла фамилию Николая Павловича? Разве она так вот, на веру, приняла слова Леши?
Она зябко передернула плечами, с сердцем отодвинула от себя мертвые, пропыленные бумаги, которые собиралась прочитать, встала, прошлась по комнате, посмотрела в окно.
Седенький бухгалтер в шапке и полосатом кашне, без пальто, смешно подпрыгивая, размахивая руками, бежал из склада в контору. За ним неторопливо шли могучие, как монументы, грузчики. Даже складки на их негнущихся плащах казались отлитыми из бронзы. Молоденькая девушка в короткой юбке, с шелковыми коленками, сверкающими над резиновыми ботиками, вышла из цеха с какой-то накладной в руке. Негнущиеся плащи, как по команде, остановились, обмякли, захохотали. Девушка высокомерно вскинула подбородок.
Кущ живо вспомнила, как приятно было побежать с поручением от мастера в контору или на склад, выскочить из темного цеха на свежий и морозный воздух, увидеть синее небо, разбежаться и прокатиться по ледяной дорожке, широко расставив для равновесия руки.
Кажется, еще недавно была она девчонкой, у которой все впереди…
Тогда не надо было размышлять о Викторове, о словах Леши, о делах. А теперь надо. «Что же ты, товарищ Кущ Александра Александровна, все-таки думаешь по этому вопросу? Как решила на все реагировать? Ответь! Личное дело Викторова ты наизусть помнишь, как к нему относятся в тресте — знаешь, знаешь, какой он прямой, энергичный, преданный своей фабрике… И достаточно, выходит, одного слова подвыпившего парня, чтобы ты все это забыла, чтобы ты стала сомневаться». В чем сомневаться? Она так явственно ощутила рядом с собой Викторова, что вздрогнула… Как он весело и ласково смеялся, брал ее руку в свою: «Шурочка, пардон… извиняюсь, Александра Александровна». Милый, открытый, простой, так непохожий на многих из этих горожан с больной печенью, равнодушием и столичными манерами. Ей не нравились мужчины из треста… «Ну а такие, как Викторов, лучше? — вдруг спросила она себя. И возразила слабым голосом: — Почему — такие? Разве Викторовых много? Ведь он один…»
Она не смогла найти ответа на свои вопросы, понимала, что не найдет его и в этих вызывающих у нее теперь приступ ненависти папках с бумагами, и подумала: «Надо было пойти на фабрику, в столовую, в детский сад, поговорить с работницами. В общем, побывать всюду, где обычно бывал Пелехатый… Может быть, там нашла бы ответ на свои недоумения».
С Ефимочкиным они встретились, когда уже стемнело. Он вернулся из цеха измазанный машинным маслом и мазутом, в чужой спецовке, мешковато болтавшейся на плечах. Палец на правой руке был обмотан носовым платком, щека оцарапана. Но выглядел Ефимочкин необычайно бодро, почти воинственно.
— Представьте, мы все-таки нашли причину неполадки, — гордо сказал он. — Этот Леша — очень и очень неглупый парень…
Когда, усталые, они шли в гостиницу, Ефимочкин все еще был взбудоражен. Размахивая руками, он говорил и говорил.
Было ветрено. Деревья, как пленники, томились за решетчатыми загородками. Жалобно скрипели, раскачиваясь, стволы, шумели черные, голые ветки, пронизанные металлическим, холодным лунным светом.
— Жизнь коротка, — философствовал Ефимочкин. — Пора это понять. Пора расправить крылья. Что я? Засел в тресте, оторвался от производства, закопался в бумагах. — Он сказал почти шепотом: — Какое это наслаждение — прикасаться к металлу, вдыхать жизнь в остановившийся агрегат! О, это великолепное ощущение! — Он восторгался: — Какие чудеса может делать инженер даже на такой вот маленькой фабрике, как балашихинская!. Я поражен, как оригинально разработал Пелехатый реконструкцию потока. Он максимально использовал все возможности, ускорил движение подающего полотна на вспомогательном конвейере, добился прямопоточности… Это очень остроумно.
Кущ перебила его:
— Остроумно? Это мало сказать. Сегодня мне стало известно, что он не только разработал — он обсудил проект со всеми рабочими, каждого рабочего сделал участником проекта, и поэтому не только Леша готов был за него в огонь и в воду, но и многие другие. — И она невольно повторила слова женщины в пуховой косынке, услышанные на кладбище: — Он уважал людей.
— Да, это был прекрасный человек, Пелехатый! — пылко согласился Ефимочкин. — Он проявил самостоятельность, я бы даже сказал — творчество…
— А когда мы пытаемся передвинуть человека из аппарата на производство, бог мой, какие вопли иной раз поднимаются!..
— Да, да! — с горячностью согласился Ефимочкин. — Цепляемся за мелочи, теряем квалификацию, превращаемся в канцеляристов… Сила инерции велика. Я был смелым человеком когда-то, даже дерзким… Женился, потом боялся потерять комнату в ведомственном доме… обзавелся вещами…
Кущ невпопад сказала, думая совсем о другом:
— Вещи привязывают человека к месту, люди цепляются за вещи, за стены, за клочок земли, за сад… Я ненавижу мещанство в любом его проявлении. Мещанин все сметет с пути ради собственного благополучия.
Ефимочкин уныло согласился: да, имущество, вещи лишают человека легкости.
Он снова притих, присмирел и все чаще искоса взглядывал на Кущ, как будто хотел что-то сказать и не решался.
Она шла быстро, засунув руки в карманы пальто, глядя прямо перед собой. И вдруг остановилась.
На пузатой, тумбе висела афиша. Кривцов читал очередную лекцию.
— Подумайте только! — сказала Кущ удивленно. — Кривцов все еще здесь. А я думала — целая вечность прошла с тех пор… — Она не договорила. И спросила: — Интересно, приводит ли он в пример Викторова как образец нового, советского человека?
Горечь в ее голосе поразила Ефимочкина. Он сказал осторожно:
— Да, как-то странно… Я уважаю Николая Павловича. Но… ведь Пелехатый не был снят, приказ еще не подписан, а Николай Павлович уже приезжал в Балашихинск, ходил по цехам, распоряжался… И жена его… Она как-то вызывающе себя держит. При всем моем рыцарском отношении к женщинам, я не могу все-таки…
Кущ ничего не ответила.
Они пошли дальше, и снова Ефимочкин с тревогой взглядывал на нее, желая что-то сказать. Наконец он решился и пробормотал:
— Я вас прошу… хотя мое желание перейти на производство искреннее… но надо еще подумать, посоветоваться… взвесить…
— Я не собираюсь ловить вас на слове, — отрезала Кущ и больше не возвращалась к этой теме.
И вообще она больше ничем не интересовалась, кроме работы. Тоненькая ниточка симпатии, связавшая ее и Ефимочкина в эти тяжелые, полные переживаний дни, внезапно оборвалась.
Ефимочкин робел, отмалчивался, вздыхал, всячески хотел, чтобы Кущ забыла о последнем разговоре. Она держалась отчужденно, сухо, тщательно проверяла все данные обследования, все материалы, она изводила Ефимочкина придирками:
— Вот вы тоже, как и ваш прекрасный Леша, считаете, что фабрика скоро будет на подъеме. А каким образом? Чем это можно доказать? Благодаря модернизации станков? Хорошо! А почему мы раньше не подсчитали производительности действующего оборудования? А где мы были? Почему мы этого не запланировали? Не учли? В чем же тогда наше руководство? О чем наш производственный отдел думал? Интересует нас полное использование резервов производства или не интересует? К нам разве не относятся решения партии?
Ефимочкин только хватался руками за голову.
— Это ведь не моя личная вина. Я не начальник отдела…
Он пытался объяснять ей, доказывать. Но она не слушала.
Она и с Глафирой Семеновной не стала объясняться.
Та явилась на фабрику озабоченная. Растерянность сквозила в каждом ее слове. Под глазами набрякли мешки, углы яркого рта обвисли. Говорила она почти искренне:
— Я даже не знаю, стоит ли Николаю Павловичу теперь сюда переезжать. Конечно, жаль сада, но сад и на другом месте вырастет… Может, и там, на той фабрике, он еще сработается. Что же теперь за смысл?.. — Она спохватилась: — Коля любил Пелехатого. Ему теперь будет тяжело.
Она шарила глазами по столу, по бумагам, хотела что-то разведать, уловить, понять.
Ефимочкин сидел, уткнув нос в бумаги, но, когда Глафира Семеновна ушла, не выдержал:
— Разве вопрос о назначении Николая Павловича вы не считаете окончательно решенным?
— Эти вопросы решаю не я.
Пораженный Ефимочкин смотрел на нее в упор. Кущ хорошо понимала, о чем он думает. Она думала о том же. Они оба ясно представляли себе деловую обстановку треста: коридоры, перегородки, комнаты, полные табачного дыма, гула голосов, стука арифмометров и пишущих машинок, телефонных звонков и шелеста бумаг; вспомнили прочные связи и твердую репутацию Викторова, упрямство начальника планового отдела, самолюбие управляющего, который терпеть не мог отменять собственные решения и вообще не любил менять без крайней надобности что бы то ни было в привычном ходе трестовской машины.
И всему этому Кущ, обыкновенный инспектор по кадрам, собиралась пойти наперекор.
Ефимочкин в сомнении покачал головой. И только пробормотал:
— Да, памятная будет командировочка. Эх, Пелехатый, Пелехатый!..
Испытующие взгляды Ефимочкина сердили Кущ. Она одергивала рукава ненового жакета, поправляла воротничок белой блузки, приглаживала гладко зачесанные волосы, хмурила лоб. По лбу пробегали легкие морщинки, выражение темно-серых глаз становилось еще упрямее.
И вдруг в Балашихинск приехал Викторов. Он явился в конце дня в контору, растормошил всех, и не успела Кущ опомниться, как она была уже в пальто и Викторов вел их с Ефимочкиным к себе домой.
— Не выдавайте меня начальству, — просил он, — приехал самовольно, когда узнал, какая тут случилась беда. Глафира мне сообщила. Поверите, переживал, будто отца родного похоронил…
Кущ жадно ловила каждое его слово. Тяжесть начинала спадать с ее души. Туман рассеивался. Рука ее лежала на твердой руке Викторова, она шла, повинуясь его воле, он поворачивал ее вправо, влево, вталкивал через калитку, помогал подняться на крыльцо.
Она едва успела разглядеть двор, яблони, укутанные по самую крону снегом, коридор, переднюю с зеркалом.
За накрытым столом уже сидел, хохоча, Кривцов. Викторов извинился:
— Глафира моя оплошала. Ничего не приготовила… Все плачет и плачет…
Глафира взмахнула рукой, как крылом. Она бесшумно сновала по комнате, заглядывала мужу в глаза.
Хотя хозяин и извинился, но угощение было отличное: соленья и маринады, пышные пироги, жареная курятина.
Кущ сидела прямая, напряженная. Ей неприятно было в этой столовой с бесчисленными вышивками, кружками «напейся и не облейся». Кусок не шел в горло. Если бы не ласковые, полные заботы взгляды Николая Павловича, она бы убежала. Он вдруг повернулся к ней и спросил:
— Вы что-то осунулись у нас в Балашихинске. Устали?
— Устала? Нет, не устала…
Она с завистью смотрела, как уже спокоен Ефимочкин — пьет наливку, хвалит пироги, спорит с Кривцовым. Викторов тоже спорил, но все время оглядывался на Кущ, внимательно смотрел на нее, потом тихо спросил, будто приласкал:
— Что, Александра Александровна? Что, моя милая, хватила горя в нашем Балашихинске?
Кущ вспыхнула, порозовела. Впервые она видела Викторова в домашней обстановке, за столом. В комнате было жарко, он сидел без пиджака, в вышитой украинской рубашке.
Заговорили о Пелехатом. Кривцов заявил:
— В наш век технического прогресса вряд ли это такое уж большое достижение — модернизация старых станков. Как ты считаешь, Николай Павлович?
Кущ с нетерпением ждала ответа. Но Викторов, как нарочно, медлил.
— Что ж, — сказал он неохотно, — свой эффект это, конечно, дает…
— Сам же ты ему присоветовал, — вставила Глафира Семеновна.
— Глафира! — укоризненно произнес Викторов и поглядел на Кущ, как бы извиняясь за бестактность жены.
— Что «Глафира»? Я тридцать пять лет Глафира.
Кривцов, блистая эрудицией, посыпал словами: «моральный износ станков», «амортизация», «экономический эффект», перемежая их своими обычными «вдрызг», «ясно, как разжеванный апельсин», «тронулись-двинулись». Кущ казалось, что он набит этими словами и фразами, как пирог начинкой, и она была благодарна Викторову, когда тот с комической мольбой поднял руки:
— Избавь нас от своей политэкономии, Аркадий Петрович! Умучил.
— Без теории хозяйственник теперь ничто… это же ясно… без экономических познаний… Ваше здоровье, Глафира Семеновна! Что делать бедному крестьянину без науки?..
— Однако модернизация станков, полное использование мощности старого оборудования — это тоже один из пунктов нашей программы, — сказал Ефимочкин.
— Особенно когда начальники из треста не дают нового. — И Викторов захохотал.
В его смехе было что-то грубое, ненатуральное. И Кущ спросила, сузив глаза:
— Вы ведь, кажется, говорили здесь в прошлый приезд, что добьетесь нового?
Николай Павлович не успел ничего ответить. Глафира Семеновна воскликнула:
— Это Леша, это Лешкины слова!.. Он уже и на партбюро выступал…
— А ты откуда знаешь? — неодобрительно спросил Викторов.
— Есть же здесь люди, которые тебя ценят. Которые знают тебя.
— Ох, женщины, женщины! — покачал головой Викторов.
Он опять налил всем вина, стал угощать, потом как бы невзначай спросил у жены:
— Значит, это Алексей болтает? Чудак!
Глафира Семеновна подсела ближе к Александре Александровне и негромко сказала ей:
— Если бы вы посмотрели личное дело этого Леши: выговор на выговоре… а отец у него был…
Викторов лениво остановил жену:
— Прекрати, Глафира!
— Что, я права голоса не имею? Мне обидно, когда мальчишка подкапывается под тебя, подрывает твой авторитет, критикует.
— Критика всегда полезна.
Как будто два голоса пели этот сложный дуэт — один шел вверх, другой вниз, в басы, потом они соединялись где-то на невидимой глазу нотной строчке. И Александре Александровне показалось, что перед ней искусно разыгрывается комедия, а она сидит в зрительном зале одна.
Ефимочкин оторвался от спора с Кривцовым и заметил:
— Николай Павлович сам любит покритиковать. Он умеет задать перцу… Вы помните, Аркадий Петрович?
— Еще бы! Он расшибал вдрызг…
Кущ, тоже помнила, с каким успехом выступал всегда Викторов. «Ну и дает, ну и дает!..» — говорили про него с восхищением.
А что он «давал»? Кого он задел по-настоящему, глубоко? На что рискнул? С кем испортил отношения? Щекотал нервы начальству — вот что он делал…
Кущ побледнела. Румянец отхлынул от ее впалых щек, взгляд стал суровым. Такая сила гнева проступила в ее лице, что Викторов заметил это. И его взгляд стал жестче. Он перестал ухмыляться, круто нагнул голову, как будто хотел боднуть. Шея его налилась кровью.
— Петр Иванович развел здесь либерализм, — пошел он напролом, — расплодил болтунов, развел панибратство. Алексей — механик хороший, не спорю, но зато и склочник первой руки. А я склочников не любило. Демагогия мне не нужна, меня, слава аллаху, и без демагогии знают…
— Почему же вы считаете Лешу демагогом? Наоборот, он человек дела, — сказала Кущ, стараясь говорить спокойно, но это ей плохо удавалось.
Викторов насмешливо повел бровью.
— Что это вы растаяли, Александра Александровна? На чью удочку поймались? — И снова посмотрел на нее тяжелым взглядом, в котором сквозило пренебрежение. — Ну, умер Пелехатый, ну, жаль его. Но не истерику же разводить. Работать надо, а не плакать. От чего вы тут в умиление пришли, не знаю. Я этот проект модернизации когда-то начинал, потом бросил… старик подхватил… Если вернусь на эту фабрику, посмотрю этот проект еще раз. Но может, я и не вернусь. А если уж вернусь, я вам покажу, что я с этим проектом сделаю!
— О! — захохотал Кривцов. — На Николая Павловича можно положиться. Балашихинская фабрика на весь Союз прогремит. Он это сумеет сделать!
— Даже без вашей помощи? — грубо спросила Кущ.
— А при чем здесь я? — обиделся Кривцов.
Ефимочкин стал делать умоляющие знаки: мол, неудобно в гостях…
Расстроенная хозяйка наливала чай. Кущ, сославшись на головную боль, собралась уходить.
Ее никто не удерживал, мужчины решили засесть за преферанс.
Викторов проводил ее в сени.
Они стояли в полутьме. Фонарь, горевший на улице, бросал странные отсветы через замороженные стекла. Смутно белела украинская рубаха хозяина. В сенях было тесно. Александра Александровна чувствовала у своего плеча теплое плечо Викторова.
— Мы с вами погорячились, Шурочка, поспорили. А о чем нам спорить? Что делить? Дело-то у нас одно… Всем нам Петр Иванович своей кончиной голову с плеч снял. Бросил бы я этот Балашихинск, гори он огнем!.. Любил я старика, ругался с ним, но любил. А как было не ругаться? Чудак ведь он, оригинал… не понимал современных методов хозяйствования.
С усилием Александра Александровна сбросила с себя чары этого молодецкого, ласкового, бесшабашного голоса, оторвалась от плеча, пышущего здоровым теплом, и вышла на улицу. Снова ее обволокло паутиной, опутало. Как ей хотелось верить, что все это так и есть, как объясняет Николай Павлович, что все это — правда… И может быть, когда он приедет в трест, он, как и раньше, будет заходить в ее комнату, не обидится на ее подозрительность и горячность. Он поймет… поверит…
Но она-то не могла больше верить. Хотела бы, да не могла. Она должна была знать… узнать… Ну, а узнает, что тогда?
Ей стало страшно.
Она очутилась на заснеженной улице совсем одна. Прохожих не было. За забором громыхала тяжелой цепью собака.
В облаках, как лодка в море, нырял месяц, Ей вдруг вспомнилось, как вел ее сюда Николай Павлович, поворачивая вправо, влево, в калитку, на крыльцо. Как будто посторонняя сила вела ее…
Она пошла по улице, дошла до стандартного дома и, сама не зная, зачем это делает, постучалась к вдове Пелехатого.
Та еще не спала.
С неприбранными седыми волосами, в домашнем капоте, осунувшаяся, она выглядела совсем старухой. И, как будто не в лад случившемуся, в квартире упорно держался домовитый запах цветов и тмина.
Сели на диван. От чая Кущ отказалась:
— Я пила у Викторовых. Николай Павлович приехал.
— Глафира Семеновна умеет угощать, — просто сказала Ольга Сергеевна. — А что Николай Павлович приехал, я знаю, заходил он… посидел у меня, посочувствовал… тетрадки Петра Ивановича себе на память взял…
— Какие тетрадки?
— Да всякие. Петр Иванович любил мечтать. Все, что намечтает, в тетрадь записывает. Как производство наладить, кого из людей выдвинуть…
Кущ спросила прямо:
— Скажите, а Петр Иванович любил Николая Павловича?
— Он его ценил, — ответила вдова. И отвернулась.
— А вы? — еще резче спросила Кущ.
— Я? — Вдова задумалась, как бы не зная, сказать или не сказать всю правду. — Нет, я не любила и не люблю.
— Почему?
— Не люблю — и все. Он только для себя пользу ищет. — Ольга Сергеевна долго молчала и все гладила ребро дивана. — Петр Иванович одного хотел — успеть закончить, что задумал. «А там, говорит, мне все равно, кто директором будет. Может, еще и Филатов меня в обиду не даст». Да вот не успел, голубчик, работу закончить. — Видимо, ей не хотелось говорить об этом. — А Николая Павловича он всегда ценил, помогал ему, учил… — Она вдруг заулыбалась, просияла. — Он ведь сразу к нам после института приехал, худенький был, голодный. У нас здесь и жил. И с Глашей у нас познакомился. Это он потом оперился, солидным стал. Ну, у него диплом. Так и вышло, что он стал директором. Петр Иванович за этим не гнался, нет. А все же, когда Николай Павлович уехал, Петр Иванович прямо признался: «Теперь мне никто руки связывать не будет, теперь я осуществлю, что хотел».
— А почему Николай Павлович захотел назад вернуться?
Вдова ответила кратко:
— Тут было кому работать за него — это раз. А другое — что гнездо уже свито. Глафира Семеновна мастерица гнезда вить… Она любую соломинку в ход пустит…
Кущ, все еще сидела, не снимая пальто. Ей тяжко было смотреть на прибранный пустой письменный стол. Инструмент был спрятан, книги лежали ровными рядами. Ольга Сергеевна к чему-то прислушивалась по привычке, как будто ждала мужа с работы… Лицо у нее было простое, открытое, хорошее. На подоконнике сидел кот, мыл лапой мордочку. Узорчатые листья отбрасывали тени на чисто побеленные стены.
Надо было уходить — и не хотелось. Хотелось еще посидеть здесь, набраться тепла, сил, надышаться этим воздухом, как путнику, которому предстоит полная борьбы и трудностей дорога…
КУЛИКОВА Рассказ
Маша обожала мужа. Коля был худой и некрасивый, но Маше нравились его легкая походка, тонкая талия, перетянутая кавказским ремешком, озорные глаза. Она ревновала его. Ей чудилось, что на какой-нибудь железнодорожной станции — как это было когда-то с ней самой — он увидит хорошенькую стрелочницу, крикнет ей: «Здорово, любка-голубка», увлечется и останется там на день, на два, а может быть, и навсегда. Она все не могла забыть то туманное утро, когда он промчался мимо нее на маневровом паровозе, сверкнул очами, выкрикнул вещие слова.
Коля гордился молодой женой, гордился ее любовью, смеялся и хвастал, что она отчаянно ревнует его ко всем, даже к соседской рябой собаке. На семейных вечеринках у Машиного брата это обычно служило предметом насмешек и шуток. Жена Машиного брата говорила с тайной болью: «А вот перестанет она вас любить, Николай, и ревность пройдет. Тогда вспомните, пожалеете…» — «Маша не перестанет любить мужа. У нас семья не такая…» — на что-то намекая, вмешивалась Машина мать. «Уж будто бы?» — переспрашивала невестка и трясла головой так, что трепетали огромные круглые, как у цыганки, серьги.
Маше были приятны эти разговоры о любви и ревности, эти семейные встречи, на которых она присутствовала теперь как равная, а не как девчонка. Она сидела с семейными, женщинами за одним столом, пила сладкую наливку, покрикивала на Колю, бесцеремонно отбирала у него зеленую стопочку с водкой. Она была молодая и хорошенькая, она смела распоряжаться своим мужем. Ни невестка, ни старшая сестра уже не смели. И Маша думала, что, наверное, они сами как-то недоглядели, не заметили, как кончилась их власть над мужьями, а с ней этого никогда не случится. Ради нее Коля всегда будет готов на что угодно… «Вот только если его никто не отобьет».
Поводов для ревности Коля не давал, но Маша знала, что люди всегда завидуют чужому счастью, — как же не позариться на ее Колю! Особенно теперь, когда она беременна.
Коля просил ее и даже грозил пальцем:
— Маша, я тебя прошу как человека. Эти глупости могут отразиться на ребенке. Я у доктора спрашивал. Женщина должна быть спокойна. Понятно? Разве я на кого-нибудь смотрю или гуляю с кем? Хожу на работу и обратно.
«Если бы ты работал на моих глазах, — печально думала Маша, — а то машинист, уезжаешь в другие города, встречаешь людей. Не может быть, чтоб он никого лучше меня не встретил. Что я такое? Простая, малограмотная».
Когда ее звали на собрания, на курсы, в кружок, она отнекивалась и спешила домой, чтобы там сидеть, поджидать своего Колечку и думать свои надоедливые думы. Старший стрелочник знал, что кого-кого, а Куликову не уговоришь поработать сверхурочно.
— Она у нас исключительно упрямая, — говорил старший стрелочник про Куликову. — Деньгами не интересуется, муж хорошо получает. А сознательности никакой…
— Таким, конечно, легко работать, — отзывались слушатели. — Нет, ты попробуй поработать, когда на твоей шее семья, когда ты семью должен обеспечить.
Куликову часто корили несознательностью и на работе и в общежитии. Родные подшучивали, что она стала «глухая и слепая». Даже Коля говорил, что получилась неожиданность. У людей муж отрывает жену от общественных дел. А здесь наоборот — жена мужа заставила дома сидеть…
— Значит, надоело тебе со мной? — огрызнулась Маша, но подумала, что действительно хватит ей дома сидеть. «Схожу разик-другой на собрание, пусть только мне в глаза не тычут…»
Она пришла на собрание, когда стоял вопрос об аварийщиках. Коля был в поездке. Маша пришла одна, села у самой двери, на краю скамьи. Но ее заметили. Из сизого дыма выплыл старший стрелочник и долго кашлял, прочищая глотку. Маша полагала, что он скажет что-нибудь насмешливое. Но стрелочник только сказал:
— Подвинься, я сяду.
— Садитесь, дядя Вася.
Маше стало стыдно, что подумала так о дяде Васе, но она все еще сердито поглядывала на всех из-под платка, как будто спрашивала, зачем ее позвали в эту темную, прокуренную комнату из ее чистенькой и светлой, с белыми занавесками.
В самом конце зала, у председательского стола, незнакомый мужчина из районного отделения говорил об аварийщиках. Маше казалось, что на путях кричит Колин паровоз. Потом она взяла себя в руки и стала слушать. Становилось интереснее. Выступавшие называли фамилии машинистов, которых Маша знала.
— Он и вчера стрелку на восьмом пути погнул, — сказала Маша дяде Васе, когда заговорили про рыжего Остапчука, который всегда подмигивал, проезжая мимо Маши. — Такой отчаянный. Его предупреждай не предупреждай — ему все равно.
Про Остапчука говорили долго, так что даже слушать надоело. Как будто он один был во всем виноват. А потом еще дядя Вася закричал:
— Наша женщина-стрелочница имеет сообщить факт про Остапчука. Дайте слово!
Остапчук, до того молчавший и поплевывающий на пол, взвизгнул:
— Недостойное оружие применяешь…
Председатель зазвонил в колокольчик.
— Встань, Куликова, и выйди сюда, — сказал он строго.
Маша стала оправдываться, что она ничего не знает, только сказала дяде Васе, как своему бригадиру, что Остапчук на маневровом паровозе погнул стрелку, не замедлил ход. А она дежурила около этой стрелки и хорошо все видела. Потом Маша распалилась и стала кричать, по-бабьи подпершись руками, что она не каменная, все видит, все стрелки на память знает, хоть ночью ее разбуди, у нее сердце изныло, глядя на машинистов.
Куликова в упор смотрела на незнакомого мужчину из районного отделения, как будто ему одному рассказывала, какие безобразия творятся на станции. Да и что рассказывать остальным? Знают. Все знают.
— Вы с нас спрашиваете за стрелочное хозяйство. Хорошо. Но надо и с них спрашивать, да построже, — и Маша кивнула в ту сторону, где особняком сидели машинисты.
Вернувшись на свое место, она сказала укоризненно:
— И как только вам, дядя Вася, не стыдно меня подбивать! Сами бы и сказали. А то некрасиво: Остапчук моему Коле знакомый… Он нам сосед.
После собрания Машу подозвали к столу и что-то говорили ей. Она поняла одно: незнакомый выговаривал председателю, что они, мол, жалуются на отсутствие людей, — а вот они, люди, вот золотые самородки, умей только их подобрать. Председатель был недоволен, как будто Маша подвела его, но бормотал что-то такое: «действительно», «со стороны виднее», «на ошибках мы учимся».
Маша вышла с собрания позже всех и пошла одна домой, в темноте. Она так привыкла к местности, что ни летнее небо, ни деревья над вокзалом, ни зеленые огни на путях не казались ей интересными. Интересным казалось другое — то, что через несколько месяцев у нее будет ребенок. Только она, да Коля, да докторша из поликлиники знают этот секрет. Сколько людей было сегодня на собрании, все они слушали, что кричала Маша, смотрели на нее, выбирали зачем-то в комиссию, и невдомек им было, что у нее совершенно особенная, никому не известная жизнь.
Она нарочно пошла дальней дорогой, чтоб подольше думать о себе и ребенке. «Если он и бросит меня, — думала она про мужа, — я теперь буду не одна. Только он меня не бросит…» Маша была уверена в Колиной любви. У себя на службе она могла померяться силами с любой женщиной. Но она знала, что в больших городах живут такие красавицы артистки, против которых никто не может устоять. Коля водил свои товарные поезда на дальние расстояния. И кто знает, с кем разговаривает сейчас ее Коля, небрежно играя кавказским пояском.
Чтобы не думать больше, Маша тихо запела.
Она вошла в общежитие, прошла по длинному коридору, где бегали дети и пахло щами, и отперла свою дверь. Закусив, она легла и сразу заснула, утомленная необычными впечатлениями.
Утром она долго не выходила из своей комнаты. Коли все не было. Маша знала, что как только она выйдет на кухню, так встретит жену Остапчука. Соседки не любили Машу за то, что она гордая и так дружно живет со своим мужем. «Теперь они меня вовсе загрызут…» Но она не жалела, что выступила против Остапчука. Ходишь по путям от стрелки к стрелке, в жару, в холод, очищаешь их от снега и пыли, протираешь, ухаживаешь, а кто-то будет гнуть… Маша с кем угодно была готова вступить в бой. «Что я ее боюсь?» — подумала она о жене Остапчука, взяла чайник и пошла на кухню.
Жена Остапчука неожиданно встретила ее приветливо.
— Ставь чайник на мой примус, Куликова.
— Я не Куликова, а Шеина, — поправила сбитая с толку Маша.
— Мы привыкли, что твое фамилие Куликова. Так и говорим.
Какой-то огонек не то насмешки, не то жалости поймала Маша в глазах у соседки. Ей стало не по себе.
— Раз вышла замуж, значит, Шеина. По его фамилии.
— Теперь считают и по-другому, — многозначительно заметила соседка.
Сердце у Маши упало. «Знает что-то…» — подумала она. Дожидаясь страшного известия, она медлила около своего примуса.
— А ты вроде пополнела?
— Юбка у меня широкая… полнит…
— Твой в поездке?
— В поездке.
— А-а.
«Знает», — подумала Маша.
Соседка поджала губы и сказала ласково:
— Ты не подумай, что раз ты против нашего семейства, так и я против вашего. И в характере у меня этого нет. Я как соседка. У твоего мужика сегодня было столкновение, говорят, невредимый остался, а вот паровоз… Аккурат какому-то поезду в хвост врезался…
— Шутишь, тетя Дуня? — спросила Маша и против своей воли усмехнулась.
— Шутить перед судом будете, аварийщики! — крикнула Остапчук. — Смеется… Это тебе не чужих мужей на смех поднимать…
Ошеломленная, Маша пошла, как лунатик, к себе в комнату. Остапчук крикнула вслед:
— Примус потуши! Некому тут за вами следить…
Маша все еще не понимала, что случилось. То думала, что Колю зарезало, то боялась суда, то надеялась, что Остапчук все наговорила со злости.
Она пошла на станцию.
Идти было тяжело: замирало сердце, и ребеночек толкал ее в левый бок, как будто двигал ножкой.
На станции Маша смело вошла в кабинет к начальнику. Для нее все теперь были равны. У начальника сидел вчерашний оратор. Он сразу узнал Машу и сказал:
— А, здравствуйте, товарищ Куликова! Вот видите, вчера мы только говорили об аварийщиках, а сегодня машинист Шеин сделал отвратительное происшествие… Хорошо, что сам остался живой. — Начальник многозначительно закашлял, приезжий посмотрел на него недоумевая. — А? Что? — и снова обернулся к Маше: — Мы на комиссии разберем этот случай и обсудим. Заострим вопрос.
— Не буду я ничего делать, — закричала Маша, заплакав, — не надо мне вашей комиссии…
И, сердясь на себя за слезы, за вчерашнее выступление, сердясь на Колю, который захотел, чтобы она посещала собрания, выбежала за дверь. Казалось, что Колино происшествие — это наказание за то, что выскочила вчера ругать Остапчука. «Вчера я его, а сегодня кого… Колю? На Остапчука руку подняла и на Колю поднимать? Вот ведь зовут уже меня на комиссию, чтоб гавкала на людей. Увидели, что умею…»
Она шла по путям сама не своя. Многие уже слышали о происшествии, спрашивали ее с сочувствием, из любопытства, а один человек с-насмешкой сказал:
— Ты смотри, Куликова, запишись в прения заранее. Говорят, соберут специальное собрание обсуждать твоего муженька.
— И запишусь, если надо будет!
— Против мужа выступишь?
— Надо будет, так выступлю! — дерзко ответила Маша, сама пугаясь своих слов.
С мужем она встретилась только к вечеру. Он пришел домой как будто после долгого пьянства — пожелтевший, с затуманенными глазами. Его томила жажда. Он пил воду стакан за стаканом, спросил поесть, пытался пошутить с Машей.
Если бы он пожаловался, Маше стало бы легче. Она могла бы отвести душу, пожалеть его, приласкать.
Но Коля храбрился, и Машу разбирало зло.
— Как это случилось? — спросила она.
— Как бы ни случилось, а факт имеется. Подай, Маша, попить.
Маша поставила воду, стукнув чашкой о стол.
— Это где было, в поле или на станции?
— На станции.
— Может, тебе стрелочник неправильную путь сделал?
Муж нехотя сказал:
— Все равно отвечаю. Там не стрелочник, а девчонка. Ее и в расчет никто не возьмет…
— Загляделся на девчонку? — дрожащим голосом спросила жена.
— Эх, Маша, Маша… — с тоской сказал муж. — Опять! Ты мне ее покажи, эту стрелочницу, я не признаю. Не видел я ее. Слышал только, люди говорили, что плачет девчонка. Я, Маша, не об себе думаю, а о тебе. Придется ведь отбывать срок, не простят.
— Не простят, думаешь?
— Нет, любка-голубка. Не пропадешь здесь одна, дождешься?
— Дождусь.
Маша слушала, что говорит муж, и клялась, что дождется его, но она не верила, что кто-нибудь может их разлучить.
Первые дни повсюду на станции шумели про происшествие, а потом все утихло. Колю с товарных поездов сняли, он сидел дома. Маша собрала все справки, какие сохранились, и берегла их для суда, чтобы доказать, как Коля везде хорошо работал. Она была уверена, что эти справки и их ребенок, который должен родиться, защитят Колю от суда.
Коля скучал. Маша скрепя сердце гнала его из дому, чтоб пошел с товарищами погулять или выпить стопочку. Сама она после работы так уставала, что ноги отказывались носить ее потяжелевшее тело.
Наступила осень. Маша куталась в большой платок, чтоб не видно было, какая она толстая, но все говорили, что Куликова скоро уйдет в декрет, надо на ее место подготовить кого-нибудь другого.
Куликову жалели. Родные считали, что ребенок родится некстати, что Маша пропадет без мужа, и поэтому Маша с особенной жалостью думала о ребенке.
Выпал снег, а суда все не было. Колю стали пускать на маневровые поезда, а однажды даже послали в дальний рейс. Старший машинист пояснил, тяжело вздыхая:
— И не полагается, да что делать? С кадрами у нас плоховато. Гляди только, Шеин, не подведи, будь уж там поаккуратнее…
Коля повеселел. Все чаще знакомые говорили, что нечего беспокоиться, — кто же будет теперь, через столько месяцев, судить человека? Маша тоже успокоилась. Она думала только о родах. Мать, сестра и невестка опекали ее, как маленькую, заходили к ней трижды в день, давали разные советы. Кто наказывал лежать побольше, кто, наоборот, ходить, кто — пить молоко, кто — не есть мяса. Шили распашонки, подрубали пеленки. В этой суматохе совсем позабылась Колина авария.
Когда Маша вернулась из больницы с дочкой, она узнала, что мужа осудили на два года. Она хотела заголосить, закричать, но Коля сидел за столом такой черный и страшный, что она онемела. По случаю родов жены его должны были отправить только через месяц. Маша тормошила его, умоляла: «Пиши заявление, хлопочи!», — но Коля пал духом, притих, никуда не хотел ходить, все дни проводил около жены и дочки.
Казалось, никогда не были они так счастливы, как в этот месяц, когда вели счет каждой минуте, каждому часу. Коля расколол все дрова, починил все столы и стулья, замазал щели, чтобы не лазили мыши, — только бы жене пришлось без него полегче. Он продал золотые часы, которыми его премировали еще в первую пятилетку, новый костюм, пальто и положил вырученные деньги в сберкассу на Машино имя.
Остапчук приторговывал у него патефон с пластинками, но Коля сказал, что патефон нужен: может, ребенка будет забавлять музыка.
Провожали Колю всей семьей, с выпивкой, со слезами, как новобранца. Маша весь вечер сидела с ним, не разлучаясь, на стол подавала мать. Гости вели себя прилично, сдержанно, не выражая сочувствия. Только когда Коля встал и поклонился всем, говоря: «Оставляю жену, дочку, не покидайте их, добрые люди», — поднялся плач.
Громче всех голосила Машина шепелявая сестра, которая любила поусердствовать и в веселье и в беде. Пусть все видят, какой она преданный человек. С визгом кидалась она целовать Колю.
Машу замертво уложили на кровать, Коля обнялся с тещей, хотел что-то сказать, но не смог, поднял крашеный сундучок — и ушел на два года.
Гости, сложив на коленях руки; долго сидели у Машиной кровати. Первой, вздохнув, поднялась невестка. Дома ее ждали дети. Потом встала со своего места Машина мать. Она работала уборщицей в депо и заступала на ночную смену.
Ребенка положили рядом с Машей, чтоб она не чувствовала себя такой одинокой.
Маша слышала, как уходили родственники, но ей было все безразлично. Тонким, жалобным голоском заплакал ребенок. Надо было перепеленать его, накормить. Надо было встать с кровати, умыться, подобрать волосы.
Кончился срок декретного отпуска, и Маша вернулась на работу. Она всегда была тихая, но такой молчаливой и серьезной ее никто раньше не видел. Зима выдалась снежная, ветреная. Пути и стрелки заносило снегом. В больших валенках, в полушубке, в платке брела Маша от стрелки к стрелке, тщательно очищая их от снега, скалывая лед. Она не боялась ни стужи, ни ветра. «Может быть, там, где Коля, — думала она, — еще холоднее». Письма от Коли получала нечасто, — он отбывал заключение в трудовой колонии, на Севере. Там заготавливали лес. Коля писал, что живется ему неплохо, кормят сытно, работает на механической пиле.
«Здесь кругом тишина, красота, белки прыгают по деревьям, но у меня одна забота — это ты, Маша. Насчет женщин не беспокойся, женщины содержатся отдельно от нас, совершенно на других командировках. Хотя все равно я бы себя помнил…»
Маша вздыхала над письмами, и ей было горько, что ее считают такой ревнивой дурой и утешают, как малое дитя.
«Нет, не от чужой женщины пришла беда, — думала она, — а совсем от другого, я его завлекала и на курсы не пускала, морочила ему голову. Теперь добилась своего…»
Маша считала одну себя во всем виноватой. Если бы не она, Коля шел бы на работу с ясной головой, не был бы рассеянным. Разлуку она воспринимала как наказание за то, что не понимала жизни и не умела беречь счастье.
Она давно сломила свой строптивый характер, не грубила больше бригадиру, не ссорилась с невесткой и с сестрой, не спорила с другими стрелочниками, если ее просили поменяться сменами.
Жилось Маше трудно. Она мало спала, нянчась с ребенком; уходя на работу, оставляла девочку у матери или невестки. Хотя они охотно нянчили ребенка, Маше больно было сознавать, что она у всех одалживается. И дома, когда хотела сварить себе кашу или суп, приходилось занимать у соседок то луковицу, то соль или пяток картофелин, — не было времени добежать до магазина.
Жена Остапчука, которая была теперь ответственной уполномоченной по общежитию, часто и нудно корила Машу за то, что будто она в свое дежурство не подмела кухню, не вытерла пол за собой, когда стирала пеленки.
Маша отмалчивалась. Она чувствовала себя такой беззащитной, что даже не обижалась.
Каково же было Машино удивление, когда ее на путях разыскал тот человек из районного управления, по фамилии Толмачов, и спросил, почему она не работает в комиссии.
— Я приехал и сразу спросил про вас, как вы и где. Говорят, она отбилась от общественной работы. Почему?
— Муж у меня отбывает… — ответила Маша, исподлобья разглядывая звездочки на воротнике у Толмачова. «Сколько надо учиться, чтобы выслужить столько», — подумала она.
Она знала, что как только Толмачов вспомнит, что аварийщик Шеин — это ее муж, так перестанет приставать к ней. Но Толмачов сказал:
— Он — одно, а вы — другое. Вы на своей работе не знаете замечаний.
— Замечаний мне не было, — подтвердила Маша.
— А раз не было, — подхватил Толмачов, — значит, вы самостоятельный человек на производстве, за своего мужа не отвечаете.
— От мужа я не отказываюсь, — ответила Маша, задетая за живое. — Лучше вы меня на комиссию не зовите, от мужа я все равно не откажусь.
— И не надо отказываться. Почему надо отказываться? Вот что, Куликова, на путях разговаривать неудобно. Приходи сегодня в клуб, поговорим. Придешь?
— Ладно. Если можно будет, приду ненадолго.
Вечером Маша пошла в клуб.
Она долго думала, надеть ли ей розовую кофточку, не осудят ли ее люди? Но кофточку все же надела и даже, вздохнула перед зеркалом, заметив, какое бледное у нее теперь лицо.
В клубе она долго не могла найти Толмачова. Ходила без толку из комнаты в комнату и ругала себя, зачем пришла. «Разве у него одно только дело со мной? Он и забыл, что велел прийти…» Потом Толмачов вышел из какой-то боковой двери и сказал приветливо:
— А, товарищ Куликова! А у нас было совещание, я задержался. Надо где-нибудь найти местечко посидеть.
Толмачов повел Машу в буфет, они сели за столик, им принесли ситро и два пирожных. Маша горела от стыда и обиды. Она низко наклонилась над своим стаканом. Идя в клуб, она надеялась, что Толмачов посоветует, как вызволить Колю, а он позвал ее, польстившись на то, что она живет одна, без мужа. И теперь она сидит, выставленная на позор, чтобы все видели, как дешево стоит женская любовь и верность.
Маша грубо сказала:
— Мне тут долго сидеть нельзя. У меня ребенок.
Толмачов надкусил пирожное.
— Может, вас удивляет, товарищ Куликова, что я так активно вмешиваюсь в ваши дела? Но у меня к вам симпатия — женщин еще немного у нас на транспорте. Я про вас расспрашивал у бригадира и других работников. Может, вы пойдете на курсы составителей?
Маша ответила, как бы извиняясь:
— На курсы я бы хотела, но мне нельзя. У меня ребенок совсем еще маленький. Спасибо вам.
— Жаль, — ответил Толмачов. — Но как только ребенок станет постарше, мы вас определим на курсы. Имейте это в виду.
Маша съела свое пирожное и пошла домой, думая о том, что на свете живет много хороших людей.
Веселое оживление клуба, пирожные, которые она давно не ела, вызвали у Маши воспоминание о тех временах, когда они еще были с Колей женихом и невестой. Тогда они часто ходили в клуб, смотрели кинокартины и постановки и даже иногда танцевали. Теперь судьба разлучила ее с Колей. Но Маше не было грустно, она верила, что дождется возвращения мужа. Ребенок будет уже большой, когда Коля вернется, будет ходить и смеяться, будет лепетать «папа», «мама», «баба» и еще какие-нибудь немудреные детские слова. Маша часто думала о дне Колиного возвращения. Вот он входит в комнату, обросший бородой, с сундучком. Девочка испуганно смотрит на незнакомого дядю, а Маша говорит: «Олечка, это папа…» Стол накрыт, как в праздник. Коля умывается, садится за стол и молчит. Потом говорит только одно слово: «Маша!» И этим словом благодарит ее за все: за посылки, за то, что ребенка вырастила, за то, что себя сберегла. И может быть, Маша скажет: «А я, Коля, учусь теперь на курсах. Ты не против?»
Дома Маша вытащила из сундучка мужнины книжки и долго рассматривала их одну за другой. Книжки были трудные и неинтересные, по паровозному делу и политграмоте. Маша вздохнула, выбрала самую трудную и стала читать. Чтоб не терять времени, она и Олю баюкала, читая вслух. Потом ей надоело это бесполезное занятие, и она снова сложила книги в сундук.
Коля прислал письмо: у них проложили узкоколейку, он работает теперь по специальности — водит старенький паровозик по лесной чаще. На паровозике работать приятно — любимое дело, и, главное, не будет отрываться от своей специальности.
«Еще есть у нас учеба, и я учусь. Читаю книги, газеты и др.».
Маша не поняла, что означает «и др.». Ей хотелось знать: может, Коля делает что-нибудь такое, до чего она здесь не додумалась? Она спросила у людей. Ничего особенного в этом «и др.», оказывается, не было.
Заболел ребенок.
Маша совсем выбилась из сил. Докторша из поликлиники дала освобождение от работы, Маша дни и ночи проводила над кроваткой девочки. Маленькая надрывно плакала, и ни лекарства, ни компрессы, ни ласки, матери не могли ее успокоить.
Шел седьмой день болезни, а улучшения все не было.
Вечером забежала на часок мать, и Маша прилегла, но тонкий, на одной ноте, детский плач не дал ей уснуть. Она лежала и думала, что не может, не может этого быть, чтобы ребенок умер. Для чего же тогда были все страдания и муки? Ребенок, как нитка, привязывал ее к жизни. Не надо ей ничего, если не будет Олечки. Она взлелеяла мечту, как вырастит девочку, как купит ей первые ботиночки, как вынесет ее летом на зеленый луг за станцией, в хорошеньком платье, перешитом из своей кофточки. Что же ей останется в жизни без девочки? Работа да сон, длинные дни ожидания?
Маша вздыхала и ворочалась на постели. Старуха тоже вздыхала, болея сердцем за дочь и за внучку. В десять часов она сказала:
— Вставай, Маша. Я пойду…
Она разогрела кашу и насильно заставила Машу поесть.
— И вы кушайте, мама.
Они сидели вдвоем за столом. А из глаз их на зеленую клеенку падали крупные слезы.
Мать ушла. Маша перепеленала девочку, взбила подушечки, на которых лежало дитя, и девочка немного затихла.
Резкий мартовский ветер заглушал все шумы на улице. Как будто никого на свете больше не было — только Маша и девочка.
Теперь, когда нельзя было спать, сон, как нарочно, наваливался на Машу, томил ее тело, наливая свинцом руки и плечи. Чтобы не спать, она раскрыла книгу и строчку за строчкой читала, принуждая себя, как будто делала тяжелую работу.
Было уже поздно, когда кто-то постучал в дверь. Пришла докторша, красная от мороза и ветра.
— Я шла мимо и решила, дай зайду, — сказала она. — Как наша маленькая пациентка?
Согревшись, докторша постояла у кроватки, поправила одеяльце. Маша ждала, что докторша достанет трубочку и выслушает ребенка, но докторша сказала:
— Кажется, засыпает.
И на цыпочках отошла от кроватки.
— Это вы читаете? — спросила она, перелистывая книгу.
— Так, чтоб не спать…
— Почему же только чтоб не спать?
— Трудно очень… Неинтересно.
Докторша стала расспрашивать Машу о ее жизни. А потом, увлекшись, рассказала о себе. Выходило, что она рассказывает нарочно, чтобы подбодрить Машу, — у докторши, как и у Маши, рано умер отец, и докторша, как и Маша, жила у чужих людей в няньках, но потом пошла на фабрику, оттуда на рабфак и в институт.
— А теперь, как видите, я интеллигентный человек, стою на своих ногах. Профессия моя полезна людям.
— Вы замужем? — спросила Маша.
— Нет, не пришлось, — сказала докторша, — сначала училась, не до этого было, а потом… Годы прошли. Взять, например, наш поселок. Инженеры, те как-то женятся на москвичках, а кто попроще, мне не пара. Совершенно другой культурный уровень и интересы. Поедешь летом на курорт, похохочешь, похохочешь, а серьезного ничего…
— Не скучно вам?
— Конечно, скучновато. Но в работе как-то не замечаешь. Я человек веселый. Племянница у меня воспитывается… Нет, я не жалуюсь.
— А мне скучно одной, — созналась Маша, — дни считаю, его жду…
Девочка закричала таким необычным криком, что и докторша и мать встрепенулись.
Маша смутно припоминала потом, как прошла ночь. Кипятили воду, клали горячие бутылки под подушки. Голые по локоть, полные руки докторши мелькали над кроваткой. Маша больше не надеялась. Сухими глазами смотрела она, как страдает ребенок, и ничего не могла сделать, чтоб принять его муки на себя.
Всю ночь докторша не отходила от ребенка.
Утром Маша взяла ребенка на руки и сидела с ним, пока не поверила, что он мертвый. Мать застала ее лежащей на кровати не то в обмороке, не то в глубоком сне с мертвым ребенком на руках.
Теперь нечем было вернуть Машу к жизни, нельзя было говорить ей: «У тебя ребенок, живи для него…» Мать внушала ей: «Плачь». Она не слушалась, не плакала. На похоронах громче всех голосила Машина сестра, и встречные прохожие думали, что она и есть мать ребенка.
Когда на могилке насыпали холмик, вперед вышел Машин бригадир с каким-то предметом, завернутым в бумагу. Он долго разворачивал бумагу, осуждающе покачивал головой, как бы сердясь не то на свою неловкость, не то на тщательность упаковки, пока не освободил металлический венок.
— Это твоему ребенку, товарищ Куликова, от стрелочников, — сказал он.
— Спасибо, дядя Вася…
Маша взяла венок, положила, его на холмик, расправила ленты. Ее утешало, что у девочки такая красивая могилка.
Она не сопротивлялась, когда брат и бригадир взяли ее под руки и подняли с могилы. Безропотно пошла она с кладбища.
Все женщины просили ее заплакать, но Маша отрицательно качала головой. Слез не было. Она дошла до своего дома, остановилась и сказала невестке:
— Феня, не хочется мне домой. Лучше я у вас посижу.
Так и пошло, что она редко бывала дома: то сидела у родных, то работала сверхурочно.
На работе ее ценили, к ней прикрепляли новичков, чтобы она их учила. Дядя Вася говорил, что доверяет ей почти как самому себе. Она выручала, если его вызывали в контору или когда он засиживался в дежурке у машинистов.
Толмачов больше не появлялся на станции, но иногда к Маше подходили люди из месткома и говорили, что он спрашивал про нее и передавал привет.
Маша понимала, что Толмачов ждет, когда она вспомнит свое слово относительно учения, но голова так устала от горьких мыслей, что она не могла и думать о курсах.
Никакие перемены в жизни теперь не прельщали ее. Она и Колю перестала ждать. Жена Остапчука, пользуясь тем, что Маша редко бывает дома, вселила к ней в комнату своего женатого племянника. Маша стала было протестовать, но Остапчук закричала на все общежитие:
— И с детьми и с мужьями живут по две семьи в комнате! А эта одна. Может, и не вернется твой арестант. Скажи спасибо, что тебя не гоним. Муж — троцкист, а она еще ломается…
— Какой же он троцкист, он аварийщик, — сказала Маша.
Она никуда не пошла жаловаться. Странным казалось теперь, в ее одиночестве, хлопотать о комнате. Но молодожены жили так дружно, что измученной Маше невмоготу было на это смотреть. Все вспоминалось ей свое счастье.
Молодожены не обижали ее, не ссорились с ней, но Маша чувствовала, что мешает им. К себе домой она приходила, как в гости. А родня надоела. Она вспомнила предложение Толмачова о курсах и написала ему в район письмо. Сразу же ей прислали путевку.
Курсы были близко, на соседней станции, но Маше казалось, что она уехала далеко от дома. Среди чужих, незнакомых людей жилось легче. Можно было забыться.
Машу определили в группу составителей поездов, выдали книжки, тетрадки и карандаши. В общежитии курсов в одной комнате с ней жили две славные девушки-украинки. С ними Маша ходила в столовую обедать и проводила все свободное время. Они пробовали вместе готовиться к занятиям, но из этого ничего не вышло. Украинки знали больше, чем Маша, и торопили ее.
Первые недели Маша считалась отстающей. Но потом она перестала волноваться и робеть, стала внимательнее слушать учителей, и дела пошли успешнее.
Машу все любили: и учителя и курсанты, — такая она была серьезная и славненькая — курносая, беленькая. На курсах Маша как будто отогрелась, оттаяла, даже научилась у соседок петь украинские песни.
Толмачов обрадовался, найдя в ней такую перемену.
— Я вам давно советовал — выходите из своей скорлупы. Нельзя жить в отрыве от коллектива.
Всегда, когда Маша слушала Толмачова, она думала о том, что вот он и умный и хороший, а не знает, как трудна настоящая жизнь. Но получалось, что не она, а он был прав. Она не могла понять, как не надоест ему разъезжать все время со станции на станцию, всем интересоваться, про все помнить. А дом? А жена?
Она спросила:
— Вы, наверно, и дома никогда не живете?
— Редко, — вздохнул Толмачов.
— Скучает без вас жена?
— Она тоже всегда в разъездах. Такой же инструктор, как и я. То ее нет, то меня…
— А не боитесь? — спросила Маша и помедлила. — Не боитесь, что, может, она кого повстречает или вы повстречаете?..
— От судьбы не уйдешь, — сказал Толмачов, подумав. — Если полюблю кого-нибудь, признаюсь жене по-честному. Только этого не случится, лучше моей жены нет.
— Ой ли! — сказала Маша и засмеялась.
Она была рада, что у Толмачова какая-то особенная жена и живут они как-то по-особенному. Значит, не все живут так, как ее сестра и невестка.
Как она сама будет теперь жить с мужем, Маша не знала. Но в одном была уверена: все у них изменится. На будущее она смотрела спокойно, и больше не было у нее мысли, что жизнь ее кончена.
Весной был экзамен.
День выдался солнечный, почти жаркий. Курсантки наломали зеленых веток и убрали ими портреты на стенах класса. На столе в двух стаканах стояли подснежники. Учителя пришли на экзамен торжественные, в белых брюках, в белых туфлях, с цветами в петлицах.
Маша отвечала одной из первых. Она была довольна, что вопросы попались трудные: хотелось показать свои знания.
Учителя пожали ей руку.
Маша вышла из тесного помещения курсов на улицу. Станция, которую она еще недавно считала чужой, стала теперь родной, своей. Маша пошла по путям, на которых еще поблескивали непросохшие лужицы. На сортировочной горке распускали состав. Красные вагоны, испещренные меловыми надписями, разбегались по рельсам. Маневровый паровоз увозил их за собой. Рослый человек в плаще, суетясь, отдавал распоряжения. Это был составитель.
Наблюдая за ним со стороны, Маша самонадеянно думала, что легко справится с этой работой.
Вечером заведующий собрал курсантов и произнес перед ними речь. При свете магния всех сфотографировали. Потом была самодеятельность. Украинки пели, сцепщик с Ленинской дороги рассказывал смешные истории, стрелочник с Москвы-товарной плясал гопака.
Маша отбивала ладонями такт и веселилась, как и все.
Всю ночь никто не ложился спать, укладывали свои корзинки, обменивались адресами.
Курносая Галя, кровать которой стояла в общежитии рядом с Машиной, сказала на прощанье:
— Смотри, серденько, не тоскуй. Наплюй на все… Э, жизнь короткая…
— Я теперь буду веселая, — обещала Маша.
Но сдержать обещание было нелегко.
Первые слезы она пролила на могилке дочери, куда побежала сразу после своего приезда. Металлический венок потемнел, ленты выцвели. Маша накопала зеленого дерна и обложила холмик, попробовала вычистить венок песком. Долго сидеть у могилки не могла: надо было спешить на работу.
Начальник, к которому она явилась, встретил ее сухо и сказал, что даст ей испытательный срок. Составитель Ющенков пойдет с сегодняшнего дня в отпуск, она будет его заменять.
Маша пошла в парк.
Дежурный, у которого болел зуб, сказал с огорчением:
— Пришла бы ты, Куликова, завтра. Ты человек неопытный, а я, видишь, сегодня сам не свой. Скажу тебе какую-нибудь грубость. С Юшенковым мы договоримся, он сегодня еще поработает…
— Нет, Иван Христофорович, я заступлю сегодня, — взмолилась Маша, — я видела сон, что мне заступать.
— Ну, заступай, Куликова, только не обижайся!
Дежурный вручил ей график подхода поездов и объяснил коротко, какое на путях положение. Маша хотела записать в блокнот, как советовали на курсах, но дежурный сказал:
— Некогда тут записывать. Запомнить надо.
Маша послушно спрятала блокнот.
— Иван Христофорович, — сказала она, — так я пойду расчищать пути.
— Главное для нас — это гнать побольше вагонов со станции. Понятно? Ты должна смотреть, соображать… — Дежурный, охнув, взялся за щеку и с таким видом покачал головой, как будто вообще сомневался, нужны ли человеку зубы. — Состав подошел, ты налетай, смотри, где легче, хватай, формируй, отправляй. Понятно?
— А остальные вагоны будут простаивать?
— Про то другая смена будет думать. Понятно? Наше дело — выполнить план.
— Нет, Иван Христофорович, — сказала Маша, — нас учили не так… Если работать, как вы говорите, у нас вагоны будут простаивать в тупиках. Что вы скажете?
— Я скажу одно: у меня на смену есть план, ты мне его выполняй, — дежурный уклонился от прямого ответа.
— Ладно, выполню, — обещала Маша.
И пошла к своей бригаде.
Первые распоряжения она отдала нетвердым голосом, все время посматривала, не смеются ли над ней.
Смена, как нарочно, выдалась трудная. С утра работы было мало, и бригада роптала, что не будет никакой выработки, а с двенадцати часов один за другим стали подходить составы.
Дежурный по парку торопил Машу. Бригада — сцепщики, башмачники, метчики с любопытством смотрели на новую начальницу. Сцепщики были люди постарше, посерьезнее. Маша запомнила их имена и отчества, чем и расположила к себе. Но грубые, лихие парни, кидающие под колеса пудовый башмак, не прочь были пошутить с тоненькой Машей. С ними разговаривать надо было строго и резко: пусть забудут, что перед ними женщина. Наука эта далась Маше не сразу. В тупичках, между вагонами, она давала волю своему отчаянию.
«Не справлюсь, — думала она, — ни за что не справлюсь».
Казалось, что все нарочно медлят, что маневровые машинисты, издеваясь над ней, без толку ездят с пути на путь, что дежурный нарочно дает ей неправильные сведения. А она должна метаться от вагона к вагону, выбиваться из сил и терпеть насмешки. Даже дядя Вася, стрелочник, который знал ее много лет, сказал недружелюбно:
— Ты, Куликова, больно высоко прыгнула. Будешь жалованье не меньше моего получать.
— Ну и что же? — сказала Маша. — Что заработаю, то и получу.
Она и не заметила, как кончилась смена. Зашла в контору и села на лавку передохнуть. Иван Христофорович забежал туда сдавать сведения. Увидев Машу, он сказал:
— Ничего, справилась. Скажи спасибо…
— Спасибо, — машинально ответила Маша.
Подошел начальник и, улыбнувшись совсем не так, как утром, а ласково, спросил:
— Тяжеловато пришлось в первый день, а?
— Ничего…
— Самостоятельная женщина. Нажимает… — похвалил начальник.
Вокруг начальника собрались мужчины — дежурные, машинисты, кладовщики. Маше было неудобно сидеть вместе с ними, мешать их свободному разговору. Она ушла, добралась до своего дома, пообедала и вернулась в парк. Интересно было посмотреть, как работает другая смена.
Составитель Глушков догадался, зачем она пришла, и сказал:
— Пришла — так не стой, как в гостях. Ходи за мной и слушай.
Маша смотрела на Глушкова и завидовала его спокойствию. Все спорилось у него.
— Волнение, оно не помогает, — ответил Глушков на ее вопрос. — Волноваться — это вы, женщины, мастера. У меня дома жена, три девочки, теща и бабушка. Мне ваше женское волнение вот где сидит… — Глушков показал на шею. — Если хочешь работать, эти волнения брось. На голову надейся, на мозги…
Прошла неделя, и Маша припомнила слова Глушкова. Она работала спокойно, споро, втянулась в работу.
Часто бывает в жизни, что несчастья приходят к человеку сразу, одно за другим, но зато если пойдет полоса удач, так только радуйся. На станции как будто впервые увидели Машу Куликову. Только и разговоров было, что про первую женщину-составителя. О ней вспоминали на всех собраниях, в торжественные дни.
Маша знала это и гордилась собой.
Родственники не узнавали Машу. Она так осмелела, что даже сама Остапчук стала разговаривать с ней заискивая.
Маша заявила молодоженам, что она против них ничего не имеет, но комната принадлежит ей, пусть они ищут себе другую.
Остапчук встретила Машу в коридоре.
— Это правда, Машенька, — спросила она, — будто ты замуж собираешься?
— Правда, — ответила Маша, желая пошутить.
— Говорят, большой пост занимает? — спросила Остапчук, бегая глазами по новым Машиным туфлям.
— Большущий…
— К нему, наверное, жить переедешь? Так зачем же тебе комнатка? Я вот женщина серая, невоспитанная, и то у меня от нашего общежития голова болит. А где тебе…
— Перееду или не перееду, а чтоб комнату освободили. Я к начальнику станции пойду, если что…
Так много сил появилось у Маши, что она могла теперь постоять за себя. Она и про Колю узнала, как и кому можно подать ходатайство. Тоска по мужу с новой силой охватила ее. Теперь, когда ее уважали, хотелось разделить свое счастье с любимым человеком. У нее появились деньги, она была молода, но незачем ей заводить обновки, не для кого наряжаться. В кино и то редко ходила — когда собиралась вся семья: мать, брат, невестка, сестра и зять.
Молодожены не выезжали из комнаты. Маша стосковалась по семейному уюту. Не терпелось выбелить стены, постлать новое одеяло и скатерть, повесить занавески. Все желания, которые она приглушала в себе целый год, пробудились. Она не могла больше жить так, как жила. Хотелось петь и плясать, ходить в гости, самой звать к себе гостей. А кто она была? Ни вдова, ни девушка, ни жена. С молодыми мужчинами нельзя было знаться, со старыми — неинтересно. Разговоры с родственниками были будничные, простые — про очереди, про топливо на зиму, про невестку.
Она сходила несколько раз к докторше. Но докторша редко бывала дома, а племянница еще совсем девчонка.
Маша жила в поселке много лет, всех железнодорожников знала с детства, знала их жен и детей, характеры, слабости, — не было на станции человека, так казалось ей, кто понимал жизнь больше, чем она сама.
По выходным дням она сидела у себя в комнате и подбирала на гитаре песни, что певала когда-то. Она даже выдумала сама мелодию, которая ей очень нравилась, и жалела, что не может найти к этой мелодии подходящих слов. Мимо общежития часто-проходили знакомые молодые женщины, Машины сверстницы, но пережитое отдалило Машу от них. Если бы она пошла с ними, то, пожалуй, молчала бы как пень. Веселее и интереснее ей было разговаривать с мужчинами, но все составители и диспетчеры были женатые, по выходным дням у них свои семейные дела. На могилу дочери Маша теперь ходила редко — холмик земли не мог заменить ей живое дитя.
В конце лета, когда стали желтеть обожженные зноем листья, составителей срочно вызвали к начальнику станции на совещание. Торжественный начальник сказал, что все они читают газеты и знают хозяйственное положение, знают, какая идет борьба за хлеб; картина вырисовывается такая, что через станцию будет проходить поездов в три раза больше, чем в обычное время.
— Вы, конечно, понимаете, — сказал начальник, — что каждая наша ошибка, каждое промедление будет отражаться на ходе уборки и осеннего сева, на наших грандиозных успехах. Это все равно что фронт. Продумайте каждый свой метод работы, что сделать и как сделать… Оставаясь на месте, мы, железнодорожники, как бы участвуем в замечательных победах нашего народа. Дисциплина должна быть военная… Провозгласим «ура» в честь нашей родины!
Составители дружно прокричали «ура». Когда вышли из конторы, Глушков сказал Маше:
— «Ура», конечно, дело хорошее. Но надо фактами оправдать — это будет наше «ура».
Все были взбудоражены. Станция еще не знала такого напряжения. Поезда шли и шли. Везли комбайны, жатки, зерно. Железнодорожники забыли, что такое смена, что такое день и ночь.
Маша только теперь по-настоящему почувствовала каждого человека в своей бригаде. И умом и сердцем чуяла, на кого надо прикрикнуть, кому сказать доброе слово, кого похвалить. Сама она не знала усталости. Вагоны стали для нее живыми существами — то добрыми, то злыми. Ей надо было всех их подчинить себе, чтоб разбегались по путям по ее указке, как звуки в гитаре, не медля, не опаздывая.
Не было никакой хитрости в ее работе. Она изучила все пути и подходы к станции, все посты, соображала, как группировать вагоны, чтобы маневровые паровозы не возили их без толку по путям.
Составы уходили. Маша подолгу смотрела им вслед, мечтала о городах, мимо которых они пойдут, о дальних краях, где никогда не бывала…
Когда пора горячей работы прошла, Маше стало скучно. Она привыкла к тому, чтоб все кипело вокруг.
На станции отметили Машину работу. Ее выбрали на слет стахановцев дороги. Там она выступила и, чуть кокетничая своей скромностью, поделилась опытом работы.
Когда Маша спускалась с трибуны, она увидела в зале Толмачова. Он стоял в проходе и разговаривал с каким-то мужчиной. «Пусть он первый подойдет ко мне», — решила Маша. Ее окружили новые знакомые, и она, смеясь, прошла с ними в фойе, будто не заметив Толмачова. Она нарочно медлила уходить, все еще надеясь, что он подойдет к ней. Но Толмачов не шел.
«Ну и не надо, — думала Маша, — я теперь не кто-нибудь, могу найти человека и поинтереснее…»
Она жила в гостинице, в одном номере с женщиной-машинистом, известной на всех дорогах. Маша при ней не смела гордиться. Панкратьева относилась к Маше любовно и покровительственно. Когда Маша пришла, у Панкратьевой сидела в гостях артистка, с которой она где-то познакомилась летом, и они, смеясь, говорили про какого-то Сергея Ивановича.
Маша села в сторонке и сделала вид, что читает газету. Артистка скоро ушла, и тогда Панкратьева спросила:
— Ты, Маша, что, больная?
— У меня голова болит…
— Я и смотрю, ты вроде не в себе.
Панкратьева подошла ближе и стала рассказывать про артистку, как в нее влюбляются все мужчины. Маша ахала и удивлялась.
— Какой это секрет женщины знают? — спросила она. — Другая хорошенькая, да никто за ней не ходит, а некоторые…
— Никакого секрета нет, — сказала Панкратьева авторитетно, — но есть женщина, у которой голова занята делом, а есть женщина, у которой только любовь на уме. Мужчины это чуют.
— Интересно все-таки, когда за тобой ухаживают, — робко сказала Маша.
— Ничего интересного нет…
— Зачем вы так говорите, тетя Наташа? — подосадовала Маша. — Конечно, интересно.
Обе, обиженные, замолчали. Потом Панкратьева сказала:
— Я тебя за молодость извиняю. Я не обижаюсь. Интересно так интересно. Каждому свое. Идем лучше ужинать, пока не поздно.
Они спустились вниз, в ресторан. Панкратьева шла широким шагом уверенного в себе человека, а Маша смущалась. Позолота на стенах, цветы на столиках, оркестр, официанты в грязно-белых куртках — все казалось таким чужим и роскошным.
Они сели за столик. Маша аккуратно натянула юбку на колени и оглянулась по сторонам. Недалеко сидела артистка в голубом платье с каким-то мужчиной. За всеми столами сидели компаниями мужчины или мужчины с женщинами. Маше стало неловко, что они пришли одни.
Облокотившись, Панкратьева слушала музыку. Маша смотрела на ее немолодое лицо, желая догадаться, о чем она думает. Но музыка умолкла. Панкратьева очнулась и постучала ножом о тарелку.
Подошел официант. Панкратьева заказала ужин и спросила у Маши:
— Выпьем по стопочке?
— Я непьющая, тетя Наташа.
— От головной боли это хорошо. Принесите две стопочки: мне побольше, а ей маленькую.
— Сто грамм и двести? — спросил официант, ухмыляясь, и побежал, изгибаясь, между столиками.
— Не люблю я их, лодырей, — сказала Панкратьева про официанта.
Принесли ужин. От теплой пищи и вина, которое Маша пригубила, стало веселее. «Не подошел — и не надо» — думала она. И вспомнила тот вечер в буфете, когда она сидела с Толмачовым и, робея, пила колючее ситро… Теперь она в городе, в ресторане… И характер совсем переменился…
— Ты меня слушай, Маша, — Панкратьева тронула ее за руку. — Я тебе рассказываю, а ты вся не тут…
Панкратьева рассказывала про свою молодость. Она раскраснелась. Джаз опять заиграл, по залу двинулись танцующие пары. Панкратьева старалась заглушить шум и пропеть Маше деревенскую песню. Но Маше было интереснее смотреть на танцующих, на красивые женские платья, туфли, на такие тоненькие чулки, что ноги в них казались голыми. И вдруг Маша увидела Толмачова: он сидел в углу, спиной к залу, и ел, наклонившись над тарелкой.
Музыка стихла. В зале слышался только голос Панкратьевой, тянувшей заунывную песню. Все посмотрели в ее сторону улыбаясь. Маша заметила, что Толмачов увидел ее.
К столику, как на коньках, подлетел официант и сказал Панкратьевой:
— Гражданка, петь у нас не разрешается…
Она отмахнулась от него рукой, потом сказала:
— А того, братец, не понимаешь, что эта песня настоящая, душевная.
Улыбающийся Толмачов подошел к столу, взял Панкратьеву за руку.
— Ты что это, лекцию читаешь, Наталья Петровна? — спросил он.
— Объясняю, — сказала Панкратьева, засмеявшись. — Я хотела Куликовой нашу деревенскую песню спеть, а вот товарищ… — она кивнула на официанта, — не велит… Да и правду сказать, чего я тут распелась, не дома ведь. — Панкратьева посмотрела на официанта и улыбнулась.
Тот смахнул салфеткой крошки со стола и ушел.
Толмачов подождал, когда железнодорожницы окончат ужин, и они все вместе вышли из ресторана. Панкратьева пошла спать, а Толмачов и Маша зашли посидеть в гостиную.
В большой комнате никого не было. На столе лежали старые газеты. Маша села на стул и смотрела, как Толмачов перекладывает их. Она чего-то ждала. Толмачов спросил, не отрываясь от газетного листа:
— Как вы теперь живете, Маша?
Он никогда не называл ее по имени, но Маша не обратила на это внимания. Она не знала, что отвечать ему. Смотрит в газету и спрашивает небрежно, как будто она не человек.
— Я сегодня днем заметил, что вы меня избегаете, — снова сказал Толмачов и посмотрел на Машу внимательно. — Чем это объяснить?
— Не знаю, — ответила Маша. — А почему вы сами ко мне не подошли?
— Я был занят, — объяснил Толмачов.
Он отодвинул от себя газеты и стал расспрашивать, как она живет. Маша доверчиво рассказала все — и про то, как работает, и про людей, и про молодоженов, которых никак не может выселить, и про мужа. Только про скуку свою ничего не сказала. Но Толмачов догадался: она что-то утаила от него.
— Вы мне расскажите главное: какое у вас настроение, — попросил он.
Маша призналась, что скучает. Она и сама не знает, почему так получилось, ведь она многого добилась. Наверное, она неблагодарный человек, которому все мало. Она рассказала, что, когда на станции были напряженные дни, ей было весело. Жалко было уходить домой. Осталась бы, и всем распоряжалась, и все бы делала по-своему.
— Вам надо еще учиться, — сказал Толмачов, — и по специальности и по общеобразовательным. У нас есть курсы без отрыва от производства. Вы способная, вы можете стать дежурным по станции.
— Дежурным я смогу, — сказала Маша, — я уже присмотрелась к этой работе. А по общеобразовательным мне трудно. Я только три класса окончила, и то когда это было!
— Тем более надо учиться.
— Ну, поучусь, а тогда? Если скучно будет, так опять учиться?
— Да, опять. Жизнь есть движение вперед.
Маша не совсем понимала, для чего ей надо всегда учиться, но она верила Толмачову.
— Хорошо, — послушно сказала она, — я запишусь на курсы.
Тогда Толмачов спросил:
— Вы вспоминали меня, Маша?
— Вспоминала, — честно сказала Маша.
— И я вас никогда не забывал… только не захотел вас тревожить.
Толмачов поспешно встал, как будто пожалел о сказанном, и стал смотреть на часы. Маша тоже встала и собралась идти. Толмачов сказал:
— Поверьте мне, что, когда я заинтересовался вашей судьбой, еще ничего такого не было…
Маша пришла в номер и, не зажигая света, легла в постель. Сейчас она не завидовала женщинам, в которых влюбляются мужчины… Внимание Толмачова, достойного и серьезного человека, и льстило ей и пугало ее.
Она ворочалась на постели, пока Панкратьева не услышала, что она не спит, и не позвала ее к себе. Маша легла рядом с Панкратьевой и рассказала все, что было у нее на душе. Они погоревали вдвоем о Коле и решили, что Маша должна дожидаться его возвращения, а там видно будет.
— Нет, все равно я от него не уйду, — сказала Маша твердо, — для меня нет лучше человека, чем он…
Слет стахановцев кончился, Маша уехала домой. Она была теперь бодрее, чем раньше. Молодожены наконец-то освободили комнату. Скучать не было времени. Маша выполнила все, что обещала Толмачову в городе, — поступила на курсы дежурных и в школу для взрослых. Мать удивлялась, зачем она эта делает, зачем так перегружает себя. Маша резко отвечала, что так надо. Теперь она сама была убеждена в этом.
Маша завела аккуратные тетрадки по всем предметам и на всех надписала: «М. Куликова». Дочка брата, двенадцатилетняя школьница, приходила к ней, и они вдвоем, племянница и тетка, готовили уроки. Маше было удивительно, как она могла жить и не знать, сколько интересных вещей и понятий существует в мире. Прежняя жизнь казалась норой, в которой они с Колей сидели.
Зимой Маша подала заявление в партию. Ее приняли. На собрании выступали старые железнодорожники и хвалили Куликову, которую помнили еще девчонкой.
А вскоре вернулся Коля. Его освободили досрочно. Он приехал домой без предупреждения. Маша вернулась из школы и застала его в комнате: он сидел на корточках и починял перекладинку от стола. Что-то подступило Маше к горлу, но она не заплакала, а засмеялась. В комнате сразу стало светло и просторно, как будто Коля никуда не уезжал.
Скоро в комнату набились знакомые и родственники, принесли закусок, вина. Стало шумно. Коля, немного похудевший, рассказывал про места, где бывал. Машина сестра попробовала всхлипнуть, но на нее прикрикнули. Она замолчала, обиженно поджав губы.
Жена Остапчука, втершаяся в компанию, сказала Коле:
— А мы тут без вас тоже интересно жили. Ваша Маша теперь первый человек на станции. Как вы только с ней совладаете…
— Ты, Николай, не вздумай Маше поперек пути становиться, — сказала невестка и подперла кулаками бока.
Коля засмеялся и нежно посмотрел на Машу. Он гордился женой.
Маша весь вечер сидела, уцепившись за Колин рукав. На стол подавала мать.
БИФШТЕКС ПО-ДЕРЕВЕНСКИ Рассказ
Витю решили на суд не брать. А Костя сказал, что все равно придет: не маленький…
— А то большой?.. — слабо возразила мать. — Большой? Опять ведь принес двойку…
— Какое же это доказательство… — Костя так выразительно посмотрел на мать серыми живыми глазами, что Нюся умолкла, отвернулась, не стала попрекать.
Она низко опустила голову и, машинально продолжая расчесывать и закалывать на затылке волосы, подумала про себя: «Нет, не поднять тебе больше головы, Нюся. Опозорилась перед всеми».
Но странно, никого она так не стыдилась, как Костю. По совести говоря, только его одного и стыдилась.
Может, потому, что работницы в швейном ателье, начальство в комбинате и даже следователь не столько срамили и укоряли ее, сколько удивлялись ее простоте.
Леонтий Иванович из комбината так прямо и сказал:
— Ну что же ты, Козлова, не призналась мне раньше? Оформили бы эту твою сумму в рассрочку и выплатила бы, не позоря систему. И так на нас вешают ярлыки… А то дождалась ревизии, умница, и теперь в акте указано, что растрата… Эх, Нюся, Нюся… — вздохнул Леонтий Иванович, — подвела ты меня, Анна Петровна, подвела своего руководителя…
Нюся только руками развела:
— Я отвечу, Леонтий Иванович. Я виновата, я и отвечу…
— Ответишь! А кого в райком тягать будут — тебя или меня? Соображать надо…
— Ой, я совсем не хитрая, Леонтий Иванович… — И Нюся подняла на начальника серые, как у сына, большие глаза.
Тот спросил шепотом, почти жалобно:
— И что ты в нем, Нюся, нашла, в этом закройщике? Парень как парень, самый обыкновенный. А ты такой слыла недотрогой…
— Он тут ни при чем… — это Нюся как отрубила. — Он не виноват, виновата я… одна я виновата…
— Выгораживаешь, значит?
И следователь тоже очень хотел впутать Валерика, или, как он выражался, ее сожителя, в дело о растрате, но Нюся и следователю твердо говорила: «Нет и нет, я виновата, я и отвечу. Что же, выходит, я покупала любовь за деньги? Он честный, он такой наивный, и не наводите вы на него тень, прошу вас…»
Следователь был молодой, чистенький, щеголевато одетый в мягкий шерстяной джемпер и дешевенький серый крапчатый пиджачок, в белую рубашку с галстуком. Очень вежливый, со здоровым румянцем во всю щеку, он не раздражался, не гневался, не кричал на Нюсю. Но ей казалось, что он не сможет ее понять, презирает ее. Она для него и не человек, а так… ну как кошка или щенок…
Наверное, он и знакомым девушкам уже не раз рассказывал: мол, только подумайте, какие в наш век атома еще бывают потешные истории: заведующая швейным ателье, более сорока лет, из себя ничего особенного, влюбилась в закройщика, в мальчишку, ему только двадцать шесть, водила его по ресторанам и растратила казенные деньги. Семьсот рублей, или, по-старому, семь тысяч. А у самой два сына — одному девять, а другому пятнадцать годков, и, представьте, от разных отцов и оба раза в незарегистрированном браке. Ничего себе картинка? Моральный облик? А девушки, тоже чистенькие, хорошо одетые, с детства хорошо кормленные, образованные, посмеивались и возмущались.
Нюся не испытывала к следователю неприязни. Может, будь она на его месте, тоже не смогла бы понять, что за особа эта заведующая ателье с ее необыкновенной любовью… Нюсю даже удивляло, что следователь не подлавливает, не старается закопать поглубже, а, напротив, как бы старается выгородить. Но все-таки не сомневалась, что он относится к ней с брезгливостью и равняет себя мысленно с Валериком — разве пошел бы на связь с женщиной старше себя, матерью двоих детей?..
Однажды она осмелела и сказала следователю:
— А жизнь совсем не такая, как вы думаете… не такая, одним словом, как в книгах…
Но следователь не понял. И прищурился недоуменно:
— В каких книгах? Каких авторов вы имеете в виду? Ремарка, Хемингуэя или Антонину Коптяеву?
Нюся, конечно, читала «Товарища Анну» Коптяевой и этого самого Ремарка, которого девчонки в ателье рвали друг у друга из рук. Но не решилась вступить в спор, побоялась обозлить следователя. И ответила не прямо, не на вопрос:
— Раз виновата, значит, виновата… Такая судьба…
И вдруг догадалась, что следователь не смеется над ней. Он огорчен. Жалеет ее. Выдвигает и задвигает ящики стола, поправляет галстук. И в глазах его так и светится досада.
— Подпишите протокол допроса… — стараясь выглядеть строгим, велел он.
Она подписалась, тщательно и аккуратно выписывая каждую букву своей фамилии.
— Мне можно идти?..
— Да, пока… До суда вы свободны…
До суда она прожила как во сне, все думала — проснется, а ничего страшного нет, почудилось. Сдавала дела в ателье, чинила сыновьям одежду, переписала сберкнижку, где лежало заветных 83 рубля, на Костю. Валерик ни разу не пришел, сама она встречи с ним не искала, но ждала его каждый вечер, даже выходила постоять к воротам — может, стесняется позвонить в квартиру. Но он так и не пришел…
Она увидела его уже в суде, когда допрашивали свидетелей.
В суде Нюсе никогда не приходилось бывать. Не случалось. Но в театре она видела пьесу, где арестанток выводили в халатах и белых платочках. Пьеса была из дореволюционной жизни, но Нюсе все мерещилось, что и она будет сидеть на скамье подсудимых тоже в суконном халате и белом платке. Но пока что все обращались с ней вежливо и никто не заставлял сменить синенькую жакетку на арестантский халат, Она несколько приободрилась.
В зале она не оглядывалась, но знала, чувствовала, что там собрались полюбопытствовать знакомые работницы не только из ателье, но и из других пошивочных мастерских их системы. Небось с нетерпением ждут, как все будет происходить. И соседки по квартире здесь, и ей даже казалось, что она слышит, как тяжело дышит Костя… Она мысленно осудила его, что не сел сзади, не затаился. Ребенок еще, а гордый, злой, как волчонок, горло за нее готов перегрызть. И снова сердце ее наполнилось любовью и благодарностью к сыну.
За что же он так ее ценит, если подумать? Не видел мальчик ни сладкого куска, ни особой ласки. Витю маленького она жалела больше, а Костю держала строго…
Ее допрашивали недолго, она ничего не отрицала, на все отвечала торопливо: «Да, да, я это сделала, да, я виновата, так оно и было…»
Судьиха, тоже как и следователь, попалась молодая, с широко посаженными голубыми глазами, простодушная, затейливо причесанная, и Нюсе было очень неловко отвечать на ее вопросы, признаваться, что потеряла голову из-за парня, которого была намного старше. И судьихе было вроде неловко, она тоже не знала, как называть Валерика, колебалась, сначала сказала «ваш сожитель», а потом смутилась и стала говорить «ваш друг» и «этот человек».
Народных заседателей было двое, оба пожилые. Один, молчаливый, только вздыхал и мягко кивал головой. И Нюсе думалось, что если кто пожалеет ее, так именно этот пожилой худощавый седой человек, не очень тщательно выбритый. Зато второй, кругленький, на вид добродушный, как будто нарочно взялся донимать ее.
— Так, так, — спрашивал он, захлебываясь. — Значит, жировали-пировали, а когда не хватало денежек, запускали лапу в государственную кассу?
И Нюся, малиновая от смущения, должна была подтверждать — да, жировала-пировала, запускала лапу. Ее худенькие руки мяли платочек.
— Как же можно прогулять такие денежки? — удивлялся дотошный заседатель. — Всякие там небось люля-кебабы заказывали? А?
Нюся, стыдясь опять-таки того, что все это слышит Костя, но не смея уклониться от ответа, тихонько призналась:
— Себе я брала бифштекс по-деревенски…
— Что, что? Громче!
— Бифштекс по-деревенски…
То ли ей показалось, то ли действительно по залу прошел смешок.
Судьиха что-то тихо заметила заседателю, может, объяснила, что такие вопросы не имеют отношения к делу.
Нюся долго надеялась, что у нее спросят главное — как она раньше жила и как все это получилось, она думала, что всю свою жизнь расскажет, объяснит… И все поймут — и судьи, и знакомые люди в зале, — не простят ее, нет, а поймут, как и что было…
Но она упустила время.
По просьбе прокурора уже читали акт ревизии, написанный скучными словами: даже и слов-то было мало, а все цифры — рубли и копейки. Кругленький заседатель с удовлетворением, как песню, слушал акт, таращил глаза и высоко поднимал брови, молчаливый чертил карандашом по бумаге, а судьиха сидела пригорюнившись, как будто недоумевая — как же это в мире, где все должно быть прекрасно устроено, есть еще много зла… И ей, такой молодой, такой красивой, надо с этим злом бороться.
Нюсе вспомнились те дни, когда шли выборы народного судьи и эта женщина приходила к избирателям знакомиться, рассказывать свою биографию. Нюся сидела в первом ряду, громче всех аплодировала, и судьиха, чуть смущаясь, часто смотрела на Нюсю, как бы ища у нее поддержки, а Нюся улыбалась ей, подбадривала улыбкой.
И тогда еще, на собрании, Нюся обратила внимание на руки судьихи. Все-таки ладони широкие, красноватые — видимо, сама стирает свои белые кружевные блузочки, а может, и полы моет, такая же трудящаяся женщина с семейными заботами, как и все. А вот выучилась, вышла в люди, значит, имела характер и настойчивость. «Молодец», — думала тогда Нюся.
А сегодня стеснялась посмотреть судье в глаза, неловко было, что той приходится копаться в ее не очень-то хороших делах. Как же ей, такой интересной, гордой, понять Нюсины обстоятельства?
В первую минуту Нюся подумала: может, судья вспомнит ее лицо, потом догадалась, что это невозможно. Мало ли избирателей в районе? Тысячи. Разве запомнишь?
А все-таки судьиха внимательно, с сердечностью посмотрела на Нюсю, но нет, не узнала, тут же отвернулась, встряхнула головой, как будто отогнала что-то, и, подняв руки, поправила пышные, блестящие как шелк волосы.
А у Нюси, даже когда она была девочкой, волосики были тонкие, негустые. Тогда ей очень хотелось отрастить косы, но мать не соглашалась и стригла ее покороче, чтобы было поменьше возни.
Иногда по праздникам мать торопливо цепляла дочери на самую макушку бант. Сохранился снимок — тоненькая испуганная девчонка, кругло остриженные волосы, бант, длиннющее платье и большие ботинки. Моды мать не признавала.
Когда Нюся стала старше, девочки научили ее накручивать мокрые волосы на бумажные жгутики, чтобы лежали волнами. К тому времени мать умерла, и некому было следить, чтобы Нюся не франтила.
Впрочем, и тогда ей не очень-то удавалось франтить.
Работать пошла рано, в швейную, сидела по полторы смены с иголкой в руках, тихая и старательная. Школу бросила — война. Шили солдатское белье, гимнастерки. Материал грубый, жесткий, пальцы все исколотые…
Нюся думала об этом беспорядочно, одно пятно воспоминаний наплывало на другое, расплывалось. А какие у нее всегда были хорошие характеристики, сколько грамот! Никто бы из сидящих в зале не поверил, если бы она показала…
Ничего она не признавала в ту пору, кроме работы. Подружки хоть и рассказывали уже про мальчишек и хвалились полученными записочками, а все еще иногда по старой памяти доставали припрятанных кукол, чтобы поиграть. А она, Нюся, глядела на них как на маленьких, с горьким превосходством — была самостоятельная, работала, варила щи и укладывала спать подвыпившего отца, не позволяла ему слишком куражиться. Нюся продолжала ходить на комсомольские собрания в свой бывший класс, не откреплялась, не порывала связи со школой, надеялась доучиться, когда с фронта вернется брат. Перестала ходить, когда исключили из комсомола. А исключили за то, что понесла в церковь освятить кулич. Она не сумела объяснить толком, что кулич не ее. Из деревни приехала бабка, мамина мама, потерявшая на войне шестерых сыновей. Старуха боялась, что ее затолкают в незнакомой церкви, а ей — старой — хотелось освятить куличик из темного теста и послать его на фронт любимому сыну, летчику. И Нюся не смогла отказать. А комсомольцы осудили: безыдейная — не она привила бабке свою идеологию, а подпала под бабкину, отсталую.
Нюся только сказала в свое оправдание:
— Ну как я могла? Я-то знала, что уже давно похоронка пришла, только скрывают от бабушки. Как же я могла ей отказать?
Нет, не умела она себя защищать.
После смерти отца отдала все его вещи — хороший костюм, ботинки, часы, пальто с меховым воротником — той женщине, что приходила по субботам в гости к отцу.
Соседки внушали:
— Ты что, слепая? Ты что, не видела? В бане, бывало, намоется, напарится — и сюда, к вам! Ты что думаешь, они тут газетку, что ли читали? Впотьмах-то?
— Меня это не касается, — ответила Нюся. — Она говорит, что отец обещал. Мне-то зачем его костюмы?..
Опростоволосилась она и тогда, когда, полюбив Костиного отца, сошлась с ним. Он вернулся с войны израненный, с застуженными ногами, одинокий. В войну семья его затерялась где-то в Смоленской области. Сергей заходил к Нюсе по-соседски — слушать радио, пить чай. Жаловался на скуку и читал вслух интересные книги. Рассказывал про политику. Вспоминал бои. Политикой Нюся очень интересовалась: ведь на работе репродуктор висел у нее чуть не над головой, и всю смену, пока шила, она слушала, что происходит в мире. В школе она неплохо училась по географии, это ей потом очень пригодилось. Она сама переставляла флажки на большой карте и растолковывала работницам сводку. И потом, когда Сергей рассказывал, где воевал, то не мог не восхищаться, как она дельно и впопад поддерживает с ним разговор.
— Нет, Нюсенька, — говорил он. — С такой золотой головой, как у тебя, грех не закончить образование. Ведь живем не где-нибудь на Западе, у нас все дороги открыты.
И оба мечтали, что Нюся обязательно будет учиться.
А потом они полюбили друг дружку. Сергей перестал жаловаться на судьбу, вздыхать и все чаще и жарче обнимал Нюсю, а она доверчиво клала ему голову на грудь, где громко и неровно стучало его сердце.
Нюся любила открыто, преданно, бесхитростно.
Но тут нашлась семья Сергея, и жена его, некрасивая, злая, приехала из деревни, узнала все, что произошло. Она приходила к Нюсе в квартиру, усаживалась на кухне и громко кричала, что у нее малые дети, а муж, мерзавец, путается с другой. «Другая» — это была Нюся. Все соседки собирались на кухне и отпаивали водой с валерьянкой жену Сергея, все жалели ее, а не Нюсю, и наконец Сергей сдался. Сказал, что у жены есть на него моральные права, она и так настрадалась в эвакуации. И больше не упоминал о том, что Нюсе нужно получить образование. Только сокрушался, что жена нервная и ей неприятно жить в одном дворе с Нюсей. Очень расстраивается…
И Сергей завербовался в Сибирь на большое строительство, увез семью.
Уже без него родился Костик. И соседки, как по команде, переметнулись на Нюсину сторону и ругали ее, бестолковую, что не пожалела собственного ребенка и отпустила от себя Сергея. Теперь ребенок будет расти без отца…
— Что же делать? — с болью сказала Нюся. — Что же теперь делать…
Вызвали давать показания Леонтия Ивановича. Нюся и на него посмотрела виновато — вот, мол, сколько из-за меня неприятностей… Но Леонтий Иванович, весь красный, стоял испуганный, тянулся, как перед генералом армии, руки держал по швам, грудь выпячивал, чтобы были виднее боевые ордена, и отвечал по-военному:
— Так точно… ориентировочно это так…
Судье, видимо, хотелось, чтобы Леонтий Иванович показывал в Нюсину пользу. Она, как казалось Нюсе, очень ловко ставила наводящие вопросы, чем окончательно сбивала тугодума с толку.
— Все равно мы должны беречь каждую государственную копейку. Такую политику руководство бытового комбината проводило четко. Я сам давал команду…
— Скажите, свидетель, подсудимая раньше работала в том же ателье рядовой швеей? — спросила судья, хотя прекрасно знала это из дела, лежавшего перед ней на столе в тоненькой папке.
— Точно так. Нюся, то есть Козлова, работает в нашей системе давно. Тихая всегда была, исполнительная… Бригадиром ее еще до меня назначили, потом уже при мне стала старшей по смене… Справлялась, это точно. — Леонтий Иванович побагровел, платком вытер пот с шеи и признался: — Ну, мы и выдвинули ее заведующей…
— Кто это «мы»? — строго спросил придирчивый заседатель. — Говорите уж прямо — я… а то, «мы»…
А молчаливый заинтересовался, вертя своим карандашиком, велась ли среди швейников массовая работа.
— В каком это смысле? — Леонтий Иванович был озадачен.
— Значит, вы выдвинули человека, допустили к материальным ценностям, ну а кругозор, политическая закалка и тому подобное — этому вы не придавали значения…
— Ну что вы! — Леонтий Иванович облегченно вздохнул. — И лекции, и доклады — все было. Выезжали летом в лес, массовика приглашали. Диспут проводили о моральном облике. Но тут… Тут такой случай… — Он запутался. — Разве учтешь…
— Все-таки вы несете ответственность за свои кадры, — снова вмешался кругленький заседатель. — Как же так? Людьми надо руководить…
Леонтий Иванович собрал свое мужество, перестал вертеть головой и вытирать шею.
— Если говорить по совести, то Козлова работала с душой. Ни в чем таком она раньше не замечалась…
— Она ведь, кажется, дважды мать-одиночка, — ехидно заметил кругленький заседатель и хмыкнул. И сразу же прибавил сурово: — Удивляюсь вашей нетребовательности…
…Во время перерыва Костик пробрался к матери. Никто его не гнал, мать сама сказала, страшась, что после перерыва будут допрашивать Валерика:
— Шел бы ты, Костенька, домой. Там Витя один, голодный. Да и ты проголодался, наверно?
— А ты?
— У меня совсем аппетита нет. — И Нюся спросила у сына, как у единственного друга, на которого могла положиться: — Плохое мое дело, Костик, а?
— Судьиха-то ничего, — серьезно сказал Костик, — а дядька, что слева сидит, тот уж… так и подкусывает…
— Все равно, — обреченно проговорила мать. — Раз виновата, так виновата. Тут уж никто не спасет… — И проговорила фразу, которая томила ее весь день: — Обездолила я вас, совсем обездолила…
— Да брось ты, мама, — грубовато остановил ее Костик. — Заладила… Никого ты не обездолила.
— Прости меня, Костя, за весь этот стыд. Прости…
— Брось ты, мама, — опять сказал Костик. Он знал, что ее тревожит. И вдруг спросил, покраснев, стесняясь, глядя куда-то вбок: — Мама, ты тогда за этого… ну, за Витькиного отца не вышла почему? Ты меня пожалела? За меня испугалась? Да?
— Нет, сынок, он нехороший был, ну его… — И опять стала просить: — Люби Витю. Не требуй с него слишком строго. Он еще маленький. И все-таки брат тебе… Ладно, Костик?
Нюся заискивающе заглянула сыну в глаза. Костя нахмурился:
— Я же сказал. А раз сказал — все. Завязано…
Еще раньше чем Витя появился в доме, Костик возненавидел его отца. Тот приходил ласковый, лысоватый, приносил цветные карандаши или книжечку, гладил Костика по растрепанным волосам, одергивал на нем рубашечку и журчал, вкрадчивый, как кот соседки тети Дуни:
— Ребенок не может сам себя понимать, не может знать свои обстоятельства. А женщина вместо воспитания дает одни только ласки… Ребенок же, тем более мальчуган, требует, извините, ремня для обуздания своей фантазии. Тогда из него вырастет полезный и разумный гражданин, член общества… — И, обнимая Костю за плечики, спрашивал нежно, как будто конфетку предлагал: — Ремешок повесим над кроватью, верно? И тогда будет у нас порядок, острастка будет, как положено в семье. Я и сам сирота, жил у отчима, зря обижать не буду. Но ребенок должен знать страх…
— Он мальчик хороший, умный, он будет слушаться, да, Костя? — торопливо спрашивала мать, стараясь улыбаться. — Зачем же вешать ремешок, срамиться перед соседями?
— А соседи что, на луне живут? — благодушно говорил Петр Филимонович. — В моей квартире одно бабье с детворой, вдовы… то одна, то другая просит сынишку постегать… Я уж отказываться стал, что я им, палач? Исполнитель? Распустили, а я стегай… Нет, я лучше возьмусь за одного, душу положу, а сделаю человеком… Своего-то я не поленюсь похлестать, укажу на его ошибки… Верно? — и ласково заглядывал Косте в глаза. А Нюсе, если стояла рядом, он клал руку на спину, где под прозрачной тканью кофточки, как на аккордеоне, выпукло выделялись пуговки. Мать, к удивлению Кости, густо вспыхивала.
Иногда гость говорил:
— Иди, Костя, погуляй, подумай, какой у нас будет конспект жизни…
— Только не припоздняйся… — тревожилась мать.
А однажды он прибежал с улицы, шмыгнул в дверь. Свет не был зажжен, и в темноте мать говорила тихо и печально, он не сразу понял кому:
— Боюсь, не буду я тебе соответствовать, Петя. Я бесхитростная, непрактичная, а ты человек серьезный. Может, лучше мне не связывать свою судьбу…
Костик в страхе слушал, как рассуждает Петр Филимонович.
— Да, хотелось бы найти женщину веселую, горячую, чтобы в руках у нее кипело, в глазенках огонь сверкал… Но сердцу не прикажешь, очень ты мне понравилась, Нюся. Однако я поставлю свои условия, — деловито произнес Петр Филимонович. — Если носки порванные — это я на первых лорах прощу, не в носках счастье, я себе и сам заштопаю. Но равнодушия к себе — это ни в коем случае. Меня надо встречать с улыбочкой, для этого я женюсь. Человек я самолюбивый…
— Изработанная я, издерганная, вспыльчивая… — не то жаловалась, не то оправдывалась Нюся. — С детских лет тружусь… — Она перешла на «вы». — Нет, уж лучше вы обдумайте, Петр Филимонович, обдумайте, тогда уж решайте…
— Ладно, я еще похожу, испытаю тебя…
— Что ж испытывать, я ведь не на службу нанимаюсь, — недовольно ответила Нюся.
А потом жаловалась на кухне тете Дуне:
— Хоть он и ваш знакомый, тетя Дуня, и с вашего производства, но какой-то старорежимный. Как нафталином пересыпанный, честное слово…
— Он и на войне воевал, — обиделась тетя Дуня, — и у нас в типографии не на последнем счету…
— Не знаю, — отозвалась Нюся. — Не знаю и не знаю… Что он за такой принц, чтобы испытывать меня… ну его…
И, веселея, Костик подслушивал дальше, как тетя Дуня говорила, поглаживая по шерстке своего ленивого жирного кота:
— Ледащие теперь бабы стали, как я погляжу… И-их, какие, мы-то смолоду были — огонь… А вы на книжках да на собраниях весь жар растеряли… Мужчину завлечь не умеете…
— Жар растеряли, а ум приобрели, — стала сердиться Нюся. Но все-таки попыталась объяснить: — Разве мне мужчина нужен? Мне хотелось, чтобы отец у Костика был, чтобы хозяин в доме был, человек… Тяжко все-таки одной, тетя Дуня. И поделиться не с кем…
Костя сказал после, когда пришли к себе в комнату:
— Мам, ты ее не слушай, тетю Дуню. Ты не глупее ее…
— С чего это мне глупее ее быть? — храбрилась Нюся. — Другое дело, что она хитрая, хитрее меня… я вот даже пособия на тебя не выхлопотала, не сумела… а ей каждый месяц за мужа носят…
Петр Филимонович исчез. Костя не мог нарадоваться. Обижался даже, что мать иногда плачет.
— Ну, чего ты плачешь об нем?
— Да не об нем я плачу, ну его, от своей глупости плачу.
Потом родился Витька. И Костя не сразу понял, что Петр Филимонович Витькин отец, а когда ребята во дворе объяснили, то очень испугался, как бы Петр Филимонович снова не заявился, воспользовавшись тем, что у него теперь есть свой сын. Но, к Костиному удовольствию, Петр Филимонович передал через тетю Дуню, что просит теперь на него не надеяться, надо было регистрироваться, когда он предлагал, а теперь — поздно…
Тетя Дуня не порицала Петра Филимоновича, но все же советовала Нюсе сходить к нему на производство и припугнуть.
— Да зачем он мне? — храбро сказала Нюся. — Где нас двое, там и третий прокормится — правда, Костик?
— Угу, — не очень-то понимая, о чем идет речь, подтвердил Костя.
И они довольно хорошо зажили втроем. В первые месяцы даже незаметно было, что прибавился еще один едок. Сосал да сосал себе мамкино молоко. Костик и гулять с ним ходил, и соску подавал, лишь бы только мамка не позвала на подмогу Петра Филимоновича. А потом, конечно, стало труднее. Мама во всем Витю оправдывала:
— Костик, он еще такой маленький, не сердись ты на него.
— Я-то не сержусь, только ты не думай, он ловкий. Хитрый.
— А ты ему пример показывай, учи его, он и не будет хитрым. Воспитанием всего можно добиться.
— Мам, только мы его стегать не будем, ладно? Все-таки жалко, мы его и так воспитаем…
И правда, Костик никогда не бил брата, не обижал. Но все посматривал с подозрением, особенно когда Витя ластился к матери, — не похож ли тот на своего отца, не лукавит ли. Одергивал:
— Говори просто, не мурлычь… Прямо говори…
Как общественный обвинитель выступила старая кладовщица тетя Надя, сутулая женщина с большой грудью и отечными ногами. Она долго и старательно читала по бумажке свою речь, осуждала поступок заведующей, призывала к честности и бдительности, но споткнулась, стала перекладывать листки, пока совсем их не перепутала. И тогда заговорила по-человечески, просто, хотя и не так складно:
— Конечно, мы ее жалеем, хотя и не оправдываем. Но и его, Валерку, не хвалим… Так пусть его лучше уберут от нас — нам работать с ним совершенно неинтересно… Отказываемся… А ведь как жаль Нюсю, — говорила она, — славная была и простая. Мы редко когда ее Анной Петровной звали, все больше Нюсей, по старой привычке. Вся ее жизнь на наших глазах шла. Только-только, можно сказать, на ноги стала. Разогнулась. Ведь без мужа, одна детей растила. А они мальчишки, сорванцы, на них все пылает… Ей на себя всегда не хватало. «Поверите, говорит, тетя Надя, впервые себе туфли модельные купила и чулки капрон». Только на свое горе начала она модничать… — И вдруг тетя Надя вошла в раж. — Я так понимаю равноправие! Это значит равные права у мужчин и у женщин, и ответ равный. А все-таки, выходит, права-то равные, а ответ не равный… Мужикам все привилегии, как и было, а слезы — бабам. Не годится так… Но не думай, Анна Петровна, — она строго посмотрела на Нюсю, — что я тебя оправдываю. И никто тебя не оправдывает…
Туфли!
Это верно, что у нее никогда не было модельных туфель. Откуда?
Это ведь так только говорится — много ли ребенку надо? Много ли, не много, а и хлеба белого, и молока, и масла надо купить для ребенка, а не маргарин. И конфетку ребенок просит, и флажок на Первое мая…
Конечно, это большая подмога, что дети ходили в детский сад, но ведь и вечером покормить надо, и в воскресенье, или объявят карантин — и держи тогда ребенка дома целую неделю, а то и две.
Потом пошла школа — учебники, форма, пеналы, карандаши.
Конечно, ни она, ни дети оборванными не ходили: все-таки она швея, иголкой владела, сама могла и сшить, и перелицевать, и починить. А как хотелось иногда самой одеться пошикарнее. Молодые девчонки в ателье диво как наряжались!
Конечно, им не приходилось себе ни в чем отказывать, еще и родители помогали. А Нюсе приходилось.
Зато нарадоваться не могла любой покупке: приемник ли приобрела вместо репродуктора, ватное одеяло или глубокие тарелки с цветочками.
Соседка, все та же тетя Дуня, не всегда одобряла, а Нюся стояла на своем:
— Должна я давать детям развитие? Они в детском садике привыкают к порядку, а я их из мисок буду кормить? Нет, тетя Дуня, я живу для них…
— Рано, рано обет на себя наложила, — говорила тетя Дуня. — Отвергла хорошего человека, а зря…
— Нехороший он, тетя Дуня…
— Он? Ну, жди, может, министр какой к тебе посватается. Ветер у тебя в голове. Вот что…
Немножко «ветра», конечно, было. Нюся охотно смеялась и играла с детьми, бегала с ними в кино на утренние дешевые сеансы и потом долго обсуждала с Костиком фильмы: Витя еще мало что понимал. А иногда, когда Витя рисовал картинки, она и себе брала листочек и малевала березку, дорогу, домик на опушке.
Из «Огонька» вырезала и повесила на стенке портреты. Сказала сыну:
— Как хочется, чтобы было красиво…
— У нас и так красиво, — мрачно отозвался Костя. — Чего еще надо…
— Глупенький… — Нюся смеялась. — Вот вырастешь, Костик, станешь инженером, тогда все будем покупать. Не пожалеешь для нас?
Всему она умела радоваться.
Премию получит — счастлива. Книжку интересную достанет — ночь не будет спать. Костика на школьном собрании похвалят — сама не своя от гордости. Только Костика хвалили редко: дерзкий… А Витю в детском садике хвалили часто, говорили: «Очень ласковый ребенок».
— Вот и ты бы, Костик, поласковее был с людьми, — советовала Нюся.
— Зачем это?
— А как же? Людей надо любить.
— Подлизываться я не стану.
— Глупенький, а кто тебе велит подлизываться? Разве я подлизываюсь?
Нет, они хорошо втроем жили, дружно. Нюся любила своих детей и гордилась ими. И в ателье любили и жалели Нюсиных ребят — она приводила их туда на елку или на праздничный вечер.
А одна мастерица, немолодая уже, подкрашенная, носившая, как стало модно, темные очки от солнца и янтарные бусы на худой поблекшей шее, призналась ей как-то, когда они, идя с работы, остановились, чтобы выпить на улице газировки:
— Говорят, мне хорошо. Зарабатываю. А в чем моя радость? Одна как перст. Площадь у меня маленькая, в подвале, а в первую очередь переселяют тех, кто с детьми. Вдвойне наказывают! Будь у меня ребенок, мне бы и в подвале солнце светило. А как на субботник ехать или на уборку в колхоз, так опять же: «Поезжай, Свиридова, мол, ты одна, без семьи…» А что мне, сладко, если я без семьи? Где взять мужа, мои женихи на войне остались…
— Трудно все-таки с детьми, — возразила Нюся, больше из деликатности. — Все им, о себе некогда подумать.
— Зато ты их видишь, деточек своих, а у меня что? Одинокие слезы? Нет, ты счастливая, Нюся…
— Это точно… — Нюся не стала спорить. Задумалась. — Только вы не поверите, все иногда мерещится, что будет и у меня что-то еще в жизни интересное… Чего только не перемечтаешь, пока сидишь над шитьем…
— Ты и так многого добилась, уже старшая по смене… начальник тебя отличает…
— Этого я не отрицаю, — гордо сказала Нюся. — На работе я очень стараюсь…
Когда дети чуть подросли, она смогла поступить на курсы при комбинате и училась там успешно. Хорошо училась. Учителя говорили: «У вас очень хорошая основа. Как это вы, Козлова, ухитрились не перезабыть то, что знали?» — «Все радио, — поясняла Нюся. — Слушаешь — и все узнаешь. А еще я читаю, в кино хожу». — «Да, искусство облагораживает». — «И как агитатор я над собой работаю — может, и это мне кругозор дает? Нас очень понятно и толково инструктируют…»
Когда ее назначили заведующей ателье, она ничуть не загордилась. Даже испугалась немного. Все-таки большая ответственность. Шить стали из добротных и дорогих материалов, клиенты пошли разборчивые, требовательные. И все только одно кричали: «Вкус! Вкус! Хороший вкус!» Она ходила на лекции в Дом моделей, чтобы узнать, что же это такое — «умение хорошо и со вкусом одеваться». И когда возвращалась домой, переполненная впечатлениями, и на кухне громко и возбужденно рассказывала жиличкам, какие намечаются фасоны на будущий сезон, женщины заискивающе просили: «Нюсь, а Нюсенька, выкройку не принесешь ли?» А тетя Дуня сказала ей однажды, как всегда держа на руках и милуя своего кота:
— Вот, Нюсенька, он, — она имела в виду Петра Филимоновича, — он думал, что ты к нему придешь, поклонишься, а надо было ему самому тебе поклониться. Встретила я его, совсем облысел.
— Неинтересный он мне вовсе, — сказала. Нюся. — И раньше был неинтересный, а теперь так уж вовсе…
— Да, ты совсем другая стала, смелая… — сказала тетя Дуня. И кот, выгнув спину, стал вытягивать лапы и щуриться, как будто тоже признавал, что Нюся стала смелая.
— Да, у меня теперь все по-другому пошло…
Нюся была очень довольна своей новой жизнью, очень дорожила ею.
Как-то она пришла к Леонтию Ивановичу на комбинат доложить о своей работе, рассказать, какие замечательные занавески повесила в ателье и цветы в вазонах всюду расставила. И только хотела перейти к главной цели своего прихода, попросить, чтоб дали больший выбор фурнитуры — разных там пряжек, пуговиц и крючков, как Леонтий Иванович, начальственно оглядев ее, не то посоветовал, не то приказал:
— Козлова, ты бы принарядилась сама, что ли… Все-таки марка, заказчики…
Нюся коротко ответила:
— Хорошо, я это учту…
И вот тогда-то справила она себе зеленый костюмчик, блузку, завилась, купила модельные туфли и шелковые чулки…
Всего этого, как понимала Нюся, суд не знал. Не мог знать. Суду было видно из документов, приобщенных к делу, что подсудимая растратила казенные деньги, посещая рестораны вместе со своим дружком. Была она старше своего кавалера, иными словами, содержала его. Случай, в общем, интереса для криминалистов не представляющий. Картина личной жизни Козловой была им ясна… Они-то думали, что эта женщина живет только для своего удовольствия. «А что они могут подумать другое? — считала Нюся. Ведь если бы они размышляли по-другому, то разве прибавили бы к ее мукам еще одну, невыносимую, разве вызвали бы на потеху публике, присутствующей в зале, свидетелем Валерика? А они постановили, учитывая общественное мнение и интересы рассматриваемого судебного дела, вызвать его и допросить. — Зачем это? — в отчаянии думала Нюся. — И Костик его увидит… Да и сам Валерик. Еще растеряется, бедный, станет брать вину на себя. Зачем это и к чему?..»
А ведь все началось с того дня, как по совету Леонтия Ивановича она пришла на работу завитая, в новом костюмчике, в туфлях на высоких каблуках.
Валерик, он уже несколько месяцев работал у них закройщиком, сразу же заметил:
— Анна Петровна, у вас сегодня праздник?
Валерик этот был ей очень симпатичен своей особой вежливостью. Никогда не приходил на работу выпивши или после пьянки, как это случалось с другими портными, был в меру приятно приветлив, не приставал к девчатам, не грубил заказчикам, не рассказывал анекдотов. Но никакой не сухарь, не молокосос — здоровый, рослый парень с косыми бачками, какие наклеивают себе артисты, когда поют в «Евгении Онегине».
Когда она приходила в ателье и видела Валерика, то сразу веселела, сама не понимая, что именно встреча с ним и является причиной ее отличного настроения. По долгу службы она часто подзывала Валерика к своему столу и обсуждала с ним принятые заказы, а если бывала долго занята с кем другим, то Валерик сам заглядывал к ней, обижался, что давно его не зовут.
Она как с ума сошла с этим Валериком.
— Хорошие у нас молодые кадры, — расхваливала Нюся Валерика. И его звали «любимчиком Анны Петровны», ничего не подозревая. И сама Нюся ничего не подозревала. Конечно, Валерик уже был не мальчик, а мужчина, но она внушала себе, что относится к нему как к мальчику.
И когда Валерик спросил, праздник ли у нее сегодня, ответила в шутку:
— Да, день рождения…
— Приглашайте на пирог…
Нюсе не хотелось звать Валерика домой, неловко было, что у нее такие большие парни. Она сказала:
— Хорошо, приглашаю тебя в ресторан.
Когда она произносила эти слова, то сама не думала, что всерьез. Сказала — и все. Но чем ближе было к концу смены, тем сильней ей хотелось действительно посидеть где-нибудь вдвоем с Валериком, узнать, есть ли у него девушка, понять его. Настроение у нее было замечательное, все хвалили ее костюм и прическу, удивлялись, она ли это, и ей стало казаться, что и правда сегодня праздник, особенный день…
И она сказала Валерику негромко:
— Я не шучу. Не знаю только, куда идти. И имей в виду, я пригласила, я плачу…
Они условились встретиться около ресторана «Заря».
Валерик пришел в темном костюме, с галстуком бабочкой.
Когда вошли в ресторан, она чуть не потеряла сознание от волнения. Но Валерик твердо, как мужчина, как кавалер, держал ее за локоть. Только спросил учтиво:
— Не угодно ли в дамскую комнату?
— Зачем? — не поняла Нюся.
— Ну, поправить волосы, попудриться…
— Нет, не надо…
Ей хотелось скорее дойти до столика, сесть, прийти в себя. Валерик выбрал место, отгороженное занавесками, как кабины для примерки в их ателье. Нюся села на плюшевый диванчик. Солнце еще не зашло, и в луче столбиком золотилась пыль. Нижняя половина стен уже тонула в сумерках. Свет был неверный, зыбкий, и все вместе взятое — углом составленные диванчики, скатерть с чуть заметным пятном от красного вина, рюмки и приборы, букет искусственных цветов — понравилось ей.
— Красиво, — сказала Нюся.
— Ничего, — согласился Валерик. — Но все-таки ресторан второго разряда. В «Арагви» или в «Метрополе», там в сто раз лучше…
Нюся засмеялась:
— Там не про наш карман…
Вошел официант, смахнул со стола, хотя на столе было чисто, и протянул меню.
— Выбирай, Валерик.
— Нет, нет, Анна Петровна, выбирайте первая, вы дама.
Перед ней мелькали названия, она не могла их ни прочесть толком, ни выговорить. Попалось только одно знакомое слово. Она ткнула пальцем:
— Вот это… По-деревенски…
— Бифштекс по-деревенски один, — записал официант. — Прикажете закуску? Селедочку, осетрину с хреном, салатик? Будете пить белое? Сухое вино? Нарзан?
Нюся засмеялась:
— Валерик, выпьешь? Я рюмочку белого, пожалуй, выпью… — И отдала ему меню: — Выбирай, выбирай, не стесняйся… Ты парень молодой, у тебя и аппетит должен быть хороший…
Все то же непривычное ощущение приподнятости, отчаянности не покидало ее, она все пыталась держать себя как взрослая женщина, которая привела знакомого парнишку в ресторан, чтобы покормить его. Но с каждой секундой положение менялось, менялись их отношения. Валерик, снимая с нее жакетку, надолго задержал свои руки на ее плечах, даже сказал:
— Прекрасная у вас фигура, Анна Петровна.
— Что ты, Валерик, какая там фигура. Когда-то была, это верно…
Но Валерик, смотрел на нее оценивающе, как будто мерку снимал.
— Этот ваш жакет прямой, а я бы вам сделал в талию. На вас все можно хорошо сшить…
— Что ж, завтра оформим заказ…
— Если бы мы жили в Древней Греции, греки сделали бы с вас статую и поставили в парке, чтобы все любовались на вашу фигуру.
Она захохотала:
— Ох заливаешь, Валерик, ох заливаешь. Смотри, узнаю, что ты заказчикам такое болтаешь…
Нюся выпила белого вина, но опьянела не от вина, а от счастья, раскраснелась, оживилась:
— Валерик, ты в кого-нибудь влюблен? Скажи. Разве мало у нас хороших девчонок! Вот Лена Трошина, например…
— Вы сами знаете, в кого я влюблен…
— В Тоню Кукушкину, да?
Вошел официант с подносом. Ловко все раздвинул, разобрал, расставил. Перед Нюсей оказалась большая тарелка с огромным куском жареного мяса, обложенного салатом и ломтиками румяного картофеля, поверх мяса золотисто переливался и шипел только что вынутый из масла лук.
— Не знала я, что в деревне такое готовят, — простодушно сказала Нюся.
— Разве что до коллективизации, — пошутил официант.
Но Нюся оборвала его:
— Кто честно работает, тому в колхозе хорошо…
Официант ушел, но перебитый им разговор уже не удалось возобновить. Не спрашивать же снова: «Ты в кого-нибудь влюблен?»
Запах мяса раздразнил ее аппетит. Она накинулась на еду.
Конечно, она довольно часто, почти ежедневно покупала мясо, но из экономии варила суп или щи, а если жарила котлеты, то клала в них побольше булки. Такого вкусного блюда ей никогда не приходилось пробовать. Валерик ел лениво.
— Ты что это? — сказала Нюся строго, как будто Костику или Вите. — Ты не ковыряйся, ешь…
— Я дома перекусил…
— Ты с мамашей живешь?
С огромным интересом Нюся узнавала все подробности из жизни Валерика, жадно расспрашивала про мать. Живут вдвоем с овдовевшей матерью, живут неплохо. В армии Валерик отслужил, но и там работал в пошивочных мастерских, не отрывался от профессии. Мать собирает деньги на ремонт дома, дом у них свой, в Измайлове, окна прямо в парк, лучше любой дачи… Нюся понимала, что деньги у Валерика водятся, заказчицы всегда совали закройщику пятерку-другую, чтобы лучше скроил, но, как заведующая, она не могла его об этом спрашивать. Деньги, «металл», как он говорил, Валерик отдавал матери, а мать уже от себя покупала ему костюмы и ботинки, недавно достала югославский плащ необыкновенной красоты.
— Вот женишься, — дрогнувшим голосом сказала Нюся, — пойдут нелады между женой и матерью…
— Я не женюсь…
Оказалось, что современные девушки Валерику не по душе — слишком свободно себя держат. Товарищей у него мало: школьные все разбрелись, кто в шоферы, кто в институте или на заводе, а один даже поехал на целину по собственному желанию. В портные никто не пошел.
— Ну, а среди наших разве нет достойных ребят?
— Меня интересует иной культурный уровень.
Нюся задумалась:
— Это неплохо, что тебя тянет к культуре…
Опустив подбородок на сложенные руки, она с упоением слушала, как Валерик проговаривает ей нараспев слова из разных песен. И все просила:
— Спой, спой еще.
А он гладил ей руки, гладил пальцы и не столько говорил, сколько намекал взглядами и вздохами, как она ему нравится.
— Что ты, Валерик? — невесело засмеялась Нюся. — Да ведь у меня дети.
И со стыдом подумала: «Поужинали ли мальчики, разогрели ли себе пшенную кашу?»
Когда официант принес вазу с фруктами, Валерик выбрал два румяных яблока и сказал деликатно:
— Возьмите для своих малышей…
И Нюся не стала поправлять его: мол, не малыши они; Костя, так тот совсем большой.
— А ты для своей мамаши возьми…
Какой это был замечательный вечер!
Они вышли из ресторана не очень поздно. Когда официант принес счет, Нюся не сразу поняла, что это за сумма. Она даже не знала, что можно столько заплатить за один ужин. Конечно, виду не подала и, когда Валерик неуверенно полез в карман, решительно отстранила его руку. Только рада была, что хватило, чтоб расплатиться.
Было тепло, почки на деревьях набухли, в киосках продавали нарциссы и увядшую фимозу, пахло весной. Луна, как огромный неразбитый желток, лежала на темном небе, на машинах горели красные огоньки. Валерик держал ее под руку. И напевал, напевал…
Когда она вошла в дом, дети спали. Костик оставил ей на столе кастрюлю с кашей и чистую тарелку. Она растрогалась, но сразу же забыла об этом, разделась в темноте и долго не могла уснуть. Вспоминала все, что говорил Валерик, и грустно улыбалась. А все-таки провела рукой по бедрам, по ногам — да, он правду говорил: не старая еще она…
И вот он стоит перед судом, Валерик. Стоит прямо, смотрит ясно, головы не клонит. На вопросы отвечает вежливо, внимательно слушает, прежде чем ответить.
Нюся с волнением всматривается в любимые черты. Похудел, бедный, побледнел. Она с трудом улавливает общий смысл того, что спрашивает суд, что говорит Валерик. А сердце у нее бьется тревожно и громко, все заглушая.
— Вы ходили по ресторанам с подсудимой?
— Почему не пойти, если приглашают? — поводит плечом Валерик. На нем темный костюм, знакомый Нюсе, а рубашка и галстук новые. И причесан он по-другому. Бачек нет, сбрил.
— Но обычно приглашает и платит мужчина.
И он тоже приглашал, в долгу не оставался. И платил. Вот счета, случайно завалялись в кармане пиджака.
Кругленький заседатель долго, с помощью Валерика, выяснял даты и названия ресторанов, потом, надев очки, посмотрел счета, кивнул головой:
— Факт. Вы не отрицаете, подсудимая?
Кровь прихлынула к лицу Нюси. Она дрожащей рукой взяла счет, тупо вгляделась. С кем же это он был, кому заказывал, как и она, бифштекс? Она хорошо знала, что не ходили никогда в такой ресторан, все их встречи наперечет помнила.
Она и сегодня сгорала в том же пламени, что зажглось, когда они в первый раз ужинали в «Заре». Вот так же любила его — рост, чуть заметную кривизну ног, уверенность в себе, деликатность. Она понимала, что Валерик стесняется взглянуть на нее, и сочувствовала ему и жалела его.
И страдала за него.
А все-таки думала: с кем же это он проводил время в ресторане? А она где же была в тот вечер? Никак не могла вспомнить. Может, он просто взял счета у товарища? А может… Было ведь как-то, что она ждала его, а он сказался больным. Обманул?
Дня она не могла прожить без него. Мучилась по воскресеньям, по праздникам: в эти дни ему нельзя было уйти из дому, не позволяла мать.
То они задерживались в ателье, чтобы перекинуться шуткой, ласковым словом, то целовались в кино, то стояли в обнимку в чужих парадных. Но ей этого было мало, и ему, она знала, тоже мало. Когда дети уехали в пионерский лагерь, Валерик ходил к ней почти каждый вечер. В квартире было пусто, все разъехались. Только мурлыкал и пугал их тети-Дунин кот, оставленный Нюсе на попечение. Валерик приходил, пили по-семейному чай и ужинали, но в одиннадцать он уходил домой, чтобы не ворчала мать… А ей хотелось, чтобы он остался до утра, заснул рядом с ней, как муж…
Однажды, когда его мамаша уехала к сестре, Нюся сама заночевала у Валерика в Измайлове, детям сказала, что в ателье срочный переучет.
У Валерика ей очень понравилось: домик чистенько прибран, обстановка богатая.
— А что, если мамаша вдруг вернется? — с кокетством спросила Нюся.
— Ну и что? Она ничего не скажет, если это надо для моего здоровья…
Нюся словно споткнулась:
— Что для твоего здоровья?
Валерик успокоил ее:
— Чтобы я не нервничал и не переживал…
— Может, тут прибраться у тебя? — спросила Нюся. — Может, тебе носки постирать? Или рубашку? Не стесняйся… — Так ей хотелось, чтобы было по-домашнему, так хотелось перетрогать все рубашки Валерика, уложить их по-своему.
Он был такой ласковый, такой жадный до ее любви, что Нюся на все была готова для Валерика. Бегала с ним как девчонка и на бокс и в театр. Иногда казалось, что она моложе Валерика — так радостно все воспринимала, всему удивлялась. Она даже не подозревала раньше, что существует так много развлечений, чем очень смешила своего кавалера.
— Ты какая-то несовременная, — удивлялся Валерик. — Ты где живешь? В отсталой провинции?
Нюся на эти насмешки не обижалась. Она вообще на Валерика никогда не обижалась, все делала, как он хотел. Покупала путевки на пароход, только бы провести с ним денек, в рестораны ходила, в кино, ни в чем ему не перечила, особенно когда почувствовала, что он стал охладевать. Ну, не охладевать, скажем, но он больше, чем она, остерегался, что их увидят знакомые, таился, старался бывать там, где сотрудников из их ателье не встретишь…
Теперь Нюсе всегда не хватало денег. Она стала пудриться, чтобы выглядеть моложе, сменила платочек на шляпку, приколола брошку. Дом она почти забросила, запустила и даже как-то в сердцах ударила Витю по руке, когда он разбил чашку, и крикнула:
— Объели вы меня, начисто объели!..
Костя посмотрел на нее хмуро, Витьке велел не реветь, а сам предложил:
— Мам, у нас многие ребята уходят работать…
Нюся опомнилась:
— Что ты, Костик? К чему это? А учеба?
— А учеба вечером…
— Нет, сынок, это я так сказала, не обращай внимания… извини меня…
Костя посмотрел на нее исподлобья. Она опустила глаза. И даже зажмурилась: как будто на краю пропасти стояла и боялась сорваться.
А все-таки она была счастлива: смеялась, пела, часто просила Витю:
— Сынка, прочти стишок про природу, про колокольчики, цветики степные. Это и мы учили когда-то… — и качала головой. — Красиво, ох как красиво…
— Чего ж ты тогда плачешь? — как-то спросил Костик.
— Когда?
— Ночью плакала, я слышал…
— Может, со сна…
Разговаривать, откровенничать с Костей, как делала когда-то, Нюся теперь избегала — боялась выдать себя. А он чуял что-то неблагополучное, следил за ней, даже иногда ждал на улице, смотрел, с кем идет.
— Ты что, Костик, не спишь? — удивлялась мать.
— А ты что так поздно?
— На работе была…
— Не было тебя там, я ходил… Во всех окнах темно…
— Что ты, Костик. Я на складе сидела, там глухая дверь.
Она понимала, что надо обрывать отношения с Валериком, но сделать этого не могла. Все крепче и крепче любила его. Даже пошутила как-то:
— И что ты такой молодой, Валерик? Будь ты постарше, я бы охотно пошла за тебя замуж…
Валерик захохотал.
— Ты что смеешься? — рассердилась Нюся.
— Просто так…
Она не настаивала, знала, что Валерик легко пойдет на ссору. И чтобы замять, сгладить разговор, предложила:
— Пойдем в парк культуры, пива выпьем…
— Ну что ж… — нехотя соглашался Валерик.
— А может, на концерт пойдем?
— Нет, лучше в парк.
Нюся давно уже запуталась в денежных делах, истратила подотчетные суммы, надеяться ей было не на что, она ждала чуда — может, выиграет по займу, но выиграла всего один раз, и то двадцать рублей. Пустяк по сравнению с тем, сколько ей нужно было, чтобы выпутаться.
Она думала о своей беде денно и нощно, все замечали, как она похудела, а Костик не раз будил ее ночью, говорил, что кричит и плачет во сне.
Один Валерик ничего не хотел замечать…
Она так измучилась, извелась, что даже рада была, когда пришла ревизия. Какой-никакой, а все-таки конец…
— Как же понять ваше поведение? Что это было с вашей стороны? Любовь? Увлечение? Корысть?
Голос судьи звучал враждебно.
Валерик очень обиделся.
— Таким низким я себя не считаю, — сказал он. — А любовь? Вы же сами понимаете, товарищи судьи, настоящей любви тут не могло быть, увлечение… все-таки, все-таки… — Он мельком, бегло взглянул на скамью подсудимых, где, съежившись, сидела Нюся. — Все-таки мне только двадцать семь… а она… Одним словом, все это уже увядшие цветы… а я собираюсь жениться и создать прочную семью…
— Ах, подлец! — громко сказала в зале тетя Надя. — Ах, шкура!..
Судьиха постучала карандашом о графин.
Когда суд удалился на совещание, Нюся сидела одна в почти пустой, тускло окрашенной комнате, на жесткой деревянной скамье. Она бессильно свесила руки. Стыд, боль, отчаяние, ревность и снова стыд с такой силой жгли ее, что казалось, все выгорит в душе, останутся только уголь и пепел… Перед ее глазами мелькали ресторанные счета, припасенные Валериком для того, чтобы выгородить себя, оправдать.
Нюся вспомнила, как шли они с Валериком по улице и она, смеясь, рассказала, что ребята просят к празднику мяч. Он оживился: ну да, ну да, надо купить. Вот смотри, какие в витрине мячи, размером с большущую голову, голубовато-синие, как морская волна. Давай покупай, не скупись.
— Что ты! — засмеялась Нюся. — Это же для маленьких, для девочек. А им нужен футбольный, голы забивать…
Валерик захохотал. И сказал: ну, ладно, он совсем упустил, что ребята такие большие, но у него дома есть первоклассный мяч, желтый, с кожаной шнуровкой, почти без царапин. Он принесет, подарит…
И Нюся обрадовалась: какой он добрый!
Но так и не подарил. Все говорил, что разыщет и принесет, и не принес…
Он вообще часто обещал и не делал. Сам возмущался: «Что у меня за короткая память? Надо витамин «C» принимать, что ли?»
А вот про-счета из ресторанов не забыл. Захватил с собой, когда шел в суд.
Нюся снова видела безвольную жалкую улыбку Валерика, вспомнила готовность, с которой он предал ее, высмеял их отношения. И все ужасное, что с ней произошло, — то, что она брала из кассы деньги и не могла их выплатить, то, что запустила отчетность и теперь сама уже не знала, в чем виновата, а в чем не виновата, не знала, какие ошибки допустила по халатности, а какие сознательно, — все соединилось для нее в одном этом названии из ресторанного счета «бифштекс по-деревен.». Слова эти, как молоточки, стучали у нее в мозгу. Их не могла заглушить тихая музыка, шуршавшая в репродукторе, как шуршит ветерок в осенней листве.
В комнате около стола сидели милиционер и защитник. Защитника Нюся не нанимала, не хотела зря переводить деньги, защитник был от суда. И Нюсе казалось, что он уже не интересуется приговором — так спешно просматривал, то и дело моргая и протирая пенсне, следующее дело, которое должны были разбирать после Нюсиного.
Стали передавать «Последние известия», дневной выпуск. Все трое стали прислушиваться. По радио говорили про сельское хозяйство. Выступил председатель колхоза, рассказал, какие у них успехи, сколько вырастили гусей и уток.
— Может, и ребятам моим не так тяжко без меня придется, — вдруг громко сказала Нюся.
Защитник не понял, кому она это говорит, поднял глаза и снова опустил их в бумаги. А милиционер, сидевший у стола и подтягивающий голенища сапог, отозвался сердито:
— Хорошая мать о детях раньше бы подумала…
— И не знала я, что такое получится… чтоб так себя уронить… — стала оправдываться Нюся. — Так хотелось праздника… — И залилась слезами. — Обездолила я ребят, обездолила…
Милиционер только и сказал:
— Ну и народ вы, бабы, одно название, что народ… сами же нарушаете…
И опять занялся своими сапогами. Он то сгибал в колене правую ногу и вытягивал левую, то снова любовался правым носком. Сапоги и правда были хорошо сшиты.
Защитник кончил читать, снял очки, громко щелкнул портфелем, пряча документы и справки. И оба они, защитник с милиционером, не обращая внимания на Нюсю, словно она была сделана из того же куска дерева, что и скамейка, на которой сидела, стали рассуждать: мол, еще не известно, как отнесется суд, усмотрит ли злой умысел. А может, учреждение возьмет на поруки. Милиционер возразил, что на поруки вряд ли, кампания брать на поруки уже прошла. Если государство будет каждого оправдывать или отдавать на поруки, так все растащат.
Защитник нахмурил брови.
— Данный случай, при желании, можно трактовать как служебную халатность, — заметил он. И сказал, что вообще, по его долголетним наблюдениям, женщины гораздо больше придают значения любви, чем мужчины…
— Что верно, то верно… — почти согласился милиционер. — А все-таки голову терять нельзя.
В дверях показался Костик, принес батон. Он молча сел рядом с матерью.
— Ты с тетей Дуней не ссорься, сынок, человек она невредный. Она вам и сготовит и постирает. Я просила…
— Да проживем мы, не бойся. Я на работу устроюсь.
— Куда это?
— На завод.
— Ну и правильно. В торговлю не иди, не надо…
— А я и не пойду…
Нюся хотела объяснить ему, что надо быть настоящим человеком, настоящим мужчиной, но не могла найти подходящих слов. Только посоветовала:
— Ты подстригись, эти космы не запускай, как теперь модно…
Милиционер не стерпел, строго сказал Косте:
— Шел бы ты, малый, в зал, не полагается тут…
— Иди, Костик, раз нельзя. Ты помни, Костик, поласковее будь… люби людей, братика не обижай…
В комнате стало тихо. Защитник ушел в буфет, милиционер тоже соскучился, захотел поглядеть, что делается в коридоре. Нюся осталась совсем одна. Она ждала, когда же ее позовут в зал. Но судьи не выходили, видимо, спорили, какой вынести приговор.
Она отломила кусок батона, оставленного Костей, и стала медленно есть.
ЧЕТЫРЕ КОФТОЧКИ Рассказ
Я даже нахожу своеобразную прелесть в этой старой гостинице, называвшейся когда-то подворьем, с ее темными, затхлыми коридорами, неожиданными ступеньками и тупичками, с плохо прикрытыми дверьми, за которыми, убирая, громко переговариваются по-татарски и гремят ведрами уборщицы в темных платках. Официально они именуются горничными.
В номере стоят четыре кровати. На спинках четырех стульев висят четыре вязаные кофточки. По цвету кофточек, как войдешь, сразу можно узнать, сменились ли жильцы. Они все время меняются. Только вот в последние сутки никто не уезжает и не приезжает…
Я этому особенно рада, потому что ушибла ногу и отсиживаюсь в номере. И у меня появилось нечто вроде иллюзии, будто мы какой-то небольшой коллектив, родня, мне говорят, кто куда ушел и когда вернется, показывают покупки, поручают, что кому ответить. Я на роли не то диспетчера, не то одинокой общительной старухи-бабки в коммунальной квартире.
Уже изучены все шумы, весь распорядок жизни в гостинице, я различаю звуки и голоса. Закончился семинар прокуроров, вчера прокуроры «гуляли», сегодня разъезжаются по домам. А вместо них приехали на инструктаж по патентоведению изобретатели, теперь они хлопают дверьми, грохочут чемоданами, громко спрашивают, где душ. Как прибой на берег, накатываются по утрам на порог нашей комнаты бурные волны гостиничной жизни. Слышно, как отпирают буфет, гремят ящиками с кефиром. Потом наступает тишина: все разошлись, разбежались. Днем в ресторане начинает играть джаз…
А ведь было столько волнений!
Я взяла с собой в поездку срочную работу, надеясь на длинные, свободные от командировочных дел вечера. А досталось мне место в гостинице в общем номере. Какая уж там работа!.. И так с возрастом все труднее становится засыпать под чужой крышей. Шорохи кажутся нестерпимым грохотом, треск пружин — горным обвалом. Все немило, все неудобно!.. А тут четыре чужие женщины в одной комнате! Есть от чего прийти в уныние…
Я попыталась объяснить это директору гостиницы, когда приехала, но директор едва скользнул по мне равнодушным взглядом. Я постояла немного у огромного письменного стола с его холодной, как ледяное поле катка, поверхностью и ушла. Не стала уж очень унижаться. И вот живу, привыкла, освоилась…
Итак, нас четверо в номере, не считая радио и телефона. Радио и телефон живут своей самостоятельной жизнью. Радио поет, читает лекции, оповещает о погоде. Телефон вдруг звонит, и чей-то вкрадчивый голос спрашивает:
— Девушка, а вам не скучно?
— Кто это? Вам кого?..
— А мне одному скучно…
Я отвечаю вежливо, учительница из райцентра — резко и непримиримо, Марина Алексеевна из Горького, финансовый работник, — назидательно:
— И вам не стыдно, аморальный вы тип!..
Если же трубку берет наша прекрасная Лариса, телефонный разговор тут же превращается в поединок. Серые ее глаза начинают блестеть, ноздри вздрагивают.
— Какой нахал! — говорит она, досыта наругавшись. И швыряет на рычаг трубку.
Наступает покой. И потом вдруг через час, через два опять бодро звучит:
— Девушка, а вам не скучно?
За окном капает, капли ударяются о крышу какой-то низенькой пристройки во дворе, по покатому настилу ходит голубь и одним глазом косит на нашу комнату. Потом сумерки сгущаются, темнеет, а когда зажигается фонарь, тускло освещающий угол унылого двора с глубокими, черными провалами в рыхлом от капели снегу, голубь исчезает, уходит ночевать.
В декабре день короткий. Еще только шестой час, впереди длинный вечер, потом еще более длинная ночь. Как скучно! Я опять смотрю на стены, на кровати, на спинки стульев, где висят кофточки. У меня и учительницы — темно-зеленые, у Марины Алексеевны — серая, а у Ларисы — розовая, пушистая, с начесом.
Лариса озабоченно смотрит в зеркало на свои брови, а примостившаяся около нее худенькая, совсем еще юная Галка, пришедшая с визитом из другого номера, говорит очень серьезно:
— Я намерена еще укоротить свои юбки. Я тебя, Лариса, совершенно не понимаю. У тебя дивные вещи, но длина…
— Я против крайностей, — чуть свысока отзывается Лариса. И смотрит на нас, ища поддержки.
Зеленая кофточка, учительница, молчит, а серая, финансовый работник, говорит твердо:
— Нынешние фасоны выше колен мне определенно не нравятся…
И я соглашаюсь.
— Юбки еще куда ни шло. А платья… как будто сняли с младшей сестры и надели на старшую…
Галка захлебывается от возмущения:
— Это же создает прекрасный силуэт… — Она отворачивается к Ларисе: — Ну, Лариса, пойдем пройдемся, а вдруг…
— Никого мы не встретим…
Лариса сегодня плохо настроена. С утра она уходила, потом вернулась мрачная, вызвала по телефону Ленинград и пожаловалась своему начальнику, что какой-то Петрищев уехал в Москву в министерство, а без него никто ничего по их вопросу решить не может. Возвращаться домой несолоно хлебавши или ждать Петрищева? «Ждать? Ой, я домой хочу! Ну, тогда шлите деньги, я без копейки…» А мне Лариса призналась, что присмотрела себе шерсть на платье.
— Такая неудачная поездка! — пожаловалась она. — Понадеялись на мое умение, а тут народ тертый…
Половину дня она пролежала на кровати, читала, вздыхала, отказывалась идти обедать и, только получив внизу в почтовом отделении телеграфный денежный перевод, немного воспрянула духом, сбегала в блинную поесть и даже пригласила к себе Галку.
И теперь Галка канючит:
— Ты эгоистка, как все замужние. Вы не сочувствуете…
— Не надо было ссориться…
— А что, с самого начала признать, что со мной можно не считаться? Так, что ли? Спасибо…
— Но раз ты влюблена…
— В том-то и дело, что я к нему больше ничего на чувствую…
— Тогда и печалиться не о чем. Брось!..
— Я же его три года ждала. «Брось!» Такими мальчиками не бросаются. Конечно, умная женщина ссориться бы не стала, — печалится Галка.
— То-то и оно, птенчик ты еще!..
Мы невольно прислушиваемся. Галка спрашивает скороговоркой, с завистью. Глаза ее, как у куклы, смотрят на Ларису не мигая:
— Но ты, Лариса, ты, конечно, счастлива? Ты мужа безумно любишь, да?
— У меня другой подход, — лениво говорит Лариса, адресуясь скорее к нам, чем к Галке. Ей как-то неловко держаться с ней наравне. — Я материалистка. Жизнь свою я устроила неплохо, у нас квартира…
— А вдруг он обиделся и порвал со мной навсегда? — почти плачет Галка.
Лариса хохочет. Галка смахивает крошечные, как бисеринки, слезинки и тоже начинает смеяться — над собой. Они объясняют нам наконец, что случилось. Галка три года переписывалась с «мальчиком», который был в армии. Приехала сюда в командировку и вдруг — вы только представьте себе! — встретила на главной улице своего Сашу. Он демобилизовался и по пути домой заехал навестить двоюродную сестру. Вчера Галка целый вечер ждала его звонка, но он так и не позвонил, а сегодня она не пожелала слушать его объяснения и даже нарочно ушла из своего номера к Ларисе. А теперь дико переживает. Во-первых, Саша очень переменился за эти три года, и она даже не понимает, нравится ли он ей, во-вторых, она все равно не может от него отказаться вот просто так, раз они целых три года переписывались, а в-третьих… Галка этого не говорит, но и так видно: ей ужасно хочется, чтобы ее любили, чтобы добивались ее любви…
А тут еще беспощадная Лариса:
— Будь у него характер, он бы просто сюда пришел…
— Да, да, — покорно соглашается Галка. — Я не должна за ним бегать, у меня должно быть самолюбие…
— Парень, может, стесняется, отвык от гражданки, а его обухом по голове, — вмешивается Марина Алексеевна.
Галка и с ней солидарна:
— Верно, верно, надо быть чуткой!
Тогда они спрашивают у меня:
— А как вы думаете?
Я отвечаю, замечая, как иронически усмехается учительница, слушая мои слова:
— Главное — это искренность… Надо поступать как чувствуешь…
Лариса все-таки уступает. Сбрасывает халатик, натягивает чулки на свои шоколадные ноги, надевает сапоги.
— Глупенькие еще, ветреные, — вслед им говорит Марина Алексеевна. — Ну что они знают о жизни… — И достает из шкафа чайник, собираясь идти за кипятком.
В каждом номере есть такой блестящий металлический чайник и маленький фаянсовый, кипяток можно взять в титане, пачку чая для заварки мы купили еще вчера. У учительницы есть конфеты.
Сколько лет Марине Алексеевне, с первого взгляда не определишь. Может, мало, да жизнь укатала, может, и много… Она очень деятельна, энергична, оживленна, ни на что не жалуется. По утрам за ней заходит их главный инженер, степенный, аккуратный человек, и они отправляются на предприятие, куда приехали, — кажется, это стройка. Приходит она в сумерки, немножко отдыхает, как сегодня, и снова уходит. Жизнь в гостинице ей нравится, похоже, что она стряхнула с себя домашние, будничные заботы, и это ее веселит и молодит. Мне она дала вчера поручение: если позвонит с периферии бухгалтер Дуся, наказать строго-настрого скорее везти отчетность, сказать: «Это же, Дуся, в ваших интересах, мы поможем вам разобраться. Не приедете — пеняйте на себя…» Дело в том, что Дуся недавно вышла замуж и молодой муж никак не разрешает ей ехать. «Комедия!» — решительно осудила его Марина Алексеевна.
Она приносит кипяток, заваривает чай и деловито поглядывает на часы:
— Ужинать я буду сегодня в ресторане, вот как… Договорились с главным инженером… такой культурный человек, у него многому можно поучиться! Какое отношение к людям!..
Мы пьем чай с конфетами. И опять обсуждаем Ларису с Галкой.
— Ну, та хоть постарше, посолиднее, а эту пичужку, ну что ее посылать в командировку, что она понимает! — недовольна Марина Алексеевна.
Учительница не соглашается:
— Даже мои старшеклассники — это уже вполне взрослые, мыслящие люди…
— Я не обвиняю огульно, я ценю молодые кадры, — задумчиво прихлебывает чай Марина Алексеевна. — Но мы не бережем командировочные, это факт, ведь это все равно что отправить в командировку моего Мишку, тот же самый результат…
Учительница с интересом расспрашивает, какие у Марины Алексеевны дети: старшему уже шестнадцать, Мишеньке одиннадцать, ребята серьезные, неизбалованные, а все-таки беспокойно, что они одни. Вся надежда на соседку: она женщина неплохая, хороший товарищ, за детьми всегда приглядит, накормит их…
— Купили подарки? — спрашиваю я.
Марина Алексеевна отрицательно машет головой и прищелкивает языком.
— Ох, мои финансы поют романсы! — смеется она. — Но полкило конфет возьму… А что еще брать? Они у меня всем необходимым обеспечены…
— Лучше всего книги, — советует учительница. — Лично я предпочитаю, чтобы мне дарили книги…
— Книги ребята в библиотеке берут, — поясняет Марина Алексеевна. И, боясь, чтобы мы не сочли ее плохой матерью, оправдывается: — Трудно мне, ой как трудно!.. Ращу ведь их без отца…
Она ждет нашего вопроса, и нам приходится спросить, что с отцом: умер, разошлись?
— Я ведь его посадила…
На мгновение мы замолкаем, и в тишине слышно, как за открытой форточкой все еще срываются, ударяясь о крышу пристройки, струйки талой воды.
— Что за погода: и не зима, и не осень, — говорит учительница, повернувшись к форточке.
Марина Алексеевна отходит к своей кровати, присаживается. Вынув из сумки носовой платочек, тщательно то складывает его, приглаживая пальцем линии сгиба, то расправляет:
— Был человек как человек, лет шесть жили нормально, потом зазнался, завоображал, совсем потерял себя, спился…
— Ужасное несчастье, но все-таки… — вырвалось у учительницы. — Неужели вы не могли найти к нему подход?
— Нет, не могла. А ведь у меня есть опыт работы с людьми. Я ведь и председателем месткома была и вот теперь в инспекции. А от родного человека ничего не смогла добиться… И плакала, и просила, и ссорилась… Тоже ведь неохота в синяках ходить, правда? Вы думаете, я так сразу решилась? Думаете, легко решиться было на такой позор? — скорбно спрашивает она. — Уж как я страдала!.. Идешь с работы усталая, тащишь сумки с продуктами, придешь, а он пьяный, грязный. Маленького он, правда, не трогал, а уж нас со старшим!.. Все будто бы ревновал меня, не ревновал, понятно, а распалял себя, распускал свою фантазию… Всю ночь скандалит, утром мне снова на работу. Это же каторга была! Старший мальчик домой боялся приходить, такое у нас с ним условие выработалось: пока отец не заснул, я дверь не отворяю. Он уж знает: если на звонок не отворяю, значит, нельзя. Потом выйду его искать — или на чердаке около отопления сидит, или в парадном. И вдруг говорит: «Мам, я его убью!» Я ему: «Что ты, свою жизнь загубишь, лучше я сама на него управу найду!» Муж мне и угрожал, и в драку лез. Только у соседей и укрывалась…
— И что же он?.. Что же теперь?.. — спрашивает в страхе учительница.
Звонит телефон. Марина Алексеевна вскакивает.
— Гражданин, постыдились бы!.. — Она бросает трубку. — Вот так и мой муженек думал: если женщина самостоятельная, то у нее одни романы на уме… Попробовал бы в женской шкуре побыть: сготовить надо, обстираться надо! На работе тоже не хочется хуже людей быть, за троих ворочаешь… — Она опять присела на кровать. — Подошел день суда, а он весь пропился, стал у соседки три рубля взаймы просить: мол, если заберут сразу после суда, так он хоть папирос купит. Я уж ей шепнула: «Дайте ему, я верну…» А он опять пошел в магазин, взял пол-литра, в суд пришел окончательно пьяный…
— А вам не жалко его было? — все-таки не выдерживает учительница.
— Ничуть. Если он себя не пожалел, семьи нашей не пожалел, то почему я его должна жалеть? У нас теперь тишина, нормальная жизнь. Вы представляете, я с суда вернулась, плачу, а мальчик спрашивает: «Ну что?!» — «Дали папке три года». А он, ребенок, как закричит: «Ой, как хорошо!» Разве я могу это забыть? Материально, конечно, труднее. Муж на это и бил, — с горячностью говорит она, — он на это и рассчитывал. Мол, зачем она будет меня сажать, это же ей невыгодно. А что значит невыгодно, если надо спасать детей…
— И что же дальше будет? — спрашиваю я. — Он ведь вернется…
— В том-то и дело, что вернется. То писал: знать тебя не желаю. Теперь пишет: мол, вернусь, вам будет полегче… — Она задумалась. — Ну, легче уже не будет, не нужен он мне!.. Но закон на его стороне: раз был прописан, значит, имеет право вернуться… — Она подошла, налила себе остывшего чаю и залпом, как водку, выпила. — Девчонки, что они понимают? Они, кроме поцелуев, и знать ничего не хотят… Мол, любовь… а любовь эта вот как может обернуться… — Она стала собирать папочку с бумагами, попудрилась. — Говорю ребятам, что отцу скоро срок, — молчат. Ни «за», ни «против» не высказываются. Что у них на душе, не знаю…
Звонит телефон, и, видно, все тот же скучающий командированный опять настаивает, что тут живет его знакомая Валя.
— Такой нет, вы ошиблись, — уверяет учительница.
Но он не отстает, все спрашивает:
— А вас как зовут?
— А что, — сказала потом учительница, — может, это и неплохо… Позвонить наудачу, вдруг откликнется настоящий человек… — Я неуверенно помотала головой. — Но я так не умею, — посмеялась сама над собой учительница, — поэтому и хожу в старых девах, как выражается моя мама… И вот от мужа отказаться не могла бы, как она… — Она метнула взгляд на кровать, на стул, где висела серая кофточка. — Может, она и правда ему изменяла?
— Не похоже, — не согласилась я.
— Сколько же она хлебнула горя, ой-ой-ой! — сказала учительница. — Вот так подумаешь и радуешься иногда, что одна… меньше разочарований… Но завидую такому твердому характеру: я пропала бы, погибла, а такой твердости проявить бы не смогла…
— Да, это завидная твердость…
На шкафу тихонько мурлыкало радио. Учительница прошлась по комнате, внимательно посмотрела в окно, как будто что-то могло измениться в этом захламленном, зажатом строениями дворе, выросли там вдруг деревья, что ли… И прибавила звук.
В номере загремела музыка. В концертном зале консерватории выступала польская пианистка. Учительница, оказывается, очень хотела пойти послушать ее, но не смогла достать билет. А она так стремилась в этот новый, почти сплошь состоящий из стекла прямоугольник филармонии, что недавно выстроили на главной площади города.
— Я уже привыкла, что праздничное всегда почему-то проходит мимо меня, — сказала учительница со вздохом, — привыкла, вроде примирилась, а все-таки… Надо было сразу же мчаться за билетами, но я добросовестно зашла сначала в облоно, потом в коллектор за книгами, и, когда рабочий день кончился, билеты расхватали…
Она стояла у шкафа, аккуратненькая, стройная, молодцеватая в своих сапожках и темном костюмчике, подняв лицо к динамику, а я почему-то вспоминала свои веселые студенческие годы, молодость и думала, что, вероятно, у этой учительницы и раньше не было поклонников, кавалеров, как это называется, и теперь нет. Слишком она организованная, что ли, слишком серьезная? Нет, не то. Чего-то в ней недостает… Нету в ней кокетства? Огонька? Изюминки? Сережек, как у Ларисы?
Тут влетела разрумянившаяся на ветру Лариса, которой бог дал все: и глубокие, выразительные глаза, и крутой лоб, и сильные красивые ноги.
— Ну как Галка? Встретила своего солдатика?
— Представьте, встретила. Ничего мальчик, славненький, симпатичный.
— Помирились?
— Я не вникала. — Лариса презрительно поводит плечами. — У меня заказана Москва, не вызывали еще? Мы взяли билеты в кино, они ждут меня внизу, объясняются…
Лариса задумчива, она садится около телефона, погруженная в свои размышления, подперев лицо руками.
— Вы думаете, она его любит? Это у нее серьезно? — спрашивает учительница.
— Кто? Кого? — Лариса вздрагивает. И смеется: — Все это еще детское, и он еще совсем мальчик, неустроенный. Представляете, потерял в поезде шапку… — Она говорит о своем: — Я думаю, что метр восемьдесят мне достаточно на прямое платье. На метр восемьдесят мне хватит денег, чудное будет платье к Новому году…
Я спрашиваю:
— А рукава какие? Длинные?
Учительница демонстративно молчит. И тут снова подает свой голос телефон.
Лариса берет трубку.
— Девушка, девушка, у меня Москва заказана, очень вас прошу. Да, да! Бабуля, ты? Это Лариса. Бабуля, как твое здоровье? Я на днях буду проезжать, я заеду! Бабуля!.. — Она воркует, ластится к бабушке, как маленькая девочка. И потом горделиво рассказывает, какая у нее боевая бабушка, была много лет председателем колхоза, теперь, состарившись, переехала к младшему сыну, а сын на дипломатической работе, он с семьей за границей, и бабушка совсем одна…
Тут Лариса спохватывается, что пора идти. У нее снова скучающее лицо: всем своим видом Лариса показывает, как трудно ей снисходить до этой смешной Галки с ее солдатом. Она поправляет вязаную шапочку перед зеркалом и уходит. Только говорит нам:
— Терпеть не могу ездить в командировки. Скучно. Хотя однажды мне повезло, подписалась на Паустовского, мне высылают наложенным платежом. У нас в Ленинграде разве подпишешься?
Учительница снова включает радио, но в концертном зале, видимо, объявлен антракт, как раз стихает лавина аплодисментов.
— Когда я жила в деревне, мне районный центр казался большим городом, теперь я переехала в район, увидела, что все равно глушь. Сюда приедешь — тут и театры и музей, а уж Москва или Ленинград — об этом только мечтать можно!..
Что-то она размякла сегодня, моя соседка. Обычно она не участвует в нашей болтовне, отмалчивается, роется в своем портфельчике, сверяется со своим списком, что еще надо сделать. Там у нее перечень книг, нот для пения, пластинок, учебных пособий, которые надо достать. А сегодня, я это точно ощущаю, хочет пооткровенничать. Я помогаю, как умею: спрашиваю, расспрашиваю.
Она ведет русский язык и литературу. Счастлива ли она? Пожалуй, да, счастлива. Точнее, удовлетворена. Конечно, бывают минуты упадка, почти отчаяния: это когда в личном разговоре с ребятами копнешь поглубже и вдруг покажется, что семена, так щедро посеянные тобой, не проросли, лежат где-то на поверхности.
— Тут ведь нужно терпение и терпение, — поясняет она. — И нельзя торопиться с выводами… Зато бывают минуты, когда ощущаешь, что живешь не зря…
Раз в год, а то и дважды она возит своих ребят в путешествия.
— А средства?
— Ох, тут помогают все — и родители, и шефы, и ребята зарабатывают… Едем в бесплацкартных вагонах, считаем, как крохоборы, каждую копейку… ночуем в школах, списываемся заранее…
Учительница оживляется, смеется, вспоминает, как всю ночь в качающемся вагоне по дороге в Болдино читали пушкинские стихи. А в Москве, в Третьяковке…
— Я ведь, знаете, по совести вам скажу, много лет никак не могла уйти от передвижников. А они, мои дети, все новое восприняли сразу как естественное… Это меня поразило. Я не люблю громких фраз, не терплю. А тут, может, самая прекрасная минута была в моей жизни… Наш самый отпетый мальчик, в каждом классе бывает такой балагур, что всем мешает… Родительский комитет даже был против, чтобы он ехал, и я немножко побаивалась, что наплачусь с ним… И вдруг я вижу, как он весь побелел и прислонился к стене — так был ошеломлен тем, что увидел… Знаете, такая минута дорогого стоит!.. — Она разгорелась, глаза заблестели. Подсела ближе ко мне, оживилась. Даже руку положила мне на колено. — Конечно, поездки — это праздник, но до них ведь целая зима труда: долбежки, повторения, одно и то же, одно и то же. Выходишь иногда из школы с такой головной болью, что свет не мил… Конечно, вспоминать наши поездки легко, но это ведь ужас, когда едешь с ребятами: пересадки ночью, билеты, автобусы. В райком партии обращаешься, к начальнику станции, даже в милицию. Ну, что правда, то правда: нам всегда помогают. Трясешься ночью в вагоне и думаешь про учеников: хоть кусочек красоты в их душах должен остаться, правда?
Мы снова послушали музыку. И снова учительница потосковала, что не попала в концертный зал, — совсем другое дело слушать музыку там, видеть руки пианиста, ощущать, что рядом сидят и слушают другие. По радио, пластинки — это все не то. Но даже по радио ей не удалось дослушать. Пришла Марина Алексеевна, чтобы оставить пальто, вымыть руки, поправить волосы перед ужином.
— И как это можно? — Она не смогла не поделиться с нами. — Начальник строительства, с виду положительный, солидный человек, анкета прекрасная, а такие допустил безобразия… Буквально для «Крокодила» материал. Мы говорим бухгалтеру: «Дуся, вы едете с нами в Москву, везете всю документацию, он ведь вас запутает в свои злоупотребления…» А муж ее — как приехали вместе, так и сидит, дурак, около нее в конторе: «Нет, нет, ни в какую, я не могу ее отпустить одну!..» И смех и грех! Я говорю: ладно, возьму к себе твою Дусю, под свое крыло, у меня квартира позволяет… — И вдруг всплеснула руками: — Неужели кончится мое приволье?.. Вот могу пригласить к себе человека, не боясь скандалов…
Я сказала:
— Может, ваш муж исправился, понял, что жить так, как он, нельзя…
— Не верю я в его исправление…
Приход Марины Алексеевны что-то нарушил в нашем настроении, что-то разбил. Мы все-таки слишком мало впали друг друга, чтобы вслух, без оглядки высказывать свое суждение: ведь в этой комнате с ее духотой, скрипучими кроватями, столом, на котором стояли графин с тепловатой водой, телефон и тяжелая, некрасивая лампа с цветным абажуром, нас свела чистая случайность. Обеим нам — и мне и учительнице — стало отчего-то тяжело, мы не стали выяснять, отчего. Учительница взялась за книгу, я — за журнал с новой пьесой Веры Пановой. И пьеса, как нарочно, называлась «Верность».
Это удивило и учительницу, когда она спросила, что я читаю.
— Гм, верность!.. — пробормотала она.
— Да, жизнь действительно сложная штука… — отозвалась я. На бо́льшую высоту философской мысли мне подняться не удалось.
Потом пришла Лариса, очень молчаливая, задумчивая, намазала на ночь лицо кремом, надела пижаму — коротенькие, как трусики, темные штанишки, пеструю длинную курточку — и тоже улеглась читать.
И снова зашуршали страницы, пока не вернулась после ужина Марина Алексеевна.
— Выходит, что я позже всех, — сказала она виновато.
— Еще не поздно, — не сразу ответила я.
— Очень долго не подавали… — Она как будто оправдывалась.
Мне было видно, как она пытливо смотрит то на меня, то на погруженную в чтение учительницу. На Ларису она не обращала внимания. И вдруг она сказала:
— Я понимаю, что вы меня осуждаете: вы думаете, мой муж за решеткой и ел на ужин какую-то баланду, а она, мол, ушла в ресторан…
Я вздохнула, стараясь этим выразить хоть немного сочувствия, но вздох мой прозвучал вяло.
— Нет, я чувствую, вы осуждаете. А вы меня спросили, беру ли я в столовой хоть когда-нибудь компот или кисель на третье? Нет, не беру. А уж в ресторане я и не была никогда, мне не по карману… Только вот тут, в командировке, и пошла, так хотелось посидеть в приятной компании, джаз послушать, посмеяться… — Она как будто боялась, что наступит тягостное молчание, и говорила, говорила.
Сердце мое дрогнуло.
— Мы и не думали вас осуждать. Да и по какому, собственно говоря, праву…
— Ну, меня все женщины во дворе осуждают. Сначала сами научали: «Не терпи, не терпи, обратись в милицию…» А теперь, как иду по двору, так слышу шепот: «Мужа своего посадила…» — Она всхлипнула. — Я первые ночи без него не знала, куда деваться… себе места не находила. Как погляжу, что его подушка пустая, так плачу… Это уж со временем я более принципиальная стала…
— Если вы поступили так, как вам казалось правильным, то и стойте на своем, — сказала я. — И нечего вам расстраиваться…
— Это верно. — Марина Алексеевна села и уронила руки с большими, некрасивыми пальцами. — Если бы не дети, — все-таки сказала она, — я бы, может, и терпела. Только из-за детей, их спасая… А теперь, как заговорю про отца, а они молчат, у меня сердце сжимается — неужели ж они его теперь больше, чем меня, жалеют!..
Кажется, мы все испытали чувство облегчения, когда звякнул телефон и зарокотал знакомый дурашливый голос:
— Можно Валю?
— Вы ошиблись, у нас такой нет…
Лариса вырвала у меня из рук трубку:
— Никого здесь нет, понятно? И не звоните…
Марина Алексеевна как будто опомнилась, разделась, отвернулась к стене.
— Вы читайте, мне свет не мешает, — сказала она. И чтобы показать, как она спокойна, вспомнила: — Лариса, а Лариса, девочка эта, твоя подруга, помирилась со своим парнем?..
— Помирилась. Вполне. — Лариса почему-то рассердилась. — Но только какая же она мне подруга, мы только здесь познакомились…
— Ну и что, ходите ведь вместе…
Учительница отбросила книгу, встала, опять уставилась в окно, как в темную воду. Что она видела в этой темной воде?
Я сказала негромко:
— Хоть бы окна были на улицу, — так хотелось поглядеть на город, так стремилась сюда, и надо же — сидеть в гостинице… и даже окна выходят в какой-то мрачный тупик…
Учительница подошла ближе:
— Когда я впервые сюда приехала, то испытывала священный трепет перед всеми памятными местами. Здесь учились Толстой, Лобачевский, Ленин. Бродила по университетскому двору и воображала: вот здесь они ходили, в этих аудиториях бывали. Фантастично, правда? Потом стала сама на себя злиться за свою восторженность. Ну и что? Они-то гении, а ты все равно песчинка…
Я стала протестовать, но она не дала мне говорить:
— Только прошу вас, не объясняйте мне то, что я сама знаю… Нет маленьких людей, каждый на своем месте, пусть только работает в полную меру своих сил… Вы это хотели мне сказать?
Я пожала плечами:
— И это и не совсем это… — И спросила: — Что с вами случилось сегодня? Хорошее или плохое?
Она задумалась.
— И не хорошее и не плохое. Просто встретила одного человека, очень уверенного в себе, очень благополучного. Неглупого, правда, даже способного. И эта встреча пробудила воспоминания… Нас было две подруги, он ухаживал за мной, я его отвергла, и позже он женился на ней. Очень хвастал сегодня ее успехами. — Она усмехнулась. — И своими, понятно…
— И вы пожалели… — Я не договорила.
— Не то чтобы пожалела, он мне не нравился и теперь не понравился бы, хотя я теперь не так придирчиво, что ли, отношусь к людям, как тогда… Но я острее почувствовала однообразие своего существования. Каждый день одно и то же, и ничего со мной уже не может случиться неожиданного… Начинаю уставать без радостей… — Она оглянулась, не слушают ли нас. Я испытываю неловкость из-за своего имени — родители назвали меня Эра, то есть эпоха революции. Представляете, каково носить такое имя? Они надеялись, что я буду бойцом, а я всего-навсего учительница русского языка и литературы…
— Не так уж мало…
Она возразила:
— Но и не так уж много… — И опять заслонилась ладонями. — И пожалуйста, не утешайте меня, я вполне довольна своей судьбой…
На пороге возникла Галка.
Она стояла потрясенная, блаженно улыбаясь, в своем дешевеньком модном коротком, выше коленок, пальто, в сбившемся шарфе. На милом личике отражалась сумятица чувств: страха, нежности, волнения, горделивости.
— Ты сошла с ума, в такой час!.. — накинулась на нее Лариса.
Она откликнулась механически, не понимая смысла слов:
— Да, я сошла с ума…
Галка больше не казалась ни смешной, ни забавной, и мы все, несмотря на разные характеры, на разный возраст, поняли, что сама любовь прошествовала сейчас по обмерзшим тротуарам, беспрепятственно прошла в двери гостиницы мимо швейцара, строго окликающего всех посетителей, особенно женского пола, проскользнула мимо несимпатичной, неулыбчивой, обмотанной шалью дежурной на нашем этаже, свернула от закрытого на большой висячий замок буфета, быстро пробежала по неширокому коридору и по скрипучим ступенькам поднялась в наш тупичок. Теперь она стояла в нашем номере у порога. И нам было не до шуток, не до смешков. Даже Марина Алексеевна перестала делать вид, что спит, села на кровати.
— Он говорит, что любит, — почему-то жалобно сказала Галка, — хочет, чтобы мы поженились…
— Он же неустроенный! — крикнула Лариса.
Но Марина Алексеевна неожиданно взяла сторону Галки:
— Ну и что? Галина работает, он, как демобилизованный, сразу же хорошо устроится, учиться будет…
— Ой, я даже не знаю! — все так же жалобно сказала Галка, но глаза ее сияли. И вся она была преображенная, как будто даже не такая щупленькая, не такой несмышленыш, как несколько часов назад.
— Вот так история! — насмешливо сказала Лариса. — Что же это: большая любовь?
Галка ответила надменно:
— А ты считаешь, что я не могу внушить большую любовь?
Она вскоре ушла к себе, а мы вчетвером еще долго, с азартом, перебивая одна другую, волнуясь, обсуждали, будет ли счастлива Галка и возможно ли быть счастливой в браке, заключенном столь поспешно и несерьезно, и вообще попытались понять, когда и отчего человек бывает счастлив. Мы были так озабочены, что когда зазвонил телефон, то вопрос, не скучно ли нам, прозвучал столь нелепо, что Лариса даже не стала отвечать, а тихо-тихо опустила трубку, как будто это был не настоящий аппарат, а игрушечный, елочный, хрупкий.
И вдруг сказала:
— А может, так и надо: не рассчитывать, не прикидывать, а бросаться очертя голову!.. Мне всегда мешала моя… — она хотела сказать «красота», но постеснялась, — моя наружность. Боялась продешевить…
Когда мы уже улеглись, умолкли, остыли, мне стало немного смешно. Я-то чего так горячилась? Но мне не спалось, и я продолжала думать о своих соседках. Как это, правда, странно: вот нас четверо и пятая Галка, встретились мы случайно и потом разъедемся в разные стороны, а пока откровенничаем, исповедуемся. Хорошо это или плохо? От одиночества эти разговоры по душам с чужими людьми или от общительности, которую вырабатывает весь уклад нашей жизни?..
Кто знает…
Хоть электричество и было погашено, комната довольно ярко освещалась: сбоку, со двора, падал косой луч от фонаря, через стекло в двери ударял мне прямо в глаза свет из коридора.
Я стала тихонько ворочаться на своей кровати, пряча глаза, но пружины так заскрипели, что я замерла, боясь разбудить остальных.
Что еще мне оставалось делать, как не фантазировать? Я придумала всем хорошие судьбы — Галке с ее мальчиком-солдатом, Марине Алексеевне с ее раскаявшимся мужем. Я выдала Эру замуж за научного работника, который приедет в их район собирать материал для докторской диссертации и заведет с ней жгучий роман с ревностью, длинными письмами и объяснениями. Он разбудит в Эре чувство юмора, легкость, кокетство… Я не сразу нашла, чего недостает прекрасной Ларисе, потом решила, что ребенка. Даже двух…
О своей командировке, о том, как я теперь наверстаю упущенные дни, о работе, о своих бумагах, так и не вынутых из чемодана, я старалась вспоминать поменьше.
А крепкий сон все не приходил. Я уже подарила отличную домашнюю библиотеку бухгалтеру Дусе с ее глупым мужем, приохотила их к чтению, и в середине ночи очередь дошла до директора гостиницы. Я и его наделила счастьем, он исправился, изменился. Я представила себе, как он вдруг тихонько, на цыпочках, входит — тихий, учтивый… Тут я, видимо, задремала, потому что стало светать, отчетливо вырисовывались наши кровати, спинки стульев с висящими на них кофточками, окно; уже вылез на крышу пристройки голубь, стал отряхиваться, расправлять крылья, ворковать, стонать, а я, все еще сонная, не знала, не могла решить, как же мне откликнуться на уговоры директора перейти в отдельный номер, где можно без помехи работать…
МАША Рассказ
Еще за неделю неизвестно было, как сложится: кто придет, кто откажется от приглашения. Да что там за неделю, еще накануне, в пятницу, было много неясного. Ведь все явления жизни сцеплены между собой. Одно дело, если будет Богданов, совсем другое — если он не приедет. А согласится приехать Богданов, то и другие приглашенные прибегут, как говорится, живые или мертвые. Всем хочется с ним повидаться. Но не всех тогда можно позвать. Даже Елена Дмитриевна это хорошо понимала. И не удивлялась. Кто она и кто Богданов? Земля и небо. Она так и сказала Нине, главной устроительнице вечера.
— Конечно, Нина, я понимаю. Кто он и кто я? Но, с другой стороны, я его не касаюсь, а он не касается меня. И время теперь другое, и политика…
— Политика-то другая, и никакой вы теперь не враждебный элемент, но вдруг ему будет неприятно…
— А может, мне будет неприятно, — воинственно вскинула голову Елена Дмитриевна, и ее желтые, как у птицы, чуть хищные глаза загорелись гневом. — У меня больше оснований помнить прошлое…
И Нина, понимая свою зависимость — одной, без Елены Дмитриевны, ей никак не управиться со столом и с пирогами, — воскликнула:
— О боже, я сама еще ничего не знаю…
Как раз тогда вошло не то в моду, не то в традицию устраивать вечера воспоминаний, встречи однополчан, выпускников школ или институтов, даже просто земляков. Поколение двадцатых годов как бы хотело заглянуть в свое прошлое, прикоснуться к истокам, к началу начал, поразмышлять о своей судьбе, о судьбе страны. Хотя для некоторых, вероятно, такие встречи были просто идеей, подсказанной газетами.
И у Нины возникла мысль устроить вечеринку, собрать всех уроженцев их сибирского городка, осевших в Москве. Все они учились когда-то в одной школе, хотя и в разных классах, многие были комсомольцами или просто посещали комсомольский клуб. Он размещался тогда в особняке с белыми колоннами, принадлежавшем до революции отцу Елены Дмитриевны, директору банка. Старший брат Миши Богданова, бывшего в ту пору еще совсем мальчиком, вожак городских комсомольцев Сергей как раз и явился с ордером освобождать этот дом для клуба. Дом и тогда уже мало напоминал тот роскошный, с тяжелыми креслами, весь в кадках с цветами особняк, где родилась и провела веселое детство Елена Дмитриевна: кресла давно уже вывезли в райисполком, цветы замерзли, когда из-за нехватки дров перестали отапливать парадные комнаты, а на стенах темнели пятна и висели клочья сорванных обоев — тут стояли на постое колчаковские солдаты. Но все-таки это был дом. Лена, как звали тогда Елену Дмитриевну, сверкая медово-янтарными глазами, раскидывая в стороны тонкие, цепкие руки, синея от негодования, закричала и на Сергея Богданова и на маленького Мишу, стоявшего поодаль:
— Сережа! Мишка, скажи ему… Не смейте, это папин дом… это наше… Сережа, я не буду разговаривать с вами, вы слышите, только посмейте!..
Но он посмел.
Семья переселилась во флигель, в доме стали собираться комсомольцы, и Лена, изнемогая от любопытства и интереса, вертелась с независимым видом под окнами клуба, как будто просто гуляла во дворе, и даже подпевала, когда там пели комсомольские песни. А голос у Лены был прекрасный. И когда однажды руководитель хорового кружка, перегнувшись через подоконник, позвал ее: «Заходи, девочка, просим», — она зашла. И стала петь в кружке. И перетащила для клубной библиотеки все приложения к журналу «Нива», полное собрание сочинений Пушкина, Фета и Ростана. И быстро стала осваиваться и привыкать, пока Сергей Богданов не сказал ей строго:
— Эй, Лена, тут тебе не место. Больше сюда не ходи…
— Ну и не надо… — дрожащими губами ответила Лена.
Назло ему Лена устраивала спевки у себя дома, во флигеле, где было пианино и ноты — старинные романсы. Девочки и мальчики из младших классов, та же Нина, тот же Миша Богданов, с охотой ходили к ней попеть и поболтать, но, когда Сергей узнал про это, он тут же запретил ей «брать под свое влияние подростков, еще не охваченных комсомолом».
Лена была уже сиротой в то время и служила курьером, школу посещала нерегулярно, только в свободное от службы время. Так и являлась на уроки с разносной книгой и сумкой. Она училась плохо, дерзила учителям, всех высмеивала, сплетничала, так как знала все, что делается в их городе: ведь носилась по целым дням с бумажками из учреждения в учреждение, стуча деревянными подметками. Она озлобилась, ни во что больше не верила — ни в бога, ни в черта, ни в добрые чувства, ни в справедливость. То, что еще оставалось от имущества родителей, растащили родственники, раньше чем девочка поняла, что отныне она может полагаться только на себя. В родном городе ей не было ходу, все знали, чья она дочь, и слишком хорошо помнили нрав ее отца, и как только Лене сровнялось семнадцать, она уехала из городка. Но никогда не переставала тосковать по родным местам. Поэтому и к землякам ее тянуло, даже через много лет. И она очень волновалась, не зная, сможет ли присутствовать, гадая, позовет ли ее Нина. Все-таки это Нина решила устроить вечеринку. Да и какая она Нина! Это только близкие знакомые зовут ее по старой памяти Ниной, а на работе она уже давно не Нина и даже не Нина Павловна, а товарищ Свиридова. В учреждении, где она работает, не принят фамильярный тон, тем более что Нина стояла на довольно высокой ступеньке служебной лестницы, той самой лестницы, где уж совсем высоко, на самом верху, находился Миша Богданов. Вот он, иногда, очень редко, сталкиваясь с ней в коридоре или в лифте, называл ее по имени:
— Ну как поживаешь, Нина? Замуж не вышла?
Раньше она отвечала кокетливо, с нарочитой грубоватостью:
— Нашел дуру, жди… Очень надо…
Потом в ее ответе уже звучала легкая грусть:
— Где уж, теперь поздно…
Но их встречи были такими редкими, что Богданов уже не помнил, замужем ли она, а вежливо осведомлялся:
— Как семья? В порядке?
Не решаясь долго его задерживать, счастливая его вниманием, тронутая его простотой, она говорила кратко:
— Спасибо, живу одна…
И вот теперь ей пришло в голову пригласить на вечеринку Богданова. Он несколько растерялся, но потом даже обрадовался. Искренне обрадовался.
— А что? Это идея. Повидать своих ребят… — И подмигнул, как весело подмигивал когда-то, потом вопросительно взглянул на своего секретаря: не скажет ли тот, что как раз на это число и час назначено совещание. Но секретарь молчал.
— Сделаем сибирские пельмени, — сказала-Нина.
— Да ну?
— Пироги с черемухой, шаньги, все по-сибирски. То, что вы… что ты любил когда-то…
Богданов снова неуверенно глянул на секретаря.
— Это, надо полагать, складчина? — И нерешительно, непривычно полез в карман за деньгами. — Черт, денег-то с собой не взял…
Секретарь стал доставать бумажник, но Нина поспешно сказала:
— А у нас, как при полном коммунизме, без денег. Я получила посылку из Сибири…
Ей показалось неудобным брать с Богданова пай.
Однако возможное присутствие Богданова на вечеринке все очень удорожало и осложняло. И водку уже надо было покупать «Столичную», а не простую, и закуску делать подороже. Елена Дмитриевна, которую Нина попросила помочь, сказала, что шампанское надо покупать обязательно. Она три раза в неделю ходила хозяйничать к одной актрисе и точно знала, когда, как и что положено.
— Телятину купим на рынке, огурчики ты достань в вашем буфете, а крабы я беру на себя…
— Колбаски надо, сыру…
— Ну кто же теперь угощает колбасой? — фыркнула, торжествуя, Елена Дмитриевна. — Нужны салаты, что-нибудь домашнее, пикантное… Нет, Нина, ты уж положись на меня…
— А все-таки вы сохранили свои старые замашки, — колюче, хотя и со смешком, сказала Нина, задетая тем, что Елена Дмитриевна учит ее, Свиридову, как надо принимать гостей.
— От всяких замашек я отучилась, положим, давно и не без помощи богдановского братца. — Елена Дмитриевна вдруг спохватилась: — Да что теперь про это вспоминать, смешно, — было сто лет назад. Ты ведь не будешь отрицать, что уровень жизни в последние годы очень повысился… — Ей так хотелось быть на этой вечеринке! — Миша Богданов давно забыл о моем существовании. Небось и не узнает, ведь он намного моложе меня…
— Боюсь я вашего языка, Елена Дмитриевна, вдруг еще ляпнете что-нибудь, — покачала головой Нина. — Даже меня, — а я вам столько добра делаю, — вы норовите подкусить…
— Да я совсем безвредная, необразованная старуха, — смиренно сказала Елена Дмитриевна. Но Нина усмехнулась:
— Не такая уж безвредная…
Елена Дмитриевна, как будто не расслышав, пропустила упрек мимо ушей. Заговорила, залопотала о салате, о приемах, какие задает ее привередливая актриса, особенно когда приезжают из-за границы театральные деятели. Актриса постоянно зовет на помощь Елену Дмитриевну, чтобы угостить их настоящим русским обедом.
— И вы идете?
— Еще бы! Выпью коньячку, икры налопаюсь. И еще заработаю. О, я каждому рублику рада… Не беспокойся, я и тебе устрою стол лучше, чем в любом ресторане.
Но Нина все же беспокоилась.
Жила она одиноко, скучно, гости бывали редко, и то, что теперь соберется сразу так много людей, само по себе уже являлось событием. Ей было приятно, что она сможет постелить ту большую скатерть, что лежала без употребления много лет, поставить сервиз, который годами не вынимается из серванта, и хорошенькие рюмочки, купленные в Чехословакии, где она лечилась на курорте, тоже пойдут в дело. Но предстоящие хлопоты все же немного пугали. Она представляла себе, как зальют красным вином скатерть, разобьют хрусталь или испачкают паркет. А все же приятно было думать, что тихая ее квартира огласится голосами. Может, даже потанцуют под радиолу, которой ее премировали на Восьмое марта. Она позвонила Розе — та работала в оперетте администратором — и попросила захватить с собой пластинки повеселее.
— Фокстроты или что там теперь танцуют… У меня только народное и революционные песни. Есть что-то Чайковского, но кто же в такой вечер будет слушать классику?
— Пластинки принесу что надо. Он что́, приедет с женой?
— Сомневаюсь, — сказала Нина, не уверенная в том, что и сам Богданов сдержит слово. — Только, Роза, имей в виду, не разводи никакой модерняги…
— Ну с кем ты имеешь дело? С идиоткой?
— В ваших кругах это принято…
— Мы что же, не читаем газет? Вы так полагаете, товарищ Свиридова?
— Не дурачься, Роза. И умоляю тебя, не кокетничай с ним, не забывайся…
— Я бы с удовольствием забылась, — вздохнула Роза. — Но никто не захочет забываться с такой старой, замордованной лошадью. Ты слышала анекдот…
— Ох, я уже не рада, что взялась, — перебила Нина. — Мне легче было бы подготовить профсоюзный пленум, чем такое мероприятие… Все должно быть на очень высоком уровне… Так я на тебя надеюсь…
Да, на Розу она, в общем, надеялась, Роза не подведет, да и никто не привык принимать всерьез то, что может брякнуть легкомысленная Роза. Но остальные? Как будут держать себя остальные? Она опять и опять взвешивала, кого можно позвать. Не полезли бы с критиканством или, еще того хуже, с подхалимством. Богданов терпеть этого не может. Она мысленно перебирала всех, кого позвала, — нет, вроде никто не подведет. Вот разве только жены… Но вряд ли… Пожалуй, Богданову действительно будет приятно — соберутся инженеры, заслуженная учительница, экономисты, партийные работники. Все люди с дипломами, башковитые. Нет, за друзей их молодости краснеть не придется. Более удачливые, менее удачливые, но все же люди как люди…
Как-то так вышло, что Нина больше, чем кто-либо другой, сохранила прежние связи, была душой землячества, средоточием всех отношений между старыми знакомыми. Виделись, правда, не часто, но всегда они поздравляли ее с праздниками — с Первым мая, с Октябрем, с Восьмым марта и с Новым годом. И она писала им к праздникам открытки, звонила, а то и ходила на дни рождения. И подарки носила. Все-таки она была одинока, ее не так отвлекали заботы о семье, как других. И материально она была обеспечена. И оклад приличный, и, главное, работала в системе, где свои дома отдыха, и поликлиника, и буфет, и стол заказов, и первоклассные ателье. Знакомые нередко обхаживали Нину: тот просил путевку, другому надо было сшить что-нибудь…
Она терпеть этого не могла, и если уступала просьбам, то весьма неохотно.
— Я против всякого блата, мне это претит, — огорчалась она.
Чаще других умела ее уговорить Роза:
— А, Ниночка, не будь такой принципиальной…
— Мне? Не быть принципиальной?
И все-таки она уступала. Зато когда Нина что-нибудь шила себе, Роза ходила с ней на примерки. И помогала выбирать материал, так как считалось, что у Розы есть вкус, поскольку она работает в театре. И вообще с годами Нина сделалась уступчивее и добрее, «стала человеком», как выражалась Роза.
Так она и Елену Дмитриевну стала допускать к себе в дом, а раньше и слышать об этом не хотела. Правда, и теперь называла ее на «вы», на дружеское «ты» никак не переходила, объясняя это тем, что Елена Дмитриевна намного старше ее. Но у Елены Дмитриевны было другое объяснение.
— Просто хочет этим показать, что гусь свинье не товарищ, — говорила Елена Дмитриевна. — Но этим она ничего не добьется. Я не гусь и уж подавно не свинья. Такой же советский человек, как и она… И доказала это в войну. Я Нину помню еще сопливой девочкой, и мне наплевать, что она работает инструктором. Мое кредо такое — важно не то, кто любит меня, а кого люблю я…
И все-таки Елена Дмитриевна не знала, будет она допущена к столу или только поможет все устроить и удалится домой. И Нина еще этого не решила, хотя прекрасно понимала, что для Елены Дмитриевны присутствие на такой вечеринке будет как бы кульминацией, высшей точкой всей ее жизни — вот, мол, несмотря ни на что, она не пропала, выжила, прожила свою жизнь не хуже, чем другие, и присутствует среди земляков как равная, на равных началах.
Нет, пока еще Нине было не до Елены Дмитриевны, не это ее тревожило. Ей бы только знать наверняка, будет ли Богданов, и если будет, то какой возьмет тон — вот что хотелось угадать. И сумеют ли остальные, не фальшивя, подхватить, поддержать взятый Богдановым тон? Больше всего она беспокоилась за Костю Семинского, горячего, несдержанного, вечно ищущего проблем и склонного к ненужным обобщениям. Но не звать Костю она не могла, ей самой хотелось увидеть его, блеснуть перед ним. Володю Кузнецова она уже прямо предупредила, чтобы он ничего не клянчил для своего завода, не то она уши ему оторвет. Роза обещала не кокетничать, не «хохмить» и не рассказывать анекдоты про армянское радио. Учительница Лида дала клятвенное обещание не читать лекций по педагогике и не упоминать фамилию Макаренко больше чем три раза за весь вечер, а Шурка обещала не жаловаться на свою невестку.
В общем, каждому Нина по телефону сказала, что ей легче подготовить профсоюзный пленум, чем такое сборище. И все смеялись над этой шуткой. И самой Нине ее шутка так понравилась, что каждому гостю, когда он пришел, она повторила ее еще раз, и все еще раз сообща посмеялись.
Как бы там ни было, но все оказались растроганы и довольны, хвалили Нину за ее благородную инициативу. И если в первую секунду у каждого слегка щемило сердце при виде располневших, тронутых сединой и морщинами товарищей молодости, то через минуту эта боль потонула в гаме, шуме и восклицаниях.
— Ребята, товарищи, — говорила почти со слезами раскрасневшаяся Нина, — а ведь мы все неплохо выглядим, а? Вы мне определенно нравитесь. Не зря, нет, не зря прожили мы с вами жизнь…
— Почему прожили? Я только начинаю жить, — «хохмила» Роза.
Все стоя хватили по рюмочке вина, которое принес с собой Володя Кузнецов, и стали кричать, перебивая друг друга, всем стало весело, поуспокоились даже жены, несколько скованно чувствующие себя, так как женская часть землячества большей частью состояла из одиночек — вдов, разведенных или вовсе не выходивших замуж, как Нина.
— Ребята, споем? — кричала Роза.
— Рано еще…
— Ой, рыжий, у тебя лысина…
— Обман зрения. Лысины нет…
— А кто бывал в родной Сибири в последние годы?
— Я. В командировке…
— Валька, ты кто — кандидат?
— Бери выше — доктор.
— На арбитраж, директор, не надейся. Не поможет…
— Не пугай, не страшно.
— Ребята, споем?
— Рано…
— Шура, сынок еще не женился? Уже? А внуки?
— Лучше моей внучки на свете нет, вы не думайте, что я пристрастна…
— Ребята, я рада, что мы не растеряли свой молодой, комсомольский задор! — кричала Нина.
На какие-то мгновения все даже забыли, что ждут Богданова, так расчувствовались. И Нина, когда Елена Дмитриевна, скромно улыбаясь, показалась на пороге, великодушно сказала:
— Ребята, может быть, вы помните, это тоже наша сибирячка, Елена Дмитриевна. Елена Дмитриевна, расскажите им про свою артистку…
И Елена Дмитриевна, не заставляя себя упрашивать, смешно и метко изобразила, как она беседует по телефону со своей актрисой. И похвалилась, что та, вернувшись из-за рубежа, с гастролей, привезла ей в подарок вот эту парижскую кофточку.
Кофточку с интересом пощупали, похвалили шерсть, цвет и особенно металлические пуговицы.
— Вот какая она у нас модница, — сказала Нина совсем мягко, как бы желая этой мягкостью снять все прошлые обиды.
Она любовалась столом, своими гостями, комнатой, ставшей сразу нарядной и уютной. И ей казалось в эту минуту, что она всем вполне довольна в жизни, что жизнь ее прекрасна и наполнена до краев и так же, как тридцать лет назад, ее переполняет чувство радостного ожидания. Она как бы стряхнула с себя тот налет деловитой настороженности, какой наложили на нее время и ответственная работа, сбросила скорлупу официальности, за которую ее побаивались на службе, и стала прежней Ниной, пусть не особенно умной, но чуткой, доброжелательной и приветливой. Директор завода Володя Кузнецов, «рыжий с лысиной», тоже стряхнул с себя усталость и озабоченность и требовал шахматную доску, чтобы сразиться с Костей Семинским.
— Бюрократ, ты же разучился играть, — отвечал ему Костя. — Играет каждый за себя, а ты привык опираться на коллектив, на треугольник…
— Все-таки я в треугольнике не самый тупой угол. — Володя отшучивался, нес милую чепуху, которая была понятна только им, друзьям молодости, и совсем не смешна и не понятна вежливо улыбающимся женам и молчаливому пенсионеру с бородкой, мужу учительницы Лиды.
— Дорогие мои девочки, — отчетливо, как будто она рассчитывала, что слушатели будут конспектировать ее слова, говорила Лида, — дорогие девочки, я безумно рада тому, что мы встретились.
И толстые «девочки», принаряженные, завитые, в отличных вязаных костюмах джерси с белой полоской, точно таких, какой носила первая женщина-космонавт Терешкова, сбившись в кучку, не слушая друг друга, болтали:
— Роза, ты помнишь нашу березовую рощу?..
— Интересно, почему Костя пришел без жены? Нина, это ты так устроила?
— Мама моя давно умерла…
— Был прекрасный мальчик, способный физик, комсомолец. Но попал в руки какой-то Петровой, даже имя ее произносить не хочу…
— Да, у меня есть друг, а что — жить одной лучше?
— Я верна памяти мужа…
— Как это не пьет, — пьет…
— Нет, нет, нет!..
— Не нет, а да…
— У тебя прекрасная комната, Нина.
— Нина, что я вижу? Новый сервант? Польский?
— Представь, наш, отечественный…
— Смотри, как научились делать…
Жена Володи Кузнецова поспешно вставила:
— Вы думаете, мы не умеем? Мы все умеем. Вот у нас на швейной фабрике: если бы нам давали хорошую фурнитуру, пуговицы например…
И вдруг Костя Семинский посмотрел на часы:
— Видимо, Богданов не придет…
— Он хотел прийти, — грустно спохватилась Нина, — но, ребята, ведь это же очень занятой человек!
— Что же, мы не понимаем, что ли! — Володя Кузнецов сделал серьезное лицо.
Одна из жен заметила, разочарованная:
— Ради такого случая можно бы отложить дела…
— Не все можно откладывать, есть же и дела государственной важности, — чуть сухо остановила ее Нина. — Ну, товарищи, прошу за стол.
— Но первый тост мы все-таки провозгласим за нашу гордость, за нашего Мишу Богданова, — предложила Роза, — хоть он и не приехал…
И все-таки Богданов приехал.
Приехал, когда его уже никто не ждал, когда все разгорячились и стремительный Костя Семинский в азарте спора смахнул-таки локтем со стола хрустальную рюмку, а неловкий муж Лиды уронил на новый пиджак промасленный пирожок, за что получил нагоняй от жены; когда уже спели «По долинам и по взгорьям» и Роза, охотно показывая свои еще стройные ноги, хотела научить всех танцевать шейк.
— Безумие, — сказала Лида, — мои старшеклассники изуродовали пол в актовом зале этим самым шейком…
— Вы разрешаете им танцевать? Это можно? — ахнула Елена Дмитриевна.
— А что? — сказала одна из жен. — Дети хотят идти в ногу с веком.
— Как мне нравился когда-то вальс… — вздохнула Елена Дмитриевна. — И так никогда и не пришлось мне потанцевать, не было случая…
Кудрявая жена Володи Кузнецова, та, что жаловалась на плохую фурнитуру, удивилась:
— Как это не было случая? За всю-то жизнь?
Никто не стал рассказывать ей историю жизни Елены Дмитриевны, она поахала и умолкла.
Каким чудом Нина расслышала звонок — непонятно, она метнулась в переднюю, и, раньше чем кто-либо понял, зачем она туда побежала, вошел широкоплечий, со знакомой по газетным портретам улыбкой, открытый, добродушный Богданов в сопровождении высокого, тоже очень широкоплечего молодого человека. Богданов распахнул руки, как будто хотел сразу всех обнять, и сказал с укоризной:
— Мне-то хоть оставили что-нибудь, черти? Я голодный, как волк.
Володя Кузнецов хотел было сесть рядом с Богдановым, но молодой человек не заметил этого и сел сам, а с другой стороны от именитого гостя поместилась хозяйка дома. Богданов представил:
— Это мой племянник. Нам еще надо с ним сегодня попасть за город. На дачу… А сам я машину не вожу.
Все без интереса кивнули молодому человеку, и только Шурочка стала вглядываться в его лицо.
— Что-то я не пойму, чей же это — сестры сын, что ли? Разве у нее был сын?.. Или это Сергея сын?
— Это племянник со стороны жены, — пояснил Богданов и ласково продолжал, следя краем карего глаза, как Нина, волнуясь, накладывает ему на тарелку кушанья, и жестом останавливая ее, чтобы не клала слишком много. — Черти вы мои! Милые вы мои, сколько же мы не виделись…
Володя Кузнецов вытер салфеткой мясистые губы.
— Со мной, например, лет шесть… мы же встретились на совещании хозяйственников…
— Да, да… — вспомнил Богданов. Взгляд его блуждал по лицам, и Нина, следя за его взглядом, подсказывала, кто это и где работает.
Роза не стала ждать своей очереди.
— Миша, — бойко сказала она, — не мучайся, не напрягай память. Просто я выкрасилась в другой цвет. Надеюсь, ты не забыл Розу?
— Ну да! Ты же была черная!
— Немодно, теперь я блондинка.
— Стала певицей?
— Увы, работаю в театре, но… администратором.
— Все-таки в театре, — утешил ее Богданов.
После того как Роза так смело назвала его на «ты» и «Миша», все как будто сбросили с себя броню, перестали стесняться. Кричали: «Богданов», «Миша», «Михаил» и даже «Мишка». Богданову все это нравилось. Он сам с удовольствием выговаривал имена, вспоминал старые прозвища. Тут Нина решилась:
— Миша, а это Елена… Лена Михайлова…
— Очень рад, — равнодушно сказал Богданов. — Ты в какой же ячейке была? Что-то я не очень помню…
— Я… — Елена Дмитриевна изогнулась, как пантера, готовая к прыжку. Даже блеснули пуговицы на кофточке.
Но Нина не дала ей сказать ни слова, перебила, заслонила ее, стала предлагать гостям выпить шампанского за их молодость, за их дружбу. Ах, она так счастлива, что сейчас все они сидят за одним столом, «комсомольцы двадцатого года».
И Нина даже вытерла слезы.
— Ты все такая же плакса, как была, — сказал Богданов, тронутый ее чувствительностью. — Хлопцы, девчата, вы помните, какая она была плакса?
Перебивая друг друга, гости кричали: а это помните? А помните, как Костя?.. А Володя?.. Шурочка, что же ты молчишь, ты же была свидетелем?.. Лида, а ты?.. Споем, ребята?.. Ах, посидеть бы еще разок у костра… В войну? Как, ты был на Юго-Западном? И я на Юго-Западном. Лейтенантом? А ты, Миша? Я — в штабе армии. Кем? Ну, скажем, членом Военного совета… А-а! Скромность, она украшает… Миша, ну неужели мы будем терпеть с Вьетнамом?.. Ребята, без политики… Отдых, отдых, отдых. Спеть?.. Ну, еще споем, успеем… За нашу дружбу! Да здравствует молодость! Что — колхозы? С сельским хозяйством у нас не плохо… Потанцевать? Стоит ли? Ты «за», Миша? С тобой?
Нина растерянно развела руками:
— Я эти современные танцы не знаю… А ты разве танцуешь?
— Почему же! — возразил Богданов. — Бываю на приемах с иностранцами, танцую, когда надо… напрактиковался дома с дочкой и освоил эту премудрость… Нет таких крепостей…
Шурочка не выдержала, сказала громким шепотом:
— Мой сын такой способный, такой талантливый мальчик. Как танцует… Давно бы продвинулся, устроил судьбу. Так надо же, попал в лапы Петровой. А ей бы только деньги, только деньги…
Ее никто не понял, никто не слушал.
Загремела пластинка на радиоле, и, смеясь над своей бестолковостью и неумелостью, танцующие пары затоптались в тесной комнате. Лида с Богдановым, Роза с Кузнецовым, Нина с Костей.
Весь вечер Нина поглядывала на Костю с нежностью. Не будь горьких складок у рта, можно бы сказать, что он совсем не переменился. То же пламя в глазах, те же мягкие волосы, та же манера встряхивать головой. И курточка, пожалуй, та же, ну не та, но похожая, спортивная, с карманами. В те годы застежек «молния» еще не было. А из кармана торчала тогда не автоматическая ручка, а карандаш.
Нина немножко боялась за Костю, тревожилась, как бы он не попал впросак, в глубине души надеялась, что Богданов заинтересуется Костей, обратит внимание на него, может, примет участие в его судьбе.
Но Костя держался в сторонке, фыркал, сверкая своими мрачными глазищами. Не то что Володька Кузнецов. Тот блистал остроумием, болтал, очень удачно и к месту рассказал, какие у него на заводе прекрасные кадры молодых рабочих. И Богданов даже переспросил, как называется его завод.
— А что вы выпускаете? Все ту же допотопную продукцию? — подал голос Костя.
Володька Кузнецов побагровел и не удостоил его ответом. Не заметил и не услышал. И Нина, боясь, что Костя «заведется», стала его угощать и отвлекать. Очень уж шальной этот Костя, ничуть с возрастом не изменился…
Как странно, сколько лет прошло, оба почти старики, а душа все полна нежности, как прежде, когда они очень нравились друг другу, очень стеснялись друг друга. Вспоминалась ей березовая роща в их городе, солнце, гибкие, струящиеся с берез ветки, пронизанные и облитые золотом ранней осени, когда Костя, хмурясь, сказал ей, что она, в своей белой блузке, гибкая, похожа на березу. И ткнулся горячими, влажными, как у жеребенка, губами ей в висок.
Как и когда она потеряла Костю, как разошлись их пути, Нина и сама не знала. Когда Костя уехал учиться, она ни о чем не спрашивала и никакого слова с него не брала. Слишком молодые были оба, неопытные. Жажда жизни была в них тогда сильнее, чем жажда любви. Костя немного пугал Нину своей стремительностью, мрачностью. Она была такая ясная, спокойная. Костя со всеми ссорился, спорил, даже против Сергея Богданова выступал. Она очень осуждала его за это…
Конечно, она плакала, когда Костя уехал, но так, чтобы никто не знал, не подозревал. Костина мама спросила у нее:
— Что тебе пишет Костик?
Нина повела плечиком:
— Почему он должен писать мне? Он прислал письмо в нашу ячейку.
Она соврала. Костя писал. Это были странные, пугающие письма, полные намеков, недосказанностей. Она совсем растерялась, хотела ясности, определенности, чтоб письмо начиналось: «Дорогая Нина» — и кончалось: «Твой Костя». Но разве можно было добиться у Кости определенности? Он измучил ее. Нина даже обрадовалась, когда ее послали на работу в область, — надеялась отвлечься, забыть Костю. Может, и не забыла, но отвлеклась, работа была сложная, интересная. С Костей они встретились уже через много лет в Москве, он был женат. И у Нины чувство поутихло, угасло за это время. Костя несколько раз приходил, заговаривал о прошлом, упрекал, что она во всем виновата. Она спрашивала: «Почему я?» — «Ну, не ты, а жизнь». — «И жизнь не виновата, никто не виноват». — «Вот и теперь любишь, чтобы все гладко, без углов, чтобы никто не виноват…» — «Это ведь не я вышла замуж, а ты женился…» И прервала эту бессмысленную канитель, сказав, что уезжает в длительную командировку, на год.
Нину тогда только что взяли в центральный аппарат, она даже подозревала, что какую-то роль в ее выдвижении сыграл Миша Богданов, — ну как она могла начать свою деятельность с какой-то скандальной личной истории? Не хватало только, чтобы Костина жена пошла на нее жаловаться…
А Костя поверил, что она уезжает. Исчез из ее жизни. Когда встретились, он уже успокоился, держался как друг. Нет, она всегда знала, что он ненадежный. Интересный, талантливый, может даже необыкновенный человек, но ненадежный. Из тех, что и свою и чужую жизнь исковеркает и не заметит даже… Костя поступал не как все и чувствовал не как все.
Может быть, если б Костя был более настойчив… Но как он мог быть настойчивым? Все еще неустроенный, неуживчивый. То его выгоняли с работы, то он сам уходил. Заводской квартиры лишился, жил на окраине в развалюхе. Нет, не до личной жизни ему было, не до любви. И очень уж они не подходили друг другу — сдержанная, умеренная Нина и порывистый Костя. Кроме того, очень уж самоотверженно несла свое бремя Костина жена.
Все, что было когда-то, давно забылось, но замуж Нина так и не вышла: хороший человек не попался, плохой ей ненадобен. Она и одна прекрасно жила, вся ее жизнь в работе. А нежность к Косте все-таки осталась, тайная, скрытая даже от нее самой…
И сейчас, танцуя, она мягко, с какой-то жалостью смотрела на Костю.
— Как твое изобретение?
Костя дернулся, лицо его исказилось, и Нина поспешила предупредить события:
— Ну ладно, ладно, об этом в другой раз, хорошо? Какой ты бледный сегодня… Ты чем-то недоволен?
— Не сказал бы…
— Заметил, как поседел Богданов?
— Не обратил внимания…
— А на что ты обращаешь внимание? — уже с укором, с досадой сказала Нина. — Почему ты такой худой? Ты отдыхал в этом году?
Костя отрицательно замотал головой.
— Помнишь березовую рощу? — вдруг сказала Нина. — Я-то помню… — И, уже не владея собой, спросила: — Как твоя семейная жизнь? Ты счастлив?
— Зачем ты спрашиваешь?
— А разве старый товарищ не может про это спросить?
Костя задумчиво, наступая ей на ноги, танцевал.
— Как славно, что ты нас сегодня собрала…
Нина ответила механически:
— Легче подготовить профсоюзный пленум, чем всех вас собрать…
Музыка уже отзвучала, а они все еще двигались, думая каждый о своем, пока их не заставили очнуться аплодисменты.
— Э, это неспроста, — лукаво сказал Богданов, — э, это, кажется, неспроста…
— Старая любовь не ржавеет, — подхватил Кузнецов, не подозревая, что бьет по больному месту. — Я не забыл ваши прогулочки… Маня, отвернись и не слушай, — крикнул он жене, — теперь можно признаться — я ревновал, как Отелло…
— Да ну? — притворилась веселой Нина. — Ой, как жалко, а я не знала… Володька, противный, почему ты скрывал?
— Что-что, а скрывать он умеет, — ехидно сообщила жена Володи.
— От тебя скроешь, как же! Домашний ОБХСС.
— Знаете анекдот? — не вытерпела Роза. — С мужем надо обращаться, как с собакой, — кормить, мыть и выпускать вечером погулять…
— Хо! — загрохотал Кузнецов. — Погулять? Вечером? Вот именно…
Даже тихий пенсионер, муж Лиды, залился смешком, забулькал, как будто молоком захлебнулся.
— Какая ты циничная, Роза! — кокетливо возмущалась Лида. И отчеканила: — Ци-нич-на-я.
— Почему циничная? И при чем тут я?.. Анекдот — это же народная мудрость… — наивно оправдывалась Роза.
— О, Роза, Роза, неувядаемая ты роза, — сказал Богданов.
Не смеялся только Костя. Он опять налил себе вина, выпил и мрачно уставился на Розу.
— Что? — спросила та натянуто. — Хороший анекдот? Тебя-то погулять выпускают?
— Пошлость, — Костя передернул плечами.
— У нас такой изысканный вкус? — Роза снова стала балаганить. — Вот не подозревала…
Нина поспешно принялась вспоминать их родной город, даже попыталась втянуть в беседу Елену Дмитриевну, но та в это время очень смешно показывала режиссеров и певцов, которых встречала у своей актрисы. Мужчины предпочитали политику. Они тормошили Богданова: он-то все знает из самых, как говорится, верных источников. Вхож небось в очень высокие круги, так пусть объяснит… Женщины успели перебрать все острые темы, поспорили о воспитании детей, о модах, переворошили романтические истории своих знакомых. Шурочка уже в который раз жаловалась на свою невестку. Только Роза помрачнела. От жирной пищи у нее заныла печень, ей вдруг стало тошно и трудно выглядеть игривой, веселить всех двусмысленными шутками; женская болтовня ее раздражала, и, ища разрядку своему настроению, она вдруг крикнула через всю комнату:
— Костя, а почему твоя жена не пришла?
— И верно, Костя, — любезно спросила Нина, — почему она не пришла?
— Не захотела, — резко ответил Костя.
— Почему так? Чем это она так занята? — настаивала Роза. — Сторожит твои великие изобретения, чтобы не украли?
— Ты такая же дура, как была, — сказал Костя.
— Это же шутка, — взволновалась Нина. — Роза, ну скажи, что это шутка. Костя, извинись…
Поднялся галдеж, смеялись над Розой, над Костей, вспоминали, как он сделал себе зажигалку и как зажигалка взорвалась. Роза смеялась, пожалуй, громче всех. Она уже опомнилась, опять стала компанейской, немножко беспутной, бесшабашной Розой.
— Костя, — кричала она, — помнишь, как ты мне чинил примус? Ты и тогда уже был гением в технике…
— У тебя и тогда уже была дырка в голове, — Володя Кузнецов повертел пальцем около лба, показывая, какая дырка была у Кости в голове.
Все хохотали.
Только племянник Богданова сидел безучастно, белокурый, гладкий. Так сидит и дремлет на солнышке молодой здоровый кот.
— Вам скучно с нами, с пожилыми, — пожалела его сердобольная Шурочка. — Вы не женаты?
Будто стальная пружина развернулась в молодом, сильном парне, он выпрямился. Так кот кидается на беспечную птицу.
— Нет.
— Видно, что вы занимаетесь спортом, — не отставала Шурочка, любуясь его плечами и здоровым видом. — Да, до женитьбы мой сын тоже увлекался спортом.
— Угу. — Молодой человек, не дослушав, встал, потому что поднялся с места Богданов. Нина показывала ему альбом с любительскими желтыми фотографиями.
Богданов вдруг тихо спросил, вглядываясь в блеклый снимок:
— Маша? А где она теперь?
— В Москве, — ответила Нина.
Богданов прикрыл глаза, потом снова стал смотреть на фотографию.
— Хотелось бы ее повидать…
— Да? — немного растерялась Нина.
Когда она составляла список гостей, то долго, очень долго размышляла над каждой фамилией. По привычке поставила синим карандашом птички над безусловными кандидатурами, красные вопросительные знаки там, где сомневалась. Машу она сразу же, без колебаний, вычеркнула, уверенная, что Богданову эта встреча будет крайне неприятна. Ведь Маша почти что считалась его женой, ну, скажем, невестой, если бы тогда так выражались… Ой, как же она тосковала, бедняжка, когда Богданов уехал, хотела утопиться, подруги прямо охраняли ее, чтобы не опозорила организацию. Сумасшедшая была девушка эта Маша.
— Ты встречаешься с ней? — спросил Богданов.
— Да… нет… как-то не получается…
— Поедем за ней! — вдруг решил Богданов. — Сейчас же поедем, я хочу повидать Машу. Машина внизу, мы мигом смотаемся туда и обратно и привезем Машу. Одевайся, Нина!
— Поздно, тетя не спит, ждет нас, — тихо сказал племянник.
И Нина взмолилась:
— А гости?
— Подождут, — твердо сказал Богданов, как человек, умеющий и хотеть и подчинять других своим желаниям. — Кузнецов, оставайся за главного, руководи, мы вернемся… Жорж, пошли…
Уже в передней, оглянувшись, Нина заметила, что Костя ищет свою шляпу, собираясь уходить, но не могла задержаться. Богданов торопил:
— Едем…
Она еще раз оглянулась, уже сидя в машине. Костя, ссутулясь, вышел из ее подъезда.
Было около полуночи, когда они разыскали деревянный, похожий на барак, домишко, притулившийся среди новых строений нового квартала. Всю дорогу, пока их приятно покачивало на гладком асфальте, Богданов, разомлев, зачем-то рассказывал Нине, как он уважает свою жену, которая его еще никогда и ни в чем не подвела, жаловался на свою загруженность и занятость, но тут же говорил, что радуется и гордится тем, что так загружен и занят. Он считает, что их работа, — он слегка похлопал по руке Нину, — очень важна и нужна государству. Пусть маленькую, но свою лепту они вносят, помогают, фигурально выражаясь, тем, кто вершит судьбы истории. Нина расхрабрилась и сказала, что напрасно Миша так скромничает: не только помогает — он среди тех, кто держит в своих руках судьбы истории.
— Не перехватывай, — засмеялся Богданов. — Я тебе как на духу говорю: я человек простой. Разве я не имею права посидеть с друзьями молодости, с земляками, повидаться с любимой девушкой? Жена упрекнет: зачем пил? Ты подтвердишь, Нина, что я выпил совсем немного…
— Конечно… я… — Нина была смущена. Она не была знакома, да и не очень хотела знакомиться с женой Богданова. К чему ей лезть в его семью?
А он как будто читал ее мысли:
— Я тебя познакомлю с женой, с сыном, с дочерью. Умная такая, современная штучка. Ты не поверишь, ставит меня в тупик своими вопросами… Нет, не спорь, — продолжал он, хотя Нина не спорила, — я имею право повидать Машу. Я сказал на работе: «Товарищи, у меня сегодня встреча с моими земляками, с моей молодостью». Имею я на это право?
— Ну, конечно, — печально подтвердила Нина.
Все-таки ей было жалко, что Костя ушел обиженный. А может, даже не обиженный. Костя ведь такой — скучно стало или неинтересно, он и ушел. Быть гибким, приспосабливаться к обстановке — это он не умеет и не умел никогда.
— Костя Семинский уже много лет продвигает свое изобретение, — почему-то сказала она.
— Что-нибудь толковое? — поинтересовался Богданов.
— Не знаю, — честно ответила Нина. — Но если толковое, так неужели этого никто не видит?..
— Бывает и так, что не видят. Мало, думаешь, у нас еще консерваторов и бюрократов?
Машина остановилась у деревянного домика.
Нина вошла первая, за ней Богданов, потом недовольный Жорж.
— Ты не поверишь, как я волнуюсь. Пульс, наверное, двести, — признался Богданов.
Нина смело нажала на кнопку звонка. Дверь распахнулась, старая женщина с растрепанными волосами испуганно спросила:
— Вам кого? Вы из «неотложки»? Но я сегодня не вызывала. Ой, это ты, Нина?
Легкий хмель, взбудораженность, возбуждение разом выскочили у Нины из головы, как пробка из бутылки. Она заулыбалась и сказала, быстро сообразив, что истинную цель визита необходимо скрыть:
— Мы оказались рядом совершенно случайно. И зашли. Ничего, что так поздно?
— Я рада…
— Видишь, кто со мной? Это же Миша Богданов!
— Миша? Богданов? — Маша вскинула руки к волосам, стала поправлять шпильки. — Ой, я такая… Как ты сюда попал, Миша? Ну, заходи! Заходите же…
Она беспомощно оглянулась на переднюю, заставленную сундуками и старыми велосипедами, на дверь соседей. Дверь в ее комнату была широко распахнута, на кровати, в трусах, готовый ко сну, неподвижно сидел пожилой мужчина.
— Кто там? Маша, кто это? С кем ты говоришь? — тревожно спрашивал он.
— Он почти не видит, — чуть не плача, пояснила Маша. И крикнула в комнату: — Я сейчас, успокойся…
— Как же ты живешь, Маша? — с огорчением оглядывая хлам в передней и слепого мужчину в комнате, спрашивал Богданов.
— Так и живу… А ты, Миша? Впрочем, что я спрашиваю, ты извини… Но зайдите же, — растерянно твердила она. — Ты совсем меня позабыла, Нина. Неудобно, что я держу вас в передней… Соседи… Мы уже собирались спать…
Та же милая беспомощность, что и когда-то, была в Маше, тот же милый голос, те же опущенные руки. И если бы не морщины, не седые волосы, не стоптанные шлепанцы на ногах…
— Мы на одну секундочку, — четко сказала Нина, понимая, что надо как-то выходить из положения. — Мы ведь совершенно случайно. Были рядом…
— Но как же? Неужели вы так и уйдете? Все как во сне… Миша? — Казалось, что Маша сейчас протянет к ним обоим руки, уцепится за них, не станет отпускать.
— Ты запиши мой телефон, — предложил Богданов. — Ты мне позвони… Извини, Машенька…
— Но за что?.. Я так рада, опомниться не могу… — Она и правда как во сне смотрела на этих хорошо одетых, уверенных в себе людей, чудом очутившихся ночью в ее квартире. — Я вас провожу…
Она спустилась за ними по лестнице, с удивлением посмотрела на огромную черную машину.
Жорж уже распахнул дверцу и всем своим видом показывал, что надо ехать.
— Я не думала, что встречу тебя когда-нибудь, Миша. Спасибо, что вспомнил обо мне. Спасибо тебе большое…
— Ты позвони…
— Иди, Маша, простудишься, — вмешалась Нина.
— Неважно…
Но Богданов уже сел в машину, за ним Нина. Жорж захлопнул дверцу, и машина плавно тронулась.
Богданов помахал рукой, но вряд ли Маша разглядела этот жест, хотя так и осталась стоять на месте, на ветру, трепавшем и без того растрепанные ее волосы, озаренные тусклым светом лампочки в матовом колпаке, неясно горевшей у входа в дом.
— Ну и история, вот влипли! — воскликнул Жорж.
— Ты что это? — строго спросил Богданов.
— А то, что было куда ехать, время терять…
— Не твоего ума дело! — прикрикнул Богданов. — Балбес ты, балбес, ничего не понимаешь. Ох, Нина, Нина, — застонал он, — не очень-то ловко у нас вышло. Как она постарела, бедная…
— Жизнь у Маши тяжелая. — Нина как бы извинялась за то, что Маша так плохо выглядит. — Натерпелась она… Сын попал под машину, муж ослеп… — И, помолчав, добавила: — Она никогда его не любила…
Богданов разговора не поддержал. Сказал только:
— Сейчас мы завезем тебя домой. Все-таки ты молодец, что всех нас собрала. Надо практиковать такие встречи… — Но о том, что друзья молодости ждут и его тоже, он больше не вспомнил. И Нина не решилась напомнить. Когда машина остановилась у ее дома, она поскорее вылезла.
— Ну пока… — неопределенно сказал Богданов.
Елена Дмитриевна не стала ждать, когда разойдутся гости, и, пока Нина и Роза провожали их в переднюю, пошла на кухню мыть посуду. Шурочка отправилась помогать ей. Она бережно снимала с блюд остатки закусок и прятала их в холодильник.
— А я не экономная, нет. Жизнь меня не выучила, — говорила Елена Дмитриевна, искоса поглядывая на то, что делает Шура. — Живу на пенсию плюс скромный приработок, но на питание не жалею. Питание — это основа…
Шура не слушала. Ее томила мысль, что муж, умерший два года назад, был когда-то способнее Миши Богданова, особенно по математике, и вот надо же, оставался до самой смерти всего лишь экономистом.
— Я так и сказала Нине: «Кто я и кто Богданов? Земля и небо!» — продолжала Елена Дмитриевна. — Но, как видишь, в грязь лицом не ударила, держать себя в обществе я умею…
— Что значит — небо и земля? — возразила Шура. — Люди есть люди. Для того чтобы занять положение, еще нужно, чтобы повезло… — Она все-таки поправилась: — Конечно, я не говорю, Богданов достоин… правда, девочки? — спросила она у Нины и Розы, когда те вошли в кухню.
Роза сказала, что останется ночевать, ей далеко ехать. А завтра воскресенье, не нужно торопиться, наговорятся всласть.
Елена Дмитриевна обрадовалась:
— Позавтракаем отлично. И в бутылочках еще осталось… — Она изнемогала от довольства собой. — Ну, Нина, не опозорила я тебя? Как замечательно прошел вечер!
Нина восторженно похвалила:
— Богданов держал себя прекрасно, он чудный человек, я всегда знала…
— Да, сразу видно, что большой человек, — согласилась Шура. — Жаль, что его не видела моя невестка, пусть бы поучилась скромности.
— Интересно, какие физиономии будут у моих сослуживцев, когда я ошарашу их тем, что ужинала за одним столом с Богдановым, — сказала Роза.
Нина захотела сделать ей приятное:
— Ты ему очень понравилась, он так смеялся…
Но Роза вдруг разом скисла, заплакала и, всхлипывая, сказала:
— Думаете, девочки, мне легко быть веселой? Я старая женщина с больной печенью. Но на работе я должна быть жизнерадостной и остроумной. Будь они прокляты, эти анекдоты, я их плохо запоминаю… Но разве на такой службе, как у меня, можно сидеть с постной мордой? Вылетишь в два счета…
— Все-таки какого ты года? — не выдержала Шура. — Ты еще интересная женщина, а я вот вся седая…
— Надо иметь парикмахера, — деловито посоветовала Роза. И опять всхлипнула: — Нет, что-то я раскисла, что-то мне жалко стало той Розы, какой я была когда-то…
— Посмотрела бы, как выглядит Маша, не говорила бы так про себя, — успокаивала ее Нина. — Мне даже жалко стало Богданова. У него, очевидно, была иллюзия, что он увидит прежнюю Машу. А она, как нарочно, растрепанная, неодетая…
— Между нами говоря, Маша всегда была неряхой… — У Розы блеснули глаза.
— Неправда, неправда, никогда не была! — возмутилась Шура.
— Женщина должна следить за собой…
— Как ни следи, а возраст свое берет…
— Я так и сказала своей актрисе в присутствии ее поклонника: «Мне шестьдесят с хвостиком, а вам пятьдесят пять. Пять лет — это большая разница: вот у вас еще мужчины на уме…» Она чуть не лопнула.
Отсмеявшись, Нина заметила:
— Ну и злая вы, Елена Дмитриевна…
— А почему я должна быть доброй? Не так уж много я видела доброго в жизни.
— А я, к сожалению, осталась доброй, хотя не раз расплачивалась за свою доброту, — заявила Нина.
Роза поддержала ее:
— Ты действительно добрая. Как ты всех собрала сегодня! Так демократично, так просто… Даже сумасшедшего Костю позвала! Пардон, я не задела твои чувства?
И, к общему удивлению, Нина заступилась:
— Он не сумасшедший, Костя. Вовсе нет! Он просто не такой, как все.
Тарелки были уже вымыты, составлены высокими стопками. Блестел, сверкал протертый хрусталь. Елена Дмитриевна бросила в мусоропровод осколки рюмки, разбитой Костей. Нина проводила их взглядом. И опять сказала:
— Костя славный. И чего ты накинулась на него, Роза, я так и не поняла.
— А того, что все мы изменились, а он, видите ли, такой, как был, он, мол, лучше всех нас. Просто неудачник — и все…
Нина покачала головой:
— Я так не считаю.
А Шура спросила тихонько, как будто это был секрет:
— Нина, ты что… ты его любила?
— Какой смысл теперь это выяснять? А впрочем… Да, он был мне дорог… — Она повторила: — Он был мне дорог, мы дружили… но не больше, конечно.
Они не были до конца искренни и откровенны, эти четыре женщины, а все-таки с них словно спала шелуха, и сквозь напластование лет, сквозь наслоение времени пробивалось наружу глубоко спрятанное истинное их существо. И они все больше становились похожи на тех славных худеньких девочек, какими были когда-то: честных, открытых, прямодушных. Все это было хрупким, непрочным, как оказалась непрочной хрустальная рюмочка на тонкой ножке, разбитая за ужином, но женщины еще долго сидели на кухне и разговаривали по душам, осторожно обходя то, что каждая из них хотела скрыть.
И заснули уже на рассвете.
А утром их разбудил телефонный звонок. Маша говорила так громко, что слышала не только Нина, державшая трубку, но и остальные.
Нина отвечала сдержанно:
— Ну, неудивительно, что ты так взволнована. Целое событие в твоей жизни, праздник. Да, я понимаю… Просто мы были рядом, и я предложила зайти. Твоему мужу незачем волноваться, заверь его… Ну, просто зашли… — Роза, как вчера Володя Кузнецов, повертела пальцем у лба, как бы показывая, что у Маши тоже дырка в голове. Нина, соглашаясь с ней, возвела глаза к потолку, пожала плечами. — Позвонить ему? Богданову? Ну, не знаю, что тебе посоветовать, он вообще-то очень занят…
— Он так сердечно дал мне свой телефон. Все-все у меня всколыхнулось, все чувства… — говорила Маша. И просила совета: — Что, если я обращусь к Мише как к старому другу? Он поймет, он ведь знает меня, он поймет… жить с больным человеком в коммунальной квартире.
— Ты что? Ты хочешь просить Богданова помочь с квартирой?.. Я понимаю, что однокомнатную, а не особняк, я понимаю, как ты мучаешься, но… На твоем месте я бы этого не сделала…
Нина положила трубку.
— Ну? — выкрикнула Роза.
— Так оскорбить Мишу в его лучших чувствах! — нервничала Нина. — Не знаю, как уберечь его…
— Такая меркантильность! — возмущалась Шура. — Во всем искать выгоду для себя…
И только Елена Дмитриевна сказала:
— А вы знаете, что значит жить в коммунальной квартире? Я-то знаю, у нас восемь семей в квартире. Кошмар!
— И все-таки я бы так не поступила, — раздражилась Роза. — Думаете, у меня бы не нашлось о чем его попросить? Ого! Но нельзя же так откровенно, с первого раза…
— Миша очень дружил когда-то с моим Петей, но я ведь себе не позволила…
Упрямая Елена Дмитриевна пошла наперекор:
— А что такое? Почему не помочь старой знакомой? Тем более он ее так растревожил… Разве у нее будет другой такой случай? Правильно. Лови момент…
На нее зашикали.
Сварили кофе, сели завтракать, а Нина все не могла успокоиться. И каждому из знакомых, кто звонил, чтобы поблагодарить за удовольствие, полученное вчера, она с возмущением говорила о Маше. Нет, она и подозревать не могла, что Маша так изменилась.
Позвонили все, кроме Кости. А Нина так ждала его звонка…
Прошел день, и другой, и третий. В квартире у Нины уже натерли полы, сдвинули стол, убрали в глубину серванта лишнюю посуду.
А потом как-то случилось, что она, пробегая с бумагами по коридору, встретила Богданова. Он спросил у нее тихо, подмигивая, как мальчишка:
— Ты не слышала, какой телефон я дал Маше? Прямой или через секретаря?
Нина успокоила его: она хорошо помнила — нет, не прямой…
И когда он добавил, что сам не знает, какой лукавый попутал его ночью искать Машу, неуверенно сказала:
— Ну и что? Она так радовалась, Маша. Для нее это был праздник…
— В чем же праздник? — сердито сказал Богданов, почему-то обидевшись за Машу. — Что за счастье такое, если мы ввалились к ней ночью…
— Я не знаю, но она была рада…
— Маша, как никто, умеет прощать. — Богданов сказал это с горечью, все так же сердито, но в то же время гордясь Машей, и Нине стало не по себе: ей подумалось, что Богданов никогда не простит ей того, что она была свидетелем и участником этой нелепой, жестокой, бессмысленной встречи.
— Миша, — сказала она, хотя никогда не называла его Мишей в стенах учреждения, — ты не виноват, что молодость не возвращается…
Но он уже пришел в себя, ответил сухо:
— Да, нельзя дважды войти в одну реку, это закон диалектики…
Они разошлись в разные стороны.
Маша звонила по телефону почти каждый день и негромким, трогательным, раздражающим Нину голосом говорила, что открыла в себе источник новых сил, теперь ей стало легче жить. Может быть, Нина права, ей не нужно обращаться с просьбами к Мише, пусть останется незамутненным этот чистый родник радости. Но у нее теперь прибавилось бодрости и веры в себя, она будет хлопотать. Спасибо, спасибо Нине, что она привела Мишу.
— Как будто мое прошлое, мое счастье снова постучалось ко мне…
— Неужели ты все еще его любишь?
— Люблю, — просто ответила Маша, — конечно, люблю… Но ты извини, что надоедаю тебе, что я так часто звоню.
Нина покривила душой:
— Звони, я рада…
ПОЛКОВОЙ УЧИТЕЛЬ Рассказ
Маленький учитель, разговаривая с командиром полка, заслонялся от солнца рукой. Всадник смотрел на него вниз, как с башни. Конь был огромный. Под золотой шерстью играли мускулы. Конь перебирал длинными ногами. Он придвинул морду к самому плечу учителя и, скосив карий озорной глаз, тронул его ухо влажными ноздрями.
— Пошел вон! — отшатнувшись, испуганно крикнул Матвей Борисович.
Командир полка засмеялся и натянул поводья. Подняв голову, конь заржал. Матвей Борисович тоже засмеялся и осторожно протянул усеянную веснушками руку к шее коня.
Одуряюще пахла хвоя. Небо было высокое, чистое, аквамаринового цвета. За стволами сосен белели палатки. У коновязи стучали копытами лошади.
— Вот, видите сами, — сказал командир полка, — вам будет трудно в полевых условиях.
— Нет, — возразил учитель и резким движением руки, как линейкой, подчеркнул свое «нет».
— Удобств мы вам создать не можем, — продолжал командир, почесывая переносицу, — строительство не закончено, жить придется в палатке.
— Меня это не страшит, — строго заметил учитель, — меня страшит, что люди думают, будто летом надо заниматься лишь одной боевой подготовкой, а общеобразовательными предметами — нет.
— Люди так не думают, — недовольно отозвался командир полка, понимая, что камешек брошен в его огород. — Но считать, что летом люди свободны, не приходится.
— Я так не считаю, — ответил Матвей Борисович, — но учитель должен быть там, где его ученики. Если часть в лагерях, то и я должен быть здесь. Согласно приказу наркома. Вы же помните приказ!
— Ну ладно, оставайтесь в лагерях, — нехотя сказал командир. — Только будет трудно. Предупреждаю… Кони вот, — усмехнулся он. — На стрельбы сегодня едем.
Матвей Борисович круто повернулся и хотел по-военному щелкнуть каблуками, но споткнулся и чуть не упал. Рассердившись и забыв про устав, он побежал своей обычной походкой через луг, — маленький и смешной, в чистенькой вышитой рубахе, с палкой в руках.
Он был обижен.
Еще вчера, когда он заявил дома, что намерен провести лето в лагерях с воинской частью, где был старшим полковым учителем, жена сказала:
— Фантазия.
Сын смолчал, а дочь заметила:
— Но при твоем здоровье, папа…
Матвей Борисович с горячностью стал объяснять, что должен ехать, — когда полк стоял на зимних квартирах, он хорошо наладил индивидуальные занятия с командирами, нельзя их прерывать.
— Ты напрасно беспокоишься о моем здоровье, — сказал Матвей Борисович. — Я старой закалки. О, когда-то я был видным парнем. Был крепкий, белый как сахар! — Он беспомощно посмотрел на всех, как бы ища поддержки. — Вы думаете, нет? Я был действительно видным парнем.
Жена перебила нетерпеливо:
— Ну, хорошо. Ну, ты был белый как сахар. И что из этого? — И прибавила уверенно, как человек, который, все знает и понимает: — Очень им нужна летом твоя математика…
— Это же… феноменально! — закричал Матвей Борисович. Он досадовал на жену за то, что в делах практических она всегда оказывалась более дальновидной. Он посылал родственникам деньги, делясь последним, — они обижались, что мало. Он начинал выводить на чистую воду заведующего школой, — кончалось тем, что его самого увольняли.
И даже тут, в мире совершенно других интересов и дел, Матвей Борисович чувствовал ее правоту. Ему не были здесь рады. Командир полка не хотел отдавать ему время своих людей. Молоденькая жена капитана Кононенко, которую он встретил, сказала, не в силах скрыть своего огорчения:
— Ой, товарищ учитель, вы здесь?
— Да, я здесь, — воинственно ответил учитель, — и больше того, ваш муж будет каждый день заниматься от шести до семи. — Ему вдруг стало жаль эту симпатичную женщину, и он добавил ласково: — Зато капитан осенью сдаст экзамен в академию, и вы поедете с ним в Москву.
Подошла жена старшего лейтенанта Королева, немолодая уже, с крашеными волосами и крупным измятым лицом. Матвей Борисович не любил ее. Он насторожился. Та действительно сказала:
— Что ты с ним объясняешься, Тося, он кроме своих задачек ничего на свете не знает, а что ты видишь своего мужа четыре часа в сутки — он не понимает.
Матвей Борисович оскорбился, но сдержался. Дал себе слово, что будет сдержанным и настойчивым. Он выполняет свои обязанности, и никто не имеет права ему мешать.
Матвей Борисович не намеревался отступать. Весь день бродил он по огромному лагерю, был в конюшне, на полигоне, в ленинских уголках-верандах среди деревьев, где стояли сколоченные из свежих досок скамьи и столы. Там он должен был проводить занятия с красноармейцами.
После выпитого за обедом пива, которое он считал невкусным и неполезным и выпил только для того, чтобы ничем не отличаться от остальных мужчин, шумно радовавшихся тому, что в столовую наконец-то привезли пиво, Матвей Борисович был особенно решителен. «И на стрельбы поеду, — думал он, — обязательно!»
Он знал, что может и не ехать, может спокойно провести ночь в палатке, которую ему отвели, а утром, проснувшись от шороха веток над брезентом, смотреть, как под узловатыми сочленениями корней копошатся муравьи.
Но решил ехать.
Решил стерпеть все — усталость и ноющую боль в печени, недоверчивое отношение командира полка и невежливые, обидные шуточки жены старшего лейтенанта Королева.
Он с вызовом смотрел в розовое, предвечернее небо. В реке купались красноармейцы. Они яростно колотили ногами по тихой воде.
Матвей Борисович решил тоже искупаться. Он аккуратно сложил на берегу свое белье, посидел немного, чтобы остыть, смочил подмышки, как делал когда-то его отец, входя в воду, и ринулся в реку с такой решительностью, словно это был океан, бурный и безбрежный.
* * *
Да, это было похоже на океан.
После тесной и жаркой спальни, где его кровать стояла тридцать лет рядом с кроватью жены, которая стонала и плакала во сне, после маленькой комнатки-кабинета, набитой пыльными книгами, где лежала в футляре его скрипка, а на стене висели портрет Бетховена — мощное, вопрошающее лицо — и фотография матери, тихой старухи в черном платке, заправленном за уши, — после однообразной жизни, наполненной несбывшимися мечтами, ссорами с начальством, заботами о хлебе насущном, — приятно заночевать в лесу, слушать ночные шорохи, шелест берез, чуть белеющих в темноте, видеть над собой неясную россыпь мелких звезд в затуманенном небе, почесываться от укусов комаров, настойчиво высвистывающих какой-то звук, напоминающий «си» на последней, самой высокой октаве скрипичного диапазона.
Матвей Борисович сидел у костра.
Штабные командиры, ждущие рассвета, заснули тут же на земле, подсунув под голову полевые сумки.
Матвей Борисович подбрасывал в огонь еловые ветки, костер жарко вспыхивал, потом пламя утихало, горящие ветки обугливались и покрывались пеплом.
Перед этим старый учитель долго ходил по лесу, смотрел, как устанавливают на огневой позиции орудия, как тянут связисты провод через сырой от ночной росы луг. Окоп для командного пункта батареи еще только рыли, а уже телефонист припал к трубке, в углублении тускло горела «летучая мышь», подле которой работал вычислитель. Командир батареи старший лейтенант Бабченко отдавал распоряжения. Матвей Борисович мало что понимал в этой суете, но волновался, был возбужден. Мужчины делали свое мужское дело — учились воевать, — и он был с ними.
Никогда еще Матвей Борисович не ходил ночью по лесу, не копал землю, не дышал полной грудью. Он хотел стать артистом, а только иногда играл на скрипке, интересовался высшей математикой, а преподавал детям арифметику, — он не сделал открытий, не написал научных статей, он только составил подробный решебник задач.
Все это открылось ему сейчас, под томительный и тревожный комариный стон.
Вся его деятельность, которой он раньше гордился, — выступления на учительских совещаниях и работа в методическом кабинете наробраза — казалась ему теперь мелкой и никчемной.
Разве это была жизнь? Он искал для себя отдушины в том, что запирался вечерами в кабинете и читал умные книги. Это возвышало его в собственных глазах. Читал все, что печаталось в журналах и газетах, — это давало ему право считать себя передовым человеком. Он не пил, не курил, не изменял жене. Молодые учителя уважали его. Он гордился этим. Ему не было скучно — так был всегда занят.
И все это было не то! Нет…
Его пригласили заниматься с группой командиров, срочно подготовить их к экзаменам в военную академию. Он был смущен. Пошел на первый урок с опаской: ему казалось, что он не сумеет найти общий язык с военными людьми, он — такой маленький, и они — широкогрудые, в начищенных сапогах. Но командиры вели себя почтительно. Уважали знания, были точны и исполнительны.
Матвей Борисович осмелел. Он стал гордиться тем, что работает в армии. Кто он? Обыкновенный учитель. А перед ним сидят капитаны и старшие лейтенанты. Каждый из них командует людьми. Значит, фактически перед Матвеем Борисовичем сидели целые подразделения.
Он стал полковым учителем. Принес присягу. Он разрабатывал свой метод обучения малограмотных красноармейцев. Консультировал учителей из других воинских частей. Ссорился с командиром полка из-за количества часов для занятий так же, как когда-то с заведующим наробразом.
Он жаловался на «своих лейтенантов», если они пропускали уроки, ходил на дом к «своим капитанам». На него сердились командирские жены. Но учитель был непреклонен. Между собой ученики называли его «въедливым стариком», но побаивались и любили.
Все это возвышало Матвея Борисовича в собственных глазах.
Но никогда еще так ясно учитель не ощущал перемену, происшедшую в его жизни, как в эту ночь. Смотрел на огонь, то вспыхивающий, то замирающий, и был счастлив от сознания, что его не сморила усталость, что он бодрствует у костра. Собирает под соснами ветки и шишки и подбрасывает их в огонь. А штабисты спят…
У Матвея Борисовича сладостно замирало сердце.
Огромное небо над лесом, темное перед рассветом, предутренний холод, настойчивый крик ночной птицы — все волновало его. Он не мог усидеть на месте, должен был двигаться, преисполненный жизненных сил. И снова пошел в поле. На командном пункте, привалившись к насыпи, стоял Бабченко. Плащ, накинутый на плечи, топорщился, как горб. Бабченко смотрел вдаль, на темный лес. Фонарь бросал тусклые отблески на его испачканные глиной сапоги.
— Как дела? — спросил Матвей Борисович, интересуясь подготовкой к стрельбам, но лейтенант не понял его и сказал:
— Очевидно, Матвей Борисович, в условии была ошибка. Не получается задача по ответу, я уже два раза решал.
— Удивительное дело, — раздраженно отозвался учитель. — Я преподаю тридцать лет и тридцать лет слышу одно и то же: «Очевидно, в условии ошибка». Или: «Очевидно, в ответе ошибка». Идемте к свету, давайте решать при мне. — Он вытащил из своего бездонного кармана задачник. — А ну… я вам докажу, что ошибки нет.
Бабченко послушно опустился на корточки. Матвей Борисович ходил вокруг него, припрыгивая и заглядывая в задачник через плечо.
— Ну, вот видите, вышла! — сказала он с удовлетворением.
Начинало светать. Побледнело небо. На дереве, проснувшись, завозились птицы.
— Не поделили чего-то, ссорятся, — сказал Бабченко, прислушиваясь к птичьему гомону.
— Нормальная семейная жизнь, а? — поддержал его Матвей Борисович, желая сгладить впечатление от своей резкости.
И вдруг лейтенант спросил:
— Соня вам ничего не говорила?
— Соня? — переспросил Матвей Борисович, не понимая, почему лейтенант спрашивает о его дочери.
— Мы с Соней решили пожениться… — сказал Бабченко, — осенью, когда я вернусь из лагерей.
— Осенью, — повторил растерянный Матвей Борисович.
Скромная, маленькая Соня, застенчивая учительница, которая иногда по просьбе отца приходила в часть на занятия по русскому языку, та самая Соня, которая просила купить ей новые туфли?
Матвей Борисович топтался на месте, но лейтенант, деловито посмотрев на часы и красноватое от восходящего солнца небо, спросил:
— Вы на командном пункте батареи останетесь или пройдете в штаб? Пора.
— Я пройду в штаб…
Было уже совсем светло. Над лугом стоял легкий пар — начало пригревать солнце. В траве мелькали желтенькие цветочки, будто кто-то прошел здесь, закуривая, и одну за другой бросил на землю зажженные спички. На опушке стояла молодая тонкая береза. Ветерок раскачивал ее шелковистые ветви, и Матвей Борисович вспомнил Соню, когда она была маленькой, в белом платье с оборками, в желтых ботиночках, с бантом в распущенных вьющихся волосах. В день ее рождения приходили в гости дети, и Соня, стоя на стуле, красная от волнения, читала в нос стихи. Такая же худенькая, такая же беленькая, как береза. Теперь Соня уйдет к чужому человеку, а он останется дома. Сына Матвей Борисович любил меньше, чем дочь, — сын был педантичный, самоуверенный и полнокровный.
На пригорке собралось командование части. Матвею Борисовичу дали огромный бинокль, он приложил его к глазам и стал всматриваться в даль, где зеленели купы деревьев: темные — хвойные и светлые — лиственные, виднелись поляны, проезжие дороги, поля.
Матвей Борисович и не разобрал, что подали команду, и услышал только гул разорвавшегося снаряда. Он вздрогнул и оглянулся по сторонам. Никто не заметил его испуга. На стекла бинокля были нанесены деления, казалось, что сломанные деревья валятся на эти черточки, как на изгородь.
Медленно оседала поднятая взрывом земля.
Командиры одобрительно перешептывались.
— Это чья батарея? — спросил учитель.
— Старшего лейтенанта Бабченко.
Орудия грохотали. Горизонт заволокло дымом.
А вокруг шелестела душистая трава, метались пестрые бабочки, скрипел под ногами песок. По небу торопливо шли встрепанные облака.
Когда стрельбы кончились и командиры собрались на разбор учений, Матвей Борисович тоже встал в сторонке и слушал, как командир полка благодарил Бабченко за отличную стрельбу. Матвей Борисович благосклонно посмотрел на человека, который должен был войти в его семью. Бабченко выслушал похвалу не конфузясь, прямо и спокойно глядя в глаза командиру полка.
Это удивило Матвея Борисовича. Ему казалось, что молодой человек должен быть более скромным.
Когда все стали расходиться по своим подразделениям, Матвей Борисович отозвал лейтенанта и сказал умоляюще:
— Я вас прошу об одном. Подумайте… Многие считают теперь, что любовь и брак — это разные вещи. А когда становишься старше, тогда понимаешь, какое это благо — любовь. Если вы хотите жениться, то сто раз подумайте, любите ли вы ее. — Матвей Борисович строго посмотрел в озадаченное лицо лейтенанта и почти крикнул: — Можете мне верить, я знаю, что говорю!
* * *
После стрельб в жизни Матвея Борисовича наступил перелом. Он сам не узнавал себя. Прежние интересы отступили куда-то на задний план. Он как будто успокоился, перестал суетиться. С его лица сошли морщины. Это заметил даже командир полка.
— Э, да вы у нас расцвели, — сказал он.
— Сосна, — неопределенно ответил учитель. И широко вдохнул напоенный хвоей воздух.
— У нас как на курорте, — сказал командир, — сосна, сухо. Жаль только, моря нет. — Он вздохнул. — Ну ничего, осенью дадим вам путевку, поедете к морю.
Все уже привыкли к учителю, к тому, что он неутомимо, как мышь, снует целый день по огромной территории лагеря. По вечерам он играл на скрипке в своей палатке. Вокруг под соснами собирались слушатели, они сидели на земле, обхватив руками колени. Матвей Борисович не видел их. Он, отбивая такт ногой, смотрел в небо, маленький и вдохновенный.
Дома он никогда столько не играл: жене его игра мешала спать.
Она говорила:
— Матвей, мы тебе верим на слово.
И бесцеремонно убирала скрипку.
В воскресенье приехала дочь, — она была рассеянна и нетерпелива, недолго посидела с отцом, как будто из вежливости провела ладонью по его редким волосам и ушла к Бабченко. Матвей Борисович встретил их потом в столовой. Бабченко был молчалив, а Соня много и неестественно смеялась, как смеются неловкие девушки, поверившие наконец, что их полюбили.
Приезд дочери не обрадовал Матвея Борисовича. Это была не его Соня, с которой он привык спорить о статьях и решать математические задачи-головоломки.
Его удивляло, что Соня похорошела — розовый румянец украсил ее бледное лицо с большими глазами. «Любовь, — думал Матвей Борисович, — она его любит…»
Соня сняла какую-то пушинку с рукава Бабченко, и Матвей Борисович вспомнил, как ее мать сняла первую пушинку с его рукава и он надеялся тогда, что навсегда полюбил ее женскую заботливость и нежные руки. Он все боялся, что Бабченко не любит Соню, не понимает ее, не знает, какие у нее математические способности.
Матвей Борисович все порывался заговорить с Бабченко об этом, но тот почти не бывал в лагере, проводил учения в поле. Он загорел и почернел, по многу часов не слезал с коня. Он аккуратно учился — то в три часа ночи, то в одиннадцать утра, но всегда был сосредоточен и сдержан. Деликатный Матвей Борисович не мог заговорить с ним о Соне.
В лагере все много работали. Часто толковали о войне, о международной ситуации, прикидывали, надолго ли затишье, разговаривая, посматривали на запад, как будто там, за лесом, на границе, что-то могли разглядеть, Матвей Борисович азартно спорил о политике с ветеринарным врачом, за обедом в столовой они строили гипотезы о будущих военных действиях и чертили ложками на дне тарелки планы операций, как два стратега. Командиры подходили иногда к их столу, с уважением прислушивались к разговору и покачивали головами с таким видом, будто эта премудрость была им недоступна, их дело маленькое — не рассуждать, а сражаться.
Командиров занимали стрельбы, лошади, марши, меткость попадания, новый строевой шаг. Они добивались полной взаимозаменяемости номеров в орудийном расчете. Ко всему этому Матвей Борисович относился более равнодушно, так как война представлялась ему поединком дипломатов и генералов.
Все чаще, приходя к командирам заниматься, он заставал только жен, — мужья задерживались в поле, на полигоне. Королева жила в одной квартире с Кононенко. Ее красный халат, распахнутый на груди, напоминал Матвею Борисовичу халаты жены — засаленные и яркие. Она открывала дверь, прищурясь смотрела на учителя и резко говорила:
— А его нету дома… Не знаю, когда будет…
— Я к товарищу Кононенко, я не к вам, — конфузливо говорил Матвей Борисович и осторожно протискивался в дверь, стараясь не коснуться тяжелого бедра.
— И капитана нет, — кричала вслед Королева, но он не слушал.
Тоня Кононенко, милая и растрепанная, опечаленная, как всегда, когда мужа не было рядом, откладывала в сторону книгу — она постоянно читала книги о любви — и говорила доверительно:
— Володя еще с утра ушел. И нет его. Так одиноко…
Она бывала рада Матвею Борисовичу, усаживала его и начинала расспрашивать. Ей было скучно одной. Вопросы она задавала неожиданные — то из астрономии, то из географии, советовалась, можно ли бензином свести пятно с нового платья, — ей казалось, что учитель должен все знать. Матвей Борисович отвечал пунктуально, с ненужными подробностями и даже пытался сам сводить пятна — он хорошо знал химию. Молодость Тони Кононенко и ее влюбленность в мужа трогали и умиляли Матвея Борисовича.
Оба они, и Тоня и ее муж, были высокие и красивые — Матвей Борисович питал слабость к красивым людям. Иногда огромный капитан при нем брал на руки жену и легко, как девочку, носил по комнате. Матвей Борисович краснел и отворачивался, начинал бормотать что-то и торопиться, но капитан уже ставил Тоню на пол, садился за стол и говорил:
— Внимание… Приступили к занятиям. Тоня, тишина!
Тоня утихала, садилась на диван.
Капитан решал задачи, и, когда учитель невзначай взглядывал на диван, он видел немигающие серые глаза. Тоня смотрела на мужа.
И Матвей Борисович мечтал иногда о том, чтобы его полюбила молоденькая девушка или женщина. Он думал об этом и волновался. Теперь, когда он знал, как быстро проходит жизнь, он мог бы оценить любовь. Сердце его билось сильнее. Нет, не низменные желания волновали, — ему хотелось поэзии, нежности, шелеста светлого платья. «Доктор Паскаль у Золя, — думал он, — химик Менделеев, его полюбила подруга дочери — гимназистка…» Но он не был ни Паскалем, ни знаменитым химиком. Кто он? Провинциальный учитель в провинциальном картузе, в смешных очках, пиликающий на скрипке. Во всем их городе вряд ли найдется девочка, которой не он открыл тайну, что семью восемь пятьдесят шесть.
Лето стояло пышное, высоко поднялись на лугах ароматные травы. К запаху меда и полыни, висевшему над лагерем, примешивался аромат хвои.
Как никогда, казалось Матвею Борисовичу, хороши были вечера и звезды, дрожащие в небе. Матвей Борисович спал совсем мало: мешали комары. Бессонница гнала его от сосны к сосне, он бродил, как лунатик, по белым песчаным дорожкам, облитым лунным светом. Торжественно и красиво было вокруг — ряды белых палаток меж деревьями, шаги часового, далекий лай собаки, неистовый блеск звезд в синем небе. Матвей Борисович томился от тишины, от полноты чувств… Он даже тревожился — что же это случилось? Почему он так полюбил жизнь? Он, который раньше часто мечтал о смерти и боялся насморка, теперь купался каждое утро в реке, не думал о простуде и страстно хотел жить. Он посоветовался с ветеринарным врачом, но тот, занятый своими лошадьми, сказал:
— Ну и очень хорошо. Чего вы нервничаете? Желудок в порядке?
— Вы так считаете?
И Матвей Борисович успокоился. Но бессонница по-прежнему томила его.
* * *
И в эту ночь он тоже почти не спал. С вечера играл на скрипке, потом задремал на койке и проснулся в два часа ночи. Он задыхался, во рту было сухо, сердце колотилось. И долго не мог понять, где он.
Матвей Борисович вышел из палатки. Луна еще стояла в небе, но уже светало. Летние ночи короткие. Он постоял под сосной, затем пошел по дорожке.
В конюшне беспокойно ржали кони: предутренние видения томили их. Под крышами амбаров ворковали голуби. Огромная рыжая кошка глядела на них с гребня крыши. Она судорожно зевала, щуря узкие, хитрые глаза, и, пружиня большое сытое тело, вытягивала вперед лапы. Кошек Матвей Борисович не любил и даже раздражался, когда при нем ласкали это глупое, хищное животное. Вид кошки, подстерегающей голубей, был неприятен ему, он хотел прогнать кошку, но крыша была высокая.
Медленно начиналось утро. С дерева слетела птица, ринулась в траву, потом снова взлетела. И небо, и воздух были одного цвета — сиренево-синего. Синева была плотная, густая, весомая. Матвей Борисович прошел через луг. Ноги его стали мокрыми от росы. Мокрая штанина холодила ногу, носок завернулся. Он нагнулся, чтобы подвернуть носок. На земле лежал тонкий вьющийся стебель повилики, усыпанный брызгами росы.
В небе гудели самолеты.
Они летели так высоко, что увидеть их Матвей Борисович не мог, только прерывистый гул доносился до земли.
Матвей Борисович посмотрел вверх, но за облаками ничего не было видно. Он пошел дальше, к реке. Песок на берегу был еще влажный. Матвей Борисович тщательно сгреб в сторону верхний слой: внизу песок был сухой и теплый. Он сел и, рассеянно пересыпая меж пальцев камешки, смотрел на тихие заросли за рекой. Камыш стоял неподвижно, Было уже часа четыре.
Где-то далеко протяжно ухнуло, чуть зашелестели на деревьях ветки.
«Гром», — подумал Матвей Борисович, но небо было ясное, ни единой тучи. А что-то рвалось за лесом, по земле катился гул. «Это стрельбы», — подумал снова Матвей Борисович.
Он долго еще сидел на берегу. Взошло солнце, и сразу стало тепло и весело, засверкала вода. На обратном пути уже было жарко, пришлось снять пальто. От бессонной ночи слегка гудело в голове, и Матвей Борисович не сразу понял, что происходит в лагере. Выводили лошадей, вытаскивали орудия. Бегали люди. Проскакал на своем золотом коне командир полка. Матвей Борисович крикнул ему: «Доброе утро!» Но тот не ответил. Учитель пошел к своей палатке, но палатки уже не было, торчали только колышки, и меж ними стоял чемодан.
И опять в небе запели самолеты, они шли теперь низко, и Матвей Борисович долго не мог понять, почему самолеты вызывают в нем такую тревогу. И вдруг его мозг пронзило, что самолеты были черного цвета. Они шли неторопливо, не строем, как будто подталкивали друг дружку, и отвратительно выли. Советские моторы шумели по-иному.
Это была война.
Матвей Борисович ощутил вдруг слабость в коленях и сел на свой чемодан с вышитыми на чехле красными петухами. Но сидеть не мог. Он побежал туда, где были люди, и узнал, что немецкие самолеты перелетели границу и бомбили город. Больше никто ничего не знал. Матвей Борисович путался у всех под ногами, всем мешал. Он беспомощно оглядывался по сторонам, ища себе дела. Все работали, один он…
Он остановил наконец командира полка, и тот сказал ему, что часть выступает к границе, а женщины и учитель будут отвезены в город.
— Почему же, — возразил Матвей Борисович, — почему в город? Я с вами…
Но командир полка закричал на него страшным голосом, и учитель присмирел. Он вспомнил, что надо прибрать классное имущество, и побежал по ленинским уголкам отшпиливать таблицы и карты. Когда он вернулся, неся, как дрова, охапку свернутых в трубки карт, заведенный грузовик уже рычал, вздрагивая от нетерпения. Заплаканные женщины таскали в огромный кузов свои корзинки. Тоня Кононенко прижималась к мужу, он отрывал от себя ее тонкие руки, но она снова цеплялась и, перебирая ремни на его гимнастерке, твердила:
— Володя, Володя, родной!
Королева с медицинской сумкой через плечо и в сапогах оттащила ее от капитана и, почти подняв на руках, перебросила через борт грузовика. Матвей Борисович топтался у машины. Королева закричала:
— Скорей! — и подтолкнула его к колесу, чтоб ему удобнее было занести ногу.
Машина тронулась. Учитель неловко ткнулся в чьи-то колени. Королева кричала вслед:
— Детей, детей в первую очередь соберите! Детей!
Она оставалась с частью.
Машина шла по ровной проселочной дороге. Густые сосны смыкали наверху ветки, но откуда-то сбоку проникали солнечные лучи и устилали лес желтыми, веселыми пятнами. Женщины подпрыгивали на своих корзинках, и все это — и лес и летние платья в цветочках — все были в пестром — так похоже было на обычные поездки в город со случайной машиной, что Матвею Борисовичу казалось, будто у него помутился разум. Машина выехала из леса на шоссе, и уже здесь все переменилось, по скользкому асфальту шли колонны — грузовики с пехотой, танки, прожекторные установки, орудия. Все это непрерывным потоком текло к границе.
Шоссе повернуло к городу, в лицо ударил ветер, и вдруг явственно запахло гарью. Рядом с шоссе шла трамвайная линия, звеня, прошел трамвай с разбитыми окнами. Над городом стоял дым. С проселочных дорог сворачивали на шоссе первые подводы с беженцами из пограничных сел, — мычали усталые коровы, привязанные к телегам, пронзительно кричал поросенок.
Горело предместье, какие-то боковые улички: оттуда, как из печки, обдавало жаром. Ухватившись за борт грузовика, Матвей Борисович старался увидеть, что горит, но грузовик подбрасывало, он ничего не мог разобрать — только видел цепи милиционеров, пожарные машины, корыта, кровати и подушки, сваленные на мостовой.
На площади перед аптекой зияла огромная воронка. Асфальт разворотило. Дом, в котором помещалась аптека, был разбит, дерево, стекло, камень — все беспорядочно перемешалось, и только там, где был второй этаж, держалась на чем-то полка с белыми аптекарскими пузырьками. Людей на улице было много, они толпились у репродукторов, в магазинах, заглядывали в воронки. У телеграфа стояла длинная очередь, во все концы страны шли телеграммы родственникам.
Матвея Борисовича вдруг охватила боязнь за свою семью. Он не думал раньше о ней, ему не приходило в голову, что кто-то может быть убит или ранен. Лишь теперь, когда он увидел следы разрушения и пожарища, ему стало страшно. Он заторопился домой.
Жена постарела, осунулась, как будто в ней обломились какие-то пружины и все — тело, мысли и самоуверенность — как тесто, поползло в разные стороны. Она заплакала, увидев мужа, и бросилась к нему, ища поддержки. Она ждала объяснения от него, ведь он прочел столько книг, что же это такое — бросать бомбы в мирных людей?
— Все еще спали, — твердила она, — я даже на базар еще не собиралась.
Она особенно упирала на то, что город бомбили в такой ранний час, как будто в этом состояло главное преступление фашистов.
Сын, с побледневшими и от этого, казалось, отекшими щеками, говорил:
— Это вероломство! Это коварство! Они нас обманули, я так и знал…
Он говорил сердито, даже с каким-то тайным злорадством, как будто все предвидел и, если бы с ним посоветовались, мог бы предупредить события. И мать вторила ему:
— Захар всегда это говорил. Ты помнишь, Матвей?
Но Матвею Борисовичу уже становилось тягостно с ними, и он спросил, оглядываясь по сторонам:
— А где Соня?
— Она лежит. Ей нездоровится.
Матвей Борисович прошел к дочери. Она лежала, закутавшись в платок, заплаканная и некрасивая, и рассматривала огромными глазами свои худые руки. Соня вздрогнула, увидев отца, и, даже не обрадовавшись ему, не поняв, что это именно он, а поняв лишь, что он приехал оттуда, где остался Бабченко, спросила:
— Ты видел Колю?
— Видел, — нехотя ответил отец.
— Он передал мне что-нибудь?
— Нет, — сказал Матвей Борисович.
Соня помолчала и опять стала рассматривать свои пальцы. Потом она сказала:
— Я беременна, папа.
— Бог с тобой, что ты такое говоришь, — конфузясь, ответил отец, еще не понимая значения того, что сказала дочь, и вдруг увидел, как дрогнули брови на некрасивом лице. Дочь тяжело дышала, как будто набиралась сил, чтоб заплакать. — Ну и что же? — сказал отец, стараясь улыбнуться, — Очень хорошо. Тем лучше.
— Что же в этом хорошего? — спросила дочь, тоскливо кривя губы. — Что же хорошего? — еще раз спросила она. — Он уехал и даже ничего мне не передал…
В комнату вошла мать и сразу вступила в разговор, так что стало понятно — она подслушивала за дверью. Но никто не обратил на это внимания.
— Я тебя прошу, я тебя умоляю, — торопливо говорила она, обращаясь к дочери. — Теперь не время иметь детей. Он может не вернуться, кто знает… Вы не записывались. Может быть, придется уезжать отсюда. Куда ты поедешь с животом… У меня есть знакомый доктор…
Мать разговаривала с дочерью как женщина с женщиной, она деловито прикидывала все «за» и «против». Это было омерзительно. А «он» — это был Бабченко. Матвей Борисович вспомнил лейтенанта, черного, с запекшимися губами. Лейтенант смотрел на запад, глаза его были жесткими и злыми, руки сжаты в кулаки, и про этого человека говорили «он». Матвей Борисович попытался протестовать, но жена закричала на него. Он чувствовал себя в этом доме как муха в паутине, он увязал, задыхался… Он ушел из дому туда, на улицу, где были люди.
По радио передавали первые сводки.
Последняя надежда на то, что все минет, как дурной сон, исчезла. Это была война.
Несколько дней Матвей Борисович провел как в чаду. Он суетился, дежурил в домоуправлении, рыл траншеи-бомбоубежища, сидел на совещаниях. По ночам были воздушные тревоги, светили прожекторы, били зенитные орудия. Пять или шесть бомб упало на город. Уже были жертвы, убитые и раненые. К утру все стихало, измученные люди вылезали из подвалов и траншей, веря, что это больше повториться не может. Но приходила ночь, и все повторялось сначала.
Матвей Борисович забыл о дочери.
Жена сказала ему виновато:
— Сонечка такая слабенькая… Не совсем удачно. Ей пришлось обратиться в больницу.
Матвей Борисович хотел затопать ногами и закричать на жену. Он только сейчас понял, что произошло, но голос прервался. Он всхлипнул. Он шел в больницу, ссутулившись, ему было стыдно, казалось, что все знают о его позоре.
Соня лежала на больничной кровати, измученная и жалкая.
— Зачем ты это сделала? — спросил отец. — Как мы ему посмотрим в глаза?
— Сам виноват, — упрямо сказала дочь. Эти слова, видно, были ее железной опорой, она цеплялась за них.
— Срам, — сказал отец. Это слово всегда произносила его покойная мать, когда он воровал сливы в соседском саду или не хотел молиться. И оттого, что отец, никогда не говоривший с детьми сердито, произнес это слово, Соня заплакала.
— Папа, это страшно… это так страшно… — твердила она. — Хуже этого нет на свете…
Матвей Борисович не понимал, что говорила дочь, но ее страх и волнение передавались ему, он тоже плакал.
А в коридоре стонали раненые. Их везли с границы. Бегали врачи и сестры, сбиваясь с ног.
— Я как собака, — сказала Соня, — никому не нужна. Там люди с фронта, а я?..
И она опять заплакала.
Матвей Борисович ушел из палаты вечером, когда Соня уснула. В коридоре было полутемно, стояли кровати, он пробирался меж ними и вдруг увидел Королева. Руки, голова его были забинтованы.
Матвей Борисович вышел на крыльцо. Луна светила, и ее ровный блеск лежал на холодных каменных ступенях крыльца. Все окна в больнице были тщательно занавешены. И так странно было, что все виденное в палатах и коридорах осталось за тяжелой дверью, а здесь — луна, деревья и тишина. На крыльце сидела женщина. Она не думала о том, как сидит, ноги ее были раскорячены, спина согнута. Так сидят плотники после тяжелой работы. Матвей Борисович узнал Королеву.
— Мадам Королева, — сказал он, — какое несчастье…
— Он выживет, он здоровый, крепкий человек… я в него верю… — Королева сказала это как будто спокойно, но вдруг добавила: — Вы не знаете, что за человек Королев. Этого никто не знает, кроме меня… От его батальона осталось несколько человек… Он один держал их два часа… я ведь все видела в бинокль…
— Вы не слышали… как Бабченко? — спросил Матвей Борисович ненатуральным голосом.
— Убит…
— Этого не может быть…
— Ребенок вы, что ли? — грубо закричала Королева. — Не понимаете, что такое война? Ну ладно, — хрипло сказала она, — они за все заплатят, эти сволочи, за все!..
Она долго сидела, раскачиваясь и бормоча такие крепкие ругательства, что Матвей Борисович испугался, не помешалась ли она. Или он сам сошел с ума. Потом Королева умолкла и вдруг заговорила тихим, звенящим от нежности голосом, как будто это была не она, а совсем другая женщина:
— Как он меня любил когда-то, мой муж… Я интересная была, косы, шея как у лебедя… Мое чувство к нему не переменилось, нет. Ну, а его ко мне — этого я не знаю…
— О чем вы думаете в такое время, даже странно и дико слушать… — упрекнул Матвей Борисович, не понимая, как он передаст дочери, что Бабченко убит. — Любит — не любит. Был бы только жив…
— Был бы жив, это конечно, — согласилась Королева. Но потом, как будто передумав, прибавила: — Нет… Когда все полетело к чертовой матери… Я хочу знать, зачем я жила, с кем жила? Любит ли? Ничего мне теперь, кроме правды, не нужно.
В городе завыла сирена, оповещая о тревоге.
— Опять, — сказала Королева и встала.
В больнице никто не спал, больных переносили в подвал. По коридору прошел высокий седой доктор, крича:
— Еще с вечера нужно было всех перенести! С вечера! Заблаговременно!
Старшая сестра виновато твердила:
— Но в подвале сыро… Я надеялась…
Где-то далеко разорвалась бомба, зазвенели стекла, захлопали двери. Больные выползали из палат, держась за стены. Плакали разбуженные дети. Раненый красноармеец с обвязанной головой закричал на всю больницу:
— Тихо! Порядочек! Передавай детей по цепи!
Матвей Борисович взвалил на руки легкую Соню, но и эта ноша была тяжела для него. Он спотыкался, нес дочь осторожно, как носил часами в детстве, когда она не спала, мучимая детскими страхами, а мать кричала, что это капризы, ее нужно заставить спать. Он чувствовал, как дорого ему это костлявое, осиротевшее тело. Подумал о ребенке, чей отец был вчера убит. Только теперь, пробираясь с Соней среди толкавших его людей в темный подвал, обливаясь потом, натыкаясь на стены, — он понял, что ни ребенка, ни Бабченко больше не будет.
Матвей Борисович положил Соню на солому. Она молчала. Отец пожал ее руку и произнес, не зная, что сказать:.
— Он замечательный человек, Бабченко.
— Да, Коля замечательный, человек…
Зенитки били густо, одна за другой, было нестерпимо трудно усидеть в темноте. Матвей Борисович пошел наверх. По коридору еще носили больных. Королева вела рослого красноармейца, он опирался на нее всем телом, почти падал, она несла его, покрикивая:
— Крепче держись, Соколов, крепче!
Матвей Борисович знал Соколова: это был его ученик.
— Обопритесь на меня, Соколов, — сказал он и подставил плечо.
Он не помнил потом, сколько раз прошел с Королевой по палатам: она командовала, он подчинялся. Из операционной вышел доктор, руки его были в крови, лицо воспалено. Он давно не спал. Доктор прислонился к косяку двери и неловко, стараясь не испачкать папиросу кровью, закурил.
— Как Королев? — спросила жена тревожно.
Королев лежал в операционной.
— Плохо, — ответил доктор. И повторил: — Плохо!
— Он крепкий, он здоровый, — поспешно сказала жена. И, взяв доктора за руку, пыталась объяснить ему: — Он два часа один их сдерживал.
Доктор посмотрел на нее понимающими глазами, бросил окурок и вернулся в операционную. Он отчетливо сказал:
— Давайте следующего!
Королева припала к двери, чтобы быть ближе к мужу. Матвей Борисович потянул ее за рукав, она оттолкнула его.
Матвей Борисович снова вышел на крыльцо. Темнота, стоны, звенящее от взрывов стекло, грохот — он не мог больше этого выносить, должен был увидеть небо.
Оно висело над миром, огромное и голубое. Матвей Борисович поднял к нему руки, но душа его была пуста. В городе пылало зарево. Больница была на окраине, в огромном саду. Столетние дубы и вязы стояли недвижимо. Вдруг воздух заколебался, как в грозу, что-то толкнуло Матвея Борисовича в грудь, ослепило его, и он упал. Золотой конь командира полка проскакал над ним.
Он очнулся. Уже светало. Было очень тихо, только шелестели листья на сломанном дереве. Он слабо шевельнул рукой. На его одежде, на руках, в волосах — везде была земля. Он лежал на траве.
Он не был ранен. Его оглушило. Бомба упала где-то здесь, неподалеку.
Матвей Борисович встал. Корпус больницы был невредим. Он нашел свою дочь: она все еще лежала в темноте, на соломе.
Сияющая Королева крикнула ему, пробегая по коридору:
— Он будет жить, уверяю вас! Я увезу его сегодня куда-нибудь подальше. В тыл…
«В тыл, — подумал учитель, — в тыл… а мы что, разве мы фронт?»
Какими смешными казались ему теперь разговоры с ветеринарным врачом в столовой, планы, которые они чертили, военные доктрины, которые они выдвигали. А как раскачивались тогда старые сосны за раскрытыми окнами, как пахли лесом необструганные дощатые стены, как проходили по столовой командиры и бережно, чтобы не расплескать, несли из буфета кружки с пивом! Он уехал из лагеря, смятый событиями, ему казалось, что он ничего и никого не видел, но теперь он все вспомнил. Он вспомнил, как садились люди на коней, гневные и молчаливые. Бабченко наклонился и поправил под седлом потник. Командир полка сдерживал коня, пропуская мимо себя полк. Он туго натянул поводья. Конь поднял морду. По шелковым ногам, как зыбь, скатывалось сверкание солнца.
Командир полка убит. Бабченко убит. Королев ранен.
Война казалась когда-то Матвею Борисовичу грубым делом. Он с чистой совестью освободился в молодости от мобилизации в армию — хотел служить искусству, быть скрипачом. Никто из его знакомых не воевал. Он не рад был, когда в гражданскую останавливались в его квартире на недолгий постой войска, он не любил шум, запах махорки. Это мешало ему читать. Он был доволен, когда квартира освобождалась.
А теперь он видел, как ушли родные ему люди для того, чтоб умереть. Он добивался права называться их учителем, долго выяснял, кто он — полковой учитель или старший полковой учитель. Это слово — «старший» — очень занимало его. А все — и понятие «старший», и обиды, и плохая квартира, которую он все время хотел переменить, чтобы было больше места для его книг, — все это пустяки по сравнению с тем страшным, что происходило. Зверь занес над ним лапу. Так что же делать — взять рогатину и пойти на зверя?
Он не мог долго размышлять, нужно было пойти домой, нужно было взять из больницы дочь, — он пошел. Но неотступно думал о словах Королевой. Он понимал, что она права, — теперь надо знать правду о себе и других. Час страшного испытания пришел.
Центр города горел, пожарища дымились, около них копошились люди, спасая свой скарб. Тротуары во многих местах разворотило, асфальт так нагрелся, что нельзя было пройти. Матвей Борисович пошел по тихим, немощеным уличкам, с покосившимися домами, где он жил в детстве. Но и здесь полыхали пожары. Где-то в огне пищали котята. Матвей Борисович узнал тот дом, где жил мальчиком, потому что на улице, у ворот, рос дуб. Женщины и дети шли по дороге, навьюченные узлами. Матвей Борисович знал этих женщин, они учились у него когда-то, знал их детей. Это был его родной город.
Он пришел к себе домой. Дом уцелел. Жена сказала:
— Надо уезжать… немец близко.
— Я не уеду…
— Папа, все уезжают… — сказал сын. — Есть распоряжение…
Жена и сын складывали вещи, совещались. Матвей Борисович ничего не понимал.
Почему он должен уйти из своего города, где учительствовал тридцать лет, из дома, где родились его дети, со своей земли? Он помнил, как пахнет эта земля, жирная, черная земля, как светят звезды в его небе. Он не мог уйти. Стоял посреди маленького кабинета, уставленного полками, и смотрел на любимые книги, которые собирал всю жизнь. Он не был дома два месяца. Книги запылились: без него никто не брал их в руки. На полу стоял его чемодан в чехле, расшитом петухами, лежал футляр со скрипкой. Он потянулся к скрипке, но передумал и махнул рукой.
Жена громко сказала в столовой:
— Скрипку надо взять, она пригодится.
— Я не поеду! — закричал Матвей Борисович. — Дайте мне умереть там, где я хочу.
Жена, ломая руки, стала умолять пожалеть ее: куда она поедет одна? Ему вдруг стало жаль ее. Он вспомнил ее молодой, с тугими щеками. Она сняла пушинку с его рукава. Она рожала ему детей. Вон там, в спальне, рожала она, крича от боли.
Он сдался.
Достал подводу и поехал за Соней. Они долго сидели на вокзале, дожидаясь очереди на посадку в вагоны: налетели самолеты и обстреляли вокзал. Потом начальник милиции узнал Матвея Борисовича и сказал с упреком:
— Вы же знаете, товарищ учитель, интеллигенцию мы эвакуируем в первую очередь.
Жена не преминула вставить:
— Он никогда не пользуется своими правами. Он давно мог получить квартиру в новом доме, уверяю вас…
Начальник посмотрел на нее удивленно. Ее мысли шли еще по привычному кругу.
Люди лезли в вагоны, втаскивали, мешки, кричали.
По дороге поезд обстреливали, состав останавливался. Пассажиры убегали в лес. Потом машинист давал гудок, и все собирались. Едкая летняя пыль забивалась во все поры, пахло потом и горем. Мужья потеряли жен, матери — детей. На станциях вдоль вагонов бегала женщина, надрывно крича:
— Леня, ой, боже мой! Леня!
Одни говорили, что Леня ее сын, другие, что муж… А навстречу все шли воинские эшелоны и красноармейцы.
Дыхание войны уже не чувствовалось. Кое-где убирали спелый хлеб. На полустанках продавали масло. На беженцев смотрели с любопытством и страхом, — они врывались в мирную жизнь, грязные, потные, в шубах, как вестники страшной, немыслимой беды.
Матвей Борисович, сидя на своей котомке, послушно ел, когда ему давали поесть, стоял в очереди за кипятком, когда его посылали, но все это делал механически, не понимая, что делает. Он ни о чем не жалел, не страдал от неудобств, не страшился будущего. Как в бреду вспоминал ту ночь у костра, в лесу, когда переломилась его жизнь, когда так близко от него была правда.
И не мог смириться с тем, что каждый поворот колес удаляет его от места, где остались его ученики: они дерутся, гибнут, а он… Мысли его были как морской прибой — однообразный, тревожный и неотвратимый.
А жизнь в эшелоне уже входила в свою колею. Как в большой корзине, все уминалось и перетряхивалось, сжималось, находило свои новые места.
Жена говорила с гордостью, как купец, расхваливающий свой товар:
— Мы же семья военнослужащего. Ее муж командир. Она беременна, — и показывала на дочь.
А поезд все шел и шел. Вагон мотало по рельсам.
Уже создавался свой особенный быт. Народ называл их военкуируемыми. Их то жалели, то ругали, делились с ними последним и жадно прятали от них еду.
Сын утратил свою обычную флегму, бойко бегал за кипятком и папиросами, аккуратно делил хлеб, выгодно обменивал полотенца на сало.
Жена все время вспоминала имущество, которое она оставила. И во всем вагоне негде было укрыться от ее голоса, когда она хвалила свои простыни и плюшевые одеяла.
Дочь лежала пластом, не пила и не ела.
Вид Матвея Борисовича был страшен и отвратителен. Бороденка его стала серой, рубаха обвисла. Он ни с кем не разговаривал.
Наконец он не выдержал: сошел на станции и пошел туда, где за косогором желтели поля и мельница выставила на запад, как руку, черное неподвижное крыло.
Матвей Борисович слышал, как слабо, словно по обязанности, кричала жена:
— Он сошел с ума, верните его, верните!
Он не оглядывался и все шел и шел, размахивая палкой.
МЕТОД ИНДУКЦИИ Рассказ
В войну командировочный фонд редакции был невелик, нам редко удавалось ездить в дальние гарнизоны. Чаще отправлялись рабочим поездом в запасные полки, расквартированные недалеко от города.
Такое путешествие предстояло и на этот раз.
Давая задание написать очерк об образцовом командире батареи, секретарь редакции строго предупредил:
— Только, пожалуйста, без восходов и закатов. И покороче, умоляю… самую суть, опыт…
Как будто я сама не догадалась бы, что нельзя злоупотреблять описанием среднеазиатской природы. Формат газеты военного округа был сокращен из-за нехватки бумаги чуть ли не вчетверо.
В ту пору сотрудники редакции как бы делились на две категории — военнослужащих и вольнонаемных. Военнослужащие носили форму, имели воинские звания, ходили на строевые занятия, в любой день ждали отправки на фронт, во фронтовые газеты. Вольнонаемные, большей частью приезжие, эвакуированные, были, похоже, на втором плане и занимались не главным, а информацией, маленькими фельетонами, коротенькими рецензиями на кинокартины, литературной консультацией — одним словом, четвертой полосой.
Задание написать очерк для отдела боевой подготовки — о, это была большая честь. В отделе мне посоветовали:
— Возьмите лейтенанта Самарина. В его подразделении нет ни взысканий, ни замечаний. Кроме того, Самарин активный корреспондент.
— Еще бы, я вам его и сосватала, — не без гордости напомнила я.
А познакомились мы так…
Я сидела за правкой заметок в своем закуточке, отгороженном от узкого коридора. В редакции было тихо. Смеркалось. Потемнел ствол дерева, заслоняющего окно, — солнце переместилось ниже. И как-то сразу стало грустно.
Кто знает, отчего и как приходит к человеку тоска? Вероятно, и на это есть свои законы. Когда-нибудь их откроют, как открыли радио и электричество. Ведь и они существовали, когда никто о них еще не подозревал.
Как бы там ни было, но тоска навалилась невыносимая. Шел уже второй год, как я жила в эвакуации с ребенком, матерью и свекровью, оторванная от привычного уклада жизни, от мужа, от работы, от своего дома. Дом был далеко, где-то на другом континенте. Письма приходили редко, непонятные как ребусы… Они шли так долго, что отвечать, что-либо выяснять было бессмысленно — все равно что стучать кулаком в каменную стену. Обида наслаивалась на обиду, недоразумение на недоразумение.
По сравнению с Москвой — с бомбежками, с близостью фронта, с надоеданием — все, чем жили мы, казалось очень мелким — все эти хлопоты о керосине или ордерах на саксаул и на уголь. Наш бивачный быт утомлял и унижал, не хватало подушек, простынь, кастрюль, вилок…
Но ведь так было и вчера, и позавчера. Почему же я затосковала сегодня, почему именно сегодня так остро почувствовала себя слабой и беззащитной!..
Неужели из-за злосчастной коврижки?
Был канун праздника, и военнослужащим разнесли продовольственные пакеты. Расщедрился наш шеф — зав издательством, невысокий человек в галифе и сером пиджаке, никогда не снимавший кепки. Таким он и запомнился мне — в кепке и калошах поверх сапог, хотя вряд ли в среднеазиатскую жару он носил калоши.
Итак, военнослужащие получили пакеты и давно уже ушли домой очень довольные, с деланно серьезным выражением лиц, и унесли подарки, тщательно замаскированные старыми газетами. Журналисты-военнослужащие всегда чувствовали себя неловко, когда их в чем-нибудь отличали от нас. Нам, вольнонаемным, пакетов, видимо, не полагалось… А мне так хотелось вернуться домой не с пустыми руками!
Не знаю, как это случилось, но я положила голову на стол и тихонько заплакала. Можно было подумать, что именно все, чего мне не хватало в жизни в те дни, воплотилось в этой выданной к празднику медовой коврижке, напоминавшей, кстати, о меде только коричневым цветом. Но я принесла бы эту несладкую коврижку своему мальчику, увидела, как блеснут искорки интереса в его глазах, услышала похвалу бабушек. В те суровые дни 1942 года я была главой семьи.
И вот, когда я постыдно оплакивала эту коврижку, свою «второсортность», свое одиночество, на пороге появился маленький белобрысый военный. Он был в аккуратной, выжженной здешним жгучим, въедливым солнцем, много раз стиранной гимнастерке, туго подпоясанный, с мальчишеским хохолком светлых волос на затылке.
— Разрешите обратиться? — вполне серьезно спросил он.
Я прикрыла слезы ладонью. Но вошедший ничего не заметил, он тоже был смущен. Стараясь скрыть это смущение, он сказал бодро:
— Тут я стишки к вам присылал, продергиваю, так сказать, Гитлера и его вассалов. Хотелось знать результат…
— Ваша фамилия?
— Самарин…
Я достала толстую папку и нашла рукопись. Стихи были очень плохие. Самарин слушал меня не мигая, добросовестно стараясь понять свои ошибки. К сожалению, дело было не в частностях, — ну просто это и не похоже было на стихи…
Я старалась говорить мягко:
— Вы человек пишущий. Почему бы вам не связаться с нашим отделом боевой подготовки? Поделиться опытом?
— Это можно, — согласился Самарин и посмотрел куда-то в сторону. — Газета дает нам руководство в повседневной жизни…
Он выражался витиевато, книжно, но тон был искренний и правдивый.
Уходя, Самарин мужественно пошутил:
— Значит, стихи больше не присылать? Не надо?
— Присылайте, пожалуйста. Только уж не обижайтесь…
Самарин удивился:
— Как можно обижаться?.. Такой привычки у меня нет.
Я подписала ему пропуск и попросила:
— Так обязательно, обязательно пишите для отдела боевой подготовки. Ведь вы кадровик?
Самарин помрачнел:
— Я как эта самая Данаида, что заполняет бездонную бочку водой. Подготовил для фронта четыре маршевых роты, а сам остаюсь здесь… Тут не только стихи сочинять, тут слезами начнешь плакать.
Больше он в редакцию не приезжал, во всяком случае ко мне не заходил. И стихов не присылал. Однако с отделом боевой подготовки Самарин действительно связался: раза два или три мы печатали его толковые материалы об опыте обучения солдат артиллерийской стрельбе.
Когда я сошла с пригородного поезда на станций, откуда до расположения части надо было пройти километра полтора, то первый, кого я увидала, был Самарин. Конечно, это был он — маленький, чистенький, как воробушек, с хохолком на затылке. Но Самарин почему-то отвел глаза в сторону.
С ним шла женщина — молодая, белокурая, беременная, с лицом в желтых пятнах, в пестром широком платье из узбекского шелка. Самарин был нагружен основательно. Он вел женщину и тащил сумки, чемоданчик, даже большой эмалированный таз.
Незадолго перед тем в Красной Армии ввели офицерские звания и по гарнизону был отдан приказ о соблюдении офицерского достоинства. Среди прочих «запрещается» был пункт, что офицерам нельзя носить тюки, мешки и авоськи. Может, именно по этой причине Самарин не хотел, чтобы его увидели.
Ну что ж… Я пошла по дороге одна.
Начальник штаба, щеголеватый, с красивыми выпуклыми глазами, долго разглядывал мое редакционное удостоверение, потом сказал не то с сожалением, не то с укоризной:
— На фото вы моложе…
— Это довоенный снимок…
— А-а…
Он понимающе вздохнул, как будто «до войны» — это было в прошлом столетии. Потом вынул зеленую расческу, причесался, деловито спрятал расческу в кармашек и представился:
— Капитан Жолудев. Намерены здесь пожить? Хм, с жильем у нас катастрофа. Ведь дислоцируемся, можно сказать, прямо на песке. Как виноградные лозы… — Видимо, он уже не раз повторял эту остроту. — Впрочем, пока вы в политотделе утрясете с Кривошеиным кандидатуру вашего героя, я что-нибудь соображу…
Хоть я не в первый раз приезжала в воинскую часть, но так и не научилась преодолевать чувство неловкости. Журналист предпочитает вообще оставаться неузнанным, держаться незаметно. Но как можно остаться неузнанной, незамеченной, когда вокруг сотни солдат и офицеров и среди них ты одна женщина… В лучшем случае в санчасти еще бывает медсестра или машинистка в штабе… Но к ним уже все привыкли, на них никто не оглядывается.
С тем же чувством неловкости вошла я в политотдел, где сидел майор Кривошеин, немолодой уже, очень симпатичный, в накинутой на плечи телогрейке, и с удовольствием пил из жестяной кружки чай. Он не стал смотреть удостоверение, нисколько не удивился моему приезду и сразу спросил:
— Кок-чай уважаете? Прекрасная штука. Вышел ночью без ватника — и вот простыл… чаем только и спасаюсь.
Я порылась в сумочке:
— Хотите аспирину?
— Нет, не признаю.
Кривошеин со вздохом отставил кружку, от которой шло живительное тепло, передернул плечами, поправил телогрейку и перешел к делу:
— Значит, про Самарина хотите писать? Ну что ж! Офицер честный, смелый, прекрасный товарищ, хороший коммунист, командир без пятнышка. Устраивает? — Он засмеялся: — Родом с Кавказа, кажется, из пастухов…
И крикнул в соседнюю комнату:
— Жолудев! Самарин у нас из пастухов, что ли?
— Из пастухов, — чуть высокомерно ответил начштаба и появился на пороге. Он картинно прислонился к притолоке, достал портсигар, постучал по деревянной крышке папиросой.
— Одна беда, — продолжал посмеиваться Кривошеин, — рапортами нас замучил, на фронт просится. Жолудев, не дай соврать — сколько раз Самарин рапорта подавал?
— Раз восемь, — все тем же чуть высокомерным тоном отозвался Жолудев. Изящные голубоватые кольца дыма полетели по комнате. — Я уж ему сказал: «Слушай, Самарин, ты что, боишься, на фронте все ордена раздадут, на твою долю не останется?..»
Кривошеин недовольно сдвинул брови:
— Ну, это тоже не разговор, хочет-то ведь он от чистого сердца. — И прибавил с оттенком грусти: — Все мы через эти настроения прошли. Когда первый маршевый батальон без меня уехал, я совсем духом пал. Отчего? Да почему? Почему это я недостоин?..
— Однако командир полка какую резолюцию наложил на рапорте?.. — Жолудев посмотрел на меня многозначительно. — «Разъяснить лейтенанту Самарину важность подготовки резервов для фронта…»
— Разъяснение разъяснением, а душа душой… — Кривошеин позвал вестового: — Живой ногой слетай за лейтенантом Самариным!
— Есть слетать!
— Ну, выполняй, дуй…
Прошло несколько минут, прежде чем появился Самарин с мокрым хохолком на затылке.
— Вот он, наш красавец, — по-домашнему весело сказал Кривошеин, как только Самарин доложил, что явился по его вызову. — Примите к сведению, не пьет, не курит, пока что холост.
Я удивилась:
— Холост? А я подумала, вы встречали сегодня жену. Я ведь вас видела, товарищ Самарин, на станции.
Самарин вдруг вспыхнул. И Жолудев почему-то побагровел.
Я почувствовала, что совершила бестактность. Но, не зная, как спасти положение, опять сказала не то:
— Наши мужчины из редакции, офицеры, тоже переживают. Не идти же рядом с женой и смотреть, как она тащит сумки из распределителя. А ваша спутница так много привезла. И чемодан. И этот замечательный белый таз…
— Надо полагать, что лейтенант сопровождал мою жену и тащил ее вещи, — насмешливо сказал Жолудев.
— Так точно, капитан, — хотя Самарин рапортовал, как положено по уставу, в тоне его зазвучал вызов. — Я нес вещи вашей жены, поскольку ее никто не встретил.
— Что же вы хотели, лейтенант, чтобы я понес таз и прочие дамские шмутки? — Жолудев пожал плечами. — Удивляюсь, как вас не заметил комендантский патруль…
— Ну и что? Я бы дал надлежащие объяснения.
— Такое отношение к слабому полу делает вам честь. Удивляюсь, что Люся не сумела оценить вашу преданность раньше.
В словах капитана таился такой ядовитый намек, что у Самарина запылали кончики ушей. Нет, дело тут вовсе не в нарушении приказа. И по тому, как морщился Кривошеин, ясно было, что и он это понимает и что ему, как и мне, мучительна эта сцена.
Самарин круто повернулся к Кривошеину:
— Вы меня вызывали?
— Ну, садись, отдыхай, — добродушно сказал Кривошеин.
Самарин сел. Но Жолудев все еще не успокоился:
— Лейтенант!
Самарин вскочил.
— Слушай, лейтенант, — небрежно заговорил Жолудев, испытывая явное удовлетворение от того, что Самарин обязан перед ним «тянуться», — тут вот корреспондентка приехала. Так в твоем палаццо имеется закрытая терраска, может, окажешь гостеприимство?
— Слушаюсь, товарищ капитан. — Самарин смотрел мимо Жолудева, на меня. — Только как бы вам не было шумно. Плац рядом.
— Это пустяки. Если только вас не обременит… — попыталась вставить я.
— Им нужен покой, тишина, условия для умственной работы.
Жолудев бесцеремонно остановил Самарина:
— Ну ладно, ладно. Так я распоряжусь насчет койки.
И, сделав легкий поклон в мою сторону, Жолудев удалился.
Кривошеин облегченно вздохнул:
— Петухи, настоящие петухи в Испании. Или это бой быков в Испании, а?.. Так вот, — не дожидаясь ответа, строго сказал он, — поскольку товарищ прибыл из газеты, а пропаганда опыта — наше общее дело, то ты того… не скромничай и отвечай на все вопросы.
— Говорят, ваше подразделение не имеет ни взысканий, ни замечаний, — вмешалась я.
— Факт, — подтвердил Кривошеин. — Дисциплина у него высокая.
— Вот именно сейчас я опасаюсь, — таинственно крутанул головой Самарин, как бы высвобождая шею из воротника, — опасаюсь, что положение может в корне измениться: принимаю новое пополнение.
Кривошеин дипломатично поправил его:
— Опасения — это еще не реальный факт. А на сегодняшний день твое подразделение лучшее в полку.
От комнатки Самарина меня отделяла тонкая перегородка с окном. Я отлично слышала его шаги, вздохи, щелканье выключателем, даже тихий разговор с собачонкой, вертевшейся под дверью, выходившей, как во многих азиатских летних постройках, прямо во двор. Самарин оделял собаку кусками, что-то ласково бормотал, посвистывал, только выговорил за то, что снова вся извалялась в пыли.
Крытая терраска, тесная и душная, напоминала запыленную стеклянную банку. Мутные окна припорошило песком. Я вынула полотенце, поставила на столик карточку сына, спрятала под подушку маленького зайца, которого он велел взять с собой в дорогу. Достала карандаши и бумагу.
На новом месте мне не спалось.
Сквозь голые, с набухшими почками ветки тополя смотрела на меня яркая звезда. Блеск холодный, далекий, зеленоватый. Будто в душу она мне глядела, эта ледяная звезда…
Глядела, а что видела? Может, волнение? Всегда страшно, даже когда заметку собираешься писать. А тут очерк… Ведь совестно перед людьми, у которых отнимаешь время. Или горькое недоумение, к которому нельзя привыкнуть, разглядела звезда? Идет огромная война, а ты, которой всегда верилось, что будешь там, где происходит самое главное для страны, ты живешь где-то далеко-далеко, в глубоком тылу, и только жадно слушаешь сводки.
Материальные лишения, работа в тыловой газете, в подшефном госпитале — это так немного, чтобы успокоить совесть. А семью покинуть невозможно. Вот и сейчас, хотя они ночуют под мирным небом, под прочной крышей, гнетет тревога. Как там мой мальчик? Проспит ли спокойно до утра, не проснется ли, не заплачет?
И последняя мысль, перед тем как задремать, — застану ли я, когда вернусь, письмо из Москвы? Выслан ли вызов? Как тяжко в такое грозное время жить врозь. Меняешься чуть ли не с каждым часом, становишься старше, мужественнее, может даже мудрее. Открываешь в себе все новое и новое. Как будто идешь дальней, трудной дорогой и не знаешь — выведет ли тебя эта дорога снова к дому, к старым отношениям, и будешь ли ты сама такой, как прежде? И спутник твой, останется ли он таким, каким был когда-то? Ведь и он идет по трудной дороге, когда день равен месяцу, а месяц — году…
Я встала, едва рассвело, с трудом распахнула разбухшую раму. Благодатной широкой струей потек на терраску свежий воздух…
Над огромным двором висело туманное небо, видны были казармы, домишко штаба и политотдела, вещевой склад, столовая. Под «грибом» стоял часовой. Из конюшни вывели смирную сивую лошадь, впрягли в фургон — видимо, собрались в пекарню за хлебом. Лошадь меланхолично, как старая балерина, перебирала ногами.
На деревянном щите висела наша газета.
У забора кучкой, на сундучках и чемоданах, поеживаясь от утреннего холодка, сидели бойцы, с любопытством оглядываясь по сторонам. Это, видимо, и есть новое пополнение.
Слышно, как за перегородкой встал Самарин, скрипнул сапогами, звякнул пряжкой ремня. Кто-то постучал к нему в дверь, вошел. Говорили шепотом, чтобы не разбудить меня. Потом я расслышала, что это какой-то Горлов пришел прощаться: уезжает на фронт.
— Я твое нетерпение понимаю, — сказал Самарин с нескрываемой завистью. — Ну, бывай, Горлов…
Послышался троекратный звук поцелуя. Потом сдавленным голосом Горлов попросил:
— Жена моя здесь остается с ребятишками. Совсем глупая баба. Разрешите ей обратиться к вам в случае чего…
— Сделаю все, что в моих силах, не сомневайся… — Самарин посоветовал: — Ты там, на фронте, песню, шутку не забывай. Шутка раззадоривает бойца… Пиши, какие недостатки увидишь в нашем обучении.
Через окно я увидела, как Самарин вышел провожать плечистого, румяного Горлова, как долго смотрел ему вслед, каким хмурым взглядом оценивал бойцов у забора, как подозвал кого.-то движением руки.
Подбежал молоденький кудрявый младший командир, и оба вошли в дом.
Вот этот кудрявый Черенков и будет замещать Горлова. Черенков говорит чуть не плача, что он не справится, разве может он справиться после такого опытного человека, как Горлов…
— А я говорю — справитесь, — настаивает Самарин. — С любыми вопросами можете обращаться ко мне шесть дней и шесть ночей подряд, на седьмой будете действовать самостоятельно…
Может, Жолудев и хотел насолить Самарину, поселив меня по соседству и переложив на него все заботы, но мне тем самым он оказал неоценимую услугу. Интересно все-таки, что за отношения между этими двумя офицерами? Из-за чего у них вражда? Из-за жены Жолудева, это ясно!
За стенкой становится тихо. Только один или два раза глубоко вздыхает Самарин. Мне не хочется его окликать.
Мимо окна проходит грузный Кривошеин в стеганке и стучится в дверь к Самарину. И Самарин сразу же, как будто ждал, перед кем излить душу, повторил фразу, которую уже говорил мне когда-то в редакции:
— Я как эта самая Данаида, что заполняет бездонную бочку водой. Встречаю и провожаю — и снова открываю объятия…
— Это ты про новое пополнение? Опять загадками говоришь?
— Загадка украшает жизнь. Вот я читал одну книгу…
Кривошеина в настоящую минуту ни загадки, ни книги не интересуют. Он требует какие-то списки, листает их, кряхтит, обсуждает. Но Самарин, потолковав о списках, снова жалуется:
— Мне никогда не везло. Что другим само в руки дается, я зарабатываю горбом. Разве это справедливо? Вот проводил Горлова. Совесть не позволила задержать. Парень ценный, такие на фронте нужны.
— Кого вместо него ставишь?
— Черенкова Володю. Ценю его за любознательность и стремление к новому. Надо только ему выработать самостоятельность.
— Кипяток есть? — спрашивает Кривошеин и жалуется: — Что-то меня опять трясет. Журналистка завтракала?
— Спит, — поясняет Самарин. — Устала с дороги, спит…
— Столовую не закроют? Не проспит?
— Неудобно, — почти шепчет Самарин. — В первый же день — и в столовую. Я тут кое-что приготовил.
— А к нам нового лейтенанта прислали, — громко говорит Кривошеин. — Из училища. В штабе видел.
— Из училища — это хорошо! — радуется Самарин. — Свежий человек, свежие мысли… — И опять переходит к излюбленной теме: — А я? Ни образования, ни серьезной подготовки. К офицерству теперь предъявляются высокие требования.
Кривошеин не отвечает. Он грохочет кружкой — видимо, снова наливает чай. Потом спрашивает:
— Ты для чего этот портрет держишь?
— Подарили, вот и держу.
— Нетактично. На нервах у мужа играешь.
— Какие еще у него нервы! — бормочет Самарин.
— Доиграешься, — остерегает Кривошеин. — Смотри, лейтенант!
Хлопает дверь. Кривошеин уходит. Скрипит кровать — видимо, Самарин сел или лег на койку.
Из окна мне видно, как Кривошеин медлит на пороге, сердито мотая головой, потом идет по двору, подходит к бойцам, разговаривает, закуривает, смеется. Его кисет с табаком переходит из рук в руки. Потом Кривошеин уходит.
Новых бойцов выстраивают для утренней поверки. Суетится и бегает Черенков. Бойцы волнуются. Затем появляется Самарин, в начищенных сапогах, весь в ремнях, важный как генерал.
О чем он думает, разглядывая разношерстную толпу? Я стараюсь смотреть на пополнение глазами Самарина. Нет, это не погодки, как бывало до войны, не рослые, отобранные один к одному парни. Призывают сразу разные возрасты, война требует солдат. Кто они, откуда? Вот этот тщетно и конфузливо старается втянуть под ремень круглый живот. Наверное, служащий, человек сидячей жизни. Или этот красавец с озорными глазами, полный уверенности, что он нигде и никогда не пропадет. Или тот, до того растерянный и удивленный, что не может понять, где «право» и где «лево», как ему это ни втолковывает Черенков. Подавленный своей непонятливостью, солдат улыбается детской улыбкой. Или вот тот великан с могучими плечами. С такими долго мучаются старшины, подбирая обмундирование по росту. Или этот хилый, сонный, с торчащими ушами. Да, всех их надо в короткий срок сделать солдатами, научить держать винтовки, стрелять из орудия, окапываться, маршировать, переползать, маскироваться, наматывать портянки, чтобы ноги на марше не стирались до крови.
А Самарин все смотрит и смотрит. Так изучает учитель ребятишек, пришедших впервые в класс. Так вглядывается художник в эскизы, приступая к картине. Так перечитывает записные книжки писатель, садясь за повесть. Так знакомится парторг с членами организации.
Вот Самарин бросил окурок и с решительным видом вышел вперед. Младшие командиры уже подравняли строй, подали лейтенанту списки.
— Белацкий! Лобков! Кисель! Кто Кисель?
— Мы, — степенно ответил голубоглазый человек, тот самый, что по-детски улыбался.
— Кисель есть, очень хорошо, теперь надо ложку, — негромко пошутил Самарин. Смешок прошел по рядам. — Флегонтьев!.. Кто Флегонтьев?
— Ну, я… — небрежно ответил молодой, с безучастным выражением лица мужчина.
Самарин внимательно вскинул глаза. Что-то, должно быть, не понравилось ему в этом развалистом парне с толстой шеей. Он строго заметил:
— Как стоите перед командиром? Станьте ровно! Яцына!
Бойкий, с нагловатыми глазами, скуластый, подбористый человек весело отозвался:
— Тут я!
Перекличка окончена. Самарин говорит:
— Товарищи новые бойцы! Наша батарея не имела по сегодняшний день взысканий и замечаний, находится на отличном счету в части, хотя состав батареи менялся, обученные нами артиллерийские расчеты отбывали на фронт. Но тот, кто оставался, понимал свой долг, учил новоприбывших, не жалея сил. Репутацией дорожил. Мы и вас призываем к тому же. Помните, товарищи бойцы: в нашем подразделении не было и не должно быть плохих солдат…
Подошли командиры орудий, и Самарин стал с ними советоваться, кого из старых бойцов, оставшихся на батарее, прикрепить к новичкам. Лобков шустрый, этот сам потребует своего, с ним беспокойства не будет. Кисель слишком тих, надо его соединить с бойким человеком. А вот Флегонтьев… Пусть за Флегонтьевым последит командир орудия Черенков. Лично…
И Самарин многозначительно поднял палец.
Черенков вздохнул и, откозыряв, помотал головой. На лице его отразилось отчаяние.
Самарин привык ко мне, перестал стесняться, реже произносил витиеватые фразы. Я и в столовую ходила вместе с ним и на полигон. И теперь вот сижу рядом, читаем газеты. Он изучает сводку и положение на фронтах, очень интересуется, пишут ли что-нибудь про артиллерию и артиллеристов, нельзя ли «позаимствовать» фронтовой опыт. Видно, что сам вид газетного листа ему приятен, нравится даже запах типографской краски. Когда он рассматривал снимки и обдумывал сводку, глаза его заволокло дымкой, он прищурился и смотрел вдаль, словно забыл, где находится.
Потом очнулся и аккуратно сложил газетный лист.
Я невольно спросила:
— Романы, художественную прозу вы любите?
— Конечно! — Он удивился. Но, стесняясь признаться, что читает для собственного удовольствия, прибавил: — Даже любовный роман и тот помогает лучше понять психику бойца.
Он долго думал о чем-то, искоса взглядывал на меня и наконец спросил в свою очередь:
— А вы, извините, романов не писали?
— Нет, что вы…
— Хотелось бы увидеть человека, написавшего роман.
— Зачем?
— Ну, так. Просто пожать руку. Человек делает благородное дело, такое полезное!
— А вы? Вы разве не делаете?
— Кто? Я? У меня ведь совсем никакого образования. Вот на фронте все отдают… — Он хлопнул по газетному листу, — жизнь отдают, а мы прохлаждаемся…
Ни тени рисовки не было в его словах.
— Прохлаждаетесь? Вы? — Я развела руками.
Работает как черт, обугливается в среднеазиатском пекле, исхаживает в рыжих от пыли сапогах десятки километров в день, ползает по глине на брюхе, обучая бойцов, готовит для фронта артиллерийские расчеты в предельно сжатые сроки — и это называется «прохлаждаемся»!..
Самарин как будто понял мои мысли:
— Мне легко, я ведь работаю с людьми по особому методу.
— По какому это?
— Называется метод индукции, — таинственно сказал он. Щеки его зарумянились, глаза заблестели.
— Индукции? — переспросила я.
— Ну да. В воспитании бойца надо идти от частного к общему, надо подводить человека к цели на примере его собственной жизни… Вам понятно? Это и есть метод индукции.
Тот же плац, тот же часовой под «грибом», то же небо… И только тополь у стены неузнаваемо изменился. За несколько часов короткой весенней ночи огромная тайная работа природы закончилась, почки лопнули, словно их разорвали поодиночке, и из серо-коричневой жесткой и клейкой оболочки показались скатанные, как шинели, в зеленый тугой сверток молодые листья.
За стенкой было тихо. Самарин спал. Значит, и мне еще не надо вставать. Хорошо, что можно полежать, подумать…
Я уже многое знала о Самарине.
До войны, когда полк жил мирной обычной жизнью, то есть был постоянный командный состав, летом выезжали в лагеря, осенью проводили инспекторские стрельбы, зимой устраивали семейные вечеринки и танцевали в Доме Красной Армии, — в те давние времена Самарина очень любили в полку за отзывчивость и доброту, у него даже было прозвище — «Сберкасса. Тайна душевных вкладов обеспечена». С Самариным советовались, ему поверяли свои секреты и невзгоды не только товарищи-сослуживцы, но их жены, сестры, дети. У него брали деньги без отдачи, перехватывали до получки. Смеялись, что бездомные собаки со всей округи как-то узнают его адрес. Летом в палатке Самарина всегда оказывались то черепаха, то галка с подбитым крылом, то котенок.
На вечеринках именно Самарин крутил ручку патефона, менял пластинки и помогал хозяйке вносить самовар. Именно ему приходилось после танцев провожать на край военного городка самую некрасивую девицу, которую некому было проводить, хотя поговаривали, что ему нравится машинистка Люся.
Самарину же доставались самые трудные задания от командира батальона и неудобные, дальние полигоны для занятий.
Всем он был нужен, всем необходим, незаменим.
Когда в части появился Жолудев — это было еще до войны, — Самарин сразу же сдружился с ним, восхищаясь щеголеватостью, остроумием и находчивостью нового командира.
Через месяц-другой Жолудев внезапно женился на Люсе. Огорчило ли это Самарина, никто не знал, — во всяком случае, он на свадьбе присутствовал и даже подарил молодым огромную, как поле, зеленую скатерть. Но дружба с Жолудевым как то расклеилась — может, потому, что Жолудев пришелся по душе начальству и быстро продвигался, а Самарин так и остался командиром батареи.
С началом войны жизнь в части круто переменилась, довоенные отношения и традиции забылись, потеряли свое значение. Да и мало кто из «стариков» остался в полку. Уехали на фронт, на формирование новых дивизий. Многие погибли в боях…
Кое-что о Самарине тепло и ласково рассказал Кривошеин. Но он знал это с чужих слов или из личного дела. Сам он был новым человеком в части, до войны работал мастером на мясокомбинате. Жолудев на мои расспросы отвечал снисходительно, чуть насмешливо. Даже пожимал плечами, удивляясь, что меня интересуют такие пустяки. В его освещении Самарин выглядел недалеким, простоватым. То, что восхищало Кривошеина, Жолудеву казалось смешным. Про скатерть, про свадьбу Люси, про вечеринки сообщила мне сестра из медчасти, немолодая, деятельная женщина. Она, шепелявя, говорила намеками, не прямо:
— Люся работала машинисткой в штабе… Еще до войны… Она лучше всех знает Самарина… Вообще в части только, кажется, и остались из старых — это Люся, Жолудев и Самарин… Надо же, чтоб именно эти трое остались…
Нет, с Люсей надо обязательно встретиться.
Конечно, это не имеет отношения к теме очерка. Психологические подробности газете не нужны. Надо рассказать о трудовом опыте Самарина, о том, как он готовит резервы для фронта. Все остальное, и история с Люсей в том числе, это и есть «восходы и закаты», о которых меня предупреждал секретарь редакции. А все-таки я выберу время и поговорю с Люсей.
За стеной заскрипела кровать. Самарин проснулся.
Когда мы вышли с ним, он посмотрел на тополь, полюбовался, как он нежно зазеленел. И сказал:
— Значит, скоро лето. Начнется пекло…
Мы прошли через двор, обсуждая сегодняшнюю сводку. Вышли из ворот, окаймленных колючей проволокой. Перед нами простиралось голое пространство тускло-желтой земли. Будто нарисованные китайской тушью на старом пергаменте, торчали редкие темные голые деревья, серые развалины глиняных хибар. Под деревом у дороги сидели на корточках две узбечки — старая, темная и корявая, как дерево, и молодая, в ярком платье, смугло-розовая, с алмазными глазами под длинными ресницами.
Женщины продавали всякую всячину — семечки, тоненькие спицы зеленого лука, кислое молоко.
— Селям алейкюм, — сказал Самарин, проходя.
Старуха радостно закивала в ответ, молодая потупилась, закрылась отлитой из бронзы узкой ладонью.
Солнце разогнало туман, показалась далекая извилистая линия пологих горных вершин.
— Это мне напоминает Кавказский хребет, — сказал Самарин. — Но тот более величавый…
Лейтенант стал вспоминать долгие ночи в седле, горные узкие тропы, по которым ходил подростком. Учетчиком по животноводству, с папкой «Мюзик» под мышкой, бродил он от табуна к табуну, подсчитывая поголовье. Прибавил себе года, чтобы взяли на службу в финотдел. По ночам в горах было холодно и страшно от шорохов, вскриков, шумов. То камни, скатывались с угрюмым рокотом в ущелье, то кричали ночные птицы, то выл, рыдал голодный шакал. Самарин полностью испытал тягостное чувство одиночества, безлюдья, молчания.
Когда случалось подходить к костру, пастухи неприветливо смотрели на его папку. И он молча сидел с ними у огня, вдыхая запах горячей баранины.
Призванный в армию, Самарин ошалел от счастья: люди, люди… Все время он был на людях, с людьми!.. Отслужив срок, остался в армии пожизненно.
— И никогда не жалели об этом? — спросила я.
Самарин ответил задумчиво:
— Ну что вы! Нисколько.
По небу быстро двигались облака.
— Вот так по узкой дороге бегут овцы, когда испугаются, — сказал Самарин, — какая-то клубящаяся масса серой шерсти.
Я спросила:
— Вы тогда рассердились на меня зимой, ну, за стихи?
— Что ж сердиться на правду? — Он замедлил шаги. — Чувствуешь очень красиво, даже в горле сжимает, А на бумаге оказывается просто ерунда…
И он робко и виновато посмотрел на меня.
Облака рассеялись, теперь все сверкало, сияло, золотилось. Впереди виднелся огромный пустырь, изборожденный ходами сообщений, брустверами, ячейками, оползшими и недавно вырытыми окопами разного профиля.
Пройдет всего несколько недель, и жара сделает свое дело. Всю эту молодую, едва наметившуюся листву и траву, упорно лезущую из песка, из трещин и расселин, обожжет зноем. Но сейчас листья были еще невесомыми, легкими, не имели плоти. И цвет был не летний, не темно-зеленый, а нежный, светлый; кроны еще не сливались в сплошную массу, а трепетали, как прозрачная ткань, сквозь которую просвечивало весеннее небо.
Кое-где в траве уже вспыхивал, как яркий огонек, дикий красный тюльпан, занесенный ветром с гор.
Сегодня отрабатывали противотанковую оборону. Самарин сейчас же убежал проверять, правильно ли командиры орудий выбрали позиции.
Бойцы в желтых от глины ботинках, навалившись и покрикивая друг на друга, тащили пушку по размокшей от ливня земле. То подпирая плечом, то надсадно крича, суетился среди солдат Черенков, весь красный, взволнованный, хорошенький, как переодетая девушка.
Я узнала кое-кого из солдат. Вот Кисель, вот Лобков, вот толстый солдат со странной фамилией Обух. Я немножко гордилась своей профессиональной памятью. Но зато хорошо знала и слабость — теперь начну думать о каждом из этих людей, меня захватит и взволнует различие характеров и судеб каждого, а окажется, что все эти очень важные для меня подробности совсем не важны для дела, ради которого я приехала.
Мне, например, очень многое сказала мелочь: бойцы, тащившие на пригорок пушку, тащившие с трудом, выбиваясь из сил, все-таки объехали цветок.
Кисель, голубоглазый, добрый солдат, вытер пот со лба и, оглянувшись вокруг, сказал:
— Красота какая!.. Теплынь, а дома еще снег…
— Другая широта, другой меридиан, — авторитетно отозвался Лобков.
Рядом со мной появился Самарин. Вид у него был веселый, пилотка сидела на самой макушке. Он сказал, довольный, не сомневаясь, что я пойму:
— Черенков-то, Черенков, а? Молодчина! Местность просматривается, танкам не удастся подойти скрытно.
Он пресерьезно объяснял мне, что танки и самоходки противника могут появиться только из-за тех лачуг справа или из котловинки, откуда выехал сейчас на сером вислоухом ишачке мальчишка в тюбетейке.
Сияя кирпичным румянцем, мальчишка подъехал ближе, пяля глаза на пушку. Кроткий ишачок осторожно тянул плюшевые губы к тоненьким иголочкам травы.
Кисель улыбнулся своей мягкой улыбкой и любовно сказал мальчику:
— Ишь ты! Не боишься пушки, герой?
— Разговорчики, разговорчики! — отрывисто бросил Черенков, косо оглядываясь на Самарина.
Но Самарин молчал. Он вырабатывал «самостоятельность» в Черенкове. Еще вчера он придирчиво отрабатывал с ним и с командирами остальных орудий «тему занятия» и теперь предоставлял им полную творческую инициативу.
Когда мы с Самариным обошли участки, где занимались другие орудийные расчеты, и снова вернулись к Черенкову, бойцы окапывались. Взлетали комья земли, блестели лопаты.
— Не вижу маскировки, — прозвучало первое замечание Самарина.
— Не успели, товарищ лейтенант, — краснея от досады на свою забывчивость, оправдывался Черенков.
— Как это не успели? Противник не станет вас дожидаться. Он ударит из-за укрытия — вот оттуда — и разнесет батарею раньше, чем вы успеете произвести выстрел.
— Вот это верно! — вырвалось у Лобкова.
Кисель от удивления развел руками.
Флегонтьев, боец, которому Самарин сделал замечание уже при первом знакомстве, стоя по колени в окопчике, медленно пересыпал с руки на руку горсть земли.
— Что мешкаете? — спросил Самарин. — Знаете, какая глубина положена по уставу?
Флегонтьев нехотя разжал пальцы, выбросил слипшиеся, влажные комки.
— В нашем крае совсем другая почва — чернозем. — Он поплевал на ладони и лениво взялся за лопату.
— Вы находитесь в обороне. — Голос Самарина набирал резкость, твердел. — Каждая минута дорога. Надо готовиться к встрече противника: разведка донесла, что вражеские танки близко.
Флегонтьев ухмыльнулся. На его крупном красном лице с маленькими заплывшими глазками было написано недоумение.
— Какой же противник, кругом чистый полигон! Учеба! — пробормотал он.
— На учебе все должно быть как в настоящем бою. Иначе вы не научитесь воевать, — строго сказал Самарин и отошел.
Лобков, разгоряченный, азартный, точно выполняя указания Черенкова, наводил орудие. Самарин остановился, посмотрел, что-то поправил, объяснил. Потом вскользь спросил:
— С завода?
— С завода, товарищ лейтенант. Токарь.
— Оно и видно. Рабочего сразу видно.
Когда мы отошли, Самарин сказал мне доверительно:
— Этот ничего. А вот Флегонтьев — нет, не нравится.
— Почему? — спросила я, хотя Флегонтьев и мне не нравился.
— Тусклый глаз, — лаконично ответил Самарин. — И вот этот еще… — Он чуть вздохнул и сдвинул свои белесые брови, присматриваясь к Яцыне.
Я тоже стала приглядываться, припоминать.
Верткий, исполнительный, даже услужливый, он, как нарочно, старался попасть на глаза Самарину и выказать свое усердие. Больше всех суетился, когда перетаскивали пушку, но не толкал сам, а все забегал сбоку и спереди, смотрел под колеса, кричал и подбодрял. Ноздри его узкого хрящеватого носа трепетали. Команду Яцына понимал с полуслова, шуткам смеялся громче всех, но похоже было, что он не слышит ни команды, ни шуток, а особым чутьем угадывает, как и что надо делать. Узковатый в плечах, он все же не производил впечатления человека слабого, скорее выносливого и ловкого. Что в нем плохого заметил Самарин?
Когда командир подошел к наблюдателю — худощавенькому пареньку во взмокшей на спине гимнастерке, с таким восхищением и ужасом смотревшему в огромный бинокль, будто из котловины вот-вот и вправду появятся танки, — паренек вытянулся и со счастливым придыханием, с удовольствием доложил, что боец такой-то ведет наблюдение за передвижением противника.
Самарин жестом показал, что вытягиваться во весь рост не надо, его могут обнаружить.
— Учащийся? — спросил он, беря из рук наблюдателя бинокль и поднося его к глазам.
— Так точно! — Боец снова сделал попытку вытянуться, и снова Самарин жестом остановил его. — Так точно… Учился на первом курсе техникума.
Самарин кивнул.
И опять пошел по полигону, то пригибаясь, то перебегая от дерева к дереву, показывая бойцам, что если он от них требует точного выполнения законов боя, то и сам не позволяет себе никаких вольностей и поблажек.
Обух, тяжело и неловко ложась выпирающим животом на черенок лопаты, устраивал себе окопчик. Он сконфуженно посмеивался над свой нерасторопностью и даже слегка пожимал плечами.
Самарин отнесся к нему сочувственно.
— Тяжело с непривычки?
— Пока не жалуюсь… — принял молодцеватый вид пожилой солдат.
— Покажите руки…
Ладони у Обуха кровоточили, мокли раздавленные черенком лопаты водяные пузыри. Самарин недовольно покачал головой и, взяв из рук Обуха лопату, стал показывать, как ее надо держать.
— На гражданке кем были?
— Главным бухгалтером. Годовые балансы сдавал в срок, не спал ночей, но вот… чемодан… — Он похлопал себя по животу, но испугался, не слишком ли вольно себя держит, и опустил руки.
Самарин дипломатично сделал вид, что не расслышал. Обух спросил торопливо:
— А что сегодня в газетах? Сводка какая?
Самарин выразительно поднял брови.
— Все то же… — сказал он. — Все то же. В тринадцать ноль-ноль будет политинформация.
Политинформацию проводил Кривошеин. У меня гудели от ходьбы ноги, и я уселась чуть в стороне от собравшихся в кружок бойцов.
Кривошеин рассказал, что делается на фронте, показал карту, посоветовал выделить агитаторов. Выделили Лобкова. Чуть краснея, Самарин достал из кармана сложенную прямоугольником, стершуюся на сгибах газету и протянул ее Лобкову.
— Вот в газетке есть факт про героя-артиллериста.
Лобков читал хорошо, внятно, и Самарин снова заволновался так, будто кто-то близкий ему лично, родной остался один на один со своим орудием перед немецким танком. И мне снова показалось, что не тихий, огромный пустырь в предгорьях Средней Азии видит Самарин, а изрытое воронками поле боя.
— Поклянемся быть такими, как этот артиллерист! — пылко сказал Самарин, когда Лобков сложил газету.
— Артиллерист умирает, но не сдается, — добавил Кривошеин и полез в кисет за табаком.
Случайно я посмотрела на Флегонтьева. Он отвернулся — не то задумался, не то просто скучал.
Когда часа через два, обойдя другие позиции, мы с Самариным снова пришли к Черенкову, Флегонтьев уже совсем скис и обмяк, пот заливал его одутловатое лицо.
— Ну что, не нравится? — спросил Самарин.
— Кидаем землю с места на место. А к чему? Польза какая?
— Балованный ты, — иронически заметил Черенков и посмотрел на Самарина, ища одобрения.
— Верно, балованный, — неожиданно согласился с ним Флегонтьев, — я ведь очень хорошо жил. Домик свой, огород. Помидоры с кулак величиной выращивал, жинка на базаре продавала…
— О барышах подумаешь после войны, — сухо заметил Самарин.
— Какие же теперь барыши! — вяло согласился Флегонтьев. — Только бы живыми остаться, вот и вся выгода.
Самарин задумчиво сказал, когда мы вместе с Черенковым отошли в сторонку:
— Да, без метода индукции здесь не обойтись. Флегонтьева надо вести от частного к общему. Он же цели, идеи не видит.
— Может, еще обомнется… — Черенков попробовал было взять Флегонтьева под защиту, но тут же сердито добавил: — Да что ему обминаться? Здоровый, крепкий, как боров… Лодырь он — и все. — Юное лицо Черенкова выразило крайнюю степень негодования. Самарин промолчал.
Солнце скрылось, и сразу же выпал туман, стало холодно и сыро. Заволокло серой пеленой далекие горы, туман заполнил котловинку, откуда могли показаться танки, залил снятым молоком ходы сообщения, ячейки, окопы…
Бойцы с нетерпением ждали, когда кончатся занятия. Давно стихли разговоры, шутки. Наконец Черенков приказал строиться. Люди подравнивались молча, молча вытирали пот со лба, зябко поводили плечами.
— А ну, командуй песню! — приказал Самарин Черенкову. — Песня веселит.
Меня разбудили громкие голоса.
Как только я доплелась с полигона, так повалилась на койку и задремала. Даже позабыла задернуть занавеской окно, выходившее из комнаты Самарина на мою терраску, и оно выделялось ярко освещенным квадратом.
Самарин сидел на табуретке в гимнастерке без пояса, вымытый, и держал в замершей руке раскрытую книгу. Спина его была неестественно напряжена.
В дверях, натянуто улыбаясь, стояли начштаба Жолудев и какой-то немолодой младший лейтенант с седыми висками. Жолудев был несколько Смущен.
— Да, палаццо не очень роскошное, — говорил он, с легким пренебрежением оглядывая комнатушку с узкой, застланной шершавым одеялом кроватью. — А все-таки принимай, друг, гостя. Новый товарищ. Поселить пока негде… — Он показал бровью на мою террасу. — После переселим…
— Нет, я что же… Я не против… Я рад… — поспешно ответил Самарин, застегивая ворот гимнастерки. Он не смотрел в лицо Жолудеву, отводил глаза. Как будто врал он, а не Жолудев. Даже я понимала, что тот пальцем о палец не ударил, чтобы устроить нового лейтенанта в другом месте.
— Время военное, об удобствах думать не приходится… — Жолудев не договорил. Вытянув шею, он старался рассмотреть темный снимок в деревянной рамочке, стоявший на тумбочке. — Сохраняешь? — спросил он, стараясь вложить в эти слова как можно больше равнодушия.
— Так точно, сохраняю…
Мгновение они смотрели в глаза друг другу, потом Жолудев начальственно спросил:
— Ну что, достал новые погоны?
— Нет, ездил в военторг, еще не поступили.
— Эх, ты! — пренебрежительно укорил Жолудев. — Тогда лучше не попадайся «первому» на глаза. — Ловко, любуясь этой своей ловкостью, он откозырял, щелкнул каблуками, бросил на ходу приезжему лейтенанту: — Пока! — И только у самой двери задержался, еще раз оглянулся и сказал: — Устарелый снимок…
Самарин проводил его до порога, закрыл дверь, вынул из кармана кисет и вежливо осведомился:
— Надеюсь, вы курящий? А то я ведь курю.
Только теперь тот представился:
— Абрамов.
«Абрамов? Неужели это Абрамов?..»
Высокий, чуть сутулый младший лейтенант в новенькой, топорщившейся, только что со склада, военной форме, в фуражке с черным артиллерийским околышем, все еще казался мне незнакомым. Но эта стеснительная, чуть растерянная улыбка…
— Да вы садитесь. Я прикажу внести койку, — сказал Самарин.
Абрамов все еще стоял, как на вокзале, не выпуская из рук чемоданчика.
— Как-то я не думал, что попаду из училища в тыл. Я на фронт просился.
— На фронт!.. Еще погреетесь в Средней Азии, раньше чем попадете на фронт.
Абрамов разглядывал скромную обстановку, гитару над кроватью, стопочку уставов на полке, зеркальце, шинель на крючке. Взгляд его остановился на портрете, стоявшем на тумбочке.
— Это ваша жена?
Самарин покраснел:
— Нет, не жена. Я одинокий…
— И я одинокий. — Абрамов неловко пожал плечами. — Вернее, вдовец.
Внесли койку. Абрамов вынул из чемоданчика две-три книги, альбом с фотографиями, стопку носовых платков, бритву, мыльницу.
— И давно овдовели?
— Нет, недавно…
— А-а… — посочувствовал Самарин. — Дети есть?
— Девочки. Две… Пришлось их с бабушкой к родне отправить. Хотя сам-то я здешний. В городе у меня квартира. — Он показал на темный проем окна, за которым чернели деревья, как будто мог отсюда увидеть свою квартиру. — Я в газете работал.
Самарин встрепенулся.
— О, вот как! — сказал он с уважением. — Абрамов? Абрамов — это я знаю, из газеты. А у нас тут рядом тоже корреспондент живет. Женщина…
— Как же это? Интересно…
Я поправила волосы, всунула голову в окно и поздоровалась:
— Так это вы, лейтенант Абрамов?
— А это вы женщина-корреспондент?
— Я.
— Вы не забыли? Меня зовут Александр.
— Вы тезка моего сына. Разве я могу это забыть?
Когда я поступила здесь, в Средней Азии, на работу, девчонки из регистратуры, жалуясь на строгую дисциплин ну при новом секретаре редакции, прожужжали мне уши рассказами, как было хорошо и вольготно раньше:
«Абрамов был совсем не такой. Добрый, культурный, писал фельетоны как бог. И вообще романтик… После смерти жены ушел из газеты в журнал, чтобы по вечерам быть дома. Он сам укладывает спать дочек. И ни за кем не ухаживает…»
Однажды Абрамов привел к нам в редакцию на елку свою младшую девочку в алой плюшевой шубке, в красном капоре, с тоненькими-тоненькими ножками. Девочка недоверчиво смотрела на людей, жалась к отцу и уж никак не могла затмить моего сына…
Потом в редакции всех взволновало, что Абрамов поссорился с начальством и остался без работы. А значит, и без продовольственных карточек. Без карточек тогда было хоть пропадай! Негде поесть, разве только какую-нибудь требуху на Алайском базаре. И то за большие деньги!
Теперь Абрамов заходил чаще, и все наши ругали его, считая гордецом, который никак не хочет похлопотать за себя. Товарищи считали, что он сломился после смерти жены.
Я как-то позвала его в гости, у нас все-таки было полегче с едой, мне хотелось, чтобы он пообедал с нами. Но он обедать не стал, дичился, разговаривал только с одним Сашей. Бабушки смотрели на него и на меня неодобрительно, каждая сидела на своей кровати, сложив на коленях руки, и выжидала, когда он уйдет. Какой уж тут мог получиться разговор!
Провожая его, я все-таки сказала:
— Саша, надо бороться. Нельзя же так…
— Зачем? Я хочу только одного — в армию.
И вот он лейтенант. Младший лейтенант.
Абрамов сказал:
— Читал ваш новогодний рассказ в газете. Даже похвастал в училище, что знаком.
— Ругали?
— Нет, почему. Сюжет, конечно, условный, новогодний, но зато пейзаж, сосны настоящие…
— Это потому, что сосны я видела, а писать о войне, сидя в тылу, трудно. — И спросила: — Как ваши девочки?
Абрамов молча выложил на стол две карточки. Я тоже бросила козырный туз — Сашу в пушистом свитере, с очаровательными ямочками, с черной кошкой на руках.
Мы все трое молча смотрели на снимки.
— Люблю детей, — сказал Самарин.
Я невольно скосила глаз на портрет той самой белокурой Люси, которую он встречал на вокзале. Почему она вышла за Жолудева, а не за него?
Перехватив мой взгляд, Самарин смутился:
— Это память, вместе служили.
Позже мы вышли немного погулять.
Луна-пробилась сквозь поток облаков, и сразу смутно обозначились ряды уходящих вдаль палаток, выступы стен, «грибы», щиты для газет — и все это, отбрасывая тени, исчертило плац путаницей светлых и черных угловатых пятен, придающих пейзажу таинственный облик. Высокие одинокие тополя, казалось, вытянули своими глубокими корнями все соки из этой небогатой, черствой земли. Тени простирались наискось, будто на лагерь упали срубленные деревья. А там, где из лопнувших почек упрямо лезли веселые жгутики листьев, тонкие ветки, высветленные луной, плели замысловатую, непрочную, хрупкую вязь.
— Да, человек предполагает… — сказал Абрамов. И пожал плечами: — Не надеялся я встретить эту весну в Средней Азии…
Самарин зашептал, временами сбиваясь на доверительное «ты»:
— Зато приобретешь опыт. Технику ты знаешь, грамотный, теперь осваивай преподавание. Хочешь стать настоящим командиром — изучай людей. Состав разный: один боец горячий, другой нервный, третий хладнокровный. Который совершенно нервный — на того сразу не наседайте, дайте остыть, потом подойдите снова. Вникайте, что у бойца на душе.
Облака разошлись, луна стала ярче. Поднимаясь, она отвоевывала у темноты землю. Как огромный серебряный поднос с чернью древнего узора, открылся простор степи с редкими купами деревьев и низкого кустарника, с громадами горных цепей, с чертой горизонта.
Самарин в рассеянности несколько раз потянул потухший окурок, потом бросил и сказал, затаптывая его каблуком:
— Душа — это все. Без души и любви настоящей не бывает, верно я говорю?..
Абрамов усмехнулся, кривя угол рта.
— Ведь должна быть у человека хоть раз в жизни настоящая любовь! Правда, должна? — опять спросил Самарин.
— У меня была. — И вдруг молчаливый Абрамов заговорил с горячностью, с болью: — Я даже не понимал раньше, какая у меня жена… Одержимая, настойчивая… Не поверите, цветы у нее в палисаднике и те росли лучше, чем у соседей… а училась как… она в пединституте училась. Днем позвонила мне на работу: «Саша, я заболела, вызывай скорее врача». А я даже с работы не мог уйти, мы номер делали. Через два дня — все, конец… Не уберег. Не смог спасти.
— А дети? — сразу же спросил Самарин.
Абрамов зябко передернул сутулыми плечами:
— Дети? Я жене дал слово никогда не оставлять детей, жить, как при ней. И жили бы, но война…
— Детей очень жалко, — сказал Самарин.
— Что делать? Не мы одни.
Уже потом, со своей терраски, я слышала, как за стенкой Абрамов, взбивая тощую подушку, сказал:
— Когда я получил назначение, то заезжал по дороге к девочкам на три часа, от поезда до поезда. Маленькая уцепилась за мой рукав и молчит. Хоть бы плакала или жаловалась, а то дрожит и молчит…
— На все один ответ, — почти выкрикнул Самарин. — Надо, надо бить Гитлера! На все ответ один. Надо его, мерзавца, бить!
Я слышала, как он мерил шагами тесное пространство комнаты, потом шаги стихли, и он сказал проникновенно:
— Однако, на мой взгляд, политработа бы вам больше подошла.
— Э, нет! — обиделся Абрамов. — Воевать — так в строю. — И добавил: — Вы не думайте, что я слюнтяй. Это я сегодня раскис. А в училище был веселый, даже в самодеятельности участвовал.
Вскоре Самарин погасил свет, в комнате стихло. И вдруг он сказал:
— Меня давно уже никто по имени не называл. Все по фамилии — Самарин или лейтенант. А чтобы Колей — нет, никто…
— А эта вот, что на портрете, Люся… разве не называла?
— Люся? А вы ее знаете?
— Все-таки тесно на земном шаре, — сказал Абрамов. — Случайно знаю… Мать ее в нашем доме живет. Если Люся такая же, как девочкой была…
— А что? Разве плохая?
— Не то чтобы плохая, а какая-то нетерпеливая. Конфету дашь — смотрит, у кого лучшая. В книжке сразу хочет знать, хороший ли конец. Взрослой я ее уже почти не встречал, так что ничего сказать не могу, но мать хвалилась, что Люся вышла замуж, кажется, за полковника…
— За капитана, — поправил Самарин. И сказал горячо: — Из Люси хороший человек получился бы, замечательный, но характер у нее уступчивый, мягкий, она… — Он вдруг замолчал, оборвав на полуслове, и только предложил: — Пора спать, вы ведь с дороги…
Люся встретила меня удивленно:
— Вы к Жолудеву? Он в штабе.
Я придумала причину — будто распоролся шов на юбке, а у нее, мне сказали, есть швейная машина. Она неловко посторонилась и впустила меня в большую комнату, щедро расписанную букетами роз. В Средней Азии это принято.
Потом я сказала, что пишу о Самарине для газеты и хотела бы ее кое о чем расспросить.
Она испугалась:
— Но почему меня?
— Из старожилов полка почти никого не осталось.
Бархатное одеяло на кровати, накрахмаленный до жесткости тюль на окнах, подогнанные один к одному, тесно-тесно цветы в баночке — все это настраивало меня против Люси. И сама она держалась странно, смущенно.
Как только я заговаривала о Самарине, она начинала нервничать, словно не знала, как заглушить давнее беспокойство. Но я ее не жалела.
— Вы старые друзья?
— Ну конечно, поскольку я работала в полку.
— И только?
— Ну, проводили время вместе, — как бы уступила мне Люся. — Он ведь чудак. Он очень добрый… все готов отдать людям…
— Так это ведь хорошо!
— Для людей хорошо, а для него… — Люся пожала плечами: — У него никогда лишней рубашки не будет.
Она взяла со стола кусок полотна и стала аккуратно подрубать — видимо, готовила пеленки. Потом сказала совершенно неожиданно:
— Вам бы понравилось, если бы над вашим ухажером смеялись? А над ним все смеялись. Шурик меня прямо у него из-под носа увел, а он ничего не замечал, считал его своим другом.
Она ожесточенно вспоминала «глупые выходки» Самарина, как будто хотела доказать и себе и мне, что поступила правильно, выбрав в мужья Жолудева.
Она сказала не без гордости:
— Шурик очень недоволен, что Самарин мое фото на столе держит. Но при чем здесь я? Я же не прошу. И на вокзале он меня встречает. Вот вы сами видели…
К ее беленькой детской мордочке, к кудряшкам так не шли тяжелый живот, пятна на лбу, распухшие губы.
— А вам он никогда не нравился?
— Что уж теперь толковать, теперь уж это все равно… — Она сложила пеленку, разгладила рубец и спросила: — А у вас есть дети?
— Сын…
— Очень это страшно? Вы боялись?
— Все боятся.
Она открыла комод, вытащила стопку распашонок, свивальников, пеленок — все вышитое, обвязанное цветными нитками.
— Ваш сын на кого похож? На отца? Я бы хотела — на Шурика. Правда, он интересный?
Она как-то неуверенно предложила мне чаю, поставила на стол пиалы и варенье. Поколебавшись, вытащила еще вазочку с орехами и щипцы.
Мы стали колоть орехи.
Когда вошел Жолудев, то первое, что он сделал, это нагнулся и поднял скорлупку, свалившуюся со стола на пол. Люся вскочила, начала прибирать. Жолудеву, видно, очень хотелось знать, что я здесь делаю, но он не спросил, только осведомился:
— Подвигается ваша работа? Нашли героическое в нашем Самарине?
— Нашла. Завтра я уезжаю. — Я усмехнулась: — Сможете поселить к Самарину нового жильца…
Он тоже засмеялся — видимо, над безропотностью Самарина.
Наступила та неприятная пауза, когда всем хочется поскорее расстаться и никто не знает, как бы это половчее сделать. Я в таких случаях всегда теряюсь — чем больше хочу уйти, тем дольше сижу.
— Поужинайте с нами, — пригласил Жолудев. И посмотрел на часы.
Не зная, что сказать, я вспомнила:
— Да, этот новый командир, Абрамов. Оказывается, он сосед вашей мамы, Люся. Вы его помните, да?
— Он здесь? Ой, что вы!.. — Люся заволновалась. — Я к ним книги всегда бегала брать. Какая у него хорошая жена была, вы бы знали! Она умерла. Шурик, надо его пригласить, да?
Жолудев посмотрел на меня и ответил специально для меня:
— Принципиально не нахожу возможным путать служебные и личные отношения. Мало ли кто был твоим соседом! Здесь он младший лейтенант.
Люся сникла.
— Я у них книги всегда брала, — опять зачем-то сказала она. — И «Хижину дяди Тома», и Толстого, и Фадеева…
Ужинать я не стала, но с любопытством смотрела, как вертелась Люся, подавая мужу еду, как он морщился, как требовал то соли, то красного перцу, то спичку — поковырять в зубах.
Но когда Люся захотела меня проводить, накинув платок на плечи, он вдруг забеспокоился, что холодно, и стал настаивать, чтобы она надела новое коверкотовое пальто. Он даже распахнул дверцы шкафа, чтобы, я увидела, как у нее много платьев.
Мы вышли на крыльцо, она дошла со мной до калитки и остановилась.
— Я вернусь. Может, Шурику что понадобится… Он без меня ничего не найдет. — Она вдруг спросила: — Неужели это возможно… что Самарин… что он все еще…
— Любит вас?
— Мы когда встречаемся, то я все смеюсь, шучу, держу себя как когда-то. Только с ним и держу себя как когда-то… — с болью сказала она. — А так я переменилась, совсем другая стала, не такая смелая. — Она оглянулась и шепотом, как будто ее мог услышать в доме муж, добавила: — Я иногда думаю: а какая бы я стала, если бы за Самарина вышла?.. Ну, ничего, появится ребенок — все забудется… А может, умру родами, тогда никому не обидно…
Она пошла к дому. Пальто зацепилось за калитку, она с силой рванула полу, позабыв, должно быть, что это новое пальто.
…Так я и не знала, что записать в тетрадь о Люсе, не знала, что о ней думать. И Абрамову не могла объяснить, какое же впечатление на меня произвела Люся.
— Неужели такая загадочная натура? — удивился он.
— Иногда мне кажется, что все натуры загадочные…
— Очевидно, вы никогда не играли в шахматы… просто есть большое количество комбинаций.
Я попыталась отшутиться:
— Будь я богом, всех женщин сделала бы счастливыми…
— Но у каждого свое представление о счастье…
— Все-таки — когда тебя уважают, когда ты остаешься сама собой. Она как побитая собачонка, эта Люся, и радуется, что есть хозяин…
Абрамов стоял у окна, я сидела за столом в их комнате. И так странно было, что я у черта на рогах, в Средней Азии, в резервном полку, в чужой комнате, обсуждаю чужие любовные дела.
Абрамов еще что-то говорил, усмехаясь, я даже не слушала. Тогда он спросил:
— Значит, Люся окончательно вам не понравилась?
— Совсем не то. Просто мне еще больше понравился Самарин.
— Почему, хотел бы я знать?
— Потому, что с ним даже эта Люся была бы другая… не знаю, понятно это?
— Мне понятно…
Мы снова заговорили о газете, и чем больше и искреннее Абрамов говорил, как он рад, что оказался в полку, а не в редакции, тем больше я чувствовала, как он любит газетную работу, редакционную атмосферу, суету, гренки, спешку. Даже в информации, в репортаже он находил свою прелесть. И возмущался, что областная газета верстается хуже, чем было при нем.
— Почему же вы не попросились в газету?
— В тыл?!
— Можно во фронтовую…
— Потому что сейчас не время искать дело по вкусу. Надо выбирать то, что опаснее…
Можно было возразить, что гораздо правильнее делать то, что ты можешь сделать лучше других, быть там, где ты полезнее. Но я понимала, что Абрамова мне сейчас не переспорить.
Передо мной все еще стояла Люся, я все еще видела, как она бежит от калитки, исступленно дергает полу пальто. Нет, она не забыла Самарина. И не забудет. И чем дольше будет жить с Жолудевым, чем больше будет цепляться за него и гордиться его внешностью и успехами, тем нежнее будет вспоминать Самарина с его белесыми бровями, скромностью и щедрой душой.
Я так расчувствовалась, что, когда Самарин вошел, щелкнул выключателем и спросил: «Что же вы сидите в темноте? Сейчас будем чай пить…» — ответила:
— Там, где вы, всегда свет… и тепло… и чай… — И почти огорошила его: — Можно пожать вам за это руку?
Он покорно протянул руку, чуть побледнел и сказал торжественно, верный себе:
— Это рукопожатие я рассматриваю как символ дружбы…
Хотя совсем недавно я сделала на редакционной «летучке» сообщение «Что такое очерк», мое сочинение о Самарине не получалось. Давил материал. На «летучке» я утверждала, что надо умело отбирать детали, именно те, что работают на основную идею очерка, теперь мне жаль было расстаться даже с самой пустяковой, мелкой подробностью. А их было слишком много.
Но задание есть задание. И очерк я написала.
Секретаря редакции насторожило прежде всего название.
— Позвольте, — тыча карандашом в мою рукопись, недовольно спрашивал он, — в чем же метод? Что это еще за индукция?
— Это метод исследования от частного к общему…
Секретарь покраснел. Он был молод и очень самолюбив. Широкие брови поднялись над его круглыми глазами как две арки:
— Я спрашиваю, в чем состоит метод вашего Самарина…
— Но я же пишу об этом. Его воспитательный метод состоит в любовном, правдивом подходе к людям.
— Здрасте, я ваша тетя! — сорвался секретарь. Но сразу же заявил официально: — Это метод нашей партии, и я не вижу причины для возвеличивания…
Я держалась кротко, потому что не знала, как же ответить на вопрос. Действительно, а в чем сущность, в чем особенность самаринского метода?
— Придется поехать еще раз и доработать. Материал в общем интересный, поучительный. Он что, на самом деле такой хороший парень, этот Самарин?
Как только наш секретарь забывал, что в военной газете надо держаться строго и соблюдать субординацию, он становился простым и симпатичным. Тем не менее я не рискнула сказать, что не хочу ехать. Со дня на день я дожидалась вызова в Москву.
Предстояло немало трудного: достать билеты, уложиться, продать ненужные хозяйственные вещи, которыми мы здесь обзавелись. На семейном совете решили обязательно сменять шерстяной отрез на муку и рис. Все-таки страшновато с ребенком в голодной Москве.
Меня терзали сомнения — не рано ли едем?
А ехать надо. Тоска по Москве, по дому очень сильна. Просто немыслимо больше ждать.
И все-таки мне очень хотелось, чтобы материал про Самарина напечатали. Тем более что в работе редакции наступило оживление. Назначен новый заведующий отделом боевой подготовки, майор, раненный под Москвой. И принят литсотрудником еще один фронтовик-красноармеец, выписавшийся из госпиталя, бывший московский критик. В отделе мне обещают полное содействие — если надо, то целую полосу, со снимками, с рисунками. «Только скорее, скорее давайте свой очерк!»
Однако обстоятельства сложились так, что я попала в полк, где служил Самарин, не скоро.
Стояла жаркая, уже летняя погода. С рассвета небо заливало огнем, и некуда было спрятать глаза от нестерпимого солнечного блеска. Все пошло в буйный рост — и травы, и цветы, и листва. Деревья надели мохнатые шапки, солнце не пробивало их, и тени ложились на землю темными кругами.
Подразделение Самарина было на занятиях. Кривошеин сказал мне, что теперь работают еще больше, чем раньше, так как в связи с напряженной обстановкой на фронте сроки обучения могут сократиться.
Я пошла на полигон. Да, отголоски жарких сражений докатывались и сюда, на эти пустыри, стоило только взглянуть на обуглившихся солдат, на их задубевшие гимнастерки. И Самарин был совсем другой — загорелый, с пересохшими губами.
А Черенкова я едва узнала — так он возмужал.
Каким далеким казался тот день, когда бойцы вышли впервые на этот полигон и на орудие смотрели с уважительной опаской, как на слона в зоопарке! Теперь это были слаженные орудийные расчеты — наводчики, заряжающие, правильные, замковые, подносчики снарядов, номера первые, вторые, третьи…
Толковый и расторопный Лобков уже стал прекрасным наводчиком. Да и весь расчет подобрался крепкий…
Самарина понимали с полуслова. Он неуклонно добивался точности и быстроты в движениях.
— Не только быстрота, — а она решает в бою, — мы должны иметь полную взаимозаменяемость номеров, — толковал он мне. — Скажем, замковый должен заменить в нужную минуту наводчика, наводчик — заряжающего. Вам понятно?
Лобков прислушался, прищурил карие озорные глаза:
— Охота все же бить врага на практике, а не в теории…
— Вы его бьете пока своей учебой…
Похудевший Обух тихонько наклонился к Самарину и сказал:
— Как вам нравится на сегодня боевая обстановка?
Пока они обсуждали напечатанные в газетах последнее выступление Черчилля в палате общин и статью Ильи Эренбурга, я прислушивалась к разговорам солдат. Были минуты перекура. Худощавенький студент техникума собирал заметки для «боевого листка». Лобков, лежа на животе, писал письмо. Увлеченный, он крикнул студенту:
— Слушай, как там дальше? «Жди меня, и я вернусь…»
— «Только очень жди», — подсказал тот. — Ты своей дивчине пишешь?
Лобков ненатуральным голосом ответил:
— Не-е, это я сестренке письмо сочиняю. Она у нас любит лирику…
Флегонтьев сидел один в сторонке, набирал табачок из красной жестяной коробочки и смотрел на горы.
— Красиво, правда? — спросила я.
— Глаза б мои на эту глину не глядели!
— Но почему? Здесь растут виноград, урюк… земля щедрая…
К нам приблизился Самарин.
— Это не земля, это солнце щедрое, — ответил Флегонтьев. — Моей бы земле да такой согрев! Большие доходы можно иметь.
Самарина, видно, покоробило, что Флегонтьев сказал «доходы», а не «урожаи».
— Противник глубоко зашел на нашу землю, близко от твоей родины бои идут, а ты о доходе беспокоишься?
Флегонтьев, как рыба, открыл рот. Беспокойство мелькнуло в его глубоко посаженных глазах:
— Так неужели ж пустят немца в наши края?
— Ты что ж, не знаешь, где бои идут? Газеты-то вам читают?
— Газеты читают, — ответил Флегонтьев растерянно. — Газеты-то нам читают…
Неподалеку от Флегонтьева сидел, нахохлившись, Яцына. Он задумался и не сразу заметил, что подошел командир. Что-то кошачье, хищное было в его прищуренных глазах, в быстроте, с которой он выдергивал из земли и разрывал в пальцах жесткие травинки. Спохватившись, он вытащил из кармана коробку папирос.
— Угощайтесь, товарищ лейтенант, — предложил он. И на молчаливый вопрос командира ответил: — Мамаша посылку прислала.
Самарин взял папиросу.
— О чем это вы тут мечтаете?
— На фронт бы… Раз воевать, так воевать…
Самарин покачал головой:
— Для фронта нужна подготовка…
— Скука здесь, — пожаловался Яцына. И засмеялся: — На фронте, говорят, сто граммов в день дают, все веселее…
Самарин неодобрительно покачал головой.
Мы уже далеко отошли от Яцыны, а Самарин все еще держал двумя пальцами роскошный «Казбек» и не закуривал. Вид у него был сумрачный, задумчивый.
Но я все-таки рассказала, что в очерке понадобились переделки — необходимо точнее объяснить, в чем состоит метод.
— Подводит меня мой метод, — насупился Самарин. — Тот же вот Флегонтьев… Я по методу иду. Хочу, чтобы у него мозги сработали — от его собственного населенного пункта до понимания всей войны. Но что-то он не воспринимает… И вообще, — сказал он, — впереди туманная перспектива… На фронте теперь новая техника, наши учебные пушчонки по сравнению с ней — одна забава.
Он расспросил меня о домашних делах, но слушал без обычного интереса. Только усмехнулся, когда я рассказала, как Саша наговорил стишок:
Вот сегодня наконец К нам вчера пришел отец.— Я уже просил Абрамова хоть кое-что мне объяснить из высшей математики, — невпопад сказал Самарин. — Новая техника требует сложных вычислений…
Он вдруг заметил у себя в руке папиросу, с неудовольствием посмотрел на нее и спрятал. А вскоре Яцына подлетел еще раз с раскрытой коробкой.
— Добрая же у вас мамаша, — почему-то яростно ответил Самарин. И от папиросы наотрез отказался.
Самарин перенес вещи Абрамова в комнату, а я снова поместилась на терраске. Как будто все встало на свои места.
А все-таки я права: не стоит приезжать еще раз на то же место. Ибо, как говорит философ, нельзя дважды вступить в один и тот же поток. Мы все немного изменились…
Абрамова я видела мельком. Он был утомлен, издерган. Мешковатый и сутулый, он напоминал запаленную от непосильной натуги крестьянскую костлявую лошадь. Самарин сказал мне:
— Трудно ему. Навыка нет. Но ничего, добивается неплохих показателей…
Мы надеялись все втроем посидеть хоть часок вечером: ведь я приехала ненадолго. Но вечером, когда мы вернулись с полигона, явился Жолудев. Он, должно быть, не знал или забыл, что я тут же, за стенкой, что окно на террасу открыто.
Уселся, закурил, угостил Самарина табачком, за что-то, как всегда, поругал военторг, который, как это повелось на фронте, называл иванторгом. Потом, вероятно решив, что почва подготовлена, ткнул окурок в пепельницу и добродушно сказал:
— Слушай, чудак ты, честное слово. У тебя сапожник служит, мастер первого класса. — Он помолчал, выжидая, как будет реагировать Самарин, но тот не отзывался. Жолудев продолжал уже деловито: — Ты его на полигон гоняешь, а я хотел, чтобы он Люсе туфли сшил… И Мария Евдокимовна благодарна была бы…
— Тогда пусть командир части мне прикажет официально… поскольку его жена…
— Официально такие вещи не делаются…
Самарин упрямо молчал.
Жолудев критически посмотрел на неказистые брезентовые сапоги Самарина, потом перевел взгляд на свои, щегольские, сверкающие:
— Вот погляди, он мне сшил… Картинка… — и, как танцовщица, поставил ногу на носок.
— Мне и в этих хорошо, не так жарко…
— Глупый ты, Николай, — вдруг сказал Жолудев, даже с каким-то оттенком участия. — Ну, будешь ходить босиком, кому от этого польза?
И вдруг Самарин взорвался:
— А знаешь… знаете ли вы, товарищ капитан, что по роте пополз нехороший слушок? Яцына хвастался, что он, мол, нигде не пропадет, у него и здесь защита, и на фронт его не пошлют.
— Брехня, таких обещаний никто ему не давал, и он не такой дурень, чтобы хвастать.
— Этот Яцына написал домой письмо и обронил, а ребята прочли. И будут судить его своим солдатским судом, как мерзавца, по кодексу солдатской чести…
Он почти кричал. Жолудев встал. Самарин тоже.
— Не горячитесь, товарищ лейтенант, — посоветовал начштаба.
— Есть не горячиться!
Стараясь казаться спокойным, Жолудев опять вытащил курево. Самарин молча чиркнул спичкой. Жолудев обвел взглядом комнату и удовлетворенно сказал:
— А портрет ты все-таки убрал? Давно пора было.
— Так ведь лето, солнце, выгорит.
— Но все-таки убрал?
— Убрал…
— То-то же…
И Жолудев неторопливо, как будто победа осталась за ним, вышел.
А назавтра, на закате, состоялся товарищеский суд. Вынесли из ленинского уголка стол, покрыли красной скатертью. Кисель занял председательское место.
Яцына держался вызывающе: письмо, мол, не писал и не думал писать, командиры знают, сколько раз он на фронт просился.
— Вот лейтенант знает… Помните, товарищ лейтенант?.. И вот дамочка из газеты слышала…
Но Самарин молчал.
— Мою приверженность все знают, — уже чуть растерялся Яцына. — Я на заем подписался больше всех. Другой кто-то сочинил письмо, а я виноват?
И тут вдруг выступил вперед солидный Обух.
— Это верно, что Яцына больше всех подписался на заем, — сказал он. И не спеша развернул подписной лист: — Это ваша подпись?
— Моя! — Яцына повеселел. — Лично моя.
— Тогда обратите внимание, что под письмом та же подпись.
Подписной лист пошел по рядам. Поднялся смех.
— Его рука, факт…
— Такого плута мать сыра земля исправит…
— Птица опытная!
— Братики! — Яцына перешел на жалобный тон: — Как же так, братики? Вы же меня знаете! Разве я отказываю когда закурить? Или сахарку?
— А с чего тебе отказывать? — жестко сказал Кисель, и его добрые голубые глаза вдруг потемнели. — Ты мне сапоги починил — краюху хлеба с меня взял, не постыдился со своего брата солдата брать, а хлеб сменял у узбечки на черешню. И на махорку менял. Так или нет? Твоя махорка дешевая, это не наша солдатская пайка…
Яцына окончательно растерялся.
— Братики! — зашептал он, обращаясь то к одному, то к другому. — Я искуплю, я свою промашку искуплю на фронте… слово даю…
— Легкое твое слово, — гневно сказал Лобков. — Ты делом докажи, а не слезами. Москва слезам не верит…
…К Кривошеину мы явились некстати: к нему приехали в гости жена с сыном. Но он не отпустил нас. Счастливый, немного растерянный, в полосатой куртке от пижамы, он усадил нас за стол, покрытый чистой газетой. Стояла миска с пшенной кашей, сдобренной хлопковым маслом, — ужин из столовой — и хорошо поджаренная, с отблесками золота баранина, которую привезла Кривошеину жена. Сама она, такая же степенная, как муж, белая, дородная, уже немолодая, держалась незаметно и только как-то очень вовремя подвигала ближе помидоры или предлагала соль. А сын, черный, худой, верткий, изнемогал от желания вмешаться в разговор.
Кривошеин сиял, выглядел помолодевшим. Лихорадка его прошла, о болезни напоминали только набрякшие мешки под глазами, да на губах виднелись запекшиеся корочки от болячек.
Конечно, говорили о суде.
— Острая форма политической работы. Действенная, — похваливал Кривошеин, аккуратно разминая тусклой ложкой кашу. — Бойцы всегда более сурово судят, чем командир…
— Так что же, не верить людям? — кипятился Самарин.
— Верить надо, — возразил Кривошеин. — Надо только вглубь смотреть, в корень… И воспитывать надо… — Он повернулся ко мне: — Вот я даже про себя скажу… До войны общественной работой мало интересовался. А война мне всю душу перетряхнула. Я в армии вырос на три головы.
— Разве я этого Яцыну не учил, не воспитывал?! — с горечью сказал Самарин. — Я болею за каждого бойца, переживаю вместе с ним…
— Болеть и переживать — мало. Воспитание — это совокупность многих средств… Что, мать? — спросил Кривошеин у жены. — Много тебе му́ки с Дмитрием? Применяешь строгость?
Жена усмехнулась:
— У него уже барышня есть, а ты — строгость…
— Да ну? Извини, сынок…
Кривошеин любовно смотрел на жену, на угловатого сына, засопевшего от неудовольствия, и ласково тронул рукой его стриженую голову. Общий разговор стих.
— Митя, а на Ивана Васильевича похоронку прислали…
— Давно? — Кривошеин помрачнел. И пояснил нам: — Хороший человек, начальник цеха. Крупный специалист…
— Анна Ивановна к сестре уехала. Не захотела жить одна…
— Да, — Кривошеин побарабанил пальцами по столу. — Да… Что, мать, те липы, что в городском саду на субботнике сажали, растут? Как раз перед войной субботник был… Иван Васильевич рядом со мной копал…
— Липы большие стали, густые… — Жене хотелось порадовать Кривошеина. — Крышу, я тебе писала, починила, совсем не течет… А ты вот про малярию не писал мне, скрыл… Как не совестно!..
Кривошеин как будто извинился перед нами:
— Никак про свое домашнее не переговорим…
А мы сидели как завороженные, смотрели, как счастливы эти трое — мать, отец и сын… Самарин слушал с интересом, с любопытством. Абрамов, как на картину, смотрел на изработанные большие руки жены Кривошеина, бережно и ловко, чтобы не ронять крошки, нарезавшей клейкий, ноздреватый хлеб.
Ну как я могла сомневаться, нужно ли ехать домой? Конечно, нужно. Как угодно, лишь бы дома…
Я снова стала прислушиваться к разговору, когда Дмитрий, сын Кривошеина, истомившись от нетерпения, сказал, округляя глаза:
— Папа, а мы взятку дали…
Мать неодобрительно глянула на него, но он уже не мог остановиться. Видно, привык, что отец отвечает на все вопросы, разрешает все недоумения. Да, дали взятку, потому что не могли иначе попасть в поезд. Бутылку водки дали проводнику. И вообще много неправды есть, даже спекуляции… Мать нехотя соглашалась с ним, а Кривошеин только восклицал: «Ух, ты! Ну и дела!» Потом снова потрепал сына по голове, похвалил, что все подмечает.
— Ну, а трубы дымят? — спросил он.
— Какие трубы?
— Заводы работают?
— Ого, еще как! — сказал Дмитрий.
— Ну ничего. Пока, сынок, заводские трубы дымят, все, значит, хорошо… — И спросил у жены: — Мать, ты еще петь не разучилась? Может, споем, а?
Самарин хотел сбегать за своей гитарой, но в эту минуту явился вестовой из штаба и позвал его к Жолудеву.
— Ну, будет баня, — мрачнея, сказал Самарин и начал собираться. — Жолудев мне этого суда не простит…
— А ты воздействуй на него по методу индукции, — ехидно посоветовал Кривошеин. Самарин насупился. — Ну, ничего, сходи, выслушай. А потом мы и его самого на партбюро послушаем…
Мы посидели еще немного у Кривошеина и ушли к себе дожидаться возвращения Самарина. Абрамов нервничал, поминутно смотрел на часы и наконец сказал с сердцем:
— А наш бедный Коля все еще стоит навытяжку перед этой сволочью Жолудевым!
Я усмехнулась. И спросила словами Кривошеина:
— Но трубы дымят?
Абрамов промолчал.
— Но липы растут?
Я не могла бы толком объяснить, почему этот час, что мы провели в семье у Кривошеина, казался мне очень важным и нужным.
Тут вернулся Самарин. Красный, сердитый, молча бросил на стол планшет, молча сел на табуретку у стола.
— Влетело? — участливо спросил Абрамов.
— По первое число. Оказывается, он этого Яцыну обещал отчислить к какому-то интенданту в окружные мастерские. А я им всю музыку испортил. Командир части таких шуток не любит, он всю позолоту с Жолудева сдерет, если дознается… Тем более, он Марию Евдокимовну приплел… — Самарин с сердцем встал, отодвинул ногой табуретку. — Противно, ей-богу!
— Напиши рапорт командиру части, — посоветовал Абрамов.
— Неохота связываться, — ответил Самарин, отходя к окну. — У Жолудева жена беременная, скоро родить должна… Для нее это лишнее переживание…
Он стиснул голову руками.
Когда Абрамов ушел, Самарин вдруг сказал:
— Вы, конечно, давно догадались. Я за этой девушкой, за Люсей, которая потом за Жолудева вышла, ухаживал когда-то. Она мне даже карточку подарила, целовалась со мной, клялась… Но предпочла его… Да как! Сказала в самую последнюю минуту. Впрочем, он мужчина красивый…
— Для витрины в парикмахерской он бы весьма подошел…
Самарин удовлетворенно засмеялся:
— Теперь вы поймете всю затруднительность моего положения…
Тогда я спросила прямо:
— А почему вы спрятали ее снимок?
— Так, — ответил Самарин. — Просто так… Раз это было все ненастоящее, то и не надо… лучше совсем не надо… Это была слабость с моей стороны… — Он откашлялся. — Вы вот домой собираетесь. Рады небось?
— И рада, и страшно…
— Почему?
— Много воды утекло за эти годы…
Самарин задумался:
— Но у вас же сын…
— Ну и что? Сын и жена не одно и то же…
Самарин искренне удивился:
— Это же великое дело — семья. Я вот навещал жену Горлова. Работает на заводе, содержит детей, а в комнате чистота, занавески, картинки.
— Вы прелесть, Самарин. Если бы дело было только в картинках…
Мы неторопливо шли по лагерю. Самарин проверял караульные посты. Около орудия как ни в чем не бывало, положив голову на ствол, как на подушку, сладко спал Флегонтьев. Самарин потрогал его за плечо. Флегонтьев пробормотал во сне «чего?» и сразу же вскочил, протирая глаза, испуганный яростью, с которой Самарин рванул у него из рук винтовку.
— Вы… вы… — сказал он, задыхаясь. — Вы… получите пять суток гауптвахты.
Я даже испугалась. Такого Самарина я еще не видела.
— Ну, что вы так? Ну, не надо… — Я тронула его за локоть.
— А честь батареи?.. — спросил он. — Батарея не имела взысканий и замечаний… Потом суд и это еще…
Теперь я поняла, почему он так расстроен.
— А может, не стоит?.. Это же случайность… Ну, задремал…
Меня остановил властный, непреклонный жест:
— Кривить душой я не буду…
Утром он вышел к бойцам печальный.
— Вот, товарищи, — сказал он тихо. — Результат нашего с вами труда сведен на нет. Мы держали знамя. А что такое знамя? Древко и полотнище? Нет, это символ нашей чести… Флегонтьев выбил знамя из наших рук… Что ж… замазывать и его и свои недостатки мы не станем.
Флегонтьев крякнул, будто дрова колол.
Самарин, глядя прямо ему в лицо с ненавистью и злобой, сказал:
— Спите, нарушаете правила караульной службы, не поняли до конца, что это значит, не усвоили, что противник занял ваш родной город. Сводку слушаете? — И добавил гневно: — А что она вам? Что вам родной город, народ?! Вам бы только сберечь свою шкуру…
Флегонтьев молчал. Рот его судорожно дергался. Он тянулся перед командиром, как будто хотел сорваться с места.
— Что тянетесь? Не птица, не взлетите… — сердито бросил Самарин.
И, видимо, сознавая, что изменяет своим правилам и разговаривает слишком резко, круто повернувшись, пошел по пустырю, по выжженной зноем траве.
Флегонтьев, грузно топоча, побежал за ним.
— Что? — спросил Самарин на ходу, не останавливаясь. — Что?
— У меня там жена, сынишка, старики. Неужели я не понимаю?.. — Флегонтьев как-то сразу осунулся, румянец сошел с его лица, загар стал виднее. В глазах появилось выражение растерянности. — Город наш богатый, древний, церкви старинные, заводы… Как же так? Разве я не понимаю?..
— Вот, — ответил Самарин, сдерживаясь. И бросил ему: — Вот только сейчас от своего горького факта ты пришел к общим выводам…
Флегонтьев бормотал, спеша за ним:
— Товарищ лейтенант, походатайствуйте, пусть меня на фронт отправят… Я… — И он потряс кулаками.
— Нет, товарищ Флегонтьев, — твердо сказал Самарин. — Такого бойца я на фронт не пошлю…
— Горит у меня вот здесь, — Флегонтьев показал рукой на сердце.
— Не могу, — ответил Самарин. — У меня у самого сейчас… — И он махнул рукой. — Вам этого не понять…
О том, что у него на сердце, он рассказал бойцам в час политинформации. Вынул конверт с казенной печатью, утер слезы с глаз.
— Товарищи бойцы, — опять сказал он и показал письмо. — Старые солдаты помнят сержанта Петра Горлова, какой это был весельчак, какой справедливый, как отлично вел стрельбу по целям! Я давал ему рекомендацию в партию, знаю всю его трудовую биографию, всю анкету, все его мысли… Вот по этой земле он ходил, товарищи, по этому песочку… Тут недалеко живет его жена с детишками… А сейчас он пал смертью храбрых.
— Горлов! Я ж у него служил! — вырвалось у Черенкова, и он ударил пилоткой по коленям.
Самарин медленно обвел присутствующих взглядом. Как будто в душу каждому посмотрел.
— Кстати, товарищ Флегонтьев, — сказал он. — Горлов пал в боях за вашу область. Защищал ваши родные места…
Вечером мы в последний раз собрались за столом у Самарина. Он раздобыл где-то бутылку водки и зеленые огурцы. Кривошеин принес кусок жареной баранины.
Мы выпили за то, чтоб всем нам еще раз встретиться.
Кривошеин и Самарин только что вернулись от жены Горлова, отнесли ей денег, сахару, мыла. Вернулись оглохшие от ее слез и крика, печальные, задумчивые.
Разговор не завязывался, и мы скоро разошлись.
Я уезжала рано утром, но Самарин ушел на полигон еще раньше. На подоконнике лежал его подарок — черешни, привязанные к палочке, и красный карандаш для Саши.
— После войны мы вас разыщем с Самариным, — шутил Абрамов, прощаясь со мной, — Приедем к вам под Москву, в гости…
— Приезжайте. У нас там хорошо. Сосны…
— Книг, наверное, много…
Я пожала плечами. Как знать, что там сохранилось, в моем доме?
— А дадут увольнительную, я попрощаться приеду, зайду в редакцию. Только вряд ли… — Он усмехнулся. — Пройдите мимо, передайте поклон моим окнам, Шевченковская, 32… — И, быстро пожав мне руку, ушел.
Саша хотел все везти в Москву к папе — поломанные игрушки, книжки, чужую кошку Феньку, арыки с водой и среднеазиатскую «млуну», которая, как огромный шар, висела по вечерам над нашим домом.
Он один в семье был беспечен и весел. Взрослые с ног сбивались в предотъездной суете.
Из редакции меня пока не отпускали, я продолжала работать.
И, как всегда в последние дни, все казалось теперь хорошим, даже лучше, чем было на самом деле, и как-то жалко было оставлять красивый город, где по главной улице иногда проходили среди автомобилей караваны строптивых и гордых верблюдов, звеневших колокольчиками, где напротив военной академии маленькие узбечки с бесчисленными тоненькими косичками продавали горные цветы и юные офицеры, выбегая в перерыве между занятиями, покупали букетики для своих девушек, приходивших к ним на свидания. Я привязалась к редакции — к журналистам, корректорам, машинисткам, к продавцу Мише из нашего закрытого магазина. Наш замкнутый редактор незадолго перед тем усыновил мальчика из детского дома. Майор, воевавший под Москвой, отыскал и выписал семью и даже достал для старшей дочери по какому-то особому ордеру красные туфли. Приехал в отпуск парень из дивизионной газеты — возмужавший, с гвардейскими усиками — и рассказал, как погиб, выходя из окружения, прекрасный человек Костя Седов, подаривший мне перед отъездом на фронт «Гамлета» на английском языке. Ослабела и заболела наша старенькая машинистка; я ходила к ней прощаться куда-то на окраину, и она долго смотрела на меня добрыми, полными слез глазами.
Я возвращалась домой, в Москву, но и здесь теперь оставался дом, а главное — люди, с которыми работала…
Все сместилось — прочность и ясность теперь оставались здесь, а то, что впереди, было неясно… И все-таки я считала дни до отъезда.
Как-то — я дежурила по номеру и задержалась позже обычного — в редакцию мне позвонил Самарин. Его было плохо слышно, но я все-таки разобрала, что маршевая рота опять ушла без него, уехали Кривошеин и Абрамов.
— Я… мы тоже вот-вот уезжаем…
Это «вот-вот» длилось еще довольно долго. Уже приближалась осень, солнце высушило зелень, опалило тополя, посаженные вдоль арыков. И я часто думала, что и полигон, куда я ходила с Самариным, уже пожелтел, на пушках покорежилась и полопалась краска, земля растрескалась, пересохла канавка, где текла пенистая желтая вода.
А под тенистым деревом узбечки давно уже продают не черешню, а виноград: виноград созрел… А Самарин все так же шагает мимо них, учит новых солдат, тоскует, фантазирует, мечтает…
Мне было жаль, что не придется больше встретиться и я никогда не увижу Самарина с его белесым хохолком, отзывчивым сердцем, с его верой в добро и преданностью «методу индукции».
Накануне отъезда я прошла по Шевченковской улице, поклонилась окнам Абрамова, как обещала, а потом, гонимая любопытством, вошла в дом. Соседка Абрамова, коренастая, с чуточку выпученными глазами, пряча руки под передником, охотно ввела меня в комнатку, где на стене висел портрет веселой, с упрямыми бровями женщины.
— Это такая пара была, такая пара, — прочувствованно говорила она. — На зависть всему двору… всему городу на зависть… Когда он овдовел, я, бывало, скажу, просто испытываю его: «Не убивайте себя, вы еще встретите другую…» Слушать не хотел. И никто к нему не ходил, никто у него не оставался…
В комнате были свалены вещи со всей квартиры — книги, старые куклы, потертые стулья, диван.
— Да, разорилось гнездо, — сетовала соседка. — Особо хороших вещей у них не было, бедновато жили, а все-таки… Квартиру заняли беженцы, или, извините, эвакуированные. А они — как? Они все просят… дай, дай… Корыто дай, уголь дай, чайник дай… — Она спохватилась: — Вы меня извините…
— Ну что вы! — Я и не думала возмущаться или обижаться. — Для того чтобы делиться, надо быть очень щедрым…
— Щедрым?! Глупым надо быть, вот как я… все раздала, ни с чем не посчиталась…
Почему-то я спросила, уверенная, что не ошиблась:
— А Люся уже родила?
— Откуда вы знаете Люсю? Может, хотите ее видеть? Она здесь, у меня…
Но я сказала, что очень тороплюсь. Женщина проводила меня до калитки и словоохотливо выложила, что очень рада за Люсю: муж заботливый, славный, все делает для семьи. И тащит в дом, а не из дому, не пьет…
— Одно только горе, что военный, но теперь все на войне. Зато хороший паек…
Я зачем-то спросила:
— А Самарина вы знали?
— Это ухажера Люсиного? Ну, знала, приезжал не раз… — Она скривилась и, забыв, что только сейчас закатывала глаза, восхищаясь необыкновенной любовью Абрамовых, заключила: — Шурик гораздо солиднее, разве можно сравнить…
— Конечно, — ответила я, — их и не стоит сравнивать…
Что-то в моем тоне уязвило Люсину маму, она открыла рот в удивлении, потом снова закрыла. И сказала, как бы подводя итог разговору:
— Значит, беженцы начинают уезжать? Очень хорошо, очень хорошо. Счастливо вам доехать. Беженцы уедут, у нас опять подешевеет рис…
В поезде мы уселись на свою полку, заваленную узлами, растерянные, испуганные, ошеломленные. Саша держался тихо, серьезно.
В вагоне были почти одни военные, они громко хлопали дверьми, зычно переговаривались. И вдруг подошел Самарин.
— А я звонил с вокзала в редакцию, — сияя, говорил он, — сказали: «Нет, уже не работает». Ну, думаю, все, не увидимся. И вдруг сюрприз…
— Сбылось наконец-то ваше желание…
— Сбылось, еду, — таинственно, как будто боясь, что услышат и помешают, шепнул Самарин.
— Опять рапорт подавали?
Он почти беззвучно ответил, расплываясь в счастливой улыбке:
— Подавал…
— Как я рада, что вижу вас!..
Я была утомлена сборами, измучена. Волнуясь, почти в слезах, рассказала, как мучилась с билетами, как насилу достала грузовик, как не принимали багаж и я боялась, что мы опоздаем. Самарин тоже рассказал, как собирался в дорогу, сдавал казенное имущество и ключ от комнаты.
— Вещи отнес к жене Горлова. Да и вещей, собственно, гитара, светлый костюм — как-то сшил, когда ездил на юг, коричневые полуботинки.
— У вас что, и родных никаких нет?..
— Я ведь сирота, у тетки воспитывался, тетка умерла… — И Самарин бодро прибавил: — У меня весь полк родня. Два часа ходил прощался… — Но как ни храбрился он, а голос звучал уныло. — Может, оно и к лучшему, я никого не оставил, и меня никто не ждет… Обидно только, что никто не узнает, вернется Самарин с войны или нет…
Я даже растерялась. Что говорить? Какие слова тут могут помочь?
А в вагоне, как назло, только и слышны были разговоры о семьях, о женщинах — женах, невестах, сестрах. Военные охотно вынимали бумажники и планшеты, доставали фотографии, завернутые в желтый или зеленый целлофан, волнуясь показывали друг другу.
— Познакомился я с одной блондинкой…
— Жена ушла из Минска пешком, я ее разыскал только недавно…
— Сынишка меня небось забыл. Совсем кроха был… Жена пишет…
— Она такая изнеженная, а теперь, представьте, на танковом заводе…
— Рыжих я не признаю — они коварные, рыжие…
Я замечала, как внимательно, с жадностью прислушивается Самарин к этим разговорам. Он подолгу лежал на верхней полке, ни с кем не заводил знакомства. И со мной разговаривал мало. Только на больших станциях, где поезд стоял долго, брал Сашу и уходил с ним гулять, за что я была ему очень благодарна. Испуганный непривычной обстановкой, Саша не отпускал меня ни на шаг, даже во сне держал своей ручонкой мою руку.
За окнами плыла пустыня, мелкими волнами катился песок, а на песке, как тени, чернели изогнутые сучья сухого саксаула. На станциях женщины в пестрых юбках и плюшевых безрукавках продавали пахучие дыни. Ночи были прохладные, свежие, и всю ночь катилась вслед за поездом большая луна, освещая людей в вагоне, беспокойно бормочущих во сне, и как будто выгравированный резкими штрихами на светлом серебре корявый саксаул. Как странно было, что этот саксаул мы получали по ордерам и топили им печи!
Я спала мало, тревожно и всегда, когда открывала глаза, видела, что и Самарин не спит, смотрит в окно.
Днем крыша в вагоне накалялась — все снимали гимнастерки, оставались в майках, на станциях обливались водой, пили горячий чай, который будто бы помогает от жары. На зубах навязчиво хрустел песок.
А Самарин все сидел наверху нахохлившись.
Соседи заметили, что он скучает.
— Бросьте грустные думы, лейтенант, — сказал, стоя в проходе между полками, коренастый капитан с красивыми белыми зубами. — Спускайтесь вниз, здесь у нас колбаса и все, что к ней полагается…
— Спасибо, что-то не хочется.
— Водочки не хочется? Или вы больны, лейтенант?
— Спасибо, здоров…
— Расстался, наверно, с такой красоткой, что ему и водочка не мила, — сказал кто-то внизу. — Слышь, лейтенант, посиди в компании, авось легче на жизнь глянешь.
Самарин не стал ломаться, спустился, сел, выпил, посмеивался, когда шутили о его «красотке», но все равно грустил.
Он пил и мрачнел. И ночью, мрачный, спал плохо, ругал духоту, опять смотрел в окно. Уже чаще стали попадаться деревья, прошумела под мостом речонка — еще узенькая, мелкая, а все же русская речонка… Гуще стала зелень на полях, встал на далеком горизонте лес. Но все еще было пусто, однообразно и жарко…
Утром я проснулась от толчка. Саша играл с бабушкой. Пассажиры уже давно встали, пили чай, завтракали, морщась, допивали вчерашнюю, согревшуюся водку, освобождали бутылки и фляжки, готовясь к осаде буфетов и ларьков на больших станциях.
Поезд остановился на полустанке.
Самарин спрыгнул с полки, вышел размяться. Я тоже взяла бутылку для молока и вышла. Поезд стоял в «чистом поле» — темнело только небольшое железнодорожное строение да прилепившаяся к нему хатенка, окруженная садиком.
В садике на стуле сидела цветущая женщина в желтом сарафане и желтой косынке на выгоревших волосах. Вытянув босые ноги в стоптанных туфлях и сложив руки на высокой груди, она отдыхала, греясь на солнце, и только иногда лениво крутила ручку патефона. Патефон стоял рядом, на табуретке. На земле валялся брошенный тяжелый кетмень.
На звуки музыки прибежали военные даже из самых дальних вагонов — с чайниками в руках, с бутылками, с краюхами хлеба для обмена.
Послышались шутки, смех.
Тут же стоял повеселевший Самарин. Он шутил, шумел и, как будто магнитом притянутый, неотрывно смотрел на женщину в сарафане. Кто она? Откуда? Каким ветром занесло такую красоту в эти скучные края?
А женщина смеялась, отвечала на шутки и заигрывания, позволяла любоваться собой — босыми полными ногами, голыми руками и плечами, выгоревшими волосами.
Самарин, ужасно волнуясь, бледнея, тихо спросил:
— В этой глуши музыка, наверное, ваше единственное развлечение?
— Я не для себя… Я эти пластинки наизусть знаю…
Около поезда появилась старуха с молоком, и военные, гремя чайниками, побежали к ней. Но я стояла на месте с пустой бутылкой, не могла отойти.
Паровоз уже пускал пары.
— А для кого же вы играете? — спросил Самарин.
Женщина подняла одно плечо, как бы извиняясь.
— Поезд идет на фронт, вот я вам и играю…
— А вы? Вы? Вы кто? — задыхаясь, спрашивал Самарин. Его ослепили солнце, желтый песок, сарафан и блеск глаз женщины.
— Я эвакуированная. Работаю тут. У меня дома очень хорошие пластинки остались… прекрасные пластинки.
— А муж? На фронте, да?
— Ничего я не знаю… — ответила женщина. Что-то в ее голосе дрогнуло, но она улыбнулась. — Все равно надо жить, — сказала она. — Правда? Надо жить…
— Да, да, — прошептал Самарин, поглядывая то на паровоз, то на женщину и садик за ее спиной.
Взгляд у него стал такой напряженный, что женщина перестала улыбаться. Игла крутилась на одном и том же месте пластинки, повторяя одни и те же слова.
— Идите в вагон, опоздаете… — сказала женщина растерянно.
— Успею… — Самарин решился: — Я один… совершенно один… Можно мне написать вам?..
Она испугалась:
— Не надо, что вы! Не надо…
— Не сердитесь, только не сердитесь. Скажите мне, как вас зовут?
Я инстинктивно подвинулась ближе к вагону, но глаз не могла оторвать от этой женщины, такой красивой, что ей даже прихорашиваться, наряжаться не надо было.
У женщины не сходила с лица испуганная, счастливая усмешка.
Веселый капитан, держась за поручни, крикнул, стоя в тамбуре:
— Отстанете, лейтенант!
Колеса медленно застучали. Женщина вскинула руки, обняла Самарина и поцеловала.
— Счастливый вам путь! — сказала она. — Спасибо…
Самарин побежал за вагоном, легко вскочил на подножку. Диск патефона все еще вертелся…
Паровоз дернулся в сторону, скрылся желтый сарафан, дерево, полустанок.
Самарин вошел в вагон.
Капитан кричал, что надо выпить за «победителя сердец», но другие держали пари, что лейтенант встретил старую знакомую. Самарина трясли, хлопали по плечам, спрашивали. Он улыбался, ничего не отвечая, ничего не понимая. Наконец его оставили в покое.
Только капитан сказал обиженно:
— А ты уши развесил, лейтенант? Ты поверил? Она ведь рыжая…
— Верю! Надо верить! — Самарин залез на свою полку и отвернулся к стене.
Никто в вагоне не понял, что он сказал. Никто, кроме меня… А мне почему-то тоже хотелось верить, что Самарин еще встретится когда-нибудь со своей красавицей. Скучный голос благоразумия подсказывал, что так не бывает и не может быть, но другой голос, беспечный, молодой, безрассудный, спрашивал: «А почему? Почему не бывает? Разве Самарин не прав? Надо верить в человека, и тогда все будет хорошо…»
И чем больше я думала, тем спокойнее становилось у меня на душе…
БАНКА ВАРЕНЬЯ Повесть
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь…
И. Заболоцкий1
Она никогда не стучала, просто входила. Распахивала дверь. Словно забывала, что в постели около сына лежит невестка, тоненькая девочка с длинными ногами и круглыми черными внимательными глазами. И сегодня не постучала, ввалилась, вломилась, как ураган:
— Орленок…
Ресницы у Тамары дрогнули, она зашептала испуганно:
— Игорек, проснись, это Марина Сергеевна…
— Ну, не буди, не буди…
Столько было любви, ласки в этом «не буди», в этом шепоте, как будто яркий свет залил комнату, теплые лучи щекотнули крутые плечи широкогрудого Игорька, спавшего без рубашки.
Мать, тяжело продавив матрац, села на край кровати, прильнула к сыну. Где-то там, за ее спиной, как за широким забором, осталась ненужная худенькая Тамара. О боже, не одна уже девчонка лежала в постели у Игоря, именовалась его женой! Но эта вроде задержалась подольше, прижилась. Ох, Игорь, Игорь…
— Орленок, пойдешь со мной на торжественный вечер?
— Это же будет скучища, ма… Соберутся старички в орденах, станут хвастать: «Мы, я…» — Он очень смешно менял голос. — Потом обратят внимание на меня: «Ну как, идешь дорогой отцов, не срамишь фамилию?..»
Мать остановила его:
— Не такие уж они дураки… Поужинаем там, ведь скоро я уезжаю…
— А Тамара, ма? Она сегодня не может…
— Ну что ж, придешь без Тамары…
— А что вы наденете на вечер? Мундир? — вдруг спросила невестка.
— Пожалуй, мундир…
Она все-таки повернула голову, пригляделась и будто впервые заметила это смуглое, выточенное тельце, плечики, узкие руки, нарядную ночную рубашку, черную головку. Нет, Игорек умел отыскивать смазливых девчонок.
Тамара с неожиданной твердостью попросила:
— Вы наденьте мундир. В платье совсем не то…
А Марина Сергеевна все-таки надела платье. Нет, не назло Тамаре, она и думать о ней забыла. Хотя очень удивилась, когда вечером нашла в своей комнате тщательно выутюженные и разложенные на кровати форменный китель и черное свое выходное платье с пришитым кружевным воротником.
— Мама, — сказала Марина Сергеевна матери, — зачем вы себя утруждаете, мало вам дела, что ли…
— Это не я, это Тамарка.
— Да? С чего это она?
— Угождает Игорю.
Марина Сергеевна не любила несправедливости:
— Вы неправы, мама. При чем тут Игорь?
— Игорь такой простодушный, его опутает хоть кто.
— Нет, мне кажется, что эта Тамара всерьез, Орленок к ней привязался. Да и мне, если хотите знать, она начинает нравиться.
Мать поджала тонкие губы, неодобрительно помотала головой:
— Она, по-моему, не… словом, не пара Игорю…
— Ну что вам еще надо, мама? Какую принцессу? — Марина Сергеевна не сдержалась. — На вас не угодишь, еще Иван обижался, что теще не угодишь.
— Вот уж чье мнение меня не интересует, так это мнение Ивана. — Старуха вдруг заглянула дочери в глаза: — Мариночка, доченька, неужели ты… сожалеешь?.. Но он не подходил тебе, кто ты и кто он? Только твоя доброта… Забыла, как он себя вел, как оскорблял тебя, меня! Он завидовал твоему положению…
— Ладно, мама, — оборвала Марина Сергеевна. — Решение было принято, и не в моих правилах собственные решения отменять… — Она не добавила, что об этом теперь поздно думать, сколько уж лет, как они развелись с Иваном. Он давно женат.
Мать как будто угадала ее мысли:
— Он-то бы вернулся еще с какой охотой. Что он, дурак или враг себе! Да только нам-то он на что? Слава богу, что избавились…
— Мама…
Голос Марины Сергеевны прозвучал гневно, и мать сейчас же ретировалась, ушла на кухню. Когда дочь гневалась, мать пугалась, отступала. Правда, потом, выждав удобную минутку — дочь-то была отходчива, — не упускала свое. И сегодня с несчастным видом вздохнула, когда дочь собралась уходить.
— Я ведь тебе желала счастья, Марина. Да я ради тебя — в огонь и в воду. Конечно, я старая, больная. Может, умру скоро. Где уж мне тебя обслужить, как ты достойна, где уж мне угодить тебе…
Марина Сергеевна только и ответила:
— Я вас, мама, об одном прошу: следите за Игорем. Ведь у него экзамены. Никакого баловства, понятно? И Тамару смотрите не обижайте.
Не хотелось ей ссориться с матерью. Хоть та и не такая старая и больная, а все-таки годы берут свое, здоровье поизносилось.
Да и настроение Марине Сергеевне не хотелось себе портить. Она любила эти вечера, посвященные авиации. И блеск огней, и оркестр, и добрые слова, и поминание заслуг. Подшучивала сама над собой и над товарищами, говорила, что надоело, «опять двадцать пять», а все-таки любила… Конечно, это совсем не то, что чувствуешь, когда собираются однополчане на свою ежегодную встречу, — то святое, комок стоит в горле, так волнуешься, — но и здесь все-таки приятно. Знаешь, что тебя не забыли.
Уверенная в том, что ее помнят, чуть кокетничая своей скромностью, она надела платье, подосадовав только, что оно такое длинное, немодное. Мундир с орденами повесила обратно в шкаф. Все и так догадаются, кто она.
Но вышло не по-задуманному. Знакомых почти не было, ведь верно, болеет народ, умирает, выходит в тираж, — сидели в президиуме какие-то молодые знаменитости, космонавты, испытатели. Никто и не вспоминал про тот ее давний, еще довоенный перелет. Ей стало не по себе… Она поискала глазами Игоря в зале — хотелось, чтобы он пришел, пришел один, без жены, — и не нашла… Решила не ждать конца торжественного заседания, а занять место в ресторане. Столько потом народу набьется, что придется ждать.
Ей очень хотелось перед разлукой посидеть с Игорьком. «Ты мой свет, ты мое счастье, Игорь. Я твой друг, а не только мать, Игорь. Ты несерьезно относишься к жизни, слышишь, Игорь? Это же позор, что ты так плохо сдаешь сессию, ведь у тебя жена, ты взрослый мужчина. Опять мне придется ехать к декану, просить, унижаться, ты понимаешь, Игорь?..»
В ресторане было еще Пустовато, только неподалеку расположилась компания мужчин да у окна, поблескивая влюбленными глазами, перешептывалась парочка.
У входа официантки в белых кружевных наколках над бледными усталыми лицами увлеченно беседовали о своих делах.
— Что же вы не подходите, — обиженно крикнула Марина Сергеевна, — я есть хочу…
Мужчины, пившие коньяк, оглянулись на ее голос. Марина Сергеевна растерянно улыбнулась, уже сердясь не на официанток, а на Игоря. Но его все не было. Пришел бы: все-таки мужчина, кавалер. При нем эти боярышни небось забегали бы: что-что, а показать себя — это он умеет.
Марина Сергеевна продолжала томиться.
Вспомнила, как встречали когда-то в этом же клубе знаменитых летчиц, вернувшихся после перелета. С цветами. С шуточными стихами:
В нашем клубе мало денег, преподносим этот веник. Бросьте нам обратно в лица этот веничек, орлицы.Марина Сергеевна тогда только начинала летать. Пришла на встречу, радовалась, что достала пригласительный билет, слушала и завидовала. Слово себе дала, что и ее будут когда-нибудь так встречать. И сдержала слово. Всего добилась — цветов, наград, уважения, славы. Каждый год ее приглашают теперь в этот клуб. Приглашают как почетного гостя. Да и так, запросто, она сюда ходит…
И конечно, официантки прекрасно ее знают, должны знать. Марина Сергеевна постучала ножом по краю тарелки.
Официантка наконец подлетела:
— Ой, миленькая, дорогая, я вас слушаю…
Заказала ужин, съела второпях, в рассеянности то, что принесли, а Игоря все не было…
Необязательный он стал, несерьезный. Пообещает и тут же забудет. Знает ведь, что мать завтра уезжает на месяц, неужели нет желания провести вместе часок-другой?.. А как, бывало, плакал маленький, когда она уходила, как гордился ею, любил больше, чем отца, больше, чем бабушку, торжествовал, когда она брала его с собой на воздушные парады, на Красную площадь.
Она все медлила, не уходила, хотя и неловко было одной занимать целый стол. Хорошо еще, что не надела мундир, так незаметнее…
А все-таки ее узнал один журналист, старый уже, с большим отвислым животом, с отечными мешками под глазами. Подошел, остановился, опираясь на палочку:
— Что же это вы не в президиуме?
— Убежала… — улыбнулась она.
Он пошутил на правах давнего знакомого:
— Свидание?
— Сына жду. И есть захотелось, не обедала, прямо с работы… — почему-то выдумала она, хотя заезжала после работы домой и обедала. Правда, наспех. Предложила: — Может, выпьете рюмочку?..
— Что вы, давно не пью, печень…
Они оба, поговорив немного о болезнях и лекарствах, засмеялись над тем, что разговаривают в ресторане в торжественный день на такие печальные темы.
— А помните Чкалова? Анатолия Серова? Осипенко, Раскову, Валентину Гризодубову? Вот были времена…
Она помнила. Конечно, она помнила.
Спросила из вежливости:
— Вы по-прежнему пишете об авиации?
Он развел руками:
— Век космоса! Надо уступать дорогу молодым…
— А что делать старым?
Он отшутился:
— Надо не стареть, это очень просто.
Она все-таки уговорила его выпить вина, вот именно за то, чтобы не стареть. Просто не стареть, и все…
2
Веточку, принесенную с прогулки, она поставила в стакан с водой, смутно надеясь, что почки на ветке набухнут и проклюнется зелень. Ей хотелось чего-то красивого, какие-то смутные ощущения, потребность в нежности воплотились для нее в этой ветке. Она принесла ее с горы как сокровище.
Смотрела на ветку, как только просыпалась, подвигала к свету, к солнцу, а то вдруг пугалась, что слишком жарко, что почки высохнут, и ставила стакан с веточкой в тень…
…Никогда раньше Марина Сергеевна не замечала, какой день длинный. С утра лечебные процедуры еще отнимали время, а после обеда начиналась тоска. Не могла же она все время читать. Ей советовали больше быть в движении, гулять, даже танцевать, если хочет, и ходить, обязательно ходить и ходить. А с кем? Одной?
Она не очень-то привыкла бывать одна.
В детстве она жила, как дикий цветок под дождем и солнцем, между матерью, готовой горло перегрызть всякому, кто обидит девочку, и взбалмошным отцом. Когда подросла, отбоя не было от друзей, — такой она была веселой, смелой, яркой девушкой, затем пришла слава, когда ее фамилию знал любой пионер… В войну ее окружали однополчане, свои ребята, своя братва, и после войны она еще долго была знаменита, имела влияние, вес и когда появлялась где-нибудь, то улавливала шелест: «Та самая?» — и горделивый ответ: «Ну конечно, это она». Знакомством с ней хвалились, именем ее пользовались, нуждались в ее помощи. Она привыкла, что всегда и всюду ее окружают люди, привыкла жаловаться на занятость, мол, «не продохнуть», — ее куда-то звали, умоляли приехать, где-то она заседала и присутствовала, знакомые вваливались к ней толпой, ели у нее, пили, ночевали. Она только просила с улыбкой, шепотом: «Вы уж, пожалуйста, угодите маме. Мама у нас любит почести».
Гости старались подольститься к матери, хотя Марина Сергеевна и сама немножко любила лесть: просто привыкла к тому, что перед ней восторженно заискивают. Ей нравилось быть доброй, кому-то звонить, чем-то возмущаться, за кого-то просить. Приятно делать добро, ведь не для себя просила.
Ну а годы шли, и, как-то оглянувшись, она увидела, что шуму вокруг нее стало вроде поменьше. И народ вертится около какой-то пустой: чьи-то брошенные жены, генеральские вдовы, какие-то неудачливые, полные фанаберии очеркисты, немолодой певец, все еще ждущий удачи.
Даже лучший друг, служивший в войну под ее началом, отчитал как-то: «Кто это у вас бывает, Марина Сергеевна, шуты какие-то». — «Не гнать же… — беспечно отозвалась Марина Сергеевна. — Ходят, ну и пусть ходят…» — «И все они тут у вас накуривают черт знает как, пьют, едят…» — «Авось не обеднею, — уже более сердито ответила Марина Сергеевна. — Я гостей люблю. А ты, Николай, больно практичный стал…» — «Станешь, — жестко ответил Николай. — Когда я один работник на всю свою многочисленную семью». — «Я как была расточительна, такая и до сих пор. Вот мать ругается, что у всех дачи собственные», — пожаловалась Марина Сергеевна. Николай ответил хмуро: «Я не ваши деньги, хотя они у вас тоже трудовые, я время, душу вашу жалею». — «Ну, ты меня не жалей, я не из тех, кого приходится жалеть».
Она осталась недовольна тогда Николаем. Даже выговор ему сделала, что стал осмотрительным, а летчику это не к лицу, летчик — это размах, щедрость, широко распластанные крылья. Последнее слово в споре вроде осталось, как всегда, за Мариной Сергеевной. Но что-то ее тогда насторожило. Очень уж она ценила Николая и была уверена, что она для него высший авторитет. И если уж Николай ее критикует…
Она пересмотрела круг своих знакомых, сразу же решительно вытряхнула кое-кого: церемониться она не умела. А потом так же строго, придирчиво посмотрела на себя. Батюшки, как она постарела, растолстела безобразно, нескладная стала! Только глаза молодые, зубы, смех. Вот все, что осталось от прежнего…
— Что-то вы меня раскормили, мама, — сказала она с упреком, — противно смотреть…
— Так как же, Мариночка, — засуетилась мать, — питание ведь требуется. И дом наш все-таки не простой…
— А какой?
— Сама знаешь, — недовольно сказала мать. — Все-таки у нас престиж…
— Ой, мама, мама, совсем вы очумели!..
— Ну, спасибо, дождалась благодарности.
Марина спохватилась:
— Извините, это я, мама, сгоряча…
Она кое с кем посоветовалась, и ей внушили, что надо поехать в санаторий, в горы, стряхнуть лишний вес, прийти в форму.
Марина Сергеевна согласно кивала головой, выслушивая советы. «Верно, верно. Надо вернуть форму. Надо поехать в горы. И не киснуть в санатории, не лежать, а бегать, ходить, двигаться. Играть в волейбол. Черт возьми, я ведь в школе играла. Отличная игра. Как это я забыла…»
Она ничего не умела делать наполовину: отдыхать так отдыхать, ловить за хвост уходящую молодость — так ловить энергично. Она все разведала в первое же утро, как приехала: какие тут порядки, где живописные места для прогулок, гостиные и кинозал. И где волейбольная площадка.
Впрочем, это было единственное место, где она чувствовала себя свободно. Кино бывало не часто, в гостиной, где по вечерам танцевали, ей нечего было делать, знакомствами она еще не обзавелась. Да как-то и не стремилась…
То ли дело волейбол. Здесь шумно, весело, просто.
Правда, мяч не сразу стал слушаться ее, выскальзывал из рук, хотя навыки все-таки сказывались — удар остался сильный, резкий и подачу она не теряла.
«Ну и мазила я стала, — однажды добродушно сказала Марина Сергеевна, вытирая разгоряченное лицо, когда игра окончилась. — А ведь играла. Факт. Надо вернуть свой класс…»
Ей и самой смешно было, как тянет ее на эту площадку. Изнывала от нетерпения, как маленькая, пока длился после обеда мертвый час, еле дожидалась, пока выпьют в столовой чай, поторапливала: «Чай не водка, много не выпьешь, пошли, пошли…» Шутила, громко смеялась, запросто кричала на партнеров «орлы», «хлопцы», «ребята», сама себе казалась той, что была когда-то: задорной, компанейской, ловкой девахой. Хохотала вместе со всеми над своими промахами, горячилась, спорила с судьей, добросовестно дула в свисток, если приходилось судить самой. Ей не понравился мяч, не такой упругий, как требуется, она сходила в город, купила новый. Культурник спросил, взяла ли она в магазине счет, тогда ей вернут деньги. Она замахала руками: «Не надо…» Зато распоряжалась мячом самовластно, не разрешала бить по нему ногами, сама уносила его после игры и клала на место. Это ее право молча признали все.
Так было и в тот, пятый или шестой после ее приезда день, — она созвала всех после чая на площадку, разбила игроков на команды. Так же с хохотом кидалась на мяч, пасовала, орала. Так же, смеясь, кинулась за мячом в кусты, куда он отлетел после чьего-то неосторожного удара. И вдруг что-то заставило ее оглянуться, как будто укололо что-то в спину. Реакция у нее была, слава богу, прежняя… Рыжая женщина с неприятным красным лицом, приставив согнутые в локтях руки к бокам, передразнивала ее походку, ее неуклюжесть, грузность. Словно молния сверкнула. Марина Сергеевна увидела себя со стороны.
Наглая усмешка, нет, не усмешка, а ухмылка медленно угасала на лице, сразу ставшем ненавистным Марине Сергеевне. Она пошла прямо на рыжую. Нет, неверно говорят «не помня себя», она все помнила — свою ярость, звон в ушах, растерянные лица вокруг.
— Жека, — завизжала рыжая, — Жека!
И молоденький военный выскочил вперед.
— Ну-ну! — крикнул он, заслоняя жену.
— Будь это не здесь, — сказала ему Марина Сергеевна негромко, — я бы тебя поставила по стойке «смирно». Ну какая сволочь… — Она повернулась, чтобы уйти, сразу стала старой, тяжелой, медлительной. Потом вспомнила и бросила мяч на площадку. — Отдадите культурнику…
Но никто, видимо, больше играть не хотел. Пожилой инженер из Харькова догнал Марину Сергеевну.
— Вы ведь умный человек, стоит ли…
— Не стоит, — машинально ответила Марина Сергеевна. И худенькой девушке с подкрашенными глазами, очень похожей на невестку Тамару, тоже кинувшейся с извинениями, сказала: — Да не обиделась я, подумаешь…
Но она обиделась. Нет, не на эту дуру. На себя. За то, что попала по своей же вине в смешное положение. Забылась. Увлеклась…
За ужином она ни с кем не разговаривала, в разговор не вмешивалась, сразу же ушла к себе. Никого не хотела видеть. Неохотно, даже сердито крикнула «да, кто там?», когда в дверь постучались.
Это явился Жека, очень сконфуженный.
— Я только сейчас узнал, кто вы. Навел справки. Простите ее…
Марина Сергеевна сумела засмеяться:
— А если бы не узнал? Не навел справки?
— Мы просто в отчаянии, поверьте.
Она резко отмахнулась.
А Жека все твердил:
— Для меня большая честь, что я познакомился с вами. Я еще школьником был… Вы правда не сердитесь?
— Нет, не сержусь…
Но это была неправда, хоть она и сознавала, что глупо придавать такое значение пустому инциденту.
А все-таки не станет она ходить на волейбол, будет гулять, любоваться природой. Чудесные здесь места…
И вот бродит, нескладная, несуразная, растерянная, по этим голым, еще не покрывшимся зеленью склонам, среди серых, мертвых стволов. Все как будто ищет чего-то, ждет, надеется увидеть что-то новое за этим вот поворотом или вон за тем…
А весна все настойчивее вторгается в голые пространства, шумит, низвергаясь откуда-то сверху, прыгая по камням, вода, перекликаются птицы, и даже сухие прошлогодние листья шуршат не уныло, как осенью, а с задором… Или она выдумывает про листья? Может, и выдумывает. Но птицы поют и переговариваются все громче, это точно. А ей как было тоскливо в первый день приезда, так и теперь…
И вряд ли поможет веточка.
Но все-таки она ухаживает за ней, меняет воду в баночке, надеется…
3
Особенно тягостно бывало в воскресенье. Ни ванн, ни какого другого лечения — свободна с самого утра. Она смотрела со своего балкона, с третьего этажа, на расчерченную дорожками территорию перед санаторием и мучительно придумывала, чем бы заняться. Странное это чувство — одиночество, чувство, что никому нет до тебя дела, вокруг ни одной знакомой души… Она пошутила было с горничной, когда та убирала, поговорила с медицинской сестрой, со слесарем. Теперь смотрела с балкона, как молодые компаниями уходят на прогулку, бегут куда-то, торопятся, старшие тоже собираются кучками — кто играть в карты или домино, кто тоже гулять, но медленно, не спеша. А она одна. Музей сегодня закрыт, в картинной галерее она уже была, в кафе не протолкнешься…
Она лежала-лежала на кровати и вышла в холл. И вдруг в холле — просто чудо! — встретила Кириллова, Борю Кириллова, своего сокола, как она называла когда-то летчиков из подразделения, которым командовала. Все еще бравый, сухой, поджарый, правда, седой, он был ей очень мил. Она сказала растроганно:
— Где твоя пышная шевелюра, Борька? Побелел весь. А так хоть куда. На пенсии?
— Пока летаю. На Севере, на местной линии, но летаю…
— Ну, вот молодчага. А наши, кто жив, почти все уже приземлились. Николай вот еще летает, тоже в гражданском флоте, но он, ведь помнишь, какой упорный…
— А вы, Марина Сергеевна? На отдыхе?
— Что ты?! Я, брат, руковожу: тружусь в научно-исследовательском, по нашему же авиационному делу…
— О-о, — почтительно протянул Кириллов, — это штука нелегкая…
— Пока тяну…
Оба были рады, растроганы. Кириллов сказал, что такое событие надо отметить, отпраздновать. У него в чемодане есть бутылка грузинского коньячку и лимон. Как будто предчувствовал…
— Ну да, — недоверчиво засмеялась Марина Сергеевна. — Так уж и предчувствовал.
Но все-таки зашла к нему в комнату, и они раскупорили коньяк.
Она все так же, как когда-то лейтенанту-мальчишке, говорила ему «Борис» и «ты», он звал ее по имени-отчеству.
— Женат?
— Овдовел.
— Чего не женишься?
— Неохота снова надевать хомут, погуляю пока…
— Ой, Борька, — сказала Марина Сергеевна, — каким ты был, таким и остался. И тогда тебе девки на шею вешались, и теперь, как я вижу. Помню, когда формировались под Москвой, телефон в штабе обрывали, вызывали тебя…
Они уже выпили понемножечку. Борис повеселел:
— Если хотите знать правду, Марина Сергеевна, вам тогда только одно слово стоило сказать, и я бы всех прогнал к чертовой матери, вот только пальчиком бы шевельнули…
— Ну да!
— Слово чести! — Он стал горячо, даже пылко, говорить ей, какая она была королева, как весь летный состав обожал ее, как преклонялись перед ней, как за нее боялись. Как будто не про нее, про какую-то другую женщину говорил — так он ее живописал. — В других частях, Марина Сергеевна, перенимали ваш опыт, несмотря на то, что вы женщина, пардон… Вашему подходу к людям учились…
— Да будет тебе… — отмахнулась Марина Сергеевна, хотя ей было необыкновенно приятно слушать все, что он говорил.
Перебивая друг друга, торопясь, они вспоминали свою часть, скорбно вздыхали, говоря о погибших.
— А на встречи наши не приезжаешь, — укорила Марина Сергеевна. — Николай — помнишь Николая? — искал тебя, писал…
— Рвался, но не мог. Все что-то мешало…
— Другие приезжают. Даже с Дальнего Востока… из Туркмении. А ты телеграммами отделывался. Мы же за твое здоровье тост поднимали, не забывали тебя…
Кириллов расчувствовался.
— Клянусь, этой осенью, кровь из носу, приеду… — Он лукаво сощурился. — Вы говорите, девчонки. А ведь из-за вас, Марина Сергеевна, оборвался мой самый жгучий роман…
— Как это из-за меня?
— А так… Мне увольнительная вот как была нужна, решительное предстояло объяснение, я даже букет цветов купил… и вы сказали: «Ладно». — «А кто вместо меня полетит?» — «Полечу сама, больше лететь некому». — «Тогда отставить увольнительную».
— Боялся за меня?
— Ну да, боялся…
— И зря…
— Вы же были удивительно храбрая, Марина Сергеевна, ну просто отчаянная…
— Из-за вас, чертей, и приходилось быть храброй, я же не могла быть хуже вас…
Они отпивали по глоточку и снова подливали. Марина Сергеевна разрумянилась. Даже чуть всплакнула, вспоминая прошлое. И так хорошо ей стало, так тепло на душе, как давно уже не было. Вот ему, а не бездушной березовой ветке сможет она рассказать все, что гложет ее, терзает и мучает.
— Не радует меня здесь ничто — все эти птички, и горы, и нарядная публика…
Он не понял. Недоумевая, поднял брови.
— Скучно мне, Борис, — сказала она. — Скучно и скучно. В жизни такого не знала, как теперь…
Он запротестовал:
— Это же замечательный санаторий!
— Замечательный-то замечательный… Да как-то я тут не пришабрилась. — Она опять сказала не то, не главное. — Я тут прямо запсиховала от тоски, ты бы не поверил. Пришла на ванны, сижу-сижу, является какая-то интуристка. «Ах, это иностранка, пусть пройдет. Подождите». Как это подождите? Пусть фрау подождет.
— Из-за такой ерунды и расстраиваться, ой-ой-ой, — сказал Кириллов уже несколько покровительственно.
Ее покоробило, но она уже не могла остановиться.
— Потеряла я себя как-то, — сказала она, щурясь и зачем-то заглядывая внутрь стакана, как будто там, на донышке, чуть покрытом коньяком, могла найти себя. — Потеряла я свое место в жизни, что ли, Борис… Выходит, все уже было, все прошло — значит, надо мне завидовать тем, кто погиб? Так, что ли?
Кириллов оторопел:
— Побойтесь бога, Марина Сергеевна…
Она его не слушала:
— Я вот тут читала книжку про Жанну д’Арк. Слышал, наверное, про Орлеанскую деву? Может, это лучше, что ее сожгли, осталась в памяти народа героиней, а не отжившей старухой…
На секундочку припомнилось ей, что Борька Кириллов — лихой, очень храбрый, но в общем поверхностный малый, и не перед ним бы ей исповедоваться. Но у него был такой добрый, полный сочувствия и недоумения взгляд, такая вроде боль за нее, что она все стала выкладывать, даже лишнее сгоряча наговорила. И Орленок, мол, вырос эгоистом, и мать стала очень уж спесива, — рассказала даже, как тяжело разводилась с мужем и как пусто идет теперь жизнь в ее доме. И как часто убегает она из этого дома, убегает сама от себя куда глаза глядят, хоть в тот же клуб… Как охотно задерживается — надо, не надо — на работе: то на месткоме посидит, то на партбюро, лишь бы не быть свободной…
— Но так ведь тоже нельзя, нельзя жить одной работой. Да и на работе тяжеловато становится. Техника ведь вон как шагает, не угонишься за ней. Пусть я администратор, мое дело — работать с людьми, но должна же я понимать… Прямо злость берет: хоть бросай, выходи на пенсию или какое дело полегче бери, но не могу, привыкла к этому институту, увлеклась… Знаешь ведь меня? А может, надо бросить, семьей заняться? Игоря в шоры взять железной рукой? Не нравится, не нравится мне то, что в доме у меня, и сама я себе, настроение мое мне не нравится… — Она говорила сумбурно, горячо, но все не признавалась в том, что особенно мучило ее, — в одиночестве…
Кириллов поглядел на часы.
— У тебя процедура? Ванна? — перехватила его взгляд Марина Сергеевна.
— Сегодня выходной, забыли? Вам налить?
— Хватит, — сказала она, прикрывая ладонью стакан. — Я ведь не пью, это так, за дружбу, нашу старую боевую дружбу… — И с отчаянием, как очертя голову прыгают в воду, спросила: — Борис, ты помнишь Шевченко… — Она вся подалась вперед, и голос ее задрожал…
Но тут без стука выскочила на порог крепенькая бабенка, похожая на стройную веселую лошадку, и, блестя полными жизни глазами, играя всеми жилками упругого молодого тела, сказала капризно:
— Борис Степанович, мы ждем…
Она игнорировала присутствие Марины Сергеевны и в то же время каким-то неуловимым образом показывала, что недоумевает, как будто в комнату к Кириллову вдвинули и так оставили огромный несуразный шкаф, что ли…
Марина Сергеевна встала.
— Ну куда вы, вовсе мне не обязательно идти, — вяло запротестовал Кириллов, все еще не отводя взгляда от захлопнувшейся двери.
Марина Сергеевна взяла себя в руки.
— Обязательно, обязательно иди, раз условился, — бодро сказала она. И подмигнула: — Молодец, старик…
Кириллов повеселел:
— Отпуск-то раз в году…
— Ну и пользуйся… Иди, иди, Кириллов…
Она как бы подвела черту под их душевной близостью этим «Кириллов». Но постаралась улыбнуться, чтобы незаметно было, как жестоко она уязвлена.
Кириллов все-таки сказал, провожая ее в коридор:
— Конечно, я помню Шевченко. А что? — Он вдруг оживился.
Но Марина Сергеевна отозвалась равнодушно:
— Да ничего. Просто так…
4
Шевченко…
Они вышли тогда с Шевченко, после совещания у командующего армией. Постояли с другими командирами на крылечке деревенского дома, покурили. Рябины были усыпаны желтовато-красными глянцевитыми ягодами. Шевченко сломал ветку, помахивал ею, а когда стали разъезжаться, пригласил Марину Сергеевну поехать вместе: мол, соседи. Она отпустила свою машину.
Шевченко сел за руль.
Кто-то крикнул им вслед:
— Смотрите, не заблудитесь…
— Помни, кого везешь…
Они отшутились.
И, как нарочно, сбились с пути, заплутали на лесных дорогах, а когда выехали к реке, то оказались у разобранного моста, где саперы меняли настил.
— Это наше счастье, что на фронте затишье, — сдвинув брови, сказала в отчаянии Марина Сергеевна, — не то досталось бы нам на орехи…
А Шевченко не был огорчен.
Саперы пообещали, что мост к утру починят. Они нашли на опушке леса полузаброшенную избушку не то паромщика, не то лесника, открыли окна, чтобы проветрилось, натащили свежего сена из небольшого стожка, сметанного на лужайке; Шевченко набрал пахучих цветов, похожих на колокольчики, отыскал ржавую банку из-под тушенки, тщательно вычистил ее песком и поставил букет в воду.
Они гуляли по лесу, пока не стало темнеть, потом вышли к реке. Там еще, догорая, закатывалось солнце, и вода казалась розовой. Мост, саперы, стук топоров — все это было где-то справа от них, за излучиной; здесь стояла тишина, только тюкал носом дятел на сухой, выгоревшей на солнце сосне.
— Сосна такая же рыжая, как ты… — сказала Марина Сергеевна и потрогала его голову, упрямый лоб, провела даже рукой по щеке. И тут же пожала плечами. — Летаем на сотни километров над фронтом, в тыл, а тут застряли перед водной преградой… а преграда-то тьфу… речушка, а не река…
— Поплыли? — Шевченко стал расстегивать пуговицу на воротнике.
— Ну вот еще… — Она засмеялась. — А ты поплыл бы?
— С тобой бы поплыл…
Она насмешливо поклонилась, не понимая еще, что ее тревожит. Как будто что-то новое вступало в ее жизнь, а она не могла понять, что именно. Она знакома с Шевченко не первый месяц, воюют в одной армии, уверена, что на него можно положиться, но эти несколько часов в машине, в пути, и здесь совсем сблизили их, как будто она знала его всегда. Тогда отчего тревога? Это не было волнение за часть, нет, боевых действий пока не вели, а она терпеть не могла дни затишья, когда в части начиналось то, что мать в детстве называла «генеральной уборкой», когда выносили все проветривать, обметали стены, выбрасывали ненужную рухлядь. Штаб фронта требовал отчетность, приезжали проверяющие, лекторы, санитарные инспекторы, морочили голову хозяйственники, понимали, что пришел их час. От этих дел Марина Сергеевна не уклонялась только в силу своей добросовестности, но раз не по ее вине — можно просто посидеть в лесу, побродить, даже искупаться в реке, — что ж тут такого?
Может, она боится Шевченко? Глупость…
Где-то она читала, что характеры должны дополнять друг друга: может, его мягкость как-то дополняет ее резкость? Говорят еще и так: крайности сходятся. Нет, такого уж различия между ними не было, на многое их взгляды совпадали. Если затевался спор, они всегда были одного мнения. Она часто ссылалась: «Шевченко сказал… Шевченко со мной согласен», — но и у нее в части гордились тем, что Шевченко, сосед справа, всегда перенимает у них опыт, уважает их командира.
…Да, столько лет прошло, столько событий и передряг, а она и сейчас остро помнит тогдашнее свое смятение и болтливость, которой она старалась это смятение заглушить. Она болтала, а Шевченко все больше молчал, только смотрел на нее. Она даже спросила: «Ну что ты смотришь так? Я глупости говорю? Просто я давно не была в лесу, вот так, свободно…»
А он все равно смотрел.
Когда потянуло холодом от воды, они перешли в дом, вскипятили на дымящей плите воду, напились чаю, поели…
И она вдруг спросила у него:
— Ничего не знаю про твою личную жизнь…
— Я женат…
— Хорошая женщина?
— Я ее не люблю.
— Почему?
— Полюбил другую…
Она не стала спрашивать кого. А он поинтересовался:
— Но ты своего мужа любишь? Какое счастье, что в войну вы почти рядом и можете часто видеться!
Она ответила уклончиво:
— Иван приезжает ко мне…
— Ты рада?
Она задумалась.
— Я считаю неудобным эти его посещения. Пойми, война — это война, и все должны быть в одинаковом положении.
— Когда любят, с этим не считаются…
— А я считаюсь.
Шевченко собрал со стола остатки еды, крошки, просаленные бумажки от колбасы, ополоснул котелок и кружки, приласкал длинными пальцами цветы в банке. Его движения нравились Марине Сергеевне своей точностью, понравилась его аккуратность. В комнате было еще светло. Шевченко принес из машины шинели, одеяло, приготовил ей постель.
Десятки раз приходилось ей ночевать в одной комнате с мужчинами, особенно в войну, она давно отвыкла стесняться. А тут сказала:
— Отвернись или лучше выйди, я буду раздеваться.
Он вышел, мылся во дворе, потом долго курил около дома: она видела в окно огонек его папиросы. Уже взошла луна, переплет окошка отбросил на пол и на стены фантастический узор, она все не засыпала, хотя сделала вид, что спит, когда Шевченко вернулся.
Он подошел к ней, тихо коснулся ее лба, ее плеча, тихо позвал. Она не ответила, но вся дрожала.
И сейчас она задрожала так, как тогда: вспомнила, как он сел на пол около ее кровати, положил свою рыжую голову на сено, сказал:
— Я люблю тебя, ты, наверно, давно догадалась…
Она понимала, что надо решительно оттолкнуть его от себя, призвать к порядку, но не могла. Молчала. И тогда он стал целовать ее. И она поняла, что не будет, не хочет сопротивляться, что ее тянет к нему, как, вероятно, тянуло уже давно. Она не хотела обманывать ни его, ни себя. Будь что будет…
А потом он сказал торжественно, но без фальши, искренне, — она была очень чуткой к фальши, к красивым словам, а тут поверила:
— Это самый счастливый час моей жизни…
Она отозвалась шутливо:
— Ох, не узнали бы только политотдельцы про этот наш с тобой час!..
Шевченко поцеловал ее глаза:
— Ты плачешь?
— Не знаю…
Он опять сказал:
— Я люблю тебя…
— А война?
Господи, что он ей говорил… «У тебя красивые ноги», «Я никого в жизни так не любил, как тебя». Он гладил ее коротко подстриженные, волнистые волосы, зарывал в них пальцы и радовался, что теперь они будут пахнуть ее волосами. Оказалось, он хранил записочку, которую она ему однажды прислала, — что-то деловое, какие-то запасные части для мотора у него просила.
«Вея твоя душа в твоем почерке — прямая, порывистая, энергичная».
Она улыбалась слабо, почти испуганно.
— Орфографических ошибок хотя бы не было. Ведь все наспех писала, помню, подложив планшет. — Удивлялась только: — Но что же ты хранил, ведь там все про технику.
— А обращение? «Валька, если можешь, дай нам…» и так далее, и вообще, это писала ты.
— Я уже старая, я некрасивая, неприбранная, больше мужик, чем женщина.
— Ты для меня лучше всех.
Милый, рыжий, застенчивый Шевченко… И имя у него не мужественное, а нежное — Валентин, хотя сам он был и мужественным, и храбрым, и летал отлично. Она это знала…
Она вернулась в свою часть совсем не такая, какая уехала вчера на совещание, бледная, с сияющими глазами, счастливая и вместе с тем несчастная оттого, что не знала, как будет дальше у них с Шевченко, потрясенная, задумчивая, как будто вслушивалась в самое себя. И шла по поросшей мелкой травкой земле осторожно, легко, как будто боялась уронить, расплескать то драгоценное, чем была наполнена до краев ее душа.
Она заговорила с начальником штаба, держа в руках полуувядшие лесные цветы из букета, которые они с Шевченко взяли себе на память, и только краем глаза следила, как исчезает вдали за легкой дымкой пыли машина Шевченко. Особо важных новостей не было, она пошла к себе. И как только вошла в палатку, поняла, что муж здесь. Стояли его сапоги, валялся ремень.
Он лежал на койке, курил.
Ей не сразу удалось погасить блеск в глазах. И муж угадал ее потрясенность.
— Ну? — недобрым голосом протянул он.
Она машинально сказала:
— Не нукай.
Он стал всматриваться в нее, видимо, здорово помучился, пока ее не было, но она ни чуточки его не жалела и не чувствовала себя виноватой.
И тогда он ударил ее по щеке.
Она так удивилась, что не почувствовала ни боли, ни обиды. Он ударил ее еще раз, сильнее, жестче, и ей стало больно.
А он все снова и снова спрашивал:
— Ну? Ну?
Она, как могла спокойнее, крикнула ординарца. И когда тот вошел, чуть недоумевающий, распорядилась:
— Дядя Гриша, полковник уезжает, покорми его…
Она держала себя при ординарце как ни в чем не бывало, сняла китель и осталась в белой блузочке, которая молодила ее. Но есть не стала. Впрочем, и муж ничего не ел. Выпил рюмку водки, хрустнул огурцом и уехал.
Уехал, даже не спросив, есть ли письма из дому, от ее матери, с которой оставался маленький Игорь.
Она села на койку, где совсем недавно лежал муж, — на подушке еще оставалась вмятина от его головы, — посмотрелась в зеркальце — на щеке темнел синяк. Марина Сергеевна громко заплакала. Она плакала долго, всхлипывая, как давно уже не плакала. И опомнилась, когда дядя Гриша, сочувственно вздыхая, тронул ее за локоть:
— Поела бы, Марина Сергеевна…
Он подал ей умыться, вытащил чистое полотенце, сказал, как дочери:
— Что поделаешь-то? Муж, не чужой… — И сразу же, переменив тон, заворчал: — Ежели не спать да не есть, так где нервы брать-то… Не бережете вы себя, Марина Сергеевна… Меня и так летчики ругают: «Смотри, Григорий, оберегай…»
Он очень хотел успокоить ее, отвлечь, пересказал все новости, какие знал, а знал он всегда больше, чем кто-либо другой, — кто получил письмо, кто говорил комплименты девчатам в столовой, кто нагрубил фельдшеру. Вытащил даже из кармана, из бумажника, семейные фотографии, показал себя в кругу семьи.
Марина Сергеевна поглядела как сквозь туман:
— Это ты, что ли, дядя Гриша, вот этот бородатый?
— Ну да…
— Что ты тут такой старый?
— Так заботы было много, смотри, сколько у меня детей.
— И худой.
— Известное дело, не работа сушит, а забота… Это тут, на войне, я вольный казак, одна обязанность — службу исправно нести…
— Ты так считаешь…
Она поправила волосы, села к столу. Аппетита все равно не было. И радостное пламя все еще горело в ней, жгло, — слезы не загасили радости, хотя она сознавала, что надо этот огонь затоптать, пока не разгорелся слишком ярко.
Она пошла в штаб, сидела за столом, подперев щеку рукой, чтобы не заметен был синяк, отдавала приказания, выслушивала людей, все делала, как обычно. И разговаривала, как обычно, и шутила. И поднялась в воздух с молодым летчиком, только что прибывшим в часть, — хотела знать, как он ведет себя в полете. Сверху, с самолета, увидела темную массу леса, прошитую блестящей ниткой реки. Может, это тот лес, где они ночевали с Шевченко, с милым рыжим Шевченко…
Когда она вернулась к себе, дядя Гриша спросил ворчливо:
— Тут ты сена, травы этой принесла, увяла она…
Это он говорил про цветы, про лесной букет. Она пересилила себя:
— Выбрось…
Шевченко приезжал, искал случая остаться с ней вдвоем, объясниться. Она и сама искала возможности съездить к нему в часть, увидеть его, встретиться. Но оставаться наедине не хотела. Боялась. Сказала ему:
— Это уже после войны, Валя. Понятно?
Он согласился:
— Понятно… Я буду ждать.
А вскоре его убили.
Она ездила его хоронить и плакала у гроба. Но плакала не только она, плакали и другие командиры. Шевченко любили все…
5
Тамара как-то сказала вскользь, что здесь, в этом курортном городе, живет сестра ее мачехи, старая чудачка, очень занятная особа. Массажистка. Но Игорь засмеялся: «Ну вот еще, ты думаешь, ма так вот сейчас и побежит искать твою старушенцию». — «А она очень образованная старушенция — иностранные языки знает. Ну что ты хохочешь, Игорь?» И мать Марины Сергеевны вмешалась: «Какая-нибудь, наверно, старая барыня на вате, очень Марине надо…» Марина Сергеевна пожалела тогда Тамару: «Не обещаю, конечно, но если будет время…»
Времени было предостаточно, но идти разыскивать Тамарину родственницу не было охоты. Марина Сергеевна вспомнила о ней, когда уже совсем заскучала. Спустилась со своей горы в город, нашла крутую улочку, дом с крытой галерейкой, как принято на юге, постучала, назвалась. Коротко стриженная старуха вопрошающе посмотрела на нее, открыв дверь, попросила обождать, пока она отпустит клиентку. Марина Сергеевна села на клеенчатую холодную кушеточку.
За дверью слышались шлепки по голому телу, тихий разговор. За окнами вился виноград, какие-то коричнево-серые, перепутанные, как веревки, стебли. На подоконнике спала кошка. Кошку что-то тревожило, чуть поднималось острое ухо, и по шерсти, как волна, пробегала дрожь. Комната, мебель были самые обыкновенные, простые, стояло большое старинное кресло, крытое потертым бархатом, висела икона, но не в углу, а над диваном, как картина. Стояла лампа под зеленым абажуром, лежали книги. Скромная, в общем, комната, но чем-то симпатичная…
Да, в детстве, когда родители таскали за собой девочку по маленьким провинциальным городам, были такие комнаты, такие стулья с гнутыми спинками — их называли венскими, такие кушетки, тюль на окнах.
Как-то мать вздумала учить ее музыке: вымыла ей уши, повязала большой бант, повела к двум барышням, дочкам священника. Барышни, должно быть, скучали, томились. Они обрадовались Марине, играли для нее на рояле. Учить не стали: у девочки не оказалось музыкального слуха. Почему она перестала ходить к ним? То ли отец запретил, то ли сестры уехали? Марина совсем забыла об этом. А сейчас, точно картинку из ящика письменного стола, достала из памяти ту комнату, занавески на окнах, вазы, полные роз, пальцы, бегающие по клавишам…
И такое же кресло, как здесь, она видела. Это уже в другом городе, позже. Там, в доме напротив, жили у своей бабушки двое детей — Андрюша и Маня. Маня совсем не запомнилась, а Андрей… С Андреем они очень дружили. Марина всегда охотнее играла с мальчишками, воевала, скакала на длинных прутьях-лошадях. И доставалось ей в ту пору, как мальчишке, — мать исступленно лупила ее, хотя теперь стесняется этого и всячески отрицает. Но что правда, то правда — лупила… Отец Андрея и Мани был вдовцом, доктором, что ли, — угрюмый, замкнутый человек… И вдруг он стал свататься к Наде, к дочери квартирных хозяев в том доме, где жила Марина… Огромный такой двор, хозяйский дом, два флигеля с квартирантами, колодезь, окруженный, как валом, насыпью, поросшей мелкой кудрявой гусиной травкой. Во дворе огороженный штакетником сад — там фруктовые деревья, кустарники, цветы. Между домами и за сараями таинственные тупики, закоулки, где можно прятаться. А в самой дали, у запасной калитки, выходящей в переулок, трепещут белой изнанкой густо-зеленые листья серебристого тополя…
Родители Марины не жили подолгу на одном месте: отец, механик, долго нигде не задерживался, работы по душе не находил. Часто переезжали, кочевали из города в город, но этот двор, это жилье врезались Марине в душу. Завяжи глаза, приведи на эту улицу, к этим воротам, она и теперь вбежит в калитку, смело пойдет по дороге детства, не ошибется… Так вот, когда Надя стала невестой, Маня стала приходить к ним во двор с очень важным видом, ласкалась к Наде, висла на ней, а Андрей заскучал: Надя стала заниматься с ним по арифметике, решать для практики задачи. А как-то в зимний день Надя взяла с собой Марину к жениху: километрах в десяти от города у того был собственный дом. Который это был год, Марина не помнит, почему не реквизировали дом и лошадь, не знает, зачем понадобилась она суховатой Наде, не понимает, но хорошо помнит, как посадили ее в санки, закутанную, даже лицо мать закрыла ей, как вуалью, розовой газовой косынкой, и они понеслись-понеслись по белым снегам, по дороге, обсаженной тополями, мимо вокзала, через переезд, туда, где жил в своем теплом доме угрюмый жених. Вот у него в кабинете стояло такое большое кресло, и Марина в нем сидела. Ей дали толстую книгу с картинками, она смотрела…
Надя вернула ее вечером матери сонную, счастливую, иззябшую, с холодными, несмотря на газовую косынку, щеками. Дня три Марина только и болтала про имение, про собственную лошадь, про жениха, про кресло, в котором умещаешься с ногами, вся-вся.
Андрюшка выспрашивал:
— Они целовались, ты видела?
Марина плохо понимала Андрюшку.
А он сказал:
— Пусть Маняшка подлизывается, а я убегу… Наша мама была такая добрая…
Тогда она не могла взять в толк, что ему надо, чего он злится, но позже — они жили уже в другом городе — обо всем догадалась — это когда мать стала ее допрашивать: «О чем отец с соседкой беседовал? Целовались они?» Матери она уже отвечала как взрослая, умудренная опытом:
— Ну что ты, мама, он с ней вовсе не разговаривал…
…За дверью вдруг отчетливо сказали:
— Массаж — только средство. Вы кладете сахар в чай и размешиваете ложечкой… Массаж — это, ложечка, способствующая усилению обмена веществ в организме…
И снова стало тихо.
В этой комнате, где и за окнами было тихо — даже деревья стояли еще без листвы, не шелестели, — так хорошо вспоминалось; она подумала о Надином брате, студенте-медике, Колей его звали. Марина-то, понятно, Колей его не звала, называла по имени-отчеству. Так вот этот самый Коля сыграл немалую роль в ее жизни. Теперь в газете «Известия» часто пишут на тему «Главный человек вашей жизни». Позже были у нее другие такие вот главные люди — инструктор в авиационной школе, до некоторой степени отец, когда она, бывало, часами сидела и смотрела, как он строит и никак не может выстроить изобретенный им станок, немножечко муж Иван с его бесшабашной смелостью или, скажем, ее верный друг Николай, но первым в те далекие времена, в пору детства, был тот студент, тоже Николай, Коля… Он давал ей читать книги, укорял: «Ну почему ты такая дикая, девочка? Что ты носишься как ошалелая по двору? Человек, даже маленький, должен иметь цель…»
Она начала причесываться, потому что Коля велел, говорить «пожалуйста», перестала выть в голос, когда мать не пускала гулять…
Коля разрешил ей входить в сад, огороженный штакетником, и смотреть на розы. Он говорил задумчиво: «Как это красиво, видишь?» Она научилась видеть. Это ему она доверила, как тайну: «По тополю будто вода льется, правда?» И когда он без улыбки посмотрел, как трепещет листва, и сказал: «Правда», — захохотала от восторга. «Я могу сто раз проскакать на одной ноге. Хотите?» Он согласился: «Скачи».
А однажды Коля наказал ее. Она прибежала за книгами. Поленилась причесать волосы, просто покрылась платком. А он догадался: «Сними платок, жарко. — И посетовал: — А я приготовил тебе в подарок ленту, теперь уж в другой раз…»
Она обиделась, бурно заплакала, бросила книги. Ушла. Не вышла даже прощаться, когда Коля назавтра уехал на фронт. Не пожелала…
Было это все на Украине, там часто менялась в ту пору власть — то белые, то красные, то налетала банда Махно…
От белых они и уехали, Марина с матерью, уехали, побросав все вещи, зимние пальто, подушки, все-все. Марина хотела взять свою куклу, но мать вырвала ее из рук, отшвырнула: «Не до кукол». А куклины платья были уложены вместе с Мариниными, долго потом хранились.
Они добрались наконец до маминой сестры, тети Ани, поселились там. Мама стала тихая, любезная, все улыбалась и хвалила медовым голосом своих племянников. Сказала однажды: «Мариночка, ты большая, к чему тебе? Отдай платьица Таниной куколке…» И заставила отдать. Вот тогда Марина поняла, что не только кукла — детство, дом ушли уже навсегда. И сказала: «Когда я буду взрослая, ни за что не буду жить в чужом доме, стану кочевой цыганкой…» Она писала письма отцу: «Нам плохо, возьми нас…» — но адреса, куда посылать письма, не было: отец воевал. Одно из ее писем подобрала тетка и заорала: «Мне дурно, ой, мне обидно, что она такая неблагодарная, черствая…» И мать при всех, правда не больно, хлопнула Марину по рукам: «Не пиши, не пиши клеветы…» Марина поклялась тогда, как Андрей, что убежит от матери, уйдет… обязательно уйдет, но куда она могла уйти?.. Разве что в лазарет к Коле, где она могла бы вместе с ним перевязывать раненых красноармейцев, подавать воду, но где был этот лазарет, кто знает…
…Маленький Игорек очень удивлялся, когда она рассказывала ему, что хотела бежать на гражданскую войну. «Это же так давно было». — «Конечно, давно». — «Расскажи». Как только она являлась домой из аэроклуба, снимала комбинезон, ремень, сапоги, влезала в халат и брала Игорька на руки, он требовал: «Расскажи…» У него были любимые истории. Как самолет горел?.. Как ты нашла на войне собачку?.. Про партизан. Про куклу… Но рассказ про куклу не любила бабушка: «Лучше ты вспомни, Марина, как я всем жертвовала ради семьи, все свои юбки на сало обменяла, но кормила вас питательно».
Конечно, жертвовала, кормила, кто это отрицает…
«Ну почему, почему ты считаешь, что этот Коля, буржуй, сын домовладельца, имел на тебя такое влияние? — удивлялась мать. — Можно подумать, что я тебя не воспитывала. Я сама очень любила природу, цветы. Просто не хватало на все это времени… Но это я, а не кто-нибудь, воспитала тебя как патриотку, вырастила верную дочь своей родины. И ты, Игорек, — внушала она внуку, — должен расти патриотом…»
Ну как сказать, как понять, почему Коля имел на нее влияние? Почему ей запомнилось каждое его слово, совет? Запомнилось, и все… Он действительно прав. Человек должен иметь цель…
Вот потому она теперь так волнуется за Игорька, что временами ей кажется: у него нет никакой цели, живет, и все… Как трава.
Она подумала было, что зря сидит здесь, лучше бы вернуться в санаторий и написать письмо Игорю: так, мол, и так, Игорь, я очень волнуюсь… Но открылась дверь, вышли уже одетая клиентка, в которой Марина Сергеевна узнала отдыхающую из их санатория, и усталая хозяйка дома.
Отдыхающая сказала:
— Ах, это вы… тоже сюда? — и понимающе подняла брови.
Но Марина Сергеевна сразу же отмежевалась:
— Нет, я к Елене Петровне в гости…
Она уже освоилась в этом доме, пока сидела и думала о своем, ворошила прошлое, так что и сама Елена Петровна стала как бы частью ее воспоминаний, как будто она давно знала ее…
А Елена Петровна осторожно приглядывалась к гостье, предложила кофе, спросила, не курит ли Марина Сергеевна. А может, проголодалась, так есть икра из синих баклажан, такой она у себя в столице не поест.
— Я ведь хозяйства не веду, так пришла фантазия сделать икру, и я в нее вложила все душевные силы…
Она засмеялась так весело, просто и естественно, что Марина Сергеевна тоже засмеялась.
— Я счастливый человек, делаю что хочу… — похвастала Елена Петровна. — Честолюбия у меня нет, наряды я никогда не любила… что заработала, то и истратила… Живу для себя…
— А общество? А гражданский долг? — улыбнулась Марина Сергеевна.
— Ну, долг я выполняю, работаю честно, никого не обманываю… — Она опять засмеялась. — Выписываю, конечно, газету…
Марине Сергеевне вдруг захотелось что-нибудь сделать для этой веселой старушки с натруженными руками, и она подумала, что охотно пустит в ход свое влияние ради нее. Но Елена Петровна, оказалось, всем была довольна.
— Много ли мне надо… — рассказывала она о себе. — Ни сестре, ни Тамарочке я теперь уже не должна помогать… Главный мой расход — кофе, люблю хороший кофе… Мяса не ем, предпочитаю молочное… Хотелось бы одного — умереть во сне. Не болеть, не зависеть от других, не занимать койку в больнице. Уснуть и не проснуться… Но пока у меня еще много сил, я не жалуюсь на здоровье… — Она вдруг переменила тему: — Тамарочка очень гордится, что попала в вашу семью, она славная девочка, такая искренняя… родственная… ведь я ей, в сущности, чужая, а она мне пишет…
Марине Сергеевне было неловко, что она так мало знает о Тамаре.
— Мы должны были пригласить Тамарину родню приехать познакомиться, — сказала она, как бы оправдываясь. — Но я занята, часто бываю в отъезде, а мама не совсем здорова…
— Сестра на вас не в обиде, она знает, кто вы и как заняты. Была бы только Тамара счастлива, только бы они с Игорем любили друг друга, больше сестре ничего не надо…
— Да, это главное, — согласилась Марина Сергеевна, — любовь — это главное… — И не удержалась, спросила: — А вы? Вы были замужем?
— Замужем не была, а любить любила… — просто ответила Елена Петровна.
— Скучновато вам одной…
Не умела Марина Сергеевна вести такие разговоры — о скуке, о замужестве, о детях. Сама удивлялась своим вопросам. Но Елена Петровна отвечала очень охотно, как будто не сомневалась в праве Марины Сергеевны задавать любые вопросы.
— Я человек ординарный, — сказала она. — На многое и не претендовала. Жила и жила. Не у всех такая яркая судьба, как у вас…
— Но человек сам хозяин своей судьбы…
— Да?! — вдруг запальчиво возразила Елена Петровна. И Марина Сергеевна с удивлением увидела, какая страсть, какой темперамент и энергия кроются в этой женщине. — Нет, не всегда… Время прошлое, теперь можно не бояться этого. Наш папа был дворянин. Бедный, но дворянин. И никуда мы с сестрой не могли уйти от своего дворянского происхождения. Жили тихо, как мыши. А по натуре мы энергичные, горячие. И не выучились, не получили образования и на службе всегда опасались, что вычистят… Сестра, если хотите знать, и замуж вышла не по любви, просто хотела иметь заслон, опору… А я… я на компромисс не пошла. Тоже мечтала когда-то, рвалась в какие-то дали… — Она засмеялась, но уже не так весело, как раньше. Потухла, сжалась. Даже нижняя губа у нее немного отвисла, а может, просто почувствовалась усталость после тяжелого дня. — Одно могу сказать: жизнь свою прожила честно, совесть не запятнала ничем. Здесь меня знают, многие уважают, даже во время войны, представьте, помогала партизанам…
— Ну?!
— Ко мне приходили как будто делать массаж… оставляли пакеты, потом эти пакеты забирали другие…
Провожая гостью, уже стоя на галерее, на ветру, Елена Петровна пригласила:
— Буду рада, если еще зайдете… Понимаю, вам не до меня. У вас-там в санатории интересная публика, всякие заслуженные деятели, даже министры возможно…
— Я все больше одна… — уклончиво ответила Марина Сергеевна.
— Ну, как это одна… — Ей, видно, очень не хотелось отпускать Марину Сергеевну, хотелось ее снова увидеть. — А может, массироваться хотите? Совершенно безвозмездно, по-родственному, конечно… — И добавила механически, заученно: — Массаж — только средство, разумеется. Вот вы кладете сахар в чай и размешиваете ложечкой. Массаж — это ложечка, способствующая усилению обмена веществ в организме…
6
Конечно, нельзя сказать, чтобы Марина Сергеевна все время проводила одна. Были соседи по столу. На процедурах завязывались знакомства, но какие-то мимолетные, непрочные. А она привыкла к простым отношениям, бесцеремонным может быть, но зато сердечным.
Все-таки случай на волейбольной площадке жестоко ранил ее самолюбие. Она стала осторожной: «да», «нет», «спасибо», «какой сегодня теплый красивый день» — не более…
И когда к ней вдруг подошел седой мужчина в спортивной куртке, с ярким теплым шарфом на шее, которого она часто видела на горных тропинках с альбомом и карандашом в руках, и сказал, что хотел бы написать ее портрет, Марина Сергеевна даже оторопела:
— Портрет? Мой? Для чего это?
В былые годы ее часто фотографировали и рисовали, но то было для газет или для журналов, тогда ее снимки довольно часто помещали в печати. Но теперь для чего?
— Как для чего? Я художник. Для себя, конечно… У вас очень энергичное лицо…
Ей казалось, что «для себя» рисуют только молодых и красивых. В памяти ее промелькнули портреты, какие она видела в музеях. Когда-то, она знала, богатые люди заказывали художникам свое изображение, но ведь это, наверно, очень дорого? Ну как она спросит, сколько? Она решительно замотала головой:
— Нет…
И ушла почти испуганная.
Хотел ли он посмеяться над ней? Или узнал, кто она, уважает ее прошлое?
Она была так озадачена, что когда, пройдя дальше, встретила ту самую даму с длинными ресницами, которая была у Елены Петровны, то поздоровалась с ней очень приветливо, по контрасту, что ли? Та обрадовалась.
— Я такая же нелюдимая, как вы, гуляю одна… — заявила она. — Мне, как и вам, надоели люди… — И представилась: — Юлия, или Юлия Павловна, как хотите…
— А Елена Петровна считает, что тут у нас живет очень интересная публика… — Марина Сергеевна засмеялась. — Даже министры…
— Ну уж министры… Сейчас не сезон.
Юлия Павловна была неглупа, насмешлива, даже, пожалуй, беспощадна, деятельна. И Марина Сергеевна, не привыкшая иметь дело с такими женщинами, была несколько удивлена. Юлия всех знала и даже про художника объяснила, что он рисует неплохо, но без изюминки, так — середнячок… Она многое повидала в своей жизни, так как ездила, сопровождая мужа, знаменитого драматического актера, на зарубежные гастроли, и не столько была начитана, сколько осведомлена, может быть с чужих слов — того же мужа-актера или его друзей, — о положении в литературе, в театре, в кино. Смешно рассказывала если не про самих писателей или режиссеров, то про их жен, домашний уклад, детей и причуды. Скромно, небрежно бросала: «мы соседи по даче», «мы вместе встречали Новый год», «мы шьем в одном ателье». И подчеркивала, что сама она проще, трудолюбивее, умнее, серьезнее. И хлопала своими густыми ресницами. А когда Марина Сергеевна похвалила ее ресницы, призналась:
— Думаете, свои? Наклеенные. Знаете, сколько мне лет?
— Сорок?
— Гораздо больше… — В голосе у Юлии Павловны зазвучало торжество: — Мне никто не дает моих лет. Вот что значит уметь сохранять форму…
Несколько дней разговоры с Юлией Павловной занимали Марину Сергеевну, ей казалось, что Юлия Павловна знает тот секрет правильно устроенной женской жизни, какого не знает она сама. Они пошли вместе в магазин за покупками, и Юлия Павловна прямо-таки запретила покупать материю с золотой ниткой, потому что это дурной тон. Марина Сергеевна с интересом подмечала, какие духи предпочитает Юлия Павловна, какие туфли. Она помогла выбрать подарок для Тамары, точно определяла, что модно и что немодно. В этих вопросах Марина Сергеевна подчинялась Юлии Павловне полностью и была от души благодарна ей за советы. Они вместе пошли в кино, Юлия и там говорила с апломбом, удивилась, что Марине Сергеевне нравится фильм.
— Мещанская мелодрама…
— А я даже плакала, — призналась Марина Сергеевна. — У меня всегда глаза на мокром месте, когда я прихожу в кино.
— Вот не ожидала, что вы сентиментальны, — удивилась Юлия Павловна. И Марина Сергеевна подтвердила:
— Я очень сентиментальная. А когда читаю приключенческое, все на свете могу забыть.
— В наш век надо уметь управлять своими эмоциями. — Юлия Павловна любила, чтобы последнее слово было за ней.
Ей, должно быть, льстило, что Марина Сергеевна так внимательно прислушивается к ее мнению. Марина Сергеевна понимала это и даже слегка досадовала на себя, что ищет общества Юлии Павловны, — очень уж они разные. Она не умеет вот так праздно, остро и колко болтать, не умеет ни осуждать, ни подмечать смешное в людях. Юлия Павловна делала это с блеском. Она высмеивала новые пьесы, где нет глубоких чувств, и старые за их патетику, эстрадных певиц за то, что поют все песни одинаково под Эдиту Пьеху, и классических за отсутствие школы. Она спрашивала:
— Разве вы не заметили? Молодые писатели пишут про свое детство в деревне и про первую любовь, старые — про смерть и инфаркты. Они черпают свои наблюдения над жизнью в больницах, где часто лечатся. Я верно подметила? Ну, один ноль в мою пользу.
Серьезно Юлия Павловна говорила только о музыке. Но как раз музыки Марина Сергеевна совсем не знала. Признавалась с грустью:
— Люблю слушать, люблю воображать разные картины под музыку, но что играют, что исполняют — этого я не ведаю.
— Музыку знают немногие, единицы… — говорила Юлия Павловна. — Большинство ходит, лишь бы ходить… Вы заметили, как много на концертах стареющих женщин? У них нет никакого дела, нет любовников, мужьям они осточертели…
Марина Сергеевна не могла не улыбнуться. Верно, часто так и бывает. Однако заступалась:
— Лучше ходить на концерты, чем вязать или заниматься сплетнями.
— Да, но из-за них никогда нельзя достать билет на хороший концерт… Конечно, я этих трудностей не испытываю, я просто звоню администратору…
Эта уверенность Юлии Павловны в своем праве судить всех, звонить администраторам и тому подобное коробила Марину Сергеевну. Разве она не из того же теста сделана, что другие? Хотя сама Марина Сергеевна давно привыкла ко всяким удобствам и благам. Ей это просто полагалось. Многие даже огорчались, особенно мать, что она недостаточно пользуется своими правами, слишком скромна. Сама она как-то не задумывалась над этим… Когда человека освещает и греет солнце, он ведь наслаждается теплом, не задумываясь… Но что такого чрезвычайного совершила Юлия Павловна? Жена своего мужа, не больше… У Юлии Павловны было странное свойство угадывать, о чем думает собеседник.
— Пусть я только жена своего мужа, — вдруг сказала она. — Но быть женой такого мужа, как мой, немалая заслуга… и немалый талант…
Марина Сергеевна опешила. Ей, которая всего в жизни добилась сама, которая никогда не кокетничала и не притворялась слабой, полагалась только на свои силы и за свои ошибки всегда могла заплатить жизнью, слова Юлии Павловны показались дикими. Она не возмутилась и не засмеялась только потому, что была по-настоящему озадачена. Может, не поняла? Она уточнила:
— Талант? Какой талант? Для чего?
— Талант быть хорошей женой…
Они сидели на скамеечке и смотрели на далекие снежные вершины гор, сверкающие под холодным ярким солнцем. Тут внизу уже начинала явственно ощущаться весна, наверху еще была зима. А в городе днем ходили даже без пальто…
— Мы живем в нескольких плоскостях, — сказала Марина Сергеевна, — все время надо знать точку отсчета — то, что «внизу» по отношению к горам, то «верх», когда возвращаешься из города… И все эти ущелья, и склоны хребтов, и тропинки, по которым мы гуляем…
— Вы имеете в виду философский план, подтекст…
— Нет, элементарную топографию, рельеф местности…
— Ну, только не элементарную, вы правы, все очень сложно… Получила вот письмо от мужа. Всего несколько слов — жив, здоров. Отдыхай, лечись, набирайся сил — и все…
— Но это же главное…
— Возможно…
Юлия Павловна как будто боролась с собой, хотела рассказать что-то и боялась разоткровенничаться. Она вынула сигареты, маленькую, изящную зажигалку, закурила. И сигарету держала как-то изящно, не манерно, боже упаси, а изящно.
— Как вы красиво все делаете…
— Тренаж… — засмеялась Юлия Павловна. — Длительный многолетний тренаж… — Она все-таки решилась: — Многие думают, что жизнь жены знаменитого человека — это сплошные удовольствия. Нет. Это борьба… Конечно, у меня большие возможности, квартира, дача, машина, вот я могу достать путевку сюда, а это не каждый может, но цена… Спросите моего мужа, где мы платим за квартиру? Он не знает. Где лежат носовые платки? Это ему неизвестно. Но если не окажется чистого платка, бог мой… а белые рубашки для концертов? То, что я сама должна быть всегда одета и причесана, деятельна — это нормально. Но я еще обязана быть в хорошем настроении… у него может быть депрессия, апатия, раздражение, но я…
— А что, нельзя послать его к черту? — добродушно спросила Марина Сергеевна. — Разве вы не человек…
— Нет. Вот именно, что — нет. Он творец, он бог, он художник. На людях сплошное обаяние, дома может раскисать, ворчать, быть несправедливым, мелочным, искать ссоры и через мгновение забывать об этом… Но я должна улыбаться. Вы спросите, почему должна? — Юлия Павловна поторопилась предупредить возможный вопрос. — Во имя его успеха. Чаще он капризничает, когда не ладится роль. Впрочем, когда роль получается и он снова на коне, тогда он высокомерен, важен… Но в минуты, когда он на сцене, а я смотрю на него из зала, я так счастлива: этот жест я подсказала, вот тут я похвалила его… Ах, это невозможно передать, я ведь и сама была актрисой, бросила, но профессиональный дух остался, живет во мне!..
— И все-таки вы недостаточно тверды, — сказала Марина Сергеевна, — надо быть построже…
— Ха! Над ним, как мошкара, кружат женщины, готовые все простить, согласиться на любые условия. Я вынуждена быть умнее их, остроумнее, практичнее, мечтательнее, деловитее, моложе, обольстительнее, щедрее, в общем, я должна, должна и должна… Вы помните, у протопопа Аввакума была жена, и когда в изгнании они шли однажды в метель, в буран, по льду и она вдруг спросила в отчаянии: «Доколе жизнь сия?» — он ответил: «До самой смерти, Марковна». Но представляете, если бы за Марковной еще толпой шли соперницы и поджидали со злорадством, не споткнется ли она? — У Юлии Павловны хватило ума пошутить: — Правда, я не хожу по льду, чаще по паркету, но и на шпильках можно устать до чертиков… — Она опять вытащила сигарету. — Впрочем, они не так страшны мне, от соперниц я уж как-нибудь отобьюсь, мучают меня дневники…
Она перехватила недоумевающий взгляд Марины Сергеевны.
— Муж ведет дневник. И малейшую нашу ссору, малейшую мою оплошность описывает в этом дневнике, а я не хочу входить в историю дурой… — Марина Сергеевна была вконец удивлена. — Да, дурой, или истеричкой… Я не хочу быть сварливой в глазах потомков, поймите…
— Подумаешь, вам-то что… — пожала плечами Марина Сергеевна. И даже усмехнулась: — Потомки…
— Нет, не «что», не «что», — обиделась Юлия Павловна.
— Но разве… ваш муж такой великий артист? Я думала, что дневники…
— Он играет главные роли… а у них в театре это традиция, они же преемники замечательных людей, основоположников, они все ведут дневники, пишут мемуары и письма с оглядкой на историю… Конечно, я тоже делаю кое-какие записи, но ведь имя всегда ценят больше, чем истину.
— Нет, я бы на все это плюнула. Вот взяла бы и плюнула…
— И что? Остаться одной? После того, как жизнь прожита? Он женится, я спокойна за это, за него любая молодая пойдет. А я? Я, с моими наклеенными ресницами, что должна делать? Если хотите знать, я его создала, без меня он бы не достиг того, чего достиг… Вам хорошо рассуждать, вы сами знаменитость, сами по себе представляете интерес. А я? Да у меня и знакомых не будет, меня и приглашать одну никуда не будут…
— Пусть не приглашают…
— Одиночества я не перенесу…
Марина Сергеевна посмотрела с сожалением. Все было, казалось, то же самое — прическа, рост, меховой жакет, темные очки, но как будто позолота сползла, слезла, Юлия Павловна потускнела. Марина Сергеевна сказала задумчиво:
— Ну и что, одиночество можно освоить. Трудно, конечно, когда нету привычки быть одной, но ничего, освоить можно…
7
Раньше она не любила воспоминаний. Она вообще не любила ничего пассивного, предпочитала действовать. Но теперь… Воспоминания одолевали, обрушивались на нее, как камни во время обвала. Она пришла в горы после того, как всю ночь бушевал ветер, и ахнула. Не бог весть какие горы были близ санатория, и дорожки содержались в чистоте, чтобы отдыхающим было удобнее совершать свой терренкур, как загадочно назывались здесь прогулки; теперь эти дорожки, эти тропы были завалены камнями, сползшими с отвесных склонов, огромные, с корнями вывороченные деревья преграждали путь. Ветки были еще живые, трепещущие, мокрые от дождя, как от слез. По мощным стволам встревоженно ползали муравьи, но деревья уже были обречены. Скрюченные, как пальцы в судороге, корни уже не цеплялись за каменистую почву. И так же вот стоило подуть легкому ветру воспоминаний, обрушивались целые куски жизни, сталкивались, как обломки скал, стремительно летели вниз, раня давно забытой болью, разворачивая душу, которую она всегда называла «идеалистической выдумкой», как разворачивали почву эти вырванные с корнями деревья.
Она не могла понять, почему устояли под напором ветра тонкие и хилые стволы, а вот это ровное крепкое дерево погибло? Не умело гнуться, сломалось потому, что стояло прямо? Но ведь не одно такое гордое дерево было? И вообще глупо очеловечивать дерево, считать его гордым. Но ведь в литературе всегда так делают, особенно поэты. И с другой стороны, как же не сравнивать, когда сравнение напрашивается само собой? Разве их брак с Иваном не был таким же сильным и крепким на вид, как это дерево? И именно их брак рухнул. Почему? Потому что она, Марина, не умела гнуться и приспосабливаться, как Юлия Павловна, например? Или потому, что Иван оказался слишком упрямым и самолюбивым? А ведь верил, что будет любить ее вечно. В молодости она им восхищалась, даже гордилась его любовью. Но, конечно, не признавалась. Высмеивала его, вышучивала, сбивала с него спесь. Он не очень-то был находчивый. А ей нравилось в компании, когда ждали очереди на вылет или шли уже не строем, а так, вольным шагом с аэродрома, поднимать его на смех. Он как-то сказал ей угрожающе, когда остались вдвоем и стояли у большущего, усыпанного красновато-лиловыми цветами куста сирени: «Смотри, Марина, поплачешь ты у меня. Я ведь самолюбивый…» Она, обмахиваясь шлемом — уже жарко было, — вскинула свою красу, свои гордые брови: «Что ты воображаешь, кто ты такой… Что в тебе особенного? Таких, как ты, тринадцать на дюжину».
Нет, ей не пришлось у него «плакать», он очень ее любил и не часто видел ее слезы… В чем-то он был чувствительнее, чем она, уязвимее. Она понимала это, но не пользовалась тем, что понимала. Она и насмешки над ним, борьбу с ним прекратила, когда полюбила сама. Долго не сдавалась, не потому, что хотела набить себе цену, — боялась потерять свободу, боялась, что придется рожать и прекращать полеты, боялась, что надо будет стирать ему рубашки. «Ну, мне не надо, чтобы ты на меня работала. Я уважаю в тебе человека», — говорил он. Она возражала печально: «Ну да, наша русская женщина как полюбит, так сразу начинает обстирывать своего миленочка. А я хочу яркой судьбы…» Он согласился со вздохом: «Ты птица большого полета, это точно…»
Они жили дружно, не ссорились. По пальцам можно было пересчитать их размолвки и ссоры. Тогда, в молодости, им ничего не нужно было: ни хором, ни денег, лопали в столовой пшенную кашу, а если отпускали в город и они попадали в кино, то покупали бутылку фруктовой воды, отмечая праздник. Это позже, когда стали жить своим домом, сделалось сложнее.
Конечно, ей было легче, чем ему, учиться в школе. Девчонок было немного, не все, кого зачисляли, оказывались способными летать: как только кончалась наземная подготовка и начинались самостоятельные вылеты, они терялись, когда оставались в кабине без инструктора. Отсев был большой. И тех, кто оставался, берегли. Инструкторы и преподаватели, даже начальник школы, низенький веселый человек в больших очках, — все были внимательны к курсанткам, помогали, чем могли. Да и ребята-курсанты служили им как рыцари. Иван был отличным курсантом, и, может, потому что Марина из гордости никак не хотела от него отстать, она не отступала… Теорией они занимались вместе, техникой, изучением материальной части тоже. Но успехам Ивана никто не удивлялся, а Марину всегда хвалили — и командование, и на комсомольских собраниях, и в газете. И если бывала районная конференция или парад, то будьте спокойны, Марина всегда произносила там приветствия от школы. В комбинезоне, в шлеме, затянутая ремнем. Голос у нее был звучный, смелости хоть отбавляй — говорила пылко, четко, красиво…
То, что Ивана оставят при школе инструктором, понятно было давно, но и Марине предложили после окончания очень заманчивую штуку: задумали, оказывается, собрать группу лучших девушек-выпускниц, подготовить, оттренировать их как следует, с тем чтобы потом можно было создать в школе чисто женское подразделение с женским командным и инструкторским составом. Так вот во главе этой группы должна была стать Марина. «Ну как, согласна?» Она подумала и ответила: «Только я сама отберу, кого из девушек оставить». Начальник школы, подмигнув, ответил: «Хоп, как говорят узбеки. Согласен…»
Вот тогда и вспыхнула их первая очень серьезная ссора с Иваном. Из-за Лизы Гуськовой.
Это была подруга Марины, «доверенное лицо», как ее называли курсанты, остроносенькая, некрасивая, бессловесная, ходившая по пятам за Мариной. Трудно было понять, как попала она в авиашколу, трудно было поверить, что это тихое создание выбрало себе такую полную опасностей и мужества профессию. Но факт оставался фактом. Очень дисциплинированная, старательная, она была даже на неплохом счету, все, что можно было вызубрить по теории, знала назубок, все, что можно было отработать с упорством и терпением, выполняла хорошо. У нее не было таланта Марины, смелости Марины, отчаянности Марины, но, с другой стороны, и не у всех остальных курсантов это было… Кроме всего, Лиза умела плакать. Она плакала так долго, так безысходно, что сердце любого, самого твердокаменного преподавателя не могло не дрогнуть… А сколько раз Марина спасала Лизу от отчисления, защищала ее, ручалась за нее, отстаивала. «Ты моя каменная стена, — говорила ей склонная к патетике Лиза. — Что бы я стала без тебя делать?..»
Нельзя сказать, чтобы Марина помыкала Лизой, нет. Она была для этого слишком справедлива. Но, конечно, Марине и самой нравилось быть такой щедрой на добро: если удача идет к тебе в руки, почему же не сделать еще кого-нибудь счастливым… Даже приятно было пробовать свою силу, заставить инструктора изменить оценку, поколебать решительного, но несколько взбалмошного начальника школы. Она-то хорошо понимала, что начальник школы гордится ею, Мариной, ей не стоило труда упросить его.
Поначалу Лиза была немного влюблена в Ивана, но покорно отступилась, как только увидела, что Иван заинтересовался Мариной. С Мариной она, конечно, не могла соперничать. Потом Лиза влюбилась в другого курсанта и выплакала свою безнадежную любовь на сильном плече подруги. А перед самым выпуском, уже весной, за ней вроде стал приударять один парень, молчаливый белесый Сережка. «Ей-богу, если вы поженитесь, то станете плодить рыб, а не детей», — сердилась Марина. Ее раздражали кротость Лизы и нерешительность Сергея: он все прикидывал, как казалось Марине, стоит или не стоит жениться, связывать себя. «У нас же ни кола ни двора, вот закончу, получу назначение, встану на ноги…» «Не любит он тебя», — убеждала Марина подругу. «Привычка — вторая любовь», — заученно отвечала Лиза. «И некрасивый, белесый, как мукой посыпанный». — «Не в красоте счастье. Только бы мне не разлучаться с ним, и, поверь, он меня полюбит. Просто он скрытный. Скрытная глубокая натура». — «Скрытная мелкая натура», — возражала Марина.
Когда стало известно, что Марина сама выберет, кого оставить, Лиза откровенно ликовала. «Мне просто повезло, мне адски повезло», — твердила она.
Марина отчетливо вспомнила теперь и почти пустую спальню, уставленную койками, и луну за окном, такую яркую на темном бездонном степном небе, и легкий запах дезинфекции, духов и полевых цветов, какими убирали курсантки свои тумбочки. Многие уже уехали, на стенах темнели прямоугольнички от снятых фотографий, матрацы на кроватях были скручены и связаны. А Марина тогда спросила: «В чем это тебе повезло?» — «Как в чем? Ведь Сергея обязательно оставят в школе, и я, я тоже… Да, я останусь?» Лиза произнесла всю фразу уверенно, и только самый конец, последнее «останусь» вдруг прозвучало не утвердительно, а жалобно и вопросительно. «Это ты за меня решила? — жестко сказала Марина. — А кто тебе дал право на это?» — «Но я… ты же моя подруга». — «Но ты же знаешь, что не годишься в инструкторы». — «Ты так считаешь?» — «А ты как считаешь?» — «Вся моя жизнь, счастье, моя судьба зависят…» — «Ох, не люблю красивых, но пустых слов, — сказала Марина искренне. — Ты не умерла, когда любила Ивана и этого второго, не помню, как его звали, а уж Сергей…»
Многие в школе говорили тогда о принципиальности Марины. Даже начальник сказал, что уважает ее за принципиальность. И на собрании так говорили. Даже жалели Марину, что ей трудно будет жить без любимой подруги.
Взбунтовался один Иван. Утащил ее в их любимое место, в заросли уже давно отцветшей сирени, и там выложил все, что думает: так друзья не делают, она бесчувственная, недобрая. «Ты еще скажешь, что я карьеристка». — «Предположим», — дерзко ответил Иван. «Ладно, будем считать, что сказал, а дальше?» — «Ты и от меня можешь отречься, в случае чего…» — «Могу, если поверю, что ты такой дурень, каким прикидываешься». — «Я не прикидываюсь. Неужели у тебя нет сердца?» — «А если она разобьется, твоя прекрасная Лиза?» — «А на линии разве она не может разбиться? Лучше потренировать ее как следует. Ты ей друг». — «Мне дан короткий срок, — сказала Марина, больше не улыбаясь. — Я не могу терять время на. Лизу». — «Подумаешь, отрапортуешь о выполнении задания чуть позже… Ох, и тщеславная ты…» Он испугался того, как она сдвинула брови, и поправился: «Или скажем точнее — честолюбивая…» Она повернулась и ушла. И он не побежал за ней, как бежал обычно. Неделю она жила в тревоге, Иван не приходил, когда встречался — не заговаривал. Она сама остановила его и спросила: «Ну, член коллегии защитников, Сергей уехал на Северный Кавказ, и Лизка упросилась туда же, что ты теперь скажешь?»
Они помирились. Но эту первую серьезную ссору не совсем забыли. То есть Марина забыла сразу же, а Иван любил порассуждать на эту тему, когда бывал за что-нибудь обижен на Марину. А ей, честно говоря, было не до Лизы… Жизнь открывала перед ней заманчивые перспективы, поглощала целиком все ее силы, все помыслы…
Они давно были женаты, давно получили комнату, взяли к себе мать Марины, а видели друг друга совсем мало — оба работали как черти, и так хорошо им было в эти редкие часы встреч, что не до споров было, не до ссор… Характер у Ивана был ровный, теща не могла нахвалиться его покладистостью. А он так и говорил: «Мама, наша с вами священная обязанность создать Марине все условия…»
Да, Марина могла бы по пальцам пересчитать свои ссоры с мужем.
Это случилось позже, через несколько лет, когда имя Марины было довольно известно в авиации и жили они в большом городе, где Иван учился в академии, а Марина летала в аэроклубе. Она уже потихоньку готовилась к перелету, потом так ее прославившему, изучала трассу, заводила знакомства с людьми, которые могли способствовать осуществлению перелета, усиленно тренировалась. Она летала, летала, летала в любую погоду, отрабатывала технику пилотирования, анализировала полетные карты, метеосводки на трассе будущего полета. Домой она являлась усталая, измученная и сразу же заваливалась спать, безучастная ко всему. Домашние события, занятия Ивана — ничто ее не интересовало. А бывали недели, когда она и вовсе не являлась, жила в гостинице при клубном аэродроме. Иван однажды стосковался до такой степени, что уехал к ней самовольно во время зачетной сессии, когда ему никак нельзя было отлучаться.
Они решили не идти в столовую, а поесть у нее в номере, чтобы никто не знал о приезде Ивана. Марина накрыла стол, сбегала за ужином, даже раздобыла бутылку вина, чтобы было торжественнее. Она растрогалась, стала мечтать о том, как они вместе закатятся в отпуск, будут купаться, плавать в море, качаться на волнах.
— И не воображай, пожалуйста, что ты там будешь заглядываться на каких-нибудь девок, черта с два. Я, и только я одна.
— Да разве ж… — Иван не успел закончить фразу, как в дверь постучали:
— Вы не спите, Марина? У меня для вас новости…
Это был начальник аэроклуба, именно с ним Ивану никак нельзя было встречаться. Он засуетился, не зная, куда спрятаться. Марина втолкнула его в ванную комнату, накрыла полотенцем тарелки с едой и кинулась отворять.
— Привез для вас хорошие новости…
— Да ну? Неужели разрешили?
Марина нарочно говорила громко, чтобы Иван слышал, потом увлеклась и почти забыла о нем, так разволновалась. Она не раз и не два, много раз переспросила, может ли она надеяться, и что ответил человек, которому доложил начальник клуба, и скоро ли тот доложит о ее просьбе «наверх». Она налила гостю вина, и обиделась, что он не хотел выпить, и обижалась до тех пор, пока гость не согласился. Сказала, что она суеверная, как все летчики, и что если он не выпьет, то сорвется весь их план… И когда наконец повернула ключ в замке и распахнула дверь в ванную, то увидела Ивана, лежавшего на полу ничком. Он вцепился пальцами в губчатый коврик и молча рвал, выцарапывал ногтями куски.
— Что ты, Ваня? Что с тобой…
Она не сразу поняла, что привело его в такое бешенство, все еще была в счастливом угаре, хотела, чтобы и он радовался вместе с ней. Если бы он ругался, ворчал, злился, что пришлось долго ждать в темной клетушке, где и присесть не на что, она бы, может, и согласилась с ним. Но в этой слепой ярости было что-то новое для нее, пугающее, озадачивающее. Она стала его поднимать, он не сопротивлялся, встал, машинально, как на ватных ногах, пошел за ней в комнату, сел, уронил руки. Она опять спросила по-доброму, участливо:
— Ваня, что это с тобой, родной?..
— А тебе не ясно?
Ей стало уже ясно, она уже обо всем догадалась, но не знала, как быть. Если она сразу покажет, что понимает, как унизительно было Ивану прятаться в ванной, не смея предстать перед начальником клуба, в то время как она, его жена, так смело и свободно держала себя, то тем самым она согласится, что действительно его положение унизительно, и, признав это, еще больше унизит Ивана. Она сказала уклончиво, хоть ей и было противно уклоняться от прямого разговора:
— Я знаю, ты устал. Ты злился, что долго… Но, Ваня, у нас здесь не очень-то соблюдают субординацию, не то что в академии. И, Ваня, пойми главное, он уже доложил о нашем проекте…
Иван взял в руки наполовину пустую бутылку, взболтал и, покачав головой, поставил на место:
— Хорошо, хоть на донышке оставили…
— Неудобно было не угостить. Как-никак человек зашел, чтобы рассказать. — Она вдруг вскинула голову. — Ты бы все-таки мог порадоваться за меня, не быть таким мелочным…
Он произнес устало:
— Это не мелочь… я твой муж, ты моя жена — разве это мелочь…
— Но я ведь не перестала быть твоей женой…
Она положила руки ему на плечи, поцеловала его, вдохнула родной, знакомый запах его тела, табака, одеколона, на мгновение поверила, что потребуй муж — и она легко откажется от всего, от этой кочевой жизни, наполненной полетами и разлуками, надеждами на перелет, на славу, на новые трудные задания. Но тут же без особой радости осознала, что никогда и ни за что не откажется от того пути, который сама выбрала.
Поздно ночью, когда Иван уезжал, она, обнимая его на прощание, попросила:
— Ну сознайся, что был неправ, что зря разыграл истерику?
— Ночная кукушка всегда перекукует дневную, — ответил он. — Только, ох, Марина, смотри…
Все-таки чувство их было еще очень горячо. И, желая смягчить впечатление от вчерашней сцены, он сказал, что когда поедут в отпуск, то запрутся в комнате и никуда он ее не выпустит — день-два-три, пока не насытится…
Она насилу выпроводила его, они еле успели добежать до автобуса, чтобы он мог вовремя попасть в город.
Нет, тогда все еще у них было хорошо.
Труднее стало после перелета, когда она в один день сделалась знаменитостью. Иван насмехался над ее известностью, новыми знакомствами и связями, над гостями, заполонившими дом. Он даже несколько мешал, когда собиралась компания веселых благополучных людей, он торчал тут же, как пень, высокий, мрачный, никому не известный, нелюбезный.
Марина втягивала его в разговор, он хмуро молчал. Просила спеть, расхваливая его голос, он отказывался. Тогда она сказала ему:
— Иван, только один выход — нажимай на учебу, понятно?
— Все равно того, что ты благодаря своему женскому полу достигнешь за год, я буду добиваться три…
— Что же ты предлагаешь: поменяться местами? Хочешь надеть мою юбку?
— Э, нет. Чего-нибудь я стою и сам по себе…
— Ты же прекрасный летчик. — Марина обрадовалась. — Если хочешь знать, я всем обязана тебе…
— Ладно, лиса…
— То кукушка, то лиса…
— Ну ладно, орлица. — Он посмеялся, потом сказал ей на ухо, как по секрету: — А ты ведь и правда орлица!
— Ну, наконец-то переборол свое хохлацкое самолюбие!
Но он не переборол. Она видела, как жестоко он страдает. Стала осторожнее, не очень-то рассказывала о своих успехах, но разве скроешь: ее звали то на банкет, то на доклад, на встречу с комсомольцами или с пионерами. Мать как с цепи сорвалась, стала ею гордиться, хвастать, стала подчеркивать, кто у них в доме главный.
Марина посмеивалась, советовала не обращать внимания на старую женщину, которая, «ты только пойми», всю жизнь билась, брошенная мужем, Марининым отцом, считала себя неудачницей, несчастной, нелюбимой, а теперь судьба как бы наградила ее за все обиды и лишения. Понимать-то он понимал, но все равно раздражался. И дома вечно была напряженная, насыщенная электрическими разрядами атмосфера, как перед грозой. Успокоение вносил только Игорек. Игорек примирял всех.
А в войну Иван бешено ревновал ее ко всем летчикам, боялся за нее, опасался, что если ее собьют над вражеской территорией, то будут пытать.
Она уверяла, что не собьют, родилась под счастливой звездой, а ревность его высмеивала.
Он сразу учуял, когда она влюбилась в Шевченко. Потому и поднял на нее впервые в жизни руку. Она поняла это и даже пожалела его. Она ни за что не поставила бы его в ложное положение мужа, которому изменяют, в положение человека, над которым смеются у него за спиной, сплетничают или шушукаются. Она ведь сказала тогда Шевченко после их единственной, их первой и последней ночи: «Валя, во всем этом разберемся после войны…» Но Шевченко убили, и, когда кончилась война, она вернулась домой. И туда же вернулся Иван…
Может, она стала смотреть на него более холодно, более трезво, стала относиться требовательнее, потому что помнила Шевченко и тосковала о нем; может, она просто стала старше и опытнее в жизни, но маленькие трещинки, что пролегли в ее отношениях с мужем, стали расходиться, как лед в половодье, все шире и шире, и все громче плескалась между льдинами холодная темная вода равнодушия. А тут еще мать… Надоело разбирать их споры с Иваном, мирить, умиротворять, сглаживать, превращать все в шутку. Теперь, когда в их доме было довольство, когда они занимали три комнаты, а не одну, всем почему-то стало тесно, неудобно. То мать замечала, что Иван отослал слишком много денег своей сестре, выходившей замуж, то Ивану мешала Маринина тетка, та самая, у которой Марина с матерью жила когда-то в гражданскую войну, перед которой мать с особым наслаждением рисовалась общественным положением своей дочери. Мать ехидно говорила Ивану, что Марина может себе позволить, при ее жалованье, пригласить не только тетку, но и всю родню. Забылись те времена, когда Иван хвалил тещин борщ и котлеты, а теща гордилась золотыми руками зятя. Иван стал выпивать. И теща подсчитывала выпитые им рюмки, как учетчик отмечает в колхозе выработанные трудодни. То вдруг она поднимала крик, что был коньяк, она хорошо знает, что был коньяк, где же он? То вдруг бестактно и назойливо начинала так хвастать Марининым положением перед гостями, что Иван свирепел и затевал скандал. Теща первая заметила, что Ивана часто зовет к телефону один и тот же женский голос. Она выслеживала, подслушивала, расспрашивала лифтерш, она нашла носовой платок в пятнах губной помады и «нечаянно» показала его дочери.
— Ты настоящий Яго, — сказала Марина матери, не зная, что сказать, но все-таки уязвленная.
А Иван буркнул:
— Не Яго, а Яга, типичная баба-яга…
Марина не засмеялась. Вдруг увидела, что злоба изменила красивое лицо Ивана, время сделало его грубым, располневшим, красным. И волосы, пышные волосы, поредели.
Дома стало немило, неуютно. Если бы не Игорек, она бы и вовсе не являлась домой. Мать громко вздыхала, жалея Марину, вынужденную терпеть выходки мужа. Иван грубил, желая унизить ее, показать, что будь она кем угодно, хоть генералом, а как женщина она его не интересует, у него огромный выбор баб… Она знала, что это ложь, маска, бравада, что он все еще любит ее, но ей не нужно было это полное надрыва и уязвленного самолюбия чувство.
Надо было на что-то решиться, и она наконец решилась, сказала:
— Ты был прав, когда обещал, что я наплачусь с тобой. Но я не стану плакать, нет… Нет у меня ни времени, ни охоты плакать. Давай разойдемся по-доброму. Если хочешь квартиру — бери, я получу другую…
Он ухмыльнулся, похвалил ее память, сказал, что и сам тоже кое-что помнит:
— Как ты разделалась с Лизой Гуськовой, например. Со своей закадычной подругой. Теперь мой черед. Кого наметила на мой пост? Надеюсь, не прогадала? Мамаша не даст тебе прогадать, за это я спокоен…
— Ох, Иван, Иван! — только и сказала Марина.
Он стал звонить какой-то Машке и спрашивать, можно ли у нее временно пожить, и велел купить винца и закуски, а Марина уткнулась в подушку, чтобы не слышно было, как она плачет.
Иван топал по комнате, что-то искал, медлил, ждал ее зова. Но она не позвала.
Нет, она не умела делать что-либо наполовину.
А вот правильно ли она поступила, что не позвала Ивана, имела ли она право оттолкнуть его, понимая, что без нее, без семьи он может покатиться вниз, имела ли она право не окликнуть его, когда он уходил, кто знает…
Она смотрела на деревья, рухнувшие на дорогу, на мокрые ветки, обреченные на увядание, на смерть, на гибель, и думала про Ивана…
8
Все-таки Марина Сергеевна прохлопала, прозевала. Легкий, неясный, изжелта-зеленоватый пушок, вылупившийся из клейкой тугой оболочки, как вылупляются цыплята из яичной скорлупы, увял, засох, почернел. Ветка стала некрасивой, и она выбросила ее без всякого сожаления, точно позабыв то почти детское ощущение нетерпения, с каким ей хотелось ускорить приход весны… Весна пришла сама по себе, вспыхнула яркими красками, расцветила все вокруг, но Марина Сергеевна как-то не заметила этого, поглощенная собой.
Чем ближе был день отъезда из санатория, тем больше тревожилась Марина Сергеевна. Как будто именно здесь, в горах, она должна была все додумать и решить, понять, что с ней и что она будет делать дальше.
Она накинулась на книги. Не то чтобы она читала намного больше обычного, — она и раньше увлекалась чтением, если не было других дел. В своей среде ее считали очень даже начитанной: входил в моду роман «Иван Иванович» Коптяевой — она его тотчас проглатывала; считалось, что «Жатва» Николаевой — прогрессивный роман, — она покупала книгу. Любила стихи Есенина, даже многие знала наизусть. Увлекалась фантастикой, приключениями. Однажды — ее знакомые рассказывали это как анекдот — пришла на заседание антифашистского женского комитета, увидела у кого-то затрепанную книжку Шейнина, стала перелистывать, зачиталась, села в большое кресло, отвернулась к стене и опомнилась, когда стало тихо, заседание кончилось, все разошлись, сидела только на краешке стула владелица книги, не решавшаяся ее окликнуть, да стучала щеткой уборщица, подметавшая пол. «Ух!» — с облегчением вздохнула Марина и захлопнула книгу. «Анна сильно ругалась?» — спросила она, имея в виду председательницу. Марина улыбалась, как нашаливший ребенок, в котором души не чают родители, тетки, бабушки, чьими грациозными шалостями все любуются. Сама потом часто вспоминала этот случай: вот, мол, какая она непосредственная натура, беда…
Теперь она читала по-другому, задумывалась над прочитанным, следила не только за фабулой или за судьбами героев, но и за мыслями, за ходом рассуждений. И все примеряла, прикидывала на себя. Со страстью новичка она хотела делиться тем, что узнала, обсуждать, спорить, добираться до истины, до сути. Своими неожиданными вопросами она ставила Юлию Павловну в тупик. И та удивленно поднимала мохнатые, тяжелые от туши ресницы.
— Вы спрашиваете, кто это? Как это кто, критик…
— Хороший? Серьезный? — допытывалась Марина Сергеевна.
— Да на что он вам?
— Как на что? Он тут цитирует Толстого. Это про то, как внешние впечатления постепенно наслаиваются одно на другое, «вырезываются в свое значение», как говорит Толстой, и приводят к важным внутренним поворотам в духовной жизни человека. Я замечаю это на самой себе…
Юлия Павловна сказала с досадой:
— Я чаще читаю детективы, хотя классику, понятно, перечитываю. Современной литературы не признаю… Все один и тот же мотив — я работаю, он работает, они работают… А форма? Человек куда-то поехал, и вдруг… В отпуск, в родной город, в родительский деревенский дом. Одно и то же…
— Но в жизни так и бывает. — Марина Сергеевна сказала это горячо. — Вот именно, поехал в отпуск, выбился из привычной колеи и увидел себя со стороны…
— Не знаю, со мной такого не бывает.
— А стихи вы читаете? — спросила Марина Сергеевна.
— Теперь мода на поэзию, Евтушенко и все такое прочее… — заметила Юлия Павловна, не отвечая на вопрос.
— А я вот тут прочитала стихотворение: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Как верно… Автор — Заболоцкий.
— Слышала я такую фамилию… — Юлия Павловна помолчала, потом сказала с неожиданным ожесточением: — Ничего я толком не знаю, все понаслышке, все кое-как… — и вдруг заплакала. — Как надоело казаться образованной, всеведущей, веселой… надоело краситься, молодиться, клеить ресницы… Вот вам есть за что себя уважать, такое прошлое…
Марина Сергеевна сердилась, когда ей говорили о прошлом. Ну, хорошо — прошлое. Прошлым она может гордиться. Это верно. Ну, а настоящее, а будущее? Разве для нее уже все кончено? Разве она исчерпала все свои силы? Не рано ли ее хоронить?
Все-таки она не утерпела:
— Как вы это понимаете, ну, эти слова? «Душа обязана трудиться…»
— Увы, иногда я думаю, что душа моя заросла жиром, но, с другой стороны, если я ощущаю недовольство собой, значит, она еще живая, моя бедная душа…
— Я всегда жила поступками…
— Чего вам не хватает, любви? — вдруг спросила Юлия Павловна.
— Ну, что вы… — не очень твердо ответила Марина Сергеевна.
— В нашем возрасте, как никогда, мы достойны любви, мы мудры, всепонимающи, глубоки, но увы… никому уже не нужны…
— Ну, почему это, у нас есть друзья, дети… У меня сын, я его горячо люблю, я за него всю кровь отдам, но… — Досада, тоска, отчаяние послышались в голосе Марины Сергеевны.
Она не знала, что сказать.
Когда она думала о полноте жизни, которую ощущала, принимая мгновенные решения в полете или отдавая приказ на вылет, когда, не рассуждая, не думая об опасности, кинулась вытаскивать людей из горящего самолета, то все другие волнения теперь на земле казались ей мелкими. И она не знала, что делать с тем запасом душевных сил, которые все еще бушевали в ней, ища выхода.
Юлия Павловна вдруг взяла ее руку в свою, погладила. И переспросила:
— Как вы это сказали — «душа обязана трудиться»? — и повторила: — «Душа обязана трудиться…»
А Марина Сергеевна вдруг произнесла:
— Что-то, мне кажется, я пропустила в жизни, не удержала… Не уберегла… — Она опять вспомнила мужа, далекую, как сон, любовь Шевченко, все, о чем она так много думала в последние дни. И только теперь ей стало обидно, что она недосмотрела, дала увянуть зеленоватому дымку распускающихся листьев на ветке, стоявшей у нее на столе, как будто эта ветка была чем-то бо́льшим, более важным, чем просто веткой…
9
Так же, как медленно тянулись первые дни, теперь стремительно полетело время. И Марине Сергеевне показалось, что она ничего не успела и уже ничего не успеет. И там не побывала, и здесь, так и не съездила осмотреть развалины замка над пропастью, куда сбросил неверную красавицу какой-то не в меру ревнивый и самолюбивый хан. Она записалась на воскресенье на экскурсию.
Утром она почему-то вздумала проверить, нет ли ей писем. Писем она не ждала, потому что домой звонила по телефону и узнавала от матери все семейные новости, а кто еще мог бы ей написать? Деловую корреспонденцию она велела не пересылать, а складывать вместе с газетами. И вдруг оказалось, что ее дожидается несколько писем — одно от Николая, остальные от Тамары… Она испугалась, подумала: что-нибудь неладное с Игорем, Тамара жалуется на него. Но нет, об Игоре невестка писала мало, просто беспокоилась о ней самой.
Марина Сергеевна была так растрогана, что меньше внимания обратила на коротенькое послание Николая:
«Вы когда-то просили меня узнать, где в нашей системе работает Гуськова Елизавета. Я навел справки у ребят: представьте себе, недалеко от вашего курорта, вот совпадение. Только она вроде уже не работает, живет у сына».
Марина Сергеевна даже вспомнить не могла, когда это она просила. Ну что за обязательный человек! Она забыла, а он не забыл.
Николай опасался, что Марина Сергеевна не соблюдает санаторный режим, забывает, что она на отдыхе. Заботливость Николая ее не удивляла, к ней она привыкла. Только и подумала: «Верная душа». Но и к его верной душе она привыкла. Николай не был бы Николаем без этой верной души. Он инициатор ежегодных встреч однополчан, это он всех разыскал, со всеми списался, это он устраивает ночлег иногородним, заказывает ужин, в общем, держит в своих руках все «нити». А уж Марина Сергеевна всегда может на него положиться: Николай ругает Игорька, когда надо поругать за очередное художество, выручает его из разных бед. Чуть что случается в доме, ну, например, когда переезжали и замучились с перевозкой, когда матери делали операцию, когда Игоря чуть не исключили из университета, Марина Сергеевна звонила Николаю: «Выручай…» Он, как в бою, выручал… Вот даже если бы она отсюда послала Николаю телеграмму: «Приезжай, пропадаю», — наверняка прилетел бы. Только она этого не сделает, уж как-нибудь справится со своим настроением сама.
Письма Тамары напомнили ей, что надо зайти попрощаться с Еленой Петровной: все-таки старуха, надо уважить… Она ничего не умела откладывать в долгий ящик, сразу же и пошла…
Сегодня комната Елены Петровны выглядела повеселее, виноград за окном казался более живым, на столе стоял букетик подснежников, кошка не спала, умывалась, прихорашивалась, словно ради праздника. И даже холодная клеенчатая кушетка была накрыта ковриком с вышитыми крестом большими гарусными розами, — в детстве, во время скитаний по провинции, Марина Сергеевна уже видела такие коврики, такие огромные розы. И сама Елена Петровна на выглядела сегодня такой утомленной и хрупкой. И поспала подольше, и кофейку напилась, а кофе бодрит.
Полная добрых чувств, Марина Сергеевна заговорила о том, что пора уже Елене Петровне на покой. И комнату эту с печным отоплением надо бросать, ведь строится же для сотрудников курорта современный дом со всеми удобствами. Надо проситься туда.
— Не дадут, мне ни за что не дадут, — даже замахала руками Елена Петровна. — Я старая, сколько еще проработаю, кто знает? Нет, в первую очередь дадут молодым… Да мне и здесь неплохо…
Марина Сергеевна часто помогала людям, любила помогать… Хвастала, что умеет пробивать бюрократические стены. Ей это было нетрудно. Она свободно звонила, кому хотела, ее соединяли, смело приезжала на прием, смело проходила мимо очереди посетителей в кабинет, кто решился бы ее остановить? Смирение Елены Петровны, убежденность в том, что ей не пробиться к директору курорта, ее не пустят к нему, а уж в горсовет тем более, просто раздражали Марину Сергеевну. «Какая чепуха! Надо уметь добиваться справедливости, если твое дело правое… Ведь у каждого человека только одна жизнь, свои потребности, а потому и своя, пусть даже малая, правда».
Сама для себя она искала правды большой, искала больших дел, больших масштабов. Квартира, награды, бытовая и материальная устроенность — то, что составило бы счастье многих и многих других людей, — ее не удовлетворяли…
— Это ничего, что зимой холодновато, — говорила между тем Елена Петровна, — зимы у нас короткие, к счастью. Летом я себе заработаю запас и зимой держусь, зимой-то работы мало… Так я… — Елена Петровна залилась смехом и снова замахала руками: — Даже неловко говорить. Перевожу старые французские романы. От мамы остался целый сундук. Любовные… У меня отбою от читательниц нету. Ведь всем хочется читать про необыкновенные чувства…
— Так надо бы издавать…
— Ну, что вы. Это же старье, ничего современного…
Марина Сергеевна только пожала плечами.
— Но как же можно заниматься такой бессмыслицей? — вырвалось у нее.
Старуха немного обиделась:
— А все-таки люди читают… Людям радость… Ну и за это спасибо, значит, не зря живу…
«Выходит, можно и так жить?! И ведь действительно приносит радость. Но какую? Кому? Кому может нравиться такая белиберда — графы, маркизы, князья?..» Марина Сергеевна все-таки полистала несколько тетрадей, исписанных крупным ночерком.
— У вас красивый почерк, — похвалила она.
— О, на каллиграфию когда-то обращали много внимания.
Марина Сергеевна ушла, боясь опоздать к обеду, после которого надо было ехать на экскурсию, но долго еще думала про длинные зимние вечера, про то, как сидит и переводит эта одинокая Елена Петровна.
Верно говорила Тамара — чудаковатая старуха!
Нет, не могла бы она заполнить свою жизнь неумелым переводом никому не нужных старых книг. А ведь не за горами то время, когда придется оставить работу. Какое занятие найдет она себе тогда? Внуков будет нянчить? Но она и сына не нянчила. Вышивать не умеет, сплетнями и пересудами не занимается, притворяться, что любит музыку, не станет. Даже старичка, с которым коротают век, у нее нет. Выгнала она своего старичка, отдала другой, самой обыкновенной женщине. И очень обидно, что утихомирился, успокоился с этой обыкновенной ее Иван, бросил пить… Что бы там ни говорила мать — мол, он бы прибежал, он бы вернулся! — нет, не вернется. И не потому, что она утеряла свою красоту, свою женскую привлекательность, нет.
Эти мысли расстроили ее: она не любила вспоминать про Ивана, чувствовала себя виноватой перед ним в чем-то. Ей уже не хотелось никуда ехать, ни на какую экскурсию, в пору было завалиться на свою кровать и лежать, лежать, вороша прошлое. Но после обеда в столовой поднялась суматоха, культурник просил записавшихся «занимать места в автобусе согласно купленным билетам», и Юлия Павловна, кокетливо повязанная платочком от пыли и ветра, уже стояла у столика Марины Сергеевны.
— Ну, поехали, отдадим дань вселенскому мещанству…
— Почему это мещанству?
— Мещанин осматривает все, что положено осмотреть.
— И то верно, — простодушно сказала Марина Сергеевна. — Быть на минеральных водах и не увидеть замка.
Автобус миновал асфальт и запрыгал по пыльной, как будто присыпанной лежалой мукой, дороге. Тянулась какая-то скучная низменность, и непонятно было, где они поднимутся в горы. Попадались отары овец. Овцы глупо и испуганно смотрели на автобус, готовые ринуться в сторону. Их удерживал окрик ветхого деда в бурке и каракулевой папахе. Мелькали мазанки, похожие на украинские. Пока не было ничего достопримечательного, но Марина Сергеевна упорно смотрела в окно, стараясь не видеть Кириллова с его шумной компанией. Кириллов был хмур, невесел, и Марина Сергеевна испытала некоторое злорадство оттого, что его дама, та самая, что забегала тогда к нему в комнату, откидывая голову и выпячивая бюст, хохочет, выслушивая шуточки мужчины, сидящего позади. Марина Сергеевна так и подумала — «шуточки», а не шутки: очень уж фатоватый вид был у мужчины.
Дорога становилась круче, зеленее, проскальзывало что-то дикое в природе, в пейзаже, реже попадались деревья, и то исхлестанные ветром. На горизонте показались горы, больше похожие на скалы, только не каменистые, а глиняные, что ли. Выветренные, иззубренные, словно они первые принимали на себя порывы урагана.
— Кольцо, кольцо! — закричали в автобусе.
И Марина Сергеевна увидела ту причудливую шутку природы, которую уже не раз видела на снимках, — огромный круг пролома в горе, в котором синело небо.
Автобус остановился, все побежали фотографироваться, карабкались вверх, влезали в круг. Кто не мог влезть, становился пониже, так, чтобы «кольцо» хотя бы попало в фон. Дама Кириллова, подсаженная своими кавалерами, конечно, очутилась в «кольце» и так и этак изгибала руки, то снимала, то надевала шарф.
Все-таки Кириллов закричал:
— Марина Сергеевна, прошу!
Она покачала головой:
— Нет, нет…
Вернулась в автобус, не дожидаясь Юлии Павловны, которая, иронически улыбаясь, стала в кадр.
Потом наконец поехали к замку, делали немыслимые повороты, кричали от страха, переключали передачи, так что мотор натужно ревел, любовались на красоты. А красоты уже были настоящие, так что все постепенно приумолкли, перестали болтать и шутить.
Замок был реставрирован, подновлен, от зубчатой башни и стен веяло стариной, подлинностью, а вывеска ресторана, к счастью, облиняла от дождя и снега. Все поахали, поохали, выслушали легенду про хана и его неверную жену, проглотили дежурную шутку культурника: «Так что мой совет женам — сохранять верность», — полюбовались простором… Кто пошел в ресторан, кто гулять. Сколотились компании, Юлия Павловна примкнула к тем, с кем фотографировалась у «кольца», отправилась есть шашлык. Марина Сергеевна идти вместе с ней отказалась.
Солнце уже заходило, в ущельях сгущалась тьма, надвигались сумерки. Какие-то новые оттенки, то розовые, то сиреневые, появились на небе.
Марина Сергеевна постояла у автобуса, критически посмотрела на покрышки со стертым протектором, сказала водителю:
— Слабоватая резина для таких крутых виражей.
Он вздохнул, но разговора не поддержал.
Она пошла прямо по молодой траве, уже чуть влажной от вечерней росы. Еще раз вспыхнуло солнце и вдруг осветило, выставило на обозрение сверкающие, укрытые снегом вершины, и тут же они скрылись в клубящихся облаках. Так бы шла и шла, да нельзя было уходить далеко, скоро стемнеет, надо ехать обратно.
Марина Сергеевна вернулась. Все еще были в ресторане, она тоже решила зайти туда — попить нарзана.
Ее оглушил запах жареного шашлыка, табачный дым, взволнованные голоса. Она сразу же увидела Кириллова, с белыми от гнева глазами, с зажатой в руке бутылкой. Дама его, театрально плача, кричала:
— Вы меня компрометируете, я замужем, какое вы имеете право!
Мужчина, что шутил в автобусе, с красной, будто нарумяненной, щекой, вопил:
— Я вам этого так не оставлю!
Толстый человек в белой куртке, должно быть заведующий, твердил:
— Кушать хочешь шашлык — кушай, пить хочешь коньяк — пей, пожалуйста! Зачем оскорбляешь гостей, некрасиво поступаешь.
Официант, какие-то загорелые парни в цветастых рубахах пытались схватить Кириллова за руки.
— Гражданин, давайте выйдем, — просил официант.
Не понимая, что произошло, не рассуждая, сознавая только, что все против Кириллова, Марина Сергеевна бросилась вперед, резко отстранила заведующего, растолкала парней.
— Ну, разбушевался, — спокойно сказала Марина Сергеевна и взяла у Кириллова бутылку. — Ладно, ладно, идите себе, чего вам! Сами разберемся… — бросила она парням. И что-то в ее голосе было такое, что все повиновались. Дама Кириллова перестала плакать. — Встань, — приказала Марина Сергеевна. Кириллов встал. — Пошли, — скомандовала она. Он пошел за ней к выходу. — Засунь два пальца в рот, ах, какой дурак, — сказала она, когда они уже были снаружи.
Всю обратную дорогу Марина Сергеевна молчала. Юлия Павловна стала шептать ей: мол, зачем надо было вмешиваться, рисковать, ведь он мог ее ударить бутылкой, если смог ни с того ни с сего дать пощечину интеллигентному человеку.
— Надо таких сажать на пятнадцать суток, научился бы себя вести.
— Замолчите, — резко сказала Марина Сергеевна. — Жаль, даме своей морду не набил.
Юлия Павловна надулась, потом не выдержала:
— Что вы в нем нашли, не понимаю…
— И не поймете. Вам этого не понять, а мы вместе воевали…
Но самого Кириллова, когда он поздно вечером, протрезвевший, пришел к ней оправдываться, просто выгнала:
— Иди, иди, видеть тебя не хочу. Нашел с кем связываться! Позоришь меня, позоришь нашу часть, Кириллов. Иди…
И резко захлопнула дверь.
Он постучал еше раз. Сказал за дверью!
— Марина Сергеевна, нельзя же быть такой принципиальной, такой беспощадной…
— Можно, — ответила она. И дверь не открыла.
10
Это и муж, бывший ее муж, часто твердил: «Тебе принцип дороже всего. Сострадания ты не знаешь…»
Неправда это, знает она сострадание. Но только на сострадании ничего не построишь, ничего не добьешься. Она всегда считала именно так. Она и мужу не раз отвечала: «Сострадание унижает того, кому сострадаешь, разве ты этого не понимаешь?» — «Нет, не понимаю, — не соглашался Иван. — Красивые слова, а за ними можно спрятать что угодно». — «Что именно?» — «Все». — «Я слов зря не произношу и ничего никогда не таю». — «Уж будто бы…» Все-то он рвался ее критиковать, разоблачать, выводить на чистую воду. Бедный Иван! Видно, и сам того не знал, что придирчивость переходит во вражду, в мелочность, а ненависть иногда диктуется пристрастием, любовью. Мать на все это смотрела просто: он завидует. Но Марина Сергеевна знала — не завидует, вернее, не только завидует. Она разрубила тогда этот гордиев узел — так, кажется, это называется, потому что не могла тратить время и душевные силы на то, чтобы разбирать и анализировать каждое слово, каждый неожиданный поступок Ивана. Не по нутру ей такое занятие. Любишь — живи, как люди живут, не хочешь, ну, тогда как знаешь…
И все-таки она часто думала о том — вот именно здесь, в эти дни, — почему не сложилась их жизнь с Иваном. А о чем она никогда не думала, не позволяла себе думать — так это о том, что было бы с ней, со всеми с ними, если бы не погиб Шевченко. А что толку думать? Она и сама могла погибнуть не раз и не два — в такие переделки попадала, что чудом возвращалась на аэродром. И Иван всю войну летал. И потом еще долго летал.
Нет, она не хотела размышлять об этом, не хотела помнить об этом, хотя и не могла забыть. Хотела бы, но не могла. И Иван не мог забыть, хотя ничего толком не знал. Чуял, чувствовал, догадывался, а знать не знал.
Она все не могла уснуть, разволновавшись после идиотского инцидента с Кирилловым и его спутниками там, на горе, в этом душном духане, гордо именуемом рестораном; ложилась и снова вставала, не зажигая света. А свет и не был нужен: напротив ее окон висела, как пришпиленная, яркая луна. Сколько уж раз смотрела она на пейзаж за окнами, как ни привыкла к нему за месяц, но сегодня все эти складки и изгибы горного, поросшего лесами хребта, освещенные луной, по-новому печалили ее, но как-то сладко, благодатно.
Она стала вспоминать то, о чем не хотела вспоминать, потому что все еще не могла ясно определить свое отношение к той последней их встрече с Иваном, а она не терпела ничего неясного, ничего неопределенного.
Накануне отъезда сюда, в этот санаторий, к ней пришли попрощаться разные люди. Как это принято обычно, всем, кто звонил или встречался, она говорила беспечно: «Да, да, заходите прощаться, уезжаю отдыхать». И если кто спрашивал: «Даете отвальную?» — бодро отвечала: «А как же? Как же без отвальной?» И даже после работы заехала в магазин и купила хорошего вина, не надеясь на мать, — та все норовила купить подешевле, портвейна или молдавского. А нынешний гость любит коньяк или если уж вино, то не сладкое, а кисленькое, сухое…
И хотя она сказала матери, что ни к чему гости в последний вечер, укладываться надо, сама была не против шума: как-то приятнее уезжать, когда ты вроде кому-то нужна, кто-то хоть вид делает, что огорчен предстоящей разлукой.
Смеясь, она выбежала на очередной громкий звонок в переднюю, весело повернула ключ, крича:
— Ну, кто еще здесь, у нас все дома… — и увидела на пороге Ивана. Это он впервые после развода пришел к ней в дом.
— А-а, Иван, — несколько растерянно сказала Марина Сергеевна. — Ну заходи. У нас как раз народ, гости…
— Может, некстати?..
— Нет, почему… — Чтобы скрыть растерянность, она отперла почтовый ящик, вынула письма и, держа их в руке, повела Ивана в столовую.
За столом замолчали. С любопытством и даже с некоторым удивлением все уставились на Ивана, на его мешковатый костюм и обветренное лицо. Марина Сергеевна сразу поставила точки над «и»:
— Знакомьтесь, кто незнаком. Это — отец Игоря, мой бывший муж…
Все еще не выпуская писем из рук, Марина Сергеевна наблюдала, как Иван здоровается, целует и хлопает по плечу Игорька, знакомится с Тамарой, представляется гостям. И только когда он подошел к теще, инстинктивно сделала шаг вперед, чтобы в случае чего вмешаться. Но Иван сказал без злобы, с усмешечкой:
— Ну, мамаша, здравствуйте. Как здоровье? Как нервы? Успокоились?
Старуха приняла вызов:
— Успокоились. Очень даже успокоились…
Марина Сергеевна вмешалась:
— Почему супругу не привел?
— Куда ей в такой дом! Она женщина простая…
Все-таки Марина Сергеевна хотела увести Ивана от гостей, от общего стола. Не выкинул бы чего. Ей это было бы неприятно. Вернее, неудобно. И Тамара тут же.
Всюду — не только за столом, но и на диване, и в комнате у Игоря — были люди, всюду сидели, болтали и курили. Марина Сергеевна замечала, как внимательно разглядывают Ивана и как он сам внимательно приглядывается ко всем, осматривает стены, фотографии в рамках, оценивает мебель.
— Все как и было, — заметил Иван.
— А я ничего не меняла, надо бы кое-что подновить, да времени нету… Может, после отпуска…
Марина Сергеевна повела Ивана в свою комнату, но и там, болтая, сидели под высокой лампой мужчина в черной бабочке и очень накрашенная рыжая женщина.
— А ну вытряхивайтесь, — пошутила Марина Сергеевна. — Ко мне человек пришел, дайте поговорить…
— Я вообще исчезаю, — сказал мужчина в бабочке. — Страшно огорчен, что вас не будет на премьере. Просто убит… Но, может, вы заедете утром на генеральную репетицию?..
— Вот уж не знаю, столько дел.
Мужчина в бабочке долго целовал, прощаясь, руку у Марины Сергеевны, а рыжая пообещала:
— Я напомню завтра Мариночке Сергеевне. Я ее обязательно привезу, да, Мариночка Сергеевна?..
— Но, — мужчина сделал серьезную мину, — критиковать строго, мне важно знать ваше впечатление, ваши замечания…
— Я всегда говорю прямо в лицо…
— Это кто же? — спросил Иван, когда мужчина с дамой вышли.
— Певец.
— А женщина кто?
— А бог ее знает, — засмеялась Марина Сергеевна. — Приблудилась к дому, какого-то генерала пассия… Она у нас почти каждый день…
— Так, — сказал Иван. — Широко живете…
— И не говори, родня зачастила, спасу нет. Иногда вернешься домой с заседания — всюду постелено: и на диванах и на раскладушках…
— Игорь как учится?
— Тянет. Вернее, я его тяну. — Она не хотела жаловаться. — Беда с нынешней молодежью…
— А жена у него вроде ничего…
— Да разве это первая?.. Ты бы с ним поговорил, Иван… — Может, в первый раз за этот вечер они встретились глазами. Ну что ж, Игорь-то у них общий, одно только общее и осталось у них — Игорь. А Иван все смотрел и смотрел на нее. — Но Тамара, я надеюсь, окажет на него хорошее влияние, она девочка серьезная, — поспешно сказала Марина Сергеевна, почему-то испугавшись.
Иван протянул руку, но только взял у нее пачку писем, посмотрел на конверты, бросил на стол, где и так уже лежала груда писем.
— Кто ж это тебе пишет?
— Приглашения все, — сказала Марина Сергеевна. — Вот пионеры просят выступить, техникум, работницы с фабрики…
— Ну и как? Все еще ходишь, когда зовут?
Марина Сергеевна пожала плечами:
— Приходится.
— Не нравится мне все это, — резко сказал Иван. — Суета эта, и гости эти. Не надоело?
Марина Сергеевна хотела все обратить в шутку:
— А что? Я люблю людей. Я им одно говорю: «Вы только угодите моей маме, она любит почет…» — Она вспомнила, что шутка эта была в ходу еще при Иване, когда Иван жил в этом доме.
— Как в ресторан ходят…
— И ты туда же…
— Тебя жалею…
— Меня не жалей, я не из тех, кого жалеют… — Она вдруг спохватилась, что говорит запальчиво. — Ну, а ты как? Счастлив в личной жизни?
— Представь себе — счастлив…
— Пьешь?
— Так это только кучер на Большом театре не пьет, и то потому, что лошадей не на кого оставить.
— Я имею в виду — пьянствуешь?
— А тебе приятнее, чтобы я до самого-самого докатился, до дна? Нет, порадовать, совесть твою успокоить не могу, — не пьянствую. С того денька, как ты меня коленкой под зад наладила, прекратил…
— А где служишь?
— Баранку кручу. В такси. Штурвал умел держать, так уж с баранкой справляюсь…
— Что ж ко мне не обратился, я бы позвонила кому… — упрекнула Марина Сергеевна.
— Нет уж, спасибо…
— Мы ведь старые товарищи, Иван… — мягко сказала Марина Сергеевна.
Что-то дрогнуло в лице у Ивана, чуть смягчилась складка у рта, но тут на пороге появилась мать Марины Сергеевны. Она с испугом смотрела то на дочь, то на бывшего зятя. Иван заговорил как-то слишком весело, Марина Сергеевна боялась этой его веселости:
— Вот, слышите, мамаша, Маринка говорит, что мы с ней вроде товарищи. Какие ж мы товарищи — верно, мамаша? — когда она вон кто, вон где, — он показал вверх, — а я — вон… — он опустил ладонь чуть ли не до пола.
— Я не знаю, вы уж сами, — с несчастным лицом сказала мать. — Но гости обижаются, что хозяйки нету. Горячее пора подавать…
Когда она вышла, Иван снова сказал:
— Раньше у тебя народ познатнее собирался. Или из моды вышла?
— Как это — из моды?
— Ну, пардон, из славы?
— Пока не замечала…
Она изо всех сил держалась, чтобы не разозлиться. А Иван все дразнил ее:
— Работаешь?
— Работаю.
— Работаешь или числишься?
— Работаю, Иван, работаю.
— Замуж что не выходишь? А то вон моя кровать пустует… — Он подошел к кроватям, стоявшим рядом, привычным жестом поправил подушку. — Или мамаша никак новую кандидатуру не утвердит?..
— Ты что злишься, Иван? Ты что все воюешь со мной? — спросила Марина Сергеевна.
А Иван вдруг сказал:
— Очень я тебя когда-то любил. Не думал, не гадал, что так получится. Да, раньше ты была совсем иная…
— Я какая была, такая и осталась…
— Не сказал бы…
— Старая стала?
— Не то чтобы старая…
— Вот поеду, отдохну, помолодею…
Иван все стоял около кровати, рассматривал фотографии на ночном столике. Тут и она, и Иван, и Шевченко, и еще много других военных летчиков. Кажется, даже Кириллов был на выцветшем любительском снимке, — кто-то из ребят щелкнул у самолета.
— Не забыла?
— Кого?
Иван ткнул пальцем:
— Меня хотя бы. И его вот. Шевченко, кажется?
— Не помню, — сказала Марина Сергеевна.
— А тогда много болтали про вас…
— Не знаю. Мне не докладывали, кто что болтает… — И твердо сказала: — Пора к гостям, неудобно…
И вышла в столовую. Остановилась у стула Игоря, облокотилась, погладила его мягкие волосы. А Иван — он вышел вслед за ней — почему-то задержался у выключателя, потом сказал Игорю:
— На ниточке висит. Хозяин, ты что же за домом не смотришь?
— Он у нас учится, занят, когда ему? — заступилась бабушка.
А Марина Сергеевна засмеялась:
— У нас бабушка всегда за Игоря горой стоит. Меня она держала строго, лупила, не жалела, а Игоря…
Мать очень обиделась:
— Что люди подумают? Когда же я тебя пальцем трогала? Я тебя воспитывала и Игоря воспитала…
— Только меня одного не сумели воспитать, — сказал Иван.
Но никто его не услышал. Кто-то предложил тост за мать Марины Сергеевны, сумевшую вырастить такую замечательную дочь.
Иван снова сказал:
— У вас, я вижу, все как было, так и осталось…
— Это хорошо, что все так же, как было, — как будто не поняла Марина Сергеевна. — На этом мы и стоим…
Она нарочно смеялась и шутила со всеми, снова рассказывала, как устала и как рада, что едет отдыхать, вспомнила что-то забавное и первая хохотала, как будто хотела заглушить то, что ее тревожило. А Иван молчал. Молча сидел за столом, не развлекая соседок, не отвечая на их вопросы, не слыша. Потом встал, перебив кого-то на полуслове, собрался уходить. Поцеловал Игоря и Тамару поцеловал. Игорь ткнулся ему в плечо:
— Пап, ты приходи, а пап…
Теща фальшиво пригласила:
— Заходите, заходите, милости просим… всегда рады…
— Гуманная у тебя бабушка, — сказал Иван сыну. И, уже уходя, тихо попросил у Марины Сергеевны, чтобы подарила ему на память какую-нибудь фотографию, где они молодые, не то он чувствует себя как голый человек на голой земле, как будто не было у него ни молодости, ни прошлого. Ему хотелось, чтобы она отдала ту военную фотографию, но она не могла: ни на какой другой Шевченко не было.
— Военная-то у меня только одна…
— Понятно… — перебил Иван.
Марина Сергеевна не стала вслушиваться в интонацию, с какой он это произнес.
— Я тебе дам другую, не менее для меня дорогую. Это самое начало нашего жизненного пути. Я тебе дам ту, что в школе, там и ты, и Сережка, и Лиза Гуськова…
— О, иметь фотографию молодой Лизы Гуськовой для меня очень важно.
И снова Марина Сергеевна приняла его слова за чистую монету:
— Ты всегда уважал Лизу Гуськову…
— Вот именно…
— Что ж, я и сама любила Лизу…
Иван повторил:
— Вот именно…
…Стоя у окна и глядя на далекие горы, Марина Сергеевна подумала, что и правда была бы рада увидеть Лизу. Ту самую Лизу Гуськову, рядом с которой начинался ее жизненный путь, как она тогда сказала Ивану…
11
Уже в темноте, промокшая от дождя, ослепленная молниями, ошалевшая от раскатов грома, она достучалась до Лизы Гуськовой. Хохотала, стоя в передней, оставляя следы на чистом половичке. Лиза никак не могла поверить, что это она.
— Я и не мечтала встретиться… Кто тебе дал адрес? Как ты шла в такую грозу без плаща? Надо было переждать… — восклицала Лиза, прикладывая руки то к груди, то к щекам.
— Московский поезд через три часа. Я прикатила на электричке.
— А вещи?
— Положат на мою полку, я договорилась. Представляешь, выхожу из вагона — ливень, ну что делать? Я все-таки пошла…
— Внука укладывала и сама задремала, вдруг — стук…
— Все кулаки отшибла, так грохотала… Ставни закрыты… — сказала Марина Сергеевна. — Что ты тут прячешь, какие сокровища?
— Мое единственное сокровище — внук. Какая досада, ни сына, ни невестки нет дома…
— Ну и хорошо, что мы одни…
— Им бы так было интересно, они себе не простят…
Лиза совсем растерялась. Доставала из буфета парадную посуду, извинялась, что нечем угостить, все такое простое, обычное — она не ждала гостей, кидалась ставить на огонь чайник. Набила бумагой Маринины туфли, чтобы просохли, заставила ее натереть водкой ноги. Вытащила семейные фотографии.
— Мне даже неловко говорить тебе «ты», как когда-то…
— Это ты, Лизка, брось…
В первую минуту Марину Сергеевну поразили желтоватое, похожее на увядшее яблоко-падалицу лицо Лизы и ее морщинистая шея, но потом она сразу забыла про это, привыкла, воспоминания взяли верх над действительностью, и перед ней снова была та самая Лиза, с которой она училась в авиационной школе.
Боже мой, какая у нее память на мелочи, у Лизы! Она все помнила. Какие блузки были когда-то у Марины, и какое у нее самой было платье в белый горошек, и кто за кем ухаживал, и какая была жена у начальника школы… Она рассказывала, как хорошо жила с Сергеем вот в этом самом домике его родителей, какие они были, в общем, покладистые старики, ни в чем ей не перечили, и Сергей был довольно покладистый муж. Тут за ним очень охотилась одна женщина, которая будто бы ждала его с юных лет, но Лиза ей сказала: «Все течет, все изменяется, он когда-то любил вас, а теперь он любит меня». И заявила Сергею, что обратится в парторганизацию в случае чего. А Сергей очень дорожил своей репутацией… В войну ей пришлось тяжело с маленьким ребенком и стариками. Нет, после родов она больше не летала, работала в аэропорту диспетчером. Лиза уточнила:
— У меня не было ни твоих возможностей… — Она натолкнулась на взгляд Марины Сергеевны и поправилась: — Ни твоих способностей…
— И характера у тебя не было, воли…
Лиза вздохнула: не то согласилась, не то нет. Но это, видимо, уже не имело для нее значения. И Марине Сергеевне смешно стало, что в их отношениях с Иваном такую большую, прямо-таки символическую роль сыграла та давняя история с Лизой.
А Лиза все рассказывала, как в войну увезла семью в эвакуацию, там получила «похоронку» на Сергея, чуть с ума не сошла от горя.
Вдруг она вспомнила:
— А чемодан-то хоть заперт? У тебя, наверно, дорогие вещи…
Утерев слезы, она открыла шкаф и похвасталась своим гардеробом — там висели платья, костюм, новое демисезонное пальто, тщательно укутанное простыней.
— Справляю, пока работаю… Как видишь, я всем обеспечена…
Марина Сергеевна не стала разглядывать пальто, спросила:
— Тебя так страшит старость?
— Нет, почему? Я получу пенсию…
— Пенсия ничего еще не определяет.
— Как это не определяет? Именно определяет, — возразила Лиза. — Понятно, надо уметь жить. Я умею. Я учитываю каждую копейку… — Она оглянулась, как будто ее мог кто-то услышать. — Невестка думает, что без меня они бы прожили на свою зарплату. Ну нет, без меня они бы не дотянули от получки до получки. У меня ничего не пропадает, и питаемся хорошо.
— Ты такая же аккуратная, Лизка, как была…
— А как же, — с гордостью подтвердила Лиза, — Поэтому мы и живем не хуже людей…
Марина Сергеевна махнула рукой.
Она ведь не затем приехала, чтобы выслушивать Лизины «премудрости», не затем шла под дождем по вязкой южной грязи, чтобы напиться у Лизы чаю, посмотреть карточки Лизиного внука — совсем голенького, с погремушкой, с медведем, в шапочке с помпоном, в общем, такого, как обычно снимают детей, — или на Лизиных сына и невестку, сфотографированных голова к голове, рука в руке. А сын, между прочим, оказался похожим на Сергея, такой же белесый.
А зачем же она тогда пришла? Сказать Лизе, что не очень счастлива? Нуждается в помощи? Хотела проверить, правильно ли поступила тогда, когда только начинала свой путь в жизни? Но с первой же секунды их встречи она невольно приняла тот покровительственный по отношению к Лизе тон, каким разговаривала когда-то и на какой так охотно, с покорностью и безропотным восторгом откликнулась Лиза, потому что Лиза не стала иной. Та же. Такая же, как когда-то. Марина Сергеевна понимала, что Лиза при ее памяти не могла забыть, как они расстались, нет, она сознательно отбросила все плохое, оставила только то, что было ей приятно.
А Лиза, как бы подтверждая это, говорила:
— Я всем-всем рассказываю про тебя, про наши отношения. У меня из газет все про тебя вырезано, я храню. Если сама чего не прочитаю — несут знакомые: вот, мол, опять упоминают вашу подругу.
— А с Иваном мы разошлись, — перебила ее Марина Сергеевна. — Иван женился, а я вот так никого не нашла себе… — усмехнулась она. — Ты ведь знаешь — Иван упрямый, и я упрямая…
— Ты никогда не умела идти на уступки, а жизнь сложна…
— С Иваном, думаешь, было бы проще?
— Ну, все-таки… Я очень хотела во второй раз выйти замуж, — призналась Лиза. — Но за кого? С ребенком на руках… Кто бы меня взял, когда столько незамужних молодых девушек. Ты — другое дело…
— Мне и одной неплохо…
— Ты и без мужа всего достигла…
— Ну, завела… — уже с досадой сказала Марина Сергеевна.
— Ты ярко прожила свою жизнь. — Марине Сергеевне вспомнилось, как Лиза декламировала когда-то в школе стихи, чуть откинув голову и закатывая глаза, с пафосом, с чувством. — Твоя жизнь — пример для молодежи… И теперь ты на большой работе…
— Я не жалуюсь, — отрезала Марина Сергеевна и стала надевать еще влажные туфли.
— Еще бы, твое имя…
— Ну и что мое имя?
Заворочался ребенок в соседней комнате, Лизино лицо осветилось, она кинулась туда, забормотала что-то ласково-нежное. Марина Сергеевна не вслушивалась. «Да, я на большой работе, — думала она. — Ну и что? Совесть моя чиста. Отстаиваю, если верю, беру на себя ответственность, если приходится отвечать. Ни в трусости, ни в карьеризме никто еще не упрекал… А что трудно так когда было легко? В перелетах? Или на войне? Разве бралась когда за легкое?»
Лиза вернулась все еще сияющая, похвастала:
— Не потому, что мой внук, — действительно прекрасный ребенок. Ты еще не бабушка?
— Нет.
Лиза опять засуетилась, стала предлагать на дорогу варенья, сама варила из местной айвы, такой крупной в Москве, пожалуй, не купишь. И чтобы не обидеть ее, Марина Сергеевна взяла банку.
Они вышли на крыльцо. Гроза прошла. Небо еще не совсем очистилось, но стало видно, куда идти, ярче светились окна. С деревьев срывались тяжелые, пахнущие свежим листом капли.
— Так ты говоришь, надо смиряться?
Лиза не поняла.
— А я не хочу смиряться, — весело сказала Марина Сергеевна.
Лиза опять не поняла, но на всякий случай предостерегла:
— Конечно, конечно, только ты не рискуй, ты всегда любила риск…
Она стала целовать подругу и плакать. И слезы ее, как капли с дерева, падали на грудь Марины Сергеевны.
— Мы не переписывались, но все равно… я так гордилась…
Марина Сергеевна терпеть не могла целоваться при встречах и прощаниях, но тут она все стерпела. Да и как было не терпеть, если уж она примчалась сюда после стольких лет разлуки. Зачем? Разве что за банкой варенья…
ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА АРИФМЕТИКИ Рассказ
Все началось, как в школьной задаче: две машины вышли из пунктов А и Б и, что следовало из условия, должны были неизбежно встретиться. Тут арифметика кончалась. Где встретятся? В темноте, когда один должен гасить фары, чтобы не ослепить шофера, едущего навстречу, или днем? Будет ли дождь или солнце? Заметят ли водители друг друга на утомительно серой однообразной ленте шоссе? А если заметят, то будет ли у них случай заговорить? Ведь один из них, тот, что едет из пункта Б, даже не подозревает, что второй уже много лет жаждет с ним познакомиться. Второй же… как он догадается, кто именно мчится ему навстречу?
Нет, скажем прямо, когда доктор Яковлев, Алексей Михайлович, выехал с Карельского перешейка обратно домой, к пункту Б, никакие предчувствия его не тревожили. И без того судьба обласкала его, подарила много волнений и радостных неожиданностей.
Радостно и неожиданно было уже то, что он поехал в отпуск, как давно о том мечтал, на своей собственной машине, которую только-только приобрел, и поехал на Карельский перешеек, где служил в войну.
С машиной вышло просто замечательно. Ему шепнули, что с баланса какого-то районного треста, ликвидированного за ненадобностью, списывают не очень старый «Москвич» и есть смысл похлопотать. Доктор — человек уважаемый, ему не откажут. И действительно, не отказали. Он позвонил по телефону одному влиятельному лицу, которое недавно оперировал, и вскоре стал хозяином автомобиля. Подкрасил кузов, подлакировал крылья — что за красавец стал его «Москвичок»! Дочь подарила доктору маленького мягкого медвежонка с черными пуговками глаз, он подвесил мишку на заднее стекло, у жены выпросил украинскую плахту, застлал потертое сиденье. Мыл машину, до блеска надраивал, поднимая капот, осматривал мотор. Тут пригодились ловкие талантливые руки хирурга: он легко справлялся с капризным от изношенности мотором. Помолодел, повеселел. И даже втайне был рад, что жена не может ехать вместе с ним, так понравилась роль — он едет на своей машине, хозяин своего досуга, едет в неизвестное, в прошлое, в свою молодость. Свободный. Сильный. Ловкий. Почти красивый.
Жена не очень удачно напомнила:
— Алексей, умоляю, не забывай про печень. Не ешь, чего нельзя, а главное — не пей…
— Я ведь за рулем… — гордо ответил доктор. — Не волнуйся, Аня, все будет в порядке…
Все и было в порядке, когда он ехал туда. Точно и строго выполнял все правила движения, не глазел по сторонам, не любовался природой, только слушал, как ровно, ритмично гудит и бьется маленькое сердце его «Москвича», и был доволен. Как аккуратно он переключал передачи, как плавно, размеренно жал на педали, как гордился тем, что проехал уже сто километров, двести, пятьсот… От одного сознания, что он едет, движется, «мотает расстояние», был вполне счастлив. Увлеченно поглядывал то на показатель уровня бензина или масла, то на спидометр. Эти цифры, отмечающие расстояние, эти маленькие дрожащие стрелки вызывали в нем умиление.
В первый день он почти не отдыхал, только раза два останавливался, ел котлеты, положенные ему в дорогу заботливой Аней, и пил из термоса кофе. Ночевал он в лесу, кое-как уместив на заднем сиденье свое плотное, крепкое, с широкими костями тело. Над машиной шуршали и шелестели деревья, на ветровом стекле, отражаясь, блестели и дрожали звезды — это оставляло его совершенно равнодушным, так он был поглощен машиной. Пользуясь тем, что никто не видит, он даже погладил баранку, как живую, и что-то пробормотал: ну, мол, милая, пока, до утра. И мишке сказал: отдыхай, дружок, чуть свет тронемся…
Спал он, конечно, как убитый, хотя спать было неудобно, тревожили лесные шумы и затекали ноги: коротко.
Еще накануне отъезда — списаться он не успел — Яковлев послал телеграмму своим давнишним приятелям, мужу и жене, жившим под Ленинградом, и назначил им свидание в поселке, где размещался когда-то их госпиталь: именно там, оправившись после ранения, Тихон Стрельцов остался работать, вместо того чтобы демобилизоваться в тыл, и весь роман его с рыженькой Надей Миловановой, молодым врачом, проходил у Алексея Михайловича на глазах. Впрочем, все трое были тогда очень молоды, хотя, конечно, Надя была самой юной… Славненький такой рыжик с зелеными глазами, с тоненькими, не очень стройными ножками, с белесыми ресничками, которые несколько обесцвечивали ее лицо. Интересно, какая она теперь стала…
С Тихоном доктор после войны уже встречался. Тихон приезжал в командировку в Москву и не поленился, добрался на электричке к нему в район. Но принять гостя как следует Яковлеву не удалось. В тот день у него была очень трудная операция, и он никак не мог рано уйти из больницы. Тихон, так и не дождавшись его, весь день проскучал с Аней. Та прямо извелась: Стрельцов ей не понравился.
— Тишка всегда был ловкий парень, всегда умел жить, — сказал огорченный Алексей Михайлович. — Эх, какая досада!.. — И стал вспоминать, как собирались они в госпитале в закуточке у Тихона, пили разбавленный спирт и пели романсы, а Тихон подыгрывал на гитаре, найденной в брошенном жителями доме. — Душа общества…
— Арап, — непреклонно изрекла Аня. — Это надо же, ждешь-ждешь выходного, дел невпроворот, и уборка, и стирка, а тут нежданный гость…
— Тихон имел огромный успех у женщин, — с легким налетом давней зависти сказал Яковлев и удивился: — Все-таки, чем это он тебе так не понравился?..
— Не люблю, когда хвастают. Сам выше всяких оценок, дети — настоящие вундеркинды, жена…
— Жена у него правда хорошая, — миролюбиво сказал доктор. — И кроме того, она ведь спасла ему жизнь. В буквальном смысле… В полевых условиях, в обыкновенной хате… Ну, не хата, дом, деревянный дом с мезонином, обыкновенная усадьба над озером, но там называется мыза… При лампах, под обстрелом, сделала ему полостную операцию. Это не каждый сможет. Представляешь, рядом бомбили станцию, как начнут бомбить — весь персонал прячется, кто под стол, кто к стенам жмется, а она прикроет рану марлей — с потолка ведь сыплется — и стоит, не отходит, держит больного за руку. Понятно, влюбилась в него после этого, как скульптор в свое произведение…
— Каждый хирург на ее месте не бросил бы больного одного, — сказала Аня.
— Так ведь она совсем неопытная была, еще плакала в три ручья над каждым раненым… Тихон про нее что-нибудь рассказывал?
— Туфли ей купил за сорок рублей, я же тебе говорю, хвастал, как доставал, как продавщицу пугал, требовал жалобную книгу…
— Напористый парень…
Алексей Михайлович был усталый, вымотанный до предела тяжелым днем в операционной, а потом всеми уколами, впрыскиваниями, вливаниями и кислородом, какими приходилось поддерживать силы больной. Казалось, на ногах не стоял. Но тут его осенило: а может, Тихон еще на станции? Ведь поздний час, поезда ходят редко, вдруг еще не уехал.
Доктор бросил ужин, выскочил из дому, побежал через рощицу, по короткой дороге, и — вот как замечательно вышло! — успел. Обнялись, завопили оба от восторга. Яковлев слова не мог выговорить, так тяжело дышал после непривычной пробежки. И сразу же налетела, буравя фонарями вечернюю тьму, электричка, осветила веселыми яркими окнами перрон. Тихон вскочил в тамбур, только-только успел рукой на прощанье помахать. А все-таки свиделись, и доктор Яковлев долго потом рассуждал, какая это хорошая вещь дружба и как ее надо ценить.
— Это ты один такой преданный, для друзей готов на все, — говорила жена.
— А что, — соглашался доктор, — я разбрасываться чувствами не умею. Но если уж люблю, то люблю…
Дочь засмеялась:
— Папа, верно, именно такой. Не ходит и не ходит в кино, но если уж пошел, то будет фильм переживать три года. Кстати, ты все еще перед этим актером преклоняешься? — Она назвала фамилию. — Он уже несколько вышел из моды…
— А я за модой не гонюсь… — Доктор почти всегда разговаривал с дочерью немного назидательно, забывая, что она уже взрослая. — Кино — это не прическа, не какая-нибудь там «бабетта» или «конский хвост», как у тебя… Говорил и говорю — прекрасный артист и не менее, должно быть, прекрасный человек. Так передать суть нашей врачебной профессии, ее благородство может только тот, кто сам благороден…
— Папа, миленький, не воспитывай ты меня… — взмолилась дочь.
Доктор вспыхнул, но дипломатично вмешалась жена и сказала дочке:
— Я же тебе говорила — это папин кумир… — Она пригладила мужу волосы. — Ты не находишь, детка, что в глазах и вот тут, в разлете бровей, у них есть определенное сходство?
Дочь неуверенно согласилась:
— Пожалуй…
Доктор от удовольствия покраснел, хотя и сказал для видимости сухо:
— У тебя слишком богатое воображение, Аня. Какое уж там сходство!..
Воображение воображением, но он и сам иногда, когда брился и смотрелся в зеркало, поглядывал на свои брови. Глаза были усталые, часто красные от недосыпания, но брови, верно, были похожи. Такие же густые, с таким же изломом, как у любимого артиста.
Иногда ему даже хотелось написать артисту письмо, спросить — как тот мог, не будучи сам хирургом, так превосходно передать самую душу хирурга? «Говорю вам это как врач — мог бы он написать. — Большое вам спасибо от рядового великой армии врачей».
Хотел бы, но стеснялся: очень уж это кокетливо и смиренно — «от рядового… великой армии…». Витиевато как-то. Можно бы обдумать и написать по-другому, проще, но никогда, в сущности, не было свободного времени. Он и матери своей, и сестре родной, и Стрельцовым — Наде и Тихону — писал крайне редко, обычно под праздники, и то открытки. Где уж там писать письма или ходить в кино на все картины, как ходила дочь? Медицинские журналы не всегда удавалось просматривать…
И теперь, в лесу, он радовался, как маленький, и тому, что утро все в росе и солнечных бликах, и тому, что впереди столько еще свободных таких вот утр — почти тридцать, и тому, что не надо видеть человеческих страданий — язв, опухолей, крови и гноя, а можно уставиться на эту растрепанную, как женские волосы, молодую березу и смотреть на нее хоть целый день.
Смотреть и любоваться.
Но, конечно, он не потратит на это много времени, впереди дорога, по которой снова проворненько побежит, постукивая своими колесами, как резвый олененок копытцами, его «Москвичок», впереди еще более красивые, густые леса, чем этот лес, более заманчивые полянки, чем та, где он ночевал. И впереди встреча с Тихоном, — он-то уж прискачет наверняка, а может, и Надю возьмет с собой.
Хорошо, если и Надя приедет.
Конечно, Яковлев не был никогда в нее влюблен и не может считать, что Тихон отбил ее у него, — для таких умозаключений нет совершенно никаких оснований. Он, Яковлев, и не ухаживал никогда за Надей Миловановой.
Правда, был такой эпизод: стояли в лесу, жили в палатках, ординаторская, она же кабинет главного ведущего хирурга, доктора Яковлева, была тут же, рядом с операционной, тоже в палатке. Яковлев заметил, что на сколоченном из бревен столе, в склянке из-под эфира, что ли, стали появляться каждый день свежие букетики. Он подумал, что это санитарки, зная, как он любит природу, угождают ему, но Надя Милованова призналась, краснея:
— Это я поставила… это не санитарки…
— О! — только и удивился он, не понимая, почему она так густо покраснела.
— Хочу, чтобы вы иногда смотрели на эти ландыши и думали о чем-то хорошем, нежном… — как-то странно сказала Надя, глядя в сторону. Ее розовая щека побледнела. Кожа была молочная, нежная, совсем еще не загорелая.
— Благодарю вас… — Яковлев хотел сказать «Надя» или «Наденька», но побоялся фамильярности. — Благодарю вас, доктор Милованова. Это очень любезно с вашей стороны.
Он жил тогда с медицинской сестрой, очень пылкой, худощавой, ревнивой, похожей на цыганку женщиной, много старше, чем он сам, и очень ее боялся, вернее, не ее, а каких-либо сцен, слез, особенно пересудов. И больше всего мечтал о том, чтобы цыганка влюбилась в кого-нибудь другого или, еще лучше, вышла замуж и вся эта история мирно кончилась. Но человек устроен странно: когда случилось именно так, как он хотел и чему всячески способствовал — цыганка предпочла немолодого уже майора, интенданта, и перестала преследовать доктора своей любовью и ревностью, — Яковлев очень затосковал, почувствовал себя одиноким и даже однажды вынул и подержал на ладони заряженный пистолет. Правда, пистолет был на предохранителе. Никто не узнал об этой его минутной слабости, на людях он держался стойко и ничем не выдавал своих переживаний. А все-таки Надя Милованова что-то учуяла и перестала ставить ему на стол цветы. Он даже спросил спустя какое-то время:
— Где же мои ландыши?
— Хватились! — ответила Надя чуть резко. — Пора ландышей давно миновала…
Он так и не понял, вкладывала ли она какое-то особое значение в свои слова, и на всякий случай туманно произнес:
— Приходит весна и уходит, зацветают цветы и увядают… — Больше у него времени на поэзию не было. — Скажите, Надя, — он легко и свободно произнес теперь это «Надя», — как сегодня наш лейтенант, будем ли ставить вопрос об ампутации? Это крайне нежелательно…
Потом были летние бои, и раненых везли и везли. Яковлев и не заметил, как прошло лето, а осенью появился Тихон Стрельцов со своим сложным ранением и остался в госпитале уже как муж доктора Миловановой и помощник начальника, и они очень здорово стали дружить втроем. Надя даже пришивала ему подворотнички, чем очень его выручала, — Тихону пришивает и ему заодно.
А работник Тихон был замечательный. Яковлев его ценил. Ему будет очень приятно повидаться с Тишкой, а если и Надя приедет, это будет двойной праздник.
Черт, все вышло не так…
Когда он, навестив по дороге мать, потом сестру, нацеловавшись и наплакавшись, поахав и поохав, перезнакомившись с новой родней, появившейся с замужеством племянницы, выслушав новости, посидев за всеми столами и перепробовав домашние наливки и настойки, побывав в родной школе, вернее, в той новой, что стояла теперь на месте его старой, родной, — когда после всего этого он все-таки приехал на Карельский перешеек, в тот населенный пункт, где была назначена их встреча, Тихона он не нашел.
Доктор тщетно бродил по поселку. Тех развалин, которые запомнились ему, обгоревших стен, кафельных закопченных печей, одиноко торчащих на пепелищах, уже не было. Он ничего не узнавал. Не узнавал ничего и тогда, когда, проехав вперед по шоссе, остановил машину на зеленом лугу. Здесь, по его расчетам, тогда проходила передовая. Как именно она выглядела, он не очень точно знал: госпитали всегда располагались поглубже.
Еще когда он ехал сюда, то видел следы войны, запечатленные в памятниках, надолбы, оставленные там, где проходили рубежи обороны, обелиски в память погибших, отдельные дзоты. Он спустился в один такой дзот около шоссе, постоял там, вздохнул, сам себе не веря, что этот дзот, окруженный свежей, не привяленной зноем травой, настоящий. Но и здесь, уже гораздо глубже, на той полосе, где тогда располагалась их армия, где была передовая, откуда везли к ним раненых, он тоже не мог поверить, что это те же места, где шла война.
Яковлева глубоко волновала и трогала сила жизни, что залечила, заврачевала раны на лугах, затянула травой осыпавшиеся окопы и ходы сообщений, воронки от снарядов. Он смотрел на ликующие деревья, на разнотравье с его дурманящим запахом, на тишину, которую осязал теперь как нечто материальное, на быстро бегущие по небу облака. Казалось, что под этими облаками всегда стояла безмятежная тишина.
Но он-то хорошо помнил бомбежки и канонады и то, как после канонады часто шел дождь. Кириллыч, старый фельдшер, говорил, что эти дожди от «сотрясения воздуха», ибо «небеса» не любят, когда нарушают порядок. А Гитлер его нарушил. И прибавлял неизменно: «От зараза той Гитлер…» Он был украинец, Кириллыч, «г» произносил с придыханием. И в госпитале все так и стали говорить: «Опять из-за Хитлера-заразы размокают дороги, как будем транспортировать раненых?»
Кажется, что это было вчера. Нет, Яковлеву просто необходимо было поскорее встретиться с Тихоном: немыслимо было смотреть на все эти места одному, одному переживать и вспоминать, как все тут было в войну.
Он вернулся в поселок, снова заглянул в кафе, в павильон «Пиво — воды», пошел на почту. Ни письма, ни телеграммы. Сунулся на маленький вокзал-платформу. Безлюдье. И спросить не у кого…
Раза два он проехал мимо женщины, которая тоже, судя по ее растерянному виду, кого-то или что-то искала, хотел даже остановиться и заговорить, но не решился. Начинал уже злиться на себя, что так бестолково назначил место свидания. Надо было выбрать более определенный ориентир. Мог ведь он, старый болван, предположить, что поселок, в сущности, выстроят заново. Где же искать Тихона? И Тихон к тому же не знает, что он приедет на автомобиле.
Яковлев поехал искать остановку автобуса и на остановке опять увидел расстроенную женщину. Она прикрылась от солнца ярким зонтиком, и согнутая в локте тонкая рука вдруг привлекла чем-то его внимание. Яковлев остановил машину.
— Доктор Милованова? Надя!
Она встрепенулась:
— Леша! Алексей Михайлович!
Яковлев распахнул дверцу:
— Прошу.
Надя сложила зонтик.
— У тебя собственная машина?
Он и узнавал ее, и не узнавал. Надя отрастила волосы, уложила их в какую-то немыслимую прическу. Может, даже покрасила, а может, они сами собой потемнели. Доктору казалось, что раньше Надины волосы были светлее. И ресницы стали темные. Не поправилась и не похудела, но стала вроде шире в плечах, чуть ссутулилась. Около глаз — морщинки.
Надя смотрела на него взволнованно, не улыбаясь, и он сам стал вдруг волноваться, кровь прилила к лицу.
— А Тихон где?
— Он не смог. А я приехала…
— Это очень мило с твоей стороны, — сказал несколько озадаченный доктор, неясно представляя, как он должен себя вести. — Собственно говоря, — признался он, — я надеялся, что мы с вами, с тобой и с Тихоном, здесь встречаемся и шатаемся потом по перешейку сколько захотим, вспоминаем, разговариваем досыта, до отвала, может быть, даже пьем вино… Я и на природу не смотрел, когда ехал сюда, гнал и гнал, чтобы всем любоваться вместе с вами. Так только, краешком глаза поглядывал. Он что — болен, Тихон? Или не захотел?
Надя помолчала, потом спросила:
— А разве мы не можем без Тихона осуществить твою программу?
— Конечно, можем… Но Тихон… — Яковлев вдруг обиделся: — Что же, он считает меня таким старым хрычом, к которому и жену не надо ревновать?
— Все гораздо проще, — сказала Надя. — Он меня считает безнадежно старой…
— Не верю…
— Верь, — сказала Надя. И засмеялась. — В общем так, доктор Яковлев. Вы еще можете отказаться от своего приглашения, станция железной дороги рядом, я могу уехать…
— Ну нет, — энергично возразил Яковлев. — Будем считать, что раненый Стрельцов еще не поступил в наш госпиталь…
— И может быть, вообще не поступит…
Когда Надя уже села в машину, бросив на заднее сиденье сложенный зонтик и чемоданчик, и Яковлев поехал по шоссе, не очень понимая, куда и зачем они едут, он спросил:
— Что, Надя? Что у вас — неладно? Черная кошка пробежала?
— Почти. Только не черная, а блондинка…
— Другая женщина?! — удивился, даже испугался Яковлев.
Она кивнула.
— Но надо бороться, надо что-то предпринять. Ах, Тихон, Тихон… Он же тебе всем обязан, неблагодарная скотина.
Она болезненно поморщилась. И предложила:
— Давайте, доктор Яковлев, считать, что больной Стрельцов не Поступал.
— Поворачиваем колесо истории назад годиков так на двадцать пять — двадцать шесть? Я согласен. Можете звать меня Лешей, доктор Милованова… — весело сказал Яковлев. — Начнем все сначала…
— Идет.
Вдоль шоссе уже тянулись рыжеватые тонкие сосенки, просвеченные солнцем, поселок давно остался позади. Надя попросила остановиться, вышла, сорвала у обочины несколько лесных колокольчиков и принесла их в машину.
Яковлев растрогался, вспомнил, как она когда-то ставила ему лесные букеты на стол, и благодарно сказал:
— Спасибо, доктор Милованова. Большое тебе спасибо, Надя, за эти цветы. Они мне многое напомнили…
Все-таки небольшая неловкость была, и доктор Яковлев от этого тайно страдал. Во-первых, как отнесется Аня к тому, что он путешествует с чужой, еще не старой женщиной? Бог знает что взбредет ей в голову, еще вздумает переживать. Во-вторых, все, с кем им приходилось сталкиваться в пути — в кафе, на заправке, в магазинах, — принимали их за супружескую пару, и ему приходилось подробно объяснять, что нет, они, мол, только фронтовые друзья, здесь, в этих местах, служили в войну и вот вспоминают те дни. В-третьих… В-третьих, поначалу доктор галантно всюду платил за себя и за Надю и немного побаивался, что выскочит из бюджета. И так уже истратил больше, чем предполагал, когда встретился с родней. Он даже думал, что если не хватит, то возьмет взаймы у Тихона, Тихон всегда был денежным парнем, а тут… Но не мог же он так себя унизить, чтобы аккуратно подсчитывать и делить с Надей, с женщиной, так сказать с дамой, расходы пополам. Надя сама хватилась и запротестовала: «Леша, это не по-товарищески, я так не согласна…» Но было уже поздно… Только бы Аня все правильно поняла и не обиделась, что не привез подарков… А-а, будь что будет! Поездка так нравилась ему, так увлекала, что он не хотел думать о неприятном…
Какими бы простыми, приятельскими ни были их отношения с Надей, все-таки ее присутствие, смех, который он почти позабыл, то, как колыхались от ветра легкие завитки на ее висках, как она поднимала руки, приглаживая волосы, как шутила, как внезапно задумывалась, морща брови, — все это чуть-чуть волновало его, придавало их разговорам — откровенным и дружеским — какую-то остроту, прелесть, неожиданность. Ему, доктору Яковлеву, даже казалось теперь, что вовсе не с Тихоном хотел он встретиться, а именно с Надей. Надя умнее, тоньше, да и дружили они с Тихоном только потому, что тот стал Надиным мужем и она ввела Тихона в их медицинскую среду.
Надя расспрашивала его, какая Аня, и он честно рассказывал, что любит жену и не изменяет ей. Может, и изменил бы, да не с кем и некогда. Глубокого чувства никто не вызывает, а случайности, пошлости — это не для него. Он старался говорить осторожно, чтобы не получалось, что хвалит себя и чернит Тихона.
— А в общем, ты же знаешь, от тюрьмы да от сумы, как говорили когда-то, да еще от любви, можно теперь прибавить, никто не застрахован…
— Ну и слава богу, — сказала Надя. — Это ужасно, если человек считает, что любовь больше к нему не придет. Я не осуждаю Тихона…
— Смотри, как ты ему предана, — с завистью сказал доктор. — Тихон, по-твоему, всегда прав… Нет, Аня бы меня по головке не погладила, если бы я… — Он не договорил. — Уж она бы… Но ты страдаешь? И теперь еще страдаешь?
— Не знаю.
— А раньше?
— Угу, — односложно ответила она.
Яковлев вздохнул:
— Что ты сказала детям?
— Правду…
— Но Тихон, он-то ведет себя порядочно, помогает тебе?
— Как все странно рассуждают, — с горечью отозвалась Надя. — Если человек дает брошенной жене достаточно денег, значит, он порядочный, мало — непорядочный. Ну, а то, что убито в человеке, — сколько это стоит?
Яковлев расчувствовался. Он произнес задумчиво, глядя на убегающую от машины дорогу:
— Хорошая ты женщина, Надя… Милая ты женщина, доктор Милованова. Все-таки не зря я завидовал когда-то Тихону, крепко он тебя прикрутил к себе… Занял в твоей жизни колоссальное место.
Надя повела плечами, как будто разорвала путы, заговорила о том, какой красивый путь — с ума можно сойти! — как ей приятно побывать снова в этих краях… Конечно, мало похоже на то, как было: все теперь так роскошно, асфальт, здравницы, пансионаты.
— Ох, смотри, какую собаку везут в «Победе». Ах ты, дорогой, симпатичный пес… А помнишь, Леша, как к госпиталю прибилась собачонка, черные лохмы и два блестящих глаза?..
— Я полагал, что у всех собак по два глаза…
— Не насмехайся.
О чем они только не говорили!
Конечно, о воспитании детей.
Конечно, о врачах и сестрах из госпиталя. Кто куда девался? Кто как устроился?
Конечно, о достижениях хирургии.
Доктор Яковлев спросил:
— Ты много оперируешь?
— Я вовсе не оперирую, Леша, — сказала она как-то слишком спокойно. — Я ведь это дело давно оставила…
Он даже скорость сбросил.
— После войны, когда встал вопрос, как быть и где быть, мы, естественно, прежде всего думали о Тишиной судьбе. У него ведь специальности не было, учиться вроде поздновато, здоровье не крепкое. Выбрали наш городишко… Ну, в общем, я теперь санитарный врач…
— Жаль, — сказал Яковлев прямо, — из тебя мог выработаться хороший хирург… настоящий…
— Возможно… но когда у тебя двое детей и не очень здоровый муж…
Они ехали какое-то время молча, потом Яковлев не выдержал:
— Свинья Тихон, как я погляжу…
— Это не он, это я виновата…
— И ты тоже виновата! Нельзя бросать дело, которое больше всего любишь…
— Выходит, я больше всего любила Тихона.
— И вот результат…
— Ну что ж…
Яковлеву стало неловко, он спросил мягко:
— Что же ты в нем нашла, в этом Тихоне, — вот чего я раньше не понимал и теперь тем более не понимаю…
— Ты всегда был непонятливый…
— Вот и моя Аня говорит то же самое.
Надя засмеялась:
— Мы ведь договорились — Тихона еще нет, и твоей Ани еще нет… Есть только лес, небо, хирург Яковлев…
— И доктор Милованова.
— Хирург Милованова, — поправила Надя.
— Да, молодой, способный хирург Милованова.
— И она ставит цветочки на стол своему шефу, как говорят теперь, а он, увы, этого не поощряет… — Яковлев опять услышал ее милый короткий смешок. — Нужно отдать тебе справедливость, Леша, все-таки ты был исключительно твердолобым и недогадливым…
Они не сразу поехали к озеру, на котором стоял тот старый деревянный дом, промытый дождями, с поросшими мхом стенами, где размещался когда-то их госпиталь. Яковлев боялся, что Наде там будет тяжело, слишком много воспоминаний. Но Надя сама захотела туда поехать.
Они выбрались рано, солнце еще не сильно грело, над водой держался голубоватый туман, и вода в озере, в этом голубоватом тумане, казалась темной и холодноватой.
Огромные валуны лежали у входа в дом, на этих валунах сидели когда-то раненые, дожидаясь, пока им дадут место. И на берегу, недалеко от дома, тоже громоздились валуны.
— Похоже, что они стали меньше, — показалось Наде.
— Да, вросли в землю…
Надя сказала:
— Когда носилки, на которых привезли Тихона, сняли с грузовика и поставили тут, у валунов, а я вышла, чтобы принять больного, — я дежурила в тот день, — он сказал, Тихон… у него были совсем детские веселые глаза, а лицо белое, ни кровинки: «Доктор, вы меня спасете? Я обещал маме и всем девушкам нашего города, что вернусь с войны», — и подмигнул мне. А я ответила: спасу…
— И спасла… оперировала в сложнейших условиях…
— Не благодарить же меня за это… — Надя огляделась по сторонам: — Смотри, как пригнуло ветрами наши сосны… Когда солнце не светит, есть что-то в этой природе древнее, правда?. Что-то северное, величественное и чуть печальное… Я влюблена в эту природу…
— Так сильно влюблена, что не хочешь разговаривать про Тихона?
— Да, не хочу. Ты посмотри лучше, какое небо, на юге совсем иная голубизна…
В доме размещалось теперь правление колхоза, но они все-таки вошли, прошлись по комнатам и чуть не поссорились, определяя, где именно, в каком углу была перевязочная; потом оба стали смеяться, — господи, какое это имеет значение!..
На стене низкого коридора висели плакаты, призывающие повысить надои молока, и Надя вспомнила, как к госпиталю приблудилась корова. Вечно к ним прибивалась то собачонка, то корова, а то и какой-нибудь одинокий старичок, просившийся поработать и подкормиться. Старичка тут же начинали называть «дедушкой» и «папашей», и он оказывался самым нужным, самым необходимым человеком. И все горевали потом, расставаясь с ним и отдавая ему свои банки с тушенкой и запасные рубахи или портянки.
— И все эти приблудные у тебя у первой находили понимание и покровительство, — сказал Яковлев.
Верно, собачонка спала около Надиной койки, и корову Надя, дрожа от страха, сама доила, пока не удалось пристроить ее при кухне. Повар был деревенский и любил коров.
— Она меня чуть не убила, эта корова, такая была брыкливая. А как мучилась недоеная…
— Вот эта черта — обязательно самой всех спасать и выручать, — она тебя и увела от хирургии… Хирургия требует не жалости, как ты уверяешь, а именно твердости, искусства, умения, — сказал Яковлев. — Не знаю, как в жизни, в быту, а за операционным столом я тверд.
— А я каждый раз должна была собирать все свое мужество, — призналась Надя.
— Тем более это делает тебе честь… Думаешь, я не волнуюсь перед операцией? Так же, как и в первый раз, так и теперь волнуюсь…
Они сидели на берегу, на камнях, уже обогретых солнцем, и смотрели, как тает и расходится туман, высветляя очертания берегов, поросших кустами.
Из конторы колхоза вышел человек в очень выношенной, но чистой гимнастерке, с пустым рукавом, заправленным за ремень. Он с любопытством разглядывал незнакомых людей и прислушивался к их разговору.
Яковлев и ему рассказал, что они тут проездом, в этом самом доме работали в войну и вот захотели поглядеть…
— Супруга ваша? — спросил однорукий про Надю.
— Нет, просто фронтовые друзья, врачи, тут вот у вас оперировали. А вы?.. — спросил Яковлев, выразительно поглядывая на пустой рукав. — Вы…
— На войне потерял руку…
Яковлев стал расспрашивать его, какое было ранение, потом окликнул Надю, отошедшую к самой воде.
— Надя, — будто делая ей подарок, крикнул он, — вот товарищ, ему сделали ампутацию… Ты помнишь, у нас лежал лейтенант, еще тогда, в лесу… рыжий такой… Точно так же было перебито сухожилие, такое совпадение. Да, — сказал он сочувственно, обращаясь к однорукому, — потом мы многому научились, и медикаментозные средства появились, предотвращающие гангрену, а тогда чаще ампутировали. Все, в том числе и наука, движется вперед.
— Я вот читал в газетке, — сказал инвалид, — будто бы такого достигли, что голова может существовать отдельно от туловища, если не врут… И сердце даже пересаживают… Может, и руки, научатся обратно пришивать, а? — Он засмеялся.
— Будем надеяться, — сказал Яковлев. — Но, поверьте, мы решаемся на ампутацию только в самом крайнем случае, чтобы спасти жизнь…
— Да оно не всегда нужно, жизнь-то спасать, — сказал инвалид, ловко, одной рукой управляясь с сигаретой и зажигалкой. — Насмотрелся я всего, пока валялся по палатам. Без рук, без ног, как дитя малое в люльке лежит. Солдаты таким прозвище дали — самовар. И верно как самовар… — Улыбка вдруг прошла по его худому лицу. — Мне повезло, что жена хорошая, не дала духом пасть. Я счетовод, прилично получаю. Все благодаря ее упрямству, пилила меня, как пила: «Иди на курсы». — «Тьфу, пойду, только отстань…» А в госпитале я лежал в Средней Азии, там урюк, жарища, — красота!
— А мне у вас нравится, — сказала Надя. — У вас закаты яркие, особенно зимой, снег так и горит…
— Это само собой. Но там урюк, виноград. Урюк цветет, все сады розовые…
Когда однорукий ушел, с сожалением расставшись с ними, Яковлев тут же сказал:
— Ты представляешь, что я вспомнил? Когда ты к нам приехала, совсем еще на девочку похожа была, на девятиклассницу, я вхожу, а ты держишь треугольничек в руках и ревешь. Оказывается, письмо пришло, а раненый — адресат — только-только скончался. У меня просто душа заныла, какая ты хорошая…
Надя отмахнулась:
— Ну, вот еще…
— Нет, правда, ты произвела тогда на меня очень сильное впечатление…
Они долго гуляли по берегу, с удивлением наблюдая, как солнце оживило воду, с какими шелковыми переливами бежала теперь по озерной глади легкая рябь. И неожиданно Яковлев подумал вслух:
— Интересно, как сложились бы наши отношения, если бы Тихон попал в другой госпиталь, а не в наш…
— Ох, Леша, Леша, — только и сказала Надя.
Они посидели еще на берегу, а когда решили, что пора обедать, и поехали, Надя как бы невзначай вспомнила:
— А я ведь видела как-то твою старую любовь, твою цыганку…
— Где? — испуганно спросил Яковлев.
— На профсоюзной конференции. Созвали медработников из всей области. Она очень тепло о тебе говорила…
— Да? — не поверил Яковлев. — Что же она говорила?
— Что ты хороший человек. Считает только, что мужчина ты не самостоятельный, что не ты выбираешь женщину, а женщина выбирает тебя. У тебя мягкий характер…
— Абсурд! Человек, у которого мягкий характер, не может быть хирургом.
Надя запротестовала:
— Ты потому и хороший хирург, что у тебя мягкий характер. Ты любишь больного, а не только саму операцию, не свое хирургическое мастерство…
— Ересь. Без мастерства какой же может быть хирург! Ты несешь чепуху…
— А мне кажется, она права, твоя цыганка… Настойчивость, во всяком случае по отношению к женщинам, тебе не свойственна. Правда, я не знаю, какой характер у твоей Ани…
Яковлев слегка покраснел:
— У Ани крутой характер…
— Вот видишь…
— Но Аня помогает мне жить, — сказал Яковлев, как будто оправдываясь. — Она твердой рукой ведет наш семейный корабль, и это позволяет мне всего себя отдавать работе…
— Тебе повезло, — сказала Надя. — Тебе очень повезло…
— А Тихону разве с тобой не повезло? — рассердился, сам не зная на что, Яковлев.
— Повезло, — спокойно ответила Надя. — И Тихону тоже повезло. И поэтому Тихон нашел свое место в жизни, утвердился, преуспел на работе и даже новую любовь нашел, когда старая угасла. А я вот свое место потеряла…
— Что ж ты, без Тихона не проживешь, что ли…
— Ты не понял, — все так же спокойно пояснила Надя. — Я не Тихона имела в виду. Я свое место в жизни потеряла. Я ведь не люблю свою нынешнюю работу, хоть это и очень почетно — бороться с антисанитарией… Мне больше нравилось оперировать. А я отказалась от своего призвания, и жизнь отомстила мне…
— Мудришь ты, доктор Милованова, — покривил душой Яковлев. — Идешь от неверных посылов, мудришь, а вокруг такая красота…
Надя согласилась:
— Действительно, вокруг красота.
Иногда они просто молчали. Надя сказала, что она теперь выучилась подолгу молчать, — у детей своя жизнь, а она много времени проводит одна, молча. Даже считает, что это полезно, укрепляет нервы и приучает размышлять. Есть такая философия, не то у буддистов, не то у йогов, — они утверждают, что человеку необходимы дни полного молчания.
— Это великолепно…
Яковлев недоверчиво пожал плечами.
— Одинокие женщины всегда интеллигентнее замужних, — засмеялась Надя. — Я почти не успевала читать, а теперь не только позволяю себе роскошь молчать, но и читаю. Даже снова полюбила поэзию… А ты?
— Ох! — только и вздохнул Яковлев.
У Нади даже с собой были книжки стихов. И в сельских магазинах, мимо которых они проезжали, она кое-что купила, радуясь своей удаче:
— Теперь ведь достать хорошую книгу — все равно что выиграть в лотерею. Все покупают книги, повальное увлечение…
— А не мода? — усомнился Яковлев.
— Может, и мода, но хорошая…
— Когда я был молодым, любил читать. Я был большим книго… книго…
Он затруднился, но Надя помогла:
— Книгочеем…
Они оба охотно смеялись над любым пустяком. Иногда читали по очереди вслух, Надя — волнуясь и запинаясь, Яковлев — отчетливо и с выражением. Но чаще, как ни сопротивлялась Надя, все-таки разговаривали. Яковлев расспрашивал, какой она была маленькой. Надя рассказывала. И про детей своих рассказывала. Яковлева это веселило. Сам же он больше всего любил говорить про свою больницу:
— Иметь бы такого завхоза, такого помощника, каким был твой Тишка в госпитале, и можно бы жить не тужить, знать, что тыл обеспечен, все в порядке, твое дело — только больные. А то ты не поверишь, как приходится изворачиваться, кланяться умелым людям, даже из своего кармана платить, только бы изготовили инструментарий, какой тебе удобен, или гвозди… ну, знаешь, какие мы при переломах вставляем, это же целая проблема. Я одно время даже сам изобретал…
Он откладывал книгу или переводил разговор на другую тему и увлеченно начинал рассказывать про больных. Память у него была как регистрационный журнал, он каждую мало-мальски сложную операцию отлично помнил. А операции все сложные, считал он, все требуют подготовки. Отнесешься халатно, так могут быть такие последствия, что ой-ой-ой…
— Операции я все помню, а лица, понятно, забываю. Тут как-то обиделся на меня больной: я, мол, у вас лежал, вы меня все голубчиком называли, а запамятовали. Я отвечаю — погоди, вот посмотрю на твой шовчик и скажу, лежал ты у меня или не лежал, на лицо, извини, не всегда гляжу. А то еще такой был случай…
Надя охотно слушала.
Они обычно находили веселую, усыпанную солнечными пятнами лужайку, но сами садились в тень под дерево и машину, конечно, тоже ставили в тень. И сегодня выбрали живописное тенистое место, договорились, что будут читать каждый свою книгу и будут молчать, не отвлекаться. Но Яковлев долго не вытерпел. Пошелестел страницами и тут же заговорил о том, что очень интересно наблюдать за Надей, когда она читает: на ее лице отражаются все эмоции.
— И брови поднимаешь. И хмуришься…
— Ты что же, следишь за мной?
— Да. Мне приятно…
Солнце передвинулось, им тоже пришлось передвинуться. И Яковлев, чертыхаясь, перегнал машину в другое место, в кусты.
— Ты к своему «Москвичу» относишься с такой заботливостью, как к живому существу, — пошутила Надя.
Яковлев почти серьезно ответил:
— Всякий механизм живой, надо знать его особенности и относиться к ним с уважением…
— Ох, хорошо, если бы и к людям так относились… с уважением…
— А я отношусь с уважением, — уже вполне серьезно ответил Яковлев. — Я к тебе отношусь…
Надя от серьезного разговора ушла:
— А читать мешаешь…
Но книгу все-таки закрыла.
— Ты хорошо слушаешь, — похвалил Яковлев. — Тебе хочется рассказывать и рассказывать, так ты хорошо слушаешь. Я вниманием не избалован… Аня, — он впервые заговорил об Ане с каким-то оттенком обиды, — Аня наперечет знает всех подруг нашей дочери, всех ее преподавателей и сокурсников, но с тоской слушает то, что рассказываю я… — Он отломил от куста веточку и, перебирая листочки, сказал: — Иногда после операции я прихожу такой усталый и взбудораженный, что долго не могу ни уснуть, ни успокоиться, все говорю…
— Возможно, что Ане надоело слушать про операции…
— Конечно, надоело. Она устала, хочет спать, а я про свое… — И почему-то стал оправдываться: — Аня очень хорошая и прекрасно ко мне относится…
— Не сомневаюсь…
— Тебе неприятно, когда я говорю про Аню?
— Нет, что ты…
— Значит, мне показалось. — Яковлев успокоился. — Аня ведь самый близкий мне человек. Дочь меня не очень-то любит, она — мамина дочка, друзей у меня мало, вот вы с Тихоном, да и то далеко… А Аня со мной всегда… — Как обычно, он спохватился, испугался, что говорит неделикатно, ранит Надю, которая теперь с Тихоном врозь, и предложил:
— Лучше правда почитаем…
— И помолчим, — сказала Надя строго. — Иногда лучше всего помолчать.
Яковлев пристально посмотрел на нее, открыл было рот, покачал даже головой, но ничего не сказал. Перебирал листья на своей веточке и вздыхал.
Так они мотались по Карельскому перешейку, ночевали в деревенских гостиницах или у хозяек, обедали в чайных или столовых, иногда ели всухомятку — жили удивительно беспечно, весело, непритязательно.
Отдыхали часами на полянах или в лесу на опушке, под сосной или березой, следили, как деловитой походкой бегут по желтому песку муравьи.
Однажды поймали стрекозу.
Надя посадила стрекозу на палец, кричала,-что стрекоза щекочет кожу, но это удивительно приятно. Потом стрекоза взлетела, но не стала улетать, а села на Надины волосы.
— Это потому, что твои волосы хорошо пахнут, — сказал Яковлев. И смутился.
— Это что — комплимент?
— Я не мастер говорить комплименты, ты же видишь…
— Нет, почему! Ты очень мило сказал…
— Никогда не поймешь вас, женщин, что, по-вашему, хорошо и что плохо.
— Все, что необычно, что от сердца, порыв, то и хорошо…
— Да? Но я вроде не склонен к порывам. Хотя… — Яковлев подумал и признал, что, конечно, это очень разумно — размеренная жизнь, жена, к которой привык, каждое слово которой, каждую интонацию знаешь, но хочется, правда, иногда чего-то нового, необычайного, неизведанного, какой-то вольной кочевой жизни.
И Надя грустно согласилась: да, да, мы, женщины, потому вам и надоедаем, что наш мир более узкий — хозяйство, дом, дети. И никуда от этого не денешься, какое уж там кочевье! В нас сильно развито чувство семейного долга.
— Если бы моя жена видела, что я здесь ем, как грешу против диеты… Ох, был бы крик!
— Она ведь о тебе заботится…
— Это верно…
— Вот видишь.
— Верно, но скучно…
— Да, да, я всегда помнила, какая сложная операция была когда-то у Тихона, я всегда была настороже, предостерегала, оберегала, это ему надоело… С ней, с новой своей женой, он, должно быть, почувствовал себя моложе, сильнее…
— И помрет скорее, — грубо сказал Яковлев.
— Зато пока счастлив…
— В этом я не уверен… Ты ловила каждое его желание, ты…
— Когда Тихон злился, он говорил, что вовсе я его не люблю, просто тешу свое самолюбие, что, мол, я его спасла… Он был очень ревнивый…
— К кому же он тебя ревновал? — поинтересовался Яковлев.
Надя ответила не сразу:
— Когда-то, на войне еще, к тебе, потом… Он ревновал ко всем, даже к собственным детям… Он ведь собственник, Тихон. И очень самолюбивый…
— Гм, — удивился Яковлев. — Почему же он ревновал ко мне, позволь спросить? Какие у него были основания?
— Ну что теперь выяснять, смешно…
Были минуты, когда Яковлев боролся с искушением поцеловать Надю, обнять ее. Но ему казалось это непорядочным. Надя доверилась ему, поехала с ним. Аня отпустила его одного. Сам он уже не молод, плотен, лысоват. Он гнал от себя искушение, старался шутить, язвить, острить, философствовать.
— Человек должен быть иногда свободен. Вот как мы… Лежать на траве, следить за этими торопливыми муравьями… — Но муравьи все-таки не могли его интересовать долго. — Надя, неужели ты забудешь эту нашу поездку?
— А ты?
— Я-то не забуду, вот ты бы не забыла. Скажи, а Тихон ревновал тебя за дело? Или просто так?
— К тебе?
— Ну, предположим, к другим…
— Так я и сказала…
Но он-то понимал, что она шутит, и ему необыкновенно приятно было знать, что Надя — серьезная, преданная своему мужу женщина, как будто тем, что Надя была верна Тихону, она была верна и ему.
А все-таки он снова сказал, уже в другой раз:
— Твои волосы очень хорошо пахнут…
— Поздно же ты заметил мои волосы, в них уже седина…
— Не вижу никакой седины.
— Глупый, я их крашу. Мо́ю ромашкой, она золотит…
Он протянул руку, погладил ее волосы и даже засмеялся:
— Мягкие…
Вот и вся ласка, на которую он решился. И тут же нахмурился, отдернул руку и зачем-то стал рассказывать, как Тихон к нему приезжал, какая трудная попалась ему тогда больная, насилу выходил.
— Кстати, — припомнил он, — Тихон очень не понравился моей жене, я даже удивился. А что-то Аня в нем разглядела…
— Женщины вообще отличаются чуткостью… — Надя не стала говорить об Ане. Попросила: — Вспоминай обо мне, Леша, ладно? Нет, не, поездку, не пейзаж, не эту лужайку, — просто то, что живет на земле Надя Милованова, вспоминай…
— Есть вспоминать, доктор Милованова. — Он как будто шутил, но расчувствовался, взял Надину руку, пожал, потряс. Глаза его затуманились. — Скоро последний день…
______
Надя назвала этот день счастливым. Хотя и вечер накануне этого последнего дня они провели неплохо. Ехали мимо сельского клуба, а там шла картина. Та самая старая картина про войну и про хирурга, которую так любил доктор Яковлев. Он скосил глаза на большую афишу-плакат с названием и невольно затормозил. Надя угадала:
— Хочешь посмотреть?
Он не столько хотел посмотреть фильм, сколько хотел знать, заметит ли Надя сходство между ним и героем. Его так и подмывало бросить небрежно: «Моя жена находит, что мы похожи». Но не говорил — пусть Надя сама заметит и скажет. А если не скажет, значит, это Анина фантазия.
Фильм взволновал его на этот раз особенно сильно: и гул войны, и падающие бомбы, корежащие и лес и землю, и операционная, и подвиги врачей и солдат. Картина как бы накладывалась на все то, что они с Надей вспоминали в эти дни, на то, что переживали вместе и никогда, никогда не забудут. Поначалу он еще замечал, что в картине правильно, а что не так, как было на самом деле, — ведь не было у них в войну таких наглаженных халатов, и вид — особенно у него — был более штатский, не щелкал он каблуками (Надя, по неопытности, щелкала!), да и вообще никто вокруг не соблюдал так тщательно субординацию, не до нее было. А потом, как всегда, увлекся и даже прослезился.
Надя сидела рядом с ним, и ему приятно было, что она сидит так близко, почти прижавшись к нему прохладным плечом. На ней было летнее платье без рукавов, и он все время чувствовал ее плечо…
Он нерешительно взял Надину руку в свою и не отпускал.
Взрослых в кино почти не было, сидели подростки, мальчишки, которые замирали, пока шли военные эпизоды, и свистели и кричали, когда герой целовался с героиней.
Зажегся свет, стали хлопать откидные сиденья, а Яковлев с Надей все еще сидели, держась за руки. Кто-то за их спиной тихонько свистнул, кто-то тихо сказал со смешком «жених и невеста», кто-то в их ряду переминался с ноги на ногу, желая пройти и не решаясь поторопить. А какая-то девчоночка в короткой юбке, с золотистой стриженой головкой громко сказала подружке: «Плачет, надо же… какой сентиментальный». А подруга ответила: «Ой, наш старик тоже такой. Как про войну, он плачет».
Яковлев опомнился. Засмеялся:
— Я тебя скомпрометировал, Надя, ты извини.
— У меня у самой глаза мокрые. Но знаешь, Леша, все-таки лучшая пора моей жизни была тогда…
— Ну что ты? Что ты такое говоришь…
— Нет, не что ты… — Надя настаивала. — Те годы были моим взлетом, выше этого я больше никогда не подымалась. И лучше, чем тогда, не была…
— Ты была такая прелестная, такой милый рыжик с зелеными глазами. Но, клянусь, ты и теперь еще очень и очень в форме. Ну, просто — привлекательная женщина, и только такой дурак, как Тихон…
— Да не в нем дело, не в Тихоне, — с досадой сказала Надя. — И не о внешности я говорю. Неужели ты не понимаешь? Тогда я будто быстро шла в гору, напрягала все усилия, а после просто брела и брела по гладкой дорожке…
Когда они вышли из кино, то оба удивились, что еще совсем светло. Никак не могли привыкнуть к белым ночам, придававшим особое очарование и своеобразие их поездке. Каждый вечер удивлялись заново и сейчас не хотели уходить от этого белесого загадочного света, медлили около кино. И когда подъехали к дому, где ночевали вчера и должны были в последний раз ночевать сегодня, то тоже не торопились, долго стояли у ворот.
— А все-таки надо выспаться перед дорогой, — вздохнул Яковлев. — Надо встать пораньше, приготовить машину…
— Да, праздник кончается, — печально отозвалась Надя. — А как было хорошо…
— В будущем году, — сказал Яковлев, — я обязательно повезу Аню в Крым, я обещал…
— Аню? А кто это — Аня? — невесело пошутила Надя.
— Может быть, спишемся, и ты с нами поедешь, — не очень твердо пригласил Яковлев.
— Нет, втроем так славно уже не будет…
— Мне нравится твоя откровенность…
Они въехали в ворота, во дворе почему-то стояла еще одна машина, красная. А двое молодых людей разбирали палатку. Им помогали девушки.
И хозяйка стояла тут же, давала советы, глазела, то громко хохотала, то конфузливо прикрывала рукой щербатый рот.
— А я ваши койки сдала, — пошутила она, увидев Яковлева и Надю. — Думаю, уехали и уехали, и не вернутся…
— И деньги зажулят, — подхватил Яковлев.
Все сразу перезнакомились, разговорились, стали угощать друг друга папиросами, бутербродами. Яковлев помог молодым людям разжечь костер. Наладились варить в чугунке суп. Полевой суп, с пшеном и картошечкой, и чтобы припахивал дымом.
Яковлев суетился больше всех, резал складным ножом сало для заправки, подкладывал хворост. Надя сидела тихо, к супу почти не прикоснулась, отмахивалась от комаров. И хозяйка была тут же, охотно, взвизгивая, смеялась.
— Уважаю я лето, — говорила она, — и вас всех уважаю, постояльцев своих, с вами весело… Потом отсиживаюсь зимой в доме, всех вспоминаю, кто ночевал… Все думаю, какая у кого судьба вышла… — Она обняла Надю за плечи: — И тебя буду вспоминать, и доктора твоего…
— Он не мой, у него дома жена…
— Да, у меня дома жена. Аня. Анна Николаевна, — простодушно подтвердил Яковлев.
— У моего друга тоже дома осталась жена, — сказал один из молодых людей. И захохотал.
— Пойду-ка я спать, — Надя вдруг встала. — Спокойной ночи.
Но спать она не легла, села у раскрытого окошка и смотрела сквозь тонкие ветки молодой рябины, посаженной под окном, на двор, где догорал костер. Когда Яковлев подошел к дому, то очень удивился:
— Еще бодрствуешь? А хотела спать…
— Просто и не успела тебе сказать во всей этой суматохе. Тебе никто этого, не говорил? Ты очень похож на доктора из картины…
— Надя, ты гений!
Яковлев счастливо засмеялся.
— Тебе уже говорили? — огорчилась Надя. — Кто?
— Моя Аня… Надя, я очень рад, что и тебе так показалось… — И доктор сказал очень, очень доверительно: — Эта картина, честно тебе говорю, оставила во мне глубокий след…
— Завидую тебе, что ты такой впечатлительный! — почти закричала Надя. И, сердито поглядев на озадаченного Яковлева, захлопнула окно.
А утром она была, как обычно, ровна и спокойна и на встревоженные расспросы Яковлева ответила со смешком:
— Просто слегка позавидовала твоей Ане… Чисто, конечно, теоретически.
— Ты — искренне?
— Вполне.
Доктор напомнил:
— А говорила, что Ани еще нет и в помине.
— Но она ведь есть… — Надя произнесла это и вопросительно и утвердительно, подняв на Яковлева свои зеленоватые глаза.
Яковлев спасовал, пробормотал:
— Конечно… — И прибавил: — Жизнь есть жизнь…
— И прекрасно, и хорошо, — поторопилась успокоить его Надя. — Мне одного хочется: чтобы этот последний день был еще лучше, чем предыдущие…
— Почему последний? Может, мы еще с тобой побродим по Ленинграду, а?
Они развернули карту Ленинграда и его пригородов, уточнили маршрут.
— Я все это хочу видеть, — сказала Надя, — все интересные места, и большое озеро, и Пенаты, где жил Репин. И море. Подумай, как нам повезло, все это по пути… Ты согласен, Леша?
Доктор Яковлев на все был согласен. Он все бы сделал, лишь бы Надя была довольна. Он часто взглядывал на нее, ища на ее лице следы вчерашнего несчастного и сердитого выражения, когда она захлопнула окошко, отгородилась от него стеклянной преградой. Но Надя как будто была весела, и Яковлев тоже повеселел.
Чего только не передумал он за короткие часы летней ночи, когда ворочался с боку на бок в той пристроечке, где хозяйка отвела ему место. Впервые за эти недели его потянуло домой. Возраст сказывается, что ли? Или просто нагляделся вечером на молодых людей, разбивших палатку, на этих смешливых мускулистых парней и девушек в шортах, с сильными стройными ногами, и почувствовал себя рядом с ними не то чтобы старым, а каким-то нескладным, наивным, болтливым? Чего ради он так много шутил, суетился, даже как бы подлаживался к ним? Лучше провели бы вечер вдвоем с Надей, какая-то она была молчаливая, тихая у костра. О чем-то думала, отмахиваясь от комаров, морщилась, когда он, как бы извиняясь, слишком настойчиво объяснял, что они только товарищи.
Нет, надоело ему все это, скорее бы домой, к Ане. Аня проберет его как следует за это путешествие вдвоем с Надей, но, конечно, простит, и опять они заживут за милую душу, спокойно и размеренно. Хотя размеренной его жизнь можно назвать только условно — постоянная спешка, операции всех степеней сложности, административные хлопоты, которые он больше всего не любил. А приходится… Главный врач районной больницы — это тот козел отпущения, который во всем виноват, от которого все чего-то требуют: и больные, и медицинский персонал, и районное начальство, и, главное, родственники больных. Новая аппаратура, лекарства, перевязочные материалы, даже уголь для отопления, продукты питания — все это касается главного врача в той или иной форме. Хотел бы он знать, как там без него в больнице, не случилось ли чего чрезвычайного, пока он отсутствовал, пока раскатывал по Карельскому перешейку на своем «Москвиче».
Кстати, для «Москвича» надо будет доставать новую резину, как приедет, — это тоже нелегкое дело…
И с дочерью надо что-то предпринимать.
Девка неплохая, умная, но поклонников нет, сидит вечерами дома или ходит с матерью в кино. Ездит на электричке в город, в институт, возвращается всегда одна. «Чего это тебя никогда никто не проводит, ты не стесняйся, мы же не против, если кто к тебе зайдет. Пожалуйста, в холодильнике всегда найдется чем накормить лишнего человека». Это он, отец, сказал. А дочь ответила: «Интересно, кто это потащится провожать за город. Теперь таких рыцарей нет». Конечно, может, он, как отец, ошибается, ему-то кажется, что дочь хорошенькая — прическа то да се, наряды, руки-ноги на месте. Правда, изюминки в ней нет, но и в Ане, в ее матери, изюминки не было. Есть зато доброе сердце, энергия, честность. С другой стороны, вряд ли ему бы понравилось видеть свою дочь вот так у костра, с голыми ногами, с молодыми людьми, у которых дома жены. Ну, а если она весь век просидит одна, возле папы и мамы? Может, пусть поедет на Север или в Братск, где большая стройка? Там, в тех краях, много хороших, отважных, настоящих людей. Правда, и бродяг много… А что он может поделать, отец? Не станет же зазывать в гости холостяков, знакомить их с дочерью, сватать. Этого только недоставало. В конце концов, замужество еще не гарантия, что человек будет счастлив. Уж как Тихон был влюблен в Надю. И как преданно Надя любила Тишку. А вот, пожалуйста!.. Может, лучше жить просто, как они с Аней, без любовных драм и трагедий, без необыкновенных высоких чувств. Нельзя придавать такое уж большое значение любви. Современный человек знает еще много других чувств — долг, работа, дружба…
Дружба — прекрасная вещь. Он говорил это всегда и будет всегда повторять. И если ему не спится, если тревожат мысли, так это потому, что Надя, друг его, была вчера так печальна. А что удивительного? Он-то возвращается к семейному очагу, а Надя…
И он снова и снова взглядывал на Надю, укладывающую вещи в машину, и говорил добрым голосом:
— Вы только отдавайте распоряжения, доктор Милованова. Все будет выполнено, как вы пожелаете…
Она пожелала погулять у большого озера.
Казалось, они уже столько дней бродят по лесам и лесным опушкам, по лугам, видят небо над головой, ощущают запах хвои, а похоже, не было еще такой высокой густой синевы, как здесь, не было такого чистого запаха листьев и разнотравья, не такие шелковистые, как здесь, зеленые космы свисали с ив.
Яковлев даже остановился и закрыл глаза:
— Не просыпаться бы…
Надя с благодарностью посмотрела на него.
Она была очень тихая сегодня, очень скромная, даже волосы взбила не так высоко, как обычно.
Странно устроен человеческий глаз. Когда Яковлев встретил Надю на автобусной остановке около станции, то даже не узнал, сердце его болезненно сжалось при виде морщинок у Надиных глаз, когда она наклонилась к окошечку машины, а теперь он привык и уже не замечал морщинок, а видел ту, прежнюю, юную Надю Милованову.
Они тихонько шли по тропинке. Холмы и прогалины между холмами были покрыты свежей изумрудной травой, и каждое дерево, каждый куст красовались в полном расцвете, не тронутые зноем. Вокруг было очень тихо.
— Как хорошо, что мы заехали сюда…
— Я ведь сказал: все, что пожелаешь…
— Сегодня ты добрый…
Яковлев спросил обиженно:
— Разве я бывал недобрым с тобой, Надя? Не ожидал от вас такой черной неблагодарности, доктор Милованова, считал вас образцом справедливости.
— А я и есть справедливая.
— Да, к Тихону ты относилась даже больше чем справедливо.
Надя тронула его руку:
— Не надо о нем, хорошо?
Он извинился:
— Прости…
— Сегодня все прекрасно, все необыкновенно прекрасно, договорились?
— А сегодня и в самом деле все прекрасно.
Когда они спустились к берегу, озеро открылось им в своей нежной необъятной синеве, только мелькали на гладкой поверхности золотые вспышки, когда ветерок шевелил воду.
— Я стал ближе к природе за этот месяц, — сказал Яковлев. — Что-то новое открылось моей душе, а может, и не открылось, а очистилось, высвободилось… В войну много стояли в лесах, но тогда было не до природы… а я с детства любил лес, небо…
— Мне часто снилось, что я летаю, а тебе? — спросила Надя.
— Редко…
— Мне и теперь иногда снится. Тихон считает, — сказала Надя, хотя просила сегодня о нем не вспоминать, — что я люблю фантазировать, заноситься за облака.
— Это именно то, что мне в тебе нравилось и нравится… Черт побери, я именно люблю людей, которые умеют взлетать за облака!
— Ох, никуда я не взлетаю, какие уж там облака! — усмехнулась Надя. — Верчусь как белка в колесе и на работе, и дома… Но бывают дни, когда правда немыслимо ходить по земле… — Вот тут она и сказала впервые: — Сегодня — день счастья… Это озеро я беру себе, ладно? Оно теперь мое — навсегда…
— Бери, мне не жалко, — пошутил Яковлев. — И вот те далекие берега, и коса, которая стрелой вдается в озеро, вон где купаются, — все твое…
— И ты себе выбирай, что понравится. Я тебе подарю. Хочешь иву? Высокую?
— Хочу ту, что над самой водой.
— Бери.
Они пошли к машине, немножко стесняясь того, что расчувствовались, умеряя, приглушая шутками и иронией свою чувствительность, которая в их возрасте могла показаться манерной и смешной, если бы не была такой искренней.
Какой-то любитель фотографировал озеро, и берег, и кусты, окаймлявшие берег, он и на Яковлева с Надей нацелил фотоаппарат, как будто они были частью пейзажа. Яковлев, как мальчик, стал канючить, просить прислать снимок. Записал свой адрес, предлагал деньги на марки. Любитель пообещал.
— И ты веришь? — спросила Надя, когда они уже сидели в машине.
— Верю, — ответил Яковлев. — Я вообще верю людям. И должен сказать, не так уж часто меня обманывали. Очень бы мне хотелось иметь этот снимок. Прекрасная местность, озеро, может получиться чудесный кадр. — И добавил: — И ты на снимке…
— Ну уж…
— Нет, нет, мне очень, очень приятно, что ты на снимке вместе со мной.
— Как я буду теперь жить, — сказала Надя не то со смехом, не то с печалью. — Без тебя… без твоего «Москвича», без этих лесов…
— Не надо было тебе спасать Тишку, — тоже как будто шутя, а может, не шутя, упрекнул ее Яковлев. И повторил то, что уже сказал когда-то Ане: — Ты в него влюбилась, как скульптор в свое произведение.
Надя ответила с вызовом:
— Я не жалею об этом.
— Жалеть вообще ни о чем не следует…
— Ну, это уже фатальное отношение к действительности…
— А что? Чему быть, того не миновать.
Они проехали поселок, свернули на шоссе. Шоссе ремонтировали и расширяли, тяжелые катки утрамбовывали дорогу, пришлось объезжать.
— Не верится, что здесь так близко была линия фронта, — сказала Надя, — не верится, что была война. Но мы-то помним, Леша… — Она поколебалась: — Как бы там ни случилось потом, но разве я могу забыть, что Тихона встретила на войне? Или что служила вместе с тобой. Это что-то такое большое, больше, чем братство, родство, чем просто дружба, это — особая близость.
Яковлев хотел ответить, что не мешало бы и Тихону про это помнить, но сдержался. Только вздохнул. Она догадалась.
— Не надо его осуждать. Ну, влюбился, и что? Был бы только счастлив… — И, как будто передачу переключила, стала говорить о другом — какой чудный день сегодня, как им интересно сегодня… Ну вот они и приехали, вот еще одно озеро. Глубокое, темное, почти черное.
— Нет, мне хватит одного…
— Это более бурное. Смотри, какая волна.
— Раз выбрала, то, значит, выбрала.
Ветер совсем растрепал ее прическу. Она руками придержала волосы, как будто схватилась за голову. Но когда Яковлев посмотрел на нее, встревоженный, Надя улыбнулась:
— Спасибо, Леша, что прислал телеграмму. Спасибо тебе за все опушки и кустики, за синюю эту зыбь, за ясный твой характер, за доброту…
Яковлев смутился:
— Мои подчиненные вовсе не в восторге от моего характера.
— А больные?
— Больные вроде любят, но это такой народ — то любят, то обижаются. Я же не бог, исцелять одним прикосновением перстов не умею… И все-таки жаль, Надюша, что ты забросила хирургию.
— Что уж теперь говорить! — Она снова попросила: — Ты не критикуй меня сегодня, доктор Яковлев. Поверь, никто не критикует меня так резко, как я сама.
— Есть не критиковать. Двинулись?
— Пора! Прощай, синее озеро!
И снова замелькали перед машиной обочины шоссе. Из окна встречного автобуса помахала им ладошкой маленькая девочка. Промчался велосипедист в ярком картузике. Прокатил на мотоцикле милиционер. Девушка в резиновых сапогах вела куда-то понурого коня. Качались, как на качелях, на телеграфных проводах сороки, чистили клювами свои белые жилеты. И снова леса, леса, дубравы, березовые рощи, деревни, маленькие городки, шлагбаумы, переезды…
Справа тянулось побережье, слева карабкались в гору поселки. Море слепило. Меж валунов и камней билась у берега, рассыпаясь пеной, желтая, янтарная на солнце вода. Оставив машину, они то спускались к самой воде, окунали руки в холодную пену, то карабкались обратно по горячему песку, цепляясь за узловатые корни сосен, к разогретому асфальту шоссе, где стоял «Москвичок». Выпили кофе в стеклянном кубике прямо над морем, пообедали в роскошном ресторане с изображением оленя на фасаде, сидели там на деревянных скамьях с высокими спинками, робея перед вальяжным безразличным официантом в вишневой нейлоновой форменной рубашке с бантиком-бабочкой. Яковлев раскошелился: заказал салат, оленину, мороженое. Вина выпить не мог — за рулем. Подошел метрдотель, белокурый, элегантный, в сером пиджаке с разрезами, любезно спросил: «Вас уже обслуживают?» Яковлев еще больше растерялся, а Надя шепнула:
— Я ведь предлагала, пойдем лучше в кафетерий, там, на первом этаже, гораздо проще…
— Но почему? Приятно посидеть в таком фешенебельном ресторане… — Яковлев сказал официанту: — Вот в войну наш госпиталь стоял на перешейке, приехали взглянуть. Мы — врачи…
И официант посоветовал, расчувствовавшись:
— На кухне, кажется, еще есть миноги, исключительно изысканная закуска. Рекомендую.
— Раз рекомендуете, значит, возьмем. Ты, Надя, не против? — А когда официант ушел за миногами, покачал головой: — Это не очень остро, не знаешь? Ох, если бы Аня видела…
Надя отозвалась, скорее по привычке:
— Но ведь Ани еще нет, Аня вон когда появится, через целую жизнь.
Яковлев, возбужденный, похлопал Надю по руке:
— Ты славная, Наденька Милованова. Такая же славная, симпатичная и ароматная, как твои ландыши…
— Они давно отцвели…
Когда подали счет, Яковлев покачал головой:
— Хм, кажется, он нас все-таки обсчитал, этот официант, несмотря на уважение к нашему фронтовому прошлому.
— Тебя ведь не обманывают, — засмеялась Надя.
— Я сказал — не часто. Но я не жалею, миноги — это все-таки вещь. Тем более сегодня…
По круто подымающейся дороге они свернули с шоссе налево, чтобы посмотреть дачный поселок Комарово, как им посоветовала дачница, пожилая смуглая женщина, повязанная от солнца платком, которую они подвезли на машине. Она возвращалась с прогулки. И показала им дачи всех знаменитостей, все дома отдыха и детские сады, просто живописные места. Потом, проникнувшись к ним симпатией, предложила:
— А хотите, я вас провожу на кладбище, на могилу Анны Ахматовой?
— Ахматовой? — переспросил Яковлев.
— Ну да…
Была вторая половина дня, солнце слегка померкло, с тенистой стороны узкого незамощенного проселка уже веяло холодком. Улочки были пустынные, зеленые, тихие, за изгородями склонялись к грядкам старушки, пололи клубнику. На спортивной площадке играли в волейбол, но как-то без крика, чинно, мяч взлетал и опускался бесшумно. Проехали мимо почты, миновали переезд, шоссе. Стало еще тише, еще проще, зеленее. Подъехали к сельскому кладбищу. Яковлеву вспомнилось кладбище в той деревне, где была похоронена бабушка, он был очень привязан к бабушке, горевал, когда она умерла, часто бегал на могилу…
— Но почему же ее похоронили здесь? — удивился он.
— Она любила этот уголок и хотела быть похороненной на сельском кладбище, в этом поселке, где у нее была своя крошечная дачка…
Нашли могилу. На могиле стоял резной, как из чугунного кружева сделанный, крест с округлыми краями, чуть тронутый ржавчиной; на перекладине креста, как живой, сидел лепной голубь — словно прилетел и опустился отдохнуть. А рядом с могильным холмиком, убранным полевыми цветами, — стена из светлого камня, и на стене скульптурный портрет — тонкий горделивый женский профиль.
— Какое удивительное лицо, — сказала Надя.
— Да, в молодости была красавицей. Время щадило ее, она и в старости была прекрасна…
Женщина низко поклонилась могиле. Надя тоже наклонила голову.
Когда они снова выехали на автостраду, Надя сказала:
— Не умею выразить почему, не нахожу нужных слов, но для меня, Леша, было просто необходимо сегодня, когда мы расстаемся, здесь побывать.
— Вернусь домой — велю дочери достать мне книгу Ахматовой. А может, у нее и есть. Буду читать стихи и вспоминать этот день и кладбище… — Он помолчал и, только когда Надя какое-то время спустя потянулась к путеводителю, спросил:
— Что-нибудь еще?
— Пенаты, имение художника Репина. Но боюсь, что уже закрыто, темнеет. Да и не хочется мне больше никуда…
Но все-таки они вошли в калитку, когда поравнялись с Пенатами.
Дом был закрыт. Они обошли вокруг несуразного здания с пристройками и башенками, заглянули в окна застекленной террасы, где стояли мраморные бюсты, побродили по странному саду с водоемчиками, мостками, беседками. Из трубы лилась чуть припахивающая болотцем вода, на цепочке висел ковшик. Этой водой из ковшика Репин любил угощать своих гостей.
— Надо и нам напиться… — сказала Надя.
— Если ты, как санитарный врач, разрешаешь…
— Бог с ними, с правилами санитарии и гигиены…
Они попили воды.
Оба уже устали от пережитого, от увиденного, от дороги. Оба понимали, что и дорога, и отпуск, и их встреча подходят к концу.
— А все-таки, — сказал Яковлев после раздумья, — ты права: сегодня замечательный день…
Они въехали в Ленинград, нашли гостиницу. Утром встали рано. Ездили по городу, по набережным, заходили в музеи — страшились скорой разлуки, торопились наговориться напоследок. Зашли в кафе и обедали под такую громкую музыку, что нельзя было ни услышать друг друга, ни помолчать в тишине.
Когда музыка на мгновение стихла, Яковлев спросил, вчитываясь в меню:
— Что это такое — профитроли? Ты хочешь?
— Это такие шарики из теста, — ответила печальная Надя. — Профитроли так профитроли, какая разница… У нас так мало осталось времени…
— Неужели тебе обязательно уезжать именно сегодня? Почему? — Он рассердился на женщину в белом кокошнике, торопившую его с заказом. — Да, на первое бульон, что хотите, в общем… Надя, я тебя прошу… — Он опять не понял: — Почему это одну порцию на двоих? Две… две порции. — И пальцами показал, что две.
Официантка ушла.
— А я согласна одну порцию на двоих. У нас с тобой было бы хоть что-то принадлежащее нам обоим…
— А озеро? — с вымученной улыбкой сказал Яковлев. Музыка из громкоговорителя, опять грянула на полную мощность. — Можешь подарить мне половину озера! — заорал Яковлев. — Озеро и профитроли — это ж полный джентльменский набор…
— Не паясничай, — попросила Надя. — Ты купил домашним подарки? Будешь покупать?
— А ты?
Они съели то, что им подали, бульон и профитроли, не заметив еды, вышли из кафе и пошли в Пассаж. Надя выбрала своим детям шариковые карандаши. Яковлев тоже купил карандаш для дочери.
— А для Ани? Ты не стесняйся, покупай…
— Куплю завтра, — решил Яковлев. — Я вообще не умею делать покупки.
У прилавка стояла длинная очередь. Надя разузнала, что здесь продают эластичные безразмерные чулки отличного качества. Они встали в очередь, и, пока медленно продвигались вдоль прилавка к продавщице, Яковлев бормотал:
— Профитроли — какое странное название!..
— Ну, что ты к ним привязался, к этим профитролям? Ты чем-нибудь огорчен?
Он отвернулся. Надя поглядела на него сбоку:
— А ты действительно очень походишь на киноартиста, что играет хирурга.
Она стала выбирать чулки. А Яковлеву сказала:
— Ты, наверное, тоже возьмешь для своих женщин. Такие чулки редко бывают в продаже.
— Нет, мне не надо.
— Как хочешь…
Но когда они вышли из магазина, Надя сказала:
— Я еще за то тебе благодарна, что ты такой деликатный…
Он отвез ее на вокзал, посадил в поезд, но ждать, пока поезд отойдет, не стал. Испугался этих последних минут. Надя не удерживала. Помахала рукой, сказала:
— Иди…
Ну, вот он свободен, один. Может стоять на набережной хоть до утра, никому нет дела, может утирать платком слезы — всем безразлично. Если кто и взглянет, проходя, подумает: от ветра.
Холодом веет от Невы, от ее «державного теченья». И только там, далеко, на том берегу, светятся на закатывающемся солнце ростральные колонны, и небо над ними розовое и теплое. Розовые веселые отсветы ложатся на вороненую сталь реки.
На душе у Яковлева тяжело. «Неохота расставаться с Ленинградом, с привольем, со свободой», — уговаривает он самого себя. Надо торопиться, времени на обратный путь в обрез. Но ехать не хочется.
По реке проплывает пароходик, на нем негромко играет радио. Они с Надей хотели покататься на таком вот пароходике или на быстрой «Ракете», — не удалось.
Яковлев понимает, что надо взбодриться. Хорошо бы пойти в ресторан, в тепло, в уют, заказать рюмку хорошего коньяку. Но денег мало. Все-таки он должен что-нибудь привезти Ане — конфетку, цветочек, все равно. Конечно, лучше всего были бы чулки, но он не мог покупать чулки Ане, стоя с Надей в очереди. Что-то в этом было некрасивое. И Наде было бы неприятно.
Интересно, заметит ли Аня, как он изменился? Конечно, он тот самый доктор Яковлев, Алексей Михайлович, что и месяц назад, но в нем развязались какие-то силы. Он и сам еще не знает какие, но проросли ростки, проклюнулись всходы, как прорастает ранней весной намоченный овес или пшеница. Аня часто проращивает для него зерна, знает, как он любит такую щеточку зеленых, тонюсеньких, как иголочки, стебельков. Иногда он даже красит яйца и кладет в эту зелень, как делали когда-то дома на пасху. «Я атеистка, — говорит Аня, — но не могу не признать, что пасха — красивый праздник».
А ему, Яковлеву, все равно. Он не любит праздники. Люди много едят и много пьют, а там, где пьют, все случается — и драки, и поножовщина, «скорая» везет и везет в больницу пострадавших. И пока другие ликуют и празднуют, доктор Яковлев, проклиная все на свете, стоит у операционного стола и вот этими руками, что так бессильно и бессмысленно лежат сейчас на шершавом гранитном парапете, твердо держит хирургические инструменты.
Мимо проходят люди, русские и иностранцы. Летом в Ленинграде иностранных туристов полно. Останавливаются, почти растворяясь в сумерках, негры, блестят белыми зубами, сверкают голубыми белками ярких глаз. Стонут, восхищаясь, пожилые американки, такие слова, как «вэри гуд», «бьютифул», «вандэфул», доктор понимает. Морячки́ ведут под руку девушек. Белокурый парень проходит в обнимку с черненькой девочкой. Студенты несут гитару, напевают знакомый мотив. Ну да, «Бригантина», что же им еще петь?
Многим современные песни не нравятся. Ане, например. Яковлев их любит, что-то отзывается в его душе на это «монотонное завывание», как смеется Аня. Он любит молодых, до смешного любит их фантазии и причуды, их нигилизм, их моды и вкус. Дочери внушает: не отставай, иди в ногу с веком. Аню это возмущает.
Он заставляет себя думать об Ане, о доме, о той жизни, которую месяц назад оставил в своей квартире, но сердце болит и болит. Не физической болью, как то должен понимать представитель хирургии, самой радикальной и трезвой, точной отрасли медицины, а сосет от тоски, ноет именно так, как наши бабушки говорили — «душа болит, сердце разрывается, я погибаю от тоски».
Тьфу! Этого еще недоставало.
Доктор Яковлев со своей лысеющей макушкой погибает от тоски — прелестная картинка, не правда ли?
«Но я действительно погибаю», — думает Яковлев.
Он переходит через широкое полотно набережной и в задумчивости чуть не попадает под такси. Шофер, открывая дверцу, кричит с презрением: «Возьми глаза в руки! Ты что, из глухой провинции, в морг торопишься?» Нет, он не торопится в морг. Хорошо, он возьмет глаза в руки. Но как взять в руки свою волю, свое настроение — кто скажет? Он садится на скамеечку недалеко от памятника Петру, снова и снова читает: «Петру Первому — Екатерина Вторая». Как лаконично и выразительно!
Надя уже, должно быть, дома, приехала, может, готовит ужин, рассказывает детям о поездке, о том, что видела деревню, где размещался их госпиталь. Мало ли о чем! А может, подошла к окну, смотрит вот в это нетемнеющее небо, вспоминает… Она приглашала: «Поедем к нам, сможешь встретиться со своим другом…» — «Ты хочешь, чтобы я на него воздействовал?» — «Нет, — она это искренне произнесла, — никто не может нам ничем помочь. У него это серьезно. Да и поздно уже…» — «Тогда я не поеду. Не хочу его видеть».
«У Тихона это серьезно, видите ли, — возмущался он тогда. — Их сиятельство Тихон Стрельцов влюбился…» Ну, а почему же теперь он, Яковлев, больше не возмущается?
И вдруг он понимает, что сам влюблен. Не влюблен, это не то слово. Он любил Надю — так кажется ему теперь — всегда, еще тогда, в госпитале, когда она только появилась, наивная дурочка, и представилась: «Военврач Милованова». Рыженькая, худенькая, с тонкими ножками, все вскакивала, вытягивалась, хотела выглядеть «военной». Он осадил ее:
— Вы ведь не кавалерист, доктор Милованова, не щелкайте каблуками.
Она ответила, как девочка отвечает папе:
— Я больше не буду.
Такая дуреха!
Но вела себя смело, работала безотказно и скальпель крепко держала своей маленькой ручкой — ни жалоб, ни обмороков, хотя над каждым раненым тряслась, приговаривала «потерпите, дорогой», плакала при летальном исходе. От этого он не мог ее отучить. Правда, и не очень старался. Она тогда угадала, когда цветы стала носить, что он нуждается в нежности…
Его цыганка не была нежной. Что соединило их тогда, кроме физиологии? Пела цыганка превосходно, ох как пела!.. Все-таки зажигательная была женщина, больше он таких никогда не встречал, слава богу… Стеснялся, стыдился он тогда этой связи, не только потому, что она вроде его подчиненной числилась. Мог ведь он и жениться на ней, свободный был, холостой. Но понимал, что это не любовь.
А вот того, что нежность его к Наде перерастает в любовь, почему-то не понял. Ушел с дороги, уступил Тихону, радовался, что никто и ничто не отвлекает его от дела.
И вот наступила расплата.
Теперь, когда они с Надей почти старые люди, когда дома Аня и взрослая дочь и все его дела, жизнь, работа — решительно все связано с Аней, и даже «Москвича» он купил потому, что оба копили средства на эту машину, — он встретился с Надей.
Когда ехал в отпуск, то думал о Тихоне, а не о ней. Надю считал как бы приложением к их мужской дружбе, к их приятельским отношениям с Тихоном. И нате вам, вдруг…
Только теперь, когда Надя уехала со своими шариковыми карандашами и безразмерными чулками, когда он остался один в этом необыкновенном городе с его мостами и решетками, соборами, дворцами и адмиралтейской иглой, с его реками — Мойкой, Фонтанкой, с Невой большой и средней и просто с Невой, со всеми большими и малыми Невками, — он понял, как тесно связало, скрутило его с Надей в один тесный узел путешествие, которое они начали как два фронтовых товарища. Он ведь об этом заявлял на всех перекрестках, всем встречным и поперечным, всем дежурным в гостиницах и всем квартирным хозяйкам, чтобы, боже упаси, не подумали чего плохого, не упрекнули бы доктора Яковлева в «аморалке».
Как он обманул самого себя, как обманул Надю, выдавая себя за доброго друга! Нет, то, что он испытывает к Наде, вовсе не дружба. А что же?
Ему никто не ответил: ни прохожие, ни Петр. И он сам не мог ответить на этот вырвавшийся, как крик, вопрос.
«Неужели это любовь?» — робко подумал он.
Ощущение счастья нахлынуло и тут же потонуло в сомнениях — какое же это счастье? Это беда, беда для него, для Ани. И для Нади, пожалуй, тоже беда… И он все, все должен сделать, чтобы избавить близких ему людей от этой неожиданной беды. Он должен на себя взвалить всю тяжесть.
Чуть стемнело, конь под Петром, пронзая вздыбленными копытами сгустившуюся призрачную белизну, упрямо скакал, неся на себе всадника, давшего жизнь городу, где провел сегодня свой последний день с Надей доктор Яковлев.
Надо было все-таки идти, найти по дороге какую-нибудь закусочную, съесть порцию сосисок и выпить кофе, расплатиться на автомобильной стоянке, взять свою машину, заправиться и ехать. А ехать не хотелось…
Он встал, прошелся, снова подошел к памятнику.
— Вот какие дела, какие пирожки, Петр Алексеевич, — сказал он царю. И вздохнул, снова не получив ответа. А что можно было ему ответить? История банальная и старая, как мир. Она была бы еще более банальной, если бы так близко, так остро не касалась его самого.
И все-таки он был счастлив. Несмотря ни на что, вопреки всему, он был счастлив…
Яковлев ехал к пункту Б хмурый, невыспавшийся. Свернул в полночь с шоссе, сделал привал у пруда, развел костер. Все напоминало о Наде. Только поднялись вверх струйки пламени, а он уже думал о том костре на Карельском перешейке, где болтал с молодыми людьми, а Надя безмолвствовала. Дурак, дурак, ну что он молол, трепал языком, почему не увел от костра Надю, не сказал ей душевных слов, не выспросил, как она к нему относится? Теперь сидит один на берегу пруда, томится…
Небо было затянуто тучами, вот-вот соберется дождик. Как будто даже природа отвернулась от Яковлева. Он залез в машину, скорчился там на заднем сиденье, вспомнил про мишку. Мишка уныло болтался на своей ленточке, тоже, казалось, скучал. «Нету нашей Нади», — печально сказал Яковлев, понимая, что ни с кем, кроме мишки, не сможет откровенно поговорить о Наде. А говорить придется, Аня ведь спросит, а она проницательная, она сразу заметит, если он очень уж будет отмалчиваться. А что он может сказать? Клянусь, близости никакой не было, не целовались даже, руку один раз пожал — и все. А в душе что делается? Аня подумает: лучше бы уж ты поцеловался, только не любил бы ее так отчаянно.
А ведь еще вчера он этого не знал. Понял, когда остался один. И что теперь ему делать — не ясно…
А дождь все-таки припустил. То только накрапывало, потом часто-часто застучало по верху машины, как из автомата, и так ему неприютно было под открытым небом, под дождем и ветром!
Надя не просила его ни писать, ни телеграфировать, но это ведь само собой понятно, что надо написать. А что, что? «Надя, я в тебя влюбился». — «Где же ты был раньше, почему не влюблялся, тяжелодум?» — «Вот и не влюблялся, а теперь влюбился. Я погибаю, Надя».
Он все-таки задремал. Проснулся, чуть стало светать, чуть побледнели на востоке небеса. Утро было без солнца, без тепла, хотя лето в самом разгаре. Или ему было холодно оттого, что не выспался, сердился на себя?
Так он и ехал.
Удача изменила ему: закапризничал мотор. Он вылезал под дождь, поднимал капот, снимал карбюратор, дул, выдувал невидимые соринки. Надо было дотянуть до технической станции, а это ведь еще вон сколько ехать. Почти до середины пути между пунктами А и Б. Сколько ездили с Надей, и не было ни одной поломки, а тут впервые за все время спустил баллон. Он сменил резину, весь перепачкался в грязи.
Езда в машине больше не доставляла ему удовольствия. Прелесть новизны была утрачена. И березки на обочинах не умиляли, и водители встречных машин не казались братьями, рыцарями того же ордена, что и он… Казалось, никогда он не доедет до станции.
Надя была теперь уже далеко-далеко, но он все равно ощущал ее присутствие. Вот какой сентиментальный доктор!.. Аня всегда говорила, что он очень сентиментальный. Ох, Аня, Аня, вот как она обернулась, моя сентиментальность…
В каком-то населенном пункте он зашел на почту, купил телеграфный бланк, написал адрес, написал кому, потом скомкал бланк и выбросил.
— Гражданин, — строго сказала девушка из окошечка, — на вид культурный, а бросаете на пол.
— Извините, — Яковлев поднял смятый комок.
— Если каждый будет бросать на пол… — неумолимо продолжала девушка.
Он не стал слушать, что произойдет, если каждый будет бросать на пол. А разве он бросил бы, если б знал, что написать?
И все-таки он добрался до станции технического обслуживания. Там скопилось множество запыленных, забрызганных грязью машин с привязанной на крышах поклажей. Толпились женщины и дети, разминались, пока отцы и мужья добивались помощи у механика. Под полотняным навесом работал буфет. От заправочной колонки пронзительно пахло бензином и машинным маслом. Сигналили, подъезжая и отъезжая, автомобили.
Яковлев не сразу разобрался, куда и к кому идти.
Работал только один механик, он торопился, разговаривал надменно, неохотно, пугал:
— Я вообще сейчас закрываю на обед.
— Друг, — обратился к нему Яковлев доверчиво, — терплю бедствие…
— Что у вас? — Механик взглянул. — О, здесь деталь надо менять.
— Меняй, голубчик, согласен.
Механик послал его на склад, на складе, когда он протолкался к учетчице, нужной детали не оказалось. Растерянный Яковлев всем говорил про свою беду, пока какой-то пассажир с острой бородой, похожий на профессора, не посоветовал:
— Деталь дефицитная, вы поклонитесь механику.
— Я кланялся.
— Вы поклонитесь рублем.
Яковлев покраснел.
Но рубля оказалось мало, механик запросил трояк. А трояка у доктора уже не набиралось, надо было еще подлить горючего.
Пока он стоял, сконфуженный, соображая, что делать, механик закричал на толпу автомобилистов:
— Закрываю, закрываю, все, шабаш, ко мне дружок приехал…
И ушел, сопровождаемый почтительными заискивающими взглядами.
Человек с профессорской бородой сказал:
— Я по этой трассе часто езжу. Форменное бедствие, когда этот артист приезжает. Механик ради него отцом-матерью пожертвует. Теперь будем загорать.
Яковлев не прислушивался, не заинтересовался, что за артист. Прошло часа два, он основательно вымок, тщетно пытаясь сторговать у кого-нибудь из автомобилистов эту проклятую деталь. Он нашел, как ему показалось, удачный выход из положения: заплатит механику за деталь, а поставит сам. Не боги горшки обжигают.
Мастерская все еще была закрыта.
— В буфете он, обедает, — объяснила нарядная учетчица в блестящем платье с большим вырезом, отрываясь от зеркальца, в которое рассматривала свои пухлые губы.
Яковлев чуть ли не десять раз говорил ей сегодня, как плохо организован труд на станции и как по-барски пренебрежительно относятся здесь к клиентам.
— Если хотите знать, — сказала она доктору почти душевно, настолько он ей примелькался, своим человеком стал, — механик имеет полное право и вовсе не заступать: сменщик болеет, он давно вкалывает без выходных, только из уважения к людям, а вы еще недовольны… Понимаете, какая ситуация? Тем более у него такой гость. — Она громко вздохнула. — Такая знаменитость! Может пригласить любую женщину, ни один генерал не откажется с ним вместе пообедать, а нате же, не может обойтись без нашего Димки. Буквально все секреты и переживания ему доверяет. Клянусь, я сама один раз своими ушами подслушала…
Яковлев, как ни тошно ему было, все-таки ухмыльнулся:
— Подслушивать некрасиво.
— А что? Искусство принадлежит всему народу, я так считаю…
Потеряв терпение, Яковлев пошел под парусиновый навес, где помещался буфет, нашел столик, за которым механик и, его гость ели борщ. Легкий пар стоял над тарелками.
— Простите…
Механик скользнул взглядом и отвернулся, как будто на пустое место посмотрел, а собеседнику сказал горячо:
— Сережа, да я для тебя — ты только мигни, — да я ему кости переломаю, этому умнику, если что…
— При чем тут кости… просто я еще не вошел в образ, я… я хочу добиться полной органичности.
Яковлев снова повторил, уже более настойчиво:
— Простите…
О господи! Он увидел знакомое лицо, но не мог сразу сообразить, кто это. Оперировал он этого человека? В институте с ним учился? Сталкивался на войне? Слишком молод. Ой, да это же…
Он ничего не мог с собой поделать, не управлял больше собой, улыбка поползла по лицу. Яковлев шагнул ближе. Какой случай! Сказать этому человеку: «Я вас благодарю, спасибо… так сыграть хирурга, как вы… так передать высокий дух нашей профессии…»
Артист нервно поежился.
— Вы что? — сухо спросил он. — Вы ко мне? Автограф, наверно? Автографов, извините, я не даю, считаю глупым. Ах, вы к нему…
Механик нахмурился:
— Я же вам сказал — трояк, а вы чигирничали. Ну что, не нашли дешевле, ко мне вернулись?
Артист поддержал его.
— Вы хотели получить даром? — насмешливо спросил он.
— Да я… почему даром… так обстоятельства сложились, что я…
— Теперь я занятый, — торжествуя, сказал механик. — Вы же видите, что я с человеком занятый, а лезете, не даете покушать…
Яковлев стал объяснять, что очень торопится, он только возьмет деталь, а поставит сам. Погода испортилась, а ему еще ехать и ехать.
— Да дайте же рабочему человеку поесть спокойно, как вам не стыдно! — опять вмешался артист, досадуя, что мешают поговорить.
Яковлев совсем растерялся. Он стоял в своем насквозь промокшем старом плаще, с грязными руками, испачканными машинным маслом, как жалкий попрошайка. Это он-то, который чуть ли не молился на этого артиста и хотел писать ему письмо! Он, который всего несколько дней назад смотрел, восторгаясь, вместе с Надей фильм, где артист играл военного врача-хирурга, такого, каким был в войну сам Яковлев! Что же это такое?! Должно быть, лицо Яковлева отразило такую силу страдания и обиды, что механик смягчился:
— Ладно, пойду отпущу ему эту деталь, все равно не отстанет…
— Нет, Дима, принципиально!.. — возразил артист. — Имеешь ты право съесть борщ, пока он горячий?
— Я подожду, — махнул рукой Яковлев, сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего.
Отходя, он слышал, как механик твердит:
— Не позволяй наступать себе на ногу, требуй чуткости, Серега. Они что, забыли, кто ты такой? Да за тебя простые люди горой стоят. Ты же наш, народный, свой, никому не сыграть рабочего человека, как тебе…
— Или — или… Если эта роль не получится, я брошу кино… — грустно сказал артист. — Понимаешь, Димка, нет искры́, не получается зажигание…
Тон был такой горестный, что Яковлев рванулся еще раз подойти, вернуться, может, удастся все-таки разговориться, но Димка по-своему истолковал его движение.
— Черт с ним… все равно на нервы действует, когда стоят над душой… Ты меня, Серега, извини… один момент…
Яковлев, сияя, сказал:
— Очень рад был встретить… Давно мечтал…
Артист произнес укоризненно, осуждающе:
— Чудовищно, как мы мало уважаем рабочего человека! Теперь будет по вашей милости есть холодный обед…
Яковлеву вспомнились все операции, которые он делал, все его ненормированные рабочие дни, все ночи, что он не уходил из больницы, просиживая у тяжелобольных, а он ведь «трояков» не брал и Аню приучил не брать подарков и подношений, в три шеи гнать, если несут на дом какие-то хрустальные вазочки, подстаканники с выгравированными надписями или коробки конфет, перевязанные лентами.
Вся его трудовая, самоотверженная жизнь пронеслась перед ним за одно мгновение, и он снова увидел себя, непрезентабельного, немолодого, ничем не примечательного, как бы со стороны — такого, каким видел его артист: длинный немодный плащ, намокшие ботинки, линялая ковбойка с оторванной у воротника пуговицей, которую он надел, чтобы не застирывать в дороге хорошие рубахи.
Красивое, правда, не такое красивое и не такое мужественное, каким оно выглядело на экране, лицо артиста показалось Яковлеву холодным и высокомерным. Никто и ничто не могло бы заставить его теперь поверить, что артист на грани отчаяния и приехал сюда за поддержкой. Его страстью были автомобили, на этом они сошлись и сдружились с механиком. Димка гордился этой дружбой, а артист нуждался в беззаветной, бескорыстной, слепой привязанности.
Ему было плохо, ему было очень плохо, не ладилось с новой ролью, и он нуждался в том, кто безоговорочно верит в его талант.
Плохо было с новой ролью! До этого он играл молодых, теперь, с возрастом, надо было заново находить себя. И осложнились отношения с женщиной, на которой он не хотел жениться, не хотел уводить ее от мужа и связывать себя, но которую боялся потерять, если будет слишком уж тянуть.
Артист заехал на станцию потому, что Димка умел слушать, возмущаться и сочувствовать, пылко и искренне сопереживать. Всем другим приятелям по театру и кино, с которыми можно весело или в заумных рассуждениях об искусстве провести время, было, в сущности, мало дела до его тревог. Они теперь, может, даже радовались, что у него неуспех. Он страдал оттого, что одинок, как ему казалось, а он и был теперь одинок, как все люди, когда им тяжело и нужно сделать окончательный выбор. Так одинок был сейчас и Яковлев с его внезапно нахлынувшей любовью, с сожалением о том, что подходит старость, а он, Яковлев, что-то важное, большое, значительное в жизни упустил…
Яковлев пристально смотрел на артиста, стараясь вложить в этот взгляд насмешливое презрение, досаду, обиду, даже горечь, но судьба не одарила его актерским даром выразительности. Яковлев вспомнил, как в спектакле МХАТа, в пьесе «Дядя Ваня», насмешливо кланяется Борис Ливанов в роли доктора Астрова. И, вспомнив, тоже сложил руки на груди и поклонился. И еще больше рассердился на себя за то, что эффекта не получилось.
Резко повернувшись, он пошел вслед за механиком.
Но артист, видимо, что-то почувствовал.
— Вы, кажется, обиделись? Что это вы? — обеспокоенно спросил он.
Но Яковлев уже не слышал. Не хотел слышать.
МУЖ И ЖЕНА Рассказ
Чуть скосив подведенные глаза, гардеробщица Ася следила, как Владимир Павлович вытаскивает из спортивной сумки свертки и банки с яркими этикетками. Снимает плащ. Достает из кармашка расческу. Кепки Владимир Павлович не носил, осенний ветер сбил и растрепал его густые русые волосы.
Ася протянула руки к жесткому плащу. Сверкнул браслет на запястье, звякнули бусы на смуглой, худой, морщинистой шее.
— Вы очень заботливый муж.
Владимир Павлович нахмурился.
— А что? — оживленно заговорила Ася. — Думаете, не бывает, что выписывается семейная больная, чья-то законная жена, а никто не встречает?.. — Холодность Владимира Павловича все-таки подействовала, Ася оборвала: — Ну, чего стоите? Номерок? Не надо вам номерка. Идите…
Он толкнул дверь с примелькавшейся надписью: «Хирургическое отделение. Прием от… до…» — и пошел, стараясь ступать полегче, чтобы ботинки не стучали по кафельному полу широкого коридора. Все тут было ему знакомо: белые двери, номера палат, столик старшей сестры. Шкаф с медикаментами. Телефон. Чахлая китайская роза на высокой подставке, с шорохом роняющая мелкие засохшие листочки. Высокие глянцевитые фикусы. Бачок с водой. Кресла в чехлах. Он знал, сколько шагов из конца в конец, знал запах лекарств, запах беды.
До операции Тоня лежала в огромной палате, в самой глубине. Он на цыпочках шел, бывало, мимо кроватей, стараясь ни на кого не глядеть, а все равно видел бледных больных женщин, бесстрастно провожавших его взглядами. Он сутулился, сжимался, как бы стараясь занять меньше места, боялся зацепиться за тумбочку или за стул, стоявший на дороге, и еще больше терялся, оттого что и у Тони тоже был бесстрастный, отрешенный, пугавший его своей отрешенностью взгляд.
Теперь Тоня лежала одна в маленькой, высокой, очень белой комнате. Вторая койка пустовала. Голые стены казались заиндевевшими, холодными. А тут еще за окошком порывисто гнулось растрепанное дерево, прижимая к стеклу ветки с поредевшими листьями. На карнизе, нахохлившись, зябли и скучали голуби.
Владимир Павлович поцеловал жену.
— Вид у тебя получше, чем вчера…
А у самого сердце разрывалось — такой слабой казалась Тоня, такие бескровные были у нее губы.
— Сима Соломоновна обещается завтра показать меня профессору. Ты обедал?
Он смущенно кивнул. Всего он стыдился теперь: что широкоплечий и сильный, что приходит и снова возвращается туда, где живут, работают и едят здоровые люди. Стыдился, что обедал один, без нее, в их комнате, за их столом, покрытым клеенкой. Может, казалось ему, Тоня думает в эту минуту, что не сидеть уж им вместе за этим покрытым зеленой клеенкой столом. И сказал как мог беспечнее:
— Придешь домой, первым делом сваришь мне борщ, как ты умеешь, согласна?
Он вынул из целлофановой бумажки две розы, стал пристраивать их, накалывая пальцы о шипы, в стакан с водой.
— Я думала, розы уже отцвели. Где ты такую прелесть достал?
— Кто ищет, тот найдет… — И так Владимиру Павловичу трудно было казаться веселым, что он отвернулся.
— Сядь, я не вижу тебя…
Он послушно сел.
— Зима скоро. Веточке шубку надо, — сказала Тоня.
— Вот выпишешься…
— Дорогую не покупай, растет девочка…
Тоня вдруг посмотрела мужу в глаза, будто хотела в них что-то прочесть. Владимир Павлович нагнул голову и, ища себе дело, стал укладывать в тумбочку то, что принес, — компот, печенье, плавленные сырки.
— Зачем опять натащил? Для чего? Для чего тратишься? — почти строго сказала Тоня. — Сам вон какой худой стал…
В палату, как в танце, вбежала, влетела туго завернутая в халатик, перетянутый пояском, молоденькая, тоненькая сестра. Тоня пожаловалась:
— Вот хоть вы ему скажите, Галочка, милая, нету у меня аппетита. А он носит…
Ловко откалывая кончик ампулы и орудуя шприцем, сестра ответила:
— Заботится о вас, вот и носит. Любит… — И покосилась на цветы: — Ой, какие розы!
Тоня высвободила руку, темноватую у ладони и белую у плеча. Когда Владимир Павлович посмотрел на эту теплую, нежную белизну, что-то всколыхнулось в нем, заныло и защемило. Галочка вытерла иглу, протерла место укола ваткой и спустила рукав. Упорхнула, легонькая и быстрая, унося на лотке комочек ватки с каплей алой Тониной крови.
Тоня сказала тихо:
— Я думала, ничуть ты меня уже не любишь.
Позже Владимир Павлович сидел на лестничной площадке на деревянной высокой скамье. Вышел покурить. Так и сказал жене. Когда становилось совсем невмоготу, он выходил курить. И часто сидел с незажженной папиросой или вдруг спохватывался, что папироса догорела, пепел падает на колени, и думал о том, что вот так же распадается и рассыпается вся его жизнь. Когда жена расспрашивала про Веточку, он бодрился: мол, ей очень хорошо со мной, ты ее баловала, а я всегда мечтал воспитывать ее, как парня, закалять. Все это верно, он действительно хотел воспитать Ветку, как парня, как мальчишку, но девочка оставалась девочкой, была болтлива и любопытна, тосковала о матери, часто плакала, обижалась, и у нее были косички и банты из скользкой капроновой ленты, которая не поддавалась даже его ловким пальцам.
На заводе женатые ребята из бригады не раз предлагали взять девочку к себе, пока Тоня болеет. А сегодня один сказал: «Моя жинка с удовольствием придет, сготовит, простирнет что надо, натрет паркет…». Но Владимир Павлович не хотел одалживаться — это раз, и потом боялся, что Тоне будет неприятно, если чужая женщина станет хозяйничать в ее доме. Да и ему самому это было бы неприятно.
Он отказался:
— Это не решение проблемы.
— А что решение: жить всухомятку? У тебя, бригадир, и так все скулы обтянуло.
Владимир Павлович отшутился:
— Жирным мне быть не показано, выходить из спортивной формы нельзя…
И ребята, по молодости не умеющие долго думать о печальном, тут же стали обсуждать новый заказ, заговорили, кто и как сыграл в футбол и какой вес подняли штангисты, заспорили, прибавят или не прибавят высоту в прыжках знаменитые прыгуны. Владимир Павлович утверждал, что если будут упорно тренироваться, если не зазнаются, то прибавят.
— Твердость в любом деле, настойчивость — это все.
— Ну, а талант? — спросил кто-то.
— Талант без настойчивости ничего не дает.
— А везение? Одному везет, а другому — ну, никак…
— Вот этого, везения, я как раз и не признаю… Я за честный спорт.
Сейчас, когда Владимир Павлович сидел и курил, эти разговоры о везении и настойчивости, о прыжках и голах, о новом заказе и заработках казались ему совсем уж ненужными, никчемными. О чем он спорил?! Смерть никого не щадит — ни талантливых, ни везучих, ни злых, ни добрых…
Он содрогался, думая, что Тоня может умереть, что так вот просто, как рвется нитка, может оборваться и Тонина жизнь, а он будет, как и прежде, работать, рассуждать… Закон природы? Да будь он проклят, такой несправедливый закон.
Раньше иногда, сердясь на Тоню за что-либо, он говорил: «Разведусь, вот попомни мое слово, не стерплю — разведусь!» И втайне даже злорадствовал, что вот он разведется и будет жить, как захочет, и Тоня еще не раз пожалеет, что потеряла такого покладистого, послушного мужа. Но того, что жена может исчезнуть навсегда, умереть, он никогда не мог себе представить. А теперь Тоня лежит в палате и мучается, а он сидит вот здесь на деревянной скамейке и курит… На прохладной лестничной площадке вьется сиреневый дым, плывет, плывет, уплывает…
Ни черта не стоит человеческая жизнь, и сам ты ни черта не стоишь, если не можешь помочь любимому человеку. На что тогда твои руки и сила твоя и ловкость? Он вспоминает, как в первый год после женитьбы они проводили лето в спортивном лагере, многие даже не знали, что они женаты. Тоня жила в палатке с девчатами, он со своей командой, но, когда шли в горы, держался рядом с Тоней, зная ее беспечность. И устерег, уследил, спас. Подхватил, когда она оступилась на крутом склоне. Так бы и бухнула камнем вниз, в пропасть. Вечером она сказала ему, когда целовались у скалы, в тени, потому что луна заливала светом весь лагерь, нигде не спрятаться было от любопытных глаз:
— Ты не одну меня спас сегодня. Понятно?
Он тогда и Тоню и Веточку спас.
Взволновался:
— Тем более тебе тут в лагере делать нечего… Теперь у тебя другие задачи, поважнее…
Уж очень она была порывистая, неосторожная. Боялся он за нее, даже душой покривил:
— Ты на свою реакцию не полагайся. Не такая уж у тебя быстрая реакция…
— Еще чего?! — возмутилась Тоня.
— Люди сначала думают, потом действуют. А ты?
— Не глупее других…
А все-таки Тоня подчинилась, уехала домой.
Она совсем переменилась, когда родилась Веточка: притихла, ничем, кроме ребенка, не интересовалась. И все напевала. Ветку укладывала — мурлыкала, пеленки стирала — заливалась во весь голос. Мешала читать газету, мешала заниматься, когда готовился к кружку. И на стадион больше не ходила. Только иногда, когда гуляла с Веточкой во дворе, а ребятишки играли в волейбол, вдруг подходила, наподдавала по мячу и говорила:
— Вот как надо бить. А у вас что за удар?..
Или, если Ветка спала спокойно в коляске, прикрытой тюлем и увешанной погремушками, судила игру, при условии, что не будут очень кричать, будить ребенка. Потом она и это бросила, даже сердилась, если ее звали:
— Идите, идите, незамужних зовите, мне некогда… Я свои связи со спортом порвала…
Владимир Павлович даже удивлялся.
— Не верится, что ты стометровку отлично бегала…
Она сердилась. И слушать не хотела. Как-то заплакала:
— Ну когда мне? Куда я ребенка дену? Разорваться мне, что ли?
— А другие как же? У других детей нет?
— То другие, а то я… Я делить свое сердце пополам не умею…
И вся, с головой, ушла в дом, в семью. Тут было ее настоящее место, ее интерес… Чистила, мыла, терла. Гордилась, что Веточка растет здоровенькая, что врачи в консультации хвалят. Один раз с девочкой на руках прибежала на стадион, где Владимир Павлович тренировался, напугала до полусмерти. «Что, что случилось?..» Она, сияя, спустила Веточку на траву: «Покажи, покажи папке, как мы ходим… Пошла, честное слово, пошла…» Не могла дождаться, пока муж вернется домой — так хотела похвалиться.
Дома Владимир Павлович бывал мало. Работал на заводе, часто оставался после смены, всегда у него, как у бригадира, находились дела. Цехком ему давал поручения, он был членом цехкома. Играл в футбол за свой цех, играл в сборной завода, тренировался. Футбольные матчи на первенство Союза, на кубок никогда не пропускал, покупал билет на северную трибуну. Партийная учеба тоже отнимала часы, и производственное обучение у них было: на заводе постоянно вводили новую технику, завод был передовой.
Тоне по хозяйству муж почти не помогал: чинил, правда, электричество, если портилось, и всякие там бытовые приборы, телевизор сам ремонтировал.
И всегда торопился. Тоня даже насмешничала:
— Ты у нас не хозяин в доме, а жилец. Квартирант…
Он оправдывался:
— Тоня, дорогая, да когда мне? Ни минутки свободной…
А годы летели…
Они с Тоней уже не целовались так, что душа замирала, хотя жили, в общем, дружно. Разлада между ними не было. Просто не нравилось Владимиру Павловичу, что жена вроде стала жадная, жалуется, что не хватает денег: хотелось ей накопить то на шкаф полированный, то на стол, то на шелковое покрывало. Стала работать на полставки в лаборатории, уставала, ворчала: сил, мол, моих нету отстирывать от травяных пятен футболки и майки, теперь еще Веточкино белое трико надо стирать.
Она водила дочку на фигурное катание и в балетный кружок, восхищалась, какие у девочки крепкие, ладные ножки. И в первый класс Веточка поступила, прибавилось обязанностей — следить, как готовит уроки.
Когда Владимир Павлович понял, что отыграл свое на футбольном поле и из команды пора уходить, ой как обрадовалась Тоня: ну, теперь заживем по-другому, как все люди!.. Муж огорошил, ошеломил ее тем, что взялся по поручению завкома тренировать подростков.
— Бесплатно?
— Это в общественном порядке… Тоня, пойми…
Она опустила руки.
— Я-то понимаю… Нет, не жалеешь ты своего ребенка.
— Вот именно, что я жалею детей. Надо их вовлекать. Сколько шатается без интереса, без цели… Надо воспитывать…
— Воспитаешь это хулиганье, как же!
— Отмахиваться легко. А ты помоги…
— Какой из тебя воспитатель? — сказала Тоня. — Ну что ты лезешь в чужие дела и всегда тебе больше, чем всем, надо.
Он крикнул в запальчивости:
— Нету чужих дел, все мои!..
Тоня превозмогла себя, умолкла. Даже заступалась за мужа, коршуном налетала, если кто посмеивался над Владимиром Павловичем. «За своими мужьями приглядывайте, — отбивалась она от соседок, — он не пьет, не бездельник. Спорт — благородная страсть».
Но сама, особенно когда бывала не в духе, такие сцены устраивала, что только держись.
Очень он обижался…
Иногда они ходили в кино с женой, если было на кого оставить ребенка. Иногда в гости: Веточку тогда брали с собой. Иногда все втроем отправлялись гулять. Но Тоня портила прогулки тем, что делала замечания, тащила в магазин или просто останавливалась поглазеть на витрины. Он этого не любил. И случалось, уходил один, без жены, забирался в парк или сидел на скамеечке в сквере, наблюдал, размышлял. Было ему о чем подумать. Десять человек в бригаде, к каждому нужен подход. Ученики на стадионе что ни парнишка, то другой характер, и каждого хочется понять. Конечно, как говорится, в чужую душу не влезешь. Но он ведь добивался, чтобы души эти не чужие были…
Иногда он останавливался у станций метро, смотрел, как стоят там, скучая, молодые люди и чего-то напряженно ждут. А чего?.. Думал: «И сам я еще чего-то жду, а чего — тоже не знаю…»
…А вот ждет ли чего-нибудь Тоня, об этом не думал…
И в отпуск этим летом он поехал один. А ведь мог отпуск провести с Тоней. Мог, да не хотел.
Обиделся он на жену.
Тоня развела большую стирку и потребовала, чтобы муж развесил во дворе веревки для просушки белья. Трудно ему, что ли, веревки привязать, не в этом дело. И то, что тренировку пропустил, не так уж важно… А противно было сидеть сторожем, следить одним глазом из-за газетного листа, как хлопают на ветру простыни и наволочки, рубахи и майки, пестрые ситцевые сарафаны. Уходили на службу соседи с портфелями, выходили покурить пенсионеры, хозяйки возвращались с покупками, а он все читал и перечитывал газету, дожидаясь Тониного знака и сгорая от стыда. «Возьмет кто-то твое барахло, как же…» — сердито сказал он, когда Тоня наконец-то соизволила выйти. А Тоня насмешливо ответила в тон ему: «И то… кому чужое надо…» Он даже задохнулся от гнева: ну ладно…
И обедать не стал. Ушел. Выскочил, как оглашенный, на Ленинградский проспект, на бульвар, сел под шумящими тополями. А когда остыл, огляделся, увидел, что неподалеку, как нарисованные, сидят, никого не видя вокруг себя, держась за руки, чем-то расстроенные молодой летчик и девушка, — лица ее он не видел, видел только затылок, легкие волосы, высокую шею, опущенные плечи. Плечи у девушки вздрагивали: плакала, что ли? И такое в этих женских и мужских стиснутых руках было отчаяние, такое горе и такая любовь, что Владимир Павлович уставился на них и не мог оторваться, хотя понимал, что надо не только отвернуться, но и уйти, не мешать.
Что же с ними приключилось? Летчик ли женат или девушка не свободна? Или надо летчику улетать на служебное задание? Ничего этого Владимир Павлович не знал и не мог узнать, завидовал только, что здесь настоящая любовь.
Он пошел на смену, отработал, вернулся домой, ночь прошла, день, второй, третий, а перед ним, как наваждение какое-то, стояла скамейка на бульваре, укрытая кустами, летчик и плачущая девушка.
Тоска томила Владимира Павловича. Рвался он куда-то, не находил себе места.
Потом взял Тоне с Веточкой путевку в дом матери и ребенка и один уехал в деревню.
Жить у родичей Владимир Павлович не захотел, просто поставил в лесу палатку, собирал грибы, ловил в речке рыбу. Жил, как отшельник. В деревню ходил редко…
Двоюродный брат Петька, то есть Петр Петрович, сам несколько раз приходил его навещать, принес даже как-то пол-литра, но выпивкой Владимир Павлович не интересовался.
Петр Петрович был не намного старше Владимира Павловича, но казался рядом с ним почти стариком. Лицо красное, грубое, в морщинах, продутых вьюгами, иссушенных зноем. Работал шофером на грузовике.
Общих интересов у них почти не было, отвыкли друг от друга, а все-таки, когда перебирали прошлое, детство, снова возникло между ними чувство близости. И однажды на закате, на полянке, где двоюродный брат косил сено для своей коровы, Владимир Павлович, размягчившись от воспоминаний, умиленный красотой березовой рощи, что окаймляла поляну, вдруг рассказал про летчика и девушку, которых видел в Москве на бульваре. Рассказал и сам испугался, что брат не поймет, посмеется над ним. Но брат молчал.
— Надо же такое… — виновато признался Владимир Павлович. — Вот так иногда задумаешься: а тебе чего не хватает? Все еще ожидаешь чего-то…
И опять брат ничего не сказал. Только когда уже стемнело, он положил косу и предложил, закуривая:
— Может, желаешь, есть тут у нас одинокие бабы…
— Ты что это? Я же не в таком смысле…
— В таком, не в таком, — лицо Петра Петровича вдруг приняло печальное выражение, — а какие уж тут мечтания, какие любови, когда хомут на себя надел, народил детей… Нет, то, что в кино показывают, нам не суждено…
— Почему ж это не суждено?.. Как так не суждено? — почти обиделся Владимир Павлович.
И больше на подобные темы разговоров с братом не заводил. Стеснялся — это одно, а потом — очень уж ему нравилось в лесу. Бодрый он стал, спокойный. Отоспался. Отдышался. Тосковать перестал.
Отдохнул замечательно. Грибов набрал. Наслушался, как журчит родник в лощинке.
А теперь вот стыдно и больно, что не провел эти недели с Тоней. Подумать только, что и Тоня могла с ним быть в лесу, среди берез…
Тоня лежала уже розовая, румяная, смотрела прямо перед собой блестящими глазами. Горела от высокой температуры. И сказала, будто продолжая начатый разговор:
— Голову Веточке будешь мыть, смотри много не мыль. В глаза не попало бы…
Она похудела за время болезни и оттого, что разрумянилась, казалась совсем молоденькой, юной, как тогда, когда Владимир Павлович впервые встретил ее.
— Вот поправишься, все по-другому будет, даю слово…
Она не слушала.
— И помогать буду… Так нельзя, чтобы ты все дома одна сидела.
— Холодно, — вдруг жалобно сказала Тоня. И потащила на себя шершавое одеяло. — Холодно мне, ой как холодно!..
Он кинулся помогать укрываться. Засуетился. Пытался объяснить, что его терзает раскаяние. Тоня все бросила ради семьи — тренировки, стадион, все мыла да шила на них с Веточкой, да готовила, да еще работала. Таскала Веточку то в ясли, то в детский сад. Ведь только теперь, когда свалилось на него все хозяйство, понял он, как нелегко было Тоне содержать дом, и ребенка, и его в чистоте. Она ведь любила, чтобы все наглаженное, накрахмаленное было, чтоб шуршало.
— Я так думаю, что не жениться тебе нельзя будет, — не поворачивая к нему головы, сказала Тоня. — Ну что ж… Ветку только не обижайте… Старую не бери, не надо. У молодой душа шире. Ищи веселую, с веселой и тебе лучше будет. И Веточке…
И заплакала.
Владимир Павлович гладил жену по волосам, отпаивал водой.
— Ну что ты придумала, глупенькая. Кто мне нужен, кроме тебя… И как у тебя, бедной, нервы от всех этих лекарств и антибиотиков расстроились, что ты вздумала невесту мне искать, смех просто!.. — Он даже соврал, будто докторша Сима Соломоновна прямо обещала ему вскорости отпустить Тоню домой.
Он так устал от лжи и своего бодрого, разухабистого тона, так изболелся и исстрадался душой, что, как только Тоня задремала, снова вышел на лестницу подымить. Вроде надеялся, что с дымом уйдет с души невыносимая тяжесть. Он затягивался и тихонько чертыхался, что табак сырой, и снова затягивался, но тяжесть не проходила…
Кольца дыма, свиваясь и развиваясь, поднимались к самому потолку.
Лысый доктор, в очках, в белой шапочке на затылке, подошел к нему прикурить и, посмотрев на значок, приколотый к лацкану пиджака, заговорил о футболе.
— Был когда-то ярым болельщиком, — сознался он. — А теперь… разве что по телевизору иногда с внуком посмотришь…
Робея перед доктором, Владимир Павлович порывался встать, но доктор усаживал его и сам почтительно спрашивал:
— Вы меня, голубчик, извините, но верно ли, что при системе игры четыре — два — четыре…
— Вот, доктор, — перебил его Владимир Павлович, жалко улыбаясь. — Пока жена здорова была, то не сказать, чтобы особо берег… А теперь… — Он понимал, что доктор устал от болезней, от слез родственников, от жалоб, хочет хоть немного отвлечься, но не мог заставить себя не говорить о Тоне. Доктор посерьезнел.
— Кто оперировал? Сима Соломоновна? Ну, это надежный хирург…
— И профессору будут завтра показывать… Я так думаю, что он ее должен спасти: ведь профессор!
— Не все от нас зависит, голубчик, — мягко напомнил доктор. — Мы боремся до конца, но бывает, что и не в наших силах… — И доктор жадно затянулся дымом. Уже загасив окурок и вставая, он сказал как бы сам себе: — Приятно все-таки сознавать, что за нашими больничными стенами разгуливают здоровые люди, что есть такие крепкие ребята… — Он опять посмотрел на значок Владимира Павловича, окинул взглядом его фигуру. — Простите, вы…
— Я уже не играю, — поспешно, словно извиняясь, сказал Владимир Павлович. — Да и то, я ведь не классный игрок, так, любитель был… Теперь с подростками работаю, тренирую… тренировал, — поправился он. — Решил бросить.
— Что так?
— Брошу! — помотал головой Владимир Павлович. — Решил.
Тоня взяла его за руку и стала перебирать пальцы, как давно уже не делала. И он редко ласкал ее. Дочку Веточку ласкал, нежил, называл своей зеленой веточкой, а на Тоню все больше хмурился. И даже когда хотел похвалить, когда гордился ею, говорил, будто недоумевая: «И как ты это сообразила, удивляюсь! Смотри-ка…»
А отчего так пошло, откуда взялся такой дурацкий тон, и сам не знал. Может, оттого, что Тоня была властная и он бессознательно воевал за свою независимость, сбивая с нее спесь?
А ведь было недолгое время, когда Тоня на самом деле оробела и потерялась перед ним. Это когда она растолстела после родов, а мастер из цеха, где-то ее увидевший, сказал с завистью:
— Супруга у тебя какая вальяжная стала, смотреть приятно…
Но Владимир Павлович никакой красоты в этом не видел.
— Ну хочешь, я себе грацию закажу? — предложила Тоня.
— Это еще что за грация?
— Ну пояс такой. Со шнурками. Как корсет, понимаешь?
— Для организма может быть вредно, для внутренних органов. Нет, ты уж лучше как-нибудь по-иному действуй…
«Действовала» ли она по-иному или помогло время, но Тоня пришла в свою норму, похудела, просто стала видной, красивой женщиной, с которой не только не стыдно под ручку пройтись, но даже приятно показать: ребята, мол, не косите зря глазом, не играйте плечиком, не бейте каблуком, это — прошу любить и жаловать — моя жена.
Теперь Владимиру Павловичу казалось, что за десять лет так много разного было в их отношениях с женой — и страсть, и нежность, и отчуждение, почти полное равнодушие, и снова полная близость…
А вот теперь он сидит у ее постели, смотрит на впалые щеки и боится загадывать, что будет завтра… «Тоня, Тоня, милая, люблю я тебя, пойми, — думает он, тоскуя. — Прости, родная, если что было не так… Толстая ли, худая, ворчливая, неприбранная, в морщинках, старая — все равно: только живи, не покидай меня…»
А Тоня то дремлет, то снова перебирает его пальцы, гладит и опять произносит тихо:
— А я-то думала, совсем ты меня разлюбил…
Ушли последние посетители. Провезли термосы с ужином. Прибежала стайка практиканток из медицинского училища. Они и не заметили Владимира Павловича, так неподвижно сиделкой с потухшей папиросой, укладывали книжки и тетрадки в портфельчики, подтягивали свои дешевенькие чулки в резинку, поправляли волосы. Тут вихрем налетел смазливый парнишка, тоже в белом халате, в ярких носках, в узконосых ботинках. Стал покрикивать, подшучивать, отнимать какую-то книжку.
— Ну, ну, Валерка, без рук, — гордо сказала щупленькая девочка с такими же, как у Веточки, бантами в косичках.
— Валерка, отстань.
— Ну тебя, Валерка.
Валерка, шумно дыша, плюхнулся на скамью рядом с Владимиром Павловичем и тут же вскочил, стал здороваться:
— Я у вас тренировался когда-то…
Он все еще, вертя головой из стороны в сторону, шнырял глазами по тоненьким фигуркам практиканток.
— Сосчитал? Сходится счет? — насмешливо спросил Владимир Павлович. — У всех руки-ноги на месте?
— Терпеть их не могу, сорок… — сказал Валерка. — Бросил к вам ходить, а теперь жалею…
— Это уже последнее дело — жалеть. Раз бросил, то уж жалеть нечего… — А все-таки поинтересовался: — А из-за чего бросил?
— Так-перспективы же никакой. А время тратишь…
— Интереса у тебя настоящего не было, рвения, вот ты и бросил…
А сколько их таких, как этот Валерик, прошло через его руки! Каждый сезон, когда набирали учеников, приходили записываться десятками. По пятам ходили, канючили, чтобы принял. С первого дня видели себя в мечтах вратарями и нападающими, фасонили, отпускали челочки, сплевывали сквозь зубы. Поначалу смотрели на Владимира Павловича, как на бога, боялись, потом начинали роптать, обижались за строгость. Недовольны были, что много «общефизической подготовки», что «за все спрашивает», даже школьные дневники проверяет. Торопили: мол, давай скорее играть, мяч давай. С детской эгоистической неблагодарностью вдруг переставали ходить к нему, убегали на велосипед, на баскетбол, на коньки.
Вот и Валерик ходил-ходил на занятия и исчез.
А помнится, немало он возился с ним: и в школу обращался к классному руководителю, и кеды ему однажды на свои деньги купил.
Если же попадался ученик верный, устойчивый, одаренный, то, как коршуны, вились над заводскими площадками профессиональные тренеры, соблазняли, уводили к себе в спортивное общество, в детскую спортивную школу. Что удивляться? Там и громкие имена, и красивая форма, и летний спортивный лагерь.
Разглядывая переминавшегося с ноги на ногу Валерика с его чуть нахальней ухмылкой, Владимир Павлович вспомнил, как Тоня, бывало, говорила: «Ты для них ноль без палочки, вот кто… Благодарности не жди…»
То-то и оно, что Владимир Павлович благодарности не ждал. Просто любил свое дело, любил учить. Это у него пунктик, идея такая была, что учить играть в футбол надо начинать рано. Да, если бы его самого вовремя начали учить, может, и он бы…
Тоня не слушала его доводов, и он сердился. Глупая, дальше своего носа не видит…
Владимир Павлович спросил Валерика жестко:
— Призвание-то у тебя есть к чему-нибудь? Интерес?
Валерик загадочно улыбнулся. Заторопился, заспешил. Боялся, должно быть, что Владимир Павлович станет отчитывать. Но Владимир Павлович отчитывать не стал, сказал только:
— Вот тебе мой совет, парень: чисть ботинки. А то некрасиво получается: модные носки надел, а ботинки грязные…
Когда он сказал Тоне, что откажется тренировать, она пришла в ужас.
— Что ты! Что ты!
Он пытался втолковать ей, что это не жертва с его стороны и не лишение, просто пришло время серьезнее смотреть на жизнь. Она и слушать не хотела, твердила свое. Потом повернулась к окну, где над облетающими деревьями вспыхнуло, заходя, солнце, и сказала тихо, как бы боясь вспугнуть:
— Как красиво!..
Он тоже повернулся к окну. Он на все ее движения отзывался и стал смотреть, как заходит солнце, как будто перед этим вечным явлением — восходом и закатом — меркли будничные, мелкие волнения. Он чувствовал теперь все, что чувствовала Тоня, и, не столько понимая, сколько ощущая ее тревогу, хотел думать о том же, что и она, видеть то, что видела она.
Ветер, разогнав тучи, утих, перестал трясти и раскачивать ветки, в природе была разлита спокойная тишина. Небо очистилось, потеплело, согретое угасающими розовато-сиреневыми красками заката.
— Все бы я теперь ездила, ездила, — так же тихо проговорила Тоня. — Смотрела бы…
Она сняла с исхудалого пальца колечко с ярким камнем, мягко засветившимся в солнечном луче.
— Боюсь, потеряю… спрячь… для Веточки…
— Да я тебе три кольца куплю, — почти крикнул Владимир Павлович, вспоминая, как поссорились они когда-то из-за этого кольца: ведь еле-еле дотянули до получки. Он опасался, что Тоня вспомнит то же самое и разволнуется.
Но Тоня не вспомнила.
— Ты мне лучше часики купи. Маленькие такие, как теперь модно, на тонкой такой браслеточке…
Голос был почти веселый, но глаза смотрели печально и уже не на руку, а опять за окно, где пламенели желтые и красные листья.
Желая побольнее наказать себя, Владимир Павлович опять сказал, что все бросит: и заводскую команду, и тренерскую свою работу, и болеть за футбол перестанет…
— Что ты? Зачем? Зачем лишать себя счастья…
Значит, она в глубине души знала, что это для него счастье.
Конечно, он мог прожить и без футбола, даже когда был совсем молодым, — ведь он любил семью, работу, завод, товарищей из бригады, — но жизнь была бы не полна.
Как и теперь, он вставал бы по утрам, торопился на завод, шел через проходную, входил в цех, переодевался, вешал одежду, получал наряд. Все осталось бы, как теперь, ушла бы только та прекрасная минута, когда в трусах, в футболке он выбегал, поеживаясь, на зеленую траву и бежал, свободный, сильный, упорный, слитый в одно целое с мячом, полный желания выиграть. Всякий раз ему казалось, что именно в этот день он совершит чудо. Он ждал этого чуда, верил в него, готовился к нему. Знакомый студент доказывал ему как-то с карандашом в руках, что количество комбинаций в футболе, как и во всякой другой игре, ограничено, но Владимир Павлович никогда с этим не соглашался. Пусть в теории так, но он-то знал, что не бывает двух одинаковых матчей. Почему он так радовался на футбольном поле? Кто знает. Ни утомление, ни ушибы, ни проигрыш, ни несправедливость болельщиков, которыми полон был заводской стадион, — ничто не могло отвратить его от игры. Он любил ощущать себя частью того сложного организма, каким является команда, когда одиннадцать воль сливаются в одну, когда ты должен на бегу, в борьбе схватывать смысл того, что творится на поле, и вдруг сильным ударом по мячу перевести игру на другой фланг или, обманывая противника, передать мяч соседу и тут же устремиться в то место, куда должен через секунду этот мяч прийти. Он все старался делать вовремя и точно, не жалел себя на поле и не думал о себе, не искал выигрышных моментов. Не себя он любил в игре, а игру… С возрастом сил у Владимира Павловича становилось меньше, он уже не мог так быстро бегать, а игру любил все больше и больше. Потому что это была умная игра, полная драматических и ярких подробностей. И как ни полна его жизнь, она стала бы тусклой и неинтересной, если бы он отказался от того, что знакомые его с удивлением и в осуждение называют увлечением, страстью, придурью, мальчишеством, болезнью.
И Тоня, оказывается, это знала, хотя он считал, что она больше всех противилась его увлечению. Особенно когда он стал тренером. Ему приходилось оправдываться:
— Это же у меня нагрузка, завком мне доверяет…
— А где найдут другого такого дурака?
— Тьфу, дали же мне грамоту…
Тоня ударяла по самому больному месту:
— Был бы хоть мастер спорта, а то…
На это он не мог возразить. Нечего было возражать. Говорить, что не успел отработать технику, потому что поздно начал играть? Ведь он до самой своей женитьбы поддерживал сестер, вкалывал по две смены на заводе, разрывался на части. А разве он имел питание, какое надо? А женился, Тонину родню поддерживали.
Этого он даже в самые напряженные минуты спора вслух не говорил. И хорошо, что не говорил. Оказывается, Тоня и сама все знала, все понимала, золотая его Тоня…
Новое для себя открывал Владимир Павлович в жене. Неужели он не знал ее до сих пор? А ведь думал, что знает, как самого себя. Сказала вдруг, что ей ездить хочется, на мир смотреть. Он и не подозревал, что ей хочется ездить.
И ему как она здорово сказала: «Зачем лишать себя счастья…»
Он вспомнил эпизод, который случился, когда Тоня еще лежала в большой палате. И ту палату обслуживала сестра Галочка, та самая, что сегодня делала укол Тоне, худенькая, с худенькими локотками, с быстрыми, легкими ногами, которые она еще по-детски ставила носками внутрь.
Тоня рассказывала про нее шепотом:
— Ребенок совсем, а вынуждена работать. Отца нет, одна мать. Все с улыбкой, с вниманием к больным. Спрашиваю: «Галя, а поклонники у тебя есть?» Краснеет. Как же не быть, ведь она как кукла… Ты как находишь?
— Я и внимания не обратил, — уклонился Владимир Павлович, зная, что Тоня ревнивая.
Но, конечно, не слепой ведь, заметил, какая симпатичная девушка, а когда глядел на ее локотки, даже что-то в душе звенеть начинало: такой юностью веяло от этих худеньких локотков.
Так вот однажды, когда Тоня несколько раз нажала на кнопку звонка, вызывая сестру, а сестра все не шла, на соседней кровати зашипела, как гусыня, злая, ядовитая старуха:
— Их не докличешься, им что! Хоть ты тут помирай… Про любовь и про кавалеров только и думают…
— Ну и пусть думают! — почти закричала Тоня. — Без любви, без счастья и жить-то не стоит…
Тогда он не обратил внимания на ее слова, побежал скорее торопить Галочку, чтоб несла лекарство, потом только вспомнил.
И теперь вот думает про эти Тонины слова.
Это как камешки на берегу. Отдыхал он как-то в Крыму, на диком, голом, прекрасном берегу. Любил поутру, когда все еще спят, смотреть на желтые и фиолетовые скалы, перебирать камешки. И такие попадались замечательные, что глаз не оторвешь. Он много тогда домой привез, целую шкатулку.
Так и слова: среди сотен серых и будничных, обычных — «Подай», «Прими», «Холодно», «Что на обед?» — вдруг сверкнут настоящие, нужные. Сотни камешков он перебрал, перетрогал руками, а слов сколько — миллионы? Миллионы слов Тоня произносила, забылись они. А настоящие, важные в себе таила. Но ведь были они у нее…
Что же он не заметил, не поинтересовался? Ах, не знал? Камни-то ведь искал, не ждал, пока сами в глаза бросятся? Бежал с утра к морю, смотреть, что принес прибой…
Он не хотел было рассказывать Тоне, где провел вчерашний вечер: еще истолкует, что жена, мол, в больнице, а он разгуливает по банкетам. А теперь знал: можно. Тоня поймет; не для того он пошел, чтобы выпивать и закусывать.
В заводском Дворце культуры устроили вечер в честь футбольной команды, выигравшей первенство на международных соревнованиях.
Он зашел на минуточку после смены, после занятий на учебной площадке, одетый по-будничному, в клетчатой темной рубашке, без галстука. Так, думал, просто посмотрит на знаменитых игроков, послушает вполуха, что будут говорить, и поспешит домой.
Было очень парадно, народу в зал набилось множество.
И вот, когда торжественная часть кончилась и Владимир Павлович, уже собираясь уходить, стоял в фойе у окошка и курил, мимо него цепочкой потянулись футболисты, нарядные, наглаженные, в шляпах, в модных ботинках. Владимир Павлович сразу догадался, что в банкетном зале накрыли столы — так было принято, — чтобы в самом тесном кругу поднять бокалы. А поднять было за что: ух каких добились успехов, как взлетели!..
Прошел директор завода, прошли два спортивных журналиста в красных рубашках под толстыми свитерами. Одного из них Владимир Павлович знал: тот был как-то на занятиях, взял интервью, допытывался, какая методика. Но так и не написал ничего…
Владимир Павлович хотел уже уйти с дороги, чтобы не вышло, будто он стоит тут и ждет приглашения. Он забрел в это фойе случайно, даже не подумал, что могут идти на банкет этой стороной. Но и убегать не хотел. Чего это он должен убегать, с какой стати?.. Им надо идти — они идут, он хочет тут стоять — и стоит. Имеет право… Докурит и уйдет. А все-таки делал быстрые, торопливые затяжки. И не успел…
Прямо на него вышел тот единственный, которого он и мечтал встретить и больше всего боялся встретить вот так — лицом к лицу. Тот бывший долговязый подросток, тот Ленька с челочкой, любимый его ученик, которого сманил профессиональный тренер. Правда, не только сманил, но и вывел в первоклассную команду и сделал из него самого результативного нападающего футбольного года. Долгие месяцы Владимир Павлович и разговаривать с Ленькой не хотел — сердился, считал изменником. Потом смекнул, что Леньке-то, в общем, наплевать на бывшего инструктора, и стал держать себя с ним еще надменнее, еще суровее. И Ленька, аккуратно присылавший к праздникам поздравительные открытки, перестал писать. «Я ему теперь ни к чему, зачем я ему? — говорил с обидой Владимир Павлович. — У Леонида теперь знакомства иные. Ну что ж, основу я заложил, моя совесть чиста…»
— Благодарности ты не жди, — именно тогда и сказала Тоня. — Кто ты для него? Ноль без палочки.
— Он левой ногой плохо работал, — вспоминал Владимир Павлович, — я весь упор делал на левую ногу.
— А кто тебе спасибо за это скажет?
— А кто мне должен говорить спасибо? Моя какая цель? Способствовать развитию отечественного футбола. Достигается цель? Достигается. И все…
Конечно, Тоня «заводилась» и кричала, что футболисты теперь знаменитые стали, как актеры. И квартиры им, и машины им. И почет. И уважение.
— И правильно, что им. Заслуживают. Славу нашей родины приумножают, — успокаивал Владимир Павлович жену. — А все-таки я одно скажу… И ты это запомни… Вот пишут: большой футбол. Так этот большой футбол мы все делаем, понятно?
— И ты?
— Именно я. Владимир Павлович Морозов.
Это он Тоню убеждал. А сам вовсе не был убежден.
…Ленька стоял перед ним, пожалуй, самый рослый, самый красивый, и улыбался.
— Знаю про твои успехи, рад за тебя…
— А помните, как вы меня гоняли, а, Владимир Павлович?
— Я-то помню…
Товарищи уже шумели, звали: мол, скорее, Леня, не задерживай. Но он прекрасно понимал, что имеет право задержаться и задержать всех, и ответил недовольно:
— Не видите, что ли, с кем я говорю? Это же мой первый тренер.
Многие из команды не знали Владимира Павловича, разве они ходили на игры цеховых команд или на занятия заводской школы? Но некоторые, конечно, вспомнили: ну да, знаем, как же…
— Вы на банкет, Владимир Павлович? Как это некогда? И что значит «не пригласили»? Я приглашаю, вы же мой учитель… Я же вправду вам всем обязан… Без галстука? — шумел Ленька. — Мы это дело поправим… — Он вытащил из кармана роскошный галстук и, раньше чем Владимир Павлович опомнился, повязал ему на шею. — Заметьте, не мнется, стопроцентный нейлон. Дарю на память… Я его привез для вас, только не было случая завезти… Но я знал, что вас тут встречу, — не то врал, не то правду говорил Леня. — Не поверите, минуты свободной нету… На части рвут…
— Ох, Леня, — назидательно произнес Владимир Павлович, — имей в виду, нет режима — нет и футболиста…
Леня стал клясться, что понимает, но их заторопили, повели — и Владимир Павлович уже сидел в банкетном зале за длинным столом рядом с Леней. А напротив сидел директор.
Было много тостов за кубок, за команду и ее тренера, за решающий гол, за вратаря, за центрального нападающего, за директора завода, ибо кому же не понятно, что успех заводской команды обеспечивает в первую очередь директор. Если директор не любит и не понимает футбола, то вряд ли команду будут знать за пределами заводской проходной. А команда теперь с мировым именем, и мы имеем все основания провозгласить тост за нашего мирового директора…
— Подхалимничайте, ребята, но знайте меру, — погрозил пальцем парторг.
В общем, было весело.
И вдруг встал Леня и стал говорить про Владимира Павловича. И перечислять его заслуги.
— Я ему всю жизнь буду благодарен за свою левую ногу…
— Теперь ты никогда не встаешь с левой ноги, что ли? — опять пошутил парторг.
— Встаю. И часто, — отпарировал знаменитый Леня. — Но не позволяю себе поддаваться плохому настроению и валять дурака на тренировках, потому что из меня эту дурь выбил еще в нежном возрасте Владимир Павлович. И я пью за его здоровье…
И под крик, аплодисменты и возгласы Владимиру Павловичу пришлось встать и поцеловаться с Леней и с величественным, похожим на профессора тренером команды.
А когда сели, Леня сказал тихо и серьезно:
— Владимир Павлович, я ведь от чистого сердца. И аллаверды к Антонине Ивановне…
— Болеет моя Антонина Ивановна…
Леня сделал испуганное, сочувственное лицо, но мощный поток застолья отвлек его, понес в сторону. Стали вставать, в ожидании кофе прохаживаться по комнате, директор подошел к Владимиру Павловичу познакомиться и расспросить, как же это он сочетает работу в цехе с физкультурной, воспитательной и сам еще иногда играет, создают ли ему условия и много ли у них таких тренеров-общественников, хотелось бы знать.
И парторг вставил:
— Имейте в виду: он не просто бригадир, а бригадир бригады коммунистического труда…
И представители центральных спортивных организаций заинтересовались его опытом, и журналисты.
Директор сказал:
— Ну, пресса, вот про кого надо писать…
— Мы учтем, — ответил незнакомый журналист.
А знакомый отвел Владимира Павловича в сторонку и стал жаловаться:
— Разве это я настаивал на методике? Меня человек интересует, характер, а не методика. Но в руководстве отделом сидят дубы, им не втолкуешь…
…Тоня потребовала всех подробностей — что ели, что пили? А жены? Жены не присутствовали? Почему это? И как же он повязал галстук к клетчатой рабочей рубашке? Это же надо совсем не иметь вкуса. Леня? Что Леня? Леня постеснялся ему сказать об этом, а ей-то стесняться нечего… И почему он, идя во Дворец, не мог надеть белую накрахмаленную рубашку? Рубашек у него нет, что ли?
Тоня ворчала и упрекала, а Владимир Павлович слушал, как слушают музыку, — это был голос здоровой вредной, невыносимой Тони…
Потом она сказала:
— Я же тебе всегда, помнишь, говорила, что тебя ценят…
— И верно, ты говорила, — согласился Владимир Павлович.
А Тоня вдруг заплакала:
— И вот теперь, теперь я должна умирать. И погода какая-то, дождь вот-вот пойдет, — говорила она, стараясь сдержать слезы. — Не люблю я такую погоду…
— Не будет дождя, что ты… — успокаивал ее Владимир Павлович, как будто самое главное было в том, пойдет ли дождь. — Я знаю, ты не любишь осень, и я не люблю… — торопливо говорил он, отвлекая Тоню, и расписывал, как они весной поедут отдыхать. Он возьмет отпуск пораньше, и поедут или туда в горы, где они уже были, или в деревню, в березовый лес…
Тоня с сомнением покачала головой.
— Хорошо бы… — совсем тихо сказала она.
— Эй, молодой человек, — гардеробщица Ася потрогала Владимира Павловича за плечо. — Эй, очнитесь… Плащ будете получать или как?
Она села рядом с ним на скамью, зевнула и, вытянув и скрестив ноги, полюбовалась на свои модные туфли. Ноги были сильные, мускулистые, с тонкими щиколотками.
— Я вас задерживаю, вы извините…
— Ну что вы? — Ася поправила бусы, прическу, браслет. Сказала с сердцем: — Еще наша докторша, наша Сима Соломоновна никак домой не уйдет. Одного инфаркта ей мало, второго ждет. И дождется…
Владимир Павлович не понял.
— А что непонятного? Не щадит себя. И на фронте она такая же чудачка была, не жалела себя. День и ночь оперировала. Но вы не поверите, я ее так и не научила честь отдавать. Вот как надо… — Ася лихо козырнула. — Я-то? Как я попала на фронт? Осталась в шестнадцать лет без родителей и прибилась к госпиталю. Нет, я не сестрой, я санитаркой была, но, если хотите знать, ведущий хирург требовал, чтобы я присутствовала на операциях, такая я смышленая была. Ну да. «Без Аси я оперировать не буду». Только он был такой ужасный матерщинник, что Сима Соломоновна мне не разрешала. Сама она других слов не знала, как «спасибо, спасибо, пожалуйста». Как неземная… Без меня она бы пропала, и смех и грех… То табак откажется получать, то ужин не возьмет. И после войны я за ней потащилась, пожалела ее. И теперь проверяю: «А вы получку взяли? А где ваша сумочка?» Домой к ней, правда, давно не хожу, там ее племянники угрелись, они меня, понятно, терпеть не могут. Как за что? За то, что я правду в глаза говорю: как так, почему ваша тетя в своей квартире как в чужом углу живет? Мне-то что? У меня своя комната, газ. Москву-реку из окна видать, как она течет вся такая сиреневая, и рябь переливается по воде…
Одной лучше, сама себе хозяйка. Хочу пригласить человека — никого это не касается… Хочу держать кошку — держу. Почему я в хирургии работать не стала? У меня глаза слабые. Я санитаркой была, тоже себя не щадила, больные молились на меня. Сима Соломоновна уговаривала меня: «Ох, Ася, если бы тебе образование, диплом. Учись, Ася!» А как учиться с таким зрением? Я тоже жертва войны, если вдуматься… А то я бы своего добилась, не так как Сима Соломоновна. У нее же докторская почти готовая, а она? Подобрала племянников-лодырей и возится с ними — то дежурство лишнее возьмет, то консультацию. Смотреть тошно! Чтобы я для кого-нибудь отказывалась от своего идеала, да ни за что! Кто для меня отказывается, позвольте спросить? Что-то я таких не видела. А Симу Соломоновну я за то уважаю, что ей для себя ничего не надо, все для людей… Ее палкой не выгонишь, когда тяжелые больные… Ой, видали бы вы ее в сапогах — умора! А мне в сапогах было ловко, так и щелкала каблуками! У меня, видите, нога как литая… На такой ноге и сапоги и туфли имеют вид, мне многие завидуют. А чему завидовать, ничего уже не осталось…
— Простите, — вежливо прервал ее наконец Владимир Павлович. — Пойду…
В коридоре к нему подошла Галочка — она только что снова сделала укол Тоне — и сказала, глядя прямо на него затуманенными глазами:
— Вы не переживайте так, не отчаивайтесь. Вот еще профессор будет завтра смотреть вашу жену. Это же огромный авторитет. Я сочувствую, у меня мама больная, я вам очень сочувствую…
Ее печальный, озабоченный голосок журчал, как тоненькая струйка чистой воды, которую нашел он летом в лесу, на дне оврага, заросшего папоротником.
— Вот ты сердишься, что я никуда не хожу, — вдруг сказала Тоня. — А мне не хочется. Я если куда иду, так тороплюсь домой, боюсь, с вами что случится… Я сама не знаю, почему это. Ты помнишь, я любила танцевать… А когда тебя встретила, как из головы вон… Все боялась: ты меня разлюбишь — и хотела показать, что ни капельки не страшусь. Ведь это стыдно, когда так сильно любишь, что гордость теряешь…
— Ну, в чем, когда ты теряла гордость, — возразил Владимир Павлович, — никогда ты гордости не теряла…
— Я только вами и жила, тобой и Веточкой…
— А я? Я разве кем еще жил, кроме вас?
— У тебя и другие интересы были, а уж я…
— Что ты? Разве ты плохо работала? А стометровку забыла?
— Дома я все с любовью делала, рубашки твои гладила с любовью, платьица Веточкины… — Она усмехнулась. — Гляжу и мечтаю — взглянешь ты на меня или не взглянешь? Внушаю тебе мысленно: «Взгляни». А ты… Ты не откликался…
— Так я же не знал…
Чего он не знал? Что Тоня любит его?
— Мне нравилось, что ты бескорыстный…
— Так ты за это меня ругала…
— Ну и что?.. Ругала, а уважала.
Тоня притянула к себе его руку и покачивала и поглаживала. Спросила:
— Ну неужели ты не завидовал? Ну вашим, всем тем, что в славу вошли?
Владимир Павлович замялся.
— А у меня сердце кровью обливалось, — призналась Тоня, не дожидаясь, что ответит муж. — Думала, ты и совестливый, и благородный, и игрок хороший, как же так? Но ты не напористый, не бил на эффект, не рисовался…
— Таких игроков, как я, тысячи… — уже с досадой сказал Владимир Павлович.
— Нет, — замотала головой Тоня. — Нет, не тысячи…
Она опять устала, поникла, заговорила про другое:
— Жжет, жжет под сердцем, что же это за мука такая, что за доктора — не могут вылечить… Я ведь жить, жить хочу, я еще не жила вовсе… Неужели тебе моя жизнь не дорога, что ты меня не спасаешь…
И опять вспомнила Веточку, нежные ее глаза, которые не переносят мыла, и то, что девочка не любит манную кашу: пусть он все это внушит той, здоровой и веселой, что придет в дом…
— И ты не клянись, что не женишься, не надо мне такой клятвы. Будьте только счастливы — и ты и Веточка… А фотокарточки мои убери, пусть никто не смотрит на них, не надо… Или нет, оставь ту, где я еще молоденькая, где волосы вьющиеся, помнишь? Да нет, ты уже не помнишь, какая я была… Но я не обижаюсь, нет. Больше, чем ты любил, ты любить не мог. Каждому свое… И я это сознаю и не плачу больше: мы жили хорошо… И, если я в чем перед тобой виновата, ты не сердись, я хотела, как лучше, я все про тебя понимала и знала больше, чем ты сам… Я болела за тебя душой. А если не могла перебороть свой характер, так это же не моя вина. И ты не виноват, что у тебя такой характер. Ты не умеешь расталкивать других локтями, ты всех пропускаешь вперед себя… — И раньше, чем измученный Владимир Павлович нашелся что сказать, Тоня произнесла, торжествуя: — И вот истина наружу выплыла. Теперь не я одна, все на заводе поймут, что ты за человек.
— А что я за человек? Самый обыкновенный…
Владимир Павлович оборвал на полуслове.
Вечер уже поглотил оголившиеся ветки, касавшиеся окна, деревья вырисовывались теперь смутно очерченной темной массой. На дальнем фоне, где строился новый больничный корпус, зажглись на башенных кранах огни. А самих кранов не видно было… И костер зачем-то развели на строительстве. Может, мусор сжигали, а скорее — грелись.
Тоня, молчала. Утомилась, должно быть. И сам он обессилел. Боялся шелохнуться, потревожить Тоню. Да и что говорить? Как оправдываться? Он уже все сказал, что умел, во всем обещал покоряться.
Но не мог ведь он согласиться с Тоней, признать: да, он одержал великую победу, его заметили и оценили. Ему и обидно и смешно стало: неужели он должен радоваться, считать за честь, что на банкете выпили за его здоровье? Не такой уж он мелкий…
Неудачником он себя не считает, это безусловно, но и удачником не может считать. Кто он? Просто честный человек. Хотел большего? Да, хотел. А чего? Славы? И славы, конечно. Ведь слава, она отражает и твои успехи и твои возможности — это факт. От этого никуда не спрячешься. И факт, что для призвания своего, для главного нужно уметь жертвовать всем, иногда даже ближних своих ставить на второй план. А он этого не умел.
Может, призвание и мстило ему, не приносило большой удачи, потому что не всей душой он своему призванию отдавался. Старался никого не обижать.
Старался-то старался, а Тоню все-таки обижал.
Теперь вот ходит сюда, кается, клянется: буду сидеть дома, буду всегда с тобой. А где же ты был раньше? Почему не видел, какая у тебя жена, сердился, дулся, убегал на бульвар любоваться чужим, красивым счастьем. Своего не замечал…
Тоня ласково окликнула его:
— Иди домой, что ты? Не выспишься, а завтра на работу…
— Я спать не хочу…
— И что мне только профессор завтра скажет, должен ведь он помочь?..
— Это точно. Это точно, Тонечка, дорогая…
А Тоня опять подтвердила:
— Нет, мне очень приятно, что все про тебя узнали…
Вошла Сима Соломоновна, маленькая, толстенькая, с плохо уложенными волосами, в туфлях со сбитыми низкими каблуками, строго посмотрела на Владимира Павловича: что это, мол, он тут делает в неурочный час, — взяла Тоню за руку, пощупала пульс. Тоня сразу присмирела, стала тихонькая, махонькая, как ребенок.
Сима Соломоновна велела:
— Спать.
— Не спится, — жалобно протянула Тоня. И удивилась: — Разве вы сегодня дежурите, Сима Соломоновна?
— Нет, я не дежурю…
— И так задержались, ведь с самого утра вы на ногах, — с укоризной сказала Тоня, — я думала, вы давно ушли…
Когда Сима Соломоновна вышла, Тоня бровью показала мужу: иди, мол, милый, иди, нельзя больше, не разрешается.
С трудом передвигая одеревеневшие от волнения ноги, Владимир Павлович пошел за докторшей и уже в гардеробе, робея, спросил:
— Надежда хоть есть, а, Сима Соломоновна?
— Как это может не быть надежды…
Ася вынесла пальто Симы Соломоновны и авоську с продуктами. Слегка покачиваясь с носка на пятку, она слушала, как докторша успокаивала Владимира Павловича, что завтра Тоню обязательно посмотрит профессор.
— Так всегда, — громко, но чуть в сторону, как на сцене, сказала Ася, будто ни к кому не обращаясь: — Сима Соломоновна вы́ходит, вырвет больную из лап смерти, а спасибо говорят профессору…
У Симы Соломоновны гневно сверкнули глаза, она даже руки подняла в ужасе, но Ася напялила на нее пальто и ушла за перегородку.
— Ася, я же вас просила…
Но Ася уже зашуршала жестким плащом Владимира Павловича и забормотала что-то насчет того, что она может и помолчать, ибо кто она, Ася? Маленький человек, разве у Аси есть право голоса?
— Это очень хорошо, что больные верят в профессора, — тактично поясняла Сима Соломоновна, заглушая Асино бормотание. — Наш профессор — прекрасный человек. И вообще профессор — это профессор, а мы рядовые врачи…
Владимир Павлович сделал то, чего никогда пе делал в жизни, — взял маленькую сильную руку докторши в свою и поцеловал.
Сима Соломоновна так удивилась, что не запротестовала, только тихонько отняла руку и сказала мягко:
— Не надо отчаиваться. Мы боремся и будем бороться… — По ее некрасивому, милому лицу прошла тень. Она как будто задумалась. Потом встряхнула головой. — У вашей жены, я бы сказала, вечером пульс был немножко лучшего наполнения. Это тоже что-нибудь да значит…
УМЕРЛА ЮРИНА МАМА Повесть
Днем, пока дети в школе, в подъезде бывало так пусто и гулко, что слышен каждый шаг, каждый звук. Соседки сразу учуяли неладное. К кому же это постучали так громко? И кто вскрикнул? Не Ольга ли Парамонова? Конечно, она. И так же, как перед грозой и бурей внезапно пробегает по затихшей траве ветер и тут же тревожно начинают шуметь листья, шелестят и скрипят ветки на деревьях, так застучали и заскрипели, распахнулись тонкие фанерные двери, выскочили на лестницу женщины в шлепанцах, в домашних платьях, выбежала из своей квартиры Ольга, вся в слезах и красных пятнах.
— Юрина мама умерла, — жалобно пояснила она. — А Юра в экспедиции. Все собирался к ней в гости, так мечтал…
Ей сочувствовали, охали, спрашивали, сколько до Средней Азии ехать; выходит, на похороны все равно не успеть, даже самолетом, — так долго шла открытка. Почему открытка, а не телеграмма? Вроде теперь не девятнадцатый век… И про возраст покойной спрашивали. И кто-то облегченно вздыхал, — ну, возраст большой, ничего не скажешь. А кто-то сетовал, что для матери у сыновей никогда не хватает времени. Сбегали для чего-то в школу, сорвали с уроков Ольгиных детей, привели домой, и они топтались в квартире, полной чужих людей, смущенные и немного торжественные, и не знали, как себя держать и что отвечать на вопрос, помнят и жалеют ли они бабушку.
И там, в командировке, где был Юрий и где не скоро догнало его письмо жены, — он был в разъездах, выбирали место для строительства завода, — тоже все были испуганы, растеряны и, когда кто-нибудь из бригады, забывшись, начинал громко смеяться или вспоминал анекдот, на него шикали: мол, ты что, забыл, у Юрия умерла мать. И сам Юрий, подавленный, несчастный, говорил каждому, как бы ища защиты и поддержки:
— Мама была замечательная женщина…
Он все порывался рассказывать про мать, вспоминать, горячо оправдывался, что не смог уговорить ее переехать к нему жить. Она мягкая, но упрямая, ни за что не хотела. Конечно, надо было настаивать, просить. Но как было знать… Даже не написала, что больна…
— Да ее вся улица уважала, все соседи. И с производством она не порывала, хотя и на пенсии… Она еще в те годы, после войны, работала на тридцати восьми ткацких станках, гремела на всю Среднюю Азию, — с гордостью говорил сын.
— А ты что, разве ты из Средней Азии?
— Ну да…
— Вот не подумал бы. Из Средней Азии, а блондин…
Мать давно схоронили, торопиться ехать не было смысла, да и нельзя было прекращать работу — очень уж подпирали сроки. Он работал, как все, старался никому не навязывать свое горе, даже как будто стеснялся своего отчаяния. Все-таки уже немолодой, мужик, не мальчик.
Геодезистки и лаборантки сочувственно советовали:
— Поплачьте, Юра, вам будет легче. Вот выпейте валерьянки…
Он пил валерьянку. Он плакал. Выходил один в степь и плакал.
Все дети во дворе были до черноты смуглые, с блестящими глазами, с темными волосами, а Юрочка был светленький. И соседки очень любили его. Тискали, тормошили. Как-то спросили:
— И в кого ты, Юрочка, такой? Ни в мать, ни… Может, в отца…
Полина была хорошо настроена, шутливо подхватила:
— Нет, не в меня и не в отца. В проезжего молодца, что ли… Сама удивляюсь. Я шатенка, и Коля был шатен…
Соседки очень смеялись. И Юрочка веселился. И когда они теперь нарочно спрашивали: «Юрочка, так в кого же ты?» — он охотно кричал: «В проезжего молодца!» И заливался смехом.
Мать в конце концов рассердилась. Ей все-таки досаждали эти колкие намеки, настырные расспросы соседок. И упрекнула мальчика:
— Ты меня компрометируешь…
— Чего? — затруднился Юрочка.
— Ах, вырастешь — узнаешь…
Юра долго еще играл в проезжего молодца. Выламывал длинный прут или палку, воображал, что садится на коня, и скакал по полям, по горам, по дремучим лесам, которых никогда не видел. Но мать говорила:
— Поедешь в гости к папиной родне, — ух, там и леса…
— А когда?
— Как когда? Когда позовут…
И она начинала сердито греметь посудой.
Юрина мама никогда не сидела просто так, отдыхая. Под вечер, когда спадала жара, все женщины в тапочках на босу ногу, в сарафанах, а узбечки в ярких, блестящих, длинных, почти до земли, платьях собирались на улице. Мимо дома протекал арык, полный небыстрой, мутной воды, а все-таки от него веяло прохладой. Но Полина сюда выходила редко. Как возвращалась с фабрики, с работы, так сразу бралась за домашние дела — то стирает, то варит что-то во дворе на мангале. А то возьмет карточки и убежит отовариваться, наказав сыну:
— Ты, Юрочка, играй тут, где тети. С мальчишками не убегай, ладно? Пойду, может, на какой талон чего и соображу…
Юрочка был у матери единственным другом, главным собеседником. Она ему все рассказывала: и какая плохая пряжа идет у них сейчас в ткацкой, и какой вредный характер у мастера Зейкулова, и, наоборот, какой симпатичный и интеллигентный начальник смены Ирина Петровна.
— Она же видит, как я стараюсь, какое даю качество. Я так считаю, Юрочка, раз взялась, так надо делать хорошо, на «пять» с плюсом. Я и в школе училась на круглые «пять».
Иногда она подходила к облезлому зеркалу, выбирая среди тусклых пятен сверкающие островки, взглядывала на себя, поворачивала голову то вправо, то влево.
— Я еще ничего, верно, Юра? Да если бы я только глазом мигнула, так тот же Зейкулов… Но я не хочу. У меня сын. Ребенок. А они, — она кивала на окно во двор, где на корточках сидели возле мангалов женщины, — они хотят влезть мне в душу. Я не желаю. Может, у меня на сердце рана, но ведь не показывать же, у меня есть чувство собственного достоинства. Но ты, Юрочка, не чуждайся людей. Люди, коллектив — это все. Понял?
Юра кивал.
— Ты во всем дворе самая красивая. Это дядя Юсуф говорит. Он мне дал конфету и сказал: «Твоя мама якши…» Он мне еще принесет…
— Ты, Юрочка, не бери. Скажи: «Спасибо, у нас у самих есть…»
— А где?
— Что где?
— Конфеты…
— За этот месяц мы уже выбрали, а в том месяце еще дадут. Или посылку вдруг пришлют…
— А кто пришлет? — простодушно интересовался Юра.
— Как кто? Папина родня. А если на улице будут интересоваться, так и ответишь: мол, папина родня прислала…
Однажды Юра спросил:
— А какая она, родня? Кто это — родня?
Мать растерялась:
— Ну, бабушка — это родня. Дедушка. Дядья там, тетки. Мало ли…
Но родня все не звала к себе в гости и не приезжала. И конфет Юре не присылала.
Когда мать уходила на работу, Юра оставался один. Играл во дворе, лепил из глины домики, окруженные дувалами, вокруг втыкал веточки — получался сад. Купался с ребятами в арыке, бегал к толстой Фатиме вместе с ее детьми есть лепешки. Она давала большим ребятам по целой, ему и младшей своей девчонке, плаксивой Алиме, по половинке.
— Белый ты мой, солнце ты мое, — говорила Фатима. И радовалась, когда Юра в порыве благодарности обнимал ее за шею, утыкался курносым носишком в мягкую, как из ваты, грудь. — Якши, якши малчик, добрый малчик…
А иногда мама долго не приходила с работы. Уже вечер падал на землю, темной становилась их комнатка в глинобитном доме, из всех углов выползала темнота, как выползает из конуры лохматая большая черная собака. Юре становилось страшно. Не хотелось больше бегать, но он не шел домой, все равно скакал и скакал на коне, держась поближе к тому месту, где сидели взрослые.
Иногда женщины спрашивали, заранее зная, как он ответит:
— Ты куда едешь, беленький?
— В гости.
— К кому же это?
Юра прекрасно видел, как Лиза, соседка, подмигивает другим женщинам, скучнел, но все же отвечал:
— К родне.
— К родне? А какая у тебя родня, Юрочка?
— Папина.
— А ты ее видел? — спрашивала неумолимая Лиза.
Врать Юра не умел.
— А письма тебе пишут? А посылки шлют? Очень скрытная женщина твоя мама, да другие не глупее ее.
Но тут не выдерживала Фатима:
— Зачем грязной ногой в душу лезешь? Зачем ребенка тревожишь?
Иногда и другие соседки начинали заступаться:
— И правда, Лиза, чего ты? Какое тебе дело?
— Мне? — Лиза хохотала, закинув назад голову на худой, жилистой шее и тряся звенящими длинными серьгами. — Разве я что плохое говорю? Я и сама люблю Полинку, только зачем же скрытничать? Я принципиально…
— Хорошенькое «принципиально», — вмешивалась немолодая уже Катерина Ивановна, сдававшая комнату Юрочке с мамой. — Что было, мы не знаем, а что есть, видим. Живет честно, ребенка содержит прямо-таки в стерильной чистоте. — Катерина Ивановна работала в госпитале и любила щегольнуть ученым словцом. — Нет, Лиза, ты неправа…
— Что ж он тогда не вернулся? Похоронки Полина не получала, пенсии не имеет, придумала какую-то родню…
— Мало ли что бывает, — говорила Катерина Ивановна. — Ведь вон когда война окончилась, а у нас в госпитале до сих пор раненые лежат. Один память потерял, другой не хочет изувеченный домой возвращаться. Мало ли… Нет, ты неправа, Лиза.
Лиза продолжала хохотать, кидалась целовать Юрочку, но ему неприятны были ее поцелуи. Как будто змейку брал в руки. Ребята как-то велели подержать, но она вырвалась, и ему дали за это сильного тумака. На тумак он не обиделся, а от воспоминания, как змейка скользнула из рук, долго вздрагивал. Он подвигался ближе к Фатиме.
— Иди, иди ко мне, мой малчик будешь…
Фатима обнимала Юру, ему становилось тепло.
Потом все постепенно расходились, и Фатима уходила варить ужин своему Рашиду, и Лиза убегала слушать радио. Катерина Ивановна иногда вспоминала:
— Шел бы ты домой спать, милый…
Юра отвечал:
— Я маму подожду…
И он оставался один у арыка. Над арыком рос большой тополь. Шумел листвой. Бросал, как круг, темную тень. Юра сидел в тени, как в шатре, а на улице — в лунные вечера — было светло. И в арыке дрожала, отражаясь, большая звезда. Юра трогал прутиком воду — звезда расплывалась. Потом он сгонял обратно золотистую воду, и снова была звезда.
Мать прибегала, тяжело дыша. Еще издали слышно было, как топают по переулку деревянные подметки. Она сердилась на Юру, что не лег спать, уводила его в дом.
— Горе мне с тобой. Думала — только бы добежать, добегу и свалюсь, ни чаю пить, ни есть не стану. В цехе жара, духота, воздух тяжелый, влажный. Станки как взбесились, то тут обрыв, то там, всю смену от станка к станку пробегала, совсем не осталось сил… Но ты-то небось голодный…
И она тут же начинала хлопотать, разогревать ужин, разбирать постель. Постепенно успокаивалась, веселела.
— Это хорошо, что электричество больше не по лимиту. Я уж тут, на плитке, разогрею. Нет, ты подумай, Юрочка, какое счастье, ну куда мне среди ночи было бы мангал разводить… Это же красота — на электричестве… Письма нам не было?
— Лиза говорит, что ты, мама, скрытная…
— Конечно, скрытная. А что толку не скрытной быть? Ешь, милый…
Юра ел, что было, — то суп, то картошку, то макароны. Летом мать покупала большущие алые помидоры, лук, осенью дешевы были виноград, арбузы, дыни. «Это надо же подумать — твой папа всегда поражался, что картошка и виноград здесь в одной цене. Он просто смеялся. А я привыкла. У нас в Азии почва для картошки плохая и климат слишком жаркий, сухой…»
Юра любил картошку. И мать, накладывая ему, иногда механически говорила:
— Поедешь к папе на родину, он говорил, у них картошка рассыпчатая, с кулак каждая…
Когда Юра подрос, то перестал спрашивать: когда? И мать все реже вспоминала про родню. А к зеркалу стала подходить чаще, смотрела на себя с тревогой, подолгу, словно ждала ответа. Выдернула однажды седой волос и заплакала.
— Отгулялась я, Юрочка, все… — Потом утерла слезу со щеки, поцеловала сына и сказала: — На работе, Юрочка, я незаменимый человек. Прибавляют мне еще станки…
— А Зейкулов? — деловито спрашивал Юра. — Не возражает?
— Что Зейкулов! Утрется! Сама Ирина Петровна сказала: «Я чувствую, что ты, Полинка, свободно освоишь еще станки…»
Она в лицах изображала, как Ирина Петровна, солидная, в белой кофточке с перламутровыми пуговками под синим рабочим халатом, ласково спросила: «Ну как? Ивановские ткачихи уже дают такую цифру». И она, Полина, ответила: «Что ж, и мы не хуже людей». И пояснила сыну:
— Я ведь и заработаю больше, соображаешь?
Юра пообещал тогда, — он уже не был такой хорошенький, стал длинненький, тощенький, вытянулся:
— Я работать пойду, куплю тебе еще лучшую кофту. Вся в пуговках будет…
— Нет, Юрочка, тебе учиться надо. Был бы папка с нами, он бы тебя учиться послал. Станешь инженером, как папа собирался стать…
— Мама, — Юра решился, — а вдруг… вдруг он живой?
— Нет, Юрочка, если бы живой был, он бы нас нашел…
— Давай уедем отсюда, — горячо попросил Юра. — Уедем, где нас не знают, станем в другом городе жить.
— Дурачок, а если папка найдется?.. Может, он в плену был? Может, адрес потерял? Мало ли что! Вон какие случаи Катерина Ивановна рассказывает, и в кино показывали такой случай… — Она распалилась. — С высокого дерева плевала я на женские пересуды, понял? А папка очень обидится, если он приедет, а нас нет…
— Что ж он тогда родителям своим не написал про нас? — уже жестко спросил Юра. — Не приказал, чтобы они нас любили?
Мать ответила, как маленькая, тихо, боязливо:
— Не знаю, Юрочка…
Мальчик горделиво развернул плечи:
— А нам и не надо, правда? Нам и без родни хорошо, да?
Она так же покорно согласилась:
— Ничего нам от них не надо. Я думала, им внук, сына ихнего сын, нужен. А если так…
И она махнула рукой.
Вечером долго плакала, перебирая старые письма, одно прочитала сыну.
— Любил он меня, ты послушай, как он писал: «Дорогая моя Полина». — Она повторила: — Дорогая… «Сердце ты мое». — Мать заплакала. — Недолгое было мое счастье, Юрочка. А встретилась я с ним так… Я ведь из детского дома, сирота. Пошла на ткацкую, комнатку тут у Катерины Ивановны сняла. Если бы не война, Юрочка, я бы училась, но раз война… Работаю. Велели нам над ранеными в госпитале шефство взять. Стали мы ходить в палату. Махорки им принесем, ну, платочки постираем, посмеемся с ними, лекарство подадим. Что сестры велят, то и делаем… — Она чуть покачивалась на стуле, полузакрыв глаза. — Да что рассказывать? Полюбила я. И он меня полюбил… Мне старшая сестра сказала: «Я даже удивляюсь, какие чудеса любовь делает. Больной-то пошел на поправку». И верно. То одни глаза на лице были, такой худющий. А тут смеяться стал, краска на щеках заиграла. Возьмет меня за пальцы, держит. А у меня пальцы шершавые, ногти сбитые. А он, как никто на нас не смотрит, пальцы мои целует… — Она вдруг резко встала. — А-а, что вспоминать, недолго все длилось, но что бросил он нас — вранье. В загс, правда, не успели сходить, но он сказал: «Ты моя жена. Буду жив — под землей найду». Значит, нету его в живых. А я все равно жду. Жду и жду. Так что, Юрочка, Лизе не верь, просто не хочется мне свою душу наизнанку перед всеми выворачивать. Ты самый что ни на есть законный, ты — дитя любви. А что нет у меня мужа, так мне и не надо…
— Мам, а можно я буду твой муж?
— Дурачок, ты же мой сын…
Мать, понятно, не выдержала и рассказала Катерине Ивановне о том, что предложил Юрка, а та рассказала другим. И долго потом женщины во дворе потешались над ним. Даже его любимая Фатима.
— Молодой еще, глупенький еще. Вырастешь — не захочешь с мамой спать. Захочешь спать с молодой девочка…
Юра, сам не зная почему, вспыхивал, заливался краской. Злился на мать, что все разболтала.
Сам Юра с возрастом становился более замкнутым, сдержанным, стал не таким ласковым, как был. Сердился на мать, что произносила иногда выспренние слова. Когда пришло время вступать в пионеры и Юра заговорил о том, что ему надо знать свою биографию, знать, кто его отец, мать неосторожно посоветовала:
— Так и говори: ты — дитя любви. Тебе стыдиться нечего…
— И откуда ты слова берешь такие дикие? Дитя любви!
— А в книжке встречала…
— В какой? Какое-нибудь допотопное старье?
— Это верно, — согласилась мать. — Книжка была старая, потрепанная. Еще в детском доме когда жили, девчонки откуда-то принесли…
— Понятия какие-то истасканные…
— Почему же, Юрочка, истасканные? Дитя — это самое обыкновенное слово. А любовь? Любовь тоже не устарела. Любовь — вечное чувство. Вот полюбишь сам…
— Ну, этого-то никогда не будет! — закричал Юра злобно. — Вот этого-то уж и не будет…
— Не кричи, не клянись. Жизнь сама покажет…
Юра швырнул карандаш на стол, всхлипнул, грубо, как никогда раньше, крикнул матери: «А ну тебя с твоей любовью!» — и выскочил из комнаты.
Полина пожаловалась Катерине Ивановне. Та уж совсем старая стала, на работу не ходила, сидела дома. Ведь все равно слышит через тонкую стенку каждое слово, разве от нее скроешься? Катерина Ивановна рассудила:
— От возраста это. Подросток. Переходный возраст.
Полина очень опечалилась.
— Был бы отец, разве Юра такое закричал бы? Нет, Катерина Ивановна, у него сомнение на мой счет бродит. А разве я заслужила? Если хотите знать, я имела серьезные предложения, но всех отринула, чтобы у Юрочки отчима не было…
— А зря, — покачала головой Катерина Ивановна, — зря ты свою жизнь загубила. — И как будто небрежно спросила: — Это ты про Юсуфа?
— Что вы! — Полина даже испугалась. — При чем тут Юсуф? У него жена, дети. Нет, это другой человек, но я отвергла…
— Выпороть-то Юрия следовало бы, чтобы не дерзил, — задумчиво посоветовала Катерина Ивановна.
— Что вы! Да он сильнее меня…
— Мужчин можно попросить. Хоть того же Юсуфа…
— Нет, Катерина Ивановна, — твердо сказала Полина, — так я своего Юру не унижу, лучше умру…
— Ох, натерпишься…
Несколько дней мать с сыном дулись друг на дружку, потом жизнь как будто вошла в свою колею. Мальчик явно жалел, что нагрубил матери, тщательно стал прибираться в доме к ее приходу и даже выстирал как-то чулки и платье, вывесил сушить во дворе на веревке.
Полина пришла с работы, так и ахнула:
— Что это ты, Юрочка? Это же не мужское дело.
— А какое?
— Женское.
— А у мужчин что, рук нет?
Вещи давно высохли на жарком солнце, а Полина все не снимала, любовалась, как картиной, этими коричневыми бумажными чулками, этим пестрым ситцевым платьем. Нарочно пошла к Фатиме попросить горячих углей для утюга — у той как раз топился мангал. Не в силах не похвастать, сказала с гордостью:
— Юрий постирал. Я пришла с работы, а белье уже сохнет…
Фатима расчувствовалась, и большие ее, круглые, как намазанные маслом, глаза заблестели от слез.
— Золото — не сердце. Золото — не малчик. Ай-ай, якши малчик! Жалеет мать. А что еще надо? Покой и здоровье, ничего больше не надо…
А самому Юре мать сказала доверительно, когда сели ужинать:
— Ты, Юрочка, правильно делаешь, что жалеешь меня. Уставать я стала. Видишь, кожа на лице уже не та, волос другой стал, не блестит, не вьется. А почему? Дум много. Вырастить, выучить тебя хочется, чтобы был хорошим человеком. Это моя главная идея. И о производстве думаю. Я, Юрочка, нашу родину от всего сердца люблю. Понимаешь? Хочу своим трудом для нашей родины все, что в моих силах, сделать. Мне говорят: «Ну что ты, Полинка, стараешься? Ты стараешься, а расценки снизят, тогда что? Тогда большинству урон». Или, мол, нормы повысят. Но ведь вся наша жизнь повышается, все темпы растут, почему же мы должны отставать? Так, Юра? Ты учишься, тебе государство завтрак в школе дает, меня на доске Почета повесили, а я должна быть неблагодарной и бесчувственной? Нет, так не пойдет. Зейкулову что? У него свой участок, его жена на Алайский базар персики корзинами носит. Он смену отработал, бежит скорее к себе на участок, в свой сад… А я вся тут, на производстве, со всеми потрохами, со всей душой… Конечно, трудно. Устаю. Побегай смену возле стольких-то станков, шутка? А хочется. И еще вот ученицу мне навязали, Машу Завьялову. Хорошая девочка, но боязливая. Не знаю, обучу ли.
— Ты ведь говорила, она старается…
— Стараться-то она старается…
Мать часто теперь рассказывала Юре о Маше Завьяловой. Юра даже немножко ревновал. И спрашивал:
— А какая она?
— Как это какая? Обыкновенная. Косы у нее…
И все обещала напечь беляшей и позвать Машу в гости, да почему-то не звала. То муки не было, то денег на мясо. А однажды, когда Маша явилась, Юры не было — уехал в пионерский лагерь.
Но в Юрину жизнь она уже вошла прочно, Маша Завьялова, как входили раньше то проезжий молодец, то дремучий лес из сказки, то таинственная папина родня, которая хоть и знать их не хотела, но все же где-то существовала. Ведь только эти люди, родственники, они одни могли сделать фигуру отца реальной, показать дом, в котором он рос, картошку величиной с кулак, которую отец любил, книги, какие он читал.
Мама мало что могла рассказать Юре про отца, все жалела, что его, такого молоденького, ранили; ох, как он ужасно мучился! Но был мужественный, страдал молча, не стонал, только кусал губы. И мама, когда приходила на дежурство в госпиталь, смачивала ему водой эти искусанные, растрескавшиеся губы. И тоже молча сидела около него. Он просил: «Расскажите что-нибудь». — «А я ничего не знаю». — «Ну, про детство свое расскажите». — «Я из детского дома, — отвечала мама. — Я сирота». Он закрывал глаза. Ресницы были длинные, «как твои, Юрочка, только черные, густые и красивые, как у женщины». Того, что имело значение для мамы, как он погладил ее исцарапанные руки, как предложил: «Говорите мне «ты», Полина, меня Коля зовут, Николай», — Юре было мало. Ну, хорошо, учился на инженера, а по какой специальности? На каком факультете? Мать не знала. То, что отец пошел добровольцем на фронт, когда мог доучиваться, нравилось Юре. Но ведь тогда все сражались за родину. Он уже наизусть знал все отцовы любовные письма и записки к маме, — писались они наспех, полны были заботы о ней, жалости, тревоги. О себе отец, когда уехал из госпиталя, сообщал скупо. Нет, Юра все-таки хотел бы разыскать папину родню. Хотел подробнее узнать про отца. Он даже ходил в военкомат выяснить, куда можно написать, как навести справки. Долго стоял в коридоре, пока не попал к военкому. Тот сказал грустно:
— Данные — откуда, кто — есть?.. Ой, мальчик, мальчик! Всю Россию война перекорежила, разве найдешь? Но мы запрос пошлем. Только не обнадеживайся. Оставь адрес…
Юра оставил, но ответа все не было и не было.
Мать вспоминала теперь отца реже, хотя не раз, приходя с работы, спрашивала взволнованно:
— Почтальон со двора выходил, не от нас?
— А кто нам будет писать?
Она уже не отвечала, как прежде, «папина родня», говорила:
— Ну, кто-нибудь…
На это Юра не отзывался. Иногда, чтобы отвлечь мать, спрашивал:
— Ну, как там твоя Маша?
Мать охотно рассказывала про ученицу:
— Такая дурочка, всего боится. Тут из пряжи выскочила мышь, так она подняла крик, люди сбежались. Зейкулов уж ругался-ругался, что всех переполошила…
Юра интересовался:
— А успехи как?
Мать перебивала:
— Ты лучше про свои успехи доложи. Не хулиганничаешь на уроках?
Юра только плечами пожимал, не снисходил до ответа.
— И откуда она взялась, твоя Маша?
— Как откуда? От отца с матерью. Отец инвалид войны, мать в магазине работает. Может, тебе еще про деда с бабкой анкету заполнить?
Юра обиделся. И сказал задумчиво:
— Вот у всех есть родня, есть корень — одни мы…
— Да разве я виноватая… — Мать тряхнула головой. — Соберусь с деньгами, платье красивое крепдешиновое сошью, вот зуб себе золоченый вставлю, может, и поеду к ним… познакомиться…
— Вот еще, ради них наряжаться…
Но мать ответила твердо:
— Ну нет, чумичкой, без зуба, куда я покажусь! Только себя срамить.
— Тогда я один поеду, — вдруг решительно сказал Юра.
Мать даже засмеялась.
— А во сколько дорога встанет?
— Не дороже денег…
— А деньги где возьмем?
Юра промолчал.
Но осенью, когда класс поехал на уборку хлопка, работал как взрослый и еще остался на уборке, когда школьники уехали; сколотил нужную на билет сумму, сказал небрежно матери:
— Поехать посмотреть, что ли, на эти дремучие леса, где папина родня…
— Как же ты один поедешь?!
— Ну и что? Не маленький. Я по карте уже весь маршрут изучил…
Тогда мать решила, что надо устроить «прощальный вечер» — купить селедочку, немного винца. А кого звать? Круг соседок во дворе поредел. Давным-давно уехала эвакуированная Лиза, причем расстались с ней друзьями: Лиза в три ручья ревела, Полина даже пошутила, что арык выйдет из берегов. Но и сама плакала. Долго стояла у калитки, пока отъезжала подвода с вещами. Вторая Лиза получила по ордеру комнату в другом месте. Фатима с мужем, молчаливым узбеком в полосатом халате, в белоснежной рубахе, распахнутой на коричневой груди, купили дом под городом. Фатима раза два приходила, хвастала: «Персик — пять деревьев, гранат — три, урюк, яблоко, один большой груша столько фруктов дает, как целый ларек. Муж на работу ушел, Фатима под дерево лег, пьет кок-чай. Одно горе, одна беда — скучаю без тебя, Полин, скучаю без твой Юрочка». Потом, видимо, привыкла, перестала ходить. Юсуф привез из района свою жену, обходит и Полину, и Юру стороной.
Осталась одна Катерина Ивановна, а то все соседи новые да чужие. Ну, позвали Катерину Ивановну, зачем-то пригласили мастера Зейкулова, уважили его, позвали Машу Завьялову. Кое-кто из соседок зашел. Подоспел Яков Иванович, слесарь. Принес заказанный Полиной ткацкий крючок. Его тоже пригласили к столу. Катерина Ивановна жалела, что не затеяли плов, она любила вкусно поесть, любила гостей, застолье.
— Я так считаю: хоть день, да мой, — проповедовала она. Катерина Ивановна уже давно продала комнату с террасой, потом продала вторую, а деньги проела. То курочку купит на базаре, то масла. Теперь надеялась, что, как только Полине с сыном дадут жилплощадь от производства, она въедет в их маленькую комнатку, а свою — большую — тоже продаст. — Как медицинский работник, я знаю, как мало стоит человек. Какая-нибудь инфекция, микроб поганый или этот ужасный рак, канцер, как мы говорим, — и нет человека. Так лучше я буду вкусно питаться и не думать о завтрашнем дне…
Но Полина не соглашалась, у нее был свой довод:
— У меня ребенок, Катерина Ивановна, я такой беспечной, как вы, быть не могу…
Как прошел вечер, что говорили люди, Юра не видел и не слышал. Смутно помнил только, что сидела за столом молчаливая, застенчивая девушка Маша Завьялова, разглагольствовал мастер. Мать всем объясняла, что Юра едет в гости к родне. Что ж, пусть людей поглядит и себя покажет, это и для развития хорошо — проехаться по железной дороге.
— Ни сына своего, ни жизни своей мне стыдиться нечего… — Полина явно бросала вызов, как будто ее могли услышать там, куда ехал Юра. — Ты это, сынок, помни, достоинства не теряй. Предложат тебе на обратный билет — бери, нет — и своими обойдемся…
— Вот с этим я не согласна, — возмутилась Катерина Ивановна и оправила на себе шарф, как будто изготовлялась к бою. — Как это так? Если да если предложат… Ты, Юрий, должен прямо сказать: «Дайте денег на обратную дорогу…»
— Я не корыстная, нет, — признавалась раскрасневшаяся Полина. — Если люди ко мне с добром, то и я к ним добрая. Вот Яков Иванович мне какой рабочий инструмент изготовил — красота. Нам ведь что выдают? — Она расхрабрилась: — Ты слушай, Зейкулов, слушай, мастер. Разве можно сравнить? В том, что на производстве выдают, и упругости никакой нету, отверстие шершавое, с заусеницами, так и обрывается нить. Ну разве я не поблагодарю Якова Ивановича? Вот с получки сразу и отдам, а то на Юрку истратилась. Вы уж не сомневайтесь, Яков Иванович, при всех говорю…
Яков Иванович обиженно мотал головой.
— Я делал любовно, полировал и рукояточку как раз по вашей ладони угадал. Так разве ж за деньги? Я так… Что вы…
— Как же это просто так? — отказывалась Полина. — Вы же меня выручили. Ведь когда одновременно обрываются десятки нитей, а их надо завести как можно скорее, тогда крючок все решает. Тут уж за деньгами не постоишь, от них рабочее настроение зависит. Верно, Маша?
— Верно, тетя Поля.
— Вот видите, — засмеялась Полина, обводя гостей своими кроткими карими глазами и подвигая поближе то винегрет, то большую миску оплывающего на жаре, словно живого, холодца. — Кушайте, кушайте, не стесняйтесь. Кончилась моя молодость, то все Полиной звали, а теперь уже тетей Полей зовут…
Она высоко подняла большую бутылку красного портвейна, стала наполнять рюмки. Яков Иванович свою закрыл ладонью.
— А я не согласный, — хмуро бубнил он. — Какие же вы старые, Полина Севастьяновна, вы в самом цвету, то есть, как до войны говорили, розан…
— А как не стариться? — не слушала его Полина. — Производство трудное, шум, работа в три смены… Станки разболтанные, у каждого станка свой характер, свои капризы, несмотря на механизм одинаковый, попробуй приноровись…
— Я тебе давно советовала, — чуть свысока, удивляясь Полининой глупости, сказала Катерина Ивановна, — поищи, где легче…
— Как же, Катерина Ивановна, у нас заработок высокий, я привыкла. Все говорят — шум, — а я и не слышу. Вы мне Машу не пугайте, — сказала она. — Не слушай их, Маша, хорошая наша работа, интересная… Верно я говорю, мастер?
Зейкулов вдруг обмяк:
— Говоришь-то ты верно и работаешь хорошо. Только характер у тебя вредный, умная чересчур… Умнее мужчин, умней, чем начальник, хочешь быть. Так тоже нельзя. Лучше живи тихо, живи смирно…
Тут снова взорвалась Катерина Ивановна:
— Полина умная? Да глупее ее нет! Все для других, все для справедливости. А надо жить для себя… вот как я…
Наконец и «прощальный вечер» остался позади, и само прощание, и проводы, и вокзал, и уже отрезанное от Юры раскалившейся на солнце стенкой вагона, видное через окошко, отчаянное в своей попытке улыбнуться лицо матери. Она что-то говорила, не слышно было — что, и от этого сердце мальчика стискивалось от страха и боли: казалось, что у матери нет сил подать голос. Юра никогда еще с нею не разлучался.
Ему стало вдруг страшно, до ужаса, до испарины. Куда он едет? Зачем? Взмокшими руками он вцепился в раму окна, в какие-то ремни, стараясь устоять на месте, не выбежать, не выскочить обратно на перрон. А сам храбрился, усмехался, подмигивал матери — мол, ничего: «Мы едем, едем, едем в далекие края».
Она не могла понять, кричала в волнении: «Что? Что?» — это угадывалось по движениям ее губ. Юра стал писать пальцем в воздухе: «Мы едем, едем…» — но мать отчаянно мотала головой: мол, нет, нет, не разбираю! И вдруг откровенно зарыдала, не отворачиваясь и не утирая слез.
К счастью, поезд дернулся и покатился. Юра не сразу понял, колеса стучат или его собственное сердце. Постоял у окна, пока не проехали город и пригороды, куда он не раз ездил с ребятами на экскурсии в ближние горы. Весной все склоны покрывались мелкими яркими тюльпанами, он всегда привозил матери большие букеты.
Поезд весело устремлялся все вперед и вперед, расталкивая плотную пелену зноя. Страх куда-то отступил, так прекрасно, ново и заманчиво было вокруг. И когда он вошел в купе, сел на полку рядом с авоськой, в которой лежали огромные ленивые дыни, приятным холодком остудившие его горячий локоть, сосед-старичок спросил:
— В первый раз путешествуете, молодой человек?
Юра соврал:
— Да нет. Уже приходилось…
— А что удивительного? — не то сам себе, не то другим пассажирам сказал старичок. — Никто теперь не сидит на месте, все передвигаются в пространстве. Тем лучше. В шахматы играете?
— В шашки.
— Шашки — это не игра. Между тем как шахматы отличная тренировка для ума.
— Вы что же, из эвакуированных? — расспрашивал старик, когда все-таки сели играть в шашки. И, узнав, что Юра местный, очень удивился: — В Средней Азии, как правило, люди черноволосые, а вы чистый блондин.
Юрке вспомнилась шутка про проезжего молодца, но он не стал ее приводить. Только виновато улыбнулся. А старик сказал:
— В шахматы играть я вас все-таки научу. Времени у нас предостаточно…
С той минуты, как поезд отошел от родного города, жизнь превратилась для Юры в один долгий, интересный урок — все чему-нибудь да учило его. Он спал мало, только пока длилась короткая летняя ночь, — боялся пропустить станцию, чтобы первым выскочить из вагона: то принести газетку старичку соседу, то опустить кому-нибудь письмо, то набрать кипятку или купить хлеба. Во всех купе его уже знали, приветливо звали: «Юрочка, идите к нам», «Давай сюда, Юрка, сгоняем в домино». Многие пассажиры еще донашивали военную форму, выцветшие гимнастерки без погон, но были и настоящие военные. Ехали женщины с детьми, кто с опозданием возвращался из эвакуации в родные места, кто ехал в гости,— господи, сколько лет не виделись с родственниками, детишки так повыросли, что их родные бабка с дедом, поди, не узнают…
Юрка слушал, такие разговоры особенно внимательно. «Этих-то ждут, — думал он, сразу суровея. — А я?» И экономил деньги, как мог, чтобы хватило на обратную дорогу. «Если они мне не покажутся, — думал Юра, — денька два поживу, наведу справки и уеду…» Он уже составил себе план: пойдет в школу, где учился отец, в военкомат зайдет, в райком комсомола. Может, товарищи отца найдутся. Ему ведь, Юре, ничего не надо — ни вещей отцовских, ни материальной помощи. Попросит фотографии, если есть, ну, хотелось бы, конечно, что-нибудь на память — книгу, что ли…
Спроси кто-нибудь у Юры, что он чувствует, он не сумел бы ответить точно. Но что-то в нем дрожало и пело, звенело, плакало и смеялось. Почему-то вспомнилась ему эвакуированная Лиза с серьгами, как звали ее во дворе, в отличие от другой Лизы, неэвакуированной, но тоже в сережках. Она выносила под тополь гитару, бренчала и пела тихим низким голосом и иногда говорила, подтягивая струны: «Я и сама вся как перетянутая струна. Вы не поверите, девочки». А толстая Фатима отзывалась осуждающе: «Терпения в тебе нету, ой, Лиз, Лиз! Пропащая твоя голова». Лиза неэвакуированная набрасывалась на Фатиму: «Тебе хорошо, корова ты толстая, когда твой Рашид дома! Война, не война, ты свое знаешь, рожаешь — и все». Фатима очень обижалась: «Злой язык, плохой язык… Зачем хочешь мои дети сглазить?» Лиза эвакуированная удивлялась: «Зачем вы обе так вульгарно истолковываете? Я говорила в высоком смысле слова — так хочется счастья. Я и правда как струна. Тронь — оборвусь». И хохотала.
Когда Юра передал матери этот разговор, она сказала виновато:
— И верно, Юрочка, ведь так хочется счастья…
Лиза давно уехала к себе в Ленинград, даже письмо оттуда прислала на имя Катерины Ивановны, но обращенное ко всем женщинам. Квартира ее уцелела, вещей, понятно, нет, мебель вместо дров сожгли в печке соседи, но ничего, под своей крышей и без мебели можно прожить. Муж, полковник, демобилизовался, болеет, у него сильно застужены ноги. Сережка ходит в школу. Лиза всем слала приветы и поцелуи, писала, что никогда не забудет их двор и товарищескую помощь, перечисляла всех ребятишек по именам, всем пожелала здоровья. А Полине передавала особо, что просит на нее не сердиться; если что было не так, то это только от нервов, а она Полину очень уважает как замечательную труженицу и сердечного человека.
«Ах, девочки, — писала Лиза, — как возьму в руки гитару, ударю по струнам, тут же вижу всех вас, вспоминаю и плачу…»
Теперь Юра и сам был как струна. Тронь — оборвется.
Таким он был всю дорогу, таким переночевал в Москве у старичка, с которым сдружился в пути, таким сел уже в другой поезд, который повез его в «дремучие леса». И вот Юра приехал в большой город, где леса не было и в помине, нашел улицу и дом и постучал в дверь.
Открыла старая женщина в домашних туфлях, с красиво причесанной головой, в очках.
— Ты ко мне? — спросила она. И вдруг вскрикнула, пошатнулась, схватилась за сердце. — Ты извини, — опомнилась она. — Ты по какому делу? От кого?
— Я Юра, — сказал Юра виновато.
— Юра? — Она опять закричала: — Какой Юра, какой? Боже, какое сходство… ты так похож на моего покойного сына, ты извини, мальчик…
— Я ваш внук. — Юра держал в руках свой чемоданчик, куда мать уложила его трусики и майки, и авоську с дынями.
На крик выскочила молодая женщина с волосами, накрученными на бумажки, в тесном халатике.
— Что с тобой, мама? Чем это так божественно пахнет? — Она переводила глаза с матери на Юру, как бы стараясь сообразить что-то. — Это тот… мальчик? Как похож на Колю! Я ведь вам говорила, мама…
— Тут дыни, — выдавил из себя Юра и протянул молодой женщине авоську.
— Как мило… Но что же мы стоим здесь, в прихожей? Проходи, мальчик, сюда…
И она распахнула дверь из темноватой передней в светлую, залитую солнцем комнату, выходившую окнами в сад. На стене висел большой портрет кудрявого, лобастого подростка с веселым, открытым взглядом.
Юра шагнул через порог.
— Это… ваш сын? Это… мой папа?
Он как будто не в комнату вошел, а в какой-то другой мир — так объяснял он потом матери, которая требовала, чтобы он все-все рассказал, каждый шаг описал, повторил каждое слово. Да, Юра вошел в новый для себя мир, наполненный новыми, незнакомыми ему вещами. Из мальчика, у которого на всем белом свете никого, кроме мамы, не было, он стал вдруг внуком, племянником, троюродным братом. Все обнимали его, и плакали над ним, и говорили: «Какое сходство, только Коля был темноволосый, а ты беленький». «Что, твоя мама русая?» — «Нет». — «В кого же ты?» Он пожал плечами. «И то уже хорошо, — сказала позже мать, — что про проезжего молодца не ляпнул. Представляю, что бы они про меня подумали». — «А тебе-то что? — проворчал Юра. — Пусть думают…» Вот это единственное и мучило его там, у папиной родни: как же они могли не отозваться на мамин голос, не ответить на ее письмо? А она ведь не одно послала, а два или три…
Бабушка теперь винила покойного деда — это он, он виноват, он говорил, что Коля вернется с войны и сам разберется, жена или не жена эта случайная, малограмотная девочка из Средней Азии.
— Ты меня извини, Юра, не обижайся, но что я должна была думать о твоей матери? — Бабушка вытирала платком глаза. — Они все твердили: не торопись, не вмешивайся, не нужно торопиться, Коля решит сам. А Коля был так молод, к чему ему такой поспешный брак? Он был способный, талантливый, с большим будущим, но опрометчивый, доверчивый, его мог опутать хоть кто… — Бабушка опять целовала Юру. — Потом дед уехал со своим госпиталем на фронт, он ведь был хирургом, твой дед, и попал под бомбежку. Погиб. Потом ожидание писем от Коли, надежды, дни, похожие один на другой, когда перестаешь понимать, как недели переходят в месяцы, потом угасание, умирание надежды. Я стала как камень, спасалась только работой. Ужасный быт, полуголодное житье… Ах, что теперь говорить! Мой старший сын Валентин тоже был на фронте. Твоя мама, конечно, осуждала меня?
Юра отрицательно мотал головой.
— Вы в Средней Азии, наверно, не знали голода. У вас там виноград, вот дыни…
— У нас виноград дешевле картошки, честное слово…
— Ну вот, ты слышишь, Ира? — говорила старуха дочери. — Ну чем мы могли им помочь? У них виноград был дешевле картошки…
— Но, мама, ведь одним виноградом сыт не будешь…
— Мы вещи меняли, — сказал Юра. — Мама платья свои сменяла, туфли. И по карточкам мы получали. У мамы ведь была рабочая карточка. По рабочим даже сахар давали…
Юре позволили отпереть шкаф, где тщательно хранились «Колины» игрушки и книжки, школьные и студенческие учебники, готовальня, первые альбомы с коряво нарисованными домиками и рулоны чертежей, горы любительских снимков, фотоаппарат.
— Аппарат ты возьми себе, он твой по праву, — решила тетка Ира.
Но Юра отказался:
— А у меня есть. Не новый, правда… Мать как раз премию получила, пошла на барахолку и купила. Юсуф с ней пошел, чтобы ее не надули. Он тогда еще один, без жены, жил…
— Это кто… Юсуф? Это друг твоей мамы? — осторожно спросила Ира.
— Да он со мной больший друг, чем с ней, — гордо сказал Юра. — В одном дворе живем…
— А почему же ты сказал — он жил тогда без жены?
— А его жена к маме ревнует, — простодушно сказал Юра. — Весь двор смеется. А маме он зачем? Моя мама знаете какая красивая… — Он задумался и прибавил: — Была… Когда приоденется, так и теперь еще хоть куда…
Позже мать осудила его за эту фразу:
— Они еще могли бог знает что подумать…
— Ну и пусть думают. Тебе-то что?
— Все-таки это папина родня.
— А ты им ничем не обязана.
— Так-то так, но… Ты этого еще не можешь понять, сынок…
Ну и пусть, пусть он не понимает, но он не мог все-таки простить им, этим новым родственникам, их отношения к его матери. А мама великодушно сказала:
— Я им не судья и не свидетель. Но ты подумай, Юрочка, вот я тебя ращу, в куске себе отказываю, все для Юры да для Юры. Все наши планы совместно с тобой строю. Юра, мол, вырастет, мы то, мы се… И вдруг пожалуйста — получаю письмо. Юра ваш больше уже не ваш, я его считаю своим и даже заимела от него ребенка. А они люди интеллигентные, ты ж сам говоришь — врачи, им это показалось обидно…
А жена Валентина, Юриного дяди, не оправдывала свекровь. Она как-то разоткровенничалась с Юрой, когда никого, кроме них двоих, не было дома.
— Свекровушка моя очень уж гордая. Ты думаешь, она со мной легко примирилась? Отнюдь. Разве кто-нибудь достоин стать рядом с ее мальчиками… Ух, и немалого труда мне стоило переделать Валентина на свой лад. У них только одно и слышишь: мама сказала, мама сделала, мама этого не любит… Правда, она заслуженный врач, что верно, то верно. У нее всюду ученики…
— У моей мамы тоже есть ученица — Маша Завьялова.
— Чему же она ее учит?
— Как чему? Работать на станке. Ткать. Моя мама знаете какая хорошая работница! Ее мастер невзлюбил, так начальник смены, инженер, говорит: «Вы что это? Она же наша лучшая работница…»
— Смотри, как ты гордишься своей мамой…
— А как же…
Эта самая Лялька, жена Валентина, должно быть, передала их разговор Ире, тетке, и та, когда они пошли гулять по городу, сказала ему:
— Это прекрасно, Юра, что ты так уважаешь свою мать. Она стоит того. Я ведь, честно говоря, тоже пострадала от бабушкиного деспотизма, все сидела и ждала заморского принца. Ты скажи своей маме, пусть она меня простит, что и я была такая дура. Я, правда, сердцем чуяла, что письмо искреннее… Сможет она меня простить?
— Мама ни на кого не держит зла… Наша соседка Катерина Ивановна даже удивляется: мол, ты слишком добрая, Полина, с такой добротой пропадешь. А мама считает — людям надо верить…
— Жаль, что она не получила образования.
— Когда же? — стал оправдываться Юра. — То была война, то я народился. Она говорит: «Ты учись, а я уж поработаю, но ты мне рассказывай, чему тебя в школе учат». — Юре очень хотелось показать мать в лучшем свете, нарисовать ее поярче, поцветистее, что ли. — Она песни любит, стихи. Есенина любит. В кино мы с ней ходим. Только про войну она не может смотреть, плачет… Она, если бы не зуб, может, со мной и поехала бы. Вот вставит себе золотой зуб…
— Золотой? Это ужасно. Это же ужасная безвкусица, — разволновалась Ира.
— А почему? — упавшим голосом спросил Юра. — Золотой — красиво, блестит.
— У каждого свой идеал красоты, — сердито сказала Ира. — Но ты ей передай, я прошу ее, как Колина сестра…
Юра обиделся.
— Пусть уж сама как хочет, — сухо сказал он. — Жила своим умом и дальше пусть живет…
— О, да ты колючий, — удивилась Ира. — А впрочем, ты прав. Извини меня… ты дал мне хороший урок…
Уже начался учебный год, надо было ехать домой, а Юру все не отпускали. Ира по вечерам, возвращаясь из школы, где преподавала, занималась с ним дома. Справку ему выхлопотали, — мол, болел. Бабушка и дядя Валентин вообще уговаривали его остаться у них, с ними.
— Тем более что часть этого дома принадлежит твоему покойному отцу, то есть тебе…
— А нам не надо, — испугался Юра.
— Как же это не надо? Положено. Ты посоветуйся с мамой. Или я выплачу тебе твою долю, — предложил Валентин.
— За что?
— Как за что? Это же дом, собственность…
— Нам от производства дали комнату…
Бабушка вдруг спросила:
— А может, и мама переедет?
— А у вас разве ткацкая есть? Не поедет она, если нет ткацкой…
Дядя Валентин рассердился:
— Чего нет, того нет… Но все-таки с родней рядом вам было бы легче…
— Мы привыкли, — сказал Юра.
Бабушка громко заплакала. Все кинулись ее успокаивать. А она твердила:
— Ты скажи маме, пусть она меня простит, пусть простит…
Когда Юра рассказал это матери, та тоже горько заплакала.
— Нету у меня на нее зла, нету… Да и какое может, быть у меня зло, когда она Колина мать. Юрочка, помни, мой золотой, святое это понятие — мать…
Юра устал от расспросов и слез, схитрил:
— А как там твоя Маша Завьялова?
Мать тут же заулыбалась.
— И не говори! Разряд получила. Такая самостоятельная стала, того и гляди, чтоб на пятки мне не наступила, не догнала…
— Тебя догонишь, как же…
Но мать не дала себя сбить:
— А насчет дома ихнего, насчет денег я так соображаю. Зачем же мы будем их хозяйство рушить? Был бы Коленька жив, неужели бы он родной матери материально не помогал? Помогал бы. Вот пусть это и будет наша ей помощь… мы ведь этот дом не наживали.
И после не раз повторяла:
— Много ли нам с тобой надо? Вот вырастешь, женишься, тогда…
— Я? Женюсь? — возмущался Юра. — Да ты что!
Он весь горел, даже уши начинали гореть. Но время шло, и эти намеки матери на неминуемую любовь, шутки про женитьбу все больше и больше интересовали Юру. Он теперь меньше стеснялся, меньше краснел. Даже сказал как-то, вернувшись из школы и задумчиво глядя в окно, как будто оттуда ждал ответа:
— У нас теперь многие ходят парочками, вот чудаки…
Мать осторожно поинтересовалась:
— А ты?
Юра ответил уклончиво:
— Я увлекаюсь спортом.
— Это нехорошо, что ты все один да один, — решила мать. — То к тебе хоть Виктор захаживал, а теперь и не показывается. Поссорились?
— Он теперь с Людой не разлучается. Ему и прозвание дали: верный рыцарь.
— Верный рыцарь — это неплохо, — задумчиво похвалила мать. — И Людочка хорошая девочка. Из хорошей семьи…
— Вот уж кривляка, принцесса на горошине… — Юра перехватил недоумевающий взгляд матери. — Сказка такая есть у Андерсена…
Мать призналась:
— Я тебе завидую, Юра. И книжки ты читаешь, и учишься, постигаешь. Я в твои тетрадки заглянула вчера — все цифры, все закорючки, — а я уже и забыла то, что знала по алгебре. Только и помню, что квадрат суммы, — она, как ученица, отчеканила, — квадрат суммы равняется… — И огорчилась: — Забыла…
Юрка захохотал.
— Смешная ты, мама!
— Хочется идти вперед, Юрочка, не хочется терять культурный багаж…
Юрка еще раз повторил:
— Нет, ты смешная, мама. Нашла о чем горевать — квадрат суммы. Надо же!
Но не смеялся. Только делал вид, что смеется, чтобы развеселить мать. Предложил:
— Хочешь, мы с тобой университет на дому организуем, я тебя буду учить?
— А время? Время где взять? Нет, Юрочка, поздно. И так мы с тобой совсем редко теперь видимся.
И верно, Юра был занят в школе — учился он хорошо, много читал, — занят в спортивной секции, писал длинные письма родне, участвовал в драматическом кружке. И поговорить с матерью толком не удавалось, только о житейском — что купить, что сготовить, хватит ли дров на зиму. Или там угля.
Только иногда, чаще в сумерки, вдруг заговаривали о чем-то таком, о чем не хотелось говорить при ярком свете. Как-то Юра спросил:
— Мам, а ты никого, кроме отца, ну, потом уже, не любила?
— Кого же? — коротко ответила мать. — Кого же я могла полюбить? Тогда был фронт, все мужчины на фронте… перебило многих. Нет, Юрочка, я памяти твоего отца оставалась верна. И ты, сынок, должен быть верным, если полюбишь.
— А я, — с какой-то отчаянной искренностью признался Юра, — я бы хотел любить многих. Мне многие нравятся — то рыжие, то кудрявые. Ведь в каждой девчонке… — он поправился, — в каждом человеке есть своя тайна, каждый человек чем-то другим интересен…
Мать пришла в ужас. Она ужасалась горячо, горевала, что Юра может вырасти распущенным, если не возьмет себя в руки. Он смутился.
— А иногда… хочется полюбить одну и любить ее до гроба… ну, как Фархад и Ширин, например.
— Любить одну — лучше, порядочнее, — обрадовалась мать. — А ты же совсем не испорченный, ты добрый. Мне бы так хотелось, мечтаю я, чтобы ты любил одну, всегда одну…
Юра пожал плечами. Даже вздохнул. Но обещать ничего не стал. А мать почему-то сняла с головы голубую косынку, подправила волосы. И сказала:
— Ты, может, помнишь, Юрочка, Якова Ивановича, слесаря, он мне ткацкие крючки замечательные делал, — так он очень уважал меня. Но я вроде не понимала этого. Или тебя Юсуф все конфетами угощал. А ведь это он метил в меня. И я могла вполне легко потерять голову. Молодая была, доверчивая. Но я не хотела, чтобы у тебя был отчим. Все-таки отчим не отец. Да он и нашего, русского обычая не знает, а ты русский. И как хорошо вышло, тебя потом признала папина родня, и они увидели, что я не ветреная. И пусть я живу одна, пусть тоскую, а голову могу нести гордо. У меня — сын, у меня работа, у меня мое собственное достоинство…
— Так разве ж можно равнять Юсуфа с отцом? Или этого, как его, Якова Ивановича? Конечно, он добрый был, я понимаю, но все-таки… что за интерес…
— А я и не равняла, — как-то жалко возразила Полина. — Я ведь всех отвергла… Но если правде в глаза смотреть, то человек он достойный был, вдовец, как раз под пару мне… Я ведь уже не девушка была, он меня с ребенком хотел взять, с тобой…
— Ну, о нем нечего горевать, — самонадеянно сказал Юра.
— Я не горюю, я рада, что тогда не увлеклась. Но это ты зря так… И Юсуф был видный мужчина, голову вполне можно было потерять, но вот ты первый меня бы и упрекнул…
Юра как бы опомнился:
— Ты думаешь, я не понимаю, что обязан тебе? Ты своей личной жизнью для меня пожертвовала…
— Ну уж, чем это я пожертвовала? — запротестовала мать. — Ничем я не пожертвовала… Юсуфом? Подумаешь, какая жертва! Зато у меня сын…
— Сын-то сын… — Юра не мог подыскать слов. Хмурил брови, краснел. — Одним словом, мать, я все понимаю и не забуду…
— Забудешь, Юрочка…
— Я?
— Забудешь, забудешь, не зарекайся. Да я ничего и не требую. Только бы ты был счастлив, только бы был человеком…
— А какой же я буду человек, если после всего да тебя забуду?
— Закон жизни, — вздохнула мать. — Но я не обижусь. Мне теперь ничего не страшно. Ты, слава богу, не один, не сирота — у тебя и бабушка есть, и дядя, и тетки… Что со мной ни случится, а ты не один…
— Да никто мне, кроме тебя, не нужен. Глупая ты, что ли, не понимаешь…
Но как ни кричал, как ни возмущался Юра, а сам сознавал, что мать занимает меньшее место в его жизни, чем раньше, когда он был маленький.
У него теперь были свои интересы, даже такие, которые он скрывал от матери. Нет, не потому, что они были дурные или их надо стыдиться. Просто хотелось иметь что-то свое, только ему одному принадлежащее. О многом он не мог расспрашивать мать — неудобно, она женщина. Стеснялся. Многое мать и сама не знала, не хватало у нее для этого образования, и хотя Юра очень ценил природный, пусть и неотшлифованный, ум матери, ее справедливость и прямоту в суждениях, восхищался ее тягой к знаниям, — он боялся своими вопросами ставить мать в неловкое, смешное или трудное положение.
С отцовской родней в этом отношении было проще, — даже наоборот, там он сам стеснялся показать свое невежество. Там он зорко следил и кто как держит вилку, и как правильно произносятся те или иные слова. А уж спрашивать мог сколько угодно, особенно у тетки Иры. С ней он сошелся ближе всего. Между бабушкой и им невидимой, но непроницаемой стеной все-таки стояла обида за мать. Бабушка часто звала его приехать, присылала деньги, подарки. Иногда в посылки вкладывала что-нибудь для Полины — духи, конфеты.
Мать умилялась:
— Какая она внимательная, Юрочка. Это же очень дорогие духи.
Юра сердился:
— Дорогие… Да ей больные все носят, у нее этих духов, этих конфет навалом.
— Нас это не касается. Нам важно, что она прислала.
А Юре не того хотелось. Хотелось близости, сердечности в отношениях между матерью и бабушкой. Хотя он понимал, что при свидании мать проиграет. Слишком она бесхитростная, слишком простенькая, скромная. Он даже сердился, если мать неправильно произносила слова:
— Я же тебе не раз говорил, мать… ну что это ты, мать, а? «Ляжь, ляжь»… Скажи: «Ложись, Юра, спать», а ты: «Юра, ляжь».
— Это спасибо, что ты меня учишь, — не обижалась Полина. — Очень вы, современная молодежь, восприимчивые. Все знаете. Вот моя Маша, золото, а не девчонка…
— Ты же говорила — застенчивая…
— Обвыкла. Выступать научилась. Куда там…
— У тебя только и свету в окошке, что твоя Маша.
— А как же! Она ученица моя. Я ей передаю секреты мастерства.
— Бабушка тоже хвалится своими учениками. У нее, мол, уже аспиранты, даже кандидаты наук.
— Так она же врач, доктор, а я простая ткачиха, работница.
— Ну и что? — так и вскидывался Юра.
А мать спорила:
— Все-таки…
— Ничего не все-таки. Каждый на своем месте. Ее портрет на доске Почета и твой.
Юра очень гордился успехами матери, и когда уезжал к родне, то обязательно увозил с собой заводскую многотиражку. И в городской газете частенько писали о матери, и в республиканской. И нередко говорили по местному радио, — но это уже приходилось пересказывать своими словами.
Бабушка, надев очки, внимательно изучала вырезки.
— Очень, очень похвально, — говорила она.
Тетка Ира к производственным успехам Юриной мамы относилась более равнодушно, но зато с интересом расспрашивала, что она за человек. Какой характер? С теткой Юра разговаривал совсем свободно, не боялся, что «продает и предает» мать, все говорил как есть. Тетка сожалела:
— Жаль, конечно, что она не училась. Но ведь не в образовании счастье. У меня, например, высшее…
Эту тему всегда охотно развивала и Ляля, Лялька, как ее называл муж, дядя Валентин, когда оставалась с Юрой наедине:
— Ты не думай, что я сплетничаю, я Иру люблю. Но увядает, увядает наша Ира. И умная, и начитанная, а счастья нет. Ты скажи своей матери — пусть не забывает, что годы уходят, пусть помнит…
Дядя Валентин, когда приезжал со стройки «на минуточку», пообедать, тоже иногда заговаривал с Юрой о матери:
— Нехорошо, сам знаю, что нехорошо… Надо бы съездить познакомиться, раз она такая гордая женщина, к нам приехать не хочет. Тем более что мы поступили по отношению к ней как свиньи. Но у строителей отпуск зимой, тянет на юг, — куда уж тут ехать к вам, через всю страну. Но мы с Лялькой обязательно к вам приедем, клянусь.
Он снова и снова заговаривал о том, что считает долгом чести выплатить Юре стоимость его части дома, но жаловался, что денег не хватает. «А впрочем, — утешал он сам себя, — деньги тебе сейчас не нужны, лучше уж когда станешь старше».
Юра не решался возразить.
Он всех их теперь любил — и дядю Валентина, и Ляльку, и тетю Иру. И бабушку полюбил. Однажды зашла соседка, когда бабушка разглядывала в газете, привезенной внуком, мало похожий, невыразительный портрет Полины. Соседка поинтересовалась:
— Кто это?
— Это Колина вдова, — твердо ответила бабушка, вскинув свою гордую, с затейливо причесанными седыми волосами голову. — Это Колина вдова, ткачиха.
— А-а… — с подчеркнутым интересом, понимающе протянула соседка.
— В нашей стране, — поучительным тоном сказала бабушка, — к людям труда относятся с большим уважением…
И то, что бабушка впервые назвала маму «Колиной вдовой», окончательно примирило Юру с бабушкой.
Он рассказал матери об этом, когда вернулся домой. И мать, разглядывая с волнением подарки, которые Юра получил от родни, — спортивный костюм, книги, коньки, белую рубашку с короткими рукавами и карманчиком, на котором была вышита теннисная ракетка, — сказала:
— Для меня самый дорогой подарок, что она меня признала…
— Мы не должны на нее сердиться, — сказал, извиняясь, Юра. — Она старый человек, у нее пережитки, всякие там предрассудки…
— А я не сердилась, мне только обидно было…
— А я сердился… Я за тебя горло всякому перегрызу…
— Глупый, ты же не волк, что значит «перегрызу»?.. Ребенок ты…
— Я?
Нет, он уже не был ребенком. Он уже много знал, понимал, перечувствовал. Когда он в последний раз приехал к бабушке, все заметили, как он возмужал. Тетка Ира сказала:
— О, ты очень поумнел! Браво!
Бабушка нашла, что мальчик все более начинает походить на отца, на ее сына Колю. А Лялька заявила бесцеремонно:
— Ты становишься мужчиной, Юрка, смотри, у тебя пробиваются усы…
Юра покраснел, хотя ему даже лестно становилось, когда он видел в зеркале темноватый пушок над верхней губой. А Лялька приставала:
— Может, ты уже и женщинами интересуешься, а, Юрочка?
Ира прикрикнула на нее:
— Не болтай, угомонись!
Но Лялька беспечно бросила:
— Ханжа. Современные мальчики да и девочки тоже прекрасно знают, что не аист приносит детей. Да, Юра? — Она пристала: — Ну, скажи, скажи…
— Мы же проходим биологию, — буркнул Юра.
Тетка Ира демонстративно вышла из комнаты, сверкнув на невестку сердитым взглядом, а та продолжала:
— Больше не задаешь глупых вопросов?
Юра самодовольно улыбнулся.
Это была их тайна, их маленький секрет. Когда Юра приехал в первый раз и считался совсем еще маленьким, несмышленышем, он вошел в спальню Ляльки и дяди Валентина, когда Лялька примеряла перед большим старинным зеркалом ночную сорочку и раздосадованно выговаривала белошвейке:
— Нет, нет, широко и некрасиво. И потом я же вас просила, Серафима, сделать погуще рюшки. Белье должно быть элегантным.
— И ничуть не широко, — тупо твердила Серафима и дергала своими красными, толстыми, грубыми пальцами оборочки. — Ведь не платье…
— Хорошо еще, что у меня нет любовника…
И Лялька, и Серафима захохотали.
А Юра долго ломал свою лобастую голову, не понимая, почему они хохочут. Он спросил потом у Ляльки:
— Любовник… это кто?
Лялька, как всегда, смотрела в эту минуту в зеркало, расчесывала свою челочку.
— Любовник? Ну, тот, кто меня любит.
— Дядя Валя?
— Дядя Валя — это муж. А любовник… это чужой мужчина, ну, понимаешь? Ох, подурнела я тут с твоим дядей Валей! Никто меня больше не любит.
— Ира тебя любит. И я люблю.
Она затискала, зацеловала его. Предостерегла:
— Ты только при бабушке не вздумай болтать такие глупости.
Но он как-то и сам почуял, что бабушке не надо рассказывать ничего. Он не только бабушке, но и матери, когда вернулся домой, не стал ничего про этот случай рассказывать. Только сказал, что Лялька моложе дяди Вали и много красивее.
— Что ж у нее детей нет? — пожалела мать. — Скучно ей без ребенка.
— Она веселая, поет… Нет, ей не скучно.
Конечно, теперь он стал старше и прекрасно понимал, какую сморозил тогда глупость про любовника, но не стыдился, ему даже приятно было, когда Лялька подшучивала над ним, подмигивала ему, напоминая, что у них есть свои секреты. Когда он, сидя за столом и согнувшись над книгой, забывал обо всем на свете, она иногда подкрадывалась сзади и закрывала ему ладонями глаза. Он тут же узнавал и запах ее ладоней, и прикосновение острых грудок, туго обтянутых лифчиком, но хитрил, тянул время:
— Тетя Ира?
— Это я, дурачок, я…
И Лялька отнимала ладони.
А в последний раз, когда он приехал, сказала разочарованно:
— Ты уже повзрослел. Жаль. Теперь с тобой и поиграть нельзя. Опасно.
— Почему? — спросил он с замирающим сердцем. — Разве я кусаюсь?
— Нет, опасно, опасно, — словно не ему, а себе твердила Лялька. — А жаль, так хочется поиграть с ребятеночком.
Этого Юра тоже матери потом не рассказал. И того не передал, как тетка Ира пожалела:
— Лялька, в сущности, несчастная женщина. Валя тюлень, кроме стройки и пива, ничем не интересуется. А у нее ни детей, ни умственных запросов. Впрочем, тебе этого еще не понять…
Но Юра уже многое понимал. Каждый день, каждый миг приносил ему новые открытия. То, что раньше казалось ясным, простым, незыблемым, теперь оказывалось совсем не простым, и не ясным, и не постоянным. Мать иногда смотрела на него со страхом, когда он лежал на своей тахтушке, закинув руки за голову, смотрел в потолок и подолгу молчал.
— Не думай, — просила она. — Выскажись — легче станет. Ну что ты? О чем ты? Кушать хочешь?
— Я не голодный.
— А хочешь, чайник поставлю? Коврижка есть.
— Нет, не хочу.
Матери хотелось успокоить, отвлечь мальчика от мрачных мыслей. Она не знала, как, чем.
— Юрочка, мы денег соберем, тебе новый костюм справим, хочешь? Ордер на пошив мне дадут…
— Не надо, — почти со злобой отказывался он.
— А чего ж ты томишься, Юрочка? — ласково, с тревогой спрашивала мать. — О чем тоскуешь?
— Не о костюме же, — сердился Юра. — Я о таких глупостях и не думаю. Костюм! — презрительно фыркал он. — Может, я о тайнах мироздания размышляю, а она — костюм…
Мать недоверчиво усмехалась.
А после того, как он все лето провел не дома, вдруг упрекнула:
— У меня свои заботы, а тут еще ты сердце рвешь, лежишь — думаешь не знаю о чем…
Он и сам уже подозревал, что у нее заботы. Маша Завьялова начала на работе обгонять мать. То есть она еще ее не обогнала, мать работала теперь на сорока восьми станках, а Маша только-только осваивала свои тридцать. Но так уж как-то повелось, что про успехи и достижения матери говорили все реже, как будто это само собой разумелось, а Машу все чаще и чаще хвалили. И председатель завкома даже сказал Юриной маме:
— Надо поднимать молодые кадры. Будущее за ними. Честь тебе и хвала, Полина Севастьяновна, что ты выучила Завьялову.
Это ему еще весной, до летних каникул, со смехом рассказала мать, когда вернулась с работы. И он тогда еще, весной, забеспокоился:
— А ты что? Старая?
— Ну, не старая пусть, но я уже опытная работница, что ж меня хвалить… Сам знаешь — молодым везде у нас дорога… — И, как бы позабыв, о чем шел разговор, начала назидательно наставлять сына: — Вот ты и иди, Юрочка, все вперед и вперед. Не останавливайся. Я такая радая, что ты драмкружком увлекся. Может, у тебя талант…
— То-то и оно, что нет таланта, — так и вскочил, завелся Юра.
— Кто это тебе сказал, что нету?
— Я сам вижу…
Но тут он кривил душой. Ему казалось, что талант у него есть. Если бы дали главную роль, яркую, он бы показал, на что способен. А роли ему доставались маленькие, неинтересные. Он и на репетиции приходил первым, и сидел до самого конца, и ел глазами режиссера — так внимательно слушал пояснения, и учил назубок роль, не только свою, но и всю пьесу. И, как будто в награду за его рвение и труды, в насмешку, режиссер просил:
— Будь другом, Юрий, посуфлируй. Ты очень вдумчиво изучил текст…
Но когда после спектакля участники, румяные, красивые от грима, выходили под аплодисменты кланяться, Юра, пыльный, с пересохшим горлом, вылезал из суфлерской будки и стоял в сторонке, как будто он совсем никто. А Люда, накланявшись, проходя мимо него вместе с Виктором, упрекала:
— Ты очень плохо подавал текст сегодня. А я с большим трудом вспомнила, что надо сказать. Ты представляешь, Виктор…
Витька посмеивался:
— Загляделся на Ольгу Копейкину, не иначе…
— На Ольгу? Ах, вот как! — глаза у Люды сверкнули.
Юра кинулся бы на Виктора с кулаками, но Виктор еще недавно был его другом — это раз, а во-вторых, не хотелось выдавать себя. И Юра притворно хохотал.
А все-таки сказал однажды Люде:
— Неужели ты веришь, что я гляжу на Ольгу? Я гляжу только на тебя…
— На меня? Но… но ты ведь меня чуждаешься с некоторых пор…
— Виктор мой друг, а я никогда не становлюсь поперек дороги другу.
— При чем тут Виктор? Разве у него есть права на меня?
— А то нету? Ты же с ним не расстаешься…
— Виктор мой товарищ по искусству, — надменно сказала Люда. — Я свободный человек.
— Не врешь? — переспросил обрадованный Юра.
Люда его совсем измучила, иссушила своими капризами, своим непостоянством. То заявляла, что будет учиться на настоящую актрису, а на школу ей наплевать, то снова начинала дружить с Виктором и шептаться с ним на переменках, то вдруг вспоминала: «Юра, ты же мой сосед, пойдем домой вместе». Из-за нее он не написал контрольную по алгебре и чуть не завалился на устном экзамене. Из-за нее готов был отказаться от поездки к бабушке и решился ехать только тогда, когда выяснилось, что Люда все равно собирается с матерью на все лето в Крым. Она обещала оставить свой адрес, а потом уехала и адреса не оставила. Он решил, что надо забыть ее, забыть как можно скорее. И мечтал, что когда они встретятся осенью, то он войдет в класс небрежной походкой, небрежно скажет: «Хэлло, Люда, как дела?» — и плюхнется на свою парту, даже не поворачивая головы в ее сторону и не слушая ответа.
Он старался забыть ее в те дни, что жил дома, и старался забыть ее, когда гостил у родственников, — и там он был совершенно уверен в том, что преуспел в своем намерении, очень уж интересно жилось ему в гостях. Ему отдали велосипед отца и удочки, а бабушка дала ему прочитать дневники отца и сказала: «Конечно, они принадлежат тебе, но пусть, пока я жива, они побудут у меня, это самая моя большая драгоценность». Юра вчитывался в дневники, и они сказали ему об отце-юноше больше, чем все рассказы матери, и бабушки, и тетки. И так трудно ему было представить рядом, вместе, усталую, простенькую, немолодую маму и мальчика-отца. «Каких разных людей сводит любовь», — с грустью думал он, с грустью и удивлением. И понимал, что с Людой они тоже совершенно разные. И он старался, пламенно хотел ее забыть и так же пламенно хотел быть верным, несчастным, влюбленным без взаимности. Хотя роль небрежного, уверенного в себе мужчины, хладнокровного сердцееда тоже улыбалась ему.
В этот его приезд с ним много и откровенно, как со взрослым, говорили и бабушка, и Лялька, очень верившая в его преданность, и тетка Ира, которая все еще тосковала о чем-то и на что-то надеялась. Ее не радовала жизнь в родном доме, в родном городе, она все хотела уехать, а куда — не знала сама. «Глотнуть свежего воздуха, — твердила она, сердясь на мать. — Уеду, а там видно будет». А бабушка строго спрашивала: «Зачем это? Валяться на чужой кровати, на чужих простынях? Не смей и думать об этом. Закроешь мне глаза — тогда пожалуйста, на все четыре стороны». И тетка Ира шептала Юре, не плача, а, наоборот, устремив на него сухие и воспаленные глаза: «Я как птица без крыльев. Нет, какая там птица, просто курица, несчастная, жалкая курица, которой перевязали крылья, чтоб не перелетела через забор на соседский двор».
— Она просто изнемогает без любви, — шепотом комментировала ее настроение, ее душевное состояние Лялька. — Любовь… Ты, Юрочек, еще не понимаешь, что это такое — потребность в любви…
— Почему? Я понимаю…
— Ну, откуда же?.. Ничего ты не понимаешь. Хоть бы Валя поговорил с тобой. Все-таки ты растешь без отца…
И дядя Валя, видимо нашпигованный и настроенный женой, как-то, когда остались вдвоем, краснея и пыхтя, промычал:
— Ты того… брат. Курево, я надеюсь, тебя не соблазняет или тем более, упаси бог, алкоголь… Но… я все-таки вместо отца в известном роде, так ты уж не подводи меня. Как друга прошу… У баб, у женщин, должен тебе сказать, бывают дурные болезни…
Вид у дяди Вали был такой жалкий, что Юра засмеялся.
— Вы, дядя Валя, не беспокойтесь. Ничто мне не угрожает.
Дядя Валя очень обрадовался:
— Ну и прекрасно. И не влюбляйся почем зря… Хотя ты, если пошел в отца, будешь серьезным. Это я, стыдно сказать, готов был бежать за каждой козой…
Тут уж Юра захохотал. На его смех выскочила Лялька.
— Ну, поговорил, поговорил, предостерег? — обрадовалась она. — Ну и прекрасно…
— Юра очень благоразумный мальчик, — похвалил дядя, вытирая взмокший лоб.
Но Лялька не поверила.
— Ну, нет, — сказала она. — В тихом омуте черти водятся. Это натура, которая глубоко и сильно чувствует…
Польщенный Юра неопределенно пожал плечами: «Думайте как хотите, но, конечно, я глубоко и сильно чувствую…»
Он нагнетал, накачивал, как накачивал насосом колесо на велосипеде, свои чувства к Люде, смотрел на звезды, думая о ней, попытался сочинить пьесу для их школьного кружка и написать специально для себя роль, играя которую он мог бы со сцены все сказать Люде о ее коварстве. Но жилось ему весело, он ходил к соседям играть в волейбол с большой компанией своих сверстников, ездил с теткой на велосипеде по окрестностям, и страдания его затихали. Но когда он вернулся домой, опять стало у него неспокойно на душе. Люда загорела, выросла, таким же движением плеча, как и Лялька, стала поправлять бретельку на лифчике. И Виктор стал другим, рослым, плечистым, почти не скрывал, что курит. Все они за это лето перестали быть детьми.
Мать, почуявшая перемену в Юре, стала тревожиться, когда он вдруг умолкал и задумывался, хотя у него и раньше была привычка уходить в себя. Но тогда мать только смеялась: «Опять сон наяву видишь?» Теперь она чего-то боялась.
Но как ни глубоко был погружен Юра в свою жизнь, в свои переживания, он не мог не заметить, что мать тоже переменилась.
— Ты что? — спрашивал он. — Заболела?
— Здорова я, Юрочка. Так что-то…
Он знал, что фабрика, на которой работает мать, включилась в соревнование. Ткацкий цех был передовым на фабрике, а мать была по всем показателям впереди всех. Поговаривали — матери об этом намекнули, — что если цех и фабрика опять завоюют республиканское знамя, то предприятию будет оказана честь выдвинуть кандидата в депутаты от их избирательного округа, а тогда… догадывайся, Полина, сама, что тогда будет…
Она не догадалась. А когда объяснили, не поверила. Закричала: «Что вы, что вы!» А потом, когда ее вызвали в партком, снова и снова зачем-то расспрашивали о ее жизни, проверили анкетные данные, когда сказали: «Ты разве сама не знаешь, что у нас много в правительстве рабочих, да что много — большинство», — она начала верить.
Дома осторожно рассказала Юре, только заклинала его никому не передавать, не сболтнуть, это же государственная тайна.
— Видишь, Юрочка, — сказала она, чуть не плача от умиления, — значит, есть правда. За всю мою жизнь, за то, что работала самоотверженно, честно, себя не жалела, вышла мне награда. Не знаю только, как я все переживу, выдержит ли мое сердце такое переживание…
— Мам, если тебя вызовут в Москву, — попросил Юра как будто в шутку, — ты и меня возьмешь, ладно? Очень мне хочется побывать в Кремле. А оттуда, может, и к бабушке вместе двинем? Представляешь, как они удивятся!
Она совсем как девочка стала, его мать. И плакала, и смеялась, и песни тихонько пела, и решила, что ей нужно срочно улучшить почерк: каждый день подолгу, высунув язык набок, как первоклашка, списывала из газеты трудные слова. А на работе! Там она как яркий факел горела — так старалась. Похудела даже.
— Нет, Юрочка, — все-таки говорила она, сомневаясь, — не перенесу я этого, не выдержу…
А он смеялся:
— Как не стыдно, ты ж будешь государственный деятель, а такая трусиха. Возьми себя в руки. Смелее…
— Был бы жив Коля, вот кто бы порадовался за меня. И порадовался бы, и поддержал…
Она совсем утратила покой. Как-то глубокой ночью разбудила сына.
— Юра, — говорила она, расталкивая мальчика, — а если законы будут принимать, то и я, значит, буду принимать?..
— А как же, — пробормотал сонный Юра.
— А если я не пойму, не разберусь?
— Ты же не одна. Там много людей будет.
— Все-таки… — покачала головой Полина. — Юрочка, так хочется, чтобы народу жилось хорошо. Трудно ведь люди живут, трудно…
— Это временно, мама, — сказал Юра. — Ты что, не читаешь газет?
— Нет, не верю я, что меня так высоко поднимут, совсем простого человека. За что? Разве мало таких, как я…
— Ну и не много, — проворчал Юра. — Дашь ты мне поспать, мам, или не дашь?
— Юрочка, — сказала Полина, тоскуя, — ты уж прости меня, Юрочка. Но я ведь одна. Нету у меня друга, кроме тебя, сынок. А я все думаю, никак не усну. Может, это оттого, что луна в окошко светит, но не спится мне.
Юра тоже сел на кровати, сбросил тонкое одеяло и, чуть ежась от ночной свежести, посмотрел на мать:
— Мам, а если спросят тебя, какой бы ты закон хотела ввести, что бы ты ответила?
Она подумала.
— Ах, Юрочка, всех женщин сделать счастливыми — вот моя мечта…
Юра удивился. Спросил:
— Надо же. А как?
— Не знаю, — честно созналась мать. — Но только женщине так нужно счастье в жизни…
Юра уточнил:
— Любовь?
— Может, и любовь, не знаю.
— А мужчинам? Мужчинам что, не нужно счастья?
— Мужчина все-таки погрубее характером…
А потом как-то случилось, что в цех приехал фотограф из центрального журнала, фотографировал работниц и мастеров, опять спрашивал и записывал все данные. Мать в тот день пришла с работы поздно, все, оказывается, давала сведения и рассказывала о себе.
— Он еще и такой снимок сделал, — хвалилась она, — мы стоим вдвоем с Машей, я будто ей рассказываю и показываю, передаю опыт. Очень мне было лестно…
Но потом, когда журнал вышел, портрета матери там не оказалось, а снимок Маши был на обложке, во всю страницу, в красках.
— А глаза у Маши как живые, надо же! И рот, — захлебывалась от восторга Полина. — И щечки ее румяные. А родинки почему-то не видать, загладили, — радовалась и гордилась она. — Это надо же, такое сходство…
С портрета, в сущности, все и пошло. На фабрике как будто впервые увидели Машу. И из ЦК комсомола республики приезжали на нее поглядеть: что, мол, за жемчужина у них вдруг нашлась, что за роза расцвела в их саду?
Мать ликовала и посмеивалась:
— Не замечали, пока их не ткнули пальцем. Не знают даже свои молодые кадры. Думали, что, кроме меня, на фабрике и людей больше-то нет…
Но с предвыборного собрания, когда кандидатом в депутаты была выдвинута, как лучшая молодая работница, не она, а Маша, мать вернулась убитая. Но молчала. Делала вид, что ей безразлично, и только через несколько дней сказала сыну:
— И все-таки по работе Маше еще далеко до меня. Она и лишнюю нитку не заведет, как я. И станок не разгонит. Руки еще не те… И я ведь их не просила. Я ведь не думала никогда, не смела и думать, и надеяться, они же мне сами сказали. И анкету с меня списывали. Нет, Юра, правды, нету… — А потом она как будто спохватилась: — Это я, детка, сгоряча, не подумав сказала. Видно, так надо…
— Она должна была отказаться, если имеет совесть, — решил Юра.
Мать не спросила: «Кто?» Поняла. Откликнулась живо:
— Что ты, разве от такого отказываются?
И в голосе ее было столько затаенной боли, столько выстраданного, что Юра понял, как ей трудно улыбаться и делать вид, что все правильно. «Правильно, так и надо, и я очень, очень рада», — было написано в горделивом взгляде Полины, пока она находилась среди людей, на фабрике. Только от него, от Юры, мать не смогла утаить то, что переживала на самом деле.
— Несправедливо, — повторял Юра.
И вдруг почувствовал себя маленьким и беспомощным. Вот все хвалился, что горло перегрызет всякому, кто обидит мать, а тут…
— Мам, я напишу, я…
— А что писать-то, на что жаловаться? Воля народа.
— Да какая там воля народа, народ-то при чем?..
— А при том, что народ молчал, не возражал. Когда уж за Машу проголосовали, некоторые спрашивают: «Полинка, что ж не тебя?» Но я не скажу, — она опять нашла в себе силы, — Маша Завьялова дорогого стоит… Перспективная.
— А что стоит-то, что? Ты на сорока восьми станках работаешь, а она на тридцати…
— Там виднее, — мать показала куда-то ввысь, под звезды, где сидел, как ей казалось, весь треугольник — и директор, и завком, и партийная организация. — Да и к чему мне это? — покривила она душой. — Маша молодая, свободная, грамоты у нее побольше моего, она куда надо поедет, где надо смело выступит, а у меня ребенок…
— Не маленький ведь, не грудной, — вскинулся Юра. — Что ж, я один не останусь?..
— Еще свяжешься с хулиганьем, не приведи бог.
— Ты скажешь!
— Безмужняя я, не тот авторитет…
— Как же не авторитет? У кого ж тогда авторитет, если не у тебя?
— Нет, Юра, не подходящая я для такого дела, устала я, переживала много, силы уже не те… Нет, ни к чему мне это…
А все-таки он слышал ночью, как мать вздыхает и плачет. И с работы стала приходить тяжелой, усталой походкой, словно по пуду глины на туфлях несла.
— Ноги у меня гудят, болят у меня ноги…
Юра наливал в таз горячей воды, снимал с матери туфли, стаскивал прилипшие чулки. Подавал чистое полотенце.
Мать слабо возражала:
— Ты что же чистое полотенце подаешь? Мало тебе стирки? Давай что погрязней.
Сын упрямо стоял на своем:
— Я же стираю научно. Все у меня основывается на разности температур воды.
Полина целовала Юру в макушку.
— Ты для меня милее всего на свете. Только смотри, не отворачивайся от матери. Выучишься, скажешь: «Это что за такая неграмотная старуха, квадрат суммы не знает…»
И сама первая начинала смеяться.
Но смех у нее стал совсем другой, не звонкий, не рассыпчатый, а так — короткий смешок.
Все в Юре возмущалось. Но он не знал, куда кинуться. Ну как хлопотать или заступаться за родную мать? Некрасиво это… Ну, а будь она чужая, тогда что… тогда бы он прошел спокойненько мимо несправедливости, смолчал бы, проглотил? Где же его принципиальность?
Он решил посоветоваться с Людиным отцом: тот был на какой-то крупной работе в профсоюзах, домой частенько приезжал на машине, носил тяжелый портфель, Юра подстерег его у калитки.
— Ты к Люде? Заходи…
— Я к вам.
И, запинаясь, стал рассказывать.
Сосед пожевал губами. И тут же, у калитки, больше не приглашая Юру в дом, всем своим видом выражая, что удивлен бестактностью Юриного вопроса, ответил:
— Это тонкий вопрос, я тебе скажу. Политический. Мы живем в плановом государстве? В плановом. Понятно? Нам подсказали, что хорошо бы выдвинуть молодую работницу, комсомолку. А твоя мать разве молодая работница? Нет.
— Она работает лучше всех.
Людин отец сказал строго:
— Ну и что? Весь народ отдает свои силы на мирное строительство. Было собрание, народ сказал свое слово. Это же не при капитализме, где душат демократию. Я удивлен: ты что, не комсомолец?
— Комсомолец.
— Удивляюсь, — еще раз пожевал губами Людин отец. И вошел в калитку.
— Она одна работает на сорока восьми станках! — крикнул Юра.
Но Людин отец уже шел к дому, грузно ступая по кирпичной дорожке. Старая, толстая, как шар, собачонка встретила хозяина угодливым хриплым лаем.
Выскочила Люда.
— А, Юрка! Ты ко мне?
— Нет, — резко ответил Юра. — Я просто мимо шел…
Люда пожала плечами, повернулась, унесла свои загорелые руки, домашнее платье в цветочках, свою косу.
Юра остался один. Уши у него пылали.
Вот обещал горло за мать перегрызть и не перегрыз. Отступился. Слово давал не забывать ее, а увлекся драмкружком, Людой с ее капризами и не заметил, не распознал, как тяжело матери в одиночестве нести свою обиду. Что же будет, когда он станет взрослым, начнет жить самостоятельно, когда сам будет бороться за свое место под солнцем, искать настоящее дело? Он ведь не мещанин, чтобы жить ради куска хлеба.
Мать вот говорит — закон жизни. Но закон ли?
Он часто думал об этом, когда попадал в тяжелое положение, уезжал к родне и оставлял мать одну или отправлялся в туристские походы с товарищами. В праздники его звали на гулянья и вечеринки, и мать, грустно улыбаясь, уговаривала его:
— Иди, иди, сынок, не сомневайся. И я куда-нибудь в гости соберусь, меня многие звали…
Но он-то знал, что она никуда не пойдет. К семейным — стеснялась, к молодым женщинам — тем более. На складчину жалела денег. Да у нее и платья выходного не было. И все-таки он позволял себя обманывать.
— Раз так, тогда пойду, — кривил он душой. — А то могу и не идти, не больно надо…
Но все-таки уходил.
Новый год он обычно встречал вместе с матерью. Покупали бутылку сладкого вина, Полина жарила в хлопковом масле пирожки с мясом или с вареньем. Звали к себе по старой памяти Катерину Ивановну. Та совсем одряхлела, но по-прежнему молодилась, завивала свои реденькие, выцветшие волосы, надевала на плечи кружевной шарф. Все такая же была жадная на удовольствия, на вкусную еду, все так же любила посплетничать и вызнать всю подноготную.
— Ну, Юрочка, в кого же ты такой беленький? — вспоминала она. — Ни в мать, ни в отца…
Юра из вежливости смеялся. И мать заливалась.
— Потемнел у него волос, Катерина Ивановна, — сожалела она. — А сам он все такой же любознательный, как был, все стремится к науке…
Катерина Ивановна приносила с собой гитару, и они с матерью пели. Катерине Ивановне больше удавались старинные романсы, мать любила комсомольские песни.
А когда Юре сровнялось семнадцать лет, он вдруг спросил под Новый год:
— Мам, ты не против? Меня зовут в компанию, неудобно отказываться… Скидываются по сотне с пары. Но деньги у меня есть, еще те, что бабушка прислала.
Полина ответила не сразу. Как это с пары? Значит, Юра пригласил девушку? Она спохватилась:
— Как же, как же, Юрочка, я тебе всегда говорила, что надо жить среди людей, в коллективе…
Потом он окончил школу, пошел работать. Потом готовился к экзаменам и провалился. Мать не поверила.
— Как же так? — недоумевала она. — Может, они думают, эти экзаменаторы, что за нас и заступиться некому? Все-таки наш отец погиб на фронте, а я всю жизнь перевыполняла план. Нет, я пойду…
Она сдернула с вешалки свою жакетку.
— Мама, не ходи. То родители, то я… При чем тут я, если у вас заслуги?
Но мать не хотела даже слушать. Твердила свое:
— Они откажут — я к Маше пойду. Она теперь большой человек, в отдельном кабинете избирателей принимает…
— Вот к ней ты уж не смей ходить! — закричал Юра. — К ней — ни за что… Если бы не она, может, ты сама сидела бы теперь в том кабинете.
— В кабинете? Я? Да что бы я делала в кабинете-то, ты подумай… Каракулями своими писала? Нет, я уж лучше у станка… Но к Маше пойду…
— Не надо унижаться.
— Как это унижаться? — рассердилась мать. — Я свое прошу, у своего человека…
Но Маши в городе не оказалось, уехала куда-то по делам. А Юру призвали в армию. Мать писала ему часто, почти ежедневно. Товарищи думали — это девушка пишет, подшучивали: вот влюбленная по самые уши. Настырная какая, осуществляет контроль. Она у тебя без десятилетки, что ли, — почерк какой корявый. Юра злился на мать, досадовал, хотя ее письма всегда читал по многу раз. И иногда даже терся щекой о простенький конверт, вроде чувствовал материнское тепло.
Люда писала редко. Примерно на три-четыре его восторженных письма приходило одно ее — коротенькое, сдержанное. Она два года подряд ездила экзаменоваться В Ленинград и оба раза в институт не попала. Сидела теперь дома, хандрила, училась вязать.
Юра не мог никак уразуметь из ее писем, как же она относится к нему. Спрашивал — она вроде вопроса не понимала. Тупая, что ли? Высокомерная? Хитрая? Он спрашивал про Виктора. Нет, с Виктором она не встречается. Виктор работает на заводе, там же и играет в заводской самодеятельности. Для нее такой путь невозможен, это — вчерашний день. Все или ничего — так она считает. А Виктор, кажется, за кем-то ухаживает. «Что же, это тебя совсем не интересует?» — «Нет, не интересует, — отвечала Люда, — у меня другие планы на жизнь». — «А какие?» Она не объясняла. Поджаривала бедного Юру на медленном огне.
Домой после военной службы он в полном смысле слова полетел. На самолете. Поездом хоть и дешевле, но долго ехать. Казалось, умрет от нетерпения. Даже мать, никогда не укорявшая Юру, удивилась:
— Что же ты? Ты же мог бесплатно проехать по военному литеру. У тебя, Юрочка, ни полуботинок, ни костюма. Вон какой широкий в плечах стал, из всего вырос.
— Э, мама, пустяки, — беспечно отозвался Юра. — В Средней Азии тепло, я и в ковбойке пока прохожу, без пиджака. Не знаешь, Люда не уехала? Хочется школьных друзей повидать.
И побежал к Люде. И стал ходить к ней каждый день. И старался наладить отношения с ее отцом и матерью. И долго, ослепленный, ошалевший от радости, что дома, что нету армейской муштры, что Люда улыбается ему загадочно и смотрит в его глаза своими прищуренными черными большими глазами, верил, что все будет хорошо. Той толстой, как шар, собачонки у Люды уже не было, жил щенок, лопоухий, неловкий, на разъезжающихся крупных лапах. Щенка старались приучить к конуре, к цепи, чтобы не топтал клумбы, не таскал пыль в дом, на ярко выкрашенные полы. Щенок скулил и плакал, а когда его отпускали, визжал от счастья, прыгал, лез к людям, тыкался мордой в колени и всем мешал. Как-то Юре вдруг показалось, что и он тут не на месте — всюду тычется, всему радуется, всем мешает. То к обеду как раз угодит, то к вечернему чаю. Аппетит у него был молодой, здоровый, быстро уминал все, что ставили перед ним. Даже мать сказала: «Может, это неловко, Юрочка, что ты так часто к ним ходишь?» — «Нет, мама, они душевные, они рады». Но задумался: а рады ли? А тут еще Катерина Ивановна подсиропила: мол, если Юра женится на Люде, тогда можно считать, что жизнь его устроена. Родители люди обеспеченные, с большим положением, не дадут зятю пропасть. «Вы что? Вы думаете, я из-за этого?» Юру как громом ударило. Он стал вглядываться, всматриваться. Как будто протрезвел, проснулся. И вдруг сразу увидел, что между ним и Людой с ее родителями лежит пропасть.
И даже не потому, что жили они как-то очень уж зажиточно, но все трое — и отец, и мать, и сама Люда — были сытые, холеные, уверенные в своих правах, а Юра был колючий, ершистый. То вспыхивал, то обижался, то болтал что не надо, не подумав.
Усадят его за стол, начнут угощать, а он брякнет:
— И где вы все это достаете? Где берете? Мы с мамой просто ничего такого не можем купить…
Поначалу Людина мама добродушно улыбалась.
— Мы и вам можем уделить, мы не жадные. Мы не такие, чтоб только себе, мы и людям делаем. У нас большие знакомства…
— Знакомства, знакомства! — закапризничала Люда. — Туфли обещали красные, а где они?..
— Не все сразу. Так ты, Юрий, спроси у матери, что надо, постное масло или еще чего, — нам идут навстречу. Одним словом, жаловаться нельзя, уважают нас…
— Ну, зачем же? — смутился Юра. — Как все, так и мы… Мама ловчить не умеет, бесхитростная она…
— Ну, мы тоже не самые хитрые, — сдерживая раздражение, отозвался Людин отец. — Ты что, за уравниловку?
— Не за уравниловку, но все-таки…
— У тебя, у мальчишки еще, были этакие демагогические замашки…
Юра даже рот разинул. Выходит, он помнит? Ну что ж, Юра тоже помнит тот разговор у калитки, он может найти, что ответить. Но вмешалась Люда, пошутила, перевела разговор на другое. Вроде все остановилось на шутке, до схватки не дошло. И частенько, когда появлялся Юра, а Людин отец был дома и сидел за столом, грузный, с чисто выбритой, как бильярдный шар, лоснящейся головой, тот начинал с шутки:
— Ну как, Юрий, за что ты нас сегодня пропесочивать будешь? Что ты еще плохого в нашем городе заметил? Может, на каком-нибудь предприятии не выполнили план, не дымила труба в котельной?
Юра смущался:
— Нет, заводы работают.
— И трамваи не стоят, ходят?..
— Ходят, — смеялся Юра. — Я сегодня с утра по магазинам мотался — обои искал. Комнату хочется оклеить. Так разве купишь без этого… — Юра выразительно двигал пальцами, как будто держал в них деньги.
Хозяин отодвигал цветастую пиалу с зеленым чаем. Говорил наставительно, игнорируя Юрин жест:
— А почему нет обоев? Потому, что народ живет лучше, богаче. Ремонтируется…
Людина мать все-таки брала сторону Юры:
— Юрка верно говорит, продавцы совесть потеряли. — И простодушно советовала: — А ты попроси Федора Петровича. Он позвонит директору…
— Я? — вспыхивал Юра. — Да с какими глазами я мимо людей пройду, вы что? То возмущался, а то сам…
— Как знаешь, как знаешь. — Федор Петрович углублялся в газету. Потом смотрел поверх очков. — А в газете вот пишут, какая культурная у нас торговля…
— Они напишут, еще бы! Если нашу городскую газету читать, так мы уже давно в раю живем…
— Потому что обобщают, перспективу видят, а ты… Послушайся меня, Юрий, открой глаза пошире, вглядись. У вас политграмота в армии не велась, что ли?
— Велась.
Люда больно щипала Юру за руку. Он умолкал.
Но стал заходить к Люде тогда, когда отца не было дома. А если заставал, то от чая отказывался, ждал Люду в палисаднике, неподалеку от конуры. Щенок подрос, присмирел, гремя цепью, подползал к Юре, опрокидывался на спину, блаженно поднимал лапы. А Юра прутиком щекотал ему толстый живот.
Люда упрекала:
— Какой-то ты невоспитанный, Юра, тебе первое удовольствие затеять свару. Папа больной человек…
— Да вовсе мне не хочется затевать свару, — уверял Юра.
— Тогда ты просто глупый. Ты прямо как нарочно…
Юра обещал быть осторожнее, сдержаннее. И многого добился. Играл с Федором Петровичем в поддавки.
— Просто идиотская игра, — жаловался он Люде. — Ну как это играть на проигрыш? Поддаваться? Нет, я всегда и во всем за атакующий стиль.
Юру зачислили в институт, он уже съездил с первокурсниками на уборку хлопка, а как только к ноябрьским праздникам вернулся домой, тут же пошел к Люде. И был приглашен к праздничному столу. И опять, позабыв за месяц все, чему учила его Люда, он воскликнул, когда его очень уж усердно стали угощать:
— Вот это да! Натюрморт, а не стол! А мама говорит, что к празднику ничего такого в магазине не было…
Людин отец не выдержал, сказал утомленно:
— Ты что это все критикуешь, Юрий? Все намекаешь. Критиковать легче всего. Но критика должна помогать, а не разрушать. Конструктивной должна быть, понял? — Он брезгливо вытер жирные руки о полотенце, заботливо поданное женой, отодвинул от себя тарелку с пловом. — Испортил ты мне аппетит, сорвал праздник…
И ушел к себе. Людина мать, скомкав в сердцах полотенце, тоже выкарабкалась из-за стола.
— Надо же, — сказала она со страданием в голосе, ни к кому не обращаясь. — Человек работает, не щадя себя, захотел в праздник в кругу семьи покушать плова — не дали. Что за люди…
— А что я такое сказал? — недоумевал Юра. — Я же правду сказал…
Люда делала вид, что ее нисколько не трогает все, что случилось за столом. Но заметно поскучнела. Увела Юру в садик. Потом пожаловалась на головную боль и отказалась идти в кино, как было намечено.
И вообще как-то постепенно отдалилась от него, отошла. Он часто по вечерам прогуливался мимо дома — она не выходила. Только за тюлевыми занавесками мелькала ее тень.
А вскоре стало известно, что она опять едет в Ленинград. Хотя до экзаменов далеко, но она будет там готовиться. Ленинградские репетиторы все-таки не чета местным.
И вот тут-то опять появилась совершенно забытая Юрой Оля Копейкина. Встретилась в парке имени Тельмана, на широкой аллее, где Юра бродил в отчаянии, в тоске. Как из-под земли выросла. Взрослая стала, похорошела, стройная.
— Копейкина, это ты? — заморгал, не веря себе, Юра.
Оля с откровенной радостью уставилась на него.
— Юрочка!..
— Смотри, какая стала…
Они пошли вместе по аллее, засыпанной, как ранеными сердцами, увядающими кленовыми листьями, и все не могли наговориться, навспоминаться. И Юре даже показалось, что это к ней, а не к Люде он стремился все долгие месяцы в армии. Он не понимал, что просто истосковался, жаждал любви. И огорошил мать, сказав ей через месяц-другой:
— Мама, я женюсь…
— Не рано ли, Юра?
— Мама, у нее, может быть, будет ребенок.
— Какой же тогда разговор?! Но я рада, очень рада, Юрочка. Я и сама рано родила. Что же, трое взрослых — ребеночка не вырастим?
— Может, мне бросить институт или перейти на вечернее?
— Учись, Юра. Был бы отец жив, разве он бы оставил тебя без образования? Теперь тем более нужно образование, если ребенок…
— Ах, мама, — сказал вдруг Юра, — все я с тебя беру и беру, когда уж я тебе помогать буду…
— Было бы с чего брать, — засмеялась мать. — Ну вот, значит, и я буду бабушкой. Быстро…
Юре вдруг так тошно, так стыдно стало, что после возвращения из армии он как-то отдалился от матери, даже не расспросил толком ни о чем, не вник в ее дела. Он и дома-то почти не бывал, приходил после свиданий поздно, голодный как волк. Съедал на кухне ужин и заваливался до утра. Утром, сонный, убегал в институт.
— Мама, а тот твой знакомый, ну, Яков Иванович, он что, работает еще?
— Работает, только совсем оглох…
— Ты не жалеешь, что не вышла за него?
Мать ответила уклончиво:
— Вроде бы не жалею…
— Правда, чем за чужим стариком ухаживать, — бодро сказал Юра, — лучше понянчишь внука…
Полина пожала плечами:
— Все-таки была бы своя семья…
— А я? А мы? — обиделся Юра. — Разве мы не одна семья?
— Жизнь покажет, — дипломатично ответила Полина.
— Ничего жизнь не покажет. Мы были и будем одна семья.
Но так ведь только говорится.
Оля вовсе не стремилась поселиться вместе со свекровью. Да и как жить-то троим в одной небольшой комнате? Поселились временно у Олиных родителей, но у них тоже было тесновато. Сначала Юра прибегал к матери чуть ли не каждый день, жадно набрасывался на еду, — видно, стеснялся есть у тещи. Потом стал ходить пореже, а если являлся, то вместе с женой, и матери казалось, что это не сын Юра, а гости пришли. Она угощала, суетилась, старалась как для чужих, а удовлетворения не было. Она привыкла жить с Юрой одной жизнью, рассказывать ему любую мелочь, все, что стряслось у соседей или случилось на производстве. А тут начала стесняться: не скучно ли невестке слушать ее рассказы? Спросила как-то у Юры — он ответил невнятно. Она поняла, что скучно, и стала отмалчиваться.
И Юра при встрече разговаривал то преувеличенно бодро, то чуть снисходительно, как бы ища, о чем спросить, какую беседу завести. Иногда спрашивал без особого интереса:
— Ну как там Завьялова? — И пояснял в который раз жене: — Она ведь мамина ученица, наша знаменитая Завьялова…
— А что? — послушно отзывалась мать. — Она у нас теперь заместитель директора. Вечерний институт кончает. Очень ценный работник.
— Не зазналась? Встречаешься с ней? — расспрашивал Юра, хотя прекрасно все знал.
— Да вот только на днях с праздником поздравляла, я тебе говорила, ты что, забыл?..
— Она поздравляет маму со всеми праздниками, — ответил Юра, не то хвастая перед женой, не то отдавая Завьяловой справедливость, — что правда, то правда…
— Ну как же, я ведь ей не чужая. И годами ее постарше…
— Все-таки, — возразила невестка, — многие охотно забывают, где их корни и кого они за что должны благодарить.
— За что же ей меня благодарить?..
— Она тебе, только тебе, если хочешь знать, всем обязана… Эх, мать, если бы не твоя скромность… — вырвалось как-то у Юры с такой досадой, с такой болью, что мать перебила его и сказала недовольно, даже рукой провела, как бы подводила черту раз и навсегда:
— Да нет, Маша помоложе была, пограмотнее, это закон жизни, что она обогнала. Она учиться вот пошла на вечерний, а я уже устарелая, не такая ловкая, не такая восприимчивая стала… Да что теперь вспоминать, когда все было-то…
Невестка вздохнула:
— Да, но и у вас, и у Юры все могло бы сложиться совсем по-другому, вся ваша жизнь.
Мать развела руками, как будто в чем-то была виновата. Но сказала:
— Я своей жизнью довольна, а вы… вы оба здоровые, с руками, с ногами, вы уж сами за себя боритесь…
— Мам, ты что? Мам, ты не так поняла… — испугался Юра. И стал целовать мать. Как когда-то. И Полине так сладко всплакнулось у сына на плече.
А невестка отозвалась гордо, но с ехидцей:
— Мы и будем бороться. К сожалению, ни на вас, ни на моих дорогих родителей рассчитывать не можем, только на самих себя…
Но это только говорится «на себя». Когда пошли дети, Полина просто на части рвалась: то бежит к молодым пеленки стирать, то в консультацию за прикормом, то после ночной смены гуляет с детьми, клюет носом около коляски. Все белое, все накрахмаленное. Невестка очень любила чистоту. Иногда даже прикрикнет на Полину: «Полина Севастьяновна, вы что? Вы же не ту кастрюльку взяли. У детей своя посуда». Полина не возразит, извинится только, затаит обиду: она ли к внукам не с чистым сердцем? Был бы только лад в семье, мир, были бы детки здоровы… И заработки все свои Полина на молодых тратила, и премиальные, себе ничего не покупала, не шила, — зачем ей?.. Невестка ее радовала тем, что предана детям, любит Юру. А если Юра жаловался, что жена слишком вспыльчивая, всегда отвечала: «Жена у тебя хорошая, цени ее, Юрочка, и уважай… Я на ее выговоры не обижаюсь, она больше меня понимает…»
А потом родственники стали писать, заманивать Юру: у них в городе открывается филиал научно-исследовательского института как раз по Юриной специальности, директор — друг детства дяди Вали, он очень нуждается в молодых кадрах. Приезжай, мол, Юра. Дом большой, пока поживем вместе, а потом и квартиру получишь, у нас большое жилищное строительство и связи есть — дядя Валя как-никак строитель. И у бабушки еще остался авторитет.
«А в школе, где учился Коля, — писала тетка Ира, — пионеры сделали большой стенд, вывесили Колин портрет, его школьный табель, бабушка выступала на пионерской линейке, но очень плакала и не смогла ничего сказать. Приезжай, Юра, я обещала, что ты, как сын героя, придешь в гости к пионерам. Бабушка доживает последние месяцы, хочет видеть твоих детей. И тебя. И твою жену. Все будет твое, Юрочка: и бабушкина старинная мебель, и дедушкина библиотека, мне самой ничего не нужно…»
Юриной жене загорелось ехать.
— Там климат мягче, — твердила она. — Я плохо переношу жару. И мы ведь у них одни наследники…
Мать ехать отказалась.
— А я жару люблю, — говорила она. — Привыкла. Тут я своя, а там ни богу свечка, ни черту кочерга. Кому я там нужная…
— Мама, а мне? — обиделся Юра.
Мать сказала задумчиво:
— Интересно получается… то не знали тебя, отказывались, а то им самый желанный стал… Да и они, я вижу, для тебя очень желанные…
— Может, не ехать? — спросил Юра. — Я ведь еще ничего не решил, мама.
— Как же не ехать? Все-таки работа хорошая и дом…
Невестка пообещала:
— Мы будем приезжать к вам в отпуск… или вы к нам…
Но легко сказать — ехать в такую даль. Дорого. Детей, когда чуть подросли, правда, присылали в гости на целое лето — на клубнику, на урюк, на помидоры и виноград. Полина тогда брала за отпуск деньгами, только бы получше принять внуков. Иногда Юра устраивал себе командировку, прилетал за детьми.
Но это случалось не каждый год.
Когда мать вышла на пенсию, он снова позвал ее к себе. И снова мать отказалась жить вместе. Юра не настаивал. Но мать любил, писал ей, присылал фотографии и ленту для магнитофона, на которую записывал голоса детей, их песенки, стихи или просто разговор. Магнитофона не было, ленту Полина ходила слушать к соседям. Все собиралась завести собственный, да деньги у нее не держались: то давала взаймы, то собирала своим большую посылку — сабзу, сухие фрукты, даже варенье. Накладывала в полиэтиленовые мешочки, потом заколачивала в деревянный ящик.
Невестка, получив посылку, угощала соседей.
— Опять Юрина мама прислала, а у нас еще прошлогоднее есть, не съели. Она много кладет сахару, чтоб погуще было. А я густое не люблю…
— Ну, все-таки, — говорили соседки, — она мать, она от чистого сердца…
— Все молит Юру приехать в отпуск, пожить у нее, — с досадой говорила невестка. — Конечно, она скучает, но у Юры пошаливает сердце, разумнее выхлопотать путевку в Кисловодск, подлечиться. Он любит путешествовать, ну что ему за интерес сидеть там на одном месте…
…И вот Юрина мама умерла.
Когда он выбрался наконец полететь в Среднюю Азию, была уже глубокая осень, шли дожди. На аэродроме и в Москве, где была пересадка на другой самолет, все застилала серая пелена тумана. И не верилось, что через несколько часов снова будет лето, зной, сухая, горячая пыль. Настроение у Юры было паршивое, томило чувство вины. Он отодвигал шторку, глядел в оконце, где плавала и клубилась неопределенная масса облаков, напоминая Юре бесформенные горы хлопка, которые он не раз видел на уборке. Он и школьником ездил собирать хлопок, и студентом, и даже инженером.
Пассажир, сидевший рядом, перехватил его взгляд:
— А хлопка у нас в этом году много…
Юра почему-то стал объяснять, зачем и куда летит, стал жаловаться на то, что жизнь проходит слишком быстро, ничего не успеваешь осуществить из того, что задумал: вот была мать, были надежды, и вот матери не стало. Он снова с горячностью стал объяснять, каким хорошим человеком была его мать, каким скромным, всю жизнь работала, ничего, кроме работы, не знала. А для чего? Сладкого куска никогда не съела. Имя ее гремело в послевоенные годы. «Вы, может, помните по газетам? По местной печати?» Но собеседник не помнил, нет. Не его это специальность ткацкое дело, не помнит, не следил.
Сколько в ней было деликатности, твердости духа, нравственных сил. Как-то, когда еще жили в родном городе, Юра поссорился с женой и пришел к матери. С портфелем, в который сгоряча сунул зубную щетку и полотенце. Пришел один, как давно не приходил, внешне веселый, и Полина тоже повеселела, легко, как когда-то бывало, со смехом, с шутками стала рассказывать сыну про дела на фабрике. Как раз поступило новое оборудование. Зейкулов давно уже ушел на пенсию, мастер был новый, с дипломом. И Полине он очень нравился. Уважал ее, ценил, советовался с ней. Но Юра слушал рассеянно. Все еще вздрагивал, вспоминая ужасную семейную сцену, пил стакан за стаканом крепкий чай, выходил покурить. И мать через силу, нехотя сказала:
— Иди, сынок, поздно…
— Як ним не пойду. Я заночую у тебя, можно, мама?
— Нет, нельзя. Муж должен ночевать там, где жена.
Юра ушел неохотно, но вместе с тем и радостно, потому что чем больше он распалялся и жаловался на жену, тем больше его тянуло домой, тем острее хотелось скорее помириться. Он знал, что Ольга не спит, нервничает.
Он не скоро пришел снова к матери, но потом, когда все уже устоялось и забылось, все-таки пришел. На обеспокоенный взгляд Полины ответил непонимающим взглядом, а сам вспомнил, как когда-то ему хотелось, чтобы Полина понравилась родне, он все расхваливал ее тетке Ире, и та сказала: «Я теперь поняла, что главное в твоей маме. Она знает, как правильно жить. Она — сама жизнь. Для нее главное — чувство долга». — «Ну, а что толку? — спросил тогда Юра. — Чего она добилась?..» Ира задумалась. И мотнула головой, отвечая не Юре, а себе: «Нет, у нее есть чувство долга, а это очень важно…» — «Все равно никто не ценит, — с обидой возразил Юра. — Даже я…» — «А ты цени, — посоветовала тетка Ира. — Я вот выгадывала да уступала бабушке — ну и что? Сплю на собственной кровати, всего только…»
Ему хотелось все это выложить матери и сказать спасибо, что не дала углубиться ссоре, пропасти, которая могла лечь между ним и самолюбивой Ольгой, отослала его ночевать домой, но Полина не дала ему высказаться, отрезвила его порыв, попросту предложила:
— У меня плов очень удался, баранинка хорошая попалась, не возьмешь ли с собой? Оля любит баранину…
И Юра тоже просто ответил, как будто его не переполняли высокие слова:
— Ладно, только заверни получше…
Не приняты были у матери пространные разговоры. Жила и жила. Вот когда он с родней съехался, то уставал от разговоров. Исповедовалась перед ним Лялька, жаловалась на свою судьбу Ира, сожалела о своих ошибках бабушка. И даже простоватый дядя Валя, чуть подвыпив, любил поговорить. Юра их жалел, любил, мирил, но стал смотреть на них другими глазами. Будто краска с них слиняла, позолота слезла, не такие уж они теперь были интересные, замечательные, необыкновенные. И он в глубине души был очень рад, когда получил свою квартиру. Устроился просторно, хорошо, а вот не сумел уговорить мать переехать к нему.
Юра даже прослезился. И жила одна, и умерла в одиночестве. Денег у сына не брала, так иногда — подарки. Еще и ему помогала из своей пенсии. А для чего жила? Вот состарилась — и все. И никому не нужна. Никто не запомнил, что была такая…
Сосед не то кивал сочувственно, не то думал о чем-то другом. Все-таки горячность Юры его тронула.
— Вы хороший сын, — похвалил он.
— Плохой, очень плохой…
— Вы хороший сын, — стоял на своем сосед. — Дай мне бог у своих детей заслужить такую любовь. Нынешние дети страшные эгоисты…
Как обиделась и огорчилась мать, когда он, вернувшись из поездки в Ленинград, сказал, что и не думал даже заходить к эвакуированной Лизе: ну для чего, какой ему интерес? «Мама, нельзя же жить прошлым. В Ленинграде такие музеи, такие театры, Товстоногов, балет замечательный, а я потащусь к Лизе?» — недоумевал он. А мать сказала, что живой человек всегда будет ей дороже театра. И сын опять упрямо твердил, что она живет прошлым. И только когда Полина нахмурилась, смягчился: он ведь не последний раз в Ленинграде, о чем тут горевать, все впереди, поедет в следующий раз — и пожалуйста, раз она хочет, зайдет к Лизе обязательно. «Но ты, мама, деспот, ты любишь поставить на своем».
И вот не поехал больше, не сдержал слова, не выполнил обещания. Да, многого он не сделал в жизни, а собирался. Может быть, уже и не сделает того, что все откладывал и откладывал. Он сказал вслух с печалью:
— Пока жила мама, вроде была опора, а теперь сразу на десять лет постарел…
— От смерти никто не застрахован…
— Мне больно потому, что непонятно, для чего она жила…
Из самолета он вышел совсем расстроенный. Воспоминания одолевали. Каждая улица, перекресток, арык, старый дом напоминали детство, маму, несчастную любовь к Люде, товарищей, пережитое. Он сходил на квартиру, нашел соседей, узнал, где нотариальная контора, получил какие-то выписки, ключи.
В домоуправлении — оно теперь объединяло почти всю их улицу — Юра встретил Людиного отца. Тот вроде похудел. На лице обвисли складки. Только пиджак туго сходился на все еще выпирающем животе. Брюки были широкие, немодные, старые. И глаза тусклые. Он так же, как и Юра, пришел за справкой.
— Как живете, Федор Петрович? — безразлично спросил Юра.
— Отдыхаю, нахожусь на заслуженном отдыхе, — ответил тот. И, не дожидаясь вопроса, сам сказал: — Люда замуж вышла, сынок у нее. Жена как раз у них гостит… — И тут же стал жаловаться, что народ пошел неблагодарный, прежнего уважения нету: вот, мол, видите, пришел в третий раз за бумажкой, стою полчаса, жду — никакого внимания, болтает по телефону, хоть бы что… И пригласил Юру: — Ты, Юрий, заходи, я же сочувствую…
— Тороплюсь, некогда, — отказался Юра.
Имущества после матери осталось немного, он все раздарил — кастрюли, ведра, облил слезами материнские платья из штапеля, рубашонки, даже не обшитые кружевцами, простые чашки. Несколько своих тетрадей сжег, даже ту, в которой писал пьесу, просмотрел старые бумаги, кое-что отобрал. Взял материну медаль «За трудовое отличие», значок ударника производства, грамоты, фотографии. Мать сберегла все его старые письма — это он со злостью порвал, а письма отца, совсем уж ветхие, отложил. Обо всем узнал у соседей, расспросил, как умирала, что говорила напоследок. Потом по немощеной, мягкой от толстого слоя пыли улице пошел на кладбище, отыскал, как ему указали, могилу.
Вот тут бы и надо поплакать, но он не мог. Стоял понурый, голодный, усталый от долгого перелета, после бессонной ночи, хождения по учреждениям и хлопот.
Незнакомая женщина убирала холмик, сажала цветы. Он подумал, что это сторожиха, глаза туманились, он плохо видел. Хотел оставить женщине денег, чтобы смотрела за порядком, но та удивилась.
— Что вы, какие деньги? За что? — сказала она почти обиженно. — Я ее ученица. Я Маша Завьялова.
СЧАСТЛИВАЯ НЮРА Рассказ
Нюра затосковала. Заметалась. Кинулась по знакомым. Являлась к ним взволнованная. Жаловалась. Но не сразу.
— А-а, Нюра. Здравствуйте. Ну, как дела?
— А что дела? Хорошо. Живу одна, сама себе хозяйка.
— Здоровье?
— А что здоровье? Домой приду — лягу. Красота. Батарея горячая. Балкон. У меня двенадцать метров, у соседки, у Маши, восемнадцать. Коридорчик. Ванная. Чай пьем на кухне. Заварка общая. А то и щи вместе сварим. Маша угощает: «Ешь мое». Ну, и я в долгу не остаюсь. Куплю свининки, сготовлю: «Маша, садись, ешь…» Иногда, вы не поверите, и четвертинку возьмем. Честное слово.
— Прекрасно, — скажут Нюре. — Большая удача, Нюрочка, что на старости лет у вас все хорошо сложилось.
Вот тут-то Нюра и вздохнет.
— Хорошо-то хорошо, Валентина Ивановна, да не очень… Лешка, сын, меня в подселенки зовет…
— Что вы, Нюра!
— Не «что вы», а вот именно. Он-то еще ничего, уступчивый, а сноха наседает. Мол, если бы сына любили, если бы к Тамаре имели настоящее чувство, вы бы уважили. Небось к Татьяне бы жить пошли…
— Но Татьяна дочь…
— Вот именно. Но я вам так скажу, Валентина Ивановна. Ни с дочерью, ни со снохой я жить не желаю. Пенсию отдай, а сама жди, нальют ли они еще тебе тарелку супу, не покорят ли куском? Недалеко ходить, вот в нашем же доме. Старуху совсем ни во что, в пыль превратили, а она им детей вынянчила. Нет, Валентина Ивановна, я так просто не сдамся…
— А вы-то им на что?
— Подселенкой недовольны, хотят, чтобы я с ней сменялась. Тихая такая, приличная женщина, но, они говорят, чересчур надоедливая. Тамарка, ребенок, по глупости что-нибудь скажет, а она сразу же принцип показывает, снохе замечание: «Как можно, вы сделаете из ребенка морального урода». Слова-то какие, кому их приятно слушать… Сноха себе в голову и забрала: мол, к чему нам такой человек в квартире, что съели, что выпили, что купили — кому какое дело? А эта, мол, подселенка, так и зыркает, глаза большие, черные, как у цыганки. Я, конечно, не советую: надо жить мирно, дружно. А они — нет… Может, конечно, и их правда, люди теперь завистные, не все же так живут, как мы с Машей…
— Это вам повезло, Нюрочка, что вы дружите…
— Мы же добивались, всюду бегали — и в фабком, и в дирекцию: нас поселите вместе. Меня, может, и не уважили бы, а Маша, она ведь, несмотря что на пенсии, с производства не увольняется. Я уж ей говорю: «Пенсия у тебя хорошая, от покойной сестры чего только не привезла, ну что жадничаешь, всех денег все равно не заработаешь». Правда, она здоровая… А я — нет, я свои силы потеряла. Ох, Валентина Ивановна, куда что девалось? Вы же помните, я, бывало, к вам приду, стирку выстираю, полы вымою, рано встану — все переглажу, обратно на фабрику бегу веселая. А теперь ноги болят, руки болят, куда только моя сноровка подевалася…
— Вы на меня не обижайтесь, Нюрочка, но мне кажется, что вам выпивать совсем нельзя. Категорически…
— А я выпиваю? Что вы, Валентина Ивановна, это я когда к дочери иду на выходной день, покупаю бутылку. Сколько нас за стол садится? Неловко как-то с пустыми руками. А так вроде уважение — смотри, чего мать принесла…
— А мне казалось…
— Что вы, что вы, Валентина Ивановна, да с каких это средств я буду пить? С какого здоровья? Я уже всем своим хозяйкам отказала, я вот только к вам хожу, вы моя самая родная, и еще кой-куда… Нету, нету у меня здоровья, чтоб горб гнуть, как раньше гнула. Хватит, отработалась… Нет, я к ним в подселенки не пойду. Не имеют права силком меня тащить. Сказала, не пойду — и не пойду. Охота была с ними жить, им угождать! Это хорошо, Валентина Ивановна, что вы со своим Игорем разъехались, никто тут у вас на кухне больше не командует. Ну, а если Юрочка женится да приведет сюда? Пока Ибрагим Петрович жив, он заступится, а не приведи господь случится что, тогда как?.. Лучше уж вам одной жить, вот как я…
А все-таки она беспокоится. Собирает мнения. Ищет поддержки. Начинает издалека:
— Конечно, Лешку я уважить должна бы. Детей у меня было шестеро, он самый младшенький, а осталось всего двое. Трое примерли, один на войне погиб. Вот, Ариадна Петровна, мужа я не любила, а шесть раз рожала. Надо же… Спасибо, мама помогала, а то куда бы я… В войну, как вспомнишь, дрожь бьет. Сам на фронте, мать совсем плохая. В красильной я тогда работала, воздух тяжелый, красители едучие. Смену отработаешь, а то и две, если надо. Старшенького в армию взяли, часа три от Москвы они стояли. Еду, бывало, к нему в часть, а нельзя, пропуск надо. Я — под лавку. Попрошу людей: «Люди, я к сыночку еду». Они меня спрячут. Привезу ему лепешек. Солдаты набегут: «Тетя, угостите». Он: «Идите, идите, ну вас!» Я скажу: «Сынок, поделись, я еще привезу». Раза три так ездила. Потом угнали их — и все, ни письма, ничего… По мужу я так не убивалась, как по сыну. А жить-то надо. Два рта при мне остались да еще мать. Она, бывало, заплачет: «Лишняя я тебе, Нюрка, ненужная». — «Что вы, мама! Очень вы мне нужная, не беспокойтесь». В деревню за хлебом ездила, на нее детей оставляла. Ой, и натерпелась я! К немцам чуть не угодила, волки за нашими санями гнались, рассказать — не поверите. Дрова людям пилила — мы с Танькой пилим, а Лешка топором тюкает. «Не надо, сыночек, еще грыжу наживешь». — «Нет, я-помогу». Глядишь, тюкает-тюкает — все куча меньше станет, мне легче. Ой, намаялся он, Ариадна Петровна, разве я могу это забыть? А комната плохая, домишко щелястый, деревянный. Правда, дети мои голодные не сидели. Я всюду подрабатывала, себе спуску не давала.
После войны, понятно, легче стало. У меня все хозяйки были с достатком, с пайком. Не жалели для меня ничего… Ну, и производство помогало. Я ловкая, была, в работе безотказная, мастера со мной очень считались, ценили, можно сказать. Только сколько я пережила, когда маму схоронила. Вроде пусто без нее стало, скучно. Тут Танька замуж выскакивает, Игорь у нее родился. А зять в армию пошел. Мы без него жили четыре года, парнишку растили. Вернулся зять, на стройку работать пошел, получили они свою жилплощадь. Ну, слава богу. Хоть попросторнее станет… Лешка заявляется: «Я женюсь…» Я прямо сама не своя: «Да что ты, да что это, мне опять на полу спать? Да куда я еще одну кровать поставлю на девяти метрах, ты подумай». А он свое: «Я ее люблю». Ну, пошли они жить к ее родне, пожили, и, на их счастье, дом ломают, им дают две комнаты в новом доме. Но с подселенкой. А Лешка — вы не смотрите, что в нужде вырос, что сирота, он молодец, себя не выпустил из рук, как другие, он самый что ни есть хороший столяр. Сервант сделал — мастерская на выставку посылала, один им, другой себе. Кровать сделал, тахту — все полированное, все блестит. Конечно, ему охота отдельную квартиру иметь — он все так разделает, что залюбуешься. «Ну, зачем я, говорит, буду для чужого человека кухню украшать, ну, подумай! А ты, мать, своя». И то верно, надо бы ему навстречу пойти, сколько там я еще проживу, года немолодые. Вспомню, как он топориком тюкал, матери хотел облегчение сделать, так думаю: что же это я, неужели такая бесчувственная, что откажу сыну?
— Для кого же нам еще жить, как не для детей! — восклицает Ариадна Петровна.
— А разве я для себя живу? Все для них… Идешь на выходной, все чего-то им несешь — то бутылку, то конфетки. Утку тут купила, нет, думаю, дай возьму с собой…
— Так тоже нельзя, — не соглашается Ариадна Петровна. — Не вы им, а они вам должны помогать. Вы себе хоть что-нибудь скопили на старость?
Нюра машет рукой:
— Где там… Я у вас, помните, лето проработала, хотела себе зимнее пальто взять — они просят: «Мать, выручи. Игорю костюм надо. А мы тебе потом пальто в кредит купим». Как не выручить? Отдала… до копеечки…
— Ой, Нюра, Нюра!..
Нюра вздыхает:
— Куда от них денешься? Дети…
— И что же вы, переедете к сыну?
— Не знаю, ой, не знаю, Ариадна Петровна. И не хочу, и надо… Сын ведь, не чужой…
Они сидят с Машей, пьют чай, ужинают. Нюра больше всего боится, как бы соседка не догадалась, что у нее на уме. Она распарилась, раскраснелась. Съели уже селедочку с отварным картофелем, с огурцами — кухонька пропахла их крепким запахом. Засолено на совесть, с укропом, с чесноком.
Булькает на плите вода в чайнике, настаивается под полотенцем заварка. Маша смотрит на яркий глаз электрической лампочки под невысоким потолком и предлагает:
— Нюр, а Нюр, а что бы нам скинуться и купить абажурчик? Такие я видела сегодня модные…
Нюра согласно кивает, как будто очень довольна, но, в сущности, радуется совсем другому: можно наконец заговорить о том, что ее терзает.
— Я вот что думаю, Маша. Вот мы все заодно покупаем, не считаемся…
— Как при полном коммунизме, — вставляет Маша. И хохочет.
— При полном-то оно при полном… — Нюра решается: — А что, как придется разъезжаться?
Маша фыркает:
— С чего это?
— Мало ли… — хитрит Нюра. — Вдруг ты замуж выйдешь. А у него своя комната. Он захочет сменяться к тебе…
— Еще чего, замуж! Смолоду не выходила, а теперь-то уж… Не люблю я мужиков, все алкоголики…
— Ну, не все. Бывают непьющие…
— Где? — спрашивает Маша. И подливает себе заварки.
Нюра молчит.
— Нет, Нюр, ты не сомневайся. Раз сговорились жить вместе, раз мы добивались, значит, так оно и будет. Я от своего слова не отступлюсь.
— Что значит «не отступлюсь»? — лицемерит Нюра. — Разве я тебе враг? Разве тебе счастья не желаю? Да я тут же уйду, живите… Это какой же подругой надо быть, чтобы встать поперек, не захотеть сменяться… Маша заливается:
— Ты что, спятила? А может, ты сама себе старичка подыскала и теперь разведку боем делаешь? За меня не волнуйся, я-то замуж не пойду. Может, когда и приглашу кого, не ручаюсь и не зарекаюсь, но чтобы он тут жил, дымил папироской, чтобы я на него стирала, — да ну его…
Нюра с сомнением качает головой. И чем яростнее уверяет ее Маша, что никогда не выйдет замуж, тем более невозможным кажется ей вдруг сказать: «Я хочу с Лешкиной подселенкой сменяться, ее — сюда, а я — туда». Сколько хлопотали они с Машей, чтобы их поселили вместе, а не на подселение каждую к большой семье, чем только не козыряли: мы на стройке дома безотказно работали, мы больше всех тут строительного мусора выгребли. Приносили свои грамоты, справки, орали и даже слезу пускали. На них одна секретарша даже губки надула: «Вот какие попугаи-неразлучники».
— Вот именно, что, неразлучные! — выкрикнула Маша.
А Нюра сказала любезно, дипломатично:
— Сколько лет рядышком в развалюшке прожили — не ссорились, хотим теперь в хорошем доме продолжить свою дружбу.
Что тут было возражать? Начальство посмотрело бумаги и справки, характеристики и похоронки — согласилось.
И вот теперь Нюра должна сама против своих слов пойти. Так выходит, что ли?
— Может, ты, Нюр, какой план заимела, скажи, — пристала Маша со смехом. — Может, посватался кто?
Нюра перевела все в шутку:
— Киноартист посватался…
— Ой, подруга, — сказала Маша, отсмеявшись, — а не выпить ли нам по маленькой за нашу дружбу? Наливка у меня еще есть…
— С превеликим моим удовольствием, — радуется Нюра. — Такая у меня тоска… так мне хорошо живется. Сглазить боюсь. Боюсь, придет кто-нибудь и порушит нашу дружбу и хорошую мою жизнь…
— Кто ж это может порушить? — лениво спорит Маша. — Если мы не хотим…
— Ты одинокая, а я не свободная, у меня дети…
— Что дети? Сами уже родители.
— Мало что…
— Да ну тебя! — отмахивается Маша, не понимая, какая змея сосет Нюрино сердце. — Придумала… Пора включать телевизор.
Она уходит в комнату, а Нюра еще долго сидит за столом, пригорюнившись, думает свою тяжкую думу.
Уже ночь, а она все не спит. Сбрасывает с себя одеяло, пьет воду, плачет. Шмыгает носом. Почему-то вспоминается ей только плохое, горькое, только беды. Что же это, господи, за что? Чем она кому не угодила?
За двумя дверями, через коридор, похрапывает Маша. Нюра почему-то вспоминает, как похрапывал, переминаясь с ноги на ногу, шурша соломой, конь когда-то в деревне. Она редко думает про те годы. Ну их… Хоть и была веселая, умела и спеть, и сплясать, но тяжелое было время. Рожала, хоронила, в поле работала наравне с мужиками. Какие чугуны с картошкой варила для скотины, по скольку соломы запаривала для коня! А горшки со щами? А тесто для хлеба? Не до песен, не до плясок было, разве что в праздник… А в город переехали, тоже не гуляла. Муж не очень-то был старательный, вовсе даже нерасторопный, ну, а если по-честному, ленивый был мужик. Дальше пожарника на производстве, дальше охранника не пошел. Не то что она… Никогда не унывала, все с шуткой, все с улыбкой. Кому чужая печаль нужна? А ей ли не трудно было — малограмотной, с детьми на руках, со старухой матерью. Да, всякого она, Нюра, хватила, пока детей на ноги поставила. Чего только не делала, и хитрила, и плутовала — все, все было…
Вспомнилось ей почему-то, как невзлюбил ее подмастер. Рыжий, хитрый, противный. Все зыркал на нее глазами, грозил пальцем: «Смотри, Баукова, ох, Баукова, ты у меня смотри…» А что смотреть? Много ли женщин работали проворнее, были смекалистее, чем она? Что смотреть? Ты лучше сам смотри, как мне все руки разъело, новые рукавицы вовремя давай. А однажды — никого поблизости не было — вдруг подошел и стал молча тискать. Тискает и сопит. Тут уж она отвела душу, тут она ему все припомнила. «Ты кого тискаешь, рыжий паразит? Я сына на фронте потеряла, я мужа лишилася, а ты…» Такой крик подняла, что все сбежалися. Сама потом смеялась над собой, когда работницы утешали: «Ты что, Нюрка, очумела? Съел он тебя, что ли? Живешь одна, он и возмечтал…» Тогда смеялась, а теперь, сегодня, плакала. «Беззащитная я, — думала она про себя. — Как есть беззащитная». И пословицу вспоминала: «Живет как горох при дороге. Кто мимо идет, тот и рвет». Вот именно, так она и живет…
А хозяйки, у которых она прирабатывала да и теперь еще прирабатывает? У каждой свой характер, своя слабость. А ты пойми, разгадай, учти. Льстить она не любила, достоинство сохраняла, а все-таки иногда кривила душой. Как же без этого? Не проживешь.
Конечно, не всеми хозяйками она дорожила одинаково. Хозяйка хозяйке рознь. Одна и заплатит щедрее, и подарит, а другая все учтет до рубля, до копеечки. Вот ты попробуй их уравняй.
А как дело идет к празднику, каждая требует: «Нюра, к первой ко мне». Но Нюра-то одна. Приходится когда и соврать, почему не явилась: «Ой, я такая больная была, думала, не встану». — «Нюрочка, вы меня ужасно подвели». — «Знаю, знаю, сама не рада». Или если деньги возьмешь вперед, тоже приходится ловчить. Отработал бы поскорее — и все, самой ведь совестно. Но живые денежки всегда нужны, торопишься туда, где не должен. То у дочки день рождения, то у внучат. То Игорьку хочется помочь. Зять кричит: «Не давай ему, тунеядцу такому, ни копейки!» Но ведь внук взрослый уже, кавалер. Она трешку зажмет в кулак, руки за спину, Игорь уже тут как тут, все понял, прошел мимо, взял. «От вашей ругани, папа, голова болит. Пойду прогуляюсь».
Может, и не следовало бы баловать, но ведь внук, любимчик. Нет, ничего она для семьи не жалела. Что заработает, что в подарок получит — отдаст им… А все одно дочь упрекает: вы, мол, для Лешки стараетесь да для его барыни. Лешка кричит: «Танька все из тебя высасывает, опомнись, мать!» Вот тебе и опомнись, иди с подселенки.
Все видит она в черном свете, в непроницаемой тьме. Ни один луч солнца не пробивается через эту тьму.
А как ее обидела Надежда Лазаревна… Подумать только — ходила Нюра к ней раз в неделю, как закон. По четвергам. Это сколько же четвергов в году? А сколько лет? Все было — и хорошее, и плохое. «Нюра, я не переживу, мне муж изменил». — «Бросьте, Надежда Лазаревна, он вам очень преданный». — «Нюра, я кошелек потеряла». — «Берегите себя, деньги — дело наживное». — «Нюра, у меня на службе неприятности». — «Все обойдется, вы работник ценный, вы всюду нужны». А тут как нашла коса на камень. И что ей такого особенного сказала Нюра, чем ее ужалила, чтоб ни забыть, ни простить нельзя было? Случается, не зря старые люди говорят: слово воробей, вылетит — не поймаешь. Нюра и сама не рада была тому, что сказала. Вылетели слова, как их теперь воротить? Ну, и та в долгу не осталась, тоже много чего обидного наговорила Нюре, все ее грехи помянула: и то, что с похмелья хуже работает, и скорость уже не та, и долги не любит отрабатывать. Но Нюра отходчивая. И все вроде наладилось. Нюра прощения попросила, а та сказала: «Вы меня тоже извините, я погорячилась». Но звать к себе убирать перестала. Работа у Нюры есть, ее сколько угодно, но обидно. И к новому дому, и к чужому нраву нелегко привыкать. Ведь у каждого свое. Одна говорит: ты носовые платки крахмаль; другая: ой, это жестко. А там, у Надежды Лазаревны, уже привыкла, все знала, как в своем хозяйстве. А если стала она не такая быстрая, не такая проворная, как была, так ведь годы идут, вон уже сколько их отстукало. Надежда Лазаревна и сама не молоденькая, только что красится и к парикмахеру и на гимнастику ходит. А Нюра так наломается за день, что не до гимнастики ей. «Как же вам не совестно! — мысленно говорит Нюра. — Я женщина, и вы женщина. У вас душа, и у меня душа. Вы все мои грехи знаете, да ведь и я вас в разных видах видела. Вы культурная, журнальчики читаете, — неужели вам своя гордость дороже живого человека? Совесть-то у вас есть, Надежда Лазаревна? Верно, вы мне платили, хорошо платили, я не отказываюсь, но деньги — это еще не все».
Никто не отвечает, молчит Надежда Лазаревна, спит у себя дома, на своей тахте, и не слышит Нюру. Тихо. И Маша больше не храпит. Только постукивает будильник да шумит за окном осенний, мокрый от дождика ветер, подбавляет тоски.
…Теперь Нюре кажется, что вся ее жизнь была сплошной бедой. «И мама моя была несчастливая, — думает она. — Папа в деревне гулял с кем попало, а она в Москве по чужим людям жила, в прислугах. И вся ее доля досталася мне».
Любила одного, а замуж вышла совсем за другого. Посватал ее парень из чужой деревни. Он только-только схоронил родителей, стал сам себе хозяином, а хозяйство большое. Отец и позарился. «Взамуж выдали меня силком, пинками», — горюет Нюра.
В деревне было принято ездить к жениху «смотреть место». Проверить-то надо, что сваты насулили. И вот там Нюре шепнули: «Пропадешь, Нюшка. За ним покойная мать так с дубинкой и ходила, от карт отгоняла. Картежник он…» Нюра кинулась к отцу, но он цыкнул на нее, велел не слушать сплетни: мол, завидуют ей… А какие там сплетни! Все правдой оказалось. Так-то он, Иван, был смирный, во всем вроде подчинялся, но не раз пришлось и ей потом разыскивать его по селу, оттаскивать от карт, гнать домой.
А у нее и так работы невпроворот и в доме, и в поле. Дети. Накорми, обстирай. Петя еще не вошел в разум, а тут близнецы лопотать начали, топать по избе, дудеть в дудки. Четвертенький родился, да вскоре после родов помер. Потом старшие заболели. Петю она выходила, а близнецы, как свечки, сгорели. Ой, и убивалась она! Иван тоже убивался, плакал, а все-таки отец — это не мать. Позовут дружки-приятели играть в карты, он и ушел. Час — нету, два — нету, ищи-свищи.
Когда она снова ребенка ждала, как раз Татьянку, девочку, то надумала ехать рожать к матери, в Москву. Все-таки там родильные дома получше. Иван слово дал, что из дома шагу не ступит. Нюра поверила. Уехала. Но ошиблась с родами на месяц и зажилась в Москве. Спасибо, кума письмо прислала:
«Приезжай, Нюрка, Иван твой полушалок проиграл, деньги, что ты в скатерть завязала, нашел и тоже проиграл. А теперь нависла над тобой злая туча — Иван задолжал братанам Лобовым вашу корову…»
Тут уж медлить нельзя было. Завернула она новорожденную потеплее и метнулась домой. Муж встретил ее на станции, багаж на подводу сложил, поехали. Он молчит. Нюра дипломатично спросила:
— Ты что, хворый?
— Да нет, ничего…
— А что молчишь? Может, обижаешься, что я девочку родила, а не сына?
— Что ты! Наш ребенок, как это я могу обижаться…
А сам в глаза не смотрит.
Приехали. Мигом набежала родня, поставили самовар, очистили селедки. Тут Нюра хватилась: а Иван где? Как в сердце ее что ударило. Выскочила в сени, в чуланчик. А он в петле висит. Она как закричит, как дернет веревку. Сдернула, привела мужа в избу, раз — дала ему по лицу, два. «Ты что, ты детей наплодил, а теперь в петлю?» Насилу уговорили ее, так бушевала, насилу посадили за стол. И Иван малость успокоился, сел чай пить. Тут гости нагрянули, браты Лобовы пожаловали. Нахальные, красномордые. «Где тут наша скотинка?» Иван залопотал: «Я еще Нюшеньке сказать не успел…» Нюра схватилась за топор — как раз около печки лежал. «Какая такая скотинка?» А они: «Мы за своей коровой пришли. Карточный долг — это честный долг». — «Честный? А топор видали?» Лобовы постояли-постояли, поняли, с кем имеют дело, плюнули. «Ну, Иван, имей в виду — ни вечером, ни спозаранок из дому не выходи, на пути нам не попадайся, пересчитаем тебе ребра. И как ты с ней, с такой отчаянной, живешь?..»
Может, и отчаянная она была, что верно, то верно. Но у нее дети: чем детей кормить, если нет молока? Понял Иван, что нельзя ему оставаться в деревне. Лобовых боялся. К колхозу он относился с прохладцей, это Нюра была горячая на работу, отзывчивая на похвалу и на грамоты, а он — нет. Уехал в город, там и устроился. Нюра не сразу за ним поехала, ох, и неохота ей было родовое гнездо рушить, но без мужа, без мужика, тоже не жизнь. Уехала и она…
Не так по тяжелому крестьянскому труду, как по приволью очень даже тосковала: во сне видела и поля, и лужок, где корову пасла, и неширокую, неглубокую речку, заросшую осокой и камышом.
Нет, нелегкая была у нее жизнь…
И в тюрьму ни за что попала. Почти, можно сказать, ни за что, вина все-таки была… Но это в городе случилось, после войны, уже она вдовой была. Помогла одной дурехе от ребенка избавиться, когда та ревмя ревела, а потом эта дура соседке выболтала, и соседка тоже пришла: «Мне помоги…» — «Что ты, что ты, я этим не занимаюсь. Знаешь, какой строгий указ вышел, как взыскивают…» — «Ах, так?» И со злости в милицию с доносом. Вызвали ту, первую, а она с испугу призналась во всем. Тут уж Нюре припаяли под горячую руку. Кидалась она повсюду, до приемной Калинина дошла. И что же ей сказали: «Нету тебе прощения, ты его должна заслужить». — «А дети мои чем виноватые?» — «А об детях ты должна была раньше думать». Об них как раз и думала, когда на это дело шла. Сама ведь тряслась от страху. Разве на такое легко пойти? Из жалости ведь. Даже денег не взяла. Всего-то и благодарность была, что кусок деревенского сала да стакан крупы манки. А все-таки дети сала поели. К салу она им картошек наварила.
Да, правильно говорится: ты его выручишь, а он тебя выучит. Так и с ней получилось.
В колонию ее привезли еле живую от тоски. Так тосковала, что вши напали. Надо же… Нюра очень страшилась, что заметят и остригут ей косы. И мыла, и чесала волосы, но разве одолеешь печаль? День и ночь поначалу плакала. Ест кусок, а он в горло не лезет: как там мои деточки? Только и забывалась, что в работе…
Нюра то зажигает лампочку, то гасит. А если переедет к сыну, то спать ей придется в одной комнатке с внучкой; тут уж среди ночи, если не спится, лампочку не зажжешь — девочку разбудишь. Нюра теперь часто ночью не спит, руки болят, плечи, мысли разные голову кружат. Так и придется маяться в темноте, ждать утра. А то подрастет Тамара — долго ли? — спать, может, заставят на кухне. И того хуже… То сноха идет в ночь работать — плита нужна, то сын в первую смену — тоже неудобно на кухне лежать, разваливаться. Кончится твоя вольная жизнь, Нюрка, пожила ты как человек всего ничего.
Ведь в доме в том, в старом, дуло из всех щелей, печка плохая была, дров не напасешься. Все одеялки на детей накинешь, чтоб не застудить, сама — как придется, и не поешь досыта, и не поспишь в тесноте. Мать хворая стонет…
Нюра уже разбередила душу так, что не может успокоиться. Встает, ложится, пьет воду, снова ложится… Плохо еще то, что Татьяна ей теперь не советчица. Сердится она на Татьяну. Хоть и клянется-божится дочь, что не виновата, ничего, мол, не слышала и не видела, в ум не взяла. А сердце на что, сердцем должна была учуять, что обидели родную мать.
Было это все на Игоревой свадьбе. Женился ведь, дурачок, на ноги еще не встал, не оперился, а туда же… опять те же слова, что у Лешки когда-то: «Я, бабушка, ее люблю. Папа, мама, что вы, на самом деле, — я же ее люблю». Пришлось играть свадьбу.
Дочка с зятем совсем разум потеряли: ну что ж, мол, свадьба в жизни один раз бывает. Такой шик сделали, такой пир, такой богатый стол. У Лешки всюду знакомства — он им рыбу красную достал, колбасу хорошую. Студню наварили — это не передашь, что за студень. Водка, вино красное, пироги, мясо жареное. Винегреты, салаты. Гулять решили два дня, а то и три, если надо будет.
Дочка по уши в долги влезла, в кассе взаимопомощи прихватила, отпускные забрали, даже кое у кого из своих хозяек Нюра взяла. Заикнулась было: «Может, сделаем поскромнее? Как расплачиваться-то будем?» — «Что вы, мама, пусть». И вроде с укором, с жалобой Татьяна сказала: «Я свою свадьбу не справляла, просто в загс сходили с Васей, так пусть уж мои дети справят». — «Так какое же время было — война да после войны», — только и ответила Нюра, все-таки задетая. И не напомнила, что обещали ей пальто в кредит взять…
Свадьба зато была — загляденье. Машины, шампанское, фотограф штук двадцать разных фотографий наснял, молодежь вся в галстуках, в черных костюмах, невеста в фате. Первый день Нюра, правда, отгуляла на совесть. И поела, и выпила. Светилась от гордости. Ах вы, мои деточки, приятно мне на вас посмотреть… И родня, и соседи у них гуляли, и все такие статные, приличные. Обычай, порядок понимают. Сват своих родственников, даже самых дальних, из деревни вызвал, они глаза так и вылупили на этот блеск. Радовалась Нюра. Пейте, кушайте, дорогие гости, — только и успевали на опустевшие тарелки рыбу да мясо накладывать. Утром, как водится, пошли будить молодых, стали им на счастье деньги кидать, от души кидали — кто десятку, а кто и двадцать пять. Лешка разошелся, хотел было больше всех кинуть, — Нюра остановила. Опять пошли с плясом на квартиру к свату, справляли ведь у него, там комната побольше. Такая Нюра веселая да гордая была, такая благодарная людям за ласку и внимание. Шутила, смеялась. Стали все садиться снова за стол. Теснота, давка. Но ведь, как люди говорят, в тесноте, да не в обиде. А тут вышло, что в обиде. Стала она с табуреточкой, приплясывая, пробиваться к столу, а сват вдруг скажи ей: «Бабка, ты же видишь, гостей негде сажать. Иди, иди на кухню, там чем поможешь». Нюру как камнем из-за угла стукнуло. Кругом крик, шум, смех, колготня, — может, ослышалась? А сват еще пальцем показал: вон, мол, она, кухня, иди.
После сват объяснял, что он контуженный на войне, нервный, а их прабабка тоже на кухне сидела и не обижалась, так, мол, в чем дело? Но Нюра света невзвидела. Ее, родную бабушку жениха, ее, которая Игоря вырастила, — отец-то его, зять Вася, четыре года в армии был, без него управлялись, — и ее на кухню, подальше от застолья, от красных помидоров, от душистой водки, от тостов, от криков «горько», от Игоря в костюме, купленном на ею же заработанные деньги, от праздника, от гостей?! Ей бы надо было, как Маша потом советовала, поднять табуретку: «Ну-ка, иди отсюда, не то стукну». А она… Потемнело у нее в глазах. И она, помертвевшая, пошла к двери, столкнулась с дочерью — та бежала из кухни с большим блюдом, полным рыбы, не поняла ничего, бросила: «Опять бы себе, мама, нервы треплете?» Какие нервы? Кто треплет?
Как она шла, Нюра, как добралась домой — не знает. Все чудилось ей, что бежит кто-то вслед, сейчас догонит и крикнет: «Куда же вы, мама? Что это вы надумали, мама?» Но никто ее не догнал. А соседки у дома так и бросились: «Уже все? Уже отгуляла? Да ты совсем тверезая». — «Устала я, — кратко сказала Нюра. — Устала — и все. Потом еще пойду».
Но не пошла. Дверь замкнула и не вышла больше. Такой срам. Маше потом призналась, но Маша не чужая. Хорошо, что комната своя, свои стены. Укрыли они ее от людских глаз.
Потом только, рассказывали, племянники спохватились: где тетка? Потом только Игорь заметил: а где же бабушка? Но что толку? Татьяна на свата заругалась: «Вы не имеете права моею матерью командовать». А он, идиот, свое: «Я на войне контуженный, я нервный. Я к ней пойду извинюсь, если она такая обидчивая…»
Но Нюра сказала: нет, не простит. Свадьба-то уже прошла, что ей в его извинениях? Он контуженый, а я не контуженая? Я сына потеряла, я мужа лишилась — и я не контуженая? Пусть даже не думает являться — с лестницы турну. Что мне его извинения, если я на свадьбе у внука только один день гуляла, если я всего только кусочек рыбки съела да рюмку белого выпила? Подавится пусть своими извинениями.
Хорошо, что была своя комната, — закрылась и выплакалась. А пойдешь подселенкой, своя же сноха замечание сделает, некуда будет укрыться, некуда спрятаться.
Ну их… Если в таком присутственном месте, на свадьбе, на глазах у всех, могли обидеть рабочего человека, так никто ей больше не нужен. Чужие больше о ней заботятся, чем свои. Вот хоть Маша. А свои одно знают; дай, мать, десятку, дай пятерку. Она что, легким трудом эти пятерки добывает? Тяжелым. А пойдет в подселенки к Лешке, то и пятерок не будет. Сноха живо ей дело дома найдет — то простирни, то сготовь. И бесплатно. Со своих ведь не потребуешь плату. А кончатся пятерки, на пенсию не разгуляешься, и тогда все: в гости придешь — хоть к дочери — без подарка, и ты уже не гость, а так, просто теща, что явилась за их счет пообедать.
И не спит Нюра, ворочается, бередит душу горькими мыслями.
А все-таки надо решать, сколько можно тянуть канитель… И так уж она избегает сидеть дома, боится, — придет Лешка за ответом. Или пришлет за ней Тамарку: давай, мать, говори, что надумала…
А она ничего не надумала.
С Машей советоваться нельзя, это ясно.
Таньку все-таки спросить? Нюра заранее знает, что дочь всполошится: «Ой, мама, что вы? К чему?» Не зря Лешкина жена подпустила шпилечку: «Татьяне, конечно, интересно, чтобы вы у людей работали. А мы… нам своего хватает». Конечно, им хватает. Лешка такой столяр, что где хочешь заработает: один закажет резной стул, другой шкафчик под старину. «Зато Татьяна на производстве на первом счету, — могла бы ответить снохе Нюра. — Ей и уважение, и премии. А что зарплата небольшая, так она ведь государственная, как государство постановило, так и платят, не Татьянина это вина. Ты, если бы не мой Лешка с его золотыми руками, столько бы, сколько Татьяна вырабатывает, сроду бы не выработала. Такое уж твое счастье, что тебе мой Лешка попался», — еще сказала бы Нюра. Да ведь не скажешь — нельзя. Обидится сноха. А она на обиду памятливая. А Нюре с ней, может быть, жить…
Нюра даже вздрагивает.
Не скажешь, что плохая сноха, — хорошая. Очень даже хорошая. И уважает, и подарки дарит на праздники, а все не родная кровь. Другое совсем воспитание. У них у всех, у Бауковых, натура широкая: я ем — и ты ешь со мной, я пью — и ты бери рюмку. Татьяна вот ведь какую свадьбу закатила. Сколько теперь работать сверхурочно будет, пока расплатится. Но не жалеет. «Ну что ж, руки-ноги есть, расплачусь». А сноха цену деньгам знает. И порядок любит.
Нет, не посмеется, не погуляет, не повеселится Нюра, если вместе поселятся. Ходить придется по струнке… И Тамарка любит наушничать. Все-все, что услышит, матери передает. Каждое свое слово придется учитывать.
Все это Нюра опять и так и этак обдумывает, пока едет к Евгении Федоровне. Вот как сырое зерно, бывало, перелопачивали, так она ворошит свои мысли, пока трясется в автобусе. Даже не сразу соображает, о чем спрашивает ее тот дылда парень, что уступил ей место.
— И что вас, старух, в такую рань носит? Только усядешься, «Советский спорт» развернешь, как вы, старухи, уже тут как тут.
— Не спится, сынок, — шутит Нюра. — Бессонница…
Она маленькая, кругленькая, курносая, всякий скажет ей доброе слово, всякий приветит. И она каждому любезно ответит, улыбнется, поймет шутку. Даже не заметит никто, что у нее на душе кошки скребут.
И Евгения Федоровна, когда Нюра входит, не замечает, какое у той настроение.
— Я так боялась, Нюрочка, что ты не приедешь.
— Как же это я не приеду? Я обещалась…
Еще вчера она позвонила по телефону. Долго кричала; «Алле, алле! Евгения Федоровна, это вы?.. Это я, Нюра. Ну как вы там? Здоровы? Нужна я вам, тогда завтра подъеду… Самсон Самсонович как, ничего? Ну, до завтра. Ждите».
— Я очень рада, Нюрочка, что ты приехала. У меня кошмар сколько стирки…
— Ну и что? Перестираем.
— Боялась — вдруг не приедешь…
— Раз обещала… Меня, правда, сегодня у Валентины Ивановны ждут, но я себе думаю, долго у Евгении Федоровны не была, надо съездить.
Нюра надевает тапки, старое платье, подвязывает фартук. Обе женщины идут на кухню пить чай.
— Нюра, ешь. Я тебя прошу — ешь…
— Аппетита нет, — жалуется Нюра. — Вы поверите, не знаю, чем и жива…
Но Евгения Федоровна не слушает.
— Нюра, — говорит она доверительно, — у нас такое горе…
Нюра всплескивает руками:
— Это надо же…
Года не прошло после свадьбы, как Верочка, внучка Евгении Федоровны, ушла от мужа.
— Она же сама его выбрала, — удивляется Нюра.
— Теперь говорит — ошиблась. Уж Самсон Самсонович на что терпеливый, и тот говорит: будет чудо, если Шурик не накидает ей оплеух…
— Она же его опозорила на весь институт… — Нюра вне себя. — Такие расходы, вы же в ресторане, я помню, справляли…
— Двести человек гостей. Сослуживцы Самсона Самсоновича. Родня. Им такие дорогие подарки сделали, стыдно смотреть людям в глаза… А Шурик прямо посинел от переживаний.
— Значит, не смог он ее одолеть…
— Ох, не знаю, не знаю… Теперь все не так, как было в наше время.
Глаза у Нюры горят. Вот избаловали девчонку. Отцом и матерью, дедом и бабкой вертит, как хочет. Носового платка сама не выстирает, тарелку за собой не вымоет. Что ж тут удивляться.
— Ну, Евгения Федоровна, — говорит Нюра, — было бы старое время… Вот хоть возьмите меня, — с удовольствием начинает она рассказывать, — у меня другой человек был на уме. Ох, сколько я слез пролила…
— У Верочки ни слезинки, такая черствая…
— И что же? — сама у себя спрашивает Нюра. И отвечает: — Свыклась… Муж-то знал, что я его не люблю. Но очень уж я ему нравилась, я как яблочко была, такая розовая. Только окликну, он весь встрепенется, так рад. А я долго еще того, другого, вспоминала, чуть минутка — бегу домой: может, мол, встрену. Только я на порог, отец скажет: «Зачем пришла? На кого хозяйство бросила? Мать, веди ее назад». Мы с мамой идем, плачем. «Нюшенька, покорись». — «Не могу, мама, противный он мне». Я ему в глаза сказала: «Если, Иван, ты на какой свадьбе крикнешь «горько», я…» У нас такое правило в деревне, обычай, как говорится. Предположим, чья-нибудь свадьба. Я встаю, говорю: «Ой, чтой-то водка горькая». А молодые отвечают: «Покажи дорожку». И я должна идти к своему мужу или муж к своей жене и целоваться. Да я бы с ним тогда ни в жизнь на людях не поцеловалась…
Вы не поверите, я недели три, как к нему переехала, в избе не ночевала; как вечер, бегу к деверю, к Даниле, — очень был праведный человек, каждое воскресенье в церковь ходил, не то что мы, безбожники. Играю с его детьми, вроде я такая глупая, там и засыпаю. А чуть светает, выскочу, сяду на завалинке около своего дома: неудобно ведь перед людьми, что я от мужа бегаю. Муж заманивает меня: «Иди, Нюшенька, поспи, рано еще». А я: «Нет, нет, я уже выспалась». Данила ему говорит; «Ой, что же ты, Ванька, наделал, и тебе радости нет, и ее, такую молоденькую, загубил». А тот, прежний мой, подослал записку: «Убежим; я возьму у отца ружье, — а отец у него лесником был, — приду ночью и буду твоего мужа под прицелом держать, а тетка моя взойдет за сундуком». Но я не согласилась. Нет, раз уж мне такая судьба выпала, то что ж… Он с год еще надеялся, не женился…
И к мужу у меня долго не было доброго чувства. Мы шли с ним, помню, от наших к себе домой. Там косогор, внизу речка. Муж выпил с моим отцом, идет, важничает. Снял картуз и кинул с горы вниз. «Жена, принеси». — «Ты что?» Как толканула его, он колесом и покатился. Евгения Федоровна, я думала — насмерть убился. Лежит и не встает. Земля уже мерзлая, комковатая. Ну, думаю, сгубила мужа. Все. Пойду под суд. А он встал, отряхнулся, протрезвел: «Прости меня, Нюрка, я сам виноватый, тебя обидел». Я тогда картуз подняла, подала: «Вот, Иван, не доводи другой раз до греха». А сама, когда испугалась, чувствую — все-таки уже муж, родной, жалко стало…
Нет, раньше было строго. Разве я смела против отца возразить? Это теперь воля. Хочу — не хочу. Надо же — сыграть свадьбу, а теперь затеять скандал.
Она задумывается и спрашивает:
— Может, в нем никакой силы нет, в Шурике?
— Верочка говорит, что ей с ним скучно…
Эти слова очень смешат Нюру.
— Скучно, — повторяет она и мотает головой. — Надо же… — Потом советует участливо: — Может, и правда, дал бы он ей одну-другую пощечину…
— Что вы, Нюра, как можно! — обижается Евгения Федоровна.
Раздается звонок, и влетает Верочка. Нюра пялит на нее глаза, но в Верочке, к ее изумлению, никаких перемен. Нарядная, уверенная, румяная, как и была. Евгения Федоровна уводит внучку в спальню и закрывает дверь, но хоть бы и не закрыла, ничего не слышно за шумом льющейся воды — Нюра начинает стирать. Жемчужная пена встает над тазом, в который она щедро сыплет пахучий порошок «Кристалл». И только когда она прикручивает кран и, изнемогая от любопытства, прислушивается, до нее доносится неясно: «Бу-бу-бу», — выговаривает Евгения Федоровна, «Ах-ах-ах-ах!» — смеется Верочка.
Нюре хочется понять, откуда у Верочки смелость — пойти против всех, против людской молвы и пересудов, против отца с матерью, деда. Он ведь строгий, Самсон Самсонович, всю жизнь на казенной машине ездит. Надо же — прогнать мужа! «Не знала горя, непуганая, — решает Нюра. — С детства в довольстве, в сытости. И на себя надеется, на свою грамотность. Кончит институт, и пойдет ей хорошая зарплата. Это не то, что остаться с детьми на руках. Ради детей чего не стерпишь».
Вскоре Евгения Федоровна с красными, мокрыми глазами проходит на кухню разогревать для голодной внучки обед. Не в силах молчать, Нюра идет за ней, для приличия делает вид, что пора заваривать крахмал.
— Но вы его, Шурика, тоже не жалейте, — вдруг советует она. — Мужчина всегда измену сделает. Думаете, я измены не знала? И этого хлебнула, когда в город переехала… Иван мой первым в город подался, я вам говорила, а я за ним двинуться-то двинулась, а где жить? Прописку где взять? Петька и Танюшка с отцом на одной койке в общежитии спали, а я в домработницы устроилась. Хозяйка меня прописала. У нее и жила, и ночевала в коридорчике, а в субботу она меня отпускала к мужу, входила в положение. Я в общежитие прибегу, детей в баню сведу, вымою, вычешу, приберусь там у них, чуть не целое ведро супу наварю, чтоб им подольше хватило, грязное белье соберу, назад еду — счастливей меня нету. Анна Дмитриевна спросит: «Хорошо ли вы отдохнули, Нюра?» Я, конечно, вру: «Замечательно…» Не признаюсь, что почти сна не знала. Она радуется: вот и хорошо… У-у, я тогда все поспевала сделать, ухватистая была, себя не жалела… А Иван… Ну что за труд для мужика — пожарник на производстве? Да там и пожаров не было… Все-таки он воспитанный на крестьянской работе, и пахал, и косил, а тут… тем более в Москве — питание, и батоны белые, и колбаса… Гладкий, видный из себя стал, полезли ему, понятно, в голову разные глупости… Мне ребята, молодые пожарники, что с ним в общежитии жили, дают намек: он, мол, гуляет… Ну и пусть гуляет на здоровье. «Да нет, он от тебя гуляет». Как, мол, он может гулять, когда при нем дети? А потом уж прямо говорят: «Тут у нас одна стахановка живет, Чикунова, очень хорошо получает, так он к ней наведывается». Я все не верю: «Как так? Может, он просто по-соседски заходит?» Они смеются в голос: «Дурочка ты деревенская…» Я к мужу. А он бойкий такой сделался:
«Ты не жила в общежитии, ты не знаешь, как разыгрывают…»
Пожарники говорят:
«Врет он, не верь, мы все его стыдим: мол, у тебя такая симпатичная жена…»
Я и спрашиваю у сына:
«Сынок, ночует папка с вами на койке?»
«Когда ночует, а когда нет. Только не велит тебе говорить».
Ну, я свету невзвидела.
Отпросилась у хозяйки в будний день и приехала. Ребята говорят — он у нее. Ну, раз так, вы караульте под окном, чтобы он не выскочил, а я пойду застану их. Комната ее в этом же коридоре была, как раз угловая… Стучусь. Заперто. Тут она выходит, идет мимо меня, вроде в уборную, а дверь свою на ключ. У нее муж был на пять лет посажен, что-то на производстве такое сотворил и получил пять лет. Она живет одна. А кто тогда за дверью дышит? Идет она назад мимо меня опять с усмешечкой. Не смотрит. Вроде не человек, а колода стоит. Ах, так? Я — в дверь. Вижу, он сидит, красавец мой, без пояса, ворот расстегнут, как у себя дома. А на столе бутылка непочатая и рыба. Большой такой рыбец копченый, аж лоснится от жиру, весь золотой. Я как это увидела, вся кровь мне в голову ударила. Детки мои холодного супу поели, ты им не разогрел даже, а сами… Как кинулась к ней, враз она усмехаться перестала. Я ее рыбой, рыбой… А он на меня: «Ты что?» — «Как что? Ты меня из деревни вызвал, паразит? Я дом за бесценок продала? Я из колхоза выписалась? Я за тебя против своей воли шла, забыл? А теперь ты надо мной надсмешку делаешь?» Она выскочила в коридор — и с таким фасоном: «Это какая-то ненормальная». Кинулась к подмастеру, тот через стенку жил, спастись хотела, а он: «Когда выпиваешь с пожарником, нас не зовешь, а когда его жена родная пришла, ты к нам… Иди, иди себе, наше дело сторона». И не пустил.
Муж меня чуть не волоком в свою комнату потащил. Пожарники спасли, спасибо им. А я такая вспыльчивая была, у них там печка в комнате, я схватила полено, а что на полене сучок, и не увидела, огрела его по спине, — он так и взвыл. Повреждение позвоночника я ему сделала. Она утром забюллетенила, стыдилась на работу выходить, и он в больницу угодил.
До директора фабрики дошло, директор Ивана вызвал: «Ты что, Бауков? Ты это прекрати. Хочешь жить с Чикуновой, тогда пусть жена не ездит и не хулиганит. Ты на бюллетене, Чикунова на бюллетене, а производство? И как это она вас двоих так отделала? Не понимаю».
Ну, я долго к мужу не ездила, хотела развестись. Он звонит: не хочешь ко мне, детей пожалей, к детям хоть приезжай. Мама плачет: «Что ты, Нюшенька, наделала, зачем ты из деревни уехала?» — «А вы зачем все поехали легкой жизни искать, хозяйство на меня одну оставили? Корова, телка, четыре овцы, свиньи. Да я себе руки пообрывала. Только лучше бы я там оставалася, ударно работала, жила среди людей. Там спина болела, а тут душа». Ну, и пошла канитель. Маму за детьми посылаю, она их ко мне на трамвайную остановку тайком приводит, грязное белье приносит. Это спасибо Анне Дмитриевне, что она мне разрешала на детей дома стирать. А мужнино я не брала — не хочу, не желаю, пусть ему Чикуниха стирает, невелика барыня… Шумела я, шумела, а семью жалко. Все-таки я не одна, дети. Помирились. «Думай, Ваня, говорю, как жить дальше». Мы ведь три года поврозь жили, пока он не устроил меня в ткацкую. Паспорт у меня уже был и прописка, оформили меня. А на производстве я сразу себя проявила. И жили мы уже вчетвером на одной койке. Иван с Петей головами в одну сторону, мы с Танькой в другую. У меня косы были длинные, вы не поверите, Евгения Федоровна, ужас какие длинные. У них в ногах косы запутаются, я в крик: «Вы мне все волосы повыдергиваете!» Смех — и только… После уж дали нам семейное общежитие — комната тридцать метров на две семьи. Нас четверо, а их пятеро. Но ничего, жили дружно. Лешка родился. А уж перед самой-самой войной нас переселили. Домишко, верно, невзрачный, косой, деревянненький. Но комната-все-таки своя, отдельная. Мать с детьми в комнате спали, а мы в сенцах, у окна. Тут война. Недельки не прошло, слышу, кричит кто-то: «Теть, а кто тут Бауковы? Повестка ему…» А Маша, вот моя соседка нынешняя, она на первом этаже жила, отвечает: «Нюша, это к вам…» Я только и выдохнула: «Слышу». Догадалась…
Больше я мужа и не видела, Евгения Федоровна. Письма писал до сорок третьего года, до осени. Потом — извещение. Его товарищи мне сообщили, как было дело. Раненый очень стонал. Иван не выдержал, вышел из траншеи и, полез за ним. На плечо взвалил, а тут немец с гранатой. Немец, видно, хотел гранату в траншею на всех кинуть, но испугался. Кинул — их и разнесло обоих, и Ивана, и раненого. Солдаты из шинели документы достали, а там адрес мой. Они и написали, как убит, как погиб из-за своей сострадательности, где похоронен. Тридцатого сентября его убили, а Петьку четвертого октября. Тут же…
Евгения Федоровна сочувственно кивает. Она давно уже переминается с ноги на ногу, суп кипит, но неловко перебивать Нюру. Нюра и сама торопится, досказывает наспех, взахлеб:
— Только я вам не сказала дальше-то про Чикуниху. Это я еще у Анны Дмитриевны жила. Иван мне звонит по телефону: мол, приходи, Нюшка, в клуб, — он там дежурил как пожарник, — постучишь, я тебе открою, очень, говорит, хорошая постановка. Я приехала. Сижу в парке около клуба, вижу — идут Чикуниха с мужем. А его досрочно отпустили за хорошую работу… Только они на лавочку уселись, я спрашиваю:
«Ну, дождалась своего муженька?»
«Дождалась…»
«А пожарника кинула?»
«Кинула…»
Тут Чикунов встрепенулся:
«Что вы этим хотите сказать?»
«А то, что через нее я чуть не повесилась, не осиротила детей…»
А он:
«Значит, вы плохая жена, если муж от вас пошел к моей жене…»
Ну, мне нечем крыть, я и ушла.
А дома, в общежитии, он ей так потом дал, соседи говорят, просто ужас.
Мой мужик меня укоряет:
«Ну, надо было тебе, Нюрка, языком трепать! Что ты этим доказала? Темноту свою?»
А я вроде ничего и не говорила:
«Что такое, при чем тут я? Или тебе ее жалко? Жалко, да? Когда ты мне синяк безвинно поставил, так ничего. Пусть и она походит с синяком, ей за дело…»
«А ты не подумала, что Чикунов меня может встретить и мне тоже надавать?»
«Хоть бы при мне, я бы ему еще помогла…»
А тот солдат, что написал, как Иван погиб, мне и потом письма слал. И адрес своей жены приложил. «Вы с ней свяжитесь, от нее всегда будете знать, погиб ли я или жив. Очень мы с вашим Ваней дружно жили». С год он мне писал, и жена писала. А потом и его убили…
Нюра не плачет, не горюет: так все это давно случилось, что как будто и не с ней. А все-таки умолкает, вздыхает для приличия, снимает с огня кастрюльку, где студенистой массой колышется похожий на медузу заваренный крахмал, и так же молча уходит в ванную…
Потом к ней заглядывает Верочка. Она обожает слушать бесконечные Нюрины рассказы и, моя руки, как ни в чем не бывало спрашивает:
— Ну, кого зарезали, кого убили?
Но Нюра не дает себя отвлечь.
— Ты что же это сотворила? — строго спрашивает она. — Что нафокусничала? Чем тебе Шурик не угоден?
— Ну его, — перекрывая шум льющейся воды, отвечает Верочка.
— Как это «ну»? Знаешь, как в старину понимали: стерпится — слюбится.
— Нет, я бы с ним что-нибудь сотворила, так он мне надоел. Я бы сотворила и попала в тюрьму, вы этого с бабушкой хотите? — пугает Верочка.
— А что — в тюрьму? Что ж такого? — почему-то обижается Нюра.
— А то, что лучше смерть, чем неволя, чем тюрьма.
— И в тюрьме люди живут, не зарекайся… Вот хоть я. Очень даже хорошо жила в тюрьме. Я там и денег заработала, если хочешь знать. И уважение видела…
— Ха! — восклицает Верочка. — С вами, тетя Нюра, не соскучишься… От кого же это вы видели в тюрьме уважение?
— Да хоть от начальника, — гордится Нюра, забывая, что всегда умалчивала о том, что сидела в тюрьме. Зачем это чужим людям знать? Вовсе это ни к чему. — А как же? Он заприметил мою работу. Нас на прополку гоняли. Я там сдружилась с одной женщиной, ее за недостачу в кассе посадили, а так она не вредная, очень порядочная и приятная. Мы идем с ней, ряд за рядом полем и разговариваем. А девка из блатных как стукнет меня по спине: «Чего торопишься, тебе больше всех надо перевыполнять?» Я так носом и кувыркнулась в грядку, кровь пошла. Доложили начальнику. Он нас выстроил всех — линейка называется — и на нее как замахнется, я аж зажмурилась от страху, а он руку опустил. «Ты кого, такая-сякая, по спине ударила? Ты знаешь, у нее на воле дети. А если бы ты ее убила? Ты бы этих детей кормила, кукушка, так, что ли?» Ой, я ни живая ни мертвая стояла, боялась — они меня потом разорвут, девка с подругами. Только вскоре начальник меня к себе вызывает: «Умеешь коров доить? Пойдешь в совхоз дояркой?» Как прикажете. В совхозе этом вольнонаемные работали и я. Как взялась я этих коров несчастных обихаживать… Доярки в обед домой бегут, а я — остаюсь. Не будет же охранник из-за меня взад-вперед расхаживать? Я коровам своим глаза промою, хвосты разберу, покормлю, напою. И столько я надаивать стала… Начальнику за меня большой бидон молока давали, и в санчасть тоже носила. А сама не пила, нет. Не могла. Сразу про детей вспоминала…
Поработала я на совесть зиму и весну, начальник и говорит: «Будем тебе смягчение просить, уж очень ты по-ударному трудишься». А я отвечаю спроста: «Где уж, мне Калинин отказал». А у него тоже самолюбие, у начальника: «Может, тебе Калинин и отказал, а я выхлопочу снисхождение за твою горячность в работе; он тебя на ней не видел, а я вижу; наша, советская земля на таких, как ты, держится». А я, Верочка, правда, всю жизнь очень усердно работала, такая у меня натура была. Ну, значит, пообещал он, я и жду. Жду-жду — нет ответа. Одной ответили, другой, — думаю: а мне когда же придет ответ? Потом зовут к начальнику, он смеется: «Конечно, я теперь молока лишился, но так и быть, поезжай, Баукова, к своим детям, прощает тебя государство. Только смотри, рецидива не делай». Как раз меня и еще одну девушку простили, скостили меру наказания. Она когда в рабочем общежитии жила, глупенькая такая, неопытная, то повадилась курей воровать. Сворует и тут же варит. Аромат на все общежитие. Старуха пришла: «Девоньки, тут у вас никто курятину не варит?» А вот, мол, Зинка. Ну, и взяли ее, она не отпиралась. — И вдруг, без всякого перехода, Нюра заключает: — А ты говоришь — тюрьма. И в тюрьме можно жить, если честно…
— Я и хочу жить честно. — Верочка сразу становится серьезной. — Чем всю жизнь мучиться, лучше разорвать сразу. Я ошиблась, я его не люблю, тетя Нюра, можете вы о бабушкой это понять?
— Но ты же с ним как с мужем жила, он тебя уже испортил, сорвал цвет? — с блеском в глазах спрашивает Нюра.
— Ну и что?
— Как что? Кто ж теперь тебя возьмет?
— А мне никого не надо. Буду жить одна…
— Что хорошего-то? Одна! Ну, пока молодая, а потом?
Нюра начинает описывать тяготы одинокой жизни. Все парочками, а ты одна. Заболеешь — некому тебе чашку воды подать, некому вызвать доктора. Всем ты лишняя, никому не нужная. Без детей…
— Но вы ведь живете, тетя Нюра, одна…
— А что хорошего? — в запальчивости говорит Нюра.
Верочка, напевая, уходит в комнаты. Через минуту она вертит диск телефона и болтает с подружкой, заливаясь смехом.
А Нюра уже не может остановиться. «Был бы муж, — думает она, — может, я и не ходила бы на старости лет стирать. А то что за охота одной сидеть в четырех стенках? День сидишь, другой — устанешь молчать, надоест радио слушать. Вот Маша уезжала в деревню сестру хоронить, а я, простуженная, сидела одна дома. Хорошо, постучалась соседка, спросила: «Ты что, живая? Может, тебе молочка купить?» Нет, правда, лучше переехать к сыну, жить в семье. И Тамарка тут, внучка дорогая, и Леша, младшенький…
Она почти укрепляется в своем решении, когда приходит Евгения Федоровна с мужской рубашкой в руках.
— Нюрочка, — говорит она, — совсем забыла. Ты не сердись. Вот Самсон Самсонович просил рубашку выстирать, вылетело из головы…
— Я простирну, — успокаивает ее Нюра. — Я стирки не боюсь.
Она хочет высказать Евгении Федоровне все, что передумала, что выстрадала, но та говорит:
— Так я устала, Нюра, со всеми этими волнениями, так мне хочется побыть одной. Пожить для себя. Почему-то я всем что-то должна. Вот теперь хотят, чтобы не отец, не мать, не дедушка, а именно я пошла объясняться с родителями Шурика. Почему? С моими-то нервами… Устала. Всегда на людях, всегда в сутолоке. История с Верочкой меня совсем доконала. Вот брошу все и уеду на дачу, буду жить одна…
— А чего лучше — жить одной, — упавшим голосом говорит Нюра. И по привычке, механически, повторяет: — Сама себе хозяйка: хочешь — лежишь, хочешь — сидишь…
Откуда-то издали до нее доносятся слова Евгении Федоровны:
— Самсон Самсонович советует не принимать все близко к сердцу. Но как можно? Я же мать своим детям…
— Вот именно… — Тут уж Нюра, не давая себя перебить, как на духу рассказывает про свои дела. Перечисляет все «за», все «против» и с мольбой, вопросительно смотрит на Евгению Федоровну.
Та озадачена.
— Жаль терять такие условия, такую соседку, как у тебя, — наконец говорит она. — Но ты, Нюра, пойми. Им так хочется иметь отдельную квартиру, без чужих, без соседей…
— Лешка из армии пришел и говорит: «Вот, мать, в армии у меня была койка и тумбочка. А тут я снова на раскладушке должен спать». Всего ведь было у нас девять метров…
— Его ты тоже должна понять…
— Я-то понимаю, — со вздохом соглашается Нюра. — Я понимаю. Такая уж судьба, Евгения Федоровна. Вот от вас поеду прямо к ним: делай, скажу, Леша, как знаешь, я мать, и я свой долг понимаю…
А через несколько дней она со смехом влетает к Валентине Ивановне.
— Валентина Ивановна, я же вам говорила, что я счастливая. Упал камень с души. Отдали Леше всю квартиру. С производства ходатайствовали о расселении. Не придется мне к ним переезжать, буду жить, как жила. Надо же… Мол, он такой ударник производства, заслужил. Как же не заслужил? На все руки человек…
— От души вас поздравляю, — говорит Валентина Ивановна. — Вам действительно повезло. Вам неслыханно повезло…
— Я как открылась своей Маше, так она руками развела. Что ж ты, мол, молчала, одна такую страсть переживала? А я говорю: «Маша, стыд глаза ел». — «Да, Нюра, отвечает, дружба теперь главное, главный закон». То-то и оно, что дружбу боялась потерять. А теперь у меня своя кровать, плита газовая, балкон, пол лаком покрытый. Хочу — лягу, хочу — встану. Сама себе хозяйка…
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШАГОВ Рассказ
Иван Васильевич ошеломил жену, когда вдруг объявил, что выходит на пенсию. Как это? Почему? Он ведь полон сил.
Люся просто зашлась от негодования:
— Это штучки нового начальника? Вот нахал… — Люся давно подозревала, что у мужа на службе не все ладно. И даже порицала его втайне, зная, какой у него негибкий, неуступчивый характер, какое упорство в отстаивании своих мнений. Ни за что не подчинится, если считает, что прав. — Так кто же из вас коса, а кто камень?
Муж строго остановил Люсю:
— Я получил право на отдых…
— Да? Загадочная картинка. Цирк, — с привычной бойкостью сказала Люся. Но руки у нее опустились. Она растерялась, понимая, что в жизни наступил перелом. Крутой перелом. Поворот. Обычно муж на долгие месяцы уходил в плавание, она оставалась одна, жила беспечно, по своему вкусу. Теперь все изменится. Она так и сказала по телефону своей любимой подруге:
— Верунчик, мой семейный корабль ложится на новый курс. Иван выходит на пенсию.
— Поздравляю. Тебе будет веселее.
— Веселее? Иван будет командовать мной одной, как будто я экипаж целого судна…
— Тобой покомандуешь, как же, — усомнилась Верунчик.
— Ты плохо знаешь Ивана. Он привык, что ему подчиняются безоговорочно. Что-то мне страшно…
— Ты живешь с ним уже так давно…
Вот именно! Она живет с ним давно, а теперь ей страшно.
Люся вышла за Ивана Васильевича, когда ей было далеко за тридцать, через много лет после того, как умер от сердечного приступа ее первый муж, крупный хозяйственник, или, как тогда говорили, ответственный работник, так избаловавший ее своей добротой, вниманием и подарками. Немолодой уже, умный и довольно образованный, очень занятый на работе, но дома шутник и весельчак, человек с легким, уживчивым характером, он закрывал глаза на Люсины увлечения и многочисленные романы. Ради Люси он оставил старую жену, взрослых детей, внуков, он «бытом и буднями был сыт по горло» и от молоденькой жены хотел только одного — радости и праздника. Так он говорил, считая, что вполне заслужил и радость, и праздники. И это льстило Люсе. Правда, она была очень хорошим товарищем и охотно — понимала, не понимала — интересовалась делами мужа, его работой. Она даже иногда высказывала свое мнение, умиляя мужа здравым смыслом. «Ох, надо бы тебе учиться», — говорил он. На что Люся неизменно отвечала: «Ну вот еще…» — и хохотала. Муж был некрасивый, маленького роста, с толстой шеей и курчавыми, как будто из проволоки, волосами, но Люся его любила. И радовалась своей жизни с ним.
Иногда она философствовала:
— Я же самая обыкновенная, если вдуматься. Морда у меня красивая. Ну и что? Заслуги моей здесь нет. А он умница, ворочает промышленностью целой области. Нет, я выиграла мужа по лотерейному билету.
Верунчик, подруга детства, теперь кассирша в магазине, сидевшая в своей клетке по десять часов в день и непрерывно огрызавшаяся на замечания нервных и требовательных одесских покупательниц, отзывалась со вздохом:
— Почему это выиграла? В нашем дворе ты слыла красавицей из красавиц…
— В нашем дворе вообще жили замечательные девочки.
— Ты была лучше всех.
У них действительно был необыкновенный двор, кишевший детьми, а девочки, все эти русские, еврейские, украинские девочки, беленькие, рыжие и черноволосые, были одна краше другой. Розовые, как отборные яблочки. И все дружили между собой, помнили друг дружку и одна другой помогали.
— У тебя было, Люся… что значит было, есть золотое сердце — вот что самое ценное…
Тронутая Люся распахивала шкаф и доставала оттуда почти новое платье или блузку. Вера не отказывалась:
— Я-то растолстела, как индюшка, от своей сидячей жизни, но детям…
— Ты хоть их не раскармливай, — советовала Люся. — Я отказываюсь от лишнего куска сахару. А могла бы себе позволить питаться хоть одними пирожными…
Могла бы… Но внезапно умер муж. Бледный Савелий Петрович с мешками отеков под глазами, тяжело дыша, только и успел сказать:
— Я виноват перед тобой, ах как виноват, я не подумал о твоем будущем…
А Люся ответила, плача и целуя ему руки:
— Что ты? Я была счастлива, спасибо, тебе за все…
Однако Люсина жизнь теперь резко менялась. Не будет большой зарплаты Савелия Петровича, его забот, не станет подъезжать к дому служебная машина, на которой Люся иногда ездила на базар или в ателье на примерку. Брак их не был оформлен, пенсии по молодости лет Люсе не полагалось, сберегательная книжка, на которой было немного денег, по закону отходила старой жене и детям. А все-таки Люся сказала Верунчику:
— Поминки по Савелию надо справить… — И сняла с пальца кольцо с бриллиантом. — Продай…
На похоронах старая семья, родственники плотной толпой стояли у гроба, как бы оттесняя, почти отталкивая Люсю. Но на поминки все, кто бывал у них в доме, сослуживцы и знакомые Савелия Петровича, поехали к Люсе.
Как всегда в торжественные дни, огромный круглый стол был уставлен винами, водкой, едой. Верунчик постаралась. Горы красных помидоров, истекающие золотым соком дыни, сизый от росы свежий виноград, цыплята, заливная рыба, тушенные в оливковом масле фиолетовые баклажаны.
Не хватало стульев, приборов, несли из кухни табуретки, бегали к соседям за вилками. Люди чувствовали себя неловко, напускали на лица постное выражение, говорили шепотом. Себе в утешение и ободрение вспоминали, что покойный любил людей, уважал застолье, пусть тогда все будет, как бывало при нем.
Люся тупо и безучастно смотрела на эту толчею. Минутами ей казалось, что, как всегда в трудные минуты жизни, покажется задержавшийся на заседании хозяин, выйдет сам Савелий Петрович, наведет порядок, скажет остроумный тост, всех объединит. И тут же спохватывалась: нет, не выйдет. Она тоже сказала:
— Савелий Петрович любил жизнь, он не был ханжой…
Все охотно подхватили, загудели: не был, не был, он ведь замечательный человек… верно, точно, что не ханжа…
Но когда, выпив и поев, согревшись после осеннего ветра, дувшего с моря, гости развеселились, Люсе стало казаться, что все просто забыли, зачем пришли. Разбились на группки, заговорили кто о чем. Кто-то даже рассмеялся. Люся громко заплакала. Ее стали утешать, но не очень сердечно, как будто не верили в искренность ее горя.
— Хорошенькую женщину даже слезы не портят, — сказал Люсе заместитель Савелия Петровича Дроздов и обнял ее, успокаивая, чуть-чуть нежнее, чем положено обнимать вдову.
Она отстранилась.
— Мы вас не оставим, мы позаботимся о вас, — обещал Дроздов, дыша Люсе в ухо. И еще раз положил свою тяжелую руку ей на плечо.
Она снова отстранилась, даже с брезгливостью стряхнула руку с плеча.
— Какая гордая, — удивился Дроздов.
— Гордая? Ничуть…
— Но я не обидчивый. — Хмель все-таки развязывает языки. Дроздов спросил: — Неужели, Люся, вы правда любили Савелия Петровича? Уважать — это я еще понимаю, но любить…
— Вы что? — дерзко спросила Люся. И мокрые ее глаза сразу высохли и сердито вспыхнули. — Вы что? — повторила она. — Может, вы надеетесь занять место Савелия Петровича не только в управлении, но и у него дома? Так знайте, что не вам заменить Савелия Петровича… ни там, ни здесь…
Она поднялась со своего места и стала обходить стол, ухаживать за гостями, угощать, а когда оглянулась, Дроздова в комнате уже не было. Ушел. Догадался. Но Люся понимала, что самолюбивый Дроздов ей не простит, И вряд ли в управлении что-нибудь сделают для нее.
Всю ночь она убиралась и мыла посуду, ставила по местам стулья, подметала, заглушала тоску. Она никогда еще не ночевала в этой большой квартире одна; даже когда Савелий Петрович ездил в командировки, он брал Люсю с собой. Теперь надо было привыкать жить одной…
Утром приехали чуть свет жена и дети Савелия Петровича: два сына — старший, уже чуть лысоватый, и худенький подросток, дочь, невестка. Они хотели взять шубу, костюмы, ордена, документы.
— Мне нужен человек, а не его пиджаки, — сказала Люся. — Берите, вам пригодится…
И ушла в спальню.
Потом к ней постучался младший сын Савелия Петровича, очень похожий на отца, только высокий и довольно красивый.
— Может, вы хотите что-нибудь на память…
— Я его и так не забуду.
— Ну, может, книгу или статуэтку…
Он стоял неподвижно на пороге, угловатый, застенчивый, и ел глазами, разглядывал шикарную спальню, устланную ковром, широкие кровати, на которых его отец спал рядом с этой красивой женщиной, и посторонился только тогда, когда раздался крик матери, седой, очень худой женщины с растрепанными волосами:
— Толя, что ты здесь делаешь? О чем это ты говоришь, с кем?
— Но, мама…
— Тебе не о чем здесь разговаривать, — сказала мать, но тут же сама обратилась к Люсе: — Я беру его вещи потому, что я без средств, а вы молоды, вы устроите свою жизнь. У вас будут десятки других. Я жила с Савелием в бедности, в нищете, с детьми… любила его одного…
— Но я же не возражаю…
— Вы не имеете права возражать, — стараясь быть надменной, говорила жена Савелия Петровича. — Вы любовница, вот вы кто… жена я…
— Но, мама… — опять взмолился сын.
Приблизились старшие дети, обняли мать, увели. Они даже не смотрели на Люсю, полные презрения. И только Толя, младший, пробормотал:
— Не обижайтесь. Мама очень добрая. Это она от горя…
Люся кивнула.
— Как вы будете жить? Вы умеете что-нибудь делать?
— Не пропаду, — сердито сказала Люся. — Уж как-нибудь…
Одно ей было ясно: надо искать работу. Но какую? Образование у Люси было ничтожное. Она, конечно, в свое время посещала школу. Но школа в годы войны, в эвакуации, давала мало. Да и Люся не очень прилежно училась. Письменные за нее писали мальчишки, на устных ей подсказывали подружки. Хорошо, что язычок был бойкий. Она плела чушь, но, главное, не молчала, на тройку отвечала всегда. После войны долго болел отец, потом мать, дом был на ней. Какое уж там учение! Теперь она не была уверена, что сможет хотя бы грамотно, без ошибок, писать. На машинке она не печатала, стенографии не знала. Заняться каким-нибудь ремеслом? Но каким? Где? Пойти на фабрику?
Дроздов не принял ее, когда она пришла в управление, был занят. Посоветовал через секретаршу обратиться в отдел кадров. Правда, домой он позвонил, оправдывался, справился, можно ли заехать. Она ответила, что нет, нельзя. Ну что ж, он позвонит в другой раз, он упорный. Она опять нахамила. Может, он и звонил, но вскоре у Люси сняли телефон. Квартирные телефоны в те годы были редкостью, стояли только у специалистов, а кем была теперь Люся? Она не стала защищаться, не стала хлопотать, боялась напоминать о себе, о том, что занимает одна такую большую квартиру. Тогда, после войны, остро не хватало жилплощади…
В доме без телефона стало совсем тихо.
Целыми днями, не смывая крема с лица, Люся бродила по своим просторным комнатам, смотрела на стены, с которых были сняты ковры, картины. Больше всего она боялась, что придется расстаться с этими стенами. Она так гордилась раньше своей квартирой, огромными балконами, на которых летом цвели в ящиках настурции, кухней с большой плитой. Они так любили с Савелием Петровичем пить чай на кухне или жарить яичницу. Савелий Петрович никогда не сердился, если Люся не успевала приготовить обед. «Это пустяки, девочка, — говорил он. — Ты зачиталась? Очень хорошо». С Савелием Петровичем ей всегда было весело, интересно. Он так громко хохотал! Люсе казалось, что квартира до сих пор полна его голосом, его шутками, его смехом.
Люся продала часы, браслет, меховое пальто и долго жила на эти деньги. У нее было много знакомых и поклонников, которые приглашали ее то пообедать, то поужинать. Она не нуждалась, не голодала. Но для домоуправления требовалась справка с места работы. И Верунчик устроила Люсю администратором в клуб моряков, где она и встретила несколько лет спустя Ивана Васильевича.
Эти годы прошли для Люси невесело. Нужно было рано вставать и поздно возвращаться, нужно было укладываться в маленькое жалованье. Пришлось одеваться скромнее, а она не привыкла себе отказывать. На работе приходилось отвечать вежливо, не так остро, не так смело, как ей хотелось бы. Ведь одесские девочки за словом в карман не лезли. Она часто плакала теперь от усталости или обиды, от страха перед будущим. Она боялась и не любила начальника клуба и с досадой думала, что при Савелии Петровиче она бы ни этого грубияна начальника, ни его заносчивую и ревнивую супругу на порог к себе не пустила, а теперь вынуждена улыбаться им во весь рот. И все больше и больше страшило Люсю одиночество, потому что те молодые и средних лет мужчины, с которыми у нее вспыхивали краткие романы, с которыми она привычно кокетничала, ходила в ресторан и которые иногда оставались потом у нее ночевать, не заполняли ее жизни. Все было не то. С ними надо было хохотать, быть остроумной. Один, женатый, ей так и сказал, морщась от неудовольствия: «Люсенька, деточка, семейные сцены я имею дома».
На могиле Савелия Петровича Люся бывала часто. Она поставила памятник. Ей достали по дешевке глыбу гранита. Знакомый мастер высек барельеф. Голова с львиной шевелюрой очень мало напоминала покойного, но Люся была довольна.
Потом умерла жена Савелия Петровича.
Пришел сын, тот самый угловатый Толя, и спросил, не будет ли Люся против, мать просила похоронить ее в одной могиле с мужем.
— Он ведь ее не любил, — вырвалось у Люси. — Зачем обман? — Ей вдруг стало жалко этого мальчика, так похожего на портреты молодого Савелия Петровича. — Впрочем, теперь уже все равно… он мертвый, и она мертвая… надо выполнить волю вашей мамы…
Но на кладбище Люся ходить перестала, просто платила деньги сторожихе, чтобы та убирала могилу. И сказала Верунчику:
— Все. Хватит мне метаться. Надо устроить свою жизнь. Пора.
— У тебя столько поклонников…
— С Игорем все кончено. Жорик глуп, как пробка. Остается Эмулька, но он не собирается себя связывать, А главное — я не могу забыть Савелия, я сравниваю…
— Смотри не перемудри. Молодость проходит…
— Увы…
Вот тут-то и подвернулся Иван Васильевич. Он, вернувшись из плавания, зашел как-то случайно в клуб и увидел Люсю. Она дежурила. Люся и мечтать не могла о таком муже. Капитан дальнего плавания. Не штурман, не помощник, не механик. Капитан. А Люся выросла у моря и знала, что это такое — капитан.
Он ухаживал за ней довольно долго, то исчезал, то появлялся снова, колебался, привозил ей из плаваний дешевые пестрые сувениры, над которыми она не раз всхлипнула, вспоминая широту и вкус покойного Савелия Петровича.
Иван Васильевич подходил к делу серьезно, расспрашивал ее о прошлом, о родных. Как-то пришел к ней в гости, она похвалилась квартирой, чистотой, показала себя хорошей хозяйкой, блеснула вкусным обедом. Знакомая кадровичка, тоже жившая когда-то в их дворе, рассказала по секрету, что Иван Васильевич наводил о Люсе справки, осведомлялся о ее родных. Кадровичка не осуждала: такой человек, капитан, должен, конечно, иметь жену с чистой анкетой.
— По-моему, чистая совесть важнее, чем чистая анкета, — отозвалась Люся, тоже ничуть не обидевшись. — Но мне нечего опасаться, ты же знала и моего папу, и маму, и брата Гришу — он погиб на войне…
И когда Иван Васильевич шел с Люсей, прогуливаясь, по набережной, а встречные моряки козыряли ему, она гордо вздергивала свою темноволосую головку, задирала точеный носик. Бесчисленные приятельницы спрашивали при случае: «Это твой новый поклонник? Эффектный!» Люся отвечала: «Поклонник? Девочки, тут серьезное чувство. Иначе игра не стоит свеч».
И Люся выиграла свою игру. Иван Васильевич с ней зарегистрировался. Он тоже был одинок — жена и дочь потерялись в войну.
Люся поселила мужа у себя, переписала лицевой счет на его имя. Можно было не тревожиться, теперь никто уже не посягнет на ее квартиру. В столовой она повесила увеличенную фотографию жены и дочки Ивана Васильевича. Нюся была старообразная, с зализанными волосами и выпученными глазами, маленькая Олечка походила на мать. Люди умилялись:
— Как это гуманно с вашей стороны!
— Но ведь бедняжки погибли в войну, — почти искренне говорила Люся.
Один только Эмулька, забежавший к ней после длительной разлуки и несколько огорошенный тем, что Люся вышла замуж, сказал недоверчиво:
— Это живая диаграмма? Что было и что есть теперь у твоего Ванечки?
— Для тебя он Иван Васильевич. Понятно?
Эмулька был догадливый:
— Жаль. Ты же была девочка что надо… С юмором, достойным нашего прославленного города.
— Вот именно — была. Дошло до тебя? Теперь я замужем…
— Но я мог бы и сам на тебе жениться…
— У тебя не такое положение в обществе, чтоб на мне жениться.
— Точнее, не такая зарплата.
— Короче говоря, на прошлом поставлен крест. Я начала новую жизнь.
Люся сбегала в последний раз на кладбище — Иван Васильевич запретил ей ходить туда — и наревелась всласть около памятника Савелию Петровичу. «Прости, прости, мой дорогой, — твердила она мысленно. — Но такова жизнь, я выхожу замуж».
С работы Люся, понятно, уволилась. Иван Васильевич не хотел, чтобы его жена работала в клубе, где любой моряк мог пялить на нее глаза, как пялил их совсем недавно он сам, носить ей шоколадные бомбы в серебряных обертках и «травить» заманчивые морские истории, добиваясь ее расположения.
— Ты теперь семейная женщина.
Люся, хотя ей совсем не хотелось ходить на работу, все-таки возмущалась:
— Выйти замуж еще не значит уйти в монастырь. Надо же приносить пользу обществу.
— Твое дело вести дом.
С Иваном Васильевичем Люся никогда не разговаривала так смело, как со своими кавалерами, выросшими из одесских догадливых мальчиков. Зато они понимали ее с полуслова, с полунамека, буквально с междометия, с усмешки. Иван Васильевич был тугодум.
Он сказал просто:
— И не вздумай мне изменять. Я этого не потерплю.
Люся испугалась:
— О чем ты говоришь? Кто будет тебе изменять? С кем? С этой шушерой, с которой я училась в одной школе и жила на одной улице? Эмулька…
— Эмулька? Это что, собачка?
Люся думала, умрет — так хохотала.
— Это имя, сокращенное имя, которым архитектора называет вся Одесса с легкой руки его мамочки-фантазерки. Она была знаменитым зубным врачом — мадам Варковицкая…
— Мадам?
— Вся улица ее так называла.
Этого Иван Васильевич никак не понимал?
— По-моему, у нас принято говорить «гражданка».
— Мадам Варковицкая гражданка? Не смеши меня…
Люся терялась. Расстраивалась, жаловалась Верунчику:
— Просто у него нет нашего южного чувства юмора. Так же, как там у них, откуда он родом, не кладут перец в борщ.
— В борщ не кладут перец? Какой же это борщ?
Вера сделала такую постную мину, что Люся развеселилась:
— Будем надеяться, что моей жизнерадостности хватит на двоих.
Люсе не очень трудно было угождать мужу, развлекать его, готовить макароны по-флотски, как он любил, наглаживать его форменный китель. Все это она делала с удовольствием. Пока Иван Васильевич плавал, Люся успевала соскучиться. Ей нравилось его сильное, большое, чистое тело, бицепсы, рост. Муж легко, без усилий, передвигал шкафы, забрасывал на антресоли чемоданы, ввинчивал лампочки с табуретки, не становясь на лестницу. Люся суетилась, кокетничала, рассказывала анекдоты и различные истории. Она провожала мужа, когда пароход уходил в плавание, бежала по причалу, плакала и махала платком. Потом приходила домой, снова плакала, потом вытирала глаза, умывалась, как это делают актрисы, снимая грим. Первые дни она тосковала, скучала, места себе не находила. Постепенно приходило облегчение. Пароход плыл где-то далеко-далеко, унося с собой Ивана Васильевича, стоявшего на капитанском мостике. Никакой бинокль, никакая подзорная труба уже не могли помочь капитану увидеть Люсю.
Начиналась, вернее, возвращалась обычная ее жизнь.
Люся обзванивала знакомых, назначала встречи, собирала подруг. Она делала маникюр, меняла прическу, заказывала новое платье, ссорилась и мирилась с портнихой — то клялась, что ноги ее больше никогда не будет у такой нахалки, то снова называла Мусеньку сокровищем и талантом. Люся затевала ремонт квартиры, варила варенье, меняла плиту на кухне, училась вязать. Руки у нее были золотые, и свитеры, которые она вязала для мужа, можно было посылать на выставку, как утверждала Верунчик. Люся гордилась этим, ездила на пляж загорать, бегала в кино на дневные сеансы и подолгу обсуждала с подругами фильмы. Как мухи на мед, так же слетались к ней мужчины — Игори, Жорики, Самсоны Самсонычи, звонили, звали куда-то, набивались в гости.
Про каждого из них Люся с гордостью говорила:
— Видали? Моя последняя жертва. Но мне-то он зачем?
И так же, как повторяется после осени зима, а после весны лето, снова и снова возникал Эмулька со своими усиками. Немножко обрюзгший, немножко располневший, но неизменно веселый, компанейский, остроумный Эмулька. Его байки повторяли всюду, его остроты цитировали, как цитируют классиков.
И вот должно было случиться, что, когда Эмулька, небрежно развалившийся на тахте, рассказывал Люсе очередные сплетни, домой вернулся Иван Васильевич. Люся еще ахала и восклицала, шофер втаскивал чемоданы, Иван Васильевич, торжественный, как монумент, переступал порог передней, а Эмулька, крикнув: «Гарун бежал быстрее лани! Ариведерчи», — уже топал вниз по черной лестнице, выходившей во двор, забыв на столике сигареты и спички. Пепельница была полна окурков.
Люся буквально в ногах валялась у Ивана Васильевича, вымаливая прощение. Как ей было обидно! Она показывала банки с повидлом, наваренным на зиму, свитеры и жилеты, она искренне рыдала. Неужели он может предположить… Флирт — да, болтовня — да, но что-нибудь серьезное — о нет, нет…
— Это же как пух на одуванчике, подул, фу — и нету… А ты мужчина, герой…
Люся чувствовала, что не может, не должна потерять Ивана Васильевича. Она этого просто не переживет. Отравится, перережет себе вены. Она не сможет теперь жить без него, снова одна. Жить, как живут многие безмужние женщины, заполняющие по утрам трамваи и троллейбусы, увядающие в одиночестве, не к лицу одетые, часто с детьми на руках, которых они не умеют воспитывать без отцов, замученные и задерганные своими многочисленными обязанностями, не знающие ласки. Без помощи, без опоры.
— Пусть они инженеры, пусть учительницы, пусть у них дипломы, — говорила Люся Верунчику. — Но я не героиня, нет, мне нужен муж. Я обыкновенная женщина, и моя сила в том, что я женственная. Мужчина со мной чувствует себя мужчиной. Это не важно, кто из нас умнее, может быть я, но я делаю вид, что он неизмеримо выше меня. Я даю ему свою жалость, свою преданность и любовь…
Верунчик в ответ скривила рот.
— Круглые идиотки в наше время тоже не котируются.
— Идиотки? Это уже крайность. Но я умру, если потеряю Ивана.
— Ларчик открывается просто: ты по уши влюбилась. Ты потеряла голову, я тебя никогда не видела такой. Как будто на нем свет клином сошелся…
— Для меня — да, — твердо сказала Люся. — Я его уважаю. — И заявила, что все старые знакомые и поклонники подметки ее мужа не стоят.
— Ну да? А Эмулька? Такой талантливый мальчик.
Люся только презрительно пожала плечами. Слышать она не могла об Эмульке.
И когда он несколько недель спустя как ни в чем не бывало позвонил ей и сказал, что есть возможность посмотреть в Доме архитектора заграничный фильм-вестерн с ковбоями и пальбой из пистолетов, Люся как ушат холодной воды на него вылила:
— Трус, подонок! Хорошо, что ты от страху не потерял здесь брюки. Чего ты испугался? Что Иван тебе морду набьет? Жаль, что не набил. Я свое получила…
— Неужели этот хам поднял на тебя руку? — На другом конце провода Эмулька так тяжело задышал, как будто помпой накачивал воздух в легкие. — Его счастье, что я ушел. Я бы разорвал его на куски…
Люся демонически захохотала.
— Ты слышал анекдот, как заяц упал в волчью яму? Нет? Тогда попроси, чтобы тебе рассказали. Я получила то, что заслужила…
Люся швырнула трубку, но тут же обзвонила всех приятельниц и с подробностями рассказала, как она проучила Эмульку. Человеку под сорок, а его все называют детским именем. И прибавляла с гордостью:
— Мое счастье, что с Эмулькой действительно ничего не было. Муж бы меня убил…
Она гордилась ревнивым, суровым характером мужа, его непреклонностью. Огорчалась только, что он молчаливый, слова от него не добьешься. Никогда не поделится, не расскажет про свои дела. Даже обсуждать с ней не стал, как произошло, что его, вполне здорового и летами не старого, просто по трудовому стажу отпустили на пенсию. Ясно, что он кому-то мешал. А когда она, возмущенная, спросила, не штучки ли это нового начальника, ответил, как отрезал, что он по закону имеет право на отдых.
— А как же мы будем жить? — спросила она тогда.
Муж пошевелил скулами:
— У меня хорошая пенсия.
— При чем тут пенсия? Тебе будет скучно…
— Понятия не имею, что это такое — скука…
— Я боялась, что ты переживаешь, ты же такой самолюбивый. Но если нет, — мягко, как только умела, сказала Люся, — тем лучше. Мне надоело ходить в кино одной, постоянно привязываются с разговорами мужчины, если женщина в кино одна…
Иван Васильевич строго сказал:
— Ну, ты уж не такая молоденькая…
Люся поправилась:
— Надоело одной в большой пустой квартире.
— Квартиру мы поменяем, — как о решенном сказал муж. — Я хочу жить ближе к морю.
— Но я столько сил и нервов положила, чтобы сохранить квартиру в центре, как же так… — Она остановилась, задумалась, как будто взвесила что-то. И вздохнула. — Ты не сможешь жить без моря, что верно, то верно. Придется переехать…
Люся плакалась потом перед подругами и говорила: да, у нее есть отзывчивость, есть совесть. Ивану Васильевичу тяжко будет переносить разлуку с морем, он не из тех людей, которые ездят к морю трамваем на полчасика. Он и море неотделимы, так пусть хотя бы видит море из окна; но почему все-таки он ни разу не сказал ей «спасибо», так легко принял ее жертву? Разве она не человек? Теперь она, увы, не часто будет попадать в центр, где прожила столько лет. Где все ее знакомые. Все воспоминания. И центральный универмаг близко, и телеграф. И лучшее в городе кино. И маникюрша, к которой она ходит уже десятки лет.
Люся так горевала, что поражала подруг. Они не часто видели ее такой подавленной. Но когда стали советовать не соглашаться на обмен, Люся категорически отказалась. Нет, этого она сделать не может — лишить моряка главной привязанности в жизни из-за каких-то мелочей, из-за маникюрши. Просто смешно. Тем более что и маникюрша состарилась, боится порезать и делает маникюр так долго, что лопается любое терпение. А магазины? Так на окраинах, в новых кварталах, магазины не хуже, чем в центре. Там бывают такие дефицитные товары, каких в центре, несмотря ни на какие связи, на достанешь.
И все-таки Люся плакала. И опять говорила:
— Верунчик, мне страшно…
— Чего? Можно подумать, что ты заново выходишь замуж…
А Люсе казалось, что она действительно заново выходит замуж. Таким незнакомым, таким чужим казался ей иногда Иван Васильевич.
Особенно тяжко стало, когда закончились все хлопоты, связанные с переездом, когда сделали ремонт и стали просто жить. Люся ведь не зря спрашивала: «А как мы будем жить?» Нет, не в материальном смысле — кое-что они отложили, она одета, обута, у нее две меховые шубы, есть кое-какие драгоценности, их всегда можно продать в случае нужды, — проживут не хуже других. С возрастом она стала прекрасной хозяйкой, научилась шить, вязать, сама поднимает петли на чулках. Нет, ее тревожило что-то более глубокое, более важное: она не знала, в чем будет смысл их жизни. Ведь они такие разные.
Люся привыкла гордиться Иваном Васильевичем. Она с важностью говорила: «Мой муж снова ушел в плавание. Я даже не подозревала, что на свете есть такие страны. Какой я была дурочкой, что в детстве не учила географию». За эти годы она привязалась к Ивану Васильевичу, привыкла к нему и чем дальше, тем больше мечтала играть в его интересной, как она считала, жизни существенную роль.
Все понемногу менялось.
Знакомые, приятельницы, родственники — все стали старше; кто умер, кто переехал в другой город, кто нянчит внуков, кто ушел в свои болезни. Меньше стало вечеринок, дней рождения, поездок на дачу, в гости, свиданий, приглашений в театр. У всех взрослые дети, уже они, дети, женились и разводились, бросали жен, рожали. Раньше в разговорах упоминались тещи и свекрови, теперь невестки, зятья, внуки. Ничего этого у Люси не было. Один только Иван Васильевич. Пока у него была жизнь, была и у нее. Как отлаженный свет. Люся с горечью отмечала про себя, что муж больше не тот блестящий капитан, уплывающий в неведомые страны, а молчаливый, замкнутый человек, запертый с ней в четырех стенах.
С утра Иван Васильевич уходил к морю, гулял. Он соглашался с японцами, что каждый день нужно делать десять тысяч шагов. Он делал свои шаги в любую погоду, возвращался и сидел дома. Мастерил что-нибудь. Приводил в порядок немногочисленные журналы, подклеивал страницы, выпрямлял загнувшиеся уголки. Складывал по порядку старые письма и пригласительные билеты. Делал полочки, крючки. Иногда он звал Люсю и, показывая пальцем на пылинку или на пятнышко, хмурил бровь.
— Что? — будто не понимала Люся.
Он молчал.
Люся, тоже молча, но внутренне клокоча от гнева, приносила тряпку, вытирала. Он действительно требовал от нее так много, как будто она была командой парохода, матросом. Он не терпел беспорядка, был пунктуален.
Люся все-таки не сдавалась. Старалась не унывать. Чистила на кухне картошку — пела. Натирала паркет — пела. Иногда, к случаю, вспоминала анекдот. Иван Васильевич не смеялся.
Однажды, когда он наконец-то понимающе улыбнулся, она бойко сказала:
— Ты как тот швед…
— Какой швед?
— Ему рассказывают сегодня, а смеяться он начинает завтра.
— Не понимает, что ли?
— Слава богу, дошло…
Иван Васильевич был недоволен:
— Как это дошло?
— С тобой даже пошутить нельзя.
— Нет, почему? Шути…
— А обижаешься на каждую шутку.
— Бывают уместные и неуместные шутки.
— Ну, хорошо, — Люся все-таки уступила, — может, я не так выразилась. Но мы, одесситы, веселые люди.
Однако сама она все реже бывала веселой. Задумывалась. А если начинала читать увлекательную книгу, то забывала обо всем на свете. Верунчик уже не раз укоряла Люсю, что та слишком чувствительная и не бережет свои нервы. Напрасно. Она по радио слышала, что нервные клетки не восстанавливаются. Так что она сама… Но Люся твердо ставила Веру на свое место:
— Не путай, умоляю тебя. Ты — это ты, а я — это я.
Как будто Вера не знала, кто есть кто. Она, одинокая грузная женщина на толстых ногах-подпорках, кассирша из овощного магазина, — и прекрасно одетая, красивая Люся, жена капитана.
— Я советую любя, берегу тебя…
— Жить без книг, без чтения? Зачем же тогда жить?
— Кто говорит — совсем без книг? Читай, но не переживай так…
Иван Васильевич тоже считал, что Люся слишком много читает. А однажды, проснувшись ночью и увидев, что Люся лежит с книгой, а глаза у нее красные от слез, даже всполошился:
— Ты заболела?
— Я здорова, — трагическим тоном ответила Люся.
Она отказалась измерить температуру, выпить воды. Просто рыдала, чем крайне удивила Ивана Васильевича.
— Я и не думал, что ты такая плакса…
— Да, да, я очень эмоциональная…
Люся сквозь рыдания говорила, что книга очень интересная, из жизни моря, очень романтично написанная; она умоляет мужа прочитать эту книгу, он получит особенное удовольствие.
Иван Васильевич охотно согласился.
И Люся размечталась: как будет хорошо, они будут брать книги в библиотеке и у соседей и вместе читать. Или будут покупать, как она купила этот толстый том. Торговали на улице, возле книжного магазина. Седой, плохо одетый старик продавец сказал ей, когда она остановилась у лотка:
— Даме с вашим вкусом этот роман должен понравиться.
— Откуда вы знаете, какой у меня вкус? — живо спросила Люся.
— Мадам, я давно живу на свете. И я не всегда торговал на улице.
Люся еще утром похвастала перед мужем, какой ей сделали комплимент. И кто? Старый человек! Но Иван Васильевич отнесся к этому равнодушно, только спросил, сколько с нее взяли за такой толстенный том.
— Не дороже денег, — беспечно ответила Люся.
Иван Васильевич читал не спеша, вдумчиво. Недели полторы читал. Люся просто истомилась от нетерпения. Сразу же спросила, как только он перевернул последнюю страницу:
— Ну как?
— Вранье.
Люся очень обиделась за автора, красивого молодого человека, о котором было сказано столько лестных слов в коротенькой аннотации, предпосланной книге.
— Почему же вранье? — спросила она, задетая, как будто ее обвинили во лжи.
Он опять ответил:
— Так не бывает.
Люсю как с крутой горы понесло. Упершись руками в бока, как торговка на рыбном привозе, она спросила с вызовом:
— Не бывает или не должно быть?
Иван Васильевич был даже несколько сбит с толку таким натиском:
— И то и другое…
И долго, изучающе разглядывал жену.
Увы, это было не первое Люсино начинание, потерпевшее неудачу. Она снова и снова с неуемной энергией, с которой действовала обычно, пыталась наладить их совместную жизнь, сделать ее более содержательной и интересной, что ли. Хотя не могла понять, нуждается ли Иван Васильевич в этих ее затеях. Не похоже было, чтобы он очень скучал или был чем-то недоволен.
Несколько раз она приглашала мужа в Приморский парк на эстрадное представление. Он не отказывался, но так серьезно, требовательно, пожалуй, даже тупо смотрел на сцену, что она терялась. Ей интересно, а ему неинтересно, ну как это может быть? Люся шептала мужу в самое ухо:
— Ну и дают… Это же цирк… умереть можно…
Муж не смеялся.
— Неужели тебе не смешно? — упавшим голосом спрашивала Люся.
— Смешно, но…
Как только утром приносили газеты, Люся тут же просматривала объявления и иногда обрадованно восклицала:
— О, этот фильм я когда-то видела — так ржала, стонала от смеха…
Иван Васильевич шел с Люсей в кино, но все равно не смеялся, удивляя и огорчая ее.
Одно время — потом она перестала это делать — Люся приглашала гостей, хотела ввести мужа в круг своих знакомых, тех, которые, по ее мнению, могли хоть как-то соответствовать по положению Ивану Васильевичу.
Люся убивалась, тратилась, пекла пироги, делала свой знаменитый торт, который в честь мужа назывался «Жемчужина моря», запекала в духовке курицу, обильно смазанную сметаной и завернутую в плотную коричневую бумагу, как тогда вошло в моду.
— Курицу я поставлю в центре стола. Она такая розовая, что напоминает цветы, — сообщала Люся Верунчику. — Обязательно приходи завтра — завтра ты ведь свободна? — попробуешь, не съедят же всю…
Верунчика она на парадные приемы не звала — Верунчик была слишком проста для такого общества, — но из деликатности Люся назначала торжества на такой день, когда Вера была занята на работе. Верунчик все эти хитрости прекрасно понимала, она была слишком хорошо воспитана, чтобы не понимать, и не обижалась. То есть нельзя сказать, чтобы совсем не обижалась, но примирялась с существующим порядком вещей и в свою очередь отводила душу, говоря доверительно своим близким: «Люська забывает, что я видела ее в разное время и, так сказать, в разных видах, когда ей было хорошо и когда плохо. Бог мой, разве не я была свидетельницей, как она бегала за этим капитаном? Был бы жив мой покойный Олег, кто знает… Но он погиб в боях за родину».
Итак, гости приходили. Не желая ударить лицом в грязь, приносили розы хозяйке, импортный коньяк или пирожные. Люся сияла, млела, приветствовала, щебетала, суетилась, восклицала, показывая на вид из окна — чуть синеющее между кронами садов море, уверяла, что счастлива здесь, вдали от городского шума: утром она говорит морю «здравствуй», а вечером «спокойной ночи» — да, да, такая она чудачка. Гости бодро шумели поначалу, стараясь показать себя с лучшей стороны, острили, говорили о литературе, вспоминали смешные истории и наперебой рассказывали Ивану Васильевичу, какой смелой, красивой девочкой была когда-то Люся, как прыгала с утеса в воду, как ныряла.
Хозяин дома был вежлив, гостеприимен, наливал вино, чокался, но держался среди экспансивных гостей как иностранец, как глухонемой. И гости постепенно, один за другим, растерянно умолкали, увядали, домой уходили рано, подавленные.
Люся снимала туфли на «шпильках», убирала со стола, перемывала посуду. Иван Васильевич сдвигал стол, ставил на место стулья, закупоривал початые бутылки, вытряхивал пепельницы, распахивал окна, чтобы проветрилось. Он облегченно вздыхал.
Люся пыталась докопаться, понять: неужели ему не понравились гости? Ну как это может быть? Володя с Милочкой не понравились? Да что ты? Но Володя уже кандидат наук, очень способный инженер, а Милка… ты заметил, какие у нее ноги? Растут от самой шеи… Кто такие? Это моя дальняя родня. Мила преподает английский в школе…
— Да? — почти машинально удивлялся Иван Васильевич.
— Что да?
— Ну, что она преподает английский.
— Мне кажется, ты часто даже не слышишь, что я говорю. Ты и гостей не слушал. А стоило… Но не понравились — и не надо, позовем кого-нибудь еще…
Нет, Ивану Васильевичу не понравились ни Володя с Милочкой, ни тетя Аня, преподавательница консерватории, еще нестарая дама, выкрашенная в огненно-красный цвет, ни сама Елизавета Степановна, которая славилась своим остроумием, всюду была вхожа, знала всех в городе, тонко все подмечала. Не так-то легко ее зазвать. Люся пустила в ход дипломатические способности, чтобы заполучить Елизавету Степановну. И вдруг такое фиаско…
Люся уже начинала раздражаться.
— Если не подходит Елизавета Степановна, тогда я не знаю, с кем тебе может быть интересно, — огорчалась и негодовала она. — Когда в город приезжает Леонид Утесов, то и он не гнушается ее компанией. Может, мне назло, ты скажешь, что не знаешь, кто это Леонид Утесов, то я подскажу: народный артист Советского Союза…
— Нет, почему же? Его я знаю…
— Елизавета Степановна говорит, что он у них ужинал, целый вечер все просто ржали…
— Ржали? Разве они лошади?
— Ну, хохотали. Так выражаются в Одессе. Не знаю, как тебе угодить…
Люся чувствовала, что теряет почву под ногами.
Самыми лучшими ее часами стали те, утренние, когда муж уходил к морю. Вот тогда она ощущала себя по-настоящему дома, обретала привычную уверенность. Бегала по квартире в чем и как хотела, трепалась по телефону с приятельницами, как привыкла:
— Расскажите мне быстренько, что делается в родном городе: кто, когда и с кем? У меня уже язык присох к гортани…
Потом подолгу обсуждали болезни. Люся спрашивала:
— Как твоя гипертония? Печень? Какое ты принимаешь снотворное? — Она вздыхала. — Едем с ярмарки, ничего не поделаешь…
— Ты еще молодая, ты держишься, тьфу-тьфу… не сглазить… Говорят, для тонуса очень помогает гимнастика йогов, ты не слышала?
Люся охотно подхватывала эстафету:
— Очень полезно делать каждый день десять тысяч шагов. Не по кухне и не убирая квартиру. А плюс ко всему.
— А как твой муж? — спрашивали у Люси.
— Здоров как бык, — с гордостью отвечала Люся. — Обливается по утрам холодной водой и ходит к морю. Без этого он не мыслит жизни…
— Машину не собираетесь покупать?
— Про это он и слышать не хочет. Он любит ходить пешком…
С прогулки Иван Васильевич возвращался бодрый, раскрасневшийся и говорил кратко: «Штормит», или: «Ветер шесть баллов», или: «Полный штиль».
Люся оживленно, чуть подобострастно спрашивала:
— Тебе еще не надоело? Может, сходил бы в центр?
Муж удивлялся. Как это надоело? У моря?
Однажды, томимая любопытством, Люся тоже пошла на прогулку. Приятно было идти с ним рядом — высокий, статный, видный мужчина. Она ласково взяла мужа под руку.
— Я и сама люблю море. Эту безбрежность, эту бесконечную даль, эту белую пену… — Она, как монеты из кошелька, доставала из памяти вычитанные или услышанные звонкие сравнения. — Пена как кружево… — И вспомнила: — У покойной мамочки были нижние юбки, обшитые кружевами, очень нарядно…
Муж удивленно покосился. Но слушал благосклонно.
— Я не думал, что ты так любишь море…
Люся отозвалась обиженно, даже с какой-то страстной горечью:
— Живешь со мной столько лет, а что ты обо мне знаешь? Ты даже не знаешь, что я очень, музыкальная. Правда, на юге все музыкальные. Когда-то я не пропускала ни одного концерта. Елизавета Степановна очень удачно выразилась, что когда пианист играет, то кажется, он разговаривает с богом…
Тень неудовольствия пробежала по чисто выбритому лицу Ивана Васильевича.
— Она как попугай, твоя Елизавета Степановна. Повторяет чужие слова…
Люся вдруг расхохоталась. И созналась:
— Да, с ней это случается. Ты молодец, что заметил. Надо же… — Но, отсмеявшись, она все-таки спохватилась. И хитро перевела разговор на другое:
— Слушай, нам еще долго идти? Я все ноги сбила…
Иван Васильевич вынул шагомер.
Все-таки Люся предпочитала ходить по городу, заглядывать в магазины. Домой возвращалась нагруженная, как ишак, усталая, разгоряченная, но довольная. Вот это — реальная жизнь. Есть что положить в холодильник, что спрятать в шкаф. Знакомых встретишь — поговоришь. Да и в каждом магазине она знала продавщиц, звала их по имени, со многими была на «ты». Правда, теперь у нее не было прежней свободы. Муж не то чтобы проверял расходы, он просто интересовался, что сколько стоит, зачем куплено, и никак не мог взять в толк, почему Люся покупает все подряд. Как ни втолковывала жена, что кофточку эту, если самой не подойдет, у нее с руками оторвут, еще «спасибо» скажут, он не понимал:
— А для чего тебе это «спасибо»?
Люся смотрела на мужа снисходительно, как на ребенка.
— Как для чего? Приятно. Подруги мне покупают, я им… Ты не знаешь современной психологии. Если я сделала приятельнице одолжение, то держу ее в руках. Она мне обязана. Ну, и вообще — почему не услужить…
Иван Васильевич тупо твердил свое:
— Зачем это? Я бы не хотел, чтобы мою фамилию трепали, все-таки меня знают на флоте. Я Соколов.
— Ты Соколов, а я Соколова, ну и что?..
Но все мелкие наскоки, вся Люсина смелость разбивалась о твердую позицию мужа, как волны о мол. Что она могла ему доказать? Как? Она ведь всецело от него зависела, ей даже пенсия полагалась не за труд, а по старости, которую она вовсе не хотела торопить. Или как вдове, потерявшей кормильца. Но она, слава богу, не была вдовой: вот он, ее кормилец, ее опора, глава семьи.
— Любила кататься, люби и саночки возить, — говорила Люся и другим и, главное, самой себе. — Я одевалась лучше всех своих подруг, я не жила с карандашом в руке, учитывая каждую копейку. Что делать, теперь обстоятельства переменились, муж не у дел, надо смириться и ни в коем случае не трепать ему нервы…
Все это так, но то, что легко на словах, совсем не легко на деле. Тяжко ей было с Иваном Васильевичем. Она чуяла, что и Ивану Васильевичу не легко. Рада бы помочь ему, но как, чем? Все, что она пробовала, успеха не имело. Он даже стал еще более замкнутым, погружался в свои какие-то непонятные, неизвестные Люсе мысли. А однажды вдруг подошел к портрету, висевшему на стене, долго стоял, смотрел, потом задумчиво произнес:
— Интересно, сколько лет было бы теперь Оле?
Люся вздрогнула:
— Кому?
— Оле. Дочке. Она маленькая была очень занятная…
Острая то ли жалость, то ли боль пронзила Люсю.
Оказывается, он вовсе не забыл. Помнит. Это было полной неожиданностью. Не такой уж он бесчувственный, как думала Люся. Ей стало горько и обидно, что у Ивана Васильевича есть своя, скрытая от нее жизнь. Вместе обедают, завтракают, спят, а живут, в сущности, каждый сам по себе.
Как всегда, когда ей становилось очень уж горько, она, сказав, что едет к портнихе, села на троллейбус, идущий к кладбищу. Всякий раз она боялась, что не найдет могилу Савелия Петровича — так густо разрослись деревья и кусты. Металлическая оградка потемнела, кое-где проржавела, памятник тоже потемнел, но надпись была отчетливо видна, и так же отчетливо на мраморной доске было выведено имя жены Савелия Петровича.
Люся прослезилась. Горе ее давно уже перегорело, угасло, и плакала она больше о себе самой. Не все ли равно, где похоронят ее и кто лежит рядом с Савелием Петровичем! Люсю терзала тревога в этой, а не в потусторонней жизни. Неужели ничего, кроме красоты, теперь уже увядающей, не соединяет ее с Иваном Васильевичем?
Выбрав, как ей казалось, подходящий момент, когда Иван Васильевич был нежнее обычного, она спросила его:
— А если бы вдруг Нюся с Олей нашлись, что бы ты стал делать?
— Я же искал, проверял, — как они могут найтись?
— А если бы, — с упрямством настаивала Люся, — если бы… что бы ты стал делать?
— Ну, я не знаю. Она ведь жена мне…
— А я?
Иван Васильевич молчал. Смотрел в окно, туда, где за домами и садами темнело море.
— Нюся была очень славная женщина, душевная… мы ведь из одного села…
И тогда Люся жалко, сама себя презирая, спросила:
— Она что, была красивее, чем я?
Иван Васильевич долго смотрел.
— Нет, ты гораздо красивее, даже сравнивать нельзя…
И все-таки Люся не испытала удовлетворения. Такой бесстрастный голос был у Ивана Васильевича! Как будто в магазине рубашку себе выбрал — какая лучше. Она только пробормотала:
— Проклятая война… всем все исковеркала.
Иван Васильевич никак не отозвался на ее слова. Он ведь всегда так — или пробормочет что-то очень краткое, или просто промолчит. Но она больше не верила ни в его молчаливость, ни в его ограниченность, ни в его суховатость. И даже не вспоминала больше, что Иван Васильевич лишен чувства юмора.
Люся тревожилась. И это постоянное чувство тревоги отравляло ей существование.
Она пыталась проникнуть, пробиться, как пробивается корабль через толщу льда, к сердцу мужа.
— Иван, — сказала она ласково, — Ванечка, я вижу, что тебе тяжело. Может, надо похлопотать. Многие в твоем возрасте еще плавают. При твоем опыте… при твоем послужном списке… Надо им сказать прямо: ты не можешь жить на суше.
— Живу ведь…
— Прямо написать в правительство. Или в наш обком, — начала фантазировать Люся. — Ты должен написать, что море для тебя… ну, сравнить с чем-нибудь…
— Море есть море, для чего же сравнивать…
— У меня болит душа, когда я вижу тебя на берегу. В твоих глазах написано все. Иван, я чахну, так я переживаю за тебя, поверь…
Иван Васильевич все понимал буквально:
— Ты и правда похудела…
— Это пустяки, модно быть худой…
Но иногда Люсе казалось, что она, верно, не совсем здорова. Нет прежней любви к жизни, нет острых желаний. Часто кружится голова, знобит. Когда-то над ней посмеивалась мать, уверяя, что Люсе всегда позарез чего-нибудь хочется. То ей для встречи Нового года обязательно нужно новое красное платье, то необходимы билеты в театр именно на премьеру, то она не может пить чай без клубничного варенья. Нет, не вишневое ей нужно, не кизиловое, которое есть в запасе, а именно клубничное, и она его достанет, как говорится, выкопает из-под земли. Не пожалеет сил. Раньше Люсе нравилось кружить головы мужчинам, увлекать, отбивать, укрощать, как укрощают львов или тигров, — ух, какое это ей доставляло удовольствие! Быть первой среди подруг в своем дворе, в своей школе, на своей улице, в своем городе. Она всегда хотела быть первой. Даже ходила одно время в клуб моряков, в кружок жен, училась стрелять из пистолета. Выучилась, опередила всех, покорила сердце инструктора и бросила, перешла в кружок вязания. Там тоже обогнала других дам. А теперь ей ничего не хотелось. То есть хотелось, но чего-то более глубокого и важного, в чем она не могла отдать себе отчет. Будь она помоложе, может, пошла бы учиться. Детский врач из нее мог бы быть хороший. Модельер в Доме мод. Руководитель ансамбля. Мало ли… Ко всему же, что нравилось ей когда-то, она стала до странного равнодушной.
Люся перестала так громко смеяться, как раньше, так шумно вспыхивать, когда сердилась. Она притихла, Люся. Сама об этом говорила подругам:
— Девочки, со мной что-то происходит, мне ничего не хочется, я стала тихая…
— Может, у тебя плохо с печенью? — деловито спросила Вера.
— У меня плохо с душой…
И Эмульку удивил Люсин тихий голос. Он не поверил, что это она, переспросил:
— Это ты, Люся? Говорит Эммануил Викторович, не узнаешь? Ну, Эммануил Викторович, Эмулька…
— Я так давно не слышала тебя.
Да, точно, факт, он давно не звонил, но бывают обстоятельства, когда не считаются ни с чувством собственной обиды, ни с вопросами такта. Все-таки Люся старый друг их семьи. Племянник Эмульки — ты помнишь Витю? — сын Зои, сестры, поступает в этом году в консерваторию, гениальный мальчик, не может ли Люся попросить тетю Аню…
— Эмулька, — тихо сказала Люся, — если он гениальный, то никого просить не надо…
Все-таки она обещала поговорить с теткой, хотя предупредила, что, увы, прежнего авторитета у тети Ани нет. Молодые преподаватели буквально наступают ей на пятки. Она ведь больше практик, тетя Аня, чем теоретик. Держится только на том, что безотказная общественница.
Люся никак не могла поверить, что Витя уже вырос и поступает в консерваторию. Боже мой, прошла целая вечность — Витька уже поступает в консерваторию. А какой класс — рояль, скрипка?
— Я ведь тоже мечтала когда-то о высшем музыкальном образовании, — с горечью сказала Люся, веря в свои слова. — Но не пришлось, не судьба. Как ты живешь? Женился? Ты счастлив? — Люся как будто забыла, как они поссорились с Эмулькой, из-за чего. — А на работе? Пора тебе, Эмулька, что-нибудь крупное создать… Нет, не кафе, это мелочь, — покрупнее. Хочется, чтобы кто-то из нашей компании достиг серьезного успеха. Что я? Я растратила свою жизнь…
Эмулька не выдержал, съехидничал:
— На романы?
— И на романы в том числе, — самокритично созналась Люся. — Лучше было бы меньше романов и больше серьезного дела, какая-нибудь специальность. В старости мы все равны, красивые и некрасивые. А дело есть дело…
Эмулька пошутил:
— Не отчаивайся. Все еще впереди.
— Все уже позади. — Люся вдруг спросила: — Ты боишься старости?
— А если и боюсь, то что? Это ведь неизбежно…
— Как бы я хотела жить сначала. Новую жизнь я бы провела по-другому…
— Дурочка, в тебя был влюблен весь город…
Не пошутить Люся не могла:
— Весь город! Каких-нибудь двести тысяч взрослого мужского населения, подумаешь! — И тут же голос ее снова упал: — Да, все в прошлом…
Эмулька осмелел:
— Брось, Люся, это не твой стиль…
Может, и не ее «стиль», но она так чувствовала. С испугом глядела в зеркало на то, как побледнела, похудела. Перестала петь. Забиралась с ногами на тахту, заворачивалась в теплый платок и лежала. Даже Иван Васильевич заметил ее состояние, советовал делать над собой усилие, двигаться, ходить побольше, — да, да, десять тысяч шагов. Или, если она не верит, искать помощи у врачей.
Почему-то вспомнил, как однажды, когда шли через тропики, он купил на стоянке у мальчишки птичку. Каждое перышко другого цвета, яркое, радужное. Поставил клетку с птицей в своей каюте, любовался.
— А когда мы попали в холодные воды, она стала хиреть. Зябла, что ли? Я ее и кормил, и воду менял дважды в сутки. Доктора нашего, судового врача, на совет вызвал. Нет, не помогло…
Это был, может быть, самый длинный рассказ Ивана Васильевича из тех, которые довелось слышать Люсе.
Он подошел к тахте, сел на краешек, неловко похлопал Люсю по плечу.
— Не падай духом.
А она, почему-то тронутая, умиленная, прижала щекой его руку.
— Жалко, что у нас детей нет, правда? Теперь такие молодые бабушки, что и я бабушкой могла бы уже быть… Ты представляешь — я бабушка…
Люся неожиданно развеселилась, вспорхнула с тахты, побежала кипятить чай, собирать посуду. На кухне залилась песней, потом просунула голову в дверь и кокетливо спросила:
— Твоя птичка пела?
Он уже забыл или не понял:
— Какая птичка?
— Ну, та, пестрая, в клетке.
— А какая связь?
Люся громко хлопнула дверью.
Но даже из-за закрытой двери слышно было, как загрохотали кастрюли и сковородки, как упали на пол ножи и вилки.
Эта вспышка как будто взяла у Люси последние силы. Некоторое время она еще упрямилась, потом слегла и сказала извиняющимся тоном мужу, что, пожалуй, она вызовет доктора. Доктор долго слушал сердце и легкие, мял большой пятерней впалый, красивый Люсин живот так, что она вскрикнула от боли и чертыхнулась, заставил ее высунуть язык. Потом сухо сказал, что ей надо пройти обследование в стационаре.
— Что вы, доктор, я еще ни разу в жизни не лежала в больнице. Я вообще никогда не болею, просто распустила нервы… боли тоже на нервной почве…
Но доктор ее легкого тона не принял. И посоветовал Люсе не откладывать. Люся еще раз переспросила:
— Доктор, вы это серьезно или разыгрываете? Иван, ты слышишь?
Как колесо, пущенное сильной рукой с высокой горы, Люсю стремительно завертело и покатило куда-то под уклон, в глубокое ущелье, в бездонный овраг. У нее брали кровь из пальца и из вены, ее просвечивали, ей вводили контрастное вещество, чтобы лучше получались рентгеновские снимки. Да, теперь она поверила, что больна, «Что-то грызет меня изнутри, — жаловалась она. — Но что? Почему? Откуда такая напасть?»
Ивана Васильевича как подменили. Он робко выслушивал все, что ему говорили доктора, смотрел на них с робостью, даже заискивающе, и, хотя ничего не понимал, послушно кивал головой. Он приходил в больницу каждый день, приносил жене яблоки и апельсины, домашний бульон.
— Что ты, дорогой, зачем? У меня совсем нет аппетита, а тебе трудно…
— Ничего мне не трудно…
— Ты же не привык сам себя обслуживать, не то что меня… — Люсе было приятно, что соседки по палате видят, какой у нее заботливый, любящий муж. — Родной, береги себя, я тебя об одном только прошу…
Как-то, когда Люся себя особенно плохо чувствовала, она спросила:
— А гулять ты ходишь?
— Конечно.
— Десять тысяч шагов?
— Ну да…
Люся с досадой упрекнула:
— Вот я умру, а ты как ходил, так и будешь ходить по берегу. Может, и не заметишь, что я…
Иван Васильевич так явно был огорчен Люсиными словами, так обижен, что Люся смягчилась. Взяла мужа за руку и, перебирая его пальцы своими тонкими, исхудалыми, сказала благодарно:
— Ты оказался таким добрым, таким внимательным — я даже не думала. Нет, мне не хочется умирать, с какой стати…
— Выбрось эти глупости из головы, — уже строго приказал Иван Васильевич. — Почему ты должна умереть? Кто тебе позволит? Что за неверие в медицину…
Накануне операции муж сидел около Люси особенно долго и особенно терпеливо сносил ее капризы. То она была недовольна, что муж принес такой огромный арбуз, то хвалила его за догадливость: арбуза хватит на всю палату, и нянечку она угостит. То Люся хвастала перед соседками силой мужа, который дотащил такую тяжесть, то ругала его, что не жалеет себя. И когда Иван Васильевич ушел домой и женщины наперебой стали расхваливать его за рост и ширину плеч, за то, что такой обходительный с женой и внимательный, Люся поддакивала, соглашалась и гордо говорила, что ничего удивительного нет, он моряк, бывший капитан, а моряки вообще замечательные люди. И настоящие мужчины.
Когда она пришла в себя после операции и приоткрыла глаза, смутно соображая, где она и что с ней, то увидела Ивана Васильевича. Он сидел на табуретке около кровати, ссутулившийся, неприкаянный, подобрав огромные ноги: ему было неудобно и тесно на этой ослепительно белой табуретке, в этом узком проходе между койками.
— Ты давно здесь? — спросила Люся.
— С утра. Только меня долго не впускали в палату.
Люся скосила глаза — за окном уже серели сумерки.
— Ты не обедал, — сказала Люся, удивляясь тому, что ее голос звучит так слабо. Когда ее везли в операционную, было девять часов утра, она видела в коридоре большие круглые часы. Черная стрелка проплыла над ее запрокинутой на каталке головой, как острый клинок. — Ты что же, не ходил даже гулять?..
Иван Васильевич отрицательно помотал головой.
Ее как будто совсем не тронуло, не удивило то, что он изменил своим привычкам. Она сказала почти небрежно:
— И напрасно. Ты же все равно знал, что сразу после операции не пустят. — Но в глазах ее были и ласка и благодарность: значит, он волновался из-за нее, вот как?! — Милый, ты же томился тут, голодный, весь день. Устал?
— Нет, ничего…
Он кормил Люсю с ложечки, следил, чтобы она не ворочалась, не делала резких движений. Люся тут же попросила зеркало:
— Я такая стала уродина. Просто неловко.
Она хотела причесаться. Иван Васильевич сам взял гребенку и причесал ее. Люся даже испугалась. Потом на глазах ее выступили слезы.
— Больно?
— Нет, наоборот. Хорошо.
— Понятно, — согласился Иван Васильевич. — Ведь операция уже позади.
— Нет, хорошо, когда рядом родной человек.
Потом Люся стала поправляться. Спустила ноги с кровати и, опираясь на Ивана Васильевича, прошлась по палате. Потом начала выходить в коридор. А потом и домой вернулась.
Первые дни она лежала на тахте и, поставив рядом телефон, трезвонила подругам, опять и опять рассказывала с новыми подробностями, как прошла операция, что она почувствовала, когда ей дали наркоз, детство вспомнила — и каким замечательным человеком оказался Иван Васильевич. Можно прямо сказать, что он спас ее. Она так тронута.
— Вот видишь, — укорила Вера.
— Что я вижу?
— Как что? Он замечательно к тебе относится.
— А почему он должен ко мне относиться плохо? Я же была на грани смерти… я смотрела смерти в глаза…
Но время шло, и Люся понемножку начинала замечать, что жизнь входит в свою колею, как река после разлива входит в берега. Опять Иван Васильевич был молчалив и оживлялся только тогда, когда ходил к морю. Возвращаясь с лицом, исхлестанным ветром, он рассказывал, какие суда пришли в порт и какие стоят под погрузкой. Потом его оживление угасало, он становился самим собой. Уже был недоволен, что жена подолгу говорит по телефону:
— Может, кто-нибудь нам звонит, а всегда занято…
— Кто же нам звонит?
— Мало ли…
— Никто нам не звонит! — крикнула Люся, вспыхивая, как когда-то. — Мы живем как в пустыне…
А все-таки Люся перестала надолго занимать телефон.
Уже Иван Васильевич несколько раз был недоволен ее покупками, заметил, что котлеты из трески сильно пережарены, хотя сказал, что вообще-то был рад рыбному обеду. Он укорил, что занавески на окнах не очень чистые, — видимо, забыл, что Люся недавно после операции, что она могла умереть. Это было теперь уже где-то позади. Люся хотела было напомнить, но сдержалась, не напомнила.
— Ты прав, — сказала она мужу, сознавая, что ничего в общем-то не переменилось и не переменится, что жизнь будет такой же монотонной и однообразной, как была, что они и дальше будут, подчиняясь неписаным законам семейной жизни, выполнять свой долг. — Ты прав, пора затевать генеральную уборку…
— Да, нельзя распускаться. Будет лучше для самой же тебя…
Люся взяла мужа за руку, как любила делать в больнице, и, перебирая его пальцы, сказала с легкой печалью:
— Надо жить, раз выжила. Что ж делать? Вот уберусь, освобожусь и стану ходить с тобой каждый день к морю. Ты же не против? Будем делать свои десять тысяч шагов.
ТРАНЗИТНЫЙ ПАССАЖИР Рассказ
Виктор входит в купе, милиционер идет за ним. Виктор швыряет рюкзак, кладет теннисную ракетку, опускается на свою скамью. Милиционер пристраивается рядом. Сидящие напротив женщины, старая и молодая, хорошо, даже богато одетые, с интеллигентными лицами, удивлены. Пожилая как будто невзначай передвигает поближе к себе пузатую кожаную сумку, стоящую на столике. Виктор смотрит на нее ненавидяще. «Вот, обратите внимание, — говорит он милиционеру, стараясь усмехнуться, но только зло кривит рот, — попутчицы боятся, думают, что я преступник». Той, что помоложе, неловко. «Никто так не думает», — в сердцах говорит она.
По загорелому лицу милиционера, как легкие всплески ряби на ленивых водах медленной реки, пробегает то недоумение, то жалость, то любопытство. Потом лицо его снова твердеет, становится строгим.
— Ладно, — уже решительно просит Виктор. — Даю слово, что уеду. Да и зачем мне оставаться…
— Лучше уж я дождусь. Как бы опять не уронили себя, — не соглашается милиционер. Он садится поудобнее, подтягивает голенища, любуется новыми, тугими сапогами. — Только, — сомневается он, — есть ли у вас курево на дорогу? Может, сходить купить?
— А если я тем временем сбегу? — дразнит Виктор.
Милиционер обижается.
— Будто я не понимаю, кто вы… — Он вдруг признается: — Я всегда довольный, когда наряд на стадион, люблю… Это высшее из высшего — спорт. — В голосе его сочувствие. — А тут такая с вами неприятность…
— Так вы из уважения сопровождаете меня? Вот как…
Виктор начинает хохотать. Он смеется резко, громко, кадык у него дрожит, и милиционер опасливо тянется к графину с кипяченой мутной водой.
Виктор с трудом останавливается, отрицательно машет рукой:
— Да не стану я пить эту теплую бурду…
Провожающих просят выйти. В вагоне поднимается суета. Кто-то, опаздывая, протискивается с чемоданами, кто-то выходит, кричат проводницы. Гремит радио.
— Ну, бывай, — уже по-дружески говорит милиционер. И трясет Виктору руку. — Конечно, мы обязаны пресекать. Как поют, работа у нас такая. Но душа-то, как положено людям… Тем более я и сам увлекаюсь игрой… — Он показывает бровями на ракетку.
Виктора осеняет:
— Возьмите, мне она теперь ни к чему… так же, как и душа…
Милиционер не может скрыть своих мук, весь вспыхивает. Ему очень хочется взять ракетку, но, кажется, это неудобно. С какой стати человек станет дарить такую дорогую вещь? Он пытается облегчить свою задачу, найти объяснение неожиданной щедрости Виктора:
— Вам что, после соревнования выдадут новую? Положено?
— Душу или ракетку? — Виктор мотает головой. — Я же сказал, они мне больше не нужны. Точка.
И, не дожидаясь, пока милиционер выйдет из купе, ложится на жесткую скамью лицом к стенке. Он не поднимается, когда поезд трогается. И не отвечает, когда проводница спрашивает, нужна ли ему постель. За него решают спутницы:
— Конечно, нужна!
— Так ведь… рубль, — мнется проводница.
Старуха предлагает:
— Пожалуйста, я заплачу.
Виктор не поворачивается, не хочет показывать свое расстроенное лицо, достает на ощупь из кармана серебряный рубль. И подает через плечо. А все-таки замечает, как все три женщины переглядываются. Недоуменно и жалостливо.
Спутница помоложе предлагает:
— Может, вы хотите раздеться, так, пожалуйста, мы выйдем…
Пожилая вторит ей:
— Сон — лучшее лекарство…
— Спасибо, я здоров… — Точным движением он сбрасывает ноги со скамьи, убирает со лба волосы, достает из кармана сигареты. И уходит в коридор покурить.
На душе мерзко, пусто, отвратительно. Мимо скользят поля, чуть тронутые желтизной осени. Хлеб уже убран. По проселочным дорогам, по асфальтированным шоссе проносятся машины. У шлагбаумов дожидаются грузовики. Виктор не видит женщину, несущую гуся в кошелке, мальчишек, машущих вслед поезду, не видит стрелочников и дорожных рабочих в ярких оранжевых жилетах, не видит лесов.
Вот так же он стоял у окна вагона лет десять назад, когда ехал из заключения.
Ничего он тогда не знал — где поселится, где будет работать. Твердо верил в то, что навсегда порвано с прошлым, со всем тем, что было раньше, до того, как он перестал быть отчаянным, удачливым Виктором Труновым, а начал отбывать срок наказания. Он понимал, что с теннисом покончено, хотя вся его прошлая жизнь была именно в теннисе. С самых отроческих лет. С первых успехов…
Но какой же теперь мог быть теннис! Виктор огрубел, стал медлительным, неуверенным в себе. Совсем другой человек…
Да, когда-то ему во всем везло, он привык к этому, не предполагал, что можно жить по-другому. Теперь привыкай, Витя, к иному. Да, раньше ты принадлежал к племени победителей и жил среди них. Потом, в заключении, вокруг тебя были потухшие, побежденные люди, сломавшие свою судьбу, оступившиеся. Кем же ты станешь теперь? Чего ты хочешь? Ведь молодость вернуть нельзя…
И Шуру нельзя вернуть. Он понятия не имеет, где она. Писали ему, что вышла замуж, уехала на Дальний Восток, адреса не оставила.
Так что с Шурой все! Можно подвести черту.
И к матери он не поедет. Пока, во всяком случае. Может, позже, когда устроится…
Но где? Кем будет работать? По какой специальности?
Да, тогда он искренне верил, что навсегда расстался с теннисом и вообще со всем прошлым. Какое там прошлое, у него и настоящего-то тогда не было…
Так и стоял у окна вагона. Мелькал пейзаж: чахлые деревца, болотистая, топкая земля с вкрапленными в нее голубыми выцветшими озерами — такого цвета бывают глаза у старых женщин. Насмотрелся он на эти озера, на эти выплаканные глаза, находился по влажной, чавкающей земле, мечтая о сухих портянках, сухих сапогах. И вот, пожалуйста, он обут в новые дешевые, но крепкие ботинки, на ногах не портянки, а тоже новые, бумажные, яркой расцветки носки. И рубашка новая в клетку, и пиджак, и брюки. Он должен бы всем телом ощутить эту новизну, чистоту, но кожа задубела, что ли, или восприятие притупилось…
А может, ошеломило, оглушило ощущение свободы, возможность самому решать, выбирать. Свобода манила, но и пугала. Робким он стал, что ли… Но это пройдет, должно пройти. С каждым поворотом колес, с каждым часом, полустанком или станцией, возникавшими за окном, его растерянность, скованность понемногу отступали. Конечно, они не могли исчезнуть совсем — ведь была полная неясность в делах, — но зато крепла надежда, возникало безумное желание жить, найти счастье, себя…
А сейчас он снова начинает с ноля. Только стал старше.
…Дверь купе приоткрылась, вышла молодая пассажирка, тоже встала у окна, вглядываясь в даль. Потом спросила:
— Вы в Москву?
— Транзитом.
— На юг? — почему-то обрадовалась она. — Мы вот с Маргаритой Ивановной на юг.
— Нет, в Азию.
Она не поняла.
— Ну в Среднюю Азию. А впрочем, я еще не решил…
Она уже прибралась ко сну, смыла с лица краску, подвязала косынкой волосы, сняла с шеи бусы. Стала проще, некрасивее, но милее. Виктор отметил это машинально. Не понимал, для чего она стоит рядом с ним в пустом трясущемся коридоре, пытаясь завести разговор. Но оттого, что поезд все дальше и дальше уносил его от города, где он так безобразно, так нелепо повел себя, понятие о времени сместилось, и ему казалось, что все, что случилось с ним сегодня, было бесконечно давно, в какой-то другой жизни… Кто он? Где он? Не знает, просто мается в тоске, не спит. И может, так и должно быть, что рядом тоже не спит и сочувствует ему попутчица…
Как будто всегда была эта ночь, и вагон, и темнота за окном, мелькающие станции, и тесное купе, и одна пустая верхняя полка с никому не нужной, сиротливой полосатой подушкой, на которую некому натянуть белую наволочку. Он, Виктор, как-то смирился с тем, что чужая женщина стоит рядом и расспрашивает. Некуда ему было деваться ни от замкнутого, душного, стиснутого в деревянной рамке пространства, ни от грохота колес, ни от этой женщины. Хотя он все еще огрызался.
— Я не любительница лезть в чужую душу, — решилась попутчица, — но по-человечески… Это не любопытство, отнюдь…
— А что? — спросил Виктор.
Она пожала плечами:
— Я не из счастливиц, нет. Я знаю, что это такое, когда плохо. — Она снова пожала плечами. — Из-за женщины, что ли?
— Скорее из-за девочки.
— Дочь?
— Ученица.
Она не поняла. Даже немного обиделась. Думала, что он смеется над ней. Сказала неопределенно:
— Бывает…
Он не стал уточнять. Перевел разговор на другое:
— Почему это вы не из счастливиц? Мужа нет, что ли?
— А разве муж — гарантия счастья?
— Ну, не муж, друг, как теперь говорят.
— Вы отстали от моды. Теперь говорят — рыцарь.
Он помотал в удивлении головой:
— Не слыхал. Рыцарь? Нет, не слыхал.
— Не бываете в женском обществе.
— Это верно, — согласился Виктор. — В женском обществе бываю мало. Не интересуюсь.
Она свела брови.
— Ох, какой женоненавистник, ну и ну…
— Много плохого видел от женщин.
Она разозлилась:
— А от мужчин? Только хорошее?
— В мужчинах меньше коварства.
— Ну и ну! — опять повторила она. — Разговариваем как в глубокой провинции, на таком уровне…
— Я в интеллектуалы не лезу.
Он сказал это машинально — про интеллектуалов. Сам не слышал, что сказал. Так уставился в окно, как будто что-то должен был разглядеть там, в промоченной дождиком, влажной темноте. И попутчица, как он ее мысленно называл, «молодая», хотя она не была очень уж молодой, тоже поглядела в окно. Но ничего не видела, кроме мокрых листьев на деревьях, слившихся в одно целое, выхваченных светом, который бросал на них паровоз со своими мощными фонарями. Она вопросительно взглядывала на Виктора: на что же он смотрит, что видит? Ведь ничего нет. А он видел, но не черные, как будто лакированные, осины, не смутно-белые березовые стволы и не сплошное месиво низкого кустарника, выбежавшего на самую опушку, а знойный день, прокаленный корт и маленькую девочку с большим бантом на макушке. На ней были красные сандалики.
Виктор стоял тогда, щурясь от солнца, и оценивающе смотрел на тоненькие, но крепкие ножки, на худенькие плечи. За его взглядом зорко и настороженно следила мама девочки, плотная, одетая во что-то яркое, цветастое, туго натянутое на бедрах и пышной груди, женщина со здоровой, чистой кожей, с серыми, чуть навыкате глазами.
— Хочется дать ребенку все, — почти интимно, доверительно, для чего-то-понизив голос, говорила она, в то же время механически поправляя своими грубыми руками бант у девочки. — Стой смирно… Я сама хотела в молодости петь, были данные, но не было условий. Не то, что теперь, когда наше государство предоставляет детям все… — Она тоже стала смотреть на худенькие плечики дочери. — Вы не бойтесь, она окрепнет. Я ей даю хорошее питание. Лучше я сама недоем, но у ребенка будет все… — Она не давала Виктору ничего сказать. — Когда ее приводить? Иван Иванович — вы, я надеюсь, знаете, какой Иван Иванович? — очень любит мою Аллу…
Виктор постеснялся сказать, что не знает Ивана Ивановича.
— Одно условие — не пропускать занятий, — буркнул он. И положил руку на светлые волосики испуганной девочки. — Договорились?
— Вы с ней построже, — посоветовала мать чуть подобострастно. — Хотя она у меня не балованная, нет… и я лично буду следить за ее занятиями.
— Ну, зачем же…
Виктор все еще стеснялся мам, — папы приходили редко, но с ними было проще, хотя папы чаще заговаривали с ним о футболе, чем о теннисе. Он еще больше стеснялся детей, особенно девочек, — такие они маленькие и хрупкие. Виктор никак не мог научиться выглядеть строгим, просто хмурился, отмалчивался. Детей было много, спорт начинал входить в моду, как балет, как обучение детей игре на рояле, — в глазах рябило от рубашечек и платьиц, в ушах звенело от гомона, от цыплячьего писка, от робкого и требовательного зова: «Дядя Витя!» Он еще к этому не привык, а о том, что его могут называть по имени-отчеству, просто не догадывался. Так и думал, что будет всю жизнь то Виктор, как его звали когда-то, то «Эй, Трунов» или просто Трунов потом… А вот стал дядей Витей…
…Женщина из купе спросила:
— А как же вас зовут? Давайте знакомиться.
— Виктор.
— Анюта.
Она подала ему руку. Он пожал.
— Правда, славное имя?
Он не улыбнулся.
— Приятное…
И опять замкнулся. Замолчал. Анюта тоже долго молчала, потом сказала обиженно и сердито:
— Вы не верите, а я верю в хороших людей.
— Почему? И я верю.
— Но у вас все время какая-то подозрительность…
— Это не так.
— Вы вот не верите мне. Думаете, я не замечаю? Всегда знаю с точностью до микрона, как кто ко мне относится. Ну и черт с вами, относитесь плохо. Почему все должно зависеть от вашего отношения ко мне? Да ничуточки. Я к вам, отношусь хорошо, с интересом. И говорю об этом прямо. А что? Кавалеров не ищу, друзей у меня и без вас много, лестного в знакомстве с вами ничего не нахожу. Как видите, сплошное бескорыстие. Чего ж вы боитесь тогда?
— Да ничего я не боюсь.
— Нет, боитесь, боитесь! Ну вас… — И она, рассердившись, ушла в купе, с шумом задвинув за собой дверь.
«Почему это не верю в хороших людей? — думал ошарашенный Виктор. — Сбесилась она, что ли? Да что бы я стал делать, если бы не хорошие люди, да я бы пропал без хороших людей…»
Ему вспомнился его прошлый приезд в Москву, когда он вышел из поезда со своим дурацким чемоданом, отвыкший от шума, от машин, от городской сутолоки. Ему казалось, что милиционеры смотрят на него с подозрением и сейчас же будут проверять у него документы, что девушкам он отвратителен со своими неотросшими волосами и сбитыми ногтями на руках. Надо было найти ночлег, найти знакомых.
В Москве как раз меняли номера телефонов. Он никому не мог дозвониться, путался, терялся. Звонил по автомату, очередь стучала в дверь, торопила его, монеты проваливались, а толку он добиться не мог. Наконец какой-то гражданин, курносый, рыжий, с авоськой, полной пустых молочных бутылок, сжалился над ним, растолковал, какой теперь порядок.
— Только вряд ли, — все-таки сомневался он. — Не только буквы, номера тоже кой у кого сменились. Такое понаделали — не разберешь. Растет Москва…
— Книжка у меня старая, давняя, — досадовал Виктор.
Он звонил и звонил, выходил из телефонной будки и снова становился в очередь. Рыжий тоже не уходил, сочувствовал:
— Вот досада так досада…
— Одного-то человека мне обязательно надо найти…
— Он тебе кто — родной, друг?
— Друг, — ответил Виктор. — Вот именно что друг.
Он сам себя убеждал, хотя они никогда не были с Владимиром друзьями.
— Так попытайся еще.
Виктор попытался. Гудки, гудки — занято. Потом наконец что-то все-таки щелкнуло, звякнула, проваливаясь в нутро автомата, монетка, и женский голос пропел:
— Алло! Я слушаю.
— Володю, — почему-то охрипнув, скороговоркой произнес Виктор. — Владимира, пожалуйста…
— Владимира Павловича? — переспросила женщина. Она позвала: — Володя, тебя. — И прибавила потише: — Не знаю, странный какой-то…
И тут же раздался нетерпеливый, бархатный, так знакомый ему по радиопередачам голос. Виктор сказал со смешком:
— Володя, это Виктор. Может, помнишь? Трунов.
— Трунов? Что-то не могу сообразить…
— Корты на «Буревестнике» помнишь? Мы там тренировались…
— Извини, не помню. Но в чем дело?
— Ну ладно, раз забыл, что уж тогда…
И действительно, что уж тогда… Это он, Виктор, все эти годы думал, и вспоминал, и смаковал каждое воспоминание, кроме тех, которые хотел забыть. Он тщательно сортировал их, кое-что беспощадно и навсегда зачеркивал, кое-что расцвечивал, как дети разрисовывают пестрыми красками пунктирный рисунок. Вот так, видимо, он разрисовал красным и ярко-синим — своим любимым цветом — их давние встречи с Владимиром. Ну что ж, Владимир баловень судьбы, умница, из хорошего дома, воспитанный, с хорошо подвешенным языком, остроумный, а он — пасынок, несдержанный, резкий, почти неприятный в общении, то молчаливый, то безудержно, неуемно веселый.
Виктор взял свой дешевый чемодан и вышел из будки. Рыжий ждал его.
— Ну что? — спросил он.
Виктор молчал.
— Я на твою спину глядел, мне все ясно стало… Ну что ж, время — оно идет, не стоит, мы забываем, и нас забывают…
Был выходной день, рыжий явно не знал, куда деваться, сдавать посуду не торопился, так и прилип к Виктору. Они вышли на бульвар, сели.
— Ты думаешь, я кому звонил-то? — сказал рыжий, желая высказаться. — Своей бывшей жене. Позвоню и молчу, не знаю, что сказать… И женат во второй раз, и дети есть, а все хочется знать, как та, забыла меня или не забыла…
— А для чего? — спросил Виктор.
— Не знаю. Душа спрашивает… Очень она меня любила когда-то, веревки из нее вил. Только не ценил тогда, даже тяготился. Очень уж стремилась выяснять отношения: люблю ли, да как люблю, да что чувствую… Тьфу!
Смешной был этот рыжий, который велел называть себя Петькой, поскольку еще не старый. Он и не был старым — это Виктору казалось, что все, кому под сорок, уже старики. У Петьки и заночевал тогда — семья была в деревне — и прожил у него дня два, пока не почувствовал, что оттаивает, стряхивает с себя оцепенение, осваивается с тем, что можно идти куда хочешь, спать, пока охота, смело входить в трамвай, в метро, в магазины, держать руки в карманах, а не за спиной. Вдруг поймал себя на том, что стал улыбаться, а раз даже громко засмеялся. Труднее было то, что он уже должен был, уже имел право сам за себя решать… И все это благодаря хорошему человеку.
…И все-таки Виктор снова связал тогда свою жизнь с теннисом. Так вышло само собой. А что он умел делать другое? Лес рубить?
Он задержался тогда в Москве. И боялся, и все-таки хотел найти старых знакомых, посоветоваться, сориентироваться, как говорится, в обстановке. На старую квартиру, к соседям, не было смысла идти: он знал, что их бревенчатый домик давно сломан, жильцов переселили. Обратиться в спортивные центральные организации не решался. Кто он такой? Давно забыт! А смутная, неясная надежда, что все как-то устроится, вопреки всему жила в нем. Ждал чуда? В чудеса он мало верил. Судьбы? Но судьба вроде отвернулась от него. Торжества справедливости? Но он во всем был виноват сам.
Он уверял себя и своего единственного слушателя Петьку, что теннис его не интересует начисто, а сам кружил и кружил возле стадиона до тех пор, пока ноги не занесли его за ограду, не повели по аллейке к корту. Там играли два молодых человека с челками, в красивых шортах и обуви. Виктор сел на скамеечку и начал смотреть на игроков, несколько предубежденный против их франтоватого вида. Но нет, ребята играли неплохо. Один сел потом рядом с Виктором, отдыхая. Ракетку, тоже красивую, с отлично натянутыми струнами, положил на скамью. Виктор не выдержал, потянулся, взглядом спросил, можно ли, и взял ее в руки. Второй игрок, которого звали Юрой, спросил с надеждой:
— Вы играете?
Виктор замялся.
— Может, покидаете мне? Мой партнер выдохся.
Виктор с сомнением посмотрел на свои башмаки. Разуться, что ли? Он подбросил в руке ракетку, взял мячик, сжал в ладони, подержал, наслаждаясь, подбросил. Мячик ударился о грунт, подпрыгнул. Сильным, точным ударом Виктор послал мяч через сетку.
— Вы что, когда-то играли?
— Да вроде, — опять неопределенно ответил Виктор.
— А у вас чувствуется школа, — снисходительно сказал Юра. И крикнул товарищу, растянувшемуся на скамье: — Помнишь? Сергей Иванович… это наш тренер, — не без важности пояснил он Виктору, — говорил про подачу Трунова, очень похоже. — И опять снисходительно пояснил Виктору: — Был такой теннисист, не знаю, куда девался… старичок, наверно… Так вот ваша манера смахивает на его подачу. Но теперь уже так не играют…
В ту секунду, когда мяч, гулко отбитый Юрой, пролетел над сеткой и Виктор перехватил его своим любимым когда-то резаным ударом, он понял, что любит, как и раньше любил, эту чу́дную игру — теннис, хотя понимал, что утратил класс и больше уже никогда не сможет играть тате, как играл раньше. Ни бегать, ни прыгать, как когда-то, он уже не мог. Но удар был сильный, мастерский…
— А вы плачете, — сказала нараспев Анюта, появляясь за его плечом.
— Что-то попало в глаз, уголь, должно быть…
— Нет, вы плачете, — стояла на своем Анюта. — Любопытно. Мужчина курит, мужчина пьет, изменяет, мужчина горит на работе, изобретает, жертвует собой… Но мужчина плачет?.. Значит, у него очень нежная, легко ранимая душа.
Замелькали огни: поезд приближался к станции. На ходу одергивая и застегивая мундирчик, прошла сонная проводница.
— Пойти глотнуть воздуху, — неопределенно произнес Виктор и пошел к выходу.
Проводница уже открыла дверь, в которую ударило свежестью и ветром, спустила железную ступеньку.
— Раньше интереснее было ездить. Все станции, станции, сутолока, люди. А теперь почти без остановок, ничего не видишь, кроме своих пассажиров. Правда, и в вагоне такое иногда случается…
Она выразительно замолчала. Но Виктор ничего не спросил.
— Ну что вы, мужчина, такой печальный? — чуть фамильярно, чуть кокетливо-заигрывающе сказала проводница. — Такой видный, имеете успех. Вон как ваша соседка к вам прилипла. Я вот одна с детьми, с больной мамой, мотаюсь взад-вперед, как маятник на часах, и то ничего, не тужу… Еще хорошо, когда в купированном. А в общем? Там и не отдохнешь, и не вздремнешь, всю ночь колготня. Мама меня ругает: «Вот, не хотела учиться…» А я отвечаю: «Зато весело, вижу жизнь». А вы? Ну что так мучиться? Девушка вас обманула, не поехала с вами, билет пропал… подумаешь! Заведете другую…
— Как это у вас все просто, — рассердился Виктор: — «Заведете другую…» А если ты ей полжизни отдал?..
Ему стало стыдно: ну что он так заорал? На кого? За что? Совсем рехнулся, всю выдержку растерял…
Поезд еще двигался, а он уже соскочил. Проводница сказала испуганно:
— Стоим четыре минуты. Не опоздайте…
— Кем же вы работаете? — спросила Анюта.
— Тренером в детской спортивной школе.
— О-о!.. — пропела она уважительно.
И эта уважительность тронула Виктора:
— Есть такая прекрасная игра — теннис.
Вот как случилось, что он стал работать с детьми. Бывают такие неожиданные, но важные встречи — они поворачивают, решают твою судьбу…
В Москве, когда он слонялся около стадиона, вдруг заметил беременную женщину, которая несла увесистую синюю спортивную сумку, а за руку вела маленькую девочку.
Он закричал:
— Тоня, ты?
— Виктор!
— На стадион? — спросил он.
— В прачечную, какой там стадион…
Она совсем не чувствовала себя несчастной, такая же загорелая, как и раньше, с упругими, сильными ногами без чулок, со своей обычной улыбкой.
Он сказал неожиданно для себя:
— А у тебя, чемпионка, такие же белые зубы, как были.
Она захохотала:
— Зубы — может быть, но, увы, уже не чемпионка…
Маленькая девочка хмуро смотрела то на мать, то на Виктора.
— Вылитый твой портрет. Ты, когда выходила на корт, тоже была такая же серьезная…
— Я? Серьезная? — удивилась Тоня. — А мне кажется, что я всегда и везде веселилась… Сколько же мне влетало за это…
Виктор взял у Тони из рук сумку, довольно-таки тяжелую, и донес до прачечной самообслуживания.
— Чудесное заведение, — похвалила Тоня. — Все механизировано. Через полтора часа я выйду отсюда с чистым, глаженым бельем. Если, конечно, дочка не закапризничает…
— Может, я с ней пока погуляю?
Тоня обрадовалась:
— Ты правда можешь погулять с ней? Ой, Виктор…
— Могу, — не очень уверенно ответил Виктор. — Только опыта у меня маловато…
— Опыт — дело наживное. Вот женишься… — Она все тараторила, сверкая действительно очень белыми зубами, как будто не знала, что случилось с Виктором, не удивлялась, что видит его, ни о чем не спрашивала. Сказала почему-то шепотом, доверительно: — Я бы хотела иметь много-много детей, люблю маленьких. Только знаешь, как трудно после родов входить в спортивную форму… получается большой перерыв…
Она спохватилась и замолчала в испуге: сказанное могло больно задеть.
Виктор понял, что Тоня все про него знает, ни о чем не забыла и жалеет его.
— После нее, — она показала глазами на девочку, — я еще играла на первенство, но, увы, взяла только третье место. Не знаю, что будет теперь. У нас запрограммирован мальчик…
— То, что ты играла на первенство, я знал, прочитал случайно в газете, правда, с большим опозданием… как-то к нам попала эта газета.
Он видел, как Тоня мучается, какие знает, что лучше, расспрашивать его или тактично умалчивать обо всем, что с ним было, и сказал:
— Ну ладно, иди стирай… Мы тебя будем ждать в сквере.
Полтора часа Виктор добросовестно рассказывал ребенку все, что знал, о животных и слушал стишки, какие ему читала девочка. Он часто спрашивал:
— Тебе интересно? Тебе не скучно?
Она отвечала вежливо:
— Нет, спасибо, мне совсем с вами не скучно… Я умею понимать шутки взрослых людей… Мама часто берет меня на стадион, меня ведь некуда девать, если занята бабушка…
— О-о! — только и сказал Виктор. — Ты, я вижу, неглупая особа…
Но когда она спросила с беспокойством, со страданием: «Что же это мама не идет? Вы не можете ее позвать? Скажите ей, что я больше без нее не могу», — он понял, какая она еще маленькая…
Вот иметь бы около себя такое существо в белых носочках, с бантом в легких волосах, с тепленькой грязной ручкой, как та, что лежала на рукаве у Виктора, существо, которое бы «не могло больше без тебя». Он посоветовал:
— Ты бы попрыгала.
— В классы?
— Хотя бы…
Она стала рисовать на песке какие-то квадраты, потом прыгать из одной клетки в-другую. А Виктор, любуясь ее сосредоточенностью и легкостью, сказал:
— Вот вырастешь и научишься играть в теннис, как мама…
— А я учусь. Я хожу в детскую школу…
И Виктор подумал впервые, что стал бы охотно работать в детской спортивной школе, если бы его взяли. Конечно, не в Москве — тут у него нет ни квартиры, ни прописки, да и со знакомыми не стоит встречаться. Пока. Очень уж большое крушение он потерпел. А не все такие душевные, как Тоня. Он даже обрадовался, что ему в голову пришла такая идея: со взрослыми ему будет трудно общаться, а вот с такой симпатичной мелюзгой, может, и стоит попробовать…
Когда Тоня вернулась, раскрасневшаяся, с легкой испариной на лбу, — так наработалась и так торопилась, — то очень обрадовалась, что Виктор и Ира стали друзьями.
— И девка моя проголодалась, и ты, Виктор, наверное, голоден. Пойдем к нам, я вас накормлю. Мы живем буквально рядом…
Они пришли в новый большой дом с лоджиями, про который Тоня сказала, что в нем живут «все наши». Но имена были новые, Виктор мало кого знал. Квартира оказалась нарядной, светлой, полной диковинных заграничных вещей. Особенно поразила Виктора кухня — со сверкающими стенами, пестрой клеенкой на столе, яркими чашками.
— Откуда это у тебя? Твой муж дипломат?
— Ну что ты! Обыкновенный инженер. Это все я привезла.
— Ты?
— Я объездила почти весь мир. Мы же теперь всюду играем…
Этого он не знал.
Только теперь Тоня скользнула взглядом пр его дешевому костюму, по башмакам. Во взгляде этом было сострадание, как показалось Виктору, она что-то хотела сказать, но промолчала. Долго стояла посреди кухни, задумавшись, потом спросила:
— Тебе очень трудно было?
— Да нет, ничего, жить можно…
— Я имела в виду — не играть…
Он пожал плечами. А она сказала печально:
— Как будто ни о чем не жалею. Мужа люблю безумно, дочку и этого… будущего. Но иногда во сне вижу: аэродром, чужая страна, пестрота, ветер, и я выхожу из самолета… Потом целый день сама не своя. Стоишь, бывало, в аэропорту, сумка через плечо, ракетки в чехле — и все-все твое… и трава, и ветер…
— Да ты романтик, — удивился Виктор.
— Я? Ничуть. Я прозаик чистой воды. Ты же видишь, какое у меня хозяйство. Я все это обожаю — кастрюльки, миксеры, кофейные мельницы. О, я сварю тебе кофе! Ты пьешь кофе?
Виктор вспомнил ту бурду в жестяной кружке, которую пил в последние годы. Только бы погорячее была, только бы согреться. А кожа так огрубела, что держал в руках не обжигаясь.
— Пожалуй, пью… — сказал он, чуть усмехнувшись.
У Тони в глазах снова мелькнула жалость, стыд за свою неловкость, за то, что он видит на полке под стеклом ее награды и памятные подарки — кубки, статуэтки, шкатулки, грамоты. Тут были и борьба за первенство страны, и зональные соревнования, и выезды за границу…
— Вот это да! — Виктор был потрясен. — Такого в мои годы и в помине не было. Действительно наш теннис, как пишут, вышел на мировую арену.
— Как тебе обидно, что все это началось после…
Виктор отмахнулся:
— Я уже переболел.
— Не верю, — тряхнула головой Тоня. — Этим переболеть нельзя… Что ты, Виктор? — спросила она. — Чем я могу тебе помочь? Я мало что могу, уже сама сошла, но все-таки… Может, деньги?
Он захохотал немного искусственно, но все-таки захохотал.
— Только еще не хватало, чтобы я, здоровый мужик, клянчил деньги!
Тоня нерешительно предложила:
— Ты мог бы пожить у нас. Правда, всего две комнаты, Ира шумит, не очень-то удобно…
Виктор с недоумением оглянулся. Две такие хоромины! Он хотел было сказать, что тут очень даже удобно, но он отвык от такой роскоши, как вошел Тонин муж.
Виктор сразу понял, что это муж, по тому чуть недоумевающему, чуть ревнивому, чуть недовольному взгляду, которым его окинул вошедший. Понятно было, что пришел хозяин дома. А у Тони радостно засветились, засияли глаза. У нее всегда были сияющие глаза, а тут особенно. Она обрадовалась и испугалась: ничего не случилось? Нет, он просто ездил в министерство, освободился и заехал пообедать. «Но ты знаешь, мотор все же барахлит, я останавливался два раза».
В руке у хозяина дома позвякивали ключики от машины. Тоня стала живо интересоваться мотором и кричать, что надо сделать настоящую профилактику, не халтурить; тут же побежала подогревать суп и стала уговаривать Виктора остаться обедать, хотя он уже согласился. И еще раз, не очень настаивая, спросила, не хочет ли он у них переночевать. «Виктор нам не помешает, да, Леня?» Правда, она не знает, где его положить. И Виктор сказал, что с жильем он вполне устроен. Ему интересно было смотреть на счастливую своей семейной жизнью Тоню, и вспомнилось, как он сам приходил когда-то домой и так же вспыхивали от удовольствия глаза Шуры. Леня ему не очень понравился: ему казалось, что только необыкновенный человек и обязательно спортсмен может подчинить себе гордую Тоню. Но ему приятно было, что Леня как будто случайно то касается Тониного плеча, то берет ее за руку: любит.
Виктор почувствовал себя лишним, ненужным и, чтобы не разнюниться, не размякнуть, стал собираться. Его не очень удерживали. Тоня все-таки пошла провожать его в переднюю, негромко говоря:
— Теперь можно признаться, что я всегда мечтала играть микст в паре с тобой.
— Почему же не говорила?
— Не осмеливалась…
У самой двери Виктор спросил:
— Ничего не слышала о моей Шуре? Говорят, у нее ребенок…
— Не знаю, — с сожалением сказала Тоня. — Мы ведь никогда не дружили. Люди, так забываются…
— Это я почувствовал на своей шкуре, когда позвонил Владимиру.
— Ну, Владимир — он теперь сановник, сановник от спорта, куда там. Хотя… будем честными, — сказала она. — Жизнь так заполнена всякой ерундой, заботами, бытом, я уже не говорю о работе, что самых близких друзей забываешь, видишь только по праздникам.
— Я, конечно, понимаю, все живут своей жизнью. Что им до меня… Но мне хотелось узнать что-нибудь о Шуре. Тогда, после суда, она просилась на свидание, но я, дурак, не захотел…
— Все-таки тебя осудили слишком уж строго, — сказала Тоня. — Все наши так считали, не только я… — Она говорила сердечно, но уже торопливо, оглядываясь через проем двери на кухню, где темнел силуэт мужа. Ей не терпелось поскорее освободиться, пойти кормить его. Тоня больше не принадлежала себе. Виктор это понимал, хотя она все еще была той смелой, независимой, чуть диковатой Тоней, которая была когда-то так симпатична ему. Он ответил тоже торопливо:
— Теперь это не имеет никакого значения. Но я был виноват, воображал себя этаким божком, которому все дозволено… — Он выдавил улыбку. — Пожалуй, я действительно начну учить детей. Если доверят, конечно…
— Дай тебе бог удачи, — сказала Тоня. Она все-таки обняла Виктора и поцеловала. — Дай тебе бог…
Но тут раздался недовольный голос Тониного мужа:
— Тоня, суп выкипает…
— Ну, бывай…
Дверь за Виктором захлопнулась. Слышно было, как удаляются Тонины шаги — она бежала на кухню.
— Как странно, вы совсем не похожи на спортсмена. Такой серьезный…
— Это что же, по формуле: было у отца три сына, два умных, третий — футболист?
— Ну что вы, теперь спортсмены самые знаменитые и самые почитаемые люди в стране. Более знаменитые, чем артисты, более любимые, чем писатели. А вы? Вы…
— Я и сам играл когда-то…
— Хорошо?
— Да, я играл неплохо, но… В общем, я теперь учу.
— И любите свое дело?
— Очень, — вырвалось у него. — Очень люблю…
Другие тренеры говорили ему: «Очень уж ты самоотверженный, Виктор. Ты же днюешь и ночуешь здесь». Он действительно, как говорится, дневал и ночевал на стадионе. Да и стадионом этот вытоптанный луг трудно было поначалу назвать. Так, площадка. Из всех секций, какие числились, может, и порядка больше всего было у него, у Виктора. Он и за кортом сам ухаживал, укатывал его. Разве дождешься помощи? Или смета не утверждена, наличных нет, или средства израсходованы на другое. Начальства никогда на месте не было: то все разъезжались уполномоченными на сбор хлопка и уборку картошки, то отправлялись на какой-нибудь профсоюзный семинар. Виктор даже раздражал своей требовательностью. «Другим тренерам все хорошо, почему тебе все плохо, а? Может, ты работать не умеешь, Трунов? Всегда ты с претензиями, с обидой». Потом уже, когда пошло, как поветрие, увлечение спортом, когда во всех больших городах возникли Дворцы спорта и гигантские спортивные сооружения, докатилась эта волна и до их жаркого города. Стали строить, улучшать, луг обнесли оградой, открыли плавательный бассейн, футбольное поле — футбольная команда как раз одержала первые победы, — стали мечтать об искусственном катке, только и разговору было: фигурное катание, фигурное катание… А он, Виктор, все оставался в тени со своей детской теннисной школой, со своим маленьким окладом, в своей клетчатой ковбойке и синем, давно выцветшем плаще.
А каким он мог быть еще, если не самоотверженным? Что у него еще в жизни было? Что есть?
— И все-таки очень уж вы задумчивый для спортсмена. — Анюта засмеялась. — Я вот за вами наблюдаю — думаете-думаете… О чем? Ведь не о детской школе, надеюсь…
А он ответил серьезно:
— Как же это так — не думать? Каждый ребенок — характер. Нет, не думать нельзя…
Жены у него больше не было, новыми друзьями он не обзавелся, а старых растерял; в кино ходил редко, к театру относился равнодушно, хорошие книги, ему почти не попадались, только случайно. Что же он делал все это время, когда приходил со стадиона домой? Думал. И даже когда оставался на стадионе один, А это бывало не редко, например, когда натягивал струны на ракетки — работа медленная и кропотливая, требующая сосредоточенности. Он думал… обо всем. И о себе…
— Тренер. Нет, не похоже как-то, что вы инструктор, учитель. А если уж учитель, то скорее по труду — руки у вас хорошие. Или по биологии. Вы смотрите в окно на поля такими глазами…
— А я люблю природу. — Виктор удивился: — Как это вы узнали?
Анюта похвасталась:
— Такая уж я догадливая.
Он любил природу. И там, на болотистых топях, мог сорвать с мокрого кривого деревца молодой листочек, растереть его между пальцами и долго нюхать, как пахнет весна. Или отломить еловую веточку, твердую от мороза, и положить под свою тощую подушку, всю ночь воображать, будто ты на даче у Шуры, в подмосковном лесу. А как-то нашел несорванный орешек, невызревший, горький должно быть, закованный в гладенькую светло-коричневую броню. Не разгрыз его, а опустил в карман, долго тешился, пока не потерял. А уж тут, в Средней Азии, никак не мог привыкнуть к густой синеве неба, к яркости солнца, к плавной линии гор на горизонте, тронутых снегом. Любовался тополями, чинарами, любил в темноте слушать, как в узких арыках шумит вода.
На столе у него всегда стояли в банке полураскрывшиеся ветки, цветы. Очень ему нравились ромашки, которые на углу, возле центрального телеграфа, продавали цветочницы. Они его уже знали, не заламывали цену, как только он приближался, с готовностью вытаскивали из больших ведер с водой длинные стебли. Ромашки огромные, раза в три больше обычных, с желтой, как солнышко, сердцевиной. А в горшках — он брал у соседей отростки — растения у него приживались плохо: очень уж темная была комнатка. Как-то он совсем скис, такая гнилая, ветреная стояла зима. Стало ему думаться, что живет он бессмысленно, неинтересно, бесполезно. Что это, в самом деле, — когда объявляют прием, ведут детей десятками, а потом отсев. То семья переедет в другой район, откуда далеко ходить, то надоело ребенку, — у Виктора же строгая дисциплина, пропускать занятия нельзя, — то увлечется ребенок другим видом спорта, то еще что-нибудь, мало ли… И выходит, что все его усилия тщетны, результатов нет… Нечего писать в отчете о проделанной работе. «Как же это так, Трунов? Ай-ай-ай! Мы же тебе платим денежки…» И никакой связи с внешним миром, иногда скупая открытка от матери, привет от отчима — и все. Как будто не было никогда Виктора Трунова, замело песками его следы…
Одним словом, он захандрил, заскучал. Подошел как-то к вазону с тощим, полузасохшим фикусом. Господи, что это? Из земли высунул нежно-зеленую головку какой-то свежий стебелек. Пригляделся — крошечный дубок. Видимо, желудь попал когда-то в землю, вот теперь пророс. Виктор так обрадовался, как будто потерянного друга встретил. Он увидел в ростке доброе предзнаменование. Упорство и воля к жизни преодолевают все. Виктор пришел на зимний корт, рассказал ребятам. Они хоть бы что, одна Алла сказала:
— Дядя Витя, можно мне прийти посмотреть? Так интересно…
А еще… Весной он повел ребят в горы, воспитывал в них выносливость, как он говорил. Это были часы, отведенные на общефизическую подготовку. Пришли, а склоны все в цветах: распустились тюльпаны. Горные тюльпаны. Невысокие, с узкими чашечками и очень яркие.
Ребята бегали, визжали, догоняли друг дружку. А Алла сидела на камне в сторонке, подавленная.
— Ты что, — спросил он озабоченно, — устала?
— Нет, — она Ответила не сразу. — Очень тут красиво… Пестрота, листья зеленые, а на вершинах, смотрите, снег… белый-белый…
Потом стали прыгать через веревочку. Он и ее позвал, Аллу. Алла прыгала выше всех.
— Наверное, очень привязываешься к ученикам, — предположила Анюта. — Но нет, я бы не могла, я индивидуалистка, я люблю работать наедине с собой, в тишине. Вы привязываетесь к ученикам?
Он утвердительно кивнул.
— Вот Маргарита Ивановна всегда тоскует, когда аспирантам пора уходить…
Виктор молчал.
— А дети тем более растут, меняются, становятся старше…
— Верно, — подтвердил Виктор.
Анюта что-то выведывала у него, хотела выпытать. Как коршун над лугом кружила…
— Да, дети становятся старше. К сожалению, — согласился Виктор. И сказал это с такой горечью, что она снова испытующе и долго смотрела на него. А он опять отвернулся, уставился в окно.
Долговязый мальчишка из секции легкой атлетики стал вертеться возле Аллы, торчать день-деньской на корте, поджидать ее, нарочито вызывающе насмехаться над ее игрой, говорить ей под руку дерзости, так что она то и дело пропускала мяч и кричала кокетливо: «Ну, Игорь, ну что ты, какой противный!» Виктор отозвал парня в сторонку и сказал строго:
— Я на тебя не погляжу, уши оторву, понял? Мало ли других девчонок…
— А эта что? Икона? — Паренек старался держаться с достоинством, хотя и был настороже.
— Икона.
— Подумаешь…
— В общем, я тебя предупредил. Хочешь заниматься спортом, хочешь ходить на стадион — ходи. Но сам не отвлекайся и не отвлекай других.
— Служенье муз не терпит суеты, так, что ли? — горько спросил мальчишка.
— Выходит, что так… не терпит.
Хуже стало, когда Алла повзрослела. Только что была ребенком, симпатичным, славным ребенком с очень грациозными движениями, — а тут сразу изменилась, уехала с матерью куда-то к родне, на один только месяц, во время школьных каникул, и вернулась этакой воображалой с новой прической «конский хвост», с совершенно другими манерами. И глаза стала вскидывать из-под ресниц, как взрослая. Он сказал ей:
— Ты что это глазами выделываешь? Окосеешь! Зрение для теннисиста главное, ты запомни…
Она ответила:
— Угу, дядя Витя.
А вскоре стала звать его просто Виктором. Без «дяди».
Как раз тогда они отрабатывали подачу.
И еще он занимался с Аллой отдельно, готовил ее к городским соревнованиям, — она уже заметно выделялась своими успехами, а удар справа у нее был слабоват.
Давно стихло за задвинутыми дверями радио, перестали сновать проходящие в вагон-ресторан и обратно с прихваченными про запас бутылками пива и воды пассажиры, все почему-то, — толстые и худые, молодые и немолодые, стройные и пузатые, — как в дорожной форме, в тренировочных костюмах. Притихла, затаилась в своем купе проводница. А поезд стучал и громыхал, бежал куда-то во тьму, постепенно поглощавшую леса и поля. Изредка мелькали огни, тускнели, меркли и исчезали.
Виктор не сразу понял, что спрашивает Анюта. Она повторила:
— Она была способная девушка, ваша Алла?
— Способная? Вы что! — недоумевая, сказал Виктор. — Она была очень способная. Шла, я бы ее вывел — это уже точно — на первенство Союза. Такая ученица, может, раз в жизни попадается тренеру, когда стоит всего себя посвятить…
Анюта опять стала допытываться:
— Это что, интереснее, чем самому, скажем, стать чемпионом?
Виктор задумался.
— Тут совсем другое, я объяснить не могу. Но все равно как будто ты сам, твоя душа в другом человеке…
— Я ведь говорила, что вы романтик, завидую вам, — сказала Анюта, хотя Виктор не мог вспомнить, когда она называла его романтиком. А может, он и не слышал, углубился в воспоминания…
Дверь купе отодвинулась, высунулась, поддерживая халат на груди, Маргарита Ивановна. Лицо ее было измято. Она долго смотрела то на Анюту, то на Виктора, пытаясь понять, что между ними происходит.
— Вы что, — спросила она наконец, — решили так и не спать всю ночь? Я даже испугалась, когда проснулась. Чемоданы стоят, а вас обоих нет…
— Все-таки побоялись за чемоданы? — со смешком сказал Виктор. — Но ни вещей, ни вашей соседки, как видите, я не похитил…
Маргарита Ивановна тоже засмеялась. Смех у нее был совсем не старый, а звонкий, легкий.
— Может, хотите коньячку? — слегка подмигнув, тихонько, заговорщицки спросила она. — Всегда вожу с собой, люблю подбавить несколько капелек в чай. Вместо камфары, когда слабеет сердце. Очень удобно, такой флакон с завинчивающейся крышкой… — Она пальцами показала, как отвинчивает крышку. И призналась Виктору: — Я так рада, что вы успокоились… — Виктор сделал протестующий жест, но она продолжала: — Вы слушайтесь Анюту, она великий психолог. К ней бегают на исповедь все бабенки нашего научного заведения… Ну так как, выпьете?
— Я не пью, — кратко отказался Виктор.
Он и правда не пил. Дал зарок себе когда-то, живя на северных болотах, никогда не пить. Алкоголь развязывал в нем какие-то буйные силы, он легко терял контроль над собой. То, что сломало его жизнь когда-то, потому и произошло, что он выпил лишнее. Впрочем, случившееся с ним вчера, ничуть не лучше. А он ведь ничего не пил.
Виктор не хотел думать о вчерашнем. Слишком больно было, тяжело. Кажется, не мальчик уже, не баловень судьбы, чтобы распускать нервы.
На его лице так явственно отразилась мука, что Анюта испугалась:
— Вы обиделись на Маргариту Ивановну? Зря. Она добрый, славный человек.
— Обиделся? На что я мог обидеться?
— За чемоданы, что ли… или за коньяк. Но я уверяю вас, что Маргарита Ивановна вам очень сочувствует…
— Да не нуждаюсь я вовсе в сочувствии, — сорвался Виктор. — За все заплачу сполна… Я всегда за все плачу сполна… Думаете, меня на работе по головке погладят, когда я приеду? Да с меня шесть шкур спустят. Меня и так не особенно-то любят…
— Кто? — спросила Анюта.
— Кто-кто… Начальство, конечно. Но дело не в начальстве, я и сам строгий судья своим поступкам…
Анюта решительно тряхнула головой.
— Хватит, — сказала она резко. — Хватит ходить вокруг да около. Можете вы мне объяснить, только конкретно, что все-таки произошло?
Он спросил нехотя:
— Где?
— Ну, я не знаю, где вы там наскандалили… в ресторане, в гостинице…
— На стадионе, — еще более неохотно признался Виктор. Его всего передернуло. — Я там устроил безобразную сцену, стыдно даже вспоминать.
Но Анюта настаивала:
— Все-таки расскажите…
Рассказать? Хм! Рассказать можно, но как объяснить? Он не хотел оправдываться, да и какие могут быть оправдания! Считать, что просто у него сдали нервы? Но разве могут у тренера сдать нервы? Чему может научить человек, у которого сдают нервы?
Виктор промямлил:
— Боюсь, что вы не поймете.
— Пойму…
Нет, она не щадила его, Анюта. Всем своим видом показывала, что считает себя выше его. И скорбь Виктора не считает какой-то необыкновенной. Он понимал это, но не обижался. Больше того — ощущение энергии и силы, таившихся в ней, не раздражало его, а скорее успокаивало. Даже подчиняло.
— Если бы я картину рисовал, все бы поняли, как тяжело, когда почти что готовое полотно погибает. Или был бы я пианист и сломал руку накануне концерта. А тут — тренер. Даже смешно, правда? Вроде и трагедии никакой нет, обычное явление — вы в провинции воспитываете ученика, а потом этот ваш ученик переходит к другому тренеру, более знаменитому, более заслуженному, и так далее. И уезжает от вас, а вы остаетесь, как говорится, с носом… Был никто и остался никем. Все, можно сказать, в порядке…
— Значит, Алла ушла от вас к другому тренеру, я так понимаю.
Она говорила быстро, резко. Он отвечал медленно, подбирал слова. Сразу видно было, что Анюта привыкла спорить и побеждать, одерживать верх, а он много времени бывал один и разговаривал чаще сам с собой.
— Теперь уж нет смысла скрывать ее фамилию, она после этих соревнований стала известной…
— О, так уж и известной!
Виктор повторил настойчиво:
— Ее имя скоро будет очень известным. В спортивном мире, во всяком случае.
Анюта поторапливала:
— Хорошо, что же все-таки случилось?
Но он не спешил, даже не следил, слушает ли она. Снова смотрел в окно. В темноту.
— Я все, что знал, что умел, о чем мечтал, старался передать ей. Конечно, нужен индивидуальный подход. Я изучал анатомию, психологию. Пытался думать ее мыслями, жить ее настроениями, чтобы понять, подсказать, сформировать из нее игрока, одним словом.
— Хотели, как Пигмалион, вдохнуть душу, — скорее не ему, а себе сказала Анюта.
Но он не согласился:
— Алла не была статуей. Она живой человек, во многом созданный школой, матерью, подругами, первыми поклонниками. А я, дурак, отвоевывал ее у них и воевал за такую, какой хотел видеть. Она росла на моих глазах, менялась, развивалась и духовно, и физически. Я уже говорил, что удар справа у нее долго был слабоват. Приходилось отрабатывать. Алла великолепно владела укороченными и косыми ударами, но ее уязвимым местом была игра у сетки. И психология — не умела владеть собой, расстраивалась от неудач, не верила в то, что победит…
Тут уж Анюта не могла сдержаться, запротестовала. Выпалила:
— Вы так говорите — неудачи, победы, — будто речь идет о чем-то важном, о мировых проблемах, а ведь всего-навсего теннис, игра…
— Пусть игра, — упрямо сказал Виктор, — но это моя жизнь, мое дело, как у вас ваше. Вам, может, и смешны мои волнения, но я считаю: есть люди, призванные решать мировые проблемы. Мне такое не под силу, однако, я полагаю, мировые проблемы решаются для того, чтобы человечеству стало легче. Отдельный человек должен быть готов к восприятию новых идей, не так ли?.. И я, выходит, ращу, формирую хоть в чем-то отдельного человека, укрепляю его волю, настойчивость, характер, воспитываю в нем доблесть и благородство…
— Верно, — согласилась Анюта. И почему-то сказала: — Вы бесконечно милый…
Виктор посмотрел на нее, ошарашенный: она смеется над ним? Но она не смеялась. Сказала:
— Алла оказалась не такой уж благородной…
Виктор ответил не прямо:
— На нее большое влияние имела мать.
— Дрянной человек?
— Не то чтобы дрянной, — заколебался Виктор, — но я таких не люблю. Очень напористая.
— Наверное, поэтому и я вам не нравлюсь, — предположила Анюта. — Я ведь вас буквально вынудила к откровенности.
Виктор задумался.
— Нет, вы совсем не такая, не думайте…
— Рада.
— Вы совсем-совсем другая…
— Ну, а какая же та, мать Аллы?
Виктор беспомощно пожал плечами.
Это верно, он ее не любил, маму Аллы. Слишком уж энергичная, властная. Но не признавать ее достоинств тоже не мог. В родительском активе школы она была незаменима. Помогала, чем могла. И в профсоюзах для них многого добилась, и форму для детей помогла достать.
А однажды пришла к нему и с деловитой бесцеремонностью сказала:
— Виктор Сергеевич, я вам раздобыла ордер в прекрасное пошивочное ателье. Лучшее в городе. Через Ивана Ивановича…
Виктор удивился. Это еще с какой стати, для чего?
— Но нельзя же так одеваться, вы не мальчик. У вас должен быть авторитет… И плащ я вам достану, венгерский, не я буду… — Она посмотрела на Виктора строго, как будто он вещь-какая-то. — Вы же интересный мужчина…
Виктор даже отмахнулся рукой. Как от шмеля.
Но она не смутилась. Она никогда не смущалась, сказала:
— Даже ненормально, что вы живете один. Кругом столько женщин… Поверьте мне, Виктор Сергеевич, человек не должен выделяться, надо жить как все… а вы какой-то монах…
Он потом долго думал об этом: неужели правда, человек должен жить как все? А если он не хочет?
…Но по-настоящему он разглядел Ксению Петровну только на соревнованиях, куда тренеры привезли свою республиканскую команду. Алла была жемчужиной этой команды, Виктор очень верил в ее успех, считал, что она на равных будет соревноваться с сильнейшими теннисистками страны. Это была ее первая серьезная поездка — с проводами на аэродроме, с первым в жизни Аллы интервью для местного телевидения. Алла уже была причесана как взрослая, и туфли у нее были на высоких каблуках, и спортивная сумка висела на ее плече весьма элегантно. Но она еще очень стеснялась и, когда ей поднесли микрофон, спросила шепотом: «Виктор, что мне говорить?» Он только плечами пожал: «Скажи, будешь стараться». Она так и сказала. А потом мать Аллы заявила, что оба они неправы, надо было сказать что-нибудь более торжественное и красивое, поблагодарить местное руководство, ну хотя бы Ивана Ивановича. Она упрекнула: «Вы совсем не политик, Виктор Сергеевич». — «А при чем тут политика? Это же спорт». — «Политика всегда при чем». И смерила Виктора негодующим взглядом.
Ксения Петровна ехала в отпуск на курорт, но хотела по пути побывать в городе, где проводились соревнования, посмотреть, как будет выступать Алла.
Вот там, на соревнованиях, Виктор понял, до чего же он не любит мать Аллы с ее зычным голосом, самоуверенностью, апломбом. Он всегда отводил глаза, когда она к нему обращалась, как будто был в чем-то неправ. Нервы у него вообще были напряжены до предела. Алла, как о ней писали в те дни, уверенно шла к победе. Разные люди из спортивной федерации уже стали замечать Виктора, поглядывать на него уважительно, расспрашивать о его системе подготовки. И он охотно выкладывал свое педагогическое кредо. Кто-то, видимо, знал или вспомнил, что это тот Трунов, который когда-то так славился своей игрой. Атмосфера соревнований, волнение борьбы, запахи стадиона, хорошо и по-современному оборудованного, полузабытые лица судей — все это до крайности будоражило его, напоминало о молодости, о прошлом, о том большом спорте, из которого он ушел по своей же вине и куда он мог вернуться уже как тренер, сумевший подготовить классного игрока из Аллы.
Да, он был взвинчен, почти не спал, натянут до предела, как струны на ракетке. Все сосредоточилось сейчас на Алле, на том, как она сыграет, не перенервничает ли, не перегорит ли заранее. У нее совсем еще не было опыта борьбы. Виктор внушал ей: «Верь в себя — это главное, не зажимайся». И Алла смотрела на него как на бога, спрашивала взглядом: так, правильно? Ждала одобрения. С полуслова его понимала — такое у них было единство.
Но Ксения Петровна Виктора раздражала. Она всюду была рядом с дочерью, огромная, в сверкающих шелковых платьях, как в чешуе, в серьгах, в кольцах, в бусах. Она накидывала на плечи дочери кофту, чтобы не продуло, приносила сливки и яблоки. Она перезнакомилась со всеми, кто мог быть полезен Алле, вертелась около спортивных журналистов и даже отыскала одного, чья мама будто бы была ее задушевной подругой в детстве.
Виктор иногда спрашивал недовольно:
— И откуда вы все яро всех знаете? Я давно в теннисе, но о таких подробностях не подозревал…
Ксения Петровна всюду, где удавалось, подчеркивала свои заслуги и поставила Виктора в глуповатое положение, упрекнув его со смехом:
— Это я ведь вас уговорила взять Аллу…
— Не помню, — буркнул Виктор. — По-моему, я ее сразу взял. Я стараюсь брать в школу всех детей, у которых есть интерес.
— Я знала, что будущее Аллы в спорте. Все-таки в спорте я и сама не чужой человек.
В местной газете уже промелькнуло, что Аллу Звонареву привела на корт мама, которой война помешала заняться теннисом.
А Виктору она говорила:
— Чего только не сделаешь для своего ребенка! Уж вы-то знаете, что я всю себя посвятила Алле. Ах, как велика сила материнской любви!
А потом она заявила, что решила переехать в Москву. У нее в Москве тетка, родная сестра покойного отца, Аллочкиного дедушки. Она с ней договорилась по телефону. И договорилась здесь лично «с очень влиятельным человеком» в одном спортивном обществе — она не назвала, в каком, — о том, что Алла перейдет к ним. И там, конечно, очень обрадовались. «Без пяти минут чемпионка», как они сказали.
— Но зачем? Алла так хорошо идет, зачем вам ее срывать?
— Как зачем? — удивилась Ксения Петровна. — Это нужно для Аллы, для ее карьеры, для ее счастья. Она будет на виду…
Она смотрела на Виктора, как удав на кролика:
— Мы вас считали своим, мы были так внимательны к вам… — Вот тут-то Виктор припомнил и ордер в ателье, и приобретение плаща, правда, за его собственные денежки. Все-таки это была большая услуга, он бы никогда не сумел купить такой модный, красивый плащ. — Неужели вы не хотите счастья Аллочке? Стыдитесь, Виктор Сергеевич!
И, выходило, что он эгоист, что он думает о себе, а не о пользе дела. Но он не только о себе думал, нет, — он считал, что Алла еще нуждается в нем, что без него, без его продуманной системы занятий, девочка не справится. Но Ксения Петровна все-таки била по больному месту — он не хотел отпускать Аллу. Он видел себя рядом с ней, своей ученицей. Ее успехи были его успехами, ее победы — его победами. Он хотел взять реванш, безвестный, провинциальный тренер.
Она уже больше не заискивала перед ним, Ксения Петровна, не старалась быть любезной; она ходила по стадиону с деловым видом и в гостиницу, где жила команда, являлась как хозяйка, приводила каких-то людей в ярких рубашках и галстуках. Виктор знал их в лицо и по фамилиям — тут были и игроки, и тренеры, и капитаны столичных команд, и разные чины из администрации, — Ксения Петровна знакомила их с дочерью, и они смотрели на Аллу с ее стройными ногами и сильными руками, как барышники на лошадку. Так казалось Виктору. Его бесило, как Алла опускает глаза, взметывает ресницы и улыбается. Она понемножку входила в роль «звезды». Все эти люди как бы не замечали Виктора, в лучшем случае небрежно кивали ему. И он становился угрюмее и злее, хотя сдерживал себя. Только чаще делал замечания Алле, и она, опустив глаза и взмахивая ресницами, что злило его еще больше, смиренно признавала свои промахи.
— Угу, Виктор, — как паинька, говорила она. — Но мне так весело…
Чтобы как-то обуздать ее, он назначил тренировку, хотя можно было бы этого не делать. Он хотел показать ей, что ничего чрезвычайного не произошло и она должна каждый день работать, как работала прежде, и должна тут же исправлять свои ошибки. Против нее он поставил играть Олю Машкову, сильную, но в общем заурядную девочку, которая и мечтать не смела о том, чтобы обыграть саму Аллу Звонареву.
У бровки корта появилась Ксения Петровна под японским зонтиком, очень озабоченная, и рядом с ней люди из того спортивного общества, куда она хотела перевести Аллу. Алла стрельнула глазами и послала улыбку маме, а мама снисходительно подмигнула дочке. И даже позволила себе громко сказать, почти приказать Виктору, чтобы он освободил девочку поскорее, так как она должна пообедать с мамой, потому что мама сегодня уезжает. Виктор рассвирепел. Вот теперь он понял, что Аллу действительно забирают от него. Все рушится.
Что с ним случилось, он не знал. Никогда в жизни до этого дня не, плакал, хотя было от чего не раз заплакать. А тут в горле остановился ком. И чем насмешливее, как ему казалось, чем удивленнее смотрели на него люди; сопровождавшие Ксению Петровну, тем бо́льшая ярость сотрясала его. Он плохо соображал, что делает: не то смеялся, не то рыдал и кричал бедной Оле Машковой: «Ну, сильнее удар по изменнице!» Алла тоже стала всхлипывать, не принимала мяч, упускала его, ничего не видя перед собой. Машкова не смела выигрывать у Аллы, пользуясь ее состоянием, но в азарте, хотя и с очень несчастным лицом, выигрывала. Уже все, кто наблюдал игру, увидели, что происходит неладное. А Виктор неистовствовал. Не замечал ни встревоженных лиц зрителей, ни потрясенную Олю — только Аллу. Только ее. И когда она, побежденная после своего недавнего триумфа — и кем? — скромной Олей, зарыдала в голос, не в силах перенести унижение, Виктор опомнился, сказал ей:
— Видишь, ты еще не боец, у тебя нет самообладания. Проигрывать тоже надо уметь.
Организаторы соревнований, к которым кинулась с жалобами Ксения Петровна, нашли, что Виктору лучше немедленно уехать, что его поведение неспортивно, непедагогично, неэтично. Не, не и не… Но это он в общем знал. И ненавидел себя. Презирал. А успокоиться не мог.
Да, ему пришлось обещать, что уедет сегодня же. Первым поездом. Да и зачем оставаться? Что еще тут делать? Но администраторы стадиона, видно, не поверили, попросили милиционера проводить его: мол, помочь приобрести железнодорожный билет.
В глубине души еще на что-то надеясь, он купил билет и для Аллы. Она ведь уже освободилась и могла ехать вместе с ним, не дожидаясь остальной команды.
Но Алла на вокзал не явилась.
Осталась, хотя еще днем клялась, что она его, Виктора, нет, «дядю Витю», никогда не забудет. Не покинет школу. Она упросит маму не переезжать…
Уже близился рассвет: ночи были короткими. Чуть высветлилось небо, отчетливее стали вырисовываться деревья, далекие дома, луга с копнами сена. Опять Виктор стоял в коридоре, курил и так пристально вглядывался в окно, как будто никогда не видел ни такого поля, ни такой предрассветной дымки, похожей на легкий туман. Поезд прогрохотал через мост, сквозь стальные перекрытия замелькала вода, она была где-то там, в глубине, и казалась отсюда, из окна, странной, далекой и неподвижной. А потом снова потянулись луга.
— Копны сена как на картине Пурвита, — сказала Анюта. Она опять была рядом. Бессонная ночь очень сказалась на ней — процарапала на лице следы, подчеркнула морщинки.
— На чьей картине? — переспросил Виктор.
— Ну, Пурвита. Известный латышский художник, чудо что за художник, — смиренно говорила Анюта. — Когда я приезжаю в Ригу — наш институт связан с Ригой, — то первым делом иду в музей, на свидание с Пурвитом.
Виктор не поверил:
— В командировку приезжаете — и сразу идете в музей?
— В первый же свободный день, — поправилась Анюта. — Не беспокойтесь, я не нарушаю трудовую дисциплину… — Она вдруг взяла его за локоть и сказала очень искренне и сердечно: — Не сердитесь на меня, я вовсе не хотела вас обидеть. Но очень уж похоже, что вы были в нее влюблены, в эту вашу Аллу… — И еще раз повторила просительно: — Не сердитесь.
— Я не сержусь.
И опять они стояли молча и смотрели, как невидимое еще солнце подсвечивает небо, румянит воздух, прогревает кусты, отяжелевшие от ночной прохладной росы, и они отряхиваются и распрямляют ветки, как отряхиваются после дождя и вытягивают лапы большие мохнатые добрые собаки. Виктор размяк от этой утренней белесости, которая всегда внушает надежду на что-то новое, светлое, да и просто сказывалась усталость. Анюта, как будто ей надоело быть деликатной, вдруг, дерзко прищурившись, заглянула ему прямо в глаза.
— И что, вы все эти годы не встречались с женщинами?
— Я не монах, — уклончиво ответил Виктор.
Он и сам не смог бы потом объяснить, как вышло, что он, сдержанный и даже скрытный, вдруг выложился перед этой чужой ему Анютой, как она сумела сделать, что он уже не считал ее чужой. Вошла в доверие, покорила своей заинтересованностью в его судьбе или Виктор просто изнывал от одиночества? Он ей все рассказал: и как у него был роман с рыженькой умненькой парикмахершей в доме отдыха, вполне серьезный роман, она ему даже потом письма писала; и к библиотекарше в гости ходил, но перестал: очень уж на него косились ее родители, ждали, что он сделает предложение, а он жениться не собирался. И тогда эта самая Женя стала сама приходить к нему и оставаться допоздна, трагически молчать и плакать. Он очень стеснялся соседей, когда Женя выходила от него вся в слезах.
Потом Виктор припомнил историю своего знакомства с молоденькой учительницей, только-только окончившей институт. Их многое связывало — работа с детьми и подростками, педагогика. Вот ее он мог бы полюбить всерьез, но она вскоре уехала. Да он ей и не очень нравился. Она была веселая, порывистая, помешана на пластинках. Виктор ее пугал своей замкнутостью… Еще соседка была, жила в том же доме. Намного старше, чем Виктор, но красивая, энергичная.
— Ей очень хотелось, чтобы все было всерьез, романтично, с чувствами. Она старалась, чтобы о наших отношениях знали, требовала, чтобы я ее и на стадион водил, и в кино, а мне это было неудобно. Она нарочно, что ли, как только ко мне приходили ученики или инструкторы по другим видам спорта, тотчас появлялась, предлагала чаю, показывала, что она здесь не посторонняя. Но когда Алла стала старше, — ученики ведь ко мне часто ходили домой, — я попросил эту самую Веру при ней не заходить. Алла уже была не маленькая, могла догадаться. Так Вера заподозрила, что я в Аллу влюблен…
— И мне так показалось! — обрадовалась Анюта.
— Но она ведь простая женщина, без образования, а вы ученая… вы-то могли бы понять…
— И это все ваши истории? — нетерпеливо спросила Анюта.
— Были и другие встречи, мало ли… но все как-то обрывались.
— Почему?
— Потому что я не мог жениться. А обманывать не умею…
И сбивчиво, путано, явно не желая вспоминать, но в то же время с такой ясностью вспоминая подробности, что видно было, какие они для него живые и мучительные, Виктор рассказал, как любил свою Шурочку, жену, и как пренебрегал ею, потому что был успех: увлеченность теннисом, победы, поездки по стране, тренировки с утра до вечера, девчонки, которые висли на нем, товарищи, которые сманивали его куда-нибудь — то в гости, то на встречу в пионерский лагерь, где вечером ярко полыхал костер и девушки-пионервожатые в туго облегающих грудь футболках и с голыми ногами говорили ему, какой он задушевный, скромный парень, ничуть не зазнается.
То ездили компанией в ресторан, то ходили в кино.
Он даже несерьезно отнесся к тому, что Шура забеременела. Подумаешь, ну, родит, вырастим, что за проблема… И Шура отомстила за его холодность, за нечуткость, за мальчишеский эгоизм. Вдруг сказала, что полюбила другого. «А ребенок?» — «Это мой ребенок». Они ужинали как раз в компании в ресторане. Виктор на минуточку оторвался от беленькой соседки, кокетничавшей с ним, и вспомнил, что пришел с Шурой. Вдруг заметил, как странно, враждебно смотрит на него Шура, и всполошился: «Ты себя плохо чувствуешь?» — «Я себя чувствую прекрасно. Я только хотела тебе сказать…» И сказала. Обратилась ко всем: «Поздравьте меня, люди. Я выхожу замуж за Лешу. Вот за него…» — и дернула за рукав ошеломленного, счастливого, глуповатого Лешу, сидевшего рядом. Все перемешалось тогда, перепуталось — боль, ревность, Шурино оскорбленное самолюбие. «Вам ясно? Не меня бросают, а я бросаю». А Виктор: «Опомнись, Шура, что за глупые выходки, поговорим дома». И потом уже: «Ах, так? Ну, тогда…» Он учинил дебош с битьем посуды, с дракой, неистовствовал и бушевал…
Анюта не поверила:
— Таким я вас не представляю. Вы совсем другой…
— Я стал другим. Долго потом работал над собой, менял свою душу и характер. Но, — он усмехнулся, — как видите, без большого успеха. Вот снова сорвался на соревнованиях… и снова, видно, заплачу́ за этот срыв…
Да, тогда он сполна заплатил. Был показательный процесс, обвинение в хулиганстве, да еще в общественном месте, и то, что всегда было предметом его гордости, — слава замечательного теннисиста, — тут обернулось против: тем более, мол, Виктор Трунов не имел права так себя вести, он на виду, а замарал советский спорт и так далее. Конечно, Виктор не оправдывался, не винил ни Шуру, ни Лешу, да и не знал, виноваты ли они… Он жаждал наказания, желал, чтобы его увезли, услали к черту на рога, — только бы исчезнуть, уйти от любопытных, то сочувственных, то злорадных взглядов людей. Ему казалось, что мир содрогнется, что развитие спорта приостановится без него.
— Я ведь был совсем глупым щенком, ошалевшим от удачи. И думать не умел самостоятельно, жил по чужим рецептам, по готовой схеме. Это уже потом научился думать…
И чем больше он тогда размышлял, тем полнее осознавал свою вину перед Шурой и перед самим собой, перед их любовью. Так он и не узнал, родила ли Шура и чей это ребенок. Он все-таки не верил, что это не его ребенок. Ему хотелось, чтобы родилась девочка, похожая на Шуру, с такими же блестящими, злыми глазищами. Только не дай бог, если и характер у нее будет как у матери, — все сокрушит из гордости. Бахнула за столом, что выходит за Лешку, чтобы не было поворота назад, чтобы отрезать все пути. И уехала одна, исчезла так, что и следа не осталось. Он, правда, долго надеялся, что Шура найдется, отзовется, хоть как-нибудь даст о себе знать. Ждал, пока не понял, что ждать больше нечего.
Чтобы как-то уйти от воспоминаний о Шуре, он стал добросовестно перечислять, с кем еще и когда встречался, ходил в кино или перекинулся словом. Но Анюту это уже не интересовало.
— Выходит, — сказала она, — что вы любили и любите свою бывшую жену.
— Может быть, — согласился Виктор.
— Не может быть, а любите.
— Какая уж там любовь! Любовь, может, и была когда-то, но все выгорело… — Он поднес руку к груди, как будто хотел показать, где именно выгорело — в сердце. — Выгорело, как в пустыне. — Он засмеялся. — Видели среднеазиатскую пустыню, серый песок и кое-где колючий, такой кустарник — саксаул?
— Когда мы в войну жили в Средней Азии, то топили этим саксаулом печку… Я была тогда совсем маленькая… — Анюта тоже засмеялась. — Видите, как неудачно. Не совпало. Когда я могла быть вашей ученицей, вы еще там не работали… — Она дразнила его. — Или я могла бы стать вашей возлюбленной, если бы жила там теперь…
— Ох, — сказал Виктор искренне, — не дай вам бог при моем характере, который я никак не обуздаю, и при моем невезении связать со мной свою жизнь.
Анюта отшутилась:
— А я смелая. Я ведь очень отчаянная. Спросите вот у Маргариты Ивановны…
Маргарита Ивановна в эту минуту вышла в коридор. Стояла, держась за дверь, и сердито смотрела на Анюту.
— Вы с ума сошли оба, — сказала она неодобрительно. — Ночь на исходе. О чем вы тут толкуете? Опять ваши штучки, Анюта, только не пойму, какие. — Она адресовалась теперь к одной Анюте: — Ноги не заболели?
— Заболели, — ответила Анюта кротко. — И правда, идемте в купе, посидим.
Они уселись. Маргарита Ивановна позевывала и куталась в шерстяную кофточку. Анюта положила голову ей на плечо.
— Не наваливайся, лиса, — сказала старуха. И спросила у Виктора: — Вы верите ей? Ведь это лиса.
Он виновато улыбнулся, не зная, как себя держать. А Анюта сказала:
— Вы знаете, Маргарита Ивановна, я бы согласилась выйти замуж за этого упрямого человека, только бы иметь право обломать об его башку крепкую палку.
— Опомнитесь, Анюта, что вы болтаете?
— Да ничего я не болтаю, Маргарита Ивановна. Это же чудо, а не человек. Сентиментален, слезлив, порядочен. Чем не муж? Чудо двадцатого века, честное слово.
— Хорошенькое чудо, — отшутился Виктор. — Вы разве не видели — меня милиционер в поезд усаживал? Такая я опасная личность.
— На Руси всегда жалели арестантиков.
Поезд остановился на каком-то полустанке. Ждали встречного, что ли. Послышались громкие голоса, кто-то снизу застучал по колесам — проверял ось. Виктор отодвинул занавеску. Да она и не нужна была больше — стало светло. Вагон находился в самом хвосте, видны были только красный линялый штакетник и маленький домик с крылечком, на котором в домашней кофточке и в красной фуражке стояла с флажком в руках стрелочница. Об ее ноги терлась рыжая худая кошка.
— Какая прелесть! — закричала Анюта и, схватив со столика кусок колбасы, метнулась из купе.
— Отстанете! — крикнула Маргарита Ивановна. И накинулась на Виктора: — Вы только не воображайте, Анюта очень и очень талантливый научный работник.
— Я так и подумал, что научный… Наверно, муж немало страдает от такого характера?
— Муж, — сердито бормотнула Маргарита Ивановна. — Где это вы видели современную самостоятельную женщину, у которой есть муж? Мужа надо уметь удержать, а Анюта…
— Но вы же сами сказали, что она хитрая.
Ему почему-то приятно было, что мужа у Анюты нет. Хотя она совсем не интересовала его, только раздражала, злила, сбивала с толку. Это верно, мужчины не любят таких колючих женщин. Слишком беспокойно…
— А все-таки я боюсь, что она отстанет. Ведь эта нахалка не сомневается, что поезд без нее не уйдет.
Виктор охотно сорвался с места. Под чуть презрительным взглядом проводницы он пробежал в тамбур и, перегнувшись, стал смотреть, где Анюта. Та кормила кошку. Он спрыгнул на крупный зернистый гравий. Прелесть утреннего, свежего, чуть холодноватого воздуха обволокла его. Паровоз свистнул, позади загрохотал встречный поезд. В несколько прыжков Виктор одолел пространство до домика, схватил Анюту за руку и поволок. Она, хохоча, побежала за ним. Виктор подхватил Анюту и втащил ее на ступеньку, когда вагон, вздрогнув и лязгнув какими-то железными частями, уже стал двигаться.
— А вы умеете бегать, — сказал Виктор.
— Умею…
Они вошли в купе веселые, но Анюта никак не могла отдышаться. Виктор научно и строго стал объяснять, что у нее не поставлено дыхание, так нельзя.
— Ну, потешила свою душеньку, устроила спектакль! — сердилась Маргарита Ивановна.
— Не спектакль, просто я не всегда помню, что годы идут…
— Да, не молоденькая уже, — все сердилась Маргарита Ивановна. — Думай о диссертации, а не о кошках.
— Я в отпуске, — сказала Анюта, сокрушаясь. — Я всего хочу. То жить в столице и шляться по ресторанам, то вековать на таком вот разъезде, как этот. То хотела бы быть верной и безутешной вдовой, то менять мужей и родить кучу детей. Все, что вижу, мне хотелось бы иметь. Моя мама так и называла меня — «жадная девочка»… — Она помолчала и прибавила беспечно: — Вот увидела цельного, хорошего человека, настоящего мужчину, а не наших, — она скривилась, — кандидатов и докторов, и как-то жалко упускать. Так и тянет заграбастать. Хотя, если подумать, на что он мне нужен?
— Не нужен, не нужен, — болезненно поморщилась Маргарита Ивановна. — Оставь ты в покое этого действительно отличного человека…
— Да не говорите вы обо мне как о покойнике! — взмолился и возмутился Виктор. — Что я вам дался, в конце концов? Даже обидно…
— Нет, я не хотела вас обидеть, — снова повторила Анюта. — Извините меня, если что было не так, но я не хотела вас обидеть.
Потом принесли чай. Маргарита Ивановна достала свои бутерброды и коньячок, и они выпили с Анютой по крошечной рюмочке, навернутой вместо пробки.
Маргарита Ивановна расспрашивала Виктора о спортивной школе и рассказывала о своей лаборатории, о студентах. Виктор мало что понимал. Впервые он так остро почувствовал, что ничего не смыслит в науках.
— Но вот у вас, — сказал он с завистью, — есть и своя цель, своя собственная работа, вы опыты ставите. А я весь в учениках, своего с тех пор, как перестал играть сам, ничего нету… Мое дело — учить других, формировать и воспитывать игроков. Ушел ученик — и ты никто…
Маргарита Ивановна смягчила:
— От нас тоже уходят ученики. Ты с ними бился несколько лет, но час расставания, увы, неизбежен.
Вмешалась Анюта. Она как будто и не очень слушала, думала о своем.
— А интересно было бы, Маргарита Ивановна, каждому человеку иметь своего тренера. Он знает твои способности и возможности, помогает развивать лучшее и исправлять плохое. А то мучаешься один…
— Большое дело тренер, — согласилась с ней Маргарита Ивановна. — Спасибо вам, Виктор Сергеевич, я не знала, не подозревала, что спорт — это так серьезно.
— В спорте все честно, — сказал Виктор. — Все начистоту. Если я выиграл, то никто не может мне сказать, что это не так.
Маргарита Ивановна, соглашаясь, кивала головой.
— Игрок должен быть и нервным, и волевым.
— Как и ученый, и писатель, — поддержала Маргарита Ивановна.
— Без нервности нет таланта, но… — Виктор засмеялся над самим собой. — Но игрок не может быть психом. И мне тем более стыдно, что я повел себя как псих.
— Нет, не как псих! — крикнула Анюта. — Просто вы дошли до точки, это бывает с каждым искренним человеком, и перестаньте себя казнить. Во всей сцене на стадионе вы выглядите самым благородным…
— Бездоказательно, — покачал головой Виктор. — Бездоказательно, но хотелось бы вам верить…
— Ну и не верьте, ну вас, — грубо сказала Анюта. Она залезла на верхнюю полку, притихла. То ли заснула, то ли просто молчала.
Маргарита Ивановна тоже вскоре умолкла. Устала.
И опять Виктор остался один.
А поезд все приближался и приближался к Москве.
И невольно он подумал о том, как проезжал когда-то через Москву, бывшую всегда его родным городом, и как дал себе слово возвратиться туда, когда чего-нибудь добьется, когда вернет хоть что-то из того, что было им завоевано и трагически утеряно.
Что же ему делать, пока он будет ждать поезда? Снова, что ли, пройтись по адресам, как ходил тогда? Смешно. Он ведь был так близок к реваншу, к тому, чтобы его вспомнили. Нет, не из тщеславия, вернее, не из пустого тщеславия. Теперь-то он верил в себя как в тренера, верил в свою систему, которую выработал и выстрадал.
Он старался не думать об Алле, но все равно вспоминал. Он разъярял себя, вызывая в воображении облик ее матери, блеск в ее ледяных глазах, серых, блестящих, холодных глазах. Да, эта женщина умеет идти прямо к цели. Без колебаний, без сомнений. Ну что ж, она желает добра дочери. Не погубил бы только переезд Аллу. Она еще так не тверда, не стабильна в своих успехах. Так не закалена в борьбе. Жалко, жалко отдавать ее другому тренеру, как жаль художнику, когда погибает лучший эскиз, или изобретателю, если потеряются рабочие чертежи. И он снова погружался в свои мысли, как будто мял и месил глину. Что впереди? Как жить? Попадется ли еще такой талантливый ученик или ученица? Кто знает! Или так будет всегда: он, скромный, провинциальный тренер в клетчатой ковбойке, будет отдавать свою душу, а как забрезжит удача, ученика заберут в более верные руки? Но кто сказал, что его руки не верные?
Виктор вывернул ладони и долго смотрел на них, словно искал, сохранились ли линии, по которым ему когда-то цыганка нагадала большой успех в жизни.
— Виктор Сергеевич, мне пришла в голову идея — просить вашей руки и сердца, — вдруг сказала Анюта, свесившись с верхней полки.
Виктор, недоумевая, поднял на нее глаза.
— Я хочу просить вашей руки и сердца, — упрямо сказала она, но побледнела. — Вы хороший человек, и я сочту для себя честью, если вы примете мое предложение…
Виктор все так же недоумевающе смотрел на нее.
— Анюта, вы сошли с ума, — насилу выговорила Маргарита Ивановна. — Все имеет предел… Я вам запрещаю, наконец…
— Ах, оставьте! — Анюта спрыгнула вниз. — Оставьте… У меня нет времени на то, чтобы соблюсти правила приличия, мы приезжаем скоро…
— Да перестаньте же играть человеком, это бессовестно! — закричала Маргарита Ивановна.
Но Анюта сказала тихо:
— Я не играю. А впрочем… — Она вся потухла. — Извините меня, Виктор Сергеевич, я действительно слишком много себе позволила… — И опять не то играя, не то всерьез она прибавила: — Но дружбу, дружбу я могу вам предложить? А, Маргарита Ивановна, как вы считаете, с точки зрения приличия и морали могу я, кандидат наук, разведенная, несудимая, предложить дружбу транзитному пассажиру, встреченному в поезде город Н — Москва?
Она находилась в такой степени взволнованности, что Маргарита Ивановна испугалась. Забормотала:
— Не думала, что глоточек коньяку так на вас подействует, Анюта. Правда, коньяк бесит, я слышала про это.
— Ах, при чем здесь коньяк? — уже рассердилась Анюта. — Просто сказала правду. Но вы действительно извините меня, Виктор Сергеевич, за глупую шутку…
— Почему же «извините»? Я очень благодарен за ваше отношение, я… — Он взял Анюту за руку, притянул к себе ее ладонь и поцеловал. Потом точно так же поцеловал руку Маргарите Ивановне. — И вам большое спасибо. Как теперь говорят, большое мерси.
— Вам остается только сказать, — скривила рот сердитой ухмылкой Анюта, — что вы оценили мое остроумие.
— Я оценил вашу душу, — признался Виктор. — Я… — И выскочил в коридор.
— Ну, рада? Доигралась? — накинулась на Анюту Маргарита Ивановна.
— Рада.
— Дошутилась?
— Я не шутила, увы. Хотя мне и надо теперь делать вид, что я шутила.
— Но что ты в нем нашла? Совершенно необразованный человек.
Анюта молчала.
— Ладно, надо вздремнуть, — наконец с усилием выговорила она. — Вы, кажется, правы, я сошла с ума…
Опять залезла на свою полку и притихла, а когда стали подъезжать к Москве, спустилась с красными, заплаканными глазами. На Виктора не смотрела, стала снимать чемоданы, помогать Маргарите Ивановне собираться.
— Боже мой, я и предположить не могла, что ты такая дура, Анюта, такая баба! — сердилась Маргарита Ивановна, собирая свои разбросанные вещи и искоса поглядывая на Виктора, стоявшего в коридоре у окна. — Ну с чего ты так раскисла?
Но Анюта ответила утомленно:
— Вовсе я не дура. Если хотите знать, может, это был бы мой самый мудрый поступок в жизни — уцепиться вот за такого славного человека, народить, пока не окончательно поздно, кучу детей и жить не лукавя, не заигрывая с наукой, в которой, вы это сами отлично знаете, я все равно не скажу своего оригинального слова…
— Кто знает, кто знает… — бормотала Маргарита Ивановна. — Даю голову на отсечение, что через три дня твое безумие пройдет…
— Тем хуже.
Больше они не говорили об этом, как будто напрочь забыли выходку Анюты. И Виктор забыл. И сама Анюта забыла. Все молчали. Только когда уже замелькали за окнами московские дома вперемежку с какими-то виадуками, старыми сараями и зелеными, вымытыми недавним дождем деревьями, а радио грянуло во весь голос бодрую песню, Маргарита Ивановна сказала Виктору:
— А все-таки если вы не захотите вернуться на прежнюю работу, де поладите с ними, то имейте в виду… в нашем институте весьма и весьма солидная кафедра физкультуры. Мое слово в нашем институте как-никак имеет вес.
— Спасибо, — вежливо, но холодно поблагодарил Виктор. — Но думаю, не придется… Все-таки кое-какой авторитет я нажил… с голоду не пропаду…
Надо же — он захотел навестить Тоню. Кое-что о ней он знал. Удивился в свое время и порадовался, что она тоже работает в детской теннисной школе. Все хотел написать письмо, поделиться тем, до чего дошел сам, узнать, как у них в столице. Да так и не собрался. И писать он не умел, и боялся, что муж будет недоволен, спросит, с какой стати чужой парень пишет письма. Все-таки, когда он был у них, муж не очень-то ему обрадовался.
Все совпало. Опять он пришел днем и застал Тоню за стиркой. На этот раз она стирала дома.
Тоня жизнерадостно захохотала: как же он так точно подгадал, может, в замочную скважину подглядел, чем она тут занимается?
— Это замечательно, это чудно, что ты пришел, Виктор…
Он уже не сказал Тоне, какие у нее белые зубы. Хотя зубы были еще белые. Тоня раздалась в плечах, в груди, в бедрах. И походка чуть-чуть отяжелела. А раньше всегда казалось, что она не идет, а летит.
— Ну, милый мой, — Тоня перехватила его взгляд, — у меня ведь большие дети.
Виктор и детей увидел, девочка даже вспомнила его, но делала вид, что занята уроками, а мальчик, симпатичный толстячок, радостно уцепился за его руку и раскачивался, смотрел в глаза. Потом и девочка размякла.
— Вы, липучки, — сказала Тоня, — оставьте гостя в покое.
И снова, как тогда, Тоня хотела накормить его и забывала, об этом, увлеченная разговором. Ей нужно было отвести душу. Она уходила с тренерской работы, подыскала место в комитете по спорту. Почему бросает школу? Удобнее с транспортом, часы работы подходящие, условия лучше. Ведь ей не с кем оставлять детей, бабушка окончательно забастовала.
— Ты помнишь, как мама таскалась за мной на стадион, вот так, бедняжка, пасет теперь Иру. Левка, правда, в детском саду, но то карантин, то сам болеет… Я устала рваться на части…
Все шло как по заранее написанному сценарию. Явился муж. Да, та же история: был в министерстве и завернул домой пообедать. И точно так, как тогда, пожаловался на машину.
— Это у вас та самая машина?
— Нет, у нас «Жигули».
Тонин муж тоже чуть потускнел, волосы были не такие золотые, не такие пышные, поредели. И прежней любви Виктор не замечал: муж не гладил Тонину руку, не касался плеча. Чуть раздраженно торопил с обедом. Но Виктором заинтересовался больше, чем в прошлый раз. Гость уже не чувствовал себя третьим лишним. Наоборот, видно, настала пора, когда чужой человек как-то обогащает, приправляет беседу, как приправляют еду перцем или луком. Все, о чем можно говорить вдвоем, уже переговорено.
— Ты нашла мешки? — спросил муж у Тони.
— Ой, я не успела…
— А что ты успеваешь? — И объяснил Виктору: — Завтра выходной, хочу съездить подальше от города, купить на зиму картошки. Вы не представляете, сколько дети лопают картошки…
Чуть облинял лак на мебели, повытерся паркет, на обоях были следы от карандаша — видимо, изрисовал мальчишка, — но Виктор наслаждался всем этим: семья, дети, дом. Вот что, оказывается, главное в жизни.
Как и в прошлый раз, Тоня пошла его провожать в переднюю, вышла на площадку. Она опять хвалила свою новую работу, но в глазах стояли слезы и растерянность. Она ждала от Виктора одобрения.
Он похлопал Тоню по плечу.
— Ты правильно решила, старушка.
— Ну, а ты как живешь?
Виктор не ответил на вопрос.
— Я очень странную женщину встретил в поезде, — неожиданно, не к месту, сказал он. — Такая чудачка…
— Ну и что? — живо заинтересовалась Тоня.
— Ничего, просто так отчего-то вспомнил… Сколько жизней, столько и правд.
Но сам вовсе не был в этом уверен. Знал, что для себя у него только одна правда. Что ж делать, если удача все мимо… На всякий случай почти машинально спросил:
— Ничего не слыхала про Шуру?.. Вот ведь какой я, оказывается, глупец, еще на что-то надеюсь.
— А говорят, что любовь проходит, что это неизбежно… — Тоня долго смотрела на Виктора, потом встряхнула головой. — Ты совсем в Москву?
— Нет, я на одни сутки…
— Но когда-нибудь ты поживешь подольше? Я бы собрала старую компанию, сделала бы шашлык, у нас электрическая шашлычница. Будет это?
Он засмеялся.
— Возможно. Не все же мне проезжать транзитом. Может, когда-нибудь и поживу…
ОСЕННИМ ДНЕМ В ПАРКЕ Рассказ
Боже мой, знать бы, почему мне так трудно начать этот рассказ. Мучаюсь и мучаюсь, а все никак не зазвучит, как нота, как музыкальный звук, первое верное слово, — ведь только тогда, как правило, становится немного легче.
А казалось бы, все просто, нужно только изложить, как протекали события: где, что, почему… Мол, это было под Ленинградом, в Павловске, куда я попала случайно. В Павловске жила моя тетка, сестра отца, погибшего еще в первую мировую войну, очень старая женщина, которая обижалась на то, что я не приезжаю. Встреча с ней меня мало интересовала: самая младшая в многодетной семье, она не могла помнить моего папу. Мама была далека от родственников отца: когда она осталась со мной и с братом на руках, без мужа, они ничем ей не помогли. Да и мама давно умерла. И брат умер. А все-таки, попав в Ленинград в командировку, я решила прожить несколько дней у тетки. Конечно, можно бы подробно описать семью тетки, ее немолодых детей, которые были уже бабушками и дедушками и теперь съехались на лето со своими внуками на дачу к прабабушке. Не то чтобы они мне были несимпатичны, эти люди, — нет. Но было что-то фальшивое в том, что я живу у них не по праву дружбы, или давнего знакомства, или взаимной симпатии, а только потому, что родственница. Чувствовала я себя неловко и бо́льшую часть времени проводила в парке, что никого, думаю, не огорчало и даже не удивляло: красоты Павловского парка стоят того, чтобы проводить на его аллеях целые дни…
…Нет, конечно, правильно подметил Чехов, что начало — первую страницу — почти всегда приходится вычеркивать. Она сродни усилию, попытке раскачать тяжелые вагоны, какую делает поезд, прежде чем перейти на равномерное движение. Или автомобиль. Даже человек часто говорит: «Ну, я пошел», — а стоит на месте. Даже самолет должен разбежаться, прежде чем взлететь…
И правда, какое имеет значение, как и почему я попала под Ленинград?
Когда я вспоминаю тот давний яркий осенний день в парке, то раньше всего вижу, как низко свешивается над скамьей, покачивается у моего виска гибкая ветка, чуть шелестя глянцевитыми красноватыми листьями. Это редкое, диковинное дерево прекрасно, как и весь прохладный сверкающий день с его синим небом, как удивительный парк. Мне все нравилось. И утро, и гравий под ногами, и широкая, с выгнутой спинкой, с чугунными завитками скамья, и немолодая женщина, что сидела на другом краю и читала книгу. Она была в ситцевом сарафане и вязаной кофточке, наброшенной на плечи, в платочке, стянутом на затылке. Обыкновенная, интеллигентная, скромная женщина. Я уже немного знала, ее, раза два или три мы тут сидели со своими книгами — на той же скамейке, под тем же похожим на иву деревом с мелкими, острыми, дрожащими листочками. Изредка мы перебрасывались словом, улыбались друг другу.
Да, мне эта женщина нравилась.
Нравилось ее немолодое, усталое лицо, чем-то напоминавшее портрет драматической артистки Добржанской: чуть тяжеловатый подбородок, чуть заметные усики и что-то значительное, милое, доброе в выражении глаз. Кое-что я даже знала про нее: бывший экономист, лето проводит здесь, на даче, в комнатке под чердаком. Когда продавала отцовский дом, выговорила себе право жить летом в мансарде. «Оттуда такой удивительный вид на окрестности». И живет все лето одна, — так любит поселок, где прошли ее детство и молодость, так любит этот парк. «Всю зиму жду встречи, знакома с каждым деревом, как с человеком». Иногда приезжает в отпуск брат из Ярославля. Но он ярый шахматист и все дни проводит в павильоне для игр, сидит там, согнувшись в три погибели, над доской с фигурами. А если остается дома, то штудирует шахматную литературу. Иногда будит ее ночью: «Ты только взгляни, какой изящный ход…» «И я сквозь сон слушаю, что слон такой-то пошел на эф-семь, а ладья оказалась под угрозой, или наоборот, я в этом не разбираюсь…» Обычно, рассказав что-нибудь или спросив, она тут же погружалась в чтение. Я часто наблюдала за ней: она бывала всецело поглощена, переживала то, что читала, вздыхала, улыбалась, иногда даже закрывала глаза и сидела не шевелясь, думала…
Но сегодня что-то ее тревожило. Довольно часто она поднимала глаза, взглядывала в сторону летнего театра, здание которого, щедро позолоченное солнцем, было совсем рядом, проверяла, не открылась ли касса, потом снова читала.
Видимо, сегодня она, как и я, пришла за билетами.
Были объявлены гастроли эстрады, к которой я совершенно равнодушна. Но я подумала, что если приглашу на концерт многочисленное семейство тетки, то хоть как-то отблагодарю за гостеприимство. Мне было совершенно все равно, где убить утренние часы, но почему спозаранок пришла моя соседка по скамье? Рядом с ней на чугунном завитке спинки висела хозяйственная сумка, слегка покачиваемая ветерком, а в сумке блестела пустая стеклянная банка, на которой тоже, пробиваясь сквозь листву, играло солнце. Видимо, потом пойдет за покупками…
То ли я задумалась, то ли задремала под монотонный шелест веток, но вдруг услышала громкие голоса.
Около входа в театр стояла машина, а от машины, легко неся свое плотное, большое тело, шел к моей соседке щеголевато одетый мужчина в шуршащем плаще, с открытой головой, но в теплом, пуховом, очень красивом шарфе на шее. Она вскочила, и, хотя стояла на месте, было ощущение, что она летит, мчится ему навстречу.
— Орест… Орик, милый…
Я мучительно вспоминала, кто этот Орик, где я могла его видеть, откуда знать. Он шел торопливо, но плавно, крупный, величественный. Видимо, он тоже взволновался, снял и протер свои огромные черные очки. И когда снял их, то лицо его показалось мне еще более знакомым.
— Я узнала про Зоин концерт и чуть свет пришла за билетом…
— Зоя имеет огромный успех… — Орест оглянулся по сторонам и сказал, как по секрету: — Я так боялся приезжать сюда, Женя, я боялся воспоминаний… — И он вдруг заплакал. По щекам его покатились крупные слезы.
— Орик, милый Орик… — бормотала Женя. — Слезами не поможешь… Жизнь есть жизнь…
Меня почему-то сердил этот человек, я подумала, что слезы льются у него легко, почти потоком, как у клоуна в цирке. Резиновый баллончик они нажимают, что ли…
— Спасибо, Орик, за альбом, за то, что ты прислал мне Лелин портрет…
— Не благодари. Разве я мог забыть, как ты относилась к покойной Леле?
Они перебросились несколькими фразами, мало мне понятными, потом толстый мужчина, которого моя соседка звала то Орестом, то, ласково, Ориком, заторопился. Попросил на ходу:
— Ты подожди меня здесь.
— Да, да, я подожду. Нам нужно, нам очень нужно поговорить…
Женя посмотрела, как Орик удаляется, беспомощно оглянулась, как бы ища кого-то, и сказала мне, потому что я оказалась рядом, потому что она уже привыкла ко мне за наши часы совместного чтения и ожидания на скамейке:
— Как он постарел, бедный… Хотя… хотя еще вполне интересный, видный мужчина…
— Откуда-то я его знаю, — неуверенно произнесла я.
— Это муж моей покойной подруги. Леля была удивительная женщина. Это такая утрата…
— А Зоя кто?
— Зоя — его вторая жена. Я и Зою знаю. Ничего, довольно славная…
Она как будто устала, обессилела, снова села на скамью. Но книгу захлопнула, читать не стала.
— Все-таки он немного похож на бабу, этот Орест…
— Может быть, — согласилась Женя. — В натуре Ореста есть много женского, вы правильно подметили, но он все-таки очень хороший, добрый человек…
И тут я вспомнила:
— Леля была художницей?
— Да, известной, даже знаменитой…
…Несколько лет назад мне сильно повезло. Я только начинала работать на телевидении, и меня послали в командировку, на съезд художников в Москву. Так счастливо сложились для меня обстоятельства, что из руководства нашего областного комитета по радио и телевидению никого не было на месте, старший редактор отдела болел, и поехала я.
Но я не собираюсь рассказывать о себе. Только хочу объяснить, как попала на такое высокое собрание. Для меня, провинциальной журналистки, это было большим событием.
Во время перерывов я бродила в толпе, вся превратившись в глаза и уши, как говорила когда-то моя мама: смотрела на художников и их гостей — артистов, писателей, композиторов. Иногда, изнемогая от любопытства, спрашивала: «Вы не знаете, кто это? Вон тот, высокий? А это?» Я ходила по Кремлю, по Георгиевскому залу, по Грановитой палате, ошеломленная, ошалевшая.
А в последний день, уже перед закрытием, в конце огромного сверкающего зала, незаметно отгороженного столами от остального пространства, собрались самые видные, самые знаменитые художники, некоторые с женами. Тут же были руководители нашей партии и государства. И когда прозвучали слова, обращенные к участникам съезда, и все, кто был в зале, стали подходить ближе, чтобы лучше слышать, меня вынесло волной вперед. Сама не знаю, как это получилось, но я отказалась почти в первом ряду слушающих, впитывала каждое слово, стараясь запомнить, чтобы потом, вернувшись домой, все пересказать в своей редакции. Я не сразу поняла, что мне мешает. Что-то жаркое, мягкое суетилось передо мной, отталкивало меня, отжимало. Я посмотрела. Как стена, нет, не как стена, а как жарко натопленная печка, торчала передо мной чья-то широкая спина. Это метался рослый мужчина. Стараясь протиснуться вперед, он устремлялся к узкому проходу между столами, по обеим сторонам которого стояли распорядители с нарукавными повязками. А там, но ту сторону, где уже щелкали затворами фотографы и шумели телевизионные аппараты, поощрительно кивала «спине» красивая женщина с широко расставленными серыми глазами, как бы говоря: «Что же ты? Твое место рядом со мной. Иди же…»
— Да, Леля всегда хотела, чтобы Орест был рядом, — подтвердила Женя.
Я возмутилась:
— Но все-таки… Он ведь муж, а не жена…
— Для Лели такие соображения не существовали…
— Но он, ваш Орик, у него-то должно было быть самолюбие…
— Я не люблю судить людей, — сухо отозвалась Женя.
— А я люблю, — непримиримо сказала я в запальчивости, хотя вовсе не так уж любила судить, а тем более осуждать людей. — Он мне навсегда запомнился, ваш Орик, со своей горячей спиной, я чуть не обожглась…
Женя засмеялась:
— Не преувеличивайте.
— И вообще я услышала много плохого, когда стала о нем расспрашивать…
Женя поморщилась:
— Думаете, я не знаю, что вам могли наговорить? Мол, женился по расчету — Леля обеспечена, знаменита, машина, дача, да?
— Ну, примерно так… — недовольно подтвердила я.
— Я и сама поначалу так считала, — сказала Женя.
Потом Женя будет хвататься за голову и терзаться: как же, мол, это так, как она могла позволить себе обсуждать с совершенно незнакомым человеком интимные дела своих друзей? — и тут же успокаивать себя, что личная жизнь Лели, как и ее творчество, давно стала общественным достоянием — вон сколько статей и даже книг о ней написано, исследований, монографий… Правда, теперь ее немного забыли. И, кроме того, бывает же любовь с первого взгляда, почему не может быть дружба? Не обязательно ведь съесть вместе пуд соли, когда вот так просто и естественно возникла у нас симпатия друг к другу.
— Одно только… Ну, я, я знаю Лелю, любила ее, уважала ее талант, — с подозрительностью спрашивала Женя, — но вы, вам-то это зачем? Что, вы так любили ее картины?
Я не знала, что ответить на прямой вопрос. Попробовала извернуться:
— А почему вы спрашиваете в прошедшем времени? Может, я и теперь люблю ее картины.
— Все так переменилось, — с сомнением, задумчиво сказала Женя. — Леля это понимала и сама. И в этом, мне кажется, была ее трагедия…
— Вы уверены, что она понимала?
Женя не стала настаивать:
— Во всяком случае, она тревожилась. Часто говорила о бессмертных, непреходящих ценностях, о том, что не надо служить минуте. А однажды прямо сказала: «Неужели все, что я написала, устареет, пропадет? Неужели все было зря?» И вы знаете, она твердила: «Это счастье, что судьба послала мне Ореста…»
— Не поняла…
— Ну, в том смысле, что Орест не даст о ней забыть.
— Он ведь не может остановить ход истории, ваш Орест.
— Леля верила…
Женя вспомнила, как уже смертельно больная, в последнее лето своей жизни, которое Леля проводила здесь, в старом отцовском доме, она, разглядывая свои наброски, зарисовки, записные книжки, не раз говорила о том, что не хочет умирать, и требовала: «Орик, ты слышишь, я не хочу умирать». А он клялся: «Ты выздоровеешь». И Леля немного успокаивалась — так она ему верила. А потом снова твердила, что, мол, пройдет время и ее все забудут… и рисунки ее пожелтеют в каком-нибудь хранилище. «И все-таки, — решала она, — не держи их у себя, Орик, сдай лучше в музей, хорошо? Одна посмертная выставка, может, и состоится, ты ведь пробьешь, а после уж будь что будет, хотя мне обидно…» Она была очень мужественная, Леля, она все понимала и боролась с болезнью изо всех сил, жаловалась: «Я мало жила, во мне еще много жадности к жизни, только теперь начинаю понимать, как нужно работать…»
— Значит, Орик не всесильный, не помог…
Женя резким жестом остановила меня:
— Если быть справедливым, то и последний год Орик ей подарил. И что бы вам ни говорили разные люди, Орик Лелю любил и принес ей счастье. И я кланяюсь ему в ноги за это…
Женя посмотрела на меня с яростью, но в ярости все равно было что-то доброе, высокое или скорее возвышенное, свидетельствующее о ее глубокой порядочности, желании быть предельно честной и справедливой.
Ну что я, в сущности, знала об Оресте? Случай со «спиной»? Мне он говорил много о характере этого человека, а вот Женя истолковала все по-другому: мол, так хотела Леля. Выходит, Леля была чванлива, она хотела, чтобы портрет Ореста попал на газетную полосу. Так, что ли? Как говорится, любой ценой… Я вспомнила на мгновение то острое чувство отвращения, которое испытала тогда на съезде. Нет, «спину» я простить не могла, тут я не уступила бы даже Жене, которая мне так мила.
Как хозяйка достает из кладовой или холодильника припрятанные запасы, так и я пыталась вспомнить все, что когда-либо слышала об Оресте. Ну да, мне передавали разные сплетни и толки, что он польстился на машину и дачу, но это ведь ерунда, обычные обывательские разговоры. Из слов Жени вырисовывались и другие факты: Орест добр, Орест предан, Орест боготворил жену.
Что же тогда еще?
Да, излияния одного театрального художника, который за большие деньги одевал состоятельных дам, — приезжал, высокий и элегантный, в сопровождении мастериц и придумывал фасоны, набрасывал эскизы костюмов, сыпал комплиментами и шутками, восхищая своих заказчиц. Мне довелось с ним встретиться случайно, в компании, и он с ужасом, говорил о скупости Ореста, о том, что Орест возмущался ценами или «жалким гонораром» художника и не хотел давать машину, утверждая, что с дачи до города можно свободно доехать на электричке. Правда, Леля неизменно брала сторону художника и мастериц, и шофер Толя бывал вынужден развезти всех по домам.
Вся компания возмущалась скаредностью Ореста: «Можно подумать, что это его деньги, а не ее», — и особенно тем, что не давал машину. Только одна женщина наивно спросила: «Может, он жалел не машину, а шофера?» Художник саркастически захохотал: «Не смешите меня!»
Женя выслушала мое сообщение довольно спокойно.
— Такой высокий, худой? — спросила она. — Ужасный человек, хотя на вид симпатичный. Я его знаю, я гостила у Лели в Москве и в их подмосковном доме. Иногда мне казалось, что он смеется над ней, — такие фасоны придумывал. А Леле нравилось. Мол, когда была моложе и стройнее, в кармане не было ни гроша — я ведь помню ее вышитые белые блузки, весь ее «шик»! — а теперь может себе позволить хорошо одеваться. Леля покупала самые броские материи, шляпы. Даже на собрания, в театр она ходила в шляпе, не снимала. Орест боролся против этого как лев, хотя ему нравилось, что Леля богато одета…
— А у самого Ореста хороший вкус? — спросила я.
— Не сказала бы. Он просто старается быть модным.
— Так проще…
— Вы заметили, какой у него красивый шарф? — вдруг вспомнила Женя. — Яркие шарфы и носки — его слабость… — Она помолчала и зачем-то добавила: — Лелин отец был простой приказчик, продавец в лавке. И Леля не раз говорила: «Люди знают многое с детства, от мам, от пап, жили в атмосфере прекрасного, в мире мысли и красоты, культурных традиций, а я… я же интеллигентка в первом поколении…»
— А Орест?
Женя замялась:
— Родственники Ореста южане. Откуда-то с Украины. Южане — народ восприимчивый, во всяком случае, к внешнему, к цивилизации, я бы сказала. Но они были славные люди и буквально преклонялись перед Лелей.
— И перед Орестом…
— Ореста обожали, он был хорошим сыном. Но как только заметил, что шумная родня начала Лелю утомлять, тут же отправил всех обратно на Украину. А вот с Лелиной сестрой Орест как-то не поладил…
Но когда я стала приставать с расспросами, Женя почему-то уклонилась:
— Не сошлись характерами, так я думаю.
И больше ничего не сказала.
Выравнивают дороги, спрямляют русла рек. А казалось бы, зачем реке петлять, зачем вьется тропинка? Ведь кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая? Чего же требовать от разговора, — это уж потом, когда пересказываешь его, то, отбрасывая подробности и отклонения, придаешь ему стройность, потуже натягиваешь нитку, на которую, как бусины, нанизаны те самые подробности, те петли и изгибы, которые хотя и приводят к конечной цели, но удлиняют путь.
Мне хочется выбрать из того, что говорила Женя, главное. Но как это определить? Как узнать, что такое Орест? И для чего? Для того, чтобы понять, как могла Леля его полюбить — толстого, суетного, неглубокого? Но какая мне разница, кого любила Леля? Зачем мне нужно, чтобы она любила человека достойного? Достойного ее таланта, так? А что же такое талант? Или любовь? Тут можно совсем запутаться…
Вот каким запомнился мне рассказ Жени, когда, взволнованная, чуть растерянная, она сидела рядом со мной на скамейке в парке и то прижимала руки к груди, то комкала платок, то смотрела, как сквозь туман, на аллею с мраморными скульптурными группами — туда, куда ушел Орест.
Итак, они дружили с детства. Собственно говоря, дружили Леля и старшая сестра, Женя в их общество допускалась только потому, что не мешала, старшие девочки ее просто не замечали. Когда Женина сестра, сверстница Лели, вышла замуж и уехала на Урал, Женя как бы заняла ее место. С годами разница в возрасте сгладилась. Да и встречались не часто. Разве что летом или во время зимних каникул, а когда у той и другой умерли родители, и того реже. Но когда Леля стала признанной художницей, то начала приезжать чаще. Она утверждала, что нигде так не работается, как здесь, в старых родных стенах, в этом прекрасном парке.
— Леля всегда требовала, чтобы и я приезжала из города, и я с охотой делала это, если позволяли обстоятельства. Во время отпуска жила целый месяц, а летом готова была ездить хоть каждый вечер после работы. С Лелей мне всегда было интересно…
Помню, как Леля начинала работать, как сомневалась в себе… Она была сильная, волевая, но, может быть, никто, кроме меня, не видел ее плачущей, не знал, как она мечется. Правда, позже она это отрицала. Ну что ж. Свойство талантливого человека — отрицать свои слабости, не правда ли?
Женя подняла на меня большие глаза.
— Вероятно, но… — Все-таки я была уверена, что правда есть правда. Но Женя считала по-другому. Она была удивительно проницательна, чуяла то, что вы еще не произнесли вслух.
— Творческих людей нельзя судить по законам арифметики, — сказала она строго. — Здесь нужна алгебра.
Она скупо рассказала, как несчастлива была Леля в первом браке, — хоть Виталий был красивый, даже слишком красивый для мужчины, но упрямый, самолюбивый, чуть-чуть ограниченный.
— Может, это и не ограниченность, а сосредоточенность, — тут же поправилась Женя, боясь быть несправедливой. — Леля его очень любила. Но… — она как-то беспомощно развела руками, — между ними всегда шла борьба — кто талантливее, кто умнее, кто больше в жизни успел. Но какой же мог быть вопрос, когда Леля была и талантливее, и умнее. И шире…
— Как вы ей преданы…
— Я уважала ее талант, — твердо сказала Женя.
— Мне почему-то кажется, она была тщеславна…
Женя пожала плечами.
— Это ведь мелочь по сравнению с главным. — Она задумалась. — Моя сестра хорошо рисовала, они вместе с Лелей ходили в художественный кружок, и моя сестра даже считалась более способной… Позже она возненавидела Лелю. Сестра считала, что Леля пройдет по трупам, но добьется успеха. Я с ней не согласна. Талант сам по себе имеет право на многое, но, кроме таланта, надо иметь характер, вот что важно. У Лели характер был…
— Как вы ей все-таки преданы, — снова сказала я.
— Почему ей? — удивилась Женя. — Не ей, а ее работе. Разве талант не превыше всего?
— Но Виталий так не думал?
— Нет. Они расходились мучительно, грубо, со скандалами, чуть ли не с драками, с яростью. Любили друг друга, но не понимали, не уступали ни в чем… Это было ужасно. Потом Леля — она была потверже духом — уложила чемодан и уехала. Виталий бушевал без нее, пил… Потом тоже уехал… А вскоре Леля выставила свою первую картину «Колхозная свадьба» и имела большой успех…
— Да. Она взошла ярко, я бы сказала — как звезда, будь это не так старомодно.
— А какая разница — старомодно, модно, — я не понимаю. Было бы верно… Я думаю, что судить надо по результатам. Мало ли кто считался способным… Не намерения, а дела — вот что решает…
— Тут нет единого закона, — все-таки сказала я. — Но, конечно, побеждает тот, кто призвание, работу ставит выше, чем любовь к ближним.
— Но разве ближний не часть человечества? Помните эпиграф у Хемингуэя?
— А все-таки… Вы не будете сердиться? Мне кажется, что суетность у вашей Лели была…
Я замерла от страха, испугавшись, что Женя обидится и замолчит, может, даже встанет и уйдет. Но, к моему удивлению, она спокойно согласилась:
— И суетность, и мелочность, но опять-таки какое это имеет значение?
— Да никакого, пожалуй… — Я все боялась, что разговор оборвется, что откроют кассу и Женя уйдет или вернется Орест. И поспешно спросила: — Она сразу вышла за Ореста?
— Ну что вы! Прошло несколько лет… Мы ведь не часто виделись. Леля стала довольно знаменитой, потом очень знаменитой. Ездила за границу. Уезжала на этюды, на большие строительства, «на материал», как она это называла. Но несколько раз в году заглядывала сюда, в отцовский домик, и тут же вспоминала обо мне, хотя и в Москве, я вам уже говорила, я у нее бывала… У меня ведь тоже шла своя, пусть скромная, не такая яркая, как у Лели, но своя жизнь. Я работаю в музее… Нет, Орест появился много позднее. Они познакомились в Москве, хотя их решающее свидание произошло здесь…
Все-таки удивительно милое лицо было у Жени. Не то чтобы красивое, но вы все время видели, как на нем отражались вспышки чувств и мыслей, скрытая душевная работа. Я глаз не отрывала от ее лица…
— Я уже знала про Ореста и от Лели, и от других. Как вы говорите, одно плохое. И вдруг он явился сюда. Леля сказала мне, что вечером он у нее будет, и велела прийти. Мы даже пирожки испекли с какими-то ягодами, не помню, с какими. Когда он вошел, громкий, вальяжный, немножко вульгарный, я сразу захотела уйти. Но Леля не разрешила. Правда, я с ними была мало — то хлопотала на кухне, то сидела у телевизора. Участия в разговоре не принимала. Да он на меня и не обращал внимания, Орест. Кто я была для него? Соседка по даче… Он меня и не заметил в тот раз. Леля тоже говорила мало, слушала. А он пел, то есть не романсы пел, а упивался звуком собственного голоса. Правда, то, что он рассказывал, было довольно интересно. Леля спросила потом: «Ну как?» Я откровенно сказала, что думаю: «Нет, нет и нет. Не зря говорят, что он зарится на твое имя, на деньги, на…» Леля подсказала: «На дачу? Но на эту отцовскую развалюху, положим, никто не позарится. Вот если действительно получу дачу под Москвой…»
Я знала, что Леле обещают дачу под Москвой, и очень горевала, боялась, что она больше не будет приезжать к нам, хотя понимала: домик разваливается, крыша течет и вообще он мал и неудобен. Но Леля любила поселок, наш знаменитый парк и утверждала, что никогда и ни за что не бросит родное гнездо.
Я как-то глупо сказала:
«Ты ведь была счастлива здесь… — и пояснила: — с Виталием…»
Леля ответила не сразу:
«Мы встретились с Виталием слишком рано. Нам надо было встретиться позднее, когда все стало на свои места…»
Иными словами, Леля хотела сказать, что теперь, когда она знаменита, когда добилась признания и славы, их жизнь шла бы по-другому.
После визита Ореста мы посмеялись, обсудили с шуточками его поведение за столом, его манеры и самовлюбленность, желание произвести на Лелю впечатление своими связями и знакомствами.
«Но он не бездарный и не глупый», — все-таки сказала Леля.
Я успокоилась.
А через несколько дней она вдруг заявила:
«Все-таки мне надо выйти замуж».
«Но не за Ореста?» — вырвалось у меня.
«А за кого же?»
«Ну…» — Я назвала наугад несколько имен.
«Нет, — решительно покачала головой Леля, — все эти люди творческие личности… Я им не гожусь в жены, но и они мне не подходят».
«А Орест? Он-то тебе зачем?»
«Орест по крайней мере будет заниматься моими делами. Для счастья в семье вовсе не нужно, чтобы муж хватал звезды с неба».
Леля засмеялась, но не так жизнерадостно, как умела смеяться.
«Ты будешь их хватать сама, не так ли?»
«Муж и жена должны быть нужны друг другу — вот что главное… Орест будет уважать мою работу…»
«И твой успех».
«А как же… Но ты не думай, — сказала вдруг Леля, — в нем много такого, чего нет у меня. Он очень сентиментален. Чувствителен».
«Он? — Я была озадачена. И только взмолилась: — Не торопись… Подумай еще…»
Но Леля вышла за Ореста. И они стали приезжать вместе. Орест был довольно любезен со мной, хотя не нравился мне по-прежнему. А я… — Женя доверительно тронула меня за руку. — Я тогда была в переживаниях, в личном горе. В общем, был такой человек… — Она замялась, потом тряхнула головой, как сделала бы это молоденькая девочка. Почему-то все время, вглядываясь в Женю, я видела, каким милым, сердечным, нетерпеливым, полным ожидания подростком она была. Да и теперь такая же — честная, открытая, бескомпромиссная. — У меня был друг, очень занятой и задерганный человек, с которым мы уже много лет канителились, не умея ни разойтись, ни пожениться, потому что он был женат. Так вот, он очень невзлюбил Ореста… Я-то хоть старалась быть справедливой, а он, этот мой друг, вежливостью себя не утруждал…
Раньше всего Орест восстановил забор между нашими участками. Заборчик при наших отцах, конечно, существовал, но потом сгнил, повалился, а ни Леля, ни я не хотели тратиться на ремонт; и, в сущности, нам было так даже удобнее. Оресту это не понравилось. Мне было неприятно, что он стал строить забор, неприятно скорее символически: между мной и Лелей как бы возникает преграда… Но Леля вышла к плотникам, посмотрела, как они обтесывают бревна, полюбовалась стружкой и велела сделать калиточку. Орест ничуть не смутился.
«Леля хочет разбить цветник. И я боялся, что ваши куры…»
«Но я не держу кур…»
«Тем лучше. — Ореста нелегко было сбить. — Куры, петухи — это грязь, шум, а Леля плохо спит…»
«Может, нам радио не включать?» — ехидно спросил мой друг, хотя терпеть не мог радио.
«Нет, почему же, — разрешил Орест величественно, не замечая иронии. — Почему же, если не очень громко…»
Мой друг подчеркнуто низко поклонился. Но это не дошло до Ореста.
Может, вам смешно, что я так подробно рассказываю о заборе, но он многое определил в наших отношениях — я, Леля, Орест, Владимир Иванович.
Орест распорядился покрыть забор со своей стороны красивой зеленой краской, с нашей же резали глаза некрашеные доски.
Не сразу, но Леля заметила это:
«Ну и жмот ты, Орест…»
Оба захохотали, как будто то, что Орест жмот, было очень смешно.
«Мне удалось достать совсем немного краски. Была другая, но ужасный оттенок…»
«Пустяки. Мы сами покрасим, при чем здесь вы?» — бодро сказала я.
Но это были вовсе не пустяки. Мы ведь жили трудно, только на мое жалованье, свое Владимир Иванович отдавал семье. И все-таки я купила краски и сама покрасила наш забор. Нет, я не скажу, что Орест был так скуп. Он просто не давал себе труда думать о других. Иногда он бывал даже заботливым. Привозил какие-нибудь диковинные консервы и орал через забор: «Женя, танцуйте, я купил на вашу долю две банки! Хотите?» Это было очень мило с его стороны, не правда ли?
У Ореста была трогательная манера считать все наше своим. «Мы взяли вашу лопату. Она так хорошо заточена». Или: «Не отдадите ли вы нам старинное круглое зеркало для Лелиной спальни? Видели наши новые занавески, правда, гениально?» Он приходил, смотрел на наши вещи как оценщик, а у нас было еще много маминых вещей. «Какие у вас симпатичные ситцевые чашки. Леленька, может, махнемся с Женей или купим такие же? Вам ведь не будет неприятно? У нас с вами бывают совершенно разные люди, из разных кругов». Мне было в общем безразлично. Из-за двусмысленного семейного положения в нашем доме вообще почти никто не бывал, но Владимир Иванович взвивался: «Он нас ни во что не ставит, как будто мы мухи, насекомые, а не люди…» Конечно, он был эгоистом, Орест, но все-таки добродушным. Как бывают эгоистами дети. Появлялся у забора, смотрел, скажем, на нашу новую клумбу или дорожку, выложенную кирпичом: «О, очень мило! По заграничному журналу, да? Пожалуй, мы тоже так сделаем». Или командовал тоном, не допускающим возражений: «Женя, разделите нам пионы. Леля мне не доверяет…»
У Лели тогда как раз возникла любовь к цветам, к саду. Раньше она была совершенно к этому равнодушна. И к убранству дома, к устройству тоже равнодушна. Теперь она любовалась Орестом, ездила с ним по магазинам. Только посмеивалась иногда, когда мы оставались одни:
«Мой толстый голубь вьет гнездо…»
А все-таки ей было приятно.
Так вот, Владимир Иванович говорил про Ореста, пожимая плечами:
«Великолепный экземпляр бесстыдника. Ну и что, неужели ты станешь делить им пионы?»
«А как же, — краснела я. — Ведь они их погубят. Пионы капризные…»
«Тебе-то что?»
«Леля любит пионы…»
«Пусть…»
«А я люблю Лелю…»
«Прелестно. Леля любит цветы, Леля любит своего Орика… А Орик что любит? Лелины денежки?»
Тогда я начинала не очень уверенно заступаться за Ореста:
«А за что я люблю тебя? Разве любят за что-нибудь? Ты издергал меня, изломал мою жизнь…»
Кончалось тем, что мы ссорились, и Владимир Иванович, не отличавшийся сдержанностью, кричал, что он не обещал мне гладенькой, ровненькой жизни, не брался служить мне так ревностно, как служит Орест своей знаменитой жене.
Его как будто осеняло:
«Ты посмотри, как он ходит. Как петух, как индюк, как я не знаю кто… Он весь лоснится от самодовольства… Это профессиональный муж, понимаешь? В этом смысл его существования, ведущая идея… Его гордость, если на то пошло».
«Неправда, он любит и ценит Лелин талант, ее творчество… Он помогает ей жить…»
И я сказала потом Владимиру Ивановичу:
«О да, ты прекрасный человек и в поэзии знаешь толк, ты предельно честен и добросовестен. Но почему ты никому не принес счастья, почему всем нам так плохо — и мне, и твоей жене, и твоим детям?..»
Женя виновато улыбнулась, как бы извиняясь, что стала рассказывать о себе. Она ничего не умела скрыть, а может, и не хотела — гордая, храбрая Женя.
Я спросила у нее!
— А почему Орест не предложил вам жить в их пустом доме? Зачем же вам снимать мансарду?
— Думаю, что не догадался. Просто не пришло в голову…
— Ему в голову приходит только то, — сказала я, торжествуя, — что полезно или нужно самому.
— Неправда, вот уж неправда! — закричала Женя. — Он много раз предлагал мне деньги…
— И вы брали?
— Нет, — кротко ответила Женя, — я не хотела брать деньги. Зачем? Я не хотела примешивать к нашим отношениям что-нибудь материальное…
— Вот видите. — И осеклась. Ну что я лезу в чужую душу? Только сказала: — И все-таки я не понимаю, хоть убейте, как Леля вышла за такого человека, как Орест, и, как вы говорите, даже полюбила его…
— …В Оресте были доброта и преданность, которых Леле так не хватало всю жизнь. Это не любовь-поединок, не любовь-подчинение, которой она бы не стерпела, как терпела я. Женственная натура Ореста нужна была Леле как воздух, как тепло, как солнце, а сам Орест — парадоксально, да? — становился при Леле больше мужчиной. Учился у нее тому, чем не владел сам, или, вернее, владел, но в малой степени. Широте ее взглядов, размаху души, если можно так выразиться. Орест, что ни говори, был артистичен, восприимчив…
— Но расчет все-таки был?
— Нет, — запротестовала Женя, — не расчет. Только не расчет. Он много зарабатывал сам, писал сценарии для научно-популярного кино. И очень ловко. Но душа его жаждала художественного творчества. И он любил Лелю.
— А будь она не знаменита?
— Ну, не знаю. Не уверена. Но он ее любил. Он был активно добрым, возил к ней докторов, доставал из-под земли лекарства, смешил ее. Я встретила Ореста осенью, в сырое, туманное утро — он бежал на рынок за цветами. «Когда Леля проснется и увидит в пасмурную погоду яркие цветы, ей будет не так тоскливо». Нет, мой Владимир Иванович был на такое неспособен…
Тут даже я дрогнула.
— Может, и правда любил? Вот была известная французская певица Пиаф, Эдит Пиаф, немолодая уже, некрасивая. А муж-мальчик любил ее за одаренность. Молодых смазливых девчонок, в сущности, много…
— Мне не везло в любви, — сказала Женя просто. — Никаких таких особенных чувств я ни у кого не вызывала. Леля считала, что я не умею за себя постоять. Но, — она развела руками, — я считаю, какая же это любовь, если за нее нужно бороться…
Мне стало совестно, что я заставляю уже немолодую женщину так раскрываться, «выкладываться». Я спросила:
— А Леля была верным другом, она умела дружить?
— Смотря как понимать, что такое дружба. Сестра считала, что Леля меня бесцеремонно эксплуатирует, ну, чисто в бытовом плане. Сестра посмеивалась всегда, что Леля мне редко подарки привозит. Но я так не считала. Разве дружба в этом? Леля давала мне возможность подниматься до себя, до своих интересов…
И только тут, спохватившись, что время уходит и что Орест действительно с минуты на минуту может появиться, я стала спрашивать о главном. Женя раньше упомянула о трагедии Лели: как она это понимает? Леля писала спекулятивно? Лакировала действительность? Я не представляла, как теперь, в наши дни, можно волноваться у Лелиных картин, хотя сама когда-то — не так уж давно — очень увлекалась ее произведениями. Считала их оптимистичными, масштабными. Я сказала:
— Мы так выросли за эти годы. Многое из того, что нравилось, теперь кажется фальшью…
Женя согласно кивнула головой. Я хотела понять:
— Она что, хотела дешевого успеха? Боялась правды?
— Правда не всегда бывает красивой…
— А по-вашему, надо рисовать красиво? — допытывалась я.
— Не то чтобы красиво, — ответила Женя, — и не то чтобы возвышенно… — Она подыскивала слово. — Но писать надо высоко, вот именно — высоко. Некрасивую правду я и сама вижу каждый день. А у Лели был размах…
— Но я все-таки за правду. Хотя не отрицаю, что размах в картинах Лели был…
Ах, эти волшебные краски, неистовость, праздничность! Эти веселые сюжеты, чуть-чуть слащавые… Я уже ломала голову над ними когда-то, то восхищаясь, то ужасаясь. Как они были неожиданно нарядны, ее сюжеты, смелы, невозможны в реальной жизни! Тогда и возник мой интерес к личности Лели. Может, я пристаю теперь к Жене с расспросами только лишь по старой памяти, по инерции сохраняя жгучий интерес, ища ответы на свои давние сомнения. Дело ведь, в сущности, не в Орике, а в Леле.
Я сказала это Жене, стараясь, чтобы она поняла, чем объясняется мое любопытство, настойчивость, даже бестактность.
Она мотнула головой.
— Я понимаю, иначе бы и разговаривать откровенно не стала…
— Надо ведь не просто изображать правду, надо уметь видеть правду.
— Леля любила успех, но она не притворялась, нет. Мы иногда спорили. Леля говорила так: «У меня бешеная интуиция. — И раздувала ноздри. — Если бы я была геологом, я чуяла бы ископаемые, нюхом». Такое чутье у нее было и на общественные явления. Ее очень ценили. Она умела угадать…
— И угодить, — уже дерзко сказала я.
— Она не угождала, — с болью сказала Женя. — Это получалось само собой. Я иногда говорила: «Леля, мне кажется, рисовать надо только свое, выстраданное, только свое выживет и пройдет проверку временем». А она смеялась. Даже не раздражалась, а смеялась надо мной… Леля не любила несчастных, слабых людей. Сама была сильная и изображать хотела сильное, яркое, героическое…
— Как это не вяжется с ее собственным образом жизни, с характером Орика…
Женя вздохнула:
— Все-таки с Ориком она была счастливее, чем одна.
— Кто знает…
— Я знаю, — твердо сказала Женя. — Я-то знаю… Леля часто дарила мне свои наброски, этюды. А иногда я сама подбирала клочки, которые она бросала. Есть такие зарисовки, такие интересные куски, совсем не те, что попадали на полотно. Но потом Орест все у меня забрал…
Я даже закричала:
— Зачем же вы отдали?
— Ну, как зачем? У него порядок — папки, шкафы. И все-таки больше прав, чем у меня.
— Но подарено было вам?
Она развела руками. И сказала задумчиво:
— Судить всегда легко. А если ты жил и верил, что живешь правильно… и писал честно то, что думал, что казалось тебе нужным и полезным людям…
— У нее был неплохой советчик, у Лели: кто-кто, а Орест знал, что кому полезно, какие эскизы надо использовать, а какие отбросить…
Женя ничего не ответила. Задумалась. Потом сказала тихо:
— Я все простила Оресту, когда увидела его у могилы Лели. Он стоял, засунув руки в карманы плаща, растрепанный, толстый, с обиженным выражением лица, какое бывает у толстых мальчиков, и плакал. А ветер все сильнее трепал его волосы. Он пришел без цветов, в то время как ему, если бы он играл роль неутешного вдовца, полагалось держать или огромную охапку, или хотя бы одну-единственную белую розу. А он просто стоял на ветру, несчастный, и рыдал… Вот тогда я по-настоящему примирилась с ним.
Потом я помогала ему разбирать Лелино хозяйство, и мы нашли дневник. Каждая страница этого дневника была полна любви к Оресту. Он был добрый человек. Просто добрый. И, я вам уже говорила, я готова поклониться ему за это до земли. За то, что он вызвал меня на похороны, — ведь мог забыть обо мне. И потом я у него бывала. В квартире по-прежнему висели Лелины картины, Лелины портреты, все оставалось на своих местах. Он так следил, чтобы все сохранялось в порядке. Леля была права. Он действительно устроил ее посмертную выставку, выпустил сборник воспоминаний…
— А Зоя?
— Что Зоя? Те, кто предсказывал, что он тут же женится на хорошенькой, едва только Леля умрет, ошиблись. Он женился не скоро. На девушке, которую Леля знала, которой покровительствовала. И Орест по-прежнему ходит на кладбище и ухаживает за могилой. А в доме, как и раньше, Лелин культ. Орест долго был безутешен. Только когда у Зои прорезался голос, талант, Орест ожил и повеселел. Стал хлопотать, ухаживать, устраивать ей выступления и концерты…
В это время в конце аллеи показался Орест. Женя встала. Она уже не летела, не рвалась к нему, просто сделала навстречу несколько шагов.
— Орест, — сказала Женя, сразу лее забыв обо мне, — Орест, что будет с домом? Отдай им, раз они так хотят, они ведь тоже родня…
Лицо у Ореста окаменело, он стал похож на римского патриция, как их изображают в учебниках истории.
— Орест, ты должен отдать им дом…
— Это память о Леле, — отрезал он. — Мне там дорога каждая половица. Сколько угодно денег, только не дом. — И сделал жест, из которого можно было понять, что уговоры бесполезны. И даже бестактны.
Женя не стала настаивать.
— Я так хочу послушать Зою, — сказала она.
Орест оживился:
— Зал неплохой, акустика приличная. Я во всем убедился сам. Прощай, Женя. Прощай, верный друг. Как хотелось бы посидеть, поговорить, узнать, как ты и что. Но я тороплюсь. У Зои три выступления, в Ленинграде погода неверная, так легко простудиться… — Он зябко пожал плечами и запахнул на шее пуховый шарф, как будто он должен был петь, а не Зоя.
Когда Орест ушел и Женя, взволнованная и немного огорченная, вернулась, я сделала последнюю попытку:
— Почему Орест не предложил вам контрамарку?
Женя даже не ответила.
Открыли кассу, мы взяли билеты, и Женя вспомнила про свою авоську с банкой, все еще висевшую на спинке скамьи. Солнце ушло, стекло больше не сверкало, почти слилось с тенью, падавшей от дерева.
— Совсем вылетело из головы. Я ведь еще должна купить сметаны к обеду…
Много времени утекло с той поры, как мы сидели с Женей в парке в тот осенний день. Больше мы никогда не виделись, хотя я много раз обещала ей приехать летом. А теперь она что-то перестала отвечать на поздравительные открытки, которые я упрямо посылаю. Боюсь даже думать, почему она молчит. Надоело? Заболела? Стала ко всему равнодушной? Справиться не у кого, связь с домом тетки давно оборвалась.
Время, годы смягчают людей, как морской прибой обкатывает и шлифует камни. Я уже не так безапелляционна, не так уверена в том, что знаю, как надо жить, как поступать, решать. Часто, вместо того чтобы твердо сказать «плохо» или «хорошо», уклончиво отвечаю: «Мне это было интересно». То есть моя категоричность в суждениях уступила место длительному раздумью. Теперь я гораздо больше ценю заботливую дружбу, порядочность, доброту. И вот тут нередко вспоминаю о Жене. Все-таки я многим ей обязана. Она умела относиться к людям справедливо, непредвзято. Я склоняюсь к мысли, что Женя была права: не так уж мало, если человек умеет любить и служить тому, кого любит. Это тоже своего рода талант…
СЛОВА Рассказ
Областное совещание учителей подходило к концу, когда Ольгу Петровну Лапкину позвали к председателю отдела народного образования товарищу Кучеренко. В президиум. С бьющимся сердцем она свернула в трубку тетрадь, куда записывала все интересное, что говорили ораторы, что казалось ей наиболее важным и полезным: примеры из педагогической практики, обобщения, цитаты, теоретические и иностранные термины — все, что она любила когда-то в институте и что со временем, в деревенской школе, стало забываться.
Совещание проводилось в Доме учителя, и чего только не успела передумать Лапкина, пока пробиралась через ярко освещенный, жаркий, битком набитый зал бывшего барского особняка к сцене, где сидел президиум. Может быть, Кучеренко, слышавший ее отчет о работе, заинтересовался их школой? Или она допустила в своем докладе ошибки? Но какие? Ей ведь так громко и долго аплодировали. Нет, скорее Кучеренко ее похвалит. Может, попросит о чем-нибудь. Да мало ли… Но какая-то перемена в ее жизни должна наступить. Обязательно перемена. Она уже, как передатчик на позывные, настроилась на волну счастья. Удачи. И остановилась перед председателем, красная от смущения, волнения, надежд.
Но Кучеренко, пожилому, с очень усталым лицом человеку, видимо, наскучило именно то, что вызвало такой восторг у Лапкиной: он ведь не раз уже слышал все это на многих других совещаниях и инструктивных беседах. И пришел сюда лишь затем, чтобы самим фактом своего присутствия подчеркнуть важность разбираемых вопросов. Мысли его были далеко. Близилась осень, а план заготовки топлива для школ был выполнен только наполовину. Каково-то несытым, плохо обутым детям сидеть на уроках в холодном помещении. Не хватало учебников, школы не были укомплектованы учителями. Это надо же — три пожилые учительницы, в то время как молодые чахли без мужей, вздумали рожать, взяли декретный отпуск. И, как нарочно, все три из самых дальних сел, куда и замену-то не скоро найдешь… Кроме того, ныла плохо зажившая после ранения рука.
Обо всем этом и размышлял Кучеренко, глядя куда-то мимо худенькой женщины с встревоженными серыми глазами на обветренном лице, молча стоявшей около него. И только когда секретарь представил Лапкину, Кучеренко опомнился:
— Ну, так вот, дорогой товарищ Лапкина. Мы к вам направляем одного человека… только что из госпиталя…
Секретарь подсказал:
— Федотова.
— Ага, Федотова. Он поедет к вам проверить, как у вас налажено военное дело. Дня на два, на три. Военному обучению мы придаем серьезное значение. Человек он у нас временный, отдохнет немного, подкрепится и снова уедет. Так что передайте директору, пусть по возможности создаст условия товарищу…
— Федотову, — опять подсказал секретарь.
— Я помню, — недовольно отозвался Кучеренко.
— Но ведь к нам часть дороги надо идти пешком, — торопливо, словно в этом виновата она, сказала Лапкина. — Можно, конечно, доехать на попутной, но это если повезет…
— Военного человека трудностями не напугаешь…
Лапкина подождала немного, но счастливая волна, видно, отхлынула, пошла на спад. Кучеренко молчал. Лапкина сказала упавшим голосом:
— Хорошо, я передам директору.
— И пусть не задерживает сведения, как там у него с топливом. Заготавливает ли дрова? Осень, видите, какая ранняя…
Лапкина кивнула.
— А с жильем у вас как? — потеплев, спросил Кучеренко. — Плохо живете?
Лапкина опять утвердительно кивнула, пожала плечами, как бы извиняясь, что снова вынуждена его огорчить.
— Знаю, знаю, что плохо. Главные наши беды — топливо и жилье для учителей. Бегут от нас люди. Сами-то вы не собираетесь бежать?
— Нет, — сказала Лапкина, — уезжать я не собираюсь…
— Знаем, что плохо с жильем, да нет пока никакой возможности, — не слушая ее, но ласково говорил Кучеренко. — Не обижайтесь. Нету пока жилья. А на нет, как говорится, и суда нет…
— Но я ведь не обижаюсь, я понимаю… — Лапкина еще немного подождала: надеялась, что он скажет ей что-нибудь еще, очень важное, главное — как растить в тяжких послевоенных условиях маленького человека, — дрова и даже ее плохое жилье как-то не вязались с ее приподнятым настроением, с высоким накалом чувств и мыслей. Но Кучеренко опять замолчал.
Немного разочарованная, Лапкина медленно пошла на свое место. Тоненькая струнка возбуждения еще трепетала, вибрировала в ней, еще с удовольствием она вбирала в себя последние впечатления — речь московского профессора о методике преподавания родного языка, свет хрустальных старинных люстр, заключительный концерт местной самодеятельности, оживленный смех, прощание с новыми знакомыми, библиотечку с надписью на бумажном пояске «Участнику совещания учителей», — но уже исподволь подступали будничные практические заботы: да, надо собираться в обратный путь, надевать разношенную обувь, чтобы не так трудно было идти, получить по ордеру мыло и ситец. И еще ей очень хотелось, выстояв любую очередь в буфете, купить колбасы или рыбных консервов, каких-нибудь конфеток, что ли. Ведь обязательно, когда она вернется, набегут учительницы порасспросить, послушать ее рассказы. Но много покупать тоже нельзя: и денег оставалось чуть-чуть, и тяжело нести. А тут вдобавок этот Федотов, как еще они будут добираться…
Лапкина встретилась с Федотовым, как было условлено, возле главного почтамта. Он был высокий, плечистый, лет тридцати пяти на взгляд, может быть сорока. Он показался ей довольно красивым, вернее, очень симпатичным, она даже немного смутилась. О чем говорить в дороге и что этот роскошный подполковник станет делать в их школе? Да еще такая трудная дорога, как нарочно…
Они ехали поездом, тряслись на попутном грузовике, а на ночь пришлось остановиться в полуразрушенной избе на берегу реки.
До войны это был колхозный дом приезжих. Он и теперь именовался так, но был запущен, неприбран, койки и топчаны стояли старые, сено в тюфяках сбилось, наволочки давно не сменялись. Когда они пришли, их встретила морщинистая, беззубая тетка, показала, где спать, спросила, нет ли курева для ее хворого старика, и тут же собралась уходить.
— А ключи кому потом сдавать? — спросил Федотов.
— Да какие там ключи! — удивилась тетка. — Замок-то давно проржавел. Нет, — сказала она, потуже завязывая платок, — к нам, почитай, никто и не заезжает. Уполномоченные если, те прямо к председателю едут, там и ужинают, партийные — те, наоборот, у нашего секретаря ночуют. У нас же ни заварки, ни хлеба. Был титан, так на сев взяли и не вернули. Я уж жалилась председателю, а он смеется: «Подожди, Марковна, скоро все будет. И тебе, говорит, куплю форму с золотым шнурком на вороте, будешь встречать приезжих. Жаль, говорит, ты не мужчина, без бороды. Я до войны еще в Москву ездил, так там в гостинице старик весь в золоте и с бородой…» Так и не отдал титан.
Федотов все-таки укорил:
— Но веник-то могли бы связать, вон у вас лес рядом, береза…
— Веник был, исшаркался… — Сторожиха успокоила Федотова: — Я велю своему мужику, он нарежет. Вот только здоровьем он слабый…
В одной комнате на койке кто-то спал, с головой накрытый потрепанной шинелью, вторая койка пустовала. Через коридорчик была еще одна комнатка. Лапкина прошла туда, села на топчан, прислонилась затылком к прохладной стене. Славно. Федотов что-то говорил ей, она кивала, ничего не понимая; да-да, она дождется чая, который он непременно хотел вскипятить на плите, и тут же, сидя, уснула, как мертвая.
Когда она открыла глаза, уже светало, четко проступало то, на что она и не посмотрела вчера, — облупившиеся стены, оклеенные плакатами, стол, деревянные табуретки. Солнце еще не взошло, все, что было за окнами, — темная кайма дальнего леса, вершины высоких елей на опушке, — сливалось в густую зеленую массу. Но какие-то пушистые ветки, какие-то острые верхушки все-таки выделялись, стояли наособицу, и за ними уже возникал золотой солнечный ореол. Золота, сияния становилось все больше, на березках, что росли недалеко от избы, уже весело сверкала роса, торжественно светились белые, тонкие, почти не замшелые стволы. Береза была любимым деревом Лапкиной. И еще клен, у клена каждый лист как будто сделан художником. Почему-то у них в деревне не было кленов…
Она вдруг неожиданно для самой себя обнаружила, что кто-то подложил ей под голову обернутую в чистое вафельное полотенце подушку, снял с нее башмаки и укрыл ее же собственным стареньким, измявшимся в поезде пальто.
Она носила это пальто, еще когда училась в институте. Чудом каким-то они купили с бабушкой такое славненькое пальто. Она любила его и особенно узенький меховой мягкий воротничок — так приятно было трогать пушистый ворс подбородком. Пальто служило все сезоны. Когда ей бывало весело, она вспоминала один старый роман. Много таких старых, затрепанных романов было в их городской библиотеке, когда она еще жила дома, и однажды, подростком, она обнаружила в книге записку: «Тот, кто найдет эти строки, — отзовись». И подпись: «Одинокая душа». Записка пролежала в книге так долго, что отзываться было бессмысленно, но Оля Лапкина часто силилась представить себе этого человека, эту одинокую душу. Она старалась угадать: кто он? Чего и кого искал? Почерк был скорее мужской, твердый и крупный. Так вот, в книге, где лежала записка, упоминалось, что в Париже наступила весна, продавщицы и швейки, фабричные работницы уже ходили простоволосые, с цветком, засунутым в прическу, но дамы из высшего света еще кутались в меха. «Я ношу меха даже ранней осенью», — смеялась Оля. И студентки, которые ее любили, говорили: «Вечно ты со своими фантазиями, Оля». Те, которые не любили, фыркали: «Ну и воображала ты, Лапкина!»
После института она очень надеялась на новое пальто, но не было денег, а тут еще и мех вытерся, пальто теперь свободно Можно было носить даже летом. А уж в войну…
…Тут до нее дошло, что она заснула одетая. Неужели это Федотов снимал с нее туфли, укрывал ее? Как неловко… Хорошо еще, если в дороге не протерлись чулки. Тогда вообще все ужасно.
Она взглянула — чулки вроде целые.
Все-таки она поскорее вскочила, одернула юбку, обулась. Дверь в коридор была широко распахнута, и дверь в комнату, где ночевал Федотов, тоже была раскрыта. Человек, спавший под шинелью, должно быть, ушел.
На стуле была аккуратно развешена зеленая гимнастерка. Федотов спал на спине, подложив руки под голову. От его крепкой, белой, незагоревшей шеи, видневшейся в круглом вырезе сорочки, веяло какой-то детской чистотой.
Она долго стояла и издали смотрела, Как он безмятежно спит. Не то любовалась, не то старалась узнать в нем кого-то или вспомнить. Даже странно, что она, такая дикарка, вдруг прикипела к этому едва знакомому человеку. Вчера они едва-едва обменялись несколькими фразами. Он мало спрашивал, а если спрашивал, то все о деревне: какая теперь там жизнь, восстанавливается ли хозяйство и тому подобное. Она, как умела, отвечала. Ни о чем таком, что касается лично ее, разговора вроде не было. И она не расспрашивала, кто он, откуда к ним попал и зачем едет в их школу.
Но все равна она бы поверила всему, что он скажет, пусть самому невероятному: такие люди не лгут. Вот это она знала твердо.
Лапкина вдруг испугалась, что Федотов почувствует ее взгляд и проснется. Она вышла на крыльцо.
В кустах пронзительно и весело посвистывали и щебетали птицы.
Дом приезжих стоял на опушке, среди берез и рыжих, выгоревших сосен. Лапкина прошлась по лесу, нашла несколько сморщенных грибов и куст сухой мелкой земляники. Утро было тихое, спокойное, по-осеннему чуть печальное, с желтеющими листочками, беспокойными облаками над головой и напоминающим скипидар запахом опавшей и высохшей за лето хвои.
Она умылась из ручья и вытерлась носовым платком.
Это тоже показалось ей прекрасным, как земляника, и трепещущие на ветру березовые гибкие ветки, и небо. И все время она вспоминала совещание, заново переживала то, что передумала и перечувствовала за эти четыре дня в областном городе. Она вчера сказала Федотову:
— Мне этой зарядки хватит надолго.
— Какой именно? — уточнил он.
Ей не захотелось объяснять подробно, она просто улыбнулась в ответ. Как скупец, она побоялась открыться, таила накопленные сокровища, хотела приберечь воспоминания на длинные осенние вечера, на глухую зиму.
Окончив пединститут за год до войны, она не колеблясь поехала в деревню. И никогда не жалела об этом. У нее заранее было решено, что учительствовать она будет в деревне, но, конечно, скучала по городу, по театру, по свежим журналам. Иногда, когда плохо натопленные печи выстывали к утру и становилось так холодно, что страшно было вылезать из-под одеяла, она начинала как чудо вспоминать студенческое общежитие, где были паровое отопление, душевая с серым выбитым цементным полом, электричество. Она куталась в вылинявший купальный халат с широкими рукавами, и школьная уборщица, украинка, ядовитая и языкастая женщина, говорила: «У вас ряса, Ольга Петровна, як у попа». Как все молодые учителя, Оля Лапкина дала себе поначалу слово не опускаться, следить за книжными новинками, устраивать со школьниками спектакли. И, как все, она не успевала ни следить за литературой, ни изучать языки. А потом началась война. Война все перемешала, не до самообразования было. Ей жилось очень трудно.
Много работы было и в школе, и в сельсовете, и в райкоме партии, и в райисполкоме. Всюду считали, что «учителя — наша культурная сила». Не было ни одной хозяйственной или политической кампании, которая могла бы пройти без учителей, следовательно, и без ее участия. Она писала письма на фронт, читала вдовам похоронки и плакала вместе с ними, иногда работала в поле. Всюду не хватало рук.
Оля Лапкина сознавала, что тупеет, забывает теорию, загруженная практическими делами, и что она никогда уже не соберет материалы для той работы по педагогике, которую она задумала, когда была студенткой. Какая уж там педагогика! «Не до жиру, быть бы живу, — говорили ей старые учительницы. — Выжить бы… Хорошо, у вас нет семьи на руках». И верно. Не было еды, а если и была, то грубая, скудная. Картошка, картошка, чай из смородинового листа, похожий на глину хлеб. Она ведь не держала коровы, не сажала овощи, как делали семейные. Ела всухомятку, кое-как. Но руки все равно огрубели и лицо обветрилось, стало не таким тонким, не таким нежным, как было.
Совещание в областном центре всколыхнуло ее, встряхнуло, освежило. «Я глотнула озона, — думала она. — Я полна новых сил».
Когда она вернулась в избу, Федотов уже не спал.
— А знаете, какая штука неприятная, — сказал он озабоченно. — Я ходил, узнавал. Мост, оказывается, разобрали, а теперь какая-то неполадка, будет готово только завтра…
— Вот те и на! — прямо-таки закричала Лапкина. — Значит, придется ждать?!
Она положила на стол грибы и землянику. И вдруг почувствовала, что нисколечко не огорчена: что ж, она с удовольствием отдохнет денек, разберется в своих мыслях.
Она приготовила завтрак, потом просматривала книги из библиотечки, полученной на совещании, а Федотов спал, ходил зачем-то в деревню. Он принес свежей соломы на кровати, открыл забитое окно. Стало свежо и приятно.
Разговаривали они мало.
Лапкина, немного теряясь, завела было беседу о новых задачах в воспитании детей, о современной педагогике, об Ушинском. Но Федотов интереса к этим темам не проявил.
О себе Федотов говорил мало. Вскользь сказал, что попасть домой сразу после войны не пришлось, служил за границей в советских войсках, заболел, долго лежал в госпитале, вышел и вот почувствовал, что война как-то уже подзабылась, все заняты восстановлением, работают. Пошутил, что уже никто не встречает его с цветами и оркестром, как встречали других фронтовиков, а ему надо определиться в мирной жизни, найти свое место. Хочется ему оглядеться перед тем, как отправиться домой. К семье. Семья у него небольшая, есть жена, к которой он и поедет. Жена, он сказал это с гордостью, бывшая спортсменка, очень волевая. И Лапкиной почему-то был неприятен оттенок гордости в его голосе. Чуть надменно, как ей представлялось, она завела разговор о литературе, о книгах.
Но этого разговора Федотов не поддержал.
Оле Лапкиной казалось, что для нее не существуют люди, которые не любят искусства, и из всех учителей их района она выделяла только математика Козакова, который, немного, правда, фальшивя, играл на скрипке и уверял, что любит французскую живопись и стихи Симонова. «Что бы там ни писали критики, поэзия немыслима без любви. А в его лирическом дневнике есть живая женщина. Я как будто слышу стук ее каблуков». Козаков был худ, неопрятен, очень близорук, из-за этой близорукости его и не взяли в армию, но только с ним Лапкина могла отвести душу, поговорить об отвлеченном, о постороннем, не только о школе. И все окрестные учительницы подозревали, что у них роман.
Романа, однако, не было, хотя заумные разговоры о любви как таковой, какие-то намеки на чувство, полуслова все-таки имели место. Но Козаков был женат. И жена его, издерганная, чуть истеричная, с огромными, чуть навыкате глазами и завитушками, нависавшими на уши, женщина, которая преподавала географию в младших классах, всегда смотрела на Лапкину со страхом. Как будто Лапкина могла подойти сзади и всадить ей меж лопаток нож.
Лапкина очень огорчалась и старалась быть как можно любезнее, на что Элеонора, жена Козакова, тоже отвечала показным великодушием и с лицом великомученицы, но нервно хохоча зазывала Лапкину в гости:
— Муж так любит разговаривать с вами о литературе, приходите. Он ведь известный болтун. Бедненькая, вам тоскливо одной…
— Да не тоскливо мне вовсе, я так занята. — Лапкина содрогалась при одной только мысли, что ей придется пойти к Козаковым, в их грязную, неряшливую комнату, где муж будет увлеченно разглагольствовать, а Элеонора то неестественно хохотать, то смиренно говорить о том, как хорошо Лапкиной: живет одна, может хоть минутку выкроить для чтения, а у нее дети, муж, огород. Мужа ведь это не касается, она освободила его от домашних забот.
Лапкина не раз давала себе слово оборвать знакомство с Козаковым, ограничиваться при встречах в школе словами «добрый день», «как здоровье» или «всего хорошего», но ее тянуло к нему, потому что больше не с кем было обменяться мнениями о прочитанном. Он хоть знал, о чем пишут в газетах, что на фронте, слушал радио.
Как раздражали ее другие учительницы с их мелкими интересами, склонностью к сплетням, их усталостью и заезженностью, тем, что смирились и согнулись под тяжестью забот и трудных условий жизни. Исключение она делала только для Марьи Ивановны Орловой, но та по натуре была резкой, даже грубоватой, ничего не признавала, кроме служения долгу, твердила: «Ну, милая, ты же сама такую профессию выбрала — учитель. Теперь терпи…» А Оле Лапкиной еще хотелось жить, любить, хотелось какого-то взлета.
Был еще директор, очень славный человек, но старый, больной. Он преподавал историю, в войну служил интендантом и сам признавался: «Позабыл я за войну эту свою историю, да и на многие вещи смотрю шире, приходится очень много готовиться к занятиям». Работы в школе было по горло, чтобы сплотить учителей, общаться с ними, чаевничать, даже в мыслях у него не было. Он все хотел подбить колхозников на то, чтобы отремонтировать школу. Здание построили незадолго до войны, но без ремонта помещение обветшало. То падала с потолков штукатурка, то дымили печи.
Искусством и литературой директор совсем не интересовался.
Не похоже было, что литературой и искусством интересуется Федотов.
Лапкина удивлялась поэтому, что Федотов ничуть не раздражает ее своей прямолинейностью, что он не кажется ей ограниченным. В его спокойной уверенности чудилось что-то правильное, какая-то твердость, четкость, ясность. Она наталкивалась на это спокойствие, как на скалу, и, как о скалу, разбивались все ее выдуманные представления о том, каким должен быть фронтовик. Хотя, конечно, ей уже не раз приходилось сталкиваться с бывшими фронтовиками. Но все равно два представления — реальное и выдуманное, вычитанное в описаниях военных подвигов, — как ни странно, спокойно уживались в ней. Как будто подвиги совершали не обыкновенные люди, которые чудом выжили и вернулись к своим семьям, в их деревню, а другие — особенные, необыкновенные.
В войну, когда она думала о своем муже, теперь уже почти забытом, то, хотя и разлюбила его, старалась думать о нем как о любимом. Ей казалось, что раз он воюет, значит, имеет право на ее преданность. И она давала себе слово, когда он вернется и если вернется к ней, быть с ним чуткой и терпеливой, забыть то, что разъединяло их, и все силы приложить, чтобы сделать их брак более счастливым. Ей казалось, что она обязана как-то возместить все, чего он был лишен на войне, — домашний уют, женское внимание и уход, тепло. Хотя, если говорить честно, их раздоры были именно из-за того, что она не умела и не хотела создавать домашний уют, ухаживать за ним, чем он был так избалован в доме своей матери, которая не полюбила и не приняла невестку. Теперь Оля считала, что она все будет делать по-другому. Это ее долг, долг женщины, оставшейся в тылу. Может, и ему, изнеженному матерью и легкомысленному, прошедшему через горнило войны, через море огня, жена станет дороже.
Но мужа убили еще в первую военную зиму. Даже фотографий не осталось. Свекровь попросила прислать ей все, что принадлежало сыну. Даже его письма к жене.
Лапкина сказала Федотову, как собиралась когда-то сказать мужу:
— Сидите. Я сама приготовлю ужин. Достаточно лишений натерпелись вы на войне…
— Нет, почему же? — возразил Федотов. — Нас кормили не скажу чтобы плохо. Я наслышался в госпитале, как тяжело живется на «гражданке», — ой-ой-ой… Ведь правда тяжко?
— Трудновато, — согласилась Лапкина. — Вот представьте, я вызываю мать ученика или иду к ней сама, вижу нужду и голод, безотцовщину, в чем я могу ее упрекнуть, что еще потребовать? Да у нее и так все руки в трещинах, она высохла от непосильного труда, не знает, чем и как накормить детей, а я буду просить у нее помощи в воспитании, так, что ли? Зачем же я тогда училась, за что мне жалованье платят?
— За работу, — подсказал Федотов.
— Но ей-то за работу не всегда платят, — горько сказала Лапкина. — У нас очень невесомый трудодень. Говорят, совхоз здесь будет, хоть бы скорее…
Она смутилась оттого, что сгущает краски, запугивает его, и растерянно замолчала. Федотов задумался.
— Если по-настоящему, если искать самый трудный участок, то это именно деревенская школа…
— Но ведь не останетесь у нас, — Лапкина даже рукой махнула. — Дальше благих разговоров не пойдете. Впрочем, почему именно вы?
— Пожалуй, не пойду. Жена не захочет…
Лапкина стала убирать остатки консервов и хлеб, ополаскивать кружки. Сердилась на себя за бестактность. Чего она пристала со своими упреками к этому человеку? Он-то здесь при чем?
Федотов долго молчал.
— Когда мы вошли в Германию, меня знаете что поразило? Да и не меня одного… Пустые дома, население, естественно, попряталось, но в каждом доме, в подвале, на полках банки с консервированными фруктами, с овощами. Все закрыто крышками, расставлено аккуратно, ровными рядами. Компоты, понимаете…
— Ну и хорошо, что компоты…
— Хорошо-то хорошо. Но доживем ли, когда и наши люди станут наконец получше жить…
— Я надеюсь, что доживем, — улыбнулась Лапкина. — Конечно, доживем.
Федотов вдруг сказал:
— А вы очень славная. Мне нравится, что вы такая славная.
Все-таки задел, разбередил ему душу упрек Лапкиной, и он, не то чтобы оправдываясь, а просто объясняя, сказал:
— Очень я по дому истосковался. Сколько раз закрывал глаза и жену как наяву видел. Молодая она была очень смешливая. Но строгая. «Не гляди по сторонам, ты на кого это глаза пялишь?» Очень была подозрительная, не дай бог в гостях рядом с чужой женщиной сесть, сейчас же скандал устроит. А тут я даже о ее ревности скучал. Мечтал, как вернусь, как все переоборудую, отремонтирую. Читать я не особенно-то читал, а тут стал мечтать, как лягу на диване с книгой после работы. Или в выходной… — Он резко оборвал. Нахмурился, посерьезнел. — А какая будет у меня работа? Где? Специальности никакой нет, учиться поздновато. А я все-таки в армии был командир, подполковник… Ладно, разболтался я. — И Федотов погладил Лапкину по руке.
Она покраснела.
Стемнело. Мимо окошка, карабкаясь вверх, проплыла огромная ликующая луна. Лапкина сказала восторженно:
— Мир вокруг нас стал ирреальным…
— Да, светит луна. Как будто зажгли осветительную ракету. Но у тех свет мертвенный, а тут — жизнь…
Из своего дорожного мешка Лапкина достала блузку с бантиком и туфли, в которых щеголяла на совещании, довольно еще новые, красивые туфли. Ей хотелось быть нарядной, необыкновенной, как эта сверкающая звездами и пахнущая лесом августовская ночь. Конечно, и в деревне бывали такие ночи в августе, такая же полная луна томилась в небе, но там будни, там некогда и глаза поднять на луну.
Она опять ходила по лесу, по вечерней росе, не щадя ни туфель, ни блузки. Федотов шел рядом, не догадываясь даже поддержать ее за локоть, когда Лапкина спотыкалась, и, чтобы казаться строгой и умной, она опять заговаривала о педагогике и психологии ребенка.
— У вас есть свои дети? — спросил Федотов.
— Нет, — помотала головой Лапкина. — А у вас?
— И у меня нет. Жена не хотела…
— Хорошо, когда дети, — с грустью сказала Лапкина. — Это счастье, когда дети.
— Я племянников люблю, как родных детей. Очень хорошие у меня племянники. — Лицо Федотова просияло. — Мальчик прекрасный. И девочка тоже хорошая.
— А мать у них хорошая? — спросила лукаво Лапкина.
Федотов не заметил насмешки.
— Хорошая.
— А тетка?
— Тетка? То есть жена моя? У них вся семья — две сестры, брат — прекрасные люди…
— А вдруг и завтра мост не починят? — перебила его Лапкина. Как-то некстати сказала: — У нас вот-вот должны начаться занятия в школе.
Они пошли обратно, плутая меж темных деревьев, и, когда показалась изба, Федотов обрадовался:
— Вот и наш дом.
Лапкина усмехнулась.
Она помедлила на пороге, потом решительно сказала:
— Нет, надо спать. Завтра встанем пораньше…
Сбросив туфли, она легла на свою койку. Луна укатилась за лес, но все равно комната была в чуть потускневшем свете, переплет окна бросал тень, на стену, исчерчивая ее квадратами, как ученическую тетрадь.
Вошел Федотов. Он остановился у притолоки и спросил деловито:
— Слышали когда-нибудь про письмо, которое послали финнам с острова Ханко, когда те предложили нашим сдаться?
— Что-то вроде ответа запорожцев туркам, да?
— Крепко написано, — сказал Федотов. Он уселся на табуретку и достал из кармана гимнастерки сложенный в несколько раз листок папиросной бумаги, бережно развернул его и передал Лапкиной осторожно, как вручают сокровище. — Я вам посвечу фонариком, если хотите…
Письмо было остроумное, хлесткое, меткое, но оно изобиловало такими крепкими мужскими словечками, что Лапкиной было неловко читать. И еще более неловко было признаваться в этом. Она только спросила:
— Вы были тогда на острове Ханко?
— Был.
— Как я завидую, что вы участник войны, — прижимая руки к горлу, сказала Лапкина. — Я рвалась на фронт, но не взяли…
— Трудно на войне. Вам было бы очень трудно.
— Что вы! Неужели я боюсь трудностей?
Федотов подвинулся ближе и взял Лапкину за руку.
— У вас есть муж?
— Он убит.
— Вы его любили?
— Любила, наверное, — поспешно ответила Лапкина. — Но это было так давно, в какой-то другой жизни, не в этой…
— А он вас?
— По-своему, может, и любил… — Она натянуто засмеялась. — Мы с ним так мало прожили вместе…
Этот вопрос она много раз задавала себе сама. Любил ли ее Игорь? Любила ли по-настоящему она его? Про себя она знала точно: была увлечена, была влюблена. Но Игорь, вернее, обстоятельства все сделали для того, чтобы их увлечение не переросло в прочную, не боящуюся бурь и испытаний любовь. А может быть, у каждого чувства есть свой потолок? Как имеют свой потолок и ум, и способности. И Игорь на большее был неспособен? Ох, не знала она, не знала. И мучилась, и страдала именно из-за того, что не знала.
Иногда она уезжала от Игоря домой, к бабушке, и рыдала по ночам, металась между телеграфом и бабушкиной квартирой, писала мужу длинные телеграммы-ультиматумы и разрывала бланки в куски, а бабушка подбирала их с полу и прочитывала. Спрашивала: «Он тебе изменяет?» — «Нет, что ты…» — «Может быть, он… может, он выпивает?» Оля только смеялась. «Игорь домашний мальчик, он пьет молоко, сок, ну, в крайнем случае сухое вино, и то под надзором своей мамочки». — «Оля, это непорядочно. Ты ревнуешь сына к матери. Это святое чувство — любовь сына к матери».
Оля отчетливо помнила, как он появился на курсе, Игорь, беленький, похожий на портрет Сергея Есенина, нежный. Читал ей свои стихи, на концерт повел. Не ругался, не орал. Пригласил домой, чтобы познакомить с матерью — она работала машинисткой в редакции. Была такая интеллигентная, воспитанная, делала вид, что Оля просто подружка, что у них с Игорем дружба. На все закрывала глаза, сюсюкала.
Но Игорь был все-таки мужчиной и хотел, чтобы и Оля видела в нем мужчину. Когда они сошлись, он был уверен, что мать обрадуется, звал Олю своей женой и настаивал, чтобы она переехала из общежития к ним, Оля с ужасом вспоминала тот первый вечер, когда она должна была остаться у Игоря ночевать. Комната-то была одна. Мать все не ложилась спать, сидела за столом, у лампы, читала. Только вздрагивали ее плечи, покрытые тонким платком, — плакала. И Оля с Игорем тоже не ложились спать. Стеснялись. Потом Оля выдумала, будто забыла взять из общежития конспекты, а без них нельзя завтра явиться на занятия. Ушла. И опять Игорь требовал, чтобы она вернулась, канючил, настаивал. Мать вроде смирилась, хотя всегда разговаривала с сыном так, словно они были вдвоем в комнате, не было никого третьего, никакой Оли. Иногда — почему-то это обычно случалось по средам — мать, многозначительно поглядывая на молодых, уезжала ночевать к сестре. Она долго собиралась, вздыхала, поджимала тонкие губы. Оля прямо вскипала от злости, от спектакля, который разыгрывался. И вместо того чтобы радоваться уединению, они с Игорем ссорились. «Мы ведь живем у мамы, надо быть благодарными». — «Но зачем жить у мамы? Уедем, страна большая». — «Я не могу оставить мать». — «Ты просто боишься жизни!» — кричала Оля. И когда после окончания института было распределение, Оля уехала в деревню. Игорь не захотел. Вот и вся ее история…
— Но муж приезжал ко мне, и я к нему ездила. Может, если бы не война…
Федотов вдруг наклонился и поцеловал ее.
— Не нужно, что это вы, — сказала она нетвердо.
Но он поцеловал ее еще раз, и она не стала противиться. Плыла по течению, по теплой воде, не в силах шевельнуть рукой, оттолкнуть его, радуясь тому, что ночь, золотая осень и они вдвоем в этой осенней ночи. Значит, она еще может понравиться! Было страшновато, но смутно Лапкина надеялась, что вот-вот сумеет все это прекратить, оборвать, что ничего плохого, предосудительного не может случиться с ней, строгой и нравственной учительницей Олей Лапкиной. Ведь еще не были произнесены слова любви, не было никаких объяснений. И вдруг Федотов шепнул просто, сердечно и естественно: «Я сейчас разденусь». И стал расстегивать пуговицы на гимнастерке. Она растерялась, упустила минутку, когда еще можно было протестовать, возмущаться. Она уже любила его, теплого, милого, глупого, широкоплечего, с этой по-детски белой шеей в вырезе казенной рубахи. И то, что произошло, что должно было неминуемо произойти, что было предопределено с той самой минуты, когда они встретились у почтамта, и чему способствовало все — и дорога, и пустой дом приезжих, и разобранный мост, и луна, и березовые деревья, — это произошло, и было так сладостно, чудесно и просто, что Оля Лапкина только удивлялась своей безропотности, но не ощущала ни сожаления, ни стыда.
И сожаление, и стыд пришли позже, утром.
А пока они лежали рядом, на одной узкой койке, и Федотов называл ее кисонькой и целовал, и она называла его милым, и целовала, и дивилась тому, что делает это с чистой совестью. Ведь она никогда, даже в мыслях, не могла допустить, что с ней может случиться подобное. Она все прощала Федотову — такие у него были сладкие, золотые руки и объятия, как будто пришла к ней награда за всю ее строгую, скучную, рассудительную жизнь, полную умствования и сентиментальности.
— Я очень стеснительный, — признался Федотов. — Я вчера всю ночь, почти что до утра томился, не спал. Ты мне еще вчера очень понравилась. Но я бы сквозь землю от стыда провалился, если бы ты мне отказала…
— Но почему, почему ты думал, что я соглашусь? — с ужасом спрашивала Лапкина. — Я и не думала, не знала…
И с еще бо́льшим ужасом сознавала, что, в сущности, это ей безразлично. Да, ей безразлично было, что она едва знала Федотова, вчера впервые встретила. Прошли только одни сутки. И все же между сегодняшней ночью и той минутой, когда председатель облнаробраза швырнул ее вниз с утеса надежды и сказал про одного человека, командированного в их школу, прошли года, пролегла вечность. Где-то в космосе блуждала она, худенькая учительница Лапкина, которую волей судеб занесло сюда, в эту избу.
Всю ночь она была счастлива.
Пришло утро, и оказалось, что мост еще не починили. Она вглядывалась в Федотова и не могла понять, доволен ли он тем, что они должны еще задержаться. Она и себя не понимала. И досадовала. Сердясь, говорила Федотову, что это ужасно, такая расхлябанность, такое неумение работать. Ей нужно в школу. Она сердилась так, будто Федотов был во всем виноват, но, когда он предложил достать лодку и переправиться, сказала ядовито:
— Вам, конечно, хочется поскорее закончить совместное путешествие. О, не беспокойтесь, я не имею к вам никаких претензий. Сама отвечаю за свои поступки…
Федотов поморгал ресницами и ничего не ответил. Не понял.
Лапкина легла, отвернулась к стене и сделала вид, что спит. Она тихонько плакала под противным своим пальто, смешным и неуместным в этой убогой комнате на берегу реки. Душа ее томилась по высоким словам, которых она ждала от Федотова, по любовному признанию, по нежности, по каким-нибудь доказательствам, что все это не случайно, что она не травинка, случайно сорванная и небрежно брошенная в пыль, на дорогу.
Все возмущалось в ней, кричало, требовало оправдания. Неужели с ней можно обойтись как с девчонкой, с дурочкой, с первой встречной? Неужели все произошло только потому, что они ночевали в одном доме? Но ведь ей не раз приходилось ночевать даже в одной комнате с другими мужчинами, когда ездили на совещания в соседние школы или сельсоветы, и у нее в школе часто ночевали приезжие инспектора или уполномоченные из района. Иногда она уходила к соседям, иногда уйти не удавалось, ну и что? Где уж тут было считаться с условностями, когда столько изб разорилось в войну и все жили скученно, тесно. Именно поэтому она и не подумала, ей и в голову не пришло, что это неудобно — ночевать вдвоем в доме приезжих. Ведь она не барышня, не кокетка. «Ах, мне все равно, уважает он меня или нет, — думала она, плача. — Мне это совершенно все равно». Но ей было не все равно, о нет!
Погода переменилась, стал накрапывать дождик, небо заволокло тучами.
— Какая тоска, — сказала вслух Лапкина. — Какая невыносимая тоска.
— Это от перемены погоды, — откликнулся Федотов.
— Да, это от погоды, — согласилась Лапкина, ненавидя его за спокойствие, за тупость и мысленно твердя: «Глупый, глупый человек…» И клялась себе: ни за что с ней не повторится то, что было ночью. И как она могла, независимая, гордая, пасть так низко? Теперь-то понятно, что означает, когда говорят: такая-то живет с таким-то… не любит такого-то… и не замужем за таким-то, а живет с таким-то. И весь остаток дня она ходила по лесу, повторяя: «Я живу с Федотовым… Учительница Лапкина живет с Федотовым». Тут голос становился голосом Элеоноры Козаковой и ее хихиканьем: «Я не осуждаю, но… вы слышали, надеюсь… ха-ха-ха… Ольга Петровна, эта святоша, живет с военруком Федотовым…»
Какой стыд!
И, барахтаясь в паутине самоуничижения, измучивая себя терзаниями, она ждала спасительного слова помощи, которое не приходило.
Федотов нашел ее в лесу.
— Что же вы расхаживаете под дождем? Еще простынете…
Она фыркнула: какая заботливость! Да она и в дождь, и в слякоть, и в буран ходит по скользким, мокрым, занесенным снегом дорогам, а теперь только конец августа…
— Я еще днем хотел сказать вам…
Лапкина напряглась. Она отвернула лицо, чтобы он не увидел этого напряжения, этого ожидания, этой муки.
— Да? — хрипло спросила она.
— Зачем вы так много курите? Это вредно…
— Да я бы с ума сошла, если бы не курила. Какие, еще у меня радости? — Она испугалась, что выдаст себя, унизится, но лгать, хитрить с Федотовым не могла. — Хорошо, что я люблю свою работу. Если бы не любила, то хоть пропадай. Такая зимой тоска…
Она стала палкой разгребать сухие листья, как будто в этом действии была какая-то цель.
Федотов внимательно смотрел, стремясь постичь смысл того, что она делает.
— Почему бы вам не выйти замуж? — вдруг спросил он.
— А для чего?
— Как для чего?
— Материально я сравнительно обеспечена, стою на своих ногах.
— А дети? А ласка?
Она густо покраснела.
— Что ласка?
— Без ласки плохо жить. Я же чувствую, как тебе нужна ласка…
Она не обиделась. Она даже не знала, что можно так просто спрашивать и так честно и естественно отвечать.
— За кого же я могу выйти замуж? — Она пожала плечами. — У нас на весь район два учителя, оба женатые, остальные бабы… — Она постаралась засмеяться. — Представляете, мы тут Новый год встречали, бутылку самогонки достали, пирог с картошкой сделали, собрались, приоделись, выпили, романс спели, пустились в пляс. И молоденькая одна девчоночка, только-только окончила институт, даже заплакала: «Я никогда еще не танцевала с мужчиной, все с подругами. Господи, что же это?.. Я жить хочу…»
— Ну, у вас мужчин нет, но в районе, приезжие случаются…
Лапкина боялась, что тоже расплачется, как та молоденькая учительница, — так ей больно было слушать про приезжих, за которых она могла бы выйти замуж. «Ты ведь тоже приезжий», — могла бы она сказать. Но вместо этого резко спросила:
— Интересно, чем я могу привлечь мужчину да еще приезжего? Нарядов у меня нет, руки вон какие грубые стали…
— Дурочка, — сказал Федотов ласково, — разве мужчине нужны наряды?
— Скажите еще, — с горечью усмехнулась Лапкина, — что главное в женщине — это душа…
— А как же, — серьезно сказал Федотов. — Если женщина не душевная, то грош ей цена. Вот моя жена…
— При чем здесь ваша жена? — закричала Лапкина, не дослушав. — Боже мой, при чем тут ваша жена? Она ведь живет в городе… — И постаралась, заставила себя засмеяться — так ей неловко было, что накричала. Легонько провела рукой по его рукаву и добавила мягко: — И потом у вашей жены есть муж…
Федотов задумался.
— Муж, — повторил он. — А муж вон сколько лет дома не был, он и жену-то совсем забыл. Какая стала за эти годы? Не знаю… Может, и не узнаю вовсе. Может, там у нее совсем по-другому жизнь сложилась…
Лапкина не нашлась что сказать. Еще раз погладила его рукав… «Не думай о ней, думай обо мне, о нас с тобой», — хотела бы она сказать. Но вместо этого произнесла:
— Все будет у вас хорошо, поверьте…
Они вернулись в дом, ужинали. Лапкина снова ожесточилась, осыпала Федотова насмешками и тонкими, полными яда намеками, она блистала остроумием и эрудицией. Казалось, она в порошок готова была стереть этого молчаливого подполковника. Но бедное ее сердце истекало кровью.
Дождь стих, очистилось небо, вышла луна. Она то исчезала, то снова показывалась и двигалась дальше, как будто озабоченная своими делами, как будто искала оброненные ключи от ящиков, где были спрятаны все ее сверкающие богатства. Но это была не вчерашняя, ликующая от сознания своего великолепия и силы луна, а совсем другая — задумчивая, рассеянная, словно на что-то обиженная.
Березы огорченно шелестели кронами, трава под ними покрылась пожухлыми листьями, белые стволы потемнели от дождя. За одни сутки деревья постарели. Уже явственно чувствовалась осень.
— Я закрою окно, холодно, — сказал Федотов.
— Как хотите. — Она подчеркнуто равнодушно пожелала: — Спокойной ночи…
Сердце у нее билось так сильно, что она не услышала его шагов, а только почувствовала их. Федотов лег рядом с ней, и это было так естественно, как будто он давно был ее мужем. Он лег рядом и подложил руку ей под голову.
— Спи…
— Вам неудобно будет, тесно…
— Нет, я хочу рядом с тобой… не хочу я один…
От него исходили тепло и покой, боль и мука отошли, Лапкиной стало хорошо, она зарылась лицом в его согнутую руку, вдыхала запах его кожи. И опять он не говорил ей слова «люблю», единственного короткого слова, которое могло ее успокоить и утешить. Он только пробормотал сердечно и искренне:
— Ты думаешь, я не понимаю… Я сам бы хотел сказать тебе что-нибудь определенное, приголубить тебя. Но не умею, чудной я какой-то человек…
— Зачем слова? — возразила Лапкина, как будто не она страдала сегодня, уязвленная его молчаливостью.
В эту минуту она верила, что не надо никаких слов, никаких объяснений, нужен только он сам. И она не понимала, как жила раньше, до встречи с ним, и как будет жить дальше. Без него. Ей все время мерещился ехидный Козаков, и казалось, что они вели всегда один и тот же разговор, приводили одни и те же цитаты, вспоминали одни и те же фразы из сборника «Крылатые слова». И все их разговоры об искусстве казались ей сейчас вымученными, надуманными, нестоящими.
На следующий день мост снова не был готов, и Федотов с Лапкиной решили идти в обход, лесом.
Лапкина была бледна, печальна. Не хотелось расставаться с этой избой, где она хоронила свои воспоминания. Не понимала, чего ждет от нее Федотов, не знала, нужна ли ему. Она боялась и не хотела быть навязчивой, ничего не говорила ему о том, что мучило ее, и опять наружу выплыл спасительный разговор о педагогике.
Погода баловала их на прощанье. Слепило солнце. Стволы берез празднично белели среди сосен. Ветер трепал их кудрявые ветки.
— Война сильно изуродовала леса, — сказал Федотов. — Прямо как человека жаль становится… Тут дерево на блиндажи срублено, там сожгли, там танками истоптали… Это ужас сколько леса истреблено…
— Что лес? Вырастет. Война многое истребила в душе человеческой, — сказала Лапкина, думая о своем.
Федотов не понял.
Все-таки он стал теперь разговорчивее, доверчивее. Но так можно разговаривать и с сестрой, и со знакомой, и со случайной спутницей. Лапкина же разговаривала с ним как следователь, доискивалась, допытывалась, добиралась до его сущности. «Ведь мы не звери, мы люди, — думала она. — Не можем же мы просто расстаться, как будто между нами ничего не было…».
Она заговаривала о своем покойном муже, надеясь увидеть огонек ревности, что ли, в глазах Федотова. Идти оставалось немного, в деревне, она знала, им уже трудно будет встретиться без помехи. И если он к ней равнодушен, так пусть уж скорее кончится их путь.
— Скажите, вы любите людей? — зачем-то спросила она.
— Людей?
— Да, людей.
— Да кто же не любит людей? — удивился Федотов. — Как-то я не думал об этом… не знаю…
— Но вы умеете привязываться к людям, помнить о них? — настойчиво спрашивала Лапкина.
— А как же? Мы три недели были в окружении, отсиживались в чаще. И с нами две девушки, медсестры. Молоденькие. Обе ко мне, как дети, льнули. Спать ложились рядом со мной, прижмутся ко мне и дрожат, немцев боятся. Я даже не знал, как их зовут…
— А как меня зовут, вы знаете?
— Конечно, знаю. Оля.
— Странно, что вы запомнили. Да, меня зовут Оля, Ольга Петровна.
— Для меня вы Оля. Имя-то какое славное.
— Да? Вот будете рассказывать когда-нибудь, как шли со мной по лесу, и имя даже сможете назвать… — Она оборвала: — Ну, так что же те девушки?
— А вот как было. Мы с товарищем решили пойти разведать дорогу, а потом вернуться за остальными. Ходили, ходили, вернулись, а все уже ушли. Искал я потом, кое-кого нашел, говорили, будто видели моих девушек, номер полевой почты давали…
— И вы написали им?
— Нет, что ж писать? От меня даже жена писем добиться не может. Напишу: «Жив-здоров» — и все.
— Но вы любите жену?
— Привык.
— А те девушки в лесу, когда вы были в окружении?
— Но это же посторонние девушки. Просто привязываешься к людям, с которыми делил опасность.
«А постель? — хотела вызывающе и грубо спросить Лапкина. — К людям, к женщинам, с которыми делил постель, привыкаешь?» Но она не умела разговаривать вызывающе и грубо. Она шла, не глядя под ноги, еще счастливая присутствием Федотова и уже терзаемая горечью предстоящей неизбежной разлуки. «Я не умею жить минутой, — думала она. — Я хочу вечного».
Федотов тоже был рассеян, и со стороны никто не принял бы их за любовников: просто шла худенькая, чем-то расстроенная, растрепанная женщина и рядом с ней высокий озабоченный военный.
На опушке леса, когда до реки, до переправы, осталось уже не более километра, Лапкина зацепилась за выткнувшийся из земли узловатый корень и больно ушибла ногу.
— Я вас понесу, — предложил Федотов.
— Нет, ни за что…
Но он взял ее на руки и понес. Она ухватилась руками за его шею, милую, любимую шею. «Он добрый, — думала она, закрыв глаза, чтобы спрятать слезы. — У него добрая душа». И вспоминала, как внимателен был Федотов, как кипятил чай. Но ей было мало этого. Она надеялась, что он тоже мучается сейчас.
— О чем вы думаете?
— Жарко очень. Вспотел.
Она открыла глаза, слезы потекли потоком.
— Почему вы плачете? — испугался Федотов. — Неужели так больно, так болит нога?
— Да, очень больно…
Он посадил ее на траву, снял с нее туфлю и чулок и стал осматривать опухоль. Он мял и растирал ногу, сгибал и заметил деловито:
— А нога у тебя не худая. Некрасиво, если нога тоненькая, как карандашик…
Она возмутилась, закричала, гневно свела брови, потом увидела его честные, удивленные глаза и засмеялась.
— На вас даже сердиться нельзя.
— Ну и хорошо, — обрадовался Федотов. — Вот и хорошо…
Она перестала плакать и заставила себя смеяться. Что же сердиться на человека, если он не понимает? Что же сердиться…
Ей вспомнился почему-то латыш Ян, слушатель с курсов, на которых она преподавала, когда еще сама была студенткой. Он был старостой и принес ей на дом какие-то тетрадки. И пока она просматривала их, наклонясь над столом, Ян погладил ее пышные волосы и сказал: «Теперь у меня весь день руки будут пахнуть вашими волосами». Тогда она расхохоталась. А теперь чего бы не отдала за одно только нежное слово Федотова…
После массажа ноге стало легче, и Лапкина пошла сама. Они переехали на лодке через реку, взошли на горку.
— Вот она, наша деревня. Добрались, — без радости сказала Лапкина.
Не то сожаление, не то испуг промелькнули в глазах Федотова.
Лапкина вцепилась ему в рукав и остановилась, как будто шагу больше не могла сделать.
— Все, — сказала она. — Здесь можно попрощаться…
— Но почему? Мы ведь еще только приехали… — Он поправился: — Вернее, пришли.
— Здесь все меня знают, я у всех на виду, я…
— А-а, — сказал Федотов. — Понятно…
Она сухо и нервно засмеялась.
— Вы очень догадливый, что верно, то верно…
Навстречу им уже бежали с горки ребятишки, ученики Лапкиной. Она в последний раз взметнула на Федотова ставшие огромными глаза, все еще моля его о том слове, которым она могла бы вернуть уважение к самой себе. Могла бы объяснить те две ночи на берегу реки, в доме приезжих, и утолить извечную тоску о настоящей любви. Все книги, которые она прочитала, все думы, какие передумала, все песни, что слыхала, твердили ей, что так же, как существует это серое, в голубых заплатках небо над головой и тонкие стволы деревьев, мимо которых они шли, что так же, как в природе все величественно и изначально, так же постоянно в душе человека стремление к правде и красоте.
Она вздохнула, как будто провела черту между собой и Федотовым, вдруг гордо откинула голову и пошла к своим ученикам.
Потом они вошли в школу, прошли к директору.
Учителя обступили Лапкину, стали расспрашивать о совещании, она погружалась в мир своего дела, своих интересов, своего честолюбия. Козаков долго и многозначительно пожимал ей руку. Она видела его как сквозь туман. Сердце рвалось в кабинет директора, где сидел Федотов. Директор спешно составлял расписание инструктивных занятий, показывал старые, допотопные винтовки и модель пулемета, Федотов щелкал затворами. Иногда он поглядывал на Лапкину сквозь отворенную дверь, и тогда ей казалось, что душа его тоже переполнена чувством, которое он не умел выразить. А может быть, не хотел. И она понимала, что с каждой минутой они отводят друг от друга все дальше и дальше и все уже становится тропка, на которой они могли бы найти свое счастье.
Все рассеяннее отвечала Лапкина на расспросы, становилась все задумчивее и бледнее. Козаков не отходил от нее. Учительницы, посмеиваясь, оставили их вдвоем.
— В вас произошла какая-то перемена, Ольга Петровна.
— Перемена? Во мне?
— Я вас так ждал…
Лапкина испугалась.
— Алексей Никитич, — торопливо сказала она, — а мне подарили на совещании превосходную библиотечку…
— Я зайду вечером посмотреть.
— Пожалуйста. — Голос, у Лапкиной упал. — Марья Ивановна тоже собиралась зайти.
Почти с ужасом думала она о том, что наступит вечер, сторожиха поставит самовар, придут гости, будут подшучивать над ней и над Козаковым, намекать, будут говорить о зиме, о топливе, об учебниках.
Она пришла к себе в комнату тут же, при школе, открыла окно. В помещении было душно. Мешок с ее вещами все еще лежал в углу. Она разобрала книги, повесила платья, в шкаф. Вещи пахли хвоей. Лапкина прислонилась к дверце шкафа и, холодея, подумала о Федотове: «Я не смогу без него жить. Я… я уеду». И мысль эта показалась ей такой страшной, что она задрожала. «Я не могу без него жить», — сказала она шепотом. И почувствовала себя маленькой, несчастной и одинокой, как в детстве, когда умер отец и бабушка, целуя ее и плача, приговаривала: «Бедная моя сиротиночка, что теперь с нами будет?» Она стояла у шкафа и вспоминала, как внесли в квартиру гроб, как приходили соседи. Потом явились представители с завода, на котором работал отец, и сказали, что администрация не оставит девочку, а ее пугало это незнакомое слово — администрация. «Почему я об этом думаю? Зачем?»
Она бесцельно прошлась по комнате, легла, снова встала, подошла к окну. В огороде цвели сиреневые астры. Огромная тыква выставила на солнце пожелтевшее брюхо. Куры, вырыв под кустами ямки, дремали в тени. Все то неподвижно, как нарисованное, стояло у нее перед глазами, то скользило, проплывало мимо. «Я не могу без него жить», — сказала она громко.
Она не могла оставаться в комнате, вышла в огород, постояла бесцельно, потом вернулась в школу. Пахло свежей краской. Полы были завалены золотой стружкой, работали плотники. Под потолком жужжали злые осенние мухи.
С Лапкиной здоровались те, кто ее еще не видел, она отвечала, пожимала руки, разговаривала, рассказывала. Никто не замечал ее состояния, только вечером, когда к ней пришли гости и пили чай с липкими подушечками, учительница Марья Ивановна спросила:
— Что с вами, Олечка? Вы такая бледная.
— Я больна, я совсем больна…
— Вы устали с дороги, вам надо отдохнуть, выспаться, — посоветовала Марья Ивановна и стала собираться уходить.
Лапкина испугалась, что Козаков задержится, поспешно предложила:
— Я провожу вас. На воздухе мне станет легче…
Козаков молча взялся за фуражку. На лице его было оскорбленное выражение. Лапкина старалась не встретиться с ним взглядом.
Втроем они вышли на улицу. Ветер гнал по небу беспокойные облака, освещенные луной. Лапкина взяла Марью Ивановну под руку и прижалась к ее широкому, крутому бедру, а Козаков шел чуть в стороне и молчал.
Марья Ивановна громко говорила о том, что она всегда ждала того дня, когда качество учебы, качество воспитания станут главными в работе учителя, — и вот этот день наступил.
— Я завидую вам, Оля, что вы были на совещании, слышали все своими ушами. — И прибавила: — Да, да, качество учебы — это все. И так понятно: мы победили в войне и нам нужны культурные, грамотные люди, достойные нашей победы…
А Козаков молчал.
— Это очередная кампания, — наконец вымолвил он. — Мало ли их было, уважаемая Марья Ивановна! Ольга Петровна по легкомыслию, по молодости пришла в восторг, но вы-то?.. Хотел бы я знать, что нового могу прибавить к теореме Пифагора. Как ни крути, а никакой идейности я найти в пифагоровых штанах не могу, увольте…
— Но все зависит от вас, от педагога, — возмущалась Марья Ивановна, и ее зычный голос слышен был далеко вокруг. — В своем предмете, в географии, я найду возможность средствами самого предмета повысить идейно-политический уровень учащихся. Я…
— В географии — может быть, не спорю, но в математике…
Ольга Петровна силилась вслушаться в их спор. Козаков считался очень сильным математиком. Когда ей удавалось сосредоточиться, она, соглашаясь с Марьей Ивановной, с жаром начинала мечтать, как совершенно перестроит свое преподавание, но наплывали мысли о Федотове, все заслоняли, и Ольга Петровна с ужасом думала о том, какая она жалкая и мелкая: в такую великую для каждого учителя годину занята своим, личным.
Муки ее возрастали.
С раздражением смотрела она на Козакова, на его поблескивающие в лунном свете очки, слушала его монотонный голос, не понимая слов, которые он произносил, только догадываясь по протестам Марьи Ивановны, что тот, несмотря на свой ум, говорит неумно и зло.
И все-таки, борясь с раздражением, подавляя его, она старалась быть справедливой: «Что с ним? Ведь он вовсе не такой. Это он нарочно, со зла на меня, из желания пооригинальничать».
Лапкина положила голову на плечо Марьи Ивановны и с умилением подумала о том, что та до седых волос дожила, а в свое дело влюблена до самоотверженности и что такой вот, как Марья Ивановна, и должен быть каждый честный учитель.
— Ах, милая Марья Ивановна, милая, милая Марья Ивановна! — с отчаянием сказала она.
— Что с вами, голубчик?
Лапкина отвела глаза.
Они проходили как раз мимо дома директора — там было светло и шумно.
— Очевидно, Николай Петрович принимает гостя, — насмешливо сказал Козаков. — Угощает наливкой и поет песни.
Колени у Ольги Петровны задрожали.
На перекрестке Козаков попрощался.
— А ну его, вашего Козакова, — сказала Марья Ивановна, когда он скрылся за углом. — Не люблю я его, не обижайтесь на меня…
— Я не обижаюсь, — ответила Лапкина печально. — И вовсе он не мой…
Она проводила Марью Ивановну до ее дома. Та на прощанье сорвала ей с грядки простеньких белых пахучих цветов, но Лапкина потом букет бросила. Ей показалось, что это смешно — идет по улице женщина с цветами, влюбленная, но нелюбимая. Она снова прошла мимо дома директора, где светились окна. Наверное, Федотов все еще там. Сидит, молчит, курит, ужинает. Может, ухаживает за кем-нибудь. У директора гостит внучка, юная студентка. И вся история с Федотовым показалась ей вдруг такой банальной, простой, глупой, пошлой, что она похолодела от стыда. Вместе ехали, сошлись, разошлись… «Что же мне теперь делать? — думала она. — Как я буду жить, если больше не уважаю себя?»
Вся улица уже спала, ставни на окнах были закрыты, свет погашен. Где-то далеко в саду пели. В чьем-то сарае, проснувшись, замычала корова. Ветер зашевелил свисающие над забором ветки. Листья тихонько шелестели что-то свое, невеселое. «Сон ты мой золотой», — думала Ольга Петровна. Она стояла у чужого забора, смотрела на неосвещенную улицу и понимала, что никуда отсюда, не уедет, это невозможно — уехать, надо жить, как жила, работать, руководить драмкружком. Но сердце болело, она твердила: «Я не могу без него, не могу».
Она подошла к школе и испугалась. Кто-то стоял у ее крылечка.
— Это вы? — спросила Лапкина, слабея. — Я думала, директор вас не отпустит.
— Нет, зачем же, я пришел к вам…
Федотов взошел вслед за ней на крыльцо, прошел через сени в комнату. Она села. Он стоял виновато, как ученик. Так приходили к ней ученики, мялись на пороге, тискали в руках шапки, а она спрашивала, как умела, строго: «Ну, что тебе? Двойку хочешь исправить?» Сейчас она ничего не спрашивала. Не могла.
И опять он произносил не те слова, не то, что ей было нужно. Рассказывал, как понравился ему директор, очень толковый и занятный старик, критиковал постановку военного дела у них в школе, но не заикался о будущем, об их судьбе. Ей хотелось быть гордой, презрительной, независимой, она вытащила папиросу, закурила. Бодро рассказывала, как встретили ее ученики, как много скопилось работы, пока ее не было: она ведь должна будет сделать доклад о совещании на учительском собрании, надо серьезно подготовиться. Ольга Петровна как бы защищалась, хотела показать: вот она, моя трудовая жизнь, вот оно, мое дело, ты не смеешь меня презирать за то, что было в лесу. Но рука ее, державшая папиросу, дрожала.
— Интересно было в гостях?
— Внучка у директора, оказывается, хорошо поет…
— И у меня были гости… правда, не пели…
— А я люблю…
— Ваша жена поет?
— Поет, — ответил Федотов. — У нее контральто. Очень сильный голос.
— О, я очень рада, что у вашей жены сильный голос, — сказала Лапкина с издевкой. — Мне очень интересно было это узнать.
— Но вы же сами спросили, — с недоумением ответил Федотов. — Вы спросили, я ответил…
— Ну вот, я тогда спрошу, а вы скажите, раз вы такой откровенный и честный: что вы думаете обо мне? Вы меня не уважаете, да? Женщину, которая сошлась с незнакомым мужчиной, конечно, нельзя уважать.
Силы изменили ей, и она заплакала.
— Ну, зачем? — растерялся Федотов. — Зачем вы плачете?
— Я плачу, — рыдая, говорила Лапкина, — я плачу… Для меня любовь — это такое большое, такое великое… и мне больно… и стыдно, что вы…
— Зачем вы себя мучаете? Я все эти дни вижу, как вы мучаетесь. И сам мучаюсь. А ведь было так хорошо, по-честному. Правда, было хорошо?
Он подошел ближе, обнял ее, но не поцеловал, а только прижал к себе.
— Вы скоро уедете? — спросила она. И не стала ждать ответа. — Вы скоро уедете, а я останусь… Осень начнется, зима…
— Может, еще и увидимся, — неуверенно сказал Федотов.
— Вы меня забудете, — не слушала его Лапкина. — Я знаю, вы меня забудете. Может, вспомните когда-нибудь: мол, была и такая… Девушки еще были в окружении… Расскажете кому-нибудь…
— Нет, не расскажу… Это совсем иное.
Они стояли, тесно обнявшись, словно обоим страшно стало той большой, сокрушающей силы, которая шла из их сердец и грозилась все смести на своем пути. Ветер разогнал облака, и бледная луна осветила кусты под окном и листья, вытканные на тюлевой занавеске.
— Очень вы мне стали близки, — сказал Федотов, сокрушаясь. — Я и сам не знаю, что нам теперь делать…
— Вы мне ни одного слова не сказали, — упрекнула Лапкина. — Вы ничего не сказали, как вы относитесь ко мне.
— А разве и так не понятно?
— Я исстрадалась. Измучилась.
Она прижалась к его груди и слушала, как бьется сердце. От гимнастерки хорошо пахло шерстью, табаком и цветочным одеколоном. Очевидно, брился перед тем, как пойти в гости. Она провела рукой по его щеке. Щека была выбрита.
— Что это вы? — спросил Федотов.
Она не ответила. Но горячие слезы полились на его руку, которую она держала в своей.
— Не плачьте, — говорил он ей, как маленькой. — Не плачьте…
— Мне так хочется знать, что у вас на душе…
Он не умел объяснить. Чувствовал, как его заполонило любовью, и от этого было радостно, а рядом умещалась боль от сознания, что легко мог уехать, уйти, не заметив, не разглядев любви.
Федотов вздохнул.
— И без того у меня все пошло кувырком, как демобилизовался. Я уже про это говорил: надо мне определиться в мирной жизни… Думал: посмотрю, как тут у вас, что, а на месте все бы и решил… Но встретил тебя. Я и не знал, что такое бывает. Вот не хотел, а и жене, и тебе принес несчастье…
— Нет, счастье, счастье, — возразила Лапкина и закрыла ему рот рукой.
Но он отвел руку.
— А если я не вернусь? Тогда?
Она молчала.
— А вдруг ребенок?
— Хорошо, если ребенок…
— Что ж хорошего, если будешь одна, без меня…
Она, как в бреду, бормотала:
— Ты всегда будешь со мной, если даже не вернешься…
Он пожал плечами.
— Я жене честно все скажу, и пусть она решает. А так я ведь не имею права ее обидеть.
— Право у того, кого любят. Но ты честный человек…
— Все-таки она меня ждала все эти годы.
— А я разве тебя не ждала? — живо спросила Лапкина. — Я только не знала, кто ты…
Он поцеловал ее сухие, горячие губы:
— Славная ты, очень славная… Я…
— Не надо, не говори, — отозвалась она.
Ей уже не нужны были те слова о любви, о которых она так тосковала. Не в словах дело. Она торопилась, показывала ему свои тетрадки и книжки, дневник, конспекты, план работы. Он близкий, родной, он все должен знать. И Федотов с любопытством покачивал головой, удивляясь ее образованности.
— Да, серьезная у тебя работа, — говорил он с уважением. — Нельзя стоять на месте, надо все время двигаться вперед…
— Теперь мне ничего не будет трудно, — сказала она, успокоившись. И спросила: — Но ты вернешься?
— Если я и не вернусь, то знай, я одно хочу тебе сказать…
Но она положила ладонь на его губы.
— Не надо ничего говорить…




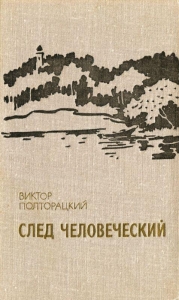
Комментарии к книге «Осенним днем в парке», Матильда Иосифовна Юфит
Всего 0 комментариев