Геннадий Гор Повести и рассказы (сборник)
Творчество Геннадия Гора
1
«Форма выражения, манера или стиль у настоящего художника подчиняются не случайной прихоти, а чему-то более глубокому, уходящему своими корнями во внутренний опыт, в глубинное знание жизни».
Эти слова Геннадия Гора были сказаны им в книге о ненецком художнике Константине Панкове. Но они применимы и к самому Гору. Следует лишь добавить: не только форма выражения, но и внутреннее содержание произведения определяется жизненным опытом художника.
Жизнь Гора началась необычно. Он родился 28 января 1907 года в Верхнеудинске — ныне Улан-Удэ — в семье профессиональных революционеров. В воспоминаниях Н. Н. Баранского, видного деятеля большевистской партии, одного из организаторов первых социал-демократических кружков в Сибири, в числе других активных участников революционного движения в Сибири упомянут Самуил Гор.[1] Это был отец будущего писателя. Первый год своей жизни Геннадий Гор провел в тюрьме в Чите, куда были заключены его родители за активное участие в революционном подполье.
0 детских и юных годах своих Г. Гор впоследствии писал: «…Куперовой и Майнридовой Америки уже давно не существовало, и только мне повезло в двадцатом веке каждый день видеть край, еще более первобытный, чем исчезнувшие миры Купера и Майна Рида».
Необозримые просторы Сибири, таинственная и могучая тайга, неповторимый быт малых народностей Севера — все это во многом определило будущие темы произведений Г. Горя. Его приятелями были эвенки и буряты, и любовное отношение к ним сохранилось у него на всю жизнь. Позднее он много переводил прозу зачинателей литературы ненцев, хантов, манси.
В средней школе Гор учился в Чите. В 1923 году он приехал в Петроград, а через два года поступил на историко-филологический факультет университета.
В Ленинграде в двадцатые годы существовало литературное объединение «Смена». Принимали в нем участие многие из тех, кто позднее занял видное место, в советской литературе. Это Ольга Берггольц, Борис Корнилов, Александр Гитович, Борис Лихарев, Леонид Рахманов. Свой литературный путь Г. Гор начал в 1925 году именно в этом кружке. Дебютировал он в молодежных изданиях — в журнале «Юный пролетарий» и газете «Смена».
Первая книга рассказов писателя вышла в Ленинграде в 1933 году и носила название «Живопись». Посвящена она была главным образом проблемам искусства, вопросу о художнике в современном мире.
В тридцатые же годы писатель обратился к материалу, который с детства был ему близок, — к жизни малых народностей Севера. В таких книгах, как «Ланжеро», «Большие пихтовые леса», «Синее озеро», черты условности, которые были свойственны книге «Живопись», уступили место реалистическому подходу к действительности.
В послевоенное время Г. Гор опубликовал повесть «Остров будет открыт» — о молодом человеке, почти подростке, вернувшемся с фронта, о возвращении его к мирному бытию и о тех трудностях, которые преодолевает герой в поисках своего места в жизни.
В пятидесятые годы Г. Гор пишет повести, названные в критике «университетскими», — «Ошибка профессора Орочева», «Однофамилец». В них писатель выступает против приспособленцев и карьеристов, за подлинно творческое отношение к науке, которая мстит за себя бесплодием и деградацией каждому, кто поиски истины в науке подменяет низменными побуждениями.
В шестидесятые годы Г. Гор обращается к научно-фантастическому жанру. В этот период появляются такие произведения, как «Синее окно Феокрита», «Докучливый собеседник», «Кумби», «Странник и время», «Нездешний старичок», «Волшебный берет», «Лифт», «Картина» и другие.
Вместе с тем он возвращается к материалу своих ранних вещей и воскрешает впечатления своего детства и юности. Такова одна из самых последних вещей его — талантливая повесть «Рисунок Дароткана», опубликованная в 1972 году.
2
Г. Гор проработал в литературе почти полвека. Мы встречаемся в его книгах с множеством тем, сюжетов, ситуаций. Но при всем этом многообразии у Г. Гора, как у всякого серьезного художника, есть свое видение мира, обусловленное особенностями его таланта и жизненного опыта, своя внутренняя устремленность, словом — то, что Белинский называл пафосом творчества.
В произведениях Г. Гора явственно видны две линии, во многом не только не сходные, но даже как будто контрастирующие и в известном смысле противоположные друг другу. Это, с одной стороны, произведения, которые можно назвать «северными», — о жизни народностей Севера, совсем еще недавно живших как будто вне истории, вне цивилизации, и с другой — повести и рассказы, для которых характерна постановка сложных проблем философии, эстетики, социологии.
В критике отмечалось, что литературная манера Гора приближается к манере живописца, который воссоздает многокрасочную картину виденного в замкнутом пространстве. Стремясь передать всю необычность своего материала, Г. Гор опирается на творческий опыт больших мастеров советской прозы. Он, в частности, учился у Бабеля умению лаконично и, казалось бы, в нейтральном тоне повествовать о событиях страшных и трагических. Рассказ Г. Гора «Горячий ручей» начинается так: «Я играл в лесу. Ручей кипел у моих ног. Вода была желтая, а камни зеленые. Траве было тепло возле ручья. Сосны отодвинулись от ручья. Они, наверно, боялись ручья, их корням было жарко.» Прелестная лесная идиллия!.. Человек не отделяет себя от природы, а природа очеловечена. Но в эту безмятежную таежную глушь врываются бури гражданской войны. Мальчик, от имени которого ведется повествование, встречает группу всадников, он их принимает за гостей. Но это не гости. Это белые, и они ищут отца и мать ребенка, чтобы расправиться с ними.
«— Коля, — сказал мне человек с большим ласковым ртом, — иди-ка сюда.
Я подошел к нему.
— Мальчик, — сказал мне тот высокий человек. — Иди посмотри на папу. Мы убили твоего папу. Он там лежит, твой папа, на полу.»
Убивают и мать этого мальчика и остальных обитателей поселка. Жестокие бури сотрясают тишину таежной глуши.
Г. Гор совсем не склонен изображать жизнь охотников и рыболовов в духе нетронутой цивилизацией гармонии. Он видит, что и здесь кипят социальные страсти. И здесь есть люди добрые и открытые и люди жестокие, которые из-за корысти, соперничества и злобы готовы на любое зверство. Два рассказа — «Ивт одноглазый» и «Старик Тевка» — посвящены теме социальной розни в, казалось бы, однородном и цельном быту стойбища. Герои этих рассказов — братья Ивт и Вайт. Во время японской оккупации они оба верой и правдой служили интервентам. Это богатые люди. У Вайта было тридцать девять собак, у Ивта — на десяток больше. Братьев раздирают бесконечные распри, на почве соперничества они готовы убить друг друга. Но в своей враждебности, ненависти к старому Тевке они едины.
Старый Тевка поет песню:
«Два худых человека рядом со мной живут. Два богатых человека. Одного Ивтом звать, другого — Вайтом. Ивт Вайту ухо отрезал. Вайт Ивту палец откусил. Два худых человека смотрят на меня тремя глазами. Ладно, весна скоро придет, река откроется. Я в лодку сяду. К хорошим людям в гости поеду. Торопись, весна, Тевка тебя любит.»
И этого доброго человека «худые» братья подстрелили и сделали инвалидом. «Не думал он, что братья Ивт и Вайт хотели его оставить без ноги Ничего он не сделал им худого.» Лишь сказал как-то братьям Ивту и Вайту, что они жадные люди («Мало ли что сболтнешь сгоряча»). Старый Тевка не может допустить мысли, что братья могли с умыслом искалечить его. Но так именно и было: злобные собственники не могли простить старику правды.
В рассказе «Пила» с нарочитым бесстрастием повествуется, как местные богатеи Сычуговы заподозрили отца мальчика, от имени которого ведется рассказ, в том, что отец украл у них новую пилу. Сычуговы пытают отца и выспрашивают у него, где пила. «Не о чем мне с вами говорить, — отвечает отец. — Вы хапуги. Ну и хапайте. Амбары у вас большие. Я у вас ничего не брал.»
Г. Гор с суровой правдивостью изобразил противоречия собственнического мира, по-своему отразившиеся в тунгусских селениях. В связи с этим большое место занимает в рассказах и повестях писателя одна из определяющих тем его «северных» произведений — тема глубоких преобразований, которые принесла революция в жизнь его героев.
Особенно широко эта тема советской нови, неодолимо растущей в таежной глуши, развита в повести «Ланжеро». Ланжеро — таким поэтическим именем назвали гиляка.[2] Начинается повесть о нем трагическими сценами. Погибают его мать, сестра и брат. Маленькому Ланжеро говорят, что ветер унес его родных и чуть было не погубил и его самого. Но добрый друг стойбища доктор Иван Павлович дает этим смертям иное объяснение: «Ветер, говоришь, тебя чуть не унес. Это не ветер, а интервенты. О нефти и рыбе помнили, о людях забыли, о вас, гиляках. Не бойся, сейчас есть кому бороться с „ветром“.»
В судьбе юноши, которого Советская власть в буквальном смысле слова спасла от гибели, нашли свое отражение принципы революционного гуманизма. Путь Ланжеро к культуре прослежен Г. Гором убедительно и ярко, но историю русской девушки Нины, которая оказывается воплощением мечтаний юноши, писатель рассказывает бегло и схематично.
Жизнь Ланжеро справедливо представляется Г. Гору типичной. Поэтому в другой книге (о ненецком художнике Константине Панкове) с полным основанием он мог написать: «У народов, еще недавно не имевших письменности, возникла… народная интеллигенция, свои писатели, поэты, художники. Октябрьская революция была величайшим обновлением социального и духовного мира людей.»
Заслуга Г. Гора в том, что он один из первых в советской прозе коснулся этой большой и благородной темы.
3
Наряду с «северными» рассказами и повестями, писатель почти одновременно работал над произведениями совсем иного плана. Содержанием их стали проблемы философии, эстетики, науки. Для книг этого рода характерны усложненные средства художественного выражения.
Нет никаких сомнений в том, что и вторая линия органична для Г. Гора, которого с юных лет отличало пристальное внимание к науке, философии, живописи. Уже в ранней его книге «Живопись» есть небольшая повесть «Слава». Она отличается некоторой усложненностью построения, парадоксальностью и условностью сюжетных решений. Но вместе с тем в ней обращает на себя внимание зоркость молодого писателя, который сумел почти сорок лет назад угадать драму художника в современном буржуазном мире.
Писатель не отмечает бытовых признаков страны, в которой происходит действие. В этом тоже сказывается особенность повести. Она рассказывает о некой обобщенной стране капиталистического Запада. Художник Андре Шар охвачен тревожным и мучительным беспокойством, он в отчаянии, в нем созрело горячее недовольство своим искусством и всем окружающим его миром, И этот протест он хочет выразить в живописи. В первой работе Шар показал Адама и Еву. Адам был изображен низеньким розовым толстяком на зеленом фоне. Над ним парила лимонно-желтая Ева с громадным лицом на длинной узкой шее, которая была длиннее самой Евы. В следующей серии картин машина изгоняла человека с земли, как бог изгнал Адама и Еву из рая. Третий период, отмечает писатель, был беспредметным в полном смысле слова. Он включил в себя месть Шара «за человека, за человеческий страх, за порабощенное воображение, за тоску», за одиночество, за лица детей в подвалах…
В неистовстве абстрактной живописи Шара автор видит его стремление вернуться к тем временам, когда нашего мира еще попросту не было. «Он возвратил все существующее к… космическому и первоначальному хаосу…»
И, пересматривая свои картины и свою жизнь, художник ощущает свою полную изолированность от людей, от мира. На улице его окружают «современные одинаковые буржуазные города, аскетические, как стены его комнаты». Он приходит к заключению: «Нужно сдвинуть всех людей, всех… с их места, заставить их что-то делать, устыдить их, показать им бессмысленность их жизни и их картин.» И Шар решает, что этого можно достигнуть всякого рода эксцентрическими выходками. Но все остается по-старому. Мало того — самые экстравагантные выдумки Шара, которые, по мысли художника, должны вывести из себя буржуазного обывателя, находят отличный сбыт у этого самого обывателя. В повести фигурирует торговец картинами Моробье. Все, что должно было возмутить Моробье, на самом деле вызвало его восхищение. И он без колебаний покупает самые абстрактные полотна Шара. Художник с ужасом убеждается в бесплодности своего бунта. Дерзкие выпады против буржуазии лишь забавляют всесветного мещанина.
Шару «стало ясно, что его стремление вывести людей из равновесия, подобного сну после сытного обеда, было всего-навсего стремлением к славе. Ему представилось это так отчетливо, точно он поднял самого себя до уровня своих глаз, осмотрел себя с ног до головы и с омерзением бросил.»
Почему же бунт Шара нелеп и бесплоден? Писатель отвечает на этот вопрос четко и ясно. Шар хочет своим творчеством вызвать ужас буржуа. Но что было бы способно вызвать этот ужас? «Призрак пролетарской революции», — это подсказал бы Андре Шару любой подросток из рабочей семьи, если бы Андре Шар стал советоваться с подростком. «Но Андре Шар, — подчеркивает писатель, — всегда советовался только с самим собой, со своей совестью и со своим воображением. Кроме самого себя, он никого не уважал и ни с кем не считался.»
Драма Шара состоит в том, что он, бунтуя против буржуазного миропорядка, остается на почве самого этого миропорядка и не в силах вырваться из его мертвящих объятий. Выступая против Моробье, художник остается слугой и шутом того же скупщика картин.
Писатель уловил, что среди модернистов, наряду с шарлатанами, есть и честные художники, которые стремятся выразить свое мучительное недовольство окружающим миром, но вместе с тем он сумел- обнажить абсолютную бесплодность индивидуалистического бунтарства. Кроме того, Г. Гор еще в ту пору, когда крайности модернизма только начали проявляться, предугадал возникновение наисовременнейшего поп-арта — последней формы распада искусства, когда «картина» состоит из вполне реальных вещей: изуродованных останков автомобиля, консервных банок и самого обычного бытового мусора и хлама.
Самоизоляцию художника от жизни писатель едко высмеял и в рассказе «Стакан». Если Шар заслуживает сочувствия, то живописец, отгородившийся от советской действительности и ушедший в мелкий замкнутый мирок, достоин осуждения. О нем писатель говорит с явным сарказмом: «Ни пули революции и ни снаряды гражданской войны не задели ни его стакана, ни его лысую голову, похожую на стакан.» На очередные выставки он приносил очередное изображение стакана. Картину охотно брали, потому что стакан — это натюрморт, а Широкосмыслов считался «большим мастером натюрморта». И вот среди революционных картин, среди вздыбленных машин и вздутых, как весенняя вода, мускулов; среди знамен и людей появлялось изображение стакана — символ устойчивости, завершенности и обывательского самоустранения от гроз и бурь реальной жизни.
Лучшие рассказы Г. Гора о живописцах ставили глубокие вопросы эстетики, утверждали силу и значительность живой жизни — истинного источника творческого вдохновения.
Уже говорилось, что в шестидесятые годы Г. Гор обратился к жанру фантастической повести и рассказа.
Произведения фантастического жанра отличаются большим внутренним многообразием. В одном случае мы имеем дело с научно-техническим предвидением. (Классический пример тому — творчество Жюля Верна. Множество изобретений, которые позднее стали реальностью, были в тех или иных вариантах предугаданы и предсказаны этим писателем.) В другом — фантастический жанр лишь условная форма, позволяющая ставить большие философские проблемы. Часто в книгах подобного рода изображаются ситуации явно нереальные, которые никогда не смогут стать явью. К таким произведениям относятся и книги Г. Гора.
Уже самые первые произведения писателя (в книге «Живопись») содержали многие элементы, нашедшие свое дальнейшее развитие в его научно-фантастических повестях и рассказах. Сюжеты этих ранних вещей далеки от бытовой реальности, они носят условный характер. Они основаны на художественных преувеличениях, в них преобладают символика и гротеск.
Но не только в рассказах о художниках есть черты, сближающие их с произведениями фантастического жанра. Даже в реалистических «северных» рассказах мы находим элементы того, что в какой-то мере предвещает работу автора в фантастическом жанре. Например, мы видим, какое внимание писатель уделяет сложному, емкому и зачастую противоречивому понятию исторического времени. Так, в повести «Ланжеро» гость из города разъясняет своим слушателям в гиляцком стойбище: «Вот вы люди, и в городах, в теплых больших домах тоже живут люди. Между вами разница маленькая, этак в десять или больше тысяч лет.»
Этот мотив звучит во многих произведениях Г. Гора. С одной стороны, жители больших городов и обитатели тунгусских яранг были современниками, а по существу, по характеру их бытия одни из них пребывали в двадцатом столетии, а другие еще оставались тогда чуть ли не в каменном веке.
В научно-фантастических произведениях Г. Гора проблемы времени и пространства являются едва ли не главными. Герои его оказываются либо в давно минувших веках, либо в отдаленнейшем будущем. Перемещение из одной эпохи в другую, из одного временного измерения в другое составляет внутреннюю сюжетную пружину повестей.
4
В стилевом плане две линии творчества Г. Гора отличаются друг от друга некоторыми существенными особенностями. В «северных» рассказах писатель стремился как можно лаконичней и выразительней показать своих героев изнутри, взглянуть на окружающее их собственными глазами, передать их склад ума, их видение мира, непосредственность и наивность, проявляющуюся в своеобразии речи. Даже тогда, когда повествование ведется в третьем лице, вы как будто слышите голос самого персонажа: «У Гольчея много друзей. Гора — мать реки — его высокий друг. Черные кедры — красивые его друзья. Белые хариусы в горной речке — и те его приятели Товарищей много у Гольчея. Олень Бэюн — его быстрый товарищ. Белки, что возле неба живут на кедровых ветвях, — верхние его товарищи.» («В краю старого Чедучу»). Детскость своих героев писатель подчеркивает тем, что в произведениях этого рода явственно слышится интонация сказки.
Г. Гор передает поразительную свежесть, многокрасочность, одушевленность природы в восприятии действующих лиц. Природа здесь — прекрасный и живой организм. «Он был счастлив своей рекой и небом, всем своим краем. Его край стоял на берегу реки, как птица. Легкие, синие деревья улетали в небо. Розовые утренние горы, казалось, двигались в тумане.» («Старик Христофор»).
Человек неотделим от природы. Он разговаривает с деревьями и животными, как со своими собратьями. Естественность и простота— характерные черты самого построения «северных» рассказов.
Так как перед писателем в разработке второй линии стояли иные задачи, в частности — стремление передать атмосферу сложных интеллектуальных исканий, произведения этого цикла изобилуют диалогами, литературными и философскими реминисценциями. Им присущи причудливые, усложненные композиционные решения. Автор часто применяет двуплановую композицию — действие происходит и в бытовой реальности и в отдаленнейшие времена. Рассказам и повестям этого жанра свойственны зачастую иронические и саркастические нотки. Писатель нередко прибегает к гротеску, подчеркивает условность всего происходящего.
И возникает вопрос — соприкасаются ли эти две линии, или они существуют в творчестве писателя каждая сама по себе?
Если, однако, внимательно присмотреться к рассказам и повестям Г. Гора, обнаруживается, что в каких бы жанрах писатель ни работал, к какому бы жизненному материалу он ни обращался, его неизменно волнуют общие проблемы, и в разнородных явлениях жизни он раскрывает некие общие черты, очень важные для него. И две линии предстают перед нами в философском синтезе, и в этом синтезе сказываются пафос, страсть, которые одушевляют все творчество писателя.
Обратимся вновь к «северным» произведениям писателя. Вот портрет старого тунгуса Христофора. «Он приносил из тайги лишь столько, сколько ему было нужно. Старик Христофор был богат своими сыновьями, молодыми и здоровыми, которых все знали как неутомимых и счастливых в промысле людей. Но он сердился на них, если они убивали матку с детенышем-сосунком. Каждого зверя он уничтожал с неохотой. На тайгу он смотрел как на дом, на зверей — как на стремительно уменьшающееся стадо своего народа. На него жаловались, что он ходил по тайге и выпускал пойманных зверей из капканов промышленников, слишком жадных к наживе.»
В рассказе «Охинская почта» гиляк Удин признавался: он любит, чтобы хорошие люди жили рядом с ним.
В повести «Ланжеро» русские друзья говорят о юноше-гиляке: «До чего свежий человек!», «Какой-то утренний. Словно только что вышел к нам из тайги. Выкупался и выходит на берег.»
Характерны эпитеты, которыми определяют Ланжеро, — «свежий», «утренний человек». С этим прямо и непосредственно сопрягается и мотив детства. О герое «Охинской почты» сказано: «Он был почему-то счастлив, словно спал в детстве…» Веселье и непосредственность старого Тевки роднит его с детьми. И когда он играет с ними, он забавляет не их, а самого себя. В простых людях, обитателях тайги и тундры, писатель видит как бы проявление изначальной человечности, те основы добра и красоты, которые составляют великую и прекрасную суть истинно человеческого, то есть то, что по-своему проявляется в детстве человеческого рода.
Эту красоту и свежесть непосредственного видения мира Г. Гор считал одним из главных достоинств замечательного ненецкого художника Константина Панкова. В блестящей по оригинальности живописи Панкова Г. Гор познает радость проникновения сквозь тысячелетия к «самым истокам древней живописи».
Те же мысли развивает Г. Гор в автобиографической повести «Рисунок Дароткана». Возвращаясь к своим детским годам, писатель в числе персонажей выводит местного северного художника Дароткана и признается: «Дароткан научил меня видеть мир своими наблюдательными, косо выглядывающими из узкого выреза, веселыми тунгусскими глазками.»
Непосредственность, стремление к добру и красоте, слияние с природой — вот что радует писателя в героях «северных» рассказов. Уместно в этой связи напомнить слова К. Маркса: «Мужчина не может снова превратиться в ребенка… Но разве не радует его наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность. Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде? И почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?»[3]
Конечно, нельзя не видеть существенного различия между древней Элладой, о которой сказаны были эти слова, и северными народами.
В героях своих «северных» произведений Г. Гор видит черты исторической отсталости, примитивности, но он видит и проявление безыскусственности, непосредственности. Именно в этом пункте перекрещиваются две линии в творчестве писатели, несмотря на все различия в материале и даже в средствах выражения, какими он пользуется.
В рассказах о художниках, в фантастических произведениях звучит та же мысль о сути человечности, о добре и красоте как великих ценностях, которые надо оберегать и отстаивать в наш космический век.
5
В уже упомянутой ранней повести Г. Гора «Слава» среди полотен художника Шара, которые привели в ужас самого их создателя, глубоко разочаровавшегося во всем, есть и такие картины, где машина изгоняла человека с земли: «…Вот-вот она настигнет его… вот она его раздавила.» Это было напечатано в 1933 году.
Наиболее честные и дальновидные художники Запада видели опасность низведения человека до уровня жалкого и безвольного придатка к машине, к конвейеру. Всем помнится знаменитая кинокартина Чаплина «Новые времена», обошедшая в середине тридцатых годов экраны всего мира.
Одной из главных тем фантастических произведений Г. Гора стала тема утраты буржуазной машинной цивилизацией коренных человеческих ценностей. Знаменательно то, что художник Андре Шар переживает две драмы. Об одной из них говорилось: он хочет взорвать покой всесветного мещанина, а этот мещанин только испытывает удовольствие от экстравагантных выходок живописца. Но есть еще одна драма: в своем творчестве художник разрушает красоту мира, он создает картины одну уродливей другой. Бытие предстает в полотнах его раздробленным и обезображенным.
Мысль о радости человеческого земного бытия звучит so многих вещах писателя. В фантастической повести «Минотавр» герою предстоит далекое космическое путешествие. И его охватывает тоска, скорбное ощущение утраты прелести земного существования. «На стене висела картина… Это был кусок живой природы, кусок мира, вставленного в раму. В раме шумела роща, бушевали зеленые ветви, охваченные ветром… Я молчал. Сознание безумной утраты охватило меня, словно за возможность участвовать в экспедиции я расплачивался всем, что было дорого мне…»
С этой точки зрения значительный интерес представляет фантастическая повесть Г. Гора «Синее окно Феокрита».
Герой повести — юноша XXII века. Писатель дал ему имя древнегреческого поэта Феокрита. Сделано это не случайно. Идиллии Феокрита воспевали красоту бытия, любви, природы. В гипотетическом XXII веке люди научились путешествовать во времени. Этим умением пользуются в качестве учебного средства в школе. По желанию или в целях удобной наглядности учитель может свободно отправлять своих учеников в любой век. Стоит только открыть нужную дверь, и «можно попасть куда угодно: в Древнюю Грецию, в Древний Египет, в еще неоткрытую Мексику или Тасманию, когда еще не были истреблены тасманийцы, в неолит, и мезолит, и палеолит…»
Характерной чертой фантастики Г. Гора является явственно звучащий иронический подтекст.
Отец Феокрита был ученым. Он писал труд об античной культуре и с большой, даже излишней доброжелательностью отзывался об эллинистическом писателе Ахилле Татии. Мать тоже занималась наукой. Она писала докторскую диссертацию о китах, которые были истреблены. Чтобы увидеть их живыми, надо было отправиться в девятнадцатый или двадцатый века. С туристскими группами мать отправлялась также в Древний Египет, Месопотамию и античную Грецию. Именно здесь она познакомилась с героем исследований своего мужа. «Ахилл Татий влюбился в мою мать и уговаривал ее остаться в древней Александрии. Мой отец очень сердился на древнегреческого писателя, но… свое отношение к творчеству Татия не пересмотрел.»
Контраст между «высоким» планом фантастического сюжета и рядовым бытовым адюльтером, преувеличенная вежливость обманутого мужа — все это создает комический эффект и подчеркивает условность, «невсамделишность» фантастической линии повести. Главный же сюжет повести основан на ином материале. Феокрит в своих путешествиях во времени оказывается в XX веке в маленьком провинциальном городке. И здесь он встречается с милой девушкой Тоней, в которую самозабвенно влюбляется.
И это простое и великое чувство оказывается устойчивым, незыблемым, оно сохраняет свою силу, несмотря на все перемены, происходящие в мире. Автор замечает, что отец понял чувство Феокрита. «Он понял, что это была настоящая любовь, любовь, о которой когда-то писал Тургенев. В Тоне тоже было нечто тургеневское. Она была одна во всех столетиях, будущих и прошлых, чем-то похожая на всех других девушек и в то же время отличная, не такая, как другие.»
Кульминационным выражением пафоса повести является сценка: рассказчик попадает на дискуссию, происходящую в XXI веке, — «Реальность и современный мир». Один из ораторов говорит: «Темпы, темпы! От них лихорадит. Мы успеваем побывать на Марсе, в палеолите и мезолите, на дне Тихого океана за несколько минут. Но нам не хватает свободного времени, чтобы почувствовать радость бытия… Я предлагаю создать поле замедленного времени. Вступая в это поле, человек смог бы остаться наедине с самим собой, со своими не спешащими никуда чувствами и мыслями. Он мог бы помечтать и повспоминать, не трогая руками свои воспоминания.»
Это очень важный мотив в творчестве Г. Гора. В «северных» рассказах писатель прежде всего ценил человечность своих героев — их доброту и отзывчивость, их правдивость и внутреннюю цельность, их способность остро и свежо чувствовать радость и красоту жизни. И в фантастических произведениях звучит та же любовь к красоте бытия, то же преклонение перед истинной сущностью человека, о которой говорил Маркс.
Творчество Г. Гора одушевлено мыслью о стремительном беге времени, о грандиозных свершениях человеческого разума, о бурном развитии техники и небывалых переменах в мире. И именно исходя из этого, писатель с такой настойчивостью утверждает мысль о нетленных человеческих ценностях красоты, справедливости, любви.
Многие современные, пророки буржуазии — философы, социологи — не жалеют усилий, чтобы развенчать человека, унизить его. Показывая прекрасную сущность истинно человеческого, Г. Гор опирается на гуманистическую философию нашего общества. Он не призывает вернуться к прошлому, он зовет сохранять, оберегать и развивать те основы, которые делают человека человеком.
Пафос утверждения, человечности, размышления о судьбах человека и человечества придают творчеству Гора глубину и значительность.
Л. Плоткин
Рисунок Дароткана
1
Не я выбрал место и время для своего детства.
Разве случай не мог бы превратить меня в современника Лермонтова или отпереть мне дверь в еще никому не ведомые века? Кто же положил за моим окном гору и протоптал тропы в синие и желтые леса?
Эти тропы убегали в прошлое, и вновь возвращались в будущее, и вдруг оказались на листе бумаги — вместе с горой, похожей на оленя, присевшего отдохнуть возле наших дверей.
За столом рядом со мной сидел гость, пожилой эвеня (тогда говорили «тунгус»), и, неумело держа карандаш, рисовал на вырванном из тетради листе свой край.
У эвенка было имя, как нельзя лучше подходившее к нему. Его звали Дароткан.
Я много бы отдал сейчас, чтобы увидеть его рисунок, только он мог бы возвратить мне этот край.
На листке бумаги возникало все, что было за окном и за горой и жило в необъятной душе Дароткана, вместавшей в себя небо, реки и лиственницы с белками на ветвях.
Несколько лет спустя, уже глядя не на изображение, а проникая все глубже и глубже в незнакомую местность, я узнал, сколько пространства может вместить память охотника-тунгуса. Мы ехали из Баргузина в Читу зимой по аритмичной, как детский рисунок, тайге. С гор свисали замерзшие реки. Занесенные снегом ущелья вдруг охватывали нас со всех сторон, как в душном сне.
Проводником был Дароткан. В юности, и только однажды, он проходил по этим местам, и вот теперь он вручил судьбу двух десятков людей своей волшебной памяти, которая сверяла созданную сорок лет тому назад копию с самим оригиналом.
Творилось, в сущности, чудо. Горы, камни, кедры, реки узнавали своего старого знакомца и гостеприимно отмыкали невидимый нам замок, на который была замкнута и близь и даль.
Это чудо явится ко мне ровно через десять лет, много раз повторяясь в моих будущих и прошлых снах. А сейчас не образ, сотканный воспоминанием, — живой Дароткан сидит за столом в жарко натопленной кухне и стыдливо поверяет листку бумаги все, что он знает о соболе, спрятавшемся в дупле, и высоко забравшихся реках, текущих возле снежных верхушек гор.
Он действовал осторожно, не спешил, будто вынимал из-за пазухи не только замшевый кисет, но и обрывистый берег с горящим костром, и при этом смотрел не столько на бумагу, сколько на карандаш, словно в карандаше-то и пряталось это новое для него самого и для меня постижение мира.
Вот олень. Тропа. Верхушка горы. Дымок над избушкой, сшитой из бересты.
На столе рядом с тетрадкой лежит принесенная мною резинка. Но кто осмелится притронуться к жизни, стереть этот веселый мир, так сказочно и несбыточно оказавшийся на бумаге?
В раскрытой тетрадке оставила свои следы зима. Она только что была здесь и с трудом оторвалась от бумажного листа, чтобы снова оказаться за окном.
А тот, кто только что орудовал карандашом, сидел как ни в чем не бывало и пил чай, держа в ладони блюдце.
Дароткан напился, икнул и поставил стакан вверх дном рядом с рыхлым огрызком сахара, давая всем понять, что он сыт и вполне удовлетворен нашим гостеприимством.
Перевернутый вверх дном стакан и огрызок сахара — это символ, знак, дальний родственник слова.
Молчаливые эвенки любят общаться с явлениями и обычаями, минуя слово, и превращать предметы в своего толмача. Вот стоит перевернутый стакан и говорит за Дароткана, словно тот потерял дар речи.
Стакан говорит, а молчаливый Дароткан встает и пожимает каждому руку., Я и сейчас чувствую это пожатие и вижу его лицо, словно выкроенное из замши и слегка пахнущее крошенным из зеленого листа табаком, смешанным с сосновой корой. На длинном лице я вижу рот с трубкой, возле рта — завиток дыма и веселые, сумасшедшие глазки, косо выглядывающие из узких прорезей.
Он делает бесшумный шаг, и вот он уже за дверью. Окно — кусок синего, словно речная волна, неба, — на минуту становится фоном, рамой, замкнувшей его на картине моего воспоминания.
Легко отделившись от земли, он садится в седло на долго ожидавшего его иноходца.
Гора отодвинется, чтобы пропустить Дароткана и его коня, — гора, которую на рисунке он изобразил одной гибкой, капризной линией.
2
Пространство было для меня загадкой. Впрочем, я так и не научился, хотя изучал геометрию, понимать покой вещей, как будто бы всегда равных самим себе.
Мое детство прошло в краю, где почти все выглядело асимметричным. И камни, и деревья, и дома, казалось, падали, но все никак не могли упасть. Крутизна отвесных гор не терпела ничего устойчивого. Все неслось, вскакивало на дыбы, горячилось и неистовствовало, — не только взбесившиеся кони и реки. И потому еще мягче ощущалась тишина.
Никогда потом мне не приходилось ощущать ни такой, словно скатанной из овечьей шерсти, тишины, ни такого гула, грохота, грома, где тонуло все, кроме облаков.
Дароткан рисовал и облака, но они походили на шкурку горностая, которую он только что держал в руках, показывая ее деду.
А потом шкурка снова превращалась в живого, насторожившегося зверька — уже не на лысом хребте горы, а на листе бумаги.
Эвенк так же простодушно радовался, как и я, будто нам удалось возвратить жизнь убитому зверьку.
Да, пространство было для меня загадкой, как жизнь зверей, шкурки которых я видел ежедневно.
Нечто не вполне разгаданное таилось и в таком, казалось бы, обыкновенном предмете, как дверь. Дверь открывалась, а за ней был мир. На ночь дверь закрывалась на засовы и запоры, и вместе с дверью закрывался на замок мир, который был, по-видимому, не так уж безопасен для дома.
Я уже кое-что знал о просторах, начинавшихся сразу же за горой.
Трехлетним я совершил путешествие на волокушах по бездорожной тайге. Две жердины, привязанные к лошади, волокли меня по тропе, прижатой лиственницами и кедрами к скалистой горе. Гора свешивалась, падая. Иногда возникал гул. И эхо. Это кричала река. И когда мне становилось невмочь на волокушах, меня брал к себе в седло орочей Микула, и я чувствовал под собой теплую лошадиную спину.
Тайга, теряя и вновь находя себя, не спешила расстаться с нами. И свою неспешность, смешанную с одуряющим запахом багульника и пихтовых ветвей, она дарила нам вместе с покачивающейся походкой лошади.
Ночь начиналась у костра под грохот невидимой в темноте речки. А днем один и тот же покрытый вечным снегом голец то приближался, то отдалялся, играя с Микулой, с лошадью и со мной в удивительную и непонятную мне игру.
Игра кончилась, когда за нами закрылась дверь и вместо бесконечного неба с ночными звездами мы увидели наконец над собой потолок.
Все это стало прошлым и иногда возвращалось во сне или когда дедушка и бабушка, у которых я жил, называли то, что не вмещалось в свое название.
Сначала мои родители скрывались на золотых приисках. А потом между ними и мною встала гора, закрыв все синевой.
Мне строго запрещалось называть родителей при посторонних, и особенно при старосте — красивом румяном старике, на голове у которого вились волосы, как у ребенка.
Старосте говорили, что я сирота. И я не знал, кого обманывают: его или меня. Между мною и этим красивым кудрявым стариком протянулась невидимая нить, и иногда мне кажется, что она тянется и сейчас, хотя он давно лежит на деревенском кладбище на отлогой стороне горы, затененной черным лесом.
Степан Харламыч (чаще его называли просто «Харламыч», считая, что отчество без имени — самое подходящее для него имя) явно проявлял ко мне интерес. Меня поскорее уводили в спальню, когда румяный кудрявый старик появлялся в доме моего деда.
Мой дед был предстарителем известной в Сибири фирмы и заготовлял для своих хозяев пушнину и скот. На вывеске маленькой конторы была изображена белка. Живая и пушистая, как дым, казалось, она только что прыгнула туда с темно-зеленой ветки кедра или с листа бумаги, где ее создал Дароткан своим квадратным плотницким карандашом.
В конторе пахло пантами, вывернутыми наизнанку беличьими шкурками и кабаржиной струёй.
Кисловатый мускусный запах кабаржиной струи и пантов был мне привычен и напоминал о моем друге Дароткаме.
Два полюса моего детства — эвенк в мягких унтах из светлой замши и кудрявый румяный староста в длинной ситцевой рубахе, вставший на цыпочки, чтобы заглянуть к нам в окно. Уж не были ли они олицетворением самого бытия, надевшего на себя платье, сшитое из лоскутков неба, леса, озера и реки и пославшего ко мне этих двух так не похожих друг на друга стариков?
Меня звала к себе гора, присевшая напротив наших окон и готовая вот-вот встать. Казалось мне, гора сейчас подставит мне свою оленью спину и понесет меня на озеро Байкал или в город Баргузин, прекрасный, как эхо, застрявшее в ущелье, где несется, прозрачно обтекая круглые камни, большая синяя вода.
Однажды дедушка взял меня в город. Мы ехали в рессорном плетеном тарантасе, и местность, не желая с нами расстаться, долго-долго показывала одно и то же: соленое озеро, камыш, горку и камень, похожий на вставшего на задние лапы медведя.
Круглая горка, забежав вперед, умудрилась проникнуть в мой сон.
Проснулся я возле реки, разбуженный эхом. Кричали с другого берега.
Мы ждали парома.
Отделенный от нас широкой полосой воды, куда-то плыл город Баргузин. Лес велел нам остановиться и молчать, прислушиваясь к той симфонии, которую исполняла река.
Только много лет спустя я понял, почему мне так нравились рисунки старого эвенка Дароткана. Это были сгустки времени и расстояния, первобытная азбука, научившая меня читать по слогам пространство, мысленно соединять и разъединять облака, холмы, пахнущую богородской травой высокогорную степь с нетающими снегами гольцов.
3
Громкие деревянные мосты были в близком родстве с тихими плотами, смолеными лодками и паромами;
Под мостами кипели и злились протоки, а паромы и плоты соединяли берега, пытавшиеся убежать друг от друга, берега, перекликавшиеся через простор воды на певучем девичьем языке.
В прозрачной, как горный воздух, синеве плавали сиги и таймени. Теперь мне иногда кажется, что синяя волна качала колыбель моего детства, волна, похожая на гибкую, скользкую спину тайменя.
Паром подплыл к берегу и принял ожидающих: лошадь с тарантасом, меня, деда и бродягу в длинных ичигах, возвращавшегося с золотых приисков.
Возле толстого каната, пересекавшего реку, стоял хозяин плавучего жилища — низенький еврей с длинной, вившейся рыжими колечками бородой.
Бродяга, с досадой плюнув в реку, вдруг погрозил кому-то кулаком. У бродяги, пришедшего пешком с Ка-равтита, были какие-то свои счеты с краем, и вот сейчас он грозил оставшейся далеко позади тайге, жалея о том, что не успел ее спалить.
Привязанный к широкому поясу, болтался большой, одетый в кожаный чехол нож. Он смущал меня скрытыми в нем возможностями. Я ждал, когда бродяга вытащит из ножен свой длинный нож и весело зарежет меня и деда.
Перевозчик тянул канат, внезапно став еще меньше.
Возле его курчавой бороды летал слепень, только что укусивший нашу лошадь.
Паром, казалось, застыл на середине реки под белым облаком, плывущим под нами и над нами. Я ощущал всю свежесть бытия, будто весь мир превратился в это прохладное облачко, отразившееся в реке!
Вода, рассекая лес, торжественно шла, неся мои будущие сны. Я глядел в ее глубь, будто там свернулась речная тайна, надев на себя прозрачную студеную шапку и став невидимкой.
Вдруг наша лошадь громко заржала. Я и сейчас слышу ее ржание, и вижу синие горы со снежными верхушками, и ощущаю под ногами глубину реки, остановившуюся, чтобы продлить выпавшую мне. необыкновенную минуту.
Одна минута детства длиннее, чем целый месяц старости. Сколько раз случай задерживал бытие, чтобы я остреа почувствовал неспешный ритм окружающей меня жизни.
Наша лошадь ржала. Она ли это ржала, или — это ржал мир, радуясь чему-то и ликуя вместе с лесом?
Надвигался берег с цепью синих гор и несколькими улицами деревянного уютного городка.
Лошадиное ржание, звеня, вливалось в тишину леса. Коричневый конский глаз, косясь, смотрел на висевший нож бродяги.
Река качнулась. Набежали волны, и паром легко и упруго стукнуло о берег. Дорога, выгибая желтую спину, подбросила нас. И сразу нас окружили сосны и одноэтажные дома с широкими белыми ставнями.
На небе не было ни одной тучи, а тем не менее гремел гром. Только несколько минут спустя я понял, что он будет греметь всегда. Это неслась Банная. Звон, гул, грохот. Звеня, она падала на деревянный настил.
Лошадь снова заржала. Ее ржание тонуло в стонущем грохоте воды, падающей на разбухшие бревна.
На улице что-то свершалось. Казалось, здесь таилось множество возможностей, как в одетом в кожаный чехол ноже, висевшем за поясом бродяги.
За домами остановились горы, живые и огромные. Они остановились, чтобы не раздавить дома, ставшие на их пути к реке.
Горы остановились, как в сказке. Ведь эту сказку рассказывает мне детство, прислушиваясь к грохоту речки, прыгающей по деревянному настилу.
4
Мне хотелось бы, чтобы этот рассказ продолжила. за меня речка или дом, перед дверью которого мы стояли.
На белом косяке чернела кнопка. Дед прижал к ней свой толстый, вымазанный в смоле палец, и дом открылся.
Дом открылся и сразу же закрылся, отрезав нас от лошади, покрытого пылью тарантаса и от дороги, оставшейся в раздвигавшемся и сдвигавшемся пространстве, наверно уже стосковавшемся по дедушкиному голосу, понукавшему лошадь.
Пахло масляной краской и шипевшими на сковороде котлетами. В уютной, тенистой глубине, среди горшков и домашних растений с огромными, словно вырезанными из кожи, листьями затаился неизвестный мне мир. На блестевшем, как лед, линолеуме дед оставил мохнатые следы, которые прислуга сразу же стерла мокрой тряпкой.
Кто-то поздоровался с нами старушечьим недоброжелательным голосом. Это был попугай, глядевший на нас из клетки. В его приветствии было нечто таинственно-отсутствующее, словно дом произнес приветствие на птичьем языке, чтобы предупредить нас, что нас ждет нечто странное и что город это давно берёг про запас, чтобы оставить нас в дураках.
Хозяйка дома — моя городская тетя — пришла позже. Она и обрадовалась нам, и одновременно огорчилась. Ее смущали огромные дедовы сапоги, подошвы которых сразу же оставляли следы на полу, как только дед вставал с трещавшего под ним венского стула и ступал на идеально чистый пол.
Он возвращался на кухню, долго и старательно тер там подошвы о половик, но, вопреки всем его стараниям, сапоги снова оставляли черные мохнатые следы, словно к его подошвам навсегда пристала жирная земля, прибывшая издалека и ни за что не желавшая расстаться с дедовыми ногами.
Дед делал шаг. И сразу же оставлял след. И тут же появлялась тряпка и рука, чтобы напомнить нам об идеальной чистоте, которой с утра до вечера здесь все служили и угождали.
Я долго не мог понять сущность отношений, которые установились здесь между людьми и вещами, настороженно пребывавшими в гулких и светлых комнатах, где время от времени музыкально играли и били стенные часы.
В вещах, по-видимому, таился кем-то заколдованный мир, одеревеневшие чувства и мысли, онемевшее надменное время, почему-то скрывшееся от нас и надевшее на себя личину, покрытую лаком.
Вечером с работы пришел дядя, и дом стал открывать свои тайны.
Из синей трубы ящика, стоящего на круглом столе, послышался вдруг мужской голос, внезапно и страшно запевший:
Ямщик, не гони лошадей…Голос возник из ничего. Не мог же кто-то уменьшить себя в сто раз, залезть в синюю трубу и оттуда пугать меня громкой песней, так страшно и непонятно отделившейся от певца.
Моя испуганная мысль не решалась соприкоснуться с этим новым и странным явлением, которое дядя тут же пытался укротить, назвав его имя.
Да, у этого предмета было название. Но тем хуже для него!
Передо мной стояла вещь, которая намекала на противоестественное сходство человека с попугаем.
Техника пыталась создать чудо, но чудо сразу же опошлилось, словно бы лермонтовский летящий в ночи ангел вдруг превратился в огородное чучело.
5
Где-то далеко ждала меня уже проснувшаяся гора и окно, пытавшееся вместить в свою синеву простор лесного неба и тишину плывущих облаков.
Тут тоже были окна, но они были прорублены не в мир, а в чужой двор.
Этот двор и это низенькое самодовольное дерево принадлежали крестьянскому начальнику Сычугову.
Я видел, как Сычугов — сытенький, пузатенький, в белом кителе и в парусиновой фуражке с кокардой — вышел из дома.
Его ноги, обутые в щеголеватые сапожки, спешили в тот угол двора, куда только что привезли дрова.
Длинный оробевший парень складывал поленницу.
Крестьянский начальник протянул руку и вытащил торчавшее полено. Поленница услужливо рухнула, мстя за что-то нескладному верзиле, растопырившему руки.
Сычугов встал на цыпочки и ударил парня. Все это произошло в тишине.
Во дворе творилась немая сцена, которая сразу же и прочно заняла уголок в моем детском сознании, а потом превратилась в мысленную иллюстрацию эпохи Николая II, постепенно наслаиваясь на позже виденное мною в театре и кино и от этого теряя значительную часть подлинной реальности.
Но пока за окном был еще не театр и не фильм, а нечто ярко и предельно обыденное, поставленное великим и скромным режиссером — самой действительностью.
Парень снова начал складывать поленницу. А щеголеватые шевровые ножки Сычугова круто повернулись и понесли брюхатое туловище крестьянского начальника к дощатому помещению, стыдливо спрятавшемуся в кустах.
Мне вскоре наскучила роль созерцателя, и я вышел из дому, открыл калитку. Неизвестность охватила меня со всех сторон.
Гремела Банная. Ее шум и грохот манили меня, как манит синий лес на свои убегающие вдаль тропы.
На свете нет ничего музыкальнее, чем вода, отвесно падающая вниз, где лежат разбухшие бревна настила. Над этим чудом, сотканным из грохота и гула, выгнулся узкий мостик. Я сделал всего один шаг — и вот уже стоял на доске, под которой далеко внизу клокотала вода.
Кусок сна, приклеенного к излишне реальному берегу, сразу же отодвинувшемуся от меня.
Тонкая полоска дерева отделяла меня от воды, катившейся с бешеной скоростью внизу, в том низу, который вдруг поменялся своим местом с верхом.
Речка и я. Больше никого. Мир спрятался за кустом, чтобы понаблюдать за мной.
Я побежал по узкой доске. И грохочущий низ снова поменялся местом с верхом. Речка перестала грохотать-Над водой повисла тишина, держа меня на своих гигантских полупрозрачных, стрекозиных крыльях.
Затем все оборвалось. Я уже летел вниз с непостижимой медленностью, хватая ртом и руками пустоту.
Когда я пришел в себя, я увидел нож, вдетый в ножны. Меня держал за шиворот тот самый чалдон-бродяга, который вчера, стоя яа плоту, грозил кулаком обманувшей и перехитрившей его тайге.
Вода текла из носу и из ушей. Бродяга тряс меня и говорил с хриплой издевкой:
— Ты, брат, и в корыте бы умудрился утонуть.
Слово «брат» смутило меня пронзительным смыслом, словно между мною и обладателем ножа уже установилось кровное родство. А потом он сидел за столом в доме моей тети и пил чай, закусывая свежепросолея-ным омулем. На блестевшем полу чернели его громадные следы, но прислуга не спешила стирать их тряпкой.
6
Я снова дома у дедушки.
Ночью мне снилась гора. Она поднялась, встряхнулась и вдруг пошла.
Проснулся я поздно. Подбежал к окну и посмотрел. Гора лежала на том же самом месте. На этот раз она была белая, покрытая выпавшим вчера снегом.
Кто-то катился с горы на лыжах. Он летел вниз ко мне с непостижимой быстротой — смутная фигурка, неясное, все увеличивающееся пятно.
И вдруг это пятно превратилось в Дароткана. Оставив лыжи под окном и воткнув в снег палки, он открыл дверь и вошел в дом вместе с тайгой, которая была за его плечами в котомке.
Сев за стол, где стоял уже полуостывший самовар, он налил себе в стакан чаю, а затем попросил лист бумаги и достал из котомки свой большой плотницкий карандаш.
И только он притронулся к листу бумаги, как там появилось облако, озеро, лиственница и олень, наклонивший похожую на куст голову и сорвавший жесткими, как подошвы, губами клочок мха.
Олень словно ждал прикосновения карандаша к бумаге, чтобы возникнуть из ничего. Уж не был ли Даро-ткан дальним родственником бога? Он чуточку — стыдился своего искусства и, в отличие от бога, делал вид, что все это произошло само, как мир.
В детском восприятии люди и вещи отражаются так, словно рядом стоит волшебное зеркало, а за дверями нас ждет лес, принявший на себя обязанности деда-мороза.
Мороз ходил в сшитой из шкурки зайца белой пушистой шапке и в больших, подшитых дратвой катанках. Он нанялся к деду сторожить контору и амбар и по ночам стучал колотушкой, пугая воров.
Как только наступала весна, он исчезал из нашего одетого в темную ночь двора и уже не будил меня своим стуком.
Весной у Дароткана появился соперник. Он тоже носил в себе чудо и дарил себя людям, не имея, кроме себя, охотничьей собаки и старенького ружья, ничего.
В нашем дворе, в жилой половине бани, поселился ссыльный латыш Август Юльевич, или «Июлевич», как его называли эвенки и крестьяне, вероятно, думая, что он сын июля.
У Августа Юльевича были огромные рыжие пушистые усы, словно под носом у него кто-то приклеил кончик лисьего хвоста. Собака его тоже была рыжей. Ее звали Лерой.
На стене, над койкой ссыльного, висело длинное ружье, через несколько лет перекочевавшее в романы Майи-Рида, чтобы помочь мне в чужой, далекой и прошлой Америке открыть что-то здешнее, знакомое и свое.
Я помню, как загорелась баня и сгорело ружье, убившее столько зайцев, лис, волков и даже медведя, чья шкура теперь лежала возле моей кровати, лаская подошвы моих зябнувших ног.
Остались ствол и другие металлические части.
У Августа Юльевича сгорел левый ус. Но почему-то он не решился сбрить правый и стал терпеливо ждать, когда время вернет ему его облик, утраченный в огне пожара.
Левый ус рос медленно, но ведь время в пашем дворе тоже никуда не спешило. Август Юльевич стругал приклад и ложе для нового ружья и тихо беседовал с Лерой.
Тогда я еще не знал, что обладатель пушистого уса был философ, который пытался понять и заново объяснить мир, пока доверяя только одной Лере.
Собака слушала, смотря умными, насмешливыми глазами на мир, который ее хозяин тщетно старался завернуть в слова, будто слова эти — оберточная бумага.
Через несколько дней после пожара к нам пришел староста Степан Харламыч вместе с огромным урядни-ком. Они стали задавать вопросы Августу Юльевичу, а его ответы записывать в протокол.
— Случайно не ты поджег баню? — спросил Степан Харламыч ссыльного.
— Нет, не я.
— Тогда расскажи, почему у тебя сгорел ус?
— Не знаю.
— А кто знает? Бог?
— Бога нету.
— Я так и запишу. Теперь расскажи, как сгорел ус.
— Я хотел спасти ружье, открыл дверь, и ус загорелся. Вот и все.
— Нет, это не все, — сказал староста. — Ты что-то скрываешь.
— Что мне скрывать?
— Ас какой целью ты ходишь с одним усом?
— Чтобы в меня не влюбились женщины.
— Понимаю, — кивнул кудрявой головой староста. — У тебя есть основание бояться женщин, а у женщин есть основание бояться тебя, из-за женщины ты попал сюда на вечное поселение. Так?
Тут вмешался все время молчавший урядник, тоже Харламыч, младший брат Степана Харламыча. Он сказал латышу, глядя на него ясными детскими глазками:
— Ты должен нам объяснить, почему загорелся твой ус. Я предполагаю, что ты поджег баню. Если бы ты не находился так близко от огня, ус бы не загорелся.
— Это верно, — согласился Август Юльевич.
— Ну что ж, запишу это в протокол, — сказал староста. — Твой ус сгорел, когда ты наклонился над огнем. А когда люди наклоняются над огнем? Когда они что-нибудь зажигают. Теперь ты расскажи подробнее, как загорелась баня. Не спеши. Ведь мы ведем протокол. И должны все записать. Скажи, у тебя были с собой спички?
— Не было,
— А чем же ты сделал поджог?
— Я не поджигал.
— У тебя есть свидетели?
— Со мной была Лера.
Лера лежала на траве возле крыльца, где староста и урядник вели допрос. Она лежала с безучастным видом, положив морду на вытянутую лапу. В ее зеленых человеческих глазах играла веселая и немая собачья мысль, понятная только одному Августу Юльевичу.
Степан Харламыч ценил собак, особенно таких умных, как Лера. Он посмотрел на Леру и сказал Августу Юльевичу:
— Не бойся, твоя собака не пропадет. Я возьму ее себе, когда тебя увезут в город и посадят в каталажку.
— За что же меня посадят?
— За то, что ты поджег баню.
— А какие у вас доказательства?
— Самые неопровержимые. Твой ус.
Староста сходил в дом и, взяв у бабушки большие ножницы, которыми стригут овец, отрезал у Августа Юльевича его правый ус.
Он аккуратно положил ус в кисет с табаком и, очень довольный, сказал верзиле-уряднику:
— Теперь все улики у нас в кармане. Я взглянул на Августа Юльевича — и не узнал его. Передо мной сидел совсем другой человек.
7
Мне кажется, что я и отсюда вижу эти рыжие пушистые усы, оставшиеся далеко, на самом дне моего детства.
К осени усы выросли снова, и Август Юльевич повеселел.
Что такое усы? Это продолжение взрослого, уважающего других и себя человека, символ собственного достоинства, веселый и рыжий кусок жизни, выросший, как растет трава, но не на земле, а на смеющейся губе, под самым носом.
Мне еще нужно ждать много-много лет, прежде чем и под моим носом вырастут усы и придет не староста, а парикмахер, чтобы их постричь.
Усы выросли, и лицо Августа Юльевича снова стало прежним. Он смастерил себе ружье и поселился в новой бане, выстроенной на том же самом месте, где сгорела старая. Я смотрел на обновившееся лицо охотника и ни разу не напомнил ему о больших овечьих ножницах и о старостином кисете.
Усы выросли к осени, как раз когда я пошел в школу.
Между усами Августа Юльевича и моим поступлением в школу была связь, которую я смутно ощущал, но не мог себе объяснить. Объяснила все Марфа, приходившая к нам мыть пол и белить потолок. Брызгаясь бело-синей, разведенной в ведре известкой, она рассказала мне, как мой дед дал старосте взятку, чтобы он оставил в покое усы ссыльного и не проявлял слишком большого интереса ко мне и к моим несуществующим метрикам.
У меня не было документа, удостоверявшего, где и когда я появился на свет. Ведь первым моим кровом оказалась читинская тюрьма, где я прожил около года вместе с матерью и отцом.
Марфа знала и эту тайну, так тщательно скрываемую от старосты Степана Харламыча. Но, рассказав мне о том месте, где я прожил свой первый год жизни, она спохватилась и взяла с меня слово не выдавать ее бабушке.
С тех пор, подгибаясь под тяжкой ношей своей собственной тайны, я стал ходить по земле как сообщник Марфы, с тревожной мыслью, всегда замкнутой на не видимый никому замок.
Если бы я мог выбирать место своего рождения, я выбрал бы, разумеется, деревенскую школу, свежо и остро пахнувшую некрашеным деревом и сосновой смолой. Пусть бы моим первым ложем была низенькая, облитая чернилами парта, утонувшая в гуле детских голосов, читающих по слогам прекрасное, открытое со всех сторон слово «окно».
В школе было много окон, заполненных до отказа синевой неба. Ведь школа стояла на горе, и крутая, протоптанная детскими ногами тропа пахла богородской травой и нагретыми на солнце камнями.
Как хорошо было подниматься по крутой, уходящей в утренний туман тропе и оглядываться с таким чувством, словно внизу осталось прошлое, которое оторвалось от тебя навсегда! Шаг. Еще шаг в неведомое, — в завтра, которое никогда не превратится во вчера. Шаг. Еще шаг. Туда, к облаку, где, прислонившись к скалистой части горы, стоит школа.
Сестру облака звали Татьяной Прокофьевной. Она словно была рождена, чтобы жить здесь, на верхушке горы, и учить деревенских детей языку азбуки, одетой в девичий голос, которым по утрам будят вещи и явления от их вечного и тяжелого каменного сна.
У Татьяны Прокофьевны было прекрасное русское лицо, оставленное мною в прошлом и возвращавшееся в настоящее каждый раз, когда я рассматривал женские портреты Венецианова.
Певучий голос учительницы произносил словно бы только одни гласные — протяжные и мелодичные, как. Звон ручья под горой, куда слепые приходят промывать свои глаза.
Сходство голоса Татьяны Прокофьевны с ручьем усугублялось, когда она, написав на доске мелом какое-нибудь слово, разделяла его на составлявшие его звуки — буквы и потом снова соединяла эти составные ча-. сти слова, освежая и обмывая своим голосом предмет, который это слово выражало.
Сестра облака была родной дочерью горы. Я поднимался к ней по тропе, сделав козырек из ладони, для того чтобы защитить глаза от яркого солнца.
Я шел по тропе вверх, иногда хватаясь рукой за камень и не подозревая, что это было восхождение к будущим знаниям, начало длинного, занявшего всю мою жизнь пути к той мысленной вершине, где нас ждут Пушкин и Ньютон, Гоголь и Дарвин.
Все, что теперь я узнавал, было окрашено Татьяной Прокофьевной, ее звучным голосом и ее улыбкой существа, только что превратившегося в девушку из облака и из горы. Казалось, без ее посредничества все окружающее стало бы немым, глухим и бесцветным, как старушечья спина.
То, что Дароткан изображал на бумаге плотницким карандашом, распахивая настежь рамы, ущелья и реки, то голос Татьяны Прокофьевны замыкал в звук и снова размыкал, играя с вещами и явлениями, вдруг становившимися необыкновенно новыми, словно они только что появились.
Тайна человеческого языка, как еще более сложная тайна пространства, которой владел старый эвенк Дароткан, — эти две тайны дразнили мою любознательность всю жизнь.
Магический карандаш Дароткана и волшебный голос Татьяны Прокофьевны — это и есть те ключи, которыми я сейчас пытаюсь разомкнуть свое детство.
8
Рисунок выразительнее слова, а краска, по-моему, мелодичнее и пронзительнее музыки.
У неизвестного художника Дароткана было одно преимущество даже перед таким великим мастером, как Леонардо. Он изображал лес, реку или гору так, словно Местность и он сам составляли одно неразделимое целое.
Он и меня хотел научить видеть мир так, будто все, что открывалось взгляду, было продолжением меня самого.
Я много бы отдал, чтобы стать Даротканом, стать продолжением не только себя самого, своих родителей и друзей, но и всего того, что пытаются замкнуть в удивительное слово «природа». Я страстно хотел и не смог стать Даротканом. Только Дароткану было даровано уметь не кончаться вместе с ногами и головой, а тянуться, как тянется река, или плыть, как плывет облако, прикасаясь ко всему, всегда начинаясь снова и никогда не заканчиваясь.
Не обладала ли этим даром и Татьяна Прокофьевна?
Кто она? Действительно сестра облака, дочь горы или обыкновенная женщина, окончившая женскую гимназию и приехавшая из Верхнеудинска в полутунгусскую деревню учить детей? Но не в женской же гимназии с унылыми учителями и классными наставницами ее научили обволакивать своим мелодичным голосом мир, приобщать нас к себе и дарить нам себя без остатка, всю себя в своем старом ситцевом платьице, в которое мое воспоминание одевает школу.
И почему много лет спустя она подставляла свой облик, чтобы помочь мне увидеть толстовскую Наташу или пушкинскую Татьяну? Почему она сумела так прочно оставить себя в моем сознании, надев свое старенькое ситцевое платье на леса и поля, на все то, что. называют магическим словом «Россия»?
Голос Татьяны Прокофьевны, как карандаш Даро-ткана, умел вызывать дух вещей.
Мне слышится, что и сейчас она кличет меня из далей времени, чтобы погрузить, как в сон, как в сказку, в синее, как река, утро.
9
Ручей. Высунула голову рыба. Олень. У оленя влажные девичьи глаза.
Как много неба и земли!
Я смотрю на рисунок Дароткана и думаю: может, это и есть утраченные метрики?
А почему бы и нет? Ведь ничто с такой силой не может удостоверить мое родство с краем, как вот этот рисунок.
О метриках дедушка и бабушка говорят шепотом, словно где-то рядом, поднявшись на цыпочки, стоит Степан Харламыч.
Речь идет о бумаге с печатью, где лихо расписался писарь, заверяя всех, в том числе и меня самого, что-я существую.
Но нет этой бумаги. Нет! А раз ее нет, то нет и меня. Я существую только отчасти, сотая или тысячная часть самого себя, да и то потому, что нет рядом Степана Харламыча. Он где-то косит сено и точит косу серым оселком, отпугивая стрекоз.
Марфа сказала мне, что раз у меня нет метрик, я не имел права ходить в школу. В школу имеют право ходить те, чье существование удостоверено подписью писаря и печатью.
Да, все дело в печати. Если бы удалось достать печать, то я поставил бы ее на одном из рисунков Дароткана и отнес к Татьяне Прокофьевне.
Ночной сон в душной спальне, где на полу лежит медвежья шкура, а в окно лезет зеленая лесная луна, дает продолжение моей мечте.
Рисунок Дароткана превращается в лес. Я показываю учительнице на вдруг возникший лес и уверяю ее, что это и есть мое метрическое свидетельство.
10
В кого только не превращалась Татьяна Прокофьевна! Она, как миф, живущий в человеческих душах, навсегда поселилась в моем сознании.
По ночам она превращалась в сказку и посещала мои детские сны. А потом много раз она становилась песней, возвращалась в музыку, в звук, нечто мелодично-химерическое, когда тоскующая мысль пытается склеить румяное девичье лицо с мелодией, надевшей на себя старенькое ситцевое платье.
Она всегда была рядом со мной, как невидимка, и громко окликала меня из прошлого, где она стояла у доски и писала мелом слова или цифры своей длинной девичьей рукой.
Эта рука протягивается ко мне через сумрак времени, чтобы отдать мне мою проверенную ею тетрадку.
Тогда моя еще незрелая мысль не умела отделять. Мне казалось, что напечатанные в хрестоматии слова, а в задачнике — цифры существовали, как в сказке, которую рассказывала жизнь, как в песне, занесенной в жарко натопленную школу вьюгой.
Гора гудела, когда я возвращался из школы, а в кожаной сумке свернулся притихший мир, заколдованный голосом Татьяны Прокофьевны.
11
Деревенская церковь и звук колокола, торжественно плывущий над медленно шествующей толпой.
Впереди — зеленоусый девяностолетний казак в синих штанах с красными лампасами.
Семенят старушки, и катят свое налитое здоровьем тело веселые девки.
Толпа плывет медленная, как звук колокола.
И вдруг время замыкает эту праздничную толпу в раму моего воспоминания.
Я хожу возле музейных стен и ищу ту картину, на которой спряталось мое детство.
Век убежал далеко от медлительной жизни, похожей на живопись передвижников.
Передвижники вряд ли думали о том, что им удалось вырезать кусок живого времени и вставить в раму, словно багетовая рама — это окно, через которое прошлое глядит на будущее.
У хороших картин есть невидимые глаза, которыми они могут видеть нас, зрителей, словно не они, а мы оказались в раме. Так по утрам стоящая за окном сосна или ель заглядывает в детскую сквозь сетку утреннего дождя.
12
Под горой родник. Рядом береза, наряженная, как девочка, пришедшая на праздник.
У нарядной березки нет будней. Ведь родник не замерзает даже в январе. И почти ежедневно останавливаются возле родника старые, подслеповатые эвенки и буряты, чтобы промыть в прозрачной воде свои пораженные трахомой глаза. Это они-то и наряжают березку, привязывая к ее ветвям разноцветные тряпочки.
Они благодарят и родник, бросая на его дно медные и серебряные монеты.
Сейчас здесь никого нет, кроме меня и Алешки.
Мы ползаем на коленях возле родника и шарим по его дну, ища засосанные песком гривенники и пятаки. Вода леденит пальцы. На траве валяется уже несколько гривенников и пятаков. Это наша добыча.
Тревожное чувство, что мы посягнули на достояние, честно заработанное тунгусским богом, не дает мне покоя.
— Это воровство, — говорю я.
— Откуда ты это взял?
— Август Юльевич уверяет.
— Какое же это воровство? — возражает Алешка. — Ведь родник не нуждается в гривенниках. Скажи, на что они ему?
— Но это же тунгусский бог. А деньги ему приносят в жертву.
— Кто это сказал?
— Август Юльевич.
— Когда?
— Давно. Еще до того, как у него сгорел ус.
— Дождется. Оба уса сгорят. Какое латышу дело? Ведь не из его кармана таскаем.
— Он говорит, что это бог превратил себя в ручей, чтобы помочь излечиться больным людям.
— С чего ему превращаться в ручей? Уж если была у него в этом нужда, так он превратил бы себя в Байкал. Байкал — это море.
— Татьяна Прокофьевна говорит: «Не море, а озеро».
— Струсил? Брось обратно на дно деньги. Я свои не брошу. Пойду в лавку к Зеленину и дроби куплю. У меня скоро будет дробовик. Тятя обещал. Ты еще маленький.
— Ничего. Я мигом подрасту. А ты что нос повесил? Давай еще пошарим на дне ключа. Не дно, а прямо карман.
В слове «карман» есть нечто магическое. Ведь это не просто карман, пришитый к штанам, а часть ручья, та часть, в которой хранятся деньги.
Уже дома, в постели, когда мигает огонек в лампе, в моем воображении родник становится получеловеком-полуручьем. У него тунгусское имя Шелоткан.
Шелоткан — это старший брат Дароткана. Он живет далеко в тайге, за ржавым хребтом, где текут горные реки Ципа и Ципикан. Карман у Шелоткана ледяной, будто на дне его зима. И зимние, похожие на кусочки льда серебряные монетки.
13
Боюсь проговориться о своей дружбе с Алешкой. Ведь он внук старосты и живет со Степаном Харламы-чем в одном доме.
Дом Харламыча стоит у развилки дорог на холме, и староста, когда ничем не занят, смотрит в окно на дорогу своими детскими глазками.
У Алешки глазки точно такие же, как у Харламыча. И волосы вьются колечками. Почему же, в таком случае, мы с ним все-таки дружим?
Мне всегда становится страшно, когда я с Алешкой играю поблизости от дома старосты. Но любопытство сильнее страха. Алешка чем-то неудержимо привлекает меня к себе. В нем есть что-то химеричное, как в роднике, превращенном моим воображением в старого эвенка Шелоткана. Алешкины глаза сверкают, как родник, из которого моя испуганная рука только что вытащила брошенную ослепшим тунгусом монетку. Когда-нибудь Алешка тоже станет старостой и будет ходить в картузе с кожаным козырьком и в сапогах, похожих на две бутыли. Но пока у него, несмотря на Старостины глазки, совсем другие повадки. Он никого не стращает, не ругается, не берет взятки, а очень ловко играет в городки и знает то место в озере, где хорошо клюет рыба.
Никто из ребят не умеет так глубоко нырять. Только что был здесь — и вдруг исчез, словно украденный пространством. Спрятался под зеленой гладью воды, закрылся волной. Минута прошла, две, а его нет. И вдруг плеск, фырканье, сопенье. Далеко в камышах показывается мокрая Алешкина голова — на этот раз с закрытыми глазками.
Возле дома Степана Харламыча всегда вечерний сумрак, даже утром. И туча над домом всегда висит, дежурит.
Мычат коровы. Ржет, вскакивая на задние ноги, жеребец. Блеют бараны. И громко-громко кричит петух.
Петух знает, чья он собственность. Ходит, важно передвигая лапками, и сердито трясет головой с большим сизо-красным гребнем.
Староста сидит во дворе и стрижет овцу. Овца закрыла нежными веками свои выпуклые восточные глаза.
Я лежу в канаве между двух капустных гряд и под — глядываю в щель дощатого старостиного заплота.,
— Осторожнее, — шепчет Алешка. — Увидит — уши нарвет. В прошлом году он ухо Кешке Козулину оторвал.
— За что?
— За то же самое. Кешку с ухом в больницу возили — пришивать. Пришить-то пришили, но неровно. И оно теперь такое же красное, как гребень у нашего петуха. Козулины в суд хотели подавать.
— Ну и что? Подали?
— Дураки они, что ли? Если б подали, их бы и засудили. Дедушку все боятся. У него характер.
— А что такое характер?
— Характер — это во! Бритва или коса. Всегда порезаться можно. А правда, что у тебя нет метрик и ты никто?
— Как это — никто?
— Никто — это тот, кто живет без паспорта. А тебе паспорт не выдадут, раз нет метрик. Но ты не бойся. Мой дед выхлопочет, если я его попрошу.
— А еще есть кто-нибудь, кроме меня, у кого нет метрик и паспорта?
— Есть.
— Кто?
— Нищий Акина, который ходит по деревням с сумкой. И еще вот это чучело.
Алешка смеется и показывает на чучело, охраняющее огород от птиц.
— Смотри! Надели на палку дедушкин картуз, а птицы боятся. Даже они знают, кто такой Степан Харламыч.
14
Петушиный гребень. И ухо, оторванное Степаном Харламычем, которое доктор в волостной больнице не сумел ровно пришить. Босые ноги нищего Акины. Запах свинарника. Мокрая изумрудно-зеленая трава у тесового заплота, над которым висит синяя туча.
Воспоминание приносит все это мне вместе с запахом нюхательного табака и лаем собаки, которая охраняет Старостине крыльцо.
Табакерки сшиты из бересты, как туески. Старушечьи носы, набитые нюхательным табаком, и дорога, сладко пахнущая конской мочой, преодолевают время, ртобы оказаться тут рядом со мной, на листе бумаги.
Тут же и большой, сложенный из толстых бревен Старостин дом. Над двором, по обыкновению, висит туча.
Над всеми дворами — раскаленное солнце, везде зной, и только над двором и огородом старосты льет дождь.
— У нас своя погода, — говорит Алешка.
— Это почему?
— А я откуда знаю? Учительша и та не знает. Дом возле котловины и на юру. А сбоку гора прикрывает. Но это не из-за этого.
— А из-за чего же?
— Много будешь знать — скоро состаришься. Алешка явно не хочет, чтобы я знал, почему над их домом висит туча. И он заводит разговор как будто совсем на другую тему.
— У нас портрет бога висит.
— Икона?
— Икона — само собой. Но и портрет. Ты думаешь, из книжки дедушка вырезал? Нет! Может, портрет и помогает. Иконы у всех висят. А портрет бога только у нас, будто он родня нам. Я, когда маленький был, думал, что бог дедушке свой портрет подарил. Тебе хотелось бы посмотреть портрет?
— Да.
— Приходи послезавтра. Дедушка в город уедет, на базар.
И вот староста наконец-то уехал, привязав к разноцветной дуге бубенчики, словно ехал не на базар, а на свадьбу.
Звон бубенчиков и уведомил меня, что путь открыт.
Я переступил высокий порог и оказался сначала на кухне, а потом в горнице. Скрипнула половица и вдруг превратилась в доску, висящую над пропастью. Казалось, мир снова перевернулся, как в тот миг, когда я полетел с узкого мостика в гремящую внизу Банную.
Потом все стало на свое место. Вещи подчинились закону притяжения и уже вели себя так, как полагается вести себя вещам.
В кухне и в горнице пахло суслом и только что вынутым из жаркой печки ржаным хлебом.
Это было одновременно бытие и театр, где жизнь играла, но не для зрителей, а для себя самой.
Стены, казалось мне, качались, словно отражаясь в старом, позеленевшем зеркале пруда.
На стене висела фотография старосты и его семьи. На одной из семейных фотографий дремало лицо бога. Казалось, бог специально спустился с неба, чтобы сняться у базарного фотографа, для того чтобы затем присутствовать здесь, в избе.
— Вот он, — тихо говорит Алешка. — Дедушка его вставил под стекло, чтобы мухи не садились. А вон там в углу царь Николай Второй. Дед его стеклом не закрыл.
— Почему?
— На него мухи не садятся.
— Не могут же они знать?
— Могут. У нас мухи не такие, как у всех.
15
На берегу озера сидит человек, чем-то очень похожий на бога с той самой фотографической карточки, которую староста застеклил.
Это нищий Акипа.
Его сума развязана и лежит тут же, на траве, рядом с его огромными потрескавшимися пятками.
Акина вынимает из сумы кусок пшеничного калача и большую деревянную ложку. Прежде чем зачерпнуть из озера воды, Акина долго мешает ее ложкой. Хлебает он не спеша, заедая пшеничным калачом.
В гигантской тарелке, поросшей по краям осокой и камышом, отражается гора и облачко, похожее на летящего в синеве ангела.
Бог с потрескавшимися пятками, с сумой, черпающий ложкой из озера, как из тарелки. Нищий, как и полагается богу, одет в природу и не кончается там, где борода и пятки, а уходит всем своим существом в синеву, в бесконечную глубь, в простор, в котором плавает окунь, распустив розовые плавники.
16
Рисуя, Дароткан глубоко проникает в мир и свое знание дарит мне.
Наглухо запертые в нем способности раскрываются, как он только берет свой плотницкий карандаш. Художник здесь, гостя у нас, — там, у себя, на берегу Ины, он зверолов, рыбак и охотник.
Он не знает слова «художник», но зато ему знакомо слово «шаман». Он думает, что это одно и то же. Иногда, рисуя, он говорит:
— Хочу немножко пошаманить.
Шаман — это слуга тунгусского бога. Но рукою Да-роткана водит по бумаге не тунгусский бог, а тайга.
Сколько раз видела тайга свое отражение в синих водах Ины, Ципы и Ципикана, но сейчас она хочет увидеть себя не на гибкой бегущей волне, а на спокойно лежащем листке, только что вырванном из школьной тетрадки.
На этот раз Дароткан держит в руке не плотницкий. карандаш, а легкую кисточку. Тут же на столе лежат акварельные краски, присланные мне в подарок из Баргузина.
Дароткан изображает свою юрту, Ину, несущуюся между двух оленеобразных гор, и небо с облаком, рядом с которым пасется большая оленья важенка с маленьким олененком-сосунком.
Трубка уже во рту его. Он вынимает кусочек трута и, приложив его к кремню, ударом железного кресала высекает искру. Трут загорелся. Дароткан кладет пылающий трут в чашечку трубки, и табачный дым смешался с тем, что вьется над изображенной юртой.
Сквозь струйку табачного дыма я вижу синеву и свежесть горной реки, только что возникшей на листе бумаги.
На берегу утро. Три кедра. И сохатый появляется оттого, что Дароткан притронулся к берегу кисточкой, предварительно помочив ее в утренней росе акварельной краски.
Эвенк увлечен. Он не замечает моего дедушку, не слышит его слов, напоминающих о делах.
Какие там дела! На свете есть вещи значительнее всяких дел. Забыв обо всем, кроме мира, возникающего на листе бумаги, Дароткан следит за своей кисточкой и за тем, как ложатся краски, впитывая в себя небо и движение тайги, увлеченной бегом горной реки.
Ему, наверно, кажется, что не к акварельным краскам притрагивается он кисточкой, а к тем, что плывут вместе с облаками, лежат на ветвях сосны и на спине жующего мох оленя.
Я смотрю, как наш гость своими неумелыми пальцами зверолова творит жизнь из ничего, вынимая ее из своего сознания и осторожно кладя на лист бумаги.
Край дышит своими большими конскими ноздрями.
Рыбак на берегу потянул удочку. На крючке бьется серебристый хариус. Он тоже возник из ничего, этот низенький круглолицый эвенк, ловящий хариусов в Ине. Его создали краски, которые, ложась на лист бумаги, ожили и стали человеком.
Кривые тунгусские ноги в замшевых унтах стоят на Камне, и тут же рядом уже горит костер, над которым В черном, покрытом сажей котелке варится уха.
17
Мы с дедушкой едем к Дароткану. Позади осталась гора. Но я оглядываюсь и смотрю — не гонится ли она за нами?
И в самом деле, за нами кто-то бежит. Нет, это не гора, которая поленилась встать, а Лера.
Лера бежит, высунув узкий розовый язык. Рядом со мной в плетеном тарантасе сидит Август Юльевич. Он везет ружье, котомку и усы, похожие на кончик лисьего хвоста, неровно пришитого к верхней губе.
Дорога и лошадиные ноги, играя, несут нас к синеве и прохладе, туда, где течет Ина, а на берегу стоит кожаный домик Дароткана.
Дорога капризно выгибается. Над нами и холмом висит большое розовато-синее облако рядом с маленьким — оленьей важенкой с сосунком.
Лошадь бежит, ударяя копытами о желтую спину дороги.
Дорога ныряет в густой, сырой, темный, как ночь, лес и снова выбегает в утро.
Поездка укачивает меня, и я погружаюсь в сон, на дне которого клокочет ручей, пахнущий листьями смородины.
18
Природа раскрылась, как новая тетрадь. Но кто изобразил эти зеленые круглые камни, через которые прыгает синяя река, и эти лесные горы, опрокинутые над водой вместе с небом?
Всего этого, разумеется, не было, все это только что возникло. Речной шум хмелит мое сознание, и я пью настоянный на пихтовых ветвях воздух, словно это густое оленье молоко.
На берегу стоит деревянный дом и тот, другой, натянутый на конусообразно поставленные жерди и сшитый из кожи, как рукавицы или кисет.
Жизнь здесь нарядилась в кожу, чтобы быть легкой, как оленья важенка, бегущая по тропе вместе с теленком.
В деревянном доме Дароткан живет зимой, а в кожаном — летом. Я еще не подозреваю, что между деревянным и кожаным домом лежит, свернувшись, невидимое и неслышимое тысячелетие. Мне кажется, что дом и чум стоят рядом.
Я подсчитываю шаги, отделяющие деревянные стены от кожаных. Где мне догадаться, что каждый мой короткий детский шаг длиннее столетия. Нет, моя мысль еще не подготовлена, чтобы понять парадоксальный феномен тунгусского бытия. Но и мне кажется удивительным, что вещи, которые населяют деревянный дом, не похожи на те, что делают таким прекрасным кожаное жилище.
В кожаном доме нет печки. Вместо печки — очаг:
три больших круглых камня, поднятых со дна Ины и принесенных сюда. В очаге пылают ветви хвороста, и струйка синего дыма поднимается над конусообразным чумом.
Дым костра щекочет мои ноздри, когда я переступаю через невидимый порог тысячелетия и попадаю в другое измерение, в котором живет Дароткан со своей женой Марьей.
У Марьи во рту трубка, похожая на сук, и ходит она так же неслышно, как и Дароткан, едва прикасаясь к земляному полу своими легкими ногами, обутыми в замшевые унты.
На синей воде Ины покачивается желтый, связанный из бревен плот. Утро.
Тут всегда утро, как на рисунках Дароткана. Я встаю на скользкий круглый камень среди бурлящей воды. Перехожу на другой. Дальше еще камень. Он зовет меня. Я делаю шаг. Шаг над синей волной, чтобы опереться на скользкое тело камня.
Вода влечет меня за собой к берегу, опрокинутому вниз вместе с горой.
Оглядываюсь. На ветке кедра сидит белка — живая и пушистая, как ус Августа Юльевича. И вдруг кедр с живой, как ус, белкой и небом перевертывается, чтобы повториться в воде Ины.
Медленно-медленно плывет время на быстрых волнах этой куда-то торопящейся прохладной реки.
19
Вместе с Августом Юльевичем я ночую в кожаном доме.
В дымовое отверстие видна звезда. Уж не искра ли это, вылетевшая из очага и застывшая на одном месте?
Я долго-долго смотрю на догорающую головню, от которой так приятно пахнет дымом и смолой.
Мне мало что известно о течении времени, и мысль о том, что головня в очаге догорает тысячелетия и все никак не может догореть, освещая бесконечную ночь сменяющих друг друга поколений тунгусского племени, эта мысль еще не тревожит меня.
Я погружаюсь в сон, как на дно тунгусской лодки. подхваченной перекатом и подброшенной к верхушкам лиственниц и кедров, которые уже затеяли хоровод на берегу.
Деревья пляшут под звон бубен и стук барабана. Ритм танца становится все бешеней и бешеней. С деревьями вместе пляшет шаман, которого я видел вчера пьющим чай, вскипяченный на оленьем молоке.
Я просыпаюсь, и снова вижу звезду, заглядывающую в дымовое отверстие, и снова засыпаю.
Сон ведет меня на берег Ины, где меня ждет плот, привязанный к серебристому пню недавно срубленной лиственницы. Я ступаю босыми ногами на студеное, как снег, скользкое бревно плота. Между желтых бревен синеет вода. И вдруг плот отплывает от берега и несет меня по Ине все дальше и дальше, в неведомые края, прячущие себя от людей за облачной горой. Я плыву среди камней, торчащих из опрокинутого на землю неба недалеко от берега, душно пахнущего багульником и брусничником. В быстрине, застыв, остановился хариус.
Нет, это не сон. Со мной рядом стоит Август Юлье-вич, и губы его смеются, полузакрытые лисьим хвостом пушистых усов.
Это продолжение сна, снившегося мне ночью в кожаном доме, и начало тех воспоминаний, которые теперь никогда не расстанутся со мной, время от времени возвращая мне этот исчезнувший миг, Ину, камни, плот и зеленого хариуса, остановившегося в быстрине, как длящийся миг, сопротивляющийся течению и для этого растопыривший желтые рыбьи плавники.
Утро. Оно началось давно, когда мы с Августом Юльевичем вышли из кожаного домика, и оно кончится не скоро, задержанное случаем. Мы движемся в утре вместе с плотом и рекой, у которой нет желания оторваться от нас, вместе с облаком и рыжей белочкой, сидящей на кедре.
И вот волна подхватывает нас и несет среди скал. Вода вертится возле камней, а кажется мне, что плот вынесло сюда прямо из сна, оборвавшегося в кожаном доме, но кем-то наспех склеенного со скалами, ущельями и покосившейся горой с опрокинувшимися вниз деревьями.
Мне страшно и весело. Бревна плота пляшут вместе с водой, раскрашенной кисточкой Дароткана.
Плот замедляет движение возле горы, по которой круто карабкаются лиственницы, спеша к облаку, закрывшему розовую верхушку гольца.
Вокруг нас прозрачная синева и чуть слышная музыка. Не сразу я догадываюсь, что на скрипке играет не приехавший из Иркутска скрипач, а река.
20
Миг никуда не спешил, он уже соединился с костром, который развел мой рыжеусый спутник, и задумчиво плыл вместе с колечками дыма.
Над костром висел котелок. В котелке варилась уха из хариусов.
Да, время замедлилось, как это бывает только в дет-сгве, когда все можно разглядеть, никуда не спеша.
Я разглядывал мир, куда только что приплыл вместе с Августом Юльевичем на плоту.
Внизу вьется тропа. Ее протоптали дикие олени, приходившие сюда на водопои.
С горы вниз к реке спускаются березы. Они только что остановились, испугавшись нас, боясь выдать свою тайну.
Август Юльевич выбрал самую толстую березу и острым ножом срезал кусок березовой коры. Из бересты он сшил ковшик и зачерпнул им воды из Ины. Он пьет, а его рыжий ус — кончик лисьего хвоста — плавает в берестяном ковшике.
— Вода волшебная, — говорит Август Юльевич. — Она спустилась сюда с вершины гольца и принесла с собой запах снега, лежащего на вершине. Однажды мне удалось там побывать.
— Где?
— На самой вершине, где лежит в колыбели эта река.
— В колыбели?
— Ну, не в буквальном смысле. У ее истоков. Меня почему-то всегда тянет туда, где берут начало реки. Мысль бежит, пытается угнаться за течением реки. И становится почему-то хорошо, словно природа проговорилась и невзначай выдала одну из своих тайн.
— Почему же невзначай?
— Природа все делает невзначай. Ученые говорят, что и человек тоже был создан нечаянно, как песня или поговорка. Я бы тебе это объяснил, но боюсь, ты не поймешь. Это только люди делают все намеренно, с расчетом. Да и то не все. А природа, в отличие, скажем, от твоего деда, конторскую книгу еще не завела. Да и считать ей некогда. Слишком уж большие числа. Понимаешь?
— Понимаю.
— Вряд ли ты это поймешь. Чтобы догадаться об этом, надо много лет провести в лесу или в степи, знать повадки зверя, понимать разговор птиц и мнимое молчание рыб.
— Почему мнимое?
— Поживешь — узнаешь.
Я смотрю на Августа Юльевича, на его огромные, как бараньи рога, усы, на его руки, держащие самодельный ковш, на его длинные ноги, обутые в бродни, сшитые из сыромятной кожи, и пытаюсь связать его облик с тем, что я о нем знаю.
Что же я о нем знаю?
Я знаю, что он убил жену и за это был сослан в наш край. По слухам, он убил жену из ревности. Жена ему изменяла с чернобородым, цыганоглазым священником. Священник в длинной рясе и с большим серебряным крестом, висевшим на груди, появлялся в доме Августа Юльевича как раз в те дни, когда тот отлучался на охоту. Н тут происходила измена. Я не совсем еще понимал. Но догадывался, что это нечто ужасное, от чего взрослый хороший человек может сойти с ума и выстрелить в жену из охотничьего ружья.
Я много раз слышал историю о том, как Август Юльевич зарядил ружье крупной дробью и как священник, вылезавший в окно, застрял там, запутавшись в своей длинной рясе, и, крестясь, ждал смерти. Но заряд был предназначен не для него, а для высокой красивой женщины, с которой Август Юльевич прожил всего полтора года.
Каждый раз, представляя себе эту сцену, я жалел, что там не было меня. Если бы я был там, я попросил бы Августа Юльевича не стрелять в жену, а придумать ей другое наказание, тоже справедливое, но менее суровое.
Крестьяне и эвенки не осуждали Августа Юльевича за его жестокий поступок. Ведь он стрелял в жену в минуты страшного гнева, перешедшего в безумие, и долго лежал в психиатрической больнице, прежде чем оттуда попасть сначала в тюрьму, а потом — в наш край, на вечное поселение.
21
Возвратившись из Даротканова леса домой, я вдруг заново увидел давно знакомые и привычные вещи, словно за трое суток, которые я пробыл в гостях, они постарели на сто лет.
Да, этот мир был ничуть не похож на тот, что остался в кожаном доме на берегу Ины.
Там вещи, люди, звери и птицы, так же как небо с рекой, не пребывали на одном месте. И жизнь, растворяясь в синеве леса, была похожа на плот, плывущий мимо скалистых берегов все дальше и дальше к неведомой горе, зимняя верхушка которой среди жаркого лета манит, как далекая и недостижимая цель.
Здесь вещи были погружены в молчание, в дремоту и духоту, и я не ощущал, глядя на них, ни малейшей свежести и новизны, словно они были обречены на немоту и глухоту, ограбленные кем-то и ставшие малой частью самих себя.
Разумеется, я был несправедлив к домашним вещам, так бескорыстно служившим мне и облегчавшим жизнь дедушке и бабушке. Но я не мог не заметить их безличия, словно кто-то уже надел на все чехол.
Ковш, сшитый из бересты, был прекрасен, но кто бы решился назвать прекрасным стакан, ничем не отличи-мый от своих стеклянных двойников?
Вероятно, мои мысли не были столь отчетливы и определенны, я не мог бы изложить их тогда так, как излагаю спустя больше чем полвека, но мои чувства были потрясены несоответствием двух измерений, находящихся рядом. Мир Дароткана казался мне бесконечно интереснее того, который меня окружал.
Ощущение потерянных цивилизацией ценностей уже тогда смутно проникло в мою душу и отравило ее сомнением. Но разве можно разумно жить, ни в чем не сомневаясь, не создавая в своем воображении возможные и невозможные миры, населенные твоими двойниками, которым каким-то чудом была дарована способность выбирать эпохи, планеты, страны, жизни и примерять к своей душе?
Я был одет в то же небо и в те же озера, леса а степи, что и Дароткан, но, живя всего в десяти километрах от сшитого из кожи дома, я все же пребывал в другом тысячелетии.
Смутная догадка, что разные люди, живя в одной местности, только по недоразумению считают себя соседями, не замечая той невидимой стены, которую воздвигли между ними века, — эта смутная догадка коснулась моего детского сознания и пробудила во мне бес-. конечный интерес к парадоксу времени.
Время, обтекая вещи и людей, погружая их в себя, вовсе не создает одновременность для всех, а только для многих. Много позже, уже не в детские, а в студенческие годы, наука, называемая этнографией, пыталась на своем немощном академическом языке приобщить меня к этой тайне и объяснить чудо неодновременности, присутствующей в жизни кажущихся современников.
22
Я рассказываю Алешке, как плыл на плоту по кипящей Ине к гольцу с зимней верхушкой, пока плот не остановился в синем, как речная волна, раю и мир стал до того прозрачным, будто на свете существовало только небо и река с хариусами, остановившимися в быстрине.
Алешка слушает с насмешливой недоверчивостью. Я рассказываю, как Август Юльевич сшил ковш из березовой коры и какой вкусной оказалась вода, когда он зачерпнул ее этим ковшом из реки. Я рассказываю о домике Дароткана и о том, каким неинтересным и скучным показался после того наш собственный дом, сложенный из бревен, обитых тесом, с покрашенными масляной краской стенами и с тяжелыми, некрасивыми предметами, которые не сравнить с легкими, изящными вещами Дароткана или с ковшом, сшитым из березовой коры.
Лицо Алешки становится еще насмешливее, недоверчивее, и на нем появляется знакомое мне выражение, которое я видел на лице старосты, когда он, держа в руке большие овечьи ножницы, отрезал у Августа Юльевича его рыжий пушистый ус.
— Ну, и что же дальше?
Меня повергает в тупик и в уныние этот вопрос. Уж не хочет ли Алешка сказать, что плот не мог плыть в синеве между лесистых берегов вечно и рано или поздно он должен был остановиться? У всего на свете есть конец, и самое конечное из всего, что существует, — это счастье. Мои счастливые минуты остались позади вместе с быстриной реки, где остановились, застыв, зеленые хариусы. Вот это, по-зидимому, и хочет сказать мне Алешка.
— Значит, тебе понравился кожаный дом?
— Очень.
— А пожил бы ты в нем зимой или осенью, и не три дня, а всю жизнь….
Слово «жизнь» Алешка произносит с особой интонацией: видно, он знает о ней то, чего не знаю я. И жизль подтверждает это сначала на словах, а потом на деле.
— Приходи заптра к нам. Что-то увидишь.
— А что увижу?
— Я отрублю голову нашему петуху.
— А за что же ты отрубишь ему голову? Разве он провинился?
— Да нет. Ои старый. Ему пришла пора попасть в суп. Дедушка и отец в Усть-Баргузин уехали — покупать свежепросольного омуля. А бабушка боится крови. Вот и придется мне самому рубить голову петуху.
— А ты не мог отказаться?
— Отказываются трусы. А я, ты это знаешь, ничего не боюсь.
Мне как-то не верится, что важно вышагивающий петух с огромным сизым гребнем, символ Старостиной усадьбы, ни за что ни про что попадет в суп. А может, Алешка просто похвастался? Уж очень он любит притворяться взрослым.
Ночью мне снятся кошмарные сны. Вместо Алешки я вижу стоящего на цыпочках старосту, держащего в руке чье-то ухо. В следующее мгновенье я вижу, как оторванное ухо превращается в петушиный гребень. Острая боль пронизывает все мое существо, лежащее под байковым одеялом на деревянной кровати. Сознание скрытого, необъяснимого и пронзительного единства, близкого родства с петухом, которого завтра ждет казнь, сжимает мое опьяневшее от боли и ужаса сердце.
Я просыпаюсь и смотрю в окно. Видно небо с луной и множество звезд. Я уже слышал от Августа Юльевича, что каждая звезда — это целый мир, подобный Земле или Солнцу. Мне хочется забыть о петухе, и о себе и, слившись с набежавшей, как речная волна, мыслью, вырваться на простор.
Я долго лежу и снова засыпаю, словно проваливаясь в этот черный простор, наполненный далекими, насмешливо подмигивающими мне мирами.
Утром, торопясь и обжигаясь, я пью чай. Боюсь опоздать на петушиную казнь.
В старостином дворе уже сделаны все приготовления. На траве возле сарая стоит толстое березовое полено. На нем лежит топор.
Алешка сидит на крыльце, опустив босые ноги на траву. А возле крыльца, высоко подняв голову и неспешно передвигая лапками, ходит надменный петух, тряся сизо-красным гребнем. Он, видно, не догадывается о печальной своей участи.
Алешка не хочет торопить судьбу петуха. По-видимому, ему хочется продлить мгновение, испытать всю серьезность и основательность порученного ему дела.
— Ты еще не раздумал? — спрашиваю я Алешку.
— Что тут думать? Бабушка его сегодня сварит к обеду. А ты поможешь мне его ощипать.
Минуты текут не спеша, как будто и не угрожая превратиться в сон, который мне снился накануне. Над двором даже не видно тучи, сегодня она висит в другом месте, чтобы не мешать Алешке.
И вдруг, съежившись, как кошка, подобрав под себя колени, Алешка упруго и воровато прыгает и хватает петуха. Тут все начинает спешить, как во сне: полено, топор и взмах Алешкиной руки, вдруг превратившейся в молнию.
Тело петухя бьется в обрызганной кровью траве возле лежащей отдельно головы. И нет уже такой силы на свете, которая могла бы склеить эти две разрубленные части.
Преддверие истины, скрытая тайна жизни вдруг приоткрывается передо мной на старостином дворе, чтобы снова скрыться и пощадить меня и Алешку, не то обманывая, не то говоря правду, что между петухом — частью живой природы — и нами нет ни единства, ни родства.
23
Необъятная душа Дароткана вместила в себя мохнатые рты и глаза зверей, каменистое дно Ины, разбуженное ударом тайменьего хвоста, и, разумеется, оленье небо, подпертое снежной верхушкой гольца. Но для степей в душе Дароткана не нашлось свободного места. Он ни разу не изобразил на листе бумаги степь, сколько я об этом ни просил. Каждый раз он показывал взглядом на свой квадратный плотницкий карандаш, словно карандашу дано было постичь все, за исключе-нием однообразной и плоской, как доска, равнины.
Я думал об упрямом карандаше Дароткана, сидя рядом с дедушкой в плетеном из прутьев тарантасе, катившемся по дороге в бурятский улус Каралик.
Только Дароткан мог мне помочь почувствовать своебразие медленно и лениво развертывающегося передо мной пространства.
Я много раз слышал слово «степь», и вдруг это слово стало явью, оказалось со всех сторон: слева, справа, впереди, позади и даже внутри меня, куда уже проник запах полыни и богородской травы.
Степь, медлительная, как речь бурята, вливалась в мое сознание, то пробуждая его, то обволакивая мягкой, как кошма, дремотой. Время от времени степной ветерок разгонял дремоту, и степь, вдруг заторопясь, начинала сменять заранее заготовленные картины, как художник, развертывающий свои свернутые холсты.
Вот кудрявое облачко в перевернутом вверх дном озере, а вот заросший шерстью камень, только что прибежавший на своих толстых медвежьих ногах.
Степь разомкнула простор и вдруг стала играть в необычайную игру, пытаясь запереть нас, дорогу, лошадь с тарантасом и кого-то невидимого, спрятавшегося за тучей, в своей взболтанной лошадиными копытами синеве.
Степь была еще более живой, чем мы с дедом и чем наша лошадь, тщетно пытающаяся превозмочь пространство, оторваться от одного места, чтобы оказаться в другом, бесчисленное множество раз повторявшем самого себя. Казалось, мы попались в ловушку, где время надело на себя простор, сшитый из сухой травы и полыни, отменив все. в том числе горизонт.
Степь, а может и выпитая перед отъездом водка, действовала на деда, то погружавшегося в дремоту, доверившись лошади и дороге, то вдруг просыпавшегося, чтобы вступить в спор с кем-то отсутствующим, кого я, однако, представлял здесь, в тарантасе, по закону родства.
Тайна, так тщательно скрываемая моей бабушкой от старосты Степана Харламыча и от меня, вдруг начала раскрываться, наматываясь на колеса тарантаса вместе с дорогой, степью и небом, где туча уже превратилась в кудрявое облако, похожее на пасущегося в синеве барана.
Теперь я уже знал адрес давно исчезнувших родителей, снова сидевших в читинской тюрьме.
Дед упрекал закутанного в даль моего отца, что, губя свою жизнь ради непонятной ему — деду — цели, он губил и мою мать, превратив меня, в сущности, в сироту и принеся в жертву своей туманной цели.
Забыв о моем присутствии, дед говорил это дороге, уже навострившей свои лошадиные уши, и тихо звеневшей степи, словно только от них мог ждать полного понимания и сочувствия.
Степь со своим разбегавшимся во все стороны простором была полной противоположностью того места, которое скрыло мою мать и моего отца ото всех, и в том числе от меня, больше всех нуждавшегося в них.
И вот теперь дед спрашивал то ли моего отсутствующего отца, то ли степь с дорогой: есть ли на свете что-то такое, из-за чего можно добровольно променять простор на неволю?
Ни степь, ни дорога не спешили отвечать на вопросы деда. И он явно был подавлен всеобщим молчанием, словно простор был в заговоре с моим отцом и теперь молчаливо осуждал деда за его чрезмерную разговорчивость и за то, что он раскрыл тайну, которую обещал моей бабушке держать в секрете от меня.
Я думал о матери и об отце и о крошечном окошкз с решеткой, в которое заглядывало суконное жандармское небо.
Во рту я чувствовал вкус степей, запах полыни. Над нами, косо повиснув в воздухе, парил ястреб. Пробежал суслик, быстро-быстро неся свое маленькое серенькое тельце, вдруг скрывшееся в норе. Слишком щедрым был мир, окружавший наш бегущий по дороге тарантас, чтобы, глядя на него, представить себе то, другое, выкроенное из зеленого сукна небо.
24
Изгороди из толстых, как бревна, жердей. Квадратные юрты с земляными плоскими крышами. Голые глиняные дети со смеющимися лицами. И огромный коричневый бык, вписанный в желтую равнину самим бурханом — здешним богом только что прятавшимся от нас за тучу.
Закрывшись тучей, он еще недавно висел над дорогой и степью и вдруг очутился здесь, внутри юрты, кисло пахнущей арцой — бурятским сыром — и дымом, поднимавшимся синей струйкой к небу, неровно вырезанному вместе с дымовым отверстием в плоской, поросшей полынью крыше.
Меня удивило, что степь забралась и сюда, на крышу бревенчатой юрты, словно ей не хватало места внизу, на земле.
Перед изображением бурхана в углу юрты стояли медные тарелочки. Стеснительный бурятский бог пользовался тарелочками, по-видимому, ночью, когда все спали.
Хозяин юрты сидел на кошме, подложив под себя ноги, а его две жены суетились возле очага, недалеко от которого стоял низенький столик, где в деревянных чашках ожидал нас сваренный на молоке соленый кир-, личный чай.
Дорога, весь день развертывавшаяся перед нами, вдруг свернулась возле этой юрты, оставив позади медленный поток Аргады, долго мывшей колеса тарантаса и брюхо нашей лошади, которая то пугалась мутной воды и илистого, проваливающегося под ногами дна, то. вдруг весело ржала, чтобы подбодрить нас и себя.
Степная река Аргада была желто-мутной, широкой, и ничего не отражалось в ней, кроме нее самой, лениво катившей свою вечность навстречу сумеркам.
И теперь, когда я пил сваренный с маслом соленый чай, заедая его сушеным творогом, заменявшим здесь хлеб, я все еще чувствовал невидимое присутствие Ар-гады, словно она была тут же, за стеной юрты.
Ночью мне снились овца и туча, за которой прятался бурхан, наблюдая за нашим тарантасом, утонувшим в степных просторах, где версты навертывались на колеса вместе с илом Аргады, как песня шамана, которую пытался мне передать своим непослушным голосом дед.
Снились желтые пальцы хозяина, перебиравшие четки, и плоское лицо бога в углу, терпеливо ожидавшего, когда мы все уснем, чтобы начать свою ночную таинственную жизнь.
Проснулся я посреди ночи, пытаясь разглядеть лицо домашнего бога сквозь темноту. Дымовое отверстие было завешено ночным небом, и запах арцы, смешиваясь с запахом дыма, творил нечто древнее, как Ар-гада, чьи воды походили на аракушку — бурятскую водку, сделанную из молока.
25
Здесь люди носили четко звучавшие имена, словно выбитые конскими копытами на степной дороге.
Хозяина юрты звали Очир. Старшую жену — Цыцык, младшую — Гойзын.
У покрытых густым, глиняным загаром детей тоже были имена: мальчика звали Бадма, легкую, похожую на кувшин девочку — Дынсыма.
Здесь мир говорил на том наречии, которое понимала только степь. И вещи обновлялись, одетые в звуки незнакомого мне языка.
Хубин (мальчик) и басаган (девочка) пытались приобщить меня к тем именам, на которые откликались здешние вещи, события, реки и животные.
Теленок — тугул. Собака — нахой. Жеребец — азарга.
Я повторял эти слова, стараясь с помощью их проникнуться всем окружающим, освоиться с миром, который глядел на меня узкими глазками плосколицего бога, должно быть, не очень-то довольного нашим неожиданным приездом.
Я произносил бурятские слова, будто это было заклинание, которое способно тут же разворожить завороженную и заколдованную жизнь.
И вдруг жизнь становится откровенной, и я начинаю догадываться, в чем необычайное своеобразие здешнего бытия. Равнина (она называлась Куйтун) проникла в каждую вещь, в каждое слово, в каждый жест, в каждое, даже непроизвольное движение, медлительное, как течение Аргады. Степь светилась в улыбке Дынсымы, в смеющихся глазах Бадмы, звучала в сухом, овечьем покашливании Цыцык, в мычании огромного быка, стоящего за изгородью.
Несколько десятилетий спустя, на вернисаже выставки знаменитого русского художника Павла Кузнецова, я вновь испытал это ни с чем не сравнимое чувство интимного знакомства со степью, которая не заканчивалась за плоским горизонтом, а продолжалась в людях, в юртах, в медлительных телодвижениях и позах животных.
Я понял, что наша гостеприимная хозяйка — степь волшебно проникла во все, что здесь пребывало под желтым, как халат ламы, небом.
— Олон бу хэлэрэ, — сказал Очир моему деду. И тут же перевел эти слова на русский язык:
— Много не говори!
Сам Очир много не говорил, а сидел на кошме, подложив под себя ноги, и курил медную маньчжурскую трубку.
Да, тут, по-видимому, не полагалось много говорить, и долгая пауза ценилась дороже спешащего и суетливого слова. Степь молчала века, понимая, что в молчании куда больше глубокого смысла, чем в торопливом деловом разговоре. А Очир вместе со своими овцами, конями, женами и детьми был частью Куйтуна, близким родственником Арагды, готовый перемолчать все и всех и с недоступной высоты своего молчания смотревший на меня и деда.
Но дед ведь приехал сюда по делу и только из приличия надел на себя личину гостя. В плетеном тарантасе кроме берданки лежал предмет, носивший Каиново имя, — клеймо. О назначении этого предмета я узнал, когда его раскалили докрасна на разложенном во дворе костре и инициалы хозяина фирмы, в которой служил мой дед, каленым железом выжгли на рогах быка, вдруг запахнувшего паленой шерстью.
Но клеймо заявило о себе в конце дня, а пока дед притворялся гостем и в своем разговоре с Очиром и его старшей женой избегал сделать хотя бы малейший намек на существование клейма, уже давно томившегося в тарантасе и с нетерпением ждавшего, когда оно сможет приступить к исполнению своих служебных обязанностей.
26
Нет ничего музыкальнее лесного эха, когда человеческое слово становится намного шире самого себя и душа трепещет, как во сне, услыша, как тебя окликает березовая роща или сосновый бор, каким-то чудом узнавший твое имя.
Мы часто ходили с Алешкой в черный, душный бор на крутом склоне горы и перекликались с тишиной, внезапно заговорившей на родном нам языке.
А однажды осенью из леса вышел Август Юльевич. неся убитого зайца. Он, по-видимому, догадался о смысле нашей игры. И, сев на пень, пока мы рассматривали убитого зайца, стал рассказывать нам об окрестных лесах и тропах, пытаясь передать тайну разбегающегося во все стороны пространства с зверями, чьи следы он — Август Юльевич — читал, как найденное в лесу письмо, написанное самой природой и адресованное ему лично.
Август Юльевич ни от кого не скрывал, что он дружит с пространством и живет, в сущности, на ходу, спит в тайге у костра и носит за спиной все свои запасы — кирпич чая, ржаные и пшеничные сухари, щепотку соли в узелке платка, всякий раз рассчитывая на гостеприимство своей приятельницы — природы.
Заяц в плетеном мешке — это подарок окрестных лесов, обед и ужин охотника, пытавшегося жить без денег, как жили когда-то тунгусы до появления в этом краю купцов, товаров, лавок и тяжелых железных замков, висящих на толстых дверях амбаров и чуланов.
Август Юльевич все мастерил для себя сам, шил себе одежду и бродни, теплые заячьи рукавицы для зимы и больше всего на свете ценил тишину, сквозь которую можно было услышать полет утки или треск ветки, согнутой белкой, прыгнувшей с одного дерева на Другое.
Усы на улыбающейся губе охотника напоминали о зиме. Они грели, как греет заячья рукавица руку, самую зябкую часть лица, когда сошедший с ума мороз стучал нетерпеливым Старостиным пальцем в обледеневшие наши окна.
Однажды зимой я увидел на пушистых усах Августа Юльевича две большие синие сосульки, которые ссыльный забыл снять, переступив высокий порог и оказавшись возле горящей печки в нашей жарко натоп-ленной комнате.
Сосульки таяли, как тает снег на верхушке застигнутого июлем гольца, и мне казалось в эти минуты, что Август Юльевич — не человек, а нечто большее: кусок зимы, оторвавший себя от природы и пришедший напомнить нам, какой густой холод льется из тайги, леденящий дыхание зверей и подошвы их гибких лап, почти не оставлявших следов на сине-розовом снегу.
Сейчас еще было далеко до зимы, но усы — кусок меха, неровно пришитого к губе, — уже тосковали по морозу.
В зиме было то же безумие, что в душе Августа Юльевича, давно отвернувшейся от людей и во всем мире любившей только гору и косматый лес, накинувший на себя звериную шкуру.
Исключение было сделано для нас — детей. Со мной и с Алешкой ссыльный разговаривал так, словно мы навсегда останемся детьми, никогда не превратимся:
Алешка — в румяного старосту, а я — в своего деда, подносящего раскаленное клеймо к мохнатой, набитой мясом, яростью и страхом коричневой глыбе быка.
— Я хочу задать вам один вопрос, — сказал нам Август Юльевич своим глухим, потонувшим в пушистых усах лесным голосом.
— Ну, задавайте, — разрешил Алешка.
Ссыльный молчал, как молчит гора, присевшая отдохнуть перед нашим домом. Кроме горы и Августа Юльевича, никто не умел так молчать, даже степь.
Это длительное настороженное молчание вовлекла нас в свой особый мир, словно душа ссыльного раскрыла дверь в тишину и покой, дверь, за которой начинается ничто, пустота, смерть.
Я вспомнил о том, что Август Юльевич застрелил свою жену, и самодельное ружье, прислоненное к сосне, вдруг удлинилось, а зеленые глаза Алешки уменьшились от страха.
— Ну, что же не задаете свой вопрос? — сказал Алешка. — Забыли, наверно, о чем хотели спросить?
— Нет, не забыл. А просто раздумал.
— Почему раздумали?
Ответа не последовало.
Август Юльевич поднялся, перекинул через плечо ружье и не спеша пошел по тропе, унося в глубь леса свой так и не заданный нам вопрос.
27
Если бы я был художником, я бы написал его портрет. Я бы собрал образ Августа Юльевича не только из красок, но из птичьего свиста, из куска замшелой скалы, из обрезков отраженного в озере неба. Вместо усов я бы пришил у него на губе под самым носом золотое осеннее полыханье убегающей от охотника лисы. Вместо фона я положил бы за его спиной снежную верхушку гольца, осенив его зорей и тяжелым хлопаньем крыльев глухариной самки, пытающейся оторваться от направленного на нее ружейного ствола — от самой смерти.
Но как соединить звуки и краски, сметав их с синевой леса в глубине реки, чтобы выткать образ этого человека и ту мелодию, которую исполняет для него ручей, когда появляется на его поверхности тонкий ледок только что возникшей зимы? На кончиках его лисьих усов я бы изобразил две сосульки, словно усы только что плавали в студеном ручье.
Я уже упоминал о том, что Август Юльевнч спал в жилой половине нашей бани, а на стене, над койкой, висело его длинное ружье, будто перенесенное сюда из романов Фенимора Купера или капитана Майи-Рида.
Но Куперовой и Майнридовой Америки уже давно не существовало, н только мне повезло в двадцатом веке каждый день видеть край, еще более первобытный, чем исчезнувшие миры Купера и Майи-Рида.
Под подушкой на потнике лежала книга, которую Август Юльевич читал при свете стеариновой свечи по ночам вот уже несколько зим подряд. Нет, это была не Библия, а роман Райдера Хаггарда со странным названием «Она».
Иногда он читал нам с Алешкой отрывки из романа или пересказывал содержание своими словами. И чтение вслух, а еще больше пересказ доставляли чтецу истинное удовольствие, и в нашем детском восприятии роман Хаггарда химерично соединялся с Августом Юль-евичем в одно неразрывное существо, и нас уже не удивляло, что книга разговаривает с нами глухим, утонувшим в густых, пушистых усах голосом.
В книге речь шла о загадочном существе, о необыкновенно красивой молодой женщине, сумевшей, вопреки законам природы, сохранить себя и свою красоту в течение нескольких тысяч лет.
По-видимому, Август Юльевнч, поверив в существование этой женщины, тосковал по ней и своей мыслью пытался преодолеть даль и сумрак странной книги, чтобы быть с этой женщиной рядом.
— Вы что, — спрашивал Алешка, — только эту книгу читаете?
— Только эту.
— Но ведь на белом свете много других. Учительша Татьяна Прокофьевна нам рассказывала, что в городе есть библиотека и там на полках стоят сотни книг.
— Ну и пусть стоят, мне хватит и этой одной. В этой книге сказано самое главное, чего нет в других.
— Но ведь этого не может быть, — спорил Алешка, — чтобы женщина жила тысячу лет и при этом нисколько не менялась.
— Здесь, у нас, это невозможно. А там могло быть!
— Где там?
Ответа не последовало.
Когда Август Юльевич произносил слово «там», мне казалось, что меня окликает женский голос, словно та тысячелетняя женщина стояла за бревенчатой стеной и ждала, когда ссыльный откроет ей дверь. Она была рядом и одновременно невообразимо далеко, и книга, которую читал охотник, приносила из этих далей ее образ, и он вдруг становился более реальным, чем даже староста Степан Харламыч, сидевший в дедушкиной конторе и дувший на соболиную шкурку, точно это было блюдце с горячим чаем.
Август Юльевич заставлял и меня тосковать по этой вышедшей из рамок временя незнакомке, и только усмешка на недоверчивом Алешкином лице возвращала меня в реальный мир. Но ведь и тогда я спрашивал себя, где заканчивается реальность и где она начинается, похожая на вечную смену всходов и закатов. А много позже я стал понимать, что никогда не существовавший Доп-Кихот или Чичиков ничуть не менее реальны, чем какой-нибудь Иван Иванович Иванов, согласно законам случая появившийся где-то и исчезнувший через шестьдесят пли семьдесят лет и не оставивший почти никакого следа в азартной игре миллионов случайностей.
Женщина, о которой шла речь в странной книге, победила случай, но разве не осуществили ту же победу Дон-Кихот, Чичиков или Наташа Ростова? Я еще ничего не знал о них, но уже чувство соприкосновения с вечностью тронуло мое замершее от страха и радости детское сердце.
А для Августа Юльевича образ освободившейся от законов времени женщины обретал куда более живую реальность, чем герои великих книг, люди, ставшие символами и поселившиеся в душах сменяющих друг друга поколений.
28
Ружье выстрелило на рассвете. И когда на выстрел прибежали дедушка и сторож, они увидели лежавшего на полу Августа Юльевича и сгусток крови на кончике его пушистого, как мех, уса.
Зачем и почему выстрелило ружье, убив своего хозяина? Об этом некого было спросить. Единственный, кто мог дать ответ, постарался его избежать. И даже староста Степан Харламыч, пришедший составлять протокол, не посмел нарушить тишину.
Только Лера выла у крыльца, всем своим собачьим существом взывая к прошлому, которое ружейный выстрел навсегда отделил от настоящего и будущего. Во много раз сильнее людей она чувствовала исчезновение из мира того, кто и был для нее главной частью всего существующего.
Я пытался осознать чужую смерть, но не мог.
Мир еще существовал. И все вещи пребывали на тех же местах, словно ничего не изменилось. Не встала и не пошла гора, прилегшая отдохнуть перед нашим домом. И небо над домами было таким же синим, как всегда, — может, чуть-чуть синее. В тот же час все сели обедать, а когда наступила ночь, легли спать.
Пышноусый охотник исчез, и это было так странно и удивительно — навсегда. Вот в это я почему-то не мог полностью поверить, мне казалось, что пространство вернет его, как оно возвращало всех, кто куда-нибудь уходил или уезжал. И однажды на опушке леса действительно показался человек с ружьем, очень похожий на Августа Юльевича, обрившего наконец-то свои усы. Но расстояние обмануло меня. Это был приезжий землемер, бродивший в окрестностях в поисках дичи.
Слишком уж скоро и легко все примирились с выстрелом. И только Лера не переставала выть, требуя от судьбы невозможного: чтобы она возвратила ей ее хозяина. А потом в деревню пришел живодер и убил Леру.
Живодер очень ценил свое редкое ремесло. И потребовал от дедушки, чтобы он дал ему полтинник за работу. Так исчезла и Лера. Закон этого исчезновения был непонятен мне, словно он был связан с какой-то ошибкой в мироздании, с ошибкой, которую никто не в силах исправить.
Да, ничего не изменилось в мире от того, что не стало пышноусого латыша и его собаки. Мир казался ласковым, и даже староста Степан Харламыч подобрел и, придя к нам, пожалел латыша и забрал его ружье как вещественное доказательство.
Я подумал тогда, что вещи, по-видимому, были более откровенными со старостой, чем с нами. И вот ружье, столько дней молчаливо висевшее на стене, у старосты должно было заговорить и выдать причину ухода Августа Юльевича из этого яркого и живого мира в другой — таинственный и страшный.
29
Свою мысль, веселую, как волна горной речки, Дароткан доверчиво поведал листу бумаги.
Он изобразил лес, легкое оленье небо и красный флаг, установленный на синей горе.
Рисунок походил на песню, где вместо слов шумят реки и деревья прислушиваются к хлопанью глухариных крыльев, а над еще не растаявшими снегами уже гремит первая гроза.
Красный флаг был кусочком зари, частью леса и лесной души Дароткана, вдруг почувствовавшей необычайную новизну наступивших перемен.
Да, события развивались. Дедушка, вернувшись из города, торжественно сообщил бабушке, что крестьянский начальник Сычугов снял с себя фуражку с кокардой, а вместо нее надел старый картуз.
Рисунок Дароткана я повесил в столовой на солнечной стороне: напротив окна. Бабушка сказала мне, что вряд ли этот рисунок с красным флагом понравится Степану Харламычу, если, встав на цыпочки, он вдруг заглянет к нам в окно.
Но Степана Харламыча не было в деревне. От Февральской революции он спрятался в старой охотничьей избушке, в «зимовье», стоявшем где-то под хребтом, где, растопырив хвост и повиснув в воздушной синеве, живут белки-летяги, а на тропе, поджав толстые короткие ноги, стоит медведь и прислушивается к грохоту горного обвала.
Староста надеялся, что революция скоро кончится и он вернется к себе в теплую избу, пахнущую только что испеченным хлебом, где на стене висит портрет бога, похожего на нищего Акину.
Но революция не кончилась, и Степану Харламычу надоело сидеть в тайге, не снимая черного накомарника.
— Он вернулся домой в воскресный день, когда звонил колокол и в домах стояла медлительная тищина, словно возвратившаяся из прошлого.
Хотя здесь почти не было ни комаров, ни мошкары, староста почему-то накомарника не снял, а ходил пряча лицо за черной сеткой.
Через накомарник мир выглядел иначе и казался неясным, как в вечерние сумерки, когда, мыча, возвращаются с пастбища коровы и солнце прячется за оленьей спиной нашей горы. Старосте Степану Харламычу, по-видимому, хотелось жить в сумерках, где виделось все смутным и поэтому было легче ждать, когда наконец-то кончится революция.
В начале лета за мной приехала тетя, самая старшая сестра моей матери, чтобы забрать меня и увезти к себе в Томск.
Староста, не снимая накомарника, пришел к ней узнать — скоро ли кончится революция и вернется старое, спокойное и благополучное время?
Тетя посоветовала старосте снять накомарник, потому что старое, спокойное и благополучное для него время уже никогда не вернется.
— А откуда это тебе известно? — спросил Степан Харламыч, рассматривая свою собеседницу сквозь сумрак, который надел на свое лицо.
— Известно, — ответила она. — Об этом еще писал Карл Маркс.
— Карл? — переспросил староста. — Маркс? И, помолчав, грустно заметил:
— Писал, значит? И значит, все будет, как он рисал?
— Да. Все будет точно, как он писал.
Староста тяжело вздохнул, перекрестился и снял Верную сетку со своего лица, давно не видевшего яркого солнца. И тут он увидел на стене рисунок Даро-ткана,
Красный флаг висел над синей горой и полыхал на ветру. Казалось, кусок лесной зари и пламя костра, отраженного в реке, кто-то прибил к древку вместе с волной, словно Дароткан смастерил это чудо не притрагиваясь кисточкой к акварельным краскам, а выткал из своих чувств.
Староста встал на цыпочки и вышел тихо-тихо, будто боясь кого-то разбудить. Он остановился на крыльце, &аслонив ладонью глаза, чтобы их не слепило солнце.
Гора была наполовину синей, наполовину желтой, как на рисунке Дароткана, и староста выругал гору, словно она одна была во всем виновата. Гора, да еще Карл Маркс.
Я еще не знал, что скоро расстанусь с горой, с дедушкой и бабушкой, с Алешкой и Даротканом и, живя в большом городе Томске, буду вспоминать этот необыкновенный край.
Тетя была сгусток энергии, одетый в старенькое пальто. Куда бы она ни ступила — на пол в столовой, на узкое бревно, перекинутое через ручей, на зеленый луг или на пыльную дорогу, — вокруг нее сразу возникало силовое поле, как на картинах Ван Гога, с которыми я встречусь через много лет.
В царское время она жила в Енисейске, устраивала побеги политических ссыльных, много раз сидела в тюрьме, не боялась ни бога, ни жандармов и считала, что на свете нет ничего важнее революции, от которой прятал свое детское лицо румяный и кудрявый старик Степан Харламыч.
Она приехала к нам в тот день, когда грохотал гром и небо метало молнии, омытые июньским ливнем. Казалось, она была частью этой грозы и влетела к нам в дом, как влетает шаровая молния.
Был жаркий день, когда мы с ней тронулись по направлению к озеру Байкал, где уже стоял пароход «Феодосия» и ожидал пассажиров.
Ранним утром он был закрыт дымкой тумана, и казалось — в небе висела одна пароходная труба, к которой мы плыли на лодке, пока не увидели борт с трапом и не услышали хриплые голоса матросов.
Как быстро менялся мир! Еще недавно он был бежавшей лошадью, телегой, катившейся по дороге, скользившей через лес, деревенским окном, коровой, приподнявшей хвост и бесстыдно мочившейся на поляне, и вот он превратился в Байкал.
Байкал был прозрачным, как воздух. И в этом воздухе, ни на что не опираясь, двинулся с места пароход, гудя, дымя и пачкая своим черным дымом прозрачную свежесть утра. Между небом вверху и глубокой водой внизу никто не провел отделяющей их черты, и временами чудилось, что мир перевернулся и мы плывем по небу, а не по воде, которая вопреки всем законам привычного оказалась над нами.
В каюте кроме нас с тетей было еще два пассажира: глухонемой, пытавшийся своими огромными руками, сгибая и разгибая пальцы, объясниться с нами, и плосколицый бурятский лама в желтом халате.
Лама за весь день не произнес ни одного слова, а неподвижно сидел на койке, подложив под себя ноги и перебирая четки, а глухонемой, безостановочно размахивая руками, в чем-то пытался убедить мою тетку и меня.
Молчание ламы мне нравилось больше, чем назойливая болтливость глухонемого, и меня потянуло на палубу.
Поднявшись по лесенке, пахнувшей масляной краской, я остановился, снова увидя и всем своим существом почувствовав окружающее пароход чудо. Правда, у чуда было название, слышанное мною с младенческих лет. Но привычное название не могло вместить весь смысл того, что повисло вокруг, подняв пароход с пассажирами и погрузив его в безмолвие, чем-то похожее на молчание ламы, сидевшего в каюте, поджав под себя ноги.
30
Погруженный в неподвижное молчание лама и неистовый глухонемой, хватающий быстрыми пальцами обжигающую, как огонь, мысль и снова выпускающий ее, надолго остались в моем сознании вместе с Байкалом, который кончился на другой же день. А как хотелось, чтобы он никогда не кончался и все продолжался и продолжался, перевернутый и отраженный в упавшей синеве неба!
Да, Байкал кончился, и мы с тетей сели в набитый пассажирами душный поезд, как бы уже предвещавший яркий быт гражданской войны. Все ехали куда-то, так же как и мы, расположась на узлах и слушая стук колес, наматывающих на себя унылую тайгу и откидывающих прочь телеграфные столбы и деревенские избы с тесовыми заплотами.
Франтоватый матрос, пришивший к своей парусиновой рубашке вместо воротника кусочек синего прохладного моря; украинец, резавший большим складным ножом свиное сало и колбасу, одуряюще пахнувшую чесноком; баба, с трудом выволокшая из кофточки грудь — комок колыхающегося теста с фиолетовым соском, — чтобы накормить заревевшего младенца; застенчивый жандарм, надевший помятую шляпу и выдававший себя за агронома, как в будущих, еще не написанных тогда пьесах, и преданный наспех сфабрикованным документом; певица, ехавшая на гастроли и боявшаяся простудить горло, — все это называлось жизнью, которую моя тетя читала одними глазами, «про себя», словно потрепанную, побывавшую во многих руках библиотечную книгу. Только мне одному казалось все это до призрачности новым — и плачущий младенец, и синий вырез моря на спине матроса, и дрогнувшие губы бывшего жандарма, которого патруль уже повел куда-то, куда он очень не хотел. Он задерживал каждый шаг и все оглядывался на осиротевшую полку, где остался эмалированный чайник — символ уюта и осколок мира, сразу ставшего воспоминанием.
Станция, где предстояла пересадка, так н называлась: «Станция Тайга». Лес сам придумал это прохладное, пахнущее пихтовыми ветвями название и намалевал его над широкими стеклянными дверями, за которыми кафельной, совсем не вокзальной чистотой сверкал и звенел станционный буфет. А потом возник Томск с одетыми в бело-зеленые платья березками и улицами, где везшая нас с вокзала лошадь высекала подковами искры из булыжников мостовой.
Маленький деревянный, крашенный масляной краской домик, завернутый в тополиный запах, — и наш путь кончился. Как было странно, что домик стоял на месте и под ним не было ни колес, ни шпал.
Под домнком не было ни колес, ни шпал, но зато У домика были крылья. Дом летел на своих прозрачных крыльях. Но летел не только этот дом, летел Томск, сдвинутый с места вихрем революции и оказавшийся вдруг в другом времени. В другом времени, но в том же самом пространстве. По-видимому, это несоответствие остановившегося пространства с убежавшим вперед временем и смущало жителей Томска, и больше всех — вдруг и надолго озябшего хозяина домика, который моя тетя снимала. Кроме этого дома в тополевом саду стояло еще два. В одном проживал сам хозяин — низенький старик, с живой и вьющейся, как барашек, бородкой, женатый на молодой, очень высокой и статной женщине, а в другом — владелец иллюзиона «Глобус» — красивый господин в фетровой шляпе, в новом макинтоше, подолгу надевавший тугие лайковые перчатки.
Хозяин выглядел зимним даже в июле. В жару он носил высокие, валяные из шерсти калоши. Тетя объяснила мне, что он носит зимние калоши летом потому, что уже никому не верит: ни погоде, ни людям. В теплых калошах было уютнее ожидать, когда кончится революция и вернется «доброе старое время». Видно, как наш староста, он не терял надежды на это.
Но «доброе старое время» почему-то не возвращалось. И хозяин трех домиков и большого тополевого сада, тоскуя по «доброму старому времени», по вечерам стоял на крыльце в теплых валяных калошах, пел грустный романс протяжно-задумчивым голосом, аккомпанируя себе на гитаре.
Гитара издавала душный женский стон и кого-то звала, звала, звала. И я догадывался, кого она звала на своем стонущем языке: она звала вернуться «доброе старое время».
Красивый высокий господин в серой фетровой шляпе и в макинтоше не думал о добром старом, пока его вполне устраивало новое. После обеда, надев макинтош и шляпу и натянув на узкие, длинные пальцы тугие лайковые перчатки, он уходил в свой иллюзион «Глобус». Проходя мимо нашего домика, он почтительно здоровался с тетей.
— Как поживаете, капиталист? — спрашивала тетя.
— Какой я капиталист? — ласково улыбался владелец иллюзиона. — Ведь я по профессии инженер и состою в партии социалистов-революционеров.
— Хороша революционная партия, которая принимает в свои ряды капиталистов.
Слово «иллюзион» смущало меня своим сказочно-мечтательным смыслом, и я все ждал, когда тетя отправится туда и возьмет меня с собой. Но у нее не было времени. С утра она уходила, а приходила вечером с собраний и митингов, вся наполненная какой-то новой и особой гражданско-политической энергией, которой так боялся и не любил наш хозяин.
Но наступил день, когда я наконец оказался в иллюзионе «Глобус», в кресле первого, самого дешевого ряда. Шел фильм «Виктория» по повести Кнута Гамсу-на. Зал погрузился в темноту, и я увидел нечто необыкновенное, словно кто-то показывал мне свой сон, прикрепив его невидимыми кнопками к дрожащему, серебристо сверкавшему полотну, вдруг ожившему и слившемуся со звуками печально-радостной музыки, исполняемой на рояле.
Между тем, что я видел в иллюзионе, и тем, что осталось вместе с горой, Байкалом и кожаным домиком Дароткана, было какое-то родство и сходство, которое я смутно чувствовал, но еще не мог себе объяснить. И когда фильм кончился и в зале загорелся электрический свет, мне показалось, что я снова очутился в душном поезде, где пассажиры, сидя на тюках, с нетерпением ожидают, когда кончится подаренное необходимостью и совершенно ненужное им пространство. Мне хотелось вернуться в чужой сон, который только что трепетал на полотне и исчез вместе с последним аккордом вдруг замолчавшего рояля.
Разумеется, тете о своих впечатлениях и чувствах я не сказал. У тети был совсем другой душевный склад, чем у меня. Больше всего на свете она ценила реальность и презирала всякие сны и сказки, даже если они были прикреплены невидимыми кнопками к способному вдруг оживать полотну.
— А помните ламу, — спросил я как-то тетю, — и глухонемого, который все пытался заговорить?
— Помню, — ответила тетя. — Лама хотел спрятаться от революции за своим молчанием, как староста за накомарником.
— А глухонемой?
— Глухонемой — наоборот. Он хотел выскочить из своей глухоты и немоты. И мне было его искренне жаль. Потому что ему ничто не может помочь. Даже падение царского режима.
«Царский режим, — мысленно говорил я тетиными словами. — Неужели это о нем тоскует гитара по вечерам, когда хозяина надев валяные калоши, выходит на крыльцо?»
Каждый раз в моих предутренних снах гитара превращалась в молодую, очень высокую, статную женщину, молча, как картина, стоящую в раме окна или полулежащую на мягкой тахте, подогнув под себя полные длинные ноги в телесного цвета чулках. Тогда все становилось на свое место, и я понимал, что в руках поющего старика — не мертвый предмет, а живое гибкое существо, издающее душный ночной женский стон, когда хозяин притрагивался к струнам своим толстым пальцем.
Гитара, она же — эта статная женщина, звала, звала, звала. И я теперь догадывался, что она зовет не «доброе старое время», названное моей теткой «царским режимом», а что-то другое, далекое, далекое и близкое, как мои детские сны.
Дароткан научил меня видеть мир своими наблюдательными, косо выглядывающими из узкого выреза, веселыми тунгусскими глазками. Но Дароткана здесь не было. И однажды случилось так, что я увидел мир глазами пленного немца, работавшего в огороде нашего хозяина.
У пленного были большие светло-синие глаза, и, когда он оборачивался, опираясь ногой, обутой в короткий немецкий сапог, о железо лопаты, он смотрел этими слишком светлыми глазами всегда в одну сторону — в ту сторону, где стояла молодая хозяйка, умевшая превращаться в моих снах в гитару и тут же снова возвращаться в женщину.
Я посмотрел туда, куда смотрел немец, и окно сразу превратилось в раму. А в раме, похожая на прекрасную картину, стояла она, и от нее, казалось, шел стонущий гитарный звук, словно хозяин уже притронулся к струнам своим толстым пальцем.
Она стояла в окне, и мы с немцем смотрели на нее, не понимая — картина ли это или сама жизнь, вопреки всем законам обыденного, превратившая себя в картину.
И когда она ускользала, окно наполнялось пустотой и тишиной, и я ждал наступления сумерек, когда хозяин выйдет на крыльцо с гитарой, бережно держа ее, словно вот-вот она выскользнет из его рук, издав стон, и оставит его наедине с пустотой.
Наш домик, как я уже упоминал, стоял в тополевом саду. На улице тоже росли тополя, и уж не потому ли она называлась Садовой?
Недалеко от нас расположился винный склад. Возле обитых железом ворот прохаживался часовой — низенький плотненький меньшевик в чесучовом жилете и с длинной винтовкой в коротких руках. Иногда к нему приходила жена и приносила забинтованный в марлю морковный пирог или куриную котлетку, лежащую между двумя ломтиками пшеничного хлеба.
Моя тетя была знакома с этим меньшевиком и, проходя мимо, всякий раз замедляла шаг, а иногда останавливалась — поспорить с ним о судьбах революции.
31
Дети мыслят слишком конкретно. Когда кто-нибудь произносил слово «меньшевик», передо мной сразу возникал образ плотненького человека в чесучовом жилете, охранявшего винный склад, а заодно и весь квартал. Меньшевика я не мог представить без чесучовой жилетки и без морковного пирога, забинтованного в марлю.
Я помню, какое растерянное лицо было у меньшевика в тот день, когда к нему подошел разгневанный наш хозяин и стал упрекать его, что он не задержал пленного немца. Пленный немец бежал из плена в утренний зябкий час, когда меньшевик стоял на посту. Немец бежал не один, а с женой хозяина, похожей на картину.
Теперь ее окно напоминало пустую раму, которую забыли снять со стены, когда картину отдали реставратору.
И было так странно, что жена хозяина раздвоилась, одновременно бежав с пленным немцем и оставшись дома в виде гитары. По вечерам хозяин бережно выносил ее на крыльцо. И когда толстый палец притрагивался к струнам, она издавала душный женский стон и кого-то звала, звала, звала, и я уже теперь совсем не мог понять, кого она зовет.
Прошло много лет, а в моем сознании все еще живут полуженщина-полугитара и ее душный стон, пленный немец в вельветовых штанах, волосатый поющий рот старика и меньшевик, жующий принесенную ему котлетку, охраняя наш покой.
Покой… Моя тетя не любила это слово и ждала, когда сменят уставшего, озябшего меньшевика.
Днем на улице выстраивались по ранжиру зеленые, словно одетые в хаки, тополя, и были слышны трубы духового оркестра и переступь лошадиных копыт, выбивавших из булыжной мостовой музыку, похожую на завернутую в звук даль. Иногда мимо проходила рота красногвардейцев, и в последнем ряду всегда шел худенький гимназист с красной повязкой на рукаве. И мне почему-то очень хотелось быть этим гимназистом, пытавшимся своими неуверенными и тонкими ногами попасть в один шаг с широкоплечими рабочими, шедшими с ним рядом.
Я готовился к поступлению в гимназию и усердно решал задачи или заучивал стихи, прохаживаясь из угла в угол. Тетя возвращалась домой поздно. Однажды я не утерпел и пошел ее разыскивать. Так я оказался на митинге, где, окруженный густой толпой, стоял оратор и метал во все стороны слова.
Слова эти были до крайности просты, как свернутая из газеты и наполненная махоркой солдатская цигарка, но я их почти не понимал. В раскаленной, пронизанной грозой и электричеством обстановке они приобретали какой-то особый, несоизмеримый с их обычной жизнью смысл.
Оратор не произносил, а выкрикивал слова, и эхо сразу же уносило их, и впервые я догадался, что говорил не оратор, а что-то огромное и невидимое, стоящее за спиной выступающего.
В толпе я увидел тетю. На ее лице лежало то же выражение, которое я видел каждый раз, когда она спорила с меньшевиком. Но тут я забыл о тете и о меньшевике. Я увидел гимназиста с повязкой на рукаве, того самого гимназиста, который вышагивал, держа на плече винтовку, в последнем, замыкающем ряду красногвардейской роты. Гимназист стоял вытянувшись, как по команде «смирно», держа в руке развернутое красное знамя.
Ощущение чуда вдруг охватило меня. Это был тот самый флаг, который на своем рисунке Дароткан повесил над синей горой.
Казалось, к древку кто-то привязал кусок реки, где одновременно отражались утренняя заря и пламя костра, разведенного на берегу. Ветер шевелил флаг, как волны, и речные струи, вшитые в пламя костра и поднятые над толпой, несли с собой даль, сливая ее с близью.
Я смотрел на флаг как бы глазами Дароткана, который его выткал из речных струй, и мне казалось, что юный красногвардеец пройдет с этим флагом через все леса, сады и рощи мира и впишет его, как старый эвенк, не только в короткую жизнь людей, но и в необъятную природу.
32
Когда мне становилось скучно одному в домике, я раскрывал свой чемодан, где на самом дне, под бельем, лежал рисунок Дароткана. Я доставал этот рисунок и клал его на стол рядом с учебником географии. И в тот же миг унылый стол с большим чернильным пятном превращался в утро на берегу Ины, где среди кедров и лиственниц стоял дом старого тунгуса.
Да, утро. Но совсем особое утро, какого никогда не бывает здесь, в Томске. Это утро осталось там, рядом с пасущейся на берегу важенкой и подбежавшим к ней теленком. Но рисунок принес ко мне сюда Ину, и оба берега, и гору со снежной верхушкой.
В просторной, как баргузинский лес, душе Дароткана простирались тропы, уходили вверх к облакам крутые мохнатые спины гор, перекликались весенние птицы и согревал корни сосен и трав горячий ручей, бормотавший что-то на своем невнятном детском языке. Здесь, на листе бумаги, играла душа Дароткана, слившаяся с миром и со мной, и было так удивительно, что все это, в тысячу раз более живое, чем все окружающее, называлось просто рисунком.
Мне уже довелось видеть картины, когда я бывал с тетей в интеллигентных семьях. Но эти картины не имели ничего общего с рисунком Дароткана. Они походили на сцену плохого любительского спектакля, где дурно загримированные люди повторяли за суфлером реплики — неживые, картонные слова.
Мир на рисунке Дароткана звал, как зовет тропа в лесу.
Да, мне теперь, как никогда, хотелось туда, где в синей воде плавают облака и гибкие зеленые хариусы.
В Томск вступили белые и расстреляли того самого гимназиста, который всегда шагал в последнем ряду красногвардейской роты, держа винтовку на худеньком плече.
Тетя ходила собранная и строгая, она ждала ареста и просила меня отвечать на любые вопросы незнакомых людей: «Я не знаю».
Да, наш собственный язык и тот был против нас, и существовали только три слова, на которые можно положиться, три слова, составлявшие короткую фразу:
«Я не знаю».
Я поступил в гимназию, где бородатый, покрытый перхотью дядька в широких, всегда помятых штанах уводил гимназистов в сумеречное зало на утреннюю молитву.
В классе висел портрет Антона Павловича Чехова, большая географическая карта и изображение канадца, идущего на круглых плетеных лыжах по глубокому снегу далекой от нас североамериканской зимы. Ноги у канадца были почему-то смешно согнуты в коленях, и это изображение внесло в мое наивное сознание мысль, что все канадцы ходят такой же смешной и необычной походкой.
Наш классный наставник Петр Иванович походил одновременно на Антона Павловича Чехова и на канадца. Он носил чеховское пенсне с черным шнурком, перекинутым через всегда настороженное и прислушивающееся ухо, и ходил, как канадец, низко согнув колени, словно под ним был не зашарканный гимназистами пол, а глубокий снег.
Томские зимы были, вероятно, куда более свирепыми, чем канадские. Но у канадских зим было одно существенное преимущество: они существовали не только в действительности, но и в воображении.
Воображение уносило меня из класса на те вдруг ожившие просторы, которые, словно боясь классного наставника, до поры до времени лежали, уменьшившись в миллион раз, на сверкавшей всеми цветами географической карте. География стала любимым моим предметом, хотя ее и преподавал молодцеватый поручик с эмалевым университетским значком на элегантном зеленом белогвардейском френче.
— Встать! — командовал он, входя в класс. И мы вскакивали.
— Садитесь, — разрешал он, и голос его гас, становился другим, более интимным и штатским.
У этого поручика была та же страсть, что у меня. Он любил географию, удивительную науку о далеком и странном, замкнутом в красиво звучащие слова.
— Экватор! — говорил он, подходя к карте своим упругим офицерским шагом. — Ориноко… Ну-ка, где оно?
И модуляцией голоса, вобравшего в себя музыку таинственности и приключенческой загадочности, он пытался приблизить к себе и к нам невиданные небеса, теплые южноамериканские реки с аллигаторами и душные африканские леса.
Он хотел быть в интимных и дружеских отношениях со свернувшимся, как ковер, пространством, любя все далекое и прекрасное, — так зачем же он надел на себя мундир с ненавистными мне погонами, а на рукав повязал бело-зеленую повязку, уведомлявшую всех, что он служит в пепеляевских частях, а значит, сочувствует «социалистам»?..
Глядя на зеленые глазки этого офицера, совмещавшего военную службу с преподаванием а гимназии, слушая звон кавалерийских шпор, я спрашивал себя — не он ли расстрелял того самого гимназиста, который всякий раз являлся ко мне вместе с красногвардейской ротой, стоило мне только задуматься и закрыть глаза?
На уроке он громко произносил волшебные слова и подходил к географической карте, чтобы тут же превратить ее в мир своим задумчивым голосом и жестом красивой, холеной руки, на одном из пальцев которой блестело тяжелое, золотое обручальное кольцо.
Мое сознание терялось от этого жизненного противоречия, которое воплощал в себе преподаватель географии, так сложно совмещавший задумчивость, обаяние и почти духовную страсть ко всему красивому и далекому с обыденной службой в белой армии.
Но не изящная рука поручика с длинным «музыкальным» пальцем, продетым в золотое обручальное кольцо, а рука другая, вымазанная чернилами и принадлежащая шестикласснику Меньшикову, протягивается ко мне из тысяча девятьсот девятнадцатого года сюда, в тысяча девятьсот семьдесят второй.
Шестиклассник Меньшиков переходил из снов в сны, и даже в те, которые мне снятся сейчас.
Он не ходил, как ходят все остальные люди, а плыл утиной походкой и появлялся всегда там, где его не должно быть: на повороте улицы, за деревом бульвара, вечером в затаившейся тишине, в самом темном углу гимназического коридора и ночью в моих снах, когда хочется проснуться, но что-то мешает.
Встретившись со мной, он одной рукой брал меня за плечо, а другой, превращавшейся сразу же в клещи, хватал за ухо и, подолгу не выпуская, услаждал себя моим страхом и болью и, когда отпускал, произносил картавя одну и ту же настороженно дежурную фразу:
— Ну, а теперь — пролетай!
Между снами и действительностью не было никакого разрыва, когда возникал он то тут, то там вопреки всем физическим и человеческим законам, останавливая время и настигая любое расстояние.
— А, попался, голубчик, — говорил он ласково, дыша на меня вплотную приблизившимся ртом, еще не приступив к делу, а только кладя руку мне на плечо. Он пристально рассматривал мое лицо, заглядывая в глаза своими смеющимися глазками, словно пытаясь увидеть во мне что-то или открыть то, чего я и сам не знал. Затем не спеша в меня вонзалась боль вместе со страхом, что он оторвет ухо. Он был в заговоре с молчанием и пустынной тишиной, словно заранее зная, что никто не окажется в том участке города или здания, где меня настигла его рука, и никто никогда не придет мне на помощь.
А потом, ночью, все это повторялось еще более замедленно и реально, когда он входил своей утиной походкой в мой сон, аккуратно закрыв нашу калитку и ступая по мокрым тополиным листьям прямо к предательски открывшимся дверям.
Заболевая ангиной или инфлюэнцей (так красиво называли тогда еще не опошлившийся грипп) и уже лежа в постели, я представлял его себе где-нибудь на перекрестке улиц или на бульваре возле технологического института, тщетно ожидавшего меня и, наверно, возмущенного тем, что я на этот раз сумел уклониться.
Когда он говорил мне «ну, а теперь — пролетай» и отпускал мое горевшее в огне и морозе ухо, я чувствовал способность к полету и за плечами у меня появлялись невидимые крылья. Появлялись и сразу исчезали, обманывая, как во сне.
Чувство полета возвращалось ко мне, когда я приносил из городской библиотеки книгу Майн-Рида.
Дверь открывалась, и я исчезал, забывая о Меньшикове и гимназическом дядьке в широких помятых штанах и об остановленном белогвардейцами времени. Я погружался в природу, созданную не столько воображением Майн-Рида, сколько моими воспоминаниями о прошлом.
Из лесов Майн-Рида и с троп Дароткана, где звенело и струилось утро, как звонок на большую перемену, меня возвращал к действительности голос тети:
— Почему у тебя красное и распухшее ухо?
— Не знаю.
— Почему не знаешь?
— Вы же меня так учили отвечать.
В продолжительные минуты и дни моего детства книги еще не были просто книгами, как сейчас, сброшюрованными и переплетенными страницами, где по-типографски воспроизведенные знаки, по привычке называемые словами, пытаются выдать себя за леса, сады, небо, улицы, живые лица, за любовь и смерть. Нет, это были не просто книги, а сама мечта, превращавшаяся тут же в жизнь, пока перевертываешь одну страницу и уже читаешь другую, на которой, отражаясь, как в зеркале реки или озера, стоит индеец в пернатом уборе возле своего вигвама, бесконечно более реальный, чем гимназия и гимназисты, собравшиеся в уборной и передающие друг другу вонючий дымящийся окурок.
Преодолевая дрожь нетерпения, я подолгу стоял на морозе, ожидая, когда откроют запертые на обед и похожие на книжный переплет большие двери томской городской библиотеки.
Как-то раз меня там подкараулил Меньшиков, вдруг выплыв из-за деревьев своей вездесущей утиной походкой. Он протянул руку, но рука в этот раз почему-то не торопилась…
— Покажи-ка, — сказал он, — что ты читаешь.
И, выхватив у меня книгу, он сразу же стал ее рвать. Никогда я еще не видел такого довольного, счастливого лица, как лицо шестиклассника Меньшикова, вырывавшего страницы из книги и, громко смеясь, бросавшего обрывки в снег. Чему он смеялся? Может быть, моему недоумению и ужасу, а может быть, непрочности того эфемерного бытия, которое только что существовало вместе с каждой страницей книги, а теперь лежало на снегу возле его торжествующих ног.
Он не любил плоть. Но дух он ненавидел еще больше. И порванная книга «Принц и нищий» доставляла ему еще больше удовольствия, чем мое красное, распухшее ухо и испытываемая мною боль.
Я шел, не решаясь оглянуться, и за спиной долго слышал этот счастливый, захлебывающийся смех, смысл которого был так же загадочен и страшен, как жизнь, наступившая после того, как белые расстреляли юного красногвардейца.
Не я один прятался за обитыми оленьими шкурами дверями Майн-Рида. Там прятались почти все мои одноклассники, к большому огорчению нашего классного наставника Петра Ивановича.
Однажды, он принес в класс томик Чехова и, торжественно поглядывая то в книгу, то на портрет, висевший на стене, прочел нам рассказ о гимназисте, называвшем себя Монтигомо Ястребиный Коготь, и его приятеле, которые пытались бежать в майнридовские леса.
В своем чеховском пенсне с длинным шнурком, сам похожий на Антона Павловича, он старался разрушить иллюзию и захлопнуть дверь в воображаемые миры.
Это он — тихоголосый, влюбленный в обыденность и в классный журнал — на долгие годы поссорил меня с Чеховым. Как он не мог понять детской души, которая нуждалась в Майн-Риде и даже в Густаве Эмаре больше, чем в мудрости непредусмотрительных классиков, ибо вокруг висел сумрак и тут и там появлялся шестиклассник Меньшиков, чтобы испытать восторг и радость от чужой боли.
33
Гимназисты носили с собой в ранцах из телячьей кожи не только угрюмые учебники с портретами благообразных царей, но и книги, способные унести к индейцам или в средние века — куда угодно из той железной необходимости, которая посыпала себя перхотью и надела широкие помятые штаны гимназического дядьки.
Фенимор Купер или Марк Твен со своим Томом Сой-ером или Геком Финном были рядом, но и они не могли ничем мне помочь, когда вдруг возникал шестиклассник Меньшиков и протягивал ко мне свою руку.
Я и сейчас слышу его булькающий и ликующий смех, когда, наконец отпустив мое пылающее ухо, он выхватывал, быстро, плавно, почти на лету раскрыв мой ранец, какую-нибудь книгу и начинал ее терзать.
Он делал это не спеша, иногда даже читая вслух первую попавшуюся фразу с еще не уничтоженной и как бы тихо умоляющей о пощаде страницы, — фразу, вдруг приобретавшую какой-то особый, трагический смысл… А затем он уничтожал эту фразу вместе с другими, словно мстя письменности и книгопечатанию за скрытый в них добрый и умный человеческий дух.
Был ли он человеком? Не знаю.
Да, он относился к виду «разумный человек», как и хозяин нашего домика, заставлявший стонать свою гитару и сладко млеть от несчастной любви. Шестиклассник Меньшиков тоже был влюблен. Сидевший на одной парте со мной Васильев носил меньшиковские записки в женскую гимназию прелестной гимназистке Наде, своей двоюродной сестре.
Однажды мы не утерпели и распечатали очередную записку, в которой Меньшиков цитировал стихи Бальмонта и клялся в вечной любви. И только мы прочли записку, как сразу тут же возник он сам, со смеющимися глазками и утиной походкой. Он плыл к нам, раскачиваясь и загребая холодный воздух широкой, умеющей превращаться в клещи рукой. Он плыл, а наши ноги приросли к деревянному тротуару, а сердце сжалось от предчувствия беды.
Мы стояли, а он все замедлял и замедлял своя шаги, наслаждаясь свежим воздухом и нашим страхом.
На этот раз он почему-то не тронул ни меня, ни Васильева, а только сказал:
— Ну, а теперь — пролетай!
Я побежал, почти падая от страстного желания перескочить через улицу и сразу же оказаться в конце квартала. Но что-то заставило меня оглянуться на медленно удалявшегося Меньшикова. И тут я понял то, что, наверно, не поняли бы и учителя: Меньшиков не оканчивался там, где кончались его раскачивающиеся на ходу плечи и голова. Он был намного больше самого себя. Я понял, что по улице плыл не шестиклассник Меньшиков, — плыла сама судьба.
34
И снова перед географической картой стоял задумчивый поручик и своим звучным, красивым голосом извлекал из названий морей, рек, городов и стран спрятанную там даль, словно открывал банку, полную сгущенного, сладкого, тягучего швейцарского молока.
Он произносил какое-нибудь слово, и это слово, слышимое не всеми сразу, а только каждым отдельно, откликалось из разбуженных его голосом пространств представленных здесь, в классе, географической картой.
И было странно и непонятно, что даль, онемело лежавшая на карте, вдруг ожила и заговорила, выбрав посредником между собой и нами этого белогвардейского офицера, добившегося у начальства разрешения преподавать географию в нашем классе. Может, он тоже хотел спрятаться от всего сумеречного и застывшего, хотел уйти, как уходили мы на тайное свидание с персонажами Майн-Рида или Жюля Верна?
А может, он тоже был персонаж, но созданный не фантазией писателя, умноженной на воображение гимназистов, а воображением жизни, которая пыталась тогда скрыться от самой себя?
Почти волшебник, артист, вдохновенно игравший роль учителя и одновременно роль заключившего с ним союз земного пространства, он заворожил класс и раз-ворожил нечто, до поры до времени спрятанное в книгах и вот теперь затеявшее с нами странную игру, вовлекая, как в сон, в удивительное путешествие вокруг света, где унылый класс с узкими партами и черной доской вот-вот превратится в каюту, в белый парус, в двугорбую спину верблюда, в покачивающуюся походку индийского слона, в соленую океанскую волну, в баобаб, в рыжую обезьяну, сидящую на ветке и кормящую лысого младенца своей полуженской-полукозьей грудью, в тайфун, в перестрелку туарегов, в золотые копи, в небоскреб, в турецкий гарем, в кумирню тибетского монаха…
Все было здесь, рядом с картой, и в нашем сознании, рядом и бесконечно далеко, но даль и близь сливались по еще неведомым нам законам мысли, которая вмиг могла обежать весь земной шар.
Она бежала, эта мысль, увлекая нас за собой в безмолвные леса, на простор океана, где несет себя вместе с волной кит, в темноту пещер, в западню, прикрытую мхом, на гладь горного озера, в душу дикаря, в синеву реки, грохочущей в ущелье, в обвал, в полет ласточек, несущих на своих крыльях небо.
Мы боялись одного: как бы не прозвенел вдруг звонок и не оборвал наш разговор с пространством. Вместо звонка услышали выстрел.
Выскочив из класса в коридор, мы увидели шестиклассника Меньшикова. Пришпилив кнопкой к стене коридора фотографическую карточку прелестной гимназистки Нади, дрожащей, обезумевшей, пьяной рукой он стрелял в нее из изящного дамского браунинга, похожего на игрушку.
Безумие. Но рядом с этим безумным миром, который так выразительно олицетворял шестиклассник Меньшиков, был и другой, куда доступ имела моя тетя.
Доступ в этот мир был опасен, он грозил пытками в белогвардейской контрразведке, тюрьмой и расстрелом, и я догадывался, как близка к гибели была моя тетя, никогда не называвшая, уходя из дому, час, когда ее следует ждать.
Каждый раз, когда я ее ждал, я старался не смотреть на старые ходики, висевшие на стене, словно стрелки этих всегда отстававших часов были в заговоре с опасностью, угрожавшей тете.
Так странно, что у этой опасности было живое, красивое и очень симпатичное лицо с черными усиками и мило улыбающимися губами.
Этого высокого улыбающегося молодого человека я видел много раз прогуливающимся возле нашей калитки, и каждый раз, увидя его карие ласковые глаза и легкую походку аристократа или знаменитого артиста, я думал, что он назначил свидание какой-нибудь девушке, живущей недалеко от нас, и теперь ждет ее, с интересом поглядывая на прохожих. Но когда я сказал тете об этом молодом человеке, прогуливающемся по тротуару или стоящем возле тополя с таким непринужденным видом, словно все это происходит не в жизни, а на сцене, она грустно покачала головой.
— Боюсь, что это шпик, — сказала она. Я еще два раза видел красивого молодого человека и его карие ласковые глаза и пытался мысленно примерить к нему и к его симпатичным глазам слово «шпик», произнесенное тетей с особой интонацией, но из примерки ничего не получалось. Всем своим видом он опровергал тетино подозрение, и от этого мне становилось неловко. А в последний раз, когда я его видел, у него, должно быть, остановились часы, и, вынув их из специального карманчика новых полосатых, аккуратно выглаженных брюк, он покачал головой и, подозвав меня, спросил:
— Ты не знаешь, который час, мальчик?
— Не знаю, — ответил я так, как меня учила тетя. В тот ужасный день, когда это случилось, я поздно попал домой. Меня долго задерживал Меньшиков на улице, заранее договорившись с услужливой тишиной.
В этот раз Меньшиков был в ударе. Он долго стоял передо мной, читая то про себя, то вслух отобранную у меня книгу, прежде чем начать экзекуцию над ней. В его характерном булькающем голосе слышались торжество и явная насмешка надо мной, над книгой, а может, и над-всем человечеством, не придумавшим ничего лучшего, чем издавать книги и учить их читать.
Покончив с книгой, он сказал:
— Ну, а теперь — пролетай.
И наступила тишина.
Я помню эту тишину, и сумерки, и скрип снега под подошвами моих валенок — этот голос томской зимы.
Когда я вернулся домой, там уже заканчивался обыск, начавшийся, как оказалось, рано утром.
Тетя сидела в углу. Рядом с ней стоял солдат. А несколько офицеров — сотрудников контрразведки — рылись в наших вещах, вспарывали матрасы и просматривали книги.
Похоже было, что это никогда не кончится, но конец наступил.
Они ушли, уведя тетку и оставив меня одного среди разбросанных как попало вещей.
На полу я увидел разорванный на кусочки рисунок Дароткана. Я собрал обрывки и стал складывать их, пытаясь из кусочков склеить потерянный мною мир.
1972
Большие пихтовые леса Рассказы
Горячий ручей
Я играл в лесу. Ручей кипел у моих ног. Вода была желтая, а камни зеленые. Траве было тепло возле ручья. Сосны отодвинулись от ручья. Они, наверно, боялись ручья, их корням было жарко. Тогда я еще не знал, что горячие ручьи редкость.
Я играл у ручья с изюбром, вырезанным из сосновой коры Микулой. Микула был слепой орочон. Правый глаз его был мертвый, а левый видел все, как вечером, смутным.
Я играл один. В поселке, кроме меня, не было детей.
Между двух гор стояли три дома в лесу и маленькая баня. В баню бежала горячая вода из ручья по желобку. Возле бани ходил олень, щипал мох. Это был олень орочона Микулы. В бане мылась моя мать. Она сидела в сосновой бочке, вделанной в пол, и горячий ручей, пахнувший горой и лесом, бежал к ней на колени.
Отец стоял у окна в большом доме и чистил ружье. Он собирался на охоту.
В двух других домах жили три китайца и орочон Микула.
Я любил китайцев. В доме у них пахло пампушками. Китайцы были легкие люди и говорили на своем прекрасном и непонятном мне языке.
— Коля, — просили меня китайцы, когда я приходил к ним, — сыграй, Коля.
Я играл им на маленькой гармошке, подаренной мне проезжим кооператором. Китайцы трогали меня быстрыми пальцами. На пальцах у них были длинные ногти, и пальцы у них были тонкие, живые, не похожие на пухлые пальцы моего отца.
Отец мой был толстый человек и, когда подымался на гору, пыхтел. Я знал, что у него было больное сердце. Отца я боялся. Он был строгий. И мать иногда плакала. Она просилась в город. Город был очень далеко. Она жаловалась, что вышла замуж за нелюдима, за лесного бродягу, который не любит никого, кроме китайцев и орочон, и что гора дороже ему жены и ребенка. Мать плакала, а отец хмурился.
— Нина, — говорил он, — я тебя не задерживаю. Поезжай.
Но мать не уезжала.
Отец мой любил гору и горячий ручей. Он искал что-то, — не золото, которое искали китайцы, а что-то другое, что было дороже золота.
Теперь мне известно, что отец мой был чудак и что в тайге он искал необыкновенных людей. Он хотел написать книгу. Отец мой не был писателем, он был мечтателем и в тайге собирал сказки, записывал рассказы досужих людей, орочон и приискателей.
В это утро, как я уже сказал, моя мать мылась. Ручей журчал по деревянному желобу, и мать моя, как и я, любила, наверное, его шум. Она распахнула дверь мокрой рукой и позвала отца, чтоб он сходил за водой. Отец принес из реки ведро студеной горной воды и подал его матери. Я это видел. Олень смотрел на мою мать в открытую дверь. Отец что-то сказал матери, она рассмеялась и закрыла дверь. Я видел, как показались ее плечо, белая рука и спина, закрытая длинными распущенными волосами. Отец, насвистывая, пошел в дом. Он шел покачиваясь, утренний, счастливый, и подмигнул мне. Я смотрел на китайцев. Они сидели на высоком берегу бурной нашей реки и промывали золото.
Ручей журча бежал в лес. Он звал меня в лес с собой. Над синими деревьями висело облако, наполовину розовое, наполовину белое, утреннее облако, похожее на изюбра.
Я шел по берегу горячего ручья. Возле ручья росли кусты с розовой нежной корой. Мне хотелось срезать ветку и сделать из нее свистульку. Я шел по берегу ручья и слышал его шум. Показалась дорога. Дорога была узкая, протоптанная оленями. Я знал, что она терялась в тайге. К людям в город у нас была одна дорога — река. Моя мать любила смотреть на реку. Река текла к другой большой реке, на берегу которой стоял город.
Я наклонился над низким кустом, чтобы срезать ветку, и услышал топот. Словно табун диких оленей бежал по тропе. Из лесу выехали всадники. Они куда-то торопились, — должно быть, ехали к нам в гости. Один из них остановился и спросил меня:
— Папа дома?
— Дома!
— А мама?
— И мама дома.
Он посмотрел на меня внимательно.
— Как же тебя звать? — спросил он меня.
— Коля.
— Молодец, Коля, — сказал он и ласково мне улыбнулся большим ртом.
Я задержался, срезая ветку, и отстал от всадников. Я любил гостей. Гости привозили с собой незнакомое, веселое, что-то другое, чего не было у нас. Мать моя смеялась, когда приезжали гости. Лицо у нее оживало. Отец рассказывал гостям о своей жизни у горячего ручья. Я садился на колени к гостям и смотрел им в рот. Мне хотелось, чтоб гости остались у нас навсегда. Но в этот раз гостей ехало очень уж много.
Я сел в траву, чтобы сделать свистульку из срезанной ветки. Мне хотелось показать свистульку гостям. Рука моя торопилась, и я испортил ветку. Мне пришлось вернуться и срезать другую ветку. Я сделал из нее свистульку. Свистулька получилась хорошая и свистела, как птичка, словно птичка сидела у меня во рту.
Я шел посвистывая. Олень по-прежнему ходил возле бани и щипал мох. Матери моей, наверное, в бане уже не было. Она, наверное, была с гостями. Я подошел к оленю и погладил его. В ладони я почувствовал влажный олений рот.
У крыльца я увидел гостей. Они сидели на лошадях. И только тот, с большим ласковым ртом, что спрашивал меня в лесу, стоял на крыльце и смотрел на солнце над рекой, на дальние горы, нежные и небесные, на горы, которые сливались с лесом и с небом. Отца моего не было с гостями. Дверь в наш дом была открыта, и там было тихо, словно никого не было.
— Коля, — сказал мне человек с большим ласковым ртом, — иди-ка сюда.
Я подошел к нему.
— Мальчик, — сказал мне тот высокий человек. — Иди посмотри на папу. Мы убили твоего папу. Он там лежит, твой папа, на полу.
Я вошел в тихий наш дом. Мне стало душно, как во сне, и хотелось крикнуть. Но, как во сне, я не мог крикнуть: на полу лежал мой отец.
— Папа, — сказал я, — они говорят, что они тебя убили. Папа, они тебя не убили? Папа!
Я положил руку на грудь отцу, и пальцы мои попали во что-то живое, липкое.
— Папа, — сказал я, — за что они тебя убили? Папа, да папа же! Папа! За что они тебя убили? Папа!
В комнате жужжала муха. Ей было душно. Она билась о стекло, просилась в лес. Я распахнул окно. Но ветра не было. И в комнате по-прежнему было душно, как во сне. Отец мой лежал на полу, и голова его смотрела на меня.
Вещи стояли прежние. На стене тикали часы. Гости ничего не тронули. Даже ружье, которое отец чистил, висело вместе с патронташем и тунгусским ножом на большом гвозде в углу.
Я вышел на крыльцо. У крыльца никого не было. И только трава, растоптанная копытами лошадей, трава под нашим окном, напоминала, что они только что были здесь.
— Мама! — позвал я. — Мама!
Мать не откликнулась.
Я подошел к бане и распахнул дверь. Мать моя сидела в сосновой бочке.
— Мама! Да мама же! — крикнул я.
Она не ответила.
Она смотрела на меня неподвижными глазами. Рот ее был открыт. И вода из желоба журча падала на нее.
— Мама!
Но мама была холодная в горячей воде, чужая, словно то была не мать, а другая, незнакомая женщина.
Я выбежал из бани. В поселке было тихо. И только олень ходил и щипал мох, побрякивая колокольчиком.
Я шел в домик к китайцам. Китайцев не оказалось дома. Я нашел их возле реки, где они промывали золото. Они лежали рядом тихие, как моя мать там, в сосновой бочке, как отец в доме на полу. Я искал Микулу, Микулы не было.
Я был один в поселке. Кроме меня и оленя, не было никого. Я подошел к оленю. Он был теплый, и от него пахло соснами, пахло мхом, пахло рекой.
— Где Микула? — спросил я оленя.
И олень посмотрел на меня, словно понял меня и хотел ответить мне на своем оленьем языке.
На тропинке, которая вилась от бани к дому, я увидел свою свистульку. Ту самую свистульку, которую я нес, чтобы показать. Я не поднял свистульки. Теперь она была мне не нужна.
Я стоял на тропинке, протоптанной моей матерью. Моя мать ходила по этой тропинке за дровами и за водой. Моя мать была недалеко от меня. Дверь в баню была открыта.
Солнце исчезло за горой. Возле нашего дома стало темно. Черно стало в лесу. Окна нашего дома стали темными. В открытой двери бани что-то белело. Может быть, это была моя мать.
Ручей журчал в темноте. Он журчал ласково. Я сел возле него на теплую траву, боясь дома и бани. Мне было холодно и, чтобы согреться, я опускал концы пальцев в горячий ручей, чувствуя его тепло. Ручей был возле меня, и где-то в темноте позванивал колокольчиком олень. Олень ходил невидимый, я слышал его шаги, и мне хотелось крикнуть ему, позвать, но я боялся своего голоса.
Утром из лесу вышел Микула. Слепой шел с вытянутой рукой, трогая деревья. Я боялся испугать его криком и ждал, когда он подойдет ближе.
— Микула, — прошептал я.
Он услышал мой шепот и остановился у ручья.
— Это ты? — сказал Микула. — Живой, значит. Я искал тебя в лесу. Эти, которые были вчера, проезжали мимо меня. Я думал, они меня убьют, но они меня не тронули. Один мне сказал: «Ты и так, как в могиле, старик. Темно тебе. Живи, бог с тобой». При мне они подъехали к дому. Отец твой вышел к ним. Они ему говорят: «Сказки любишь, мы тебе сейчас расскажем. А пока золотишко тащи. Мы едем в Японию. Нам оно там понадобится, а тебе оно теперь не нужно. Теперь тебе, брат, ничего не нужно, ни жены, ни сына». Отец твой спрашивает их: «Кто вы?» А они смеются: «Тебе не все ли равно? На том свете тебя не спросят, кто тебя туда отправил — семеновцы или каппелевцы». Я надеялся, что они меня убьют. А они мне говорят: «Не хотим марать руки об старика. Все равно подохнешь. Безглазый ты». Вот так-то, сынок.
Мы сидели верхом на олене — Микула и я. Олень шел, покачиваясь, возле черной горы. Гора была крутая, обгорелая. Пожар здесь пробежал недавно и изменил местность. Слепой Микула трогал деревья и камни и не узнавал. Он смотрел на мир моими глазами и спрашивал меня, что я вижу. Но я не видел ничего, кроме черных обгоревших деревьев и пепла на том месте, где недавно еще росла веселая трава.
Микула вез меня в страну озер, в большие пихтовые леса. Страна эта была за горой. Там было много ручьев, в больших пихтовых лесах возле горы. Там было много озер. В больших пихтовых лесах возле озер жили его друзья. Микула вез меня к своим друзьям. Там было другое небо, в больших пихтовых лесах. Небо, светлое, как озеро, небо, полное птиц.
Микула вез меня на своем олене и тихо рассказывал мне про пихтовые леса. Но я не верил ему и думал о человеке с большим ласковым ртом.
1938
Большие пихтовые леса
Мы сидели верхом на олене — я и Микула.
Олень, покачиваясь, вез нас в пихтовые леса, в страну горных озер, к друзьям орочона Микулы.
Река неслась по круглым камням. Она торопилась туда же, текла в ту сторону, куда ехали мы, — в большие пихтовые леса.
Микула обнимал деревья. Он видел пальцами. Пальцы у него были зрячие. Он прикасался к холмам, к следам в траве, трогал норки бурундуков и берег реки. Он все хотел видеть. Но пробежавший недавно пожар изменил тайгу, и руки Микулы не узнавали края.
Микула не доверял моим глазам, и потому мы держались реки, слушая, как она шумит. Река могла привести нас к людям.
Река кричала, падая с горы, и я был рад, что она шумела. В мертвом крае она одна была живая и мешала нам говорить, и я был рад, что не мог говорить, — мне не хотелось вспоминать. Там, у горячего ручья, остались моя мать, отец и китайцы. Люди, которые убили их, не тронули меня.
«Коля, — сказал мне один из них, — иди посмотри на папу. Мы убили твоего папу. Твой папа лежит в доме на полу».
Они не тронули и Микулы, думая, что он слепой и живет как в ночи. Они не знали, что Микула видит пальцами, что нос помогает ему находить дорогу и узнавать людей. Все, что видел Микула, когда глаза его были живы и молоды, все было как живое в его памяти. Достаточно было ему вспомнить, чтоб увидеть так ярко, как никогда не увидят зрячие люди. Но после того, что случилось, Микула не верил своим пальцам, и мы держались реки, прислушиваясь к ней. Река вела нас и кормила.
Став на камень, слепой ловил хариусов. Рука у него была чуткая, ей не нужно было поплавка, леска была привязана к пальцу, и палец чувствовал, когда хариус хватал наживку.
Река была синяя и быстрая. Между камнями она кипела. Если бы не было так много камней, Микула сделал бы плот и мы поплыли бы вниз по реке на маленьком плоту, только нам пришлось бы тогда бросить оленя.
Камней в реке было так много, что можно было перейти на ту сторону, не замочив унты, с камня на камень.
Мне хотелось перебежать по камням на другую сторону реки. На той стороне была гора, поросшая зеленым лесом. На той стороне реки была трава, деревья были живые, там не было пожара. Но Микула держал мою руку в своей руке. Слепой Микула не мог перейти по камням реку, и он боялся, что я потеряюсь без него в зеленом живом лесу.
Звери и птицы — все было на той стороне реки. Они убежали туда от пожара. Мне показалось, что небо на той стороне реки было другое, светлое, свежее, утреннее. На той стороне было утро.
Глядя на ту сторону, я думал, что, может быть, там кипит наш горячий ручей и стоит наш дом, и в доме сидят мать моя и отец и ждут, когда я вернусь к ним из лесу. Я думал, что дом наш стоит прежний, такой, каким он был до прихода убийц, и в доме нашем топится печь, и мать моя стоит возле печки с красным от печного огня лицом, и белые руки ее месят тесто. Я любил, когда мать месила тесто. Тесто было живое, и белые руки матери кидали его, бросали тесто на стол, шлепали его как ребенка, как шлепали когда-то меня быстрые, ловкие руки матери.
Мне казалось, что мать моя смеялась на той стороне реки, мать моя пела у горячего ручья, пела и плакала.
Я засыпал и просыпался. Олень вез меня, спящего, укачивая, и голова моя лежала на руке Микулы. Мне казалось, что я падаю с горы в реку, сердце мое замирало, и я кричал со сна, но голоса у меня не было, и мне было душно, словно я был не в лесу на спине оленя, а под зимним одеялом из медвежьей шкуры, и одеяло душило меня.
Вечером мы сидели с Микулой у костра. У костра было тепло. Микула грел свои руки. Вокруг костра было темно, деревья стояли большие и неясные. Недалеко шумела река. Шум ее подбадривал нас. Река и ночью бежала, торопилась к людям в большие пихтовые леса.
Тропа, по которой мы ехали весь следующий день, была узкая. Она вилась по берегу реки и словно была протоптана недавно. Тропа эта походила на ту тропу, которая вела от нашего дома у горячего ручья к бане, на тропу, которую протоптала моя мать.
Мы ехали по тропе, тайга была безлюдна, и если бы к нам вышел из лесу человек, мы испугались бы его больше, чем зверя.
Микула услышал шаги раньше, чем я увидел встречного. Похожий на человека, из-за горы вышел медведь и остановился на тропинке. Он стоял, держа в лапе кедровую ветку, ветка была зеленая, с того берега. Видно, медведь пришел оттуда.
Олень дрожал под нами. Он, должно быть, боялся медведя. Но медведь был не страшный, совсем не такой, про какого мне рассказывала моя мать. Медведь был зимний, толстенький, похожий на одного нашего знакомого, который приехал к нам летом в зимней шубе. Медведь, ворча, подошел к нам.
Микула соскочил с оленя, снял шапку и сказал:
— О медведь-хозяин! Мы знаем, что ты единственный владелец этих мест. Но мы зашли в твои владения не потому, что хотели нанести тебе оскорбление, а потому, что наш путь лежит через них. Уважь же нас, о хозяин-медведь! Ты ведь знаешь, что мы не промышленники, которые ищут тебя, но почему же ты нас ищешь?
Но медведь не хотел уважить нас. Он стоял на тропе и смотрел на нас.
Олень дрожал, ноги его подгибались. Я чувствовал, как тряслась его спина.
— О хозяин-медведь! — сказал Микула. — Перед тобой жалкий слепой и мальчишка, родители его погибли от руки худых людей. Неужто ты не пропустишь нас? Неужто ты тронешь меня, глупого слепого, и этого сопливого мальчишку или оленя? Нет, мы, конечно, недостойны твоего благородного рта. Еще раз прошу тебя, пропусти нас.
Медведь заворчал и повернулся к нам спиной. Он стал спускаться к реке, искоса поглядывая на нас, и мне казалось, что он хочет кинуть в нас веткой.
Микула разговаривал с медведем по-орочонски, и даже теперь я верю, что медведь понял Микулу: не слова слепого, а голос его убедил медведя, и медведь пожалел нас. Тогда же я был уверен, что медведь понимает по-орочонски, и мне хотелось научиться этому языку, чтоб разговаривать со зверьми.
Мы ехали с Микулой, обрадованные, что звери понимают нас и уступают нам дорогу.
Микула дремал, а я думал о тех людях, которые встретят нас в больших пихтовых лесах, и как я буду рассказывать им о нашем разговоре с медведем.
Вдруг стало тихо, так тихо, как было в нашем доме, когда мой зарезанный отец лежал на полу.
Реки не было слышно. Я разбудил Микулу. Он прислушался, но реки не было. Мы потеряли ее. Реки не было, и не слышно было ее шума, и некому было теперь вести нас к людям в большие пихтовые леса. Теперь мы были одни в горелом лесу.
Микула потрогал деревья, но рука его не узнала их: где росли сосны стояли мертвые черные стволы с углями вместо ветвей.
Было тихо и черно в темном обгорелом лесу, мне стало страшно, и я заплакал.
В это время стая гусей пролетела над нами. Они летели к озеру или к реке. Мы пошли в ту сторону, куда они летели. Я вел оленя.
И опять было тихо, все вокруг нас умерло, и только небо было живое, светлое, как река.
— Микула, — спросил я слепого, — мы заблудились?
— Да, — сказал слепой.
— Если мы не найдем реки, мы умрем, Микула?
— Умрем, — сказал орочон.
— Послушай, Микула, я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы ты умер, Микула.
— Я тоже не хочу умирать, — сказал орочон.
— Мы не умрем, Микула. Я знаю. Не может быть, что мы умрем. Я не хочу умирать.
Микула молчал.
Олень шел еле-еле. Он стал тонким и походил на тех оленей, которых я вырезал из доски. Олень плакал. Он умел плакать тихо. Большие слезы висели у него в глазах. Он, должно быть, как и я, не хотел умирать.
— Послушай, Микула, кто из нас первый умрет?
— Не знаю. Наверно, я, — сказал слепой.
— А как же я буду без тебя, Микула? Мне плохо будет без тебя. Я не хочу без тебя.
— Не знаю, — сказал орочон.
Стало совсем темно в черном лесу. В небе показалась луна. Она была милая, маленькая, такая, какую я видел из окна нашего дома.
— Нет, — сказал я Микуле, — мы не умрем, ни я, ни ты.
— Не знаю, — сказал орочон. — Сейчас я ничего не знаю. Руки мои не видят, не знают. А твои глаза глупые. Маленький ты еще. Помолчи.
Утром олень едва встал. Корму и воды не было на нашем пути, рот его высох. И у меня тоже во рту было сухо, не хватало слюны.
— Микула, — сказал я орочону, — сегодня, наверно, мы умрем. Как умирают, Микула? Я не видел, как умирают.
— И не надо, — сказал орочон. — Не говори. Не надо так много говорить.
Олень умер. Он умер просто. Сначала мы думали, что он встанет, но он не встал, он не мог встать, он был мертв.
Олень умер днем. И у меня не было сил идти. Микула понес меня. Он нес меня, и хотя было светло в черном лесу, но лес был по-прежнему тих, а мне казалось, что я по-прежнему сижу на оленьей спине.
Когда я открыл глаза, я увидел себя на земле. Микула лежал возле меня. Он, должно быть, спал, и мне не хотелось его будить.
Я долго ждал, когда он проснется. И вдруг мне стало страшно, я подошел к нему и стал его толкать.
— Микула, ты не умер? Микула! Да Микула же…
Микула проснулся. Его голос был слаб, как эхо.
Оказалось, что Микула не мог идти. И я тоже. Мы поползли.
— Микула, а все-таки мы не умрем, — шепнул я ему. — Вот увидишь, что мы не умрем. Я не хочу умирать.
— Не знаю, — сказал он тихо.
Мы ползли недолго. Снова лежали. И я заснул. Когда я проснулся, Микулы не было. Я крикнул, но никто не ответил мне. Тогда я побежал, я бежал недолго. Мне казалось, что я сплю и ползу во сне. Я чувствовал себя как в жару во время болезни. Я полз. И было темно вокруг меня. И я думал: вот сейчас я умру.
Но руки мои ожили, они были в чем-то живом. Ручей кипел, холодный, возле моего лица. Я почувствовал запах травы. Воздух был густ и сладок. Пахло пихтами. Я был в большом пихтовом лесу, про который мне говорил Микула.
Лежа в траве, я пил, как пьют олени. Глаза мои были в воде, нос, рот были в воде, и руки тоже. Я был в живом лесу. И тут недалеко, наверно, были люди. Но Микулы не было со мной. Он, наверно, ушел от меня, чтоб умереть. Он не хотел, чтоб я увидел, как он будет умирать. А может быть, был жив и ждал меня в пихтовом лесу?
Я крикнул. Эхо ответило мне. И голос у меня был громкий, радостный. Я встал и пошел по мокрой, по живой траве, и руки мои трогали деревья, как руки слепого.
1938
В краю старого Чедучу
1
У Гольчея много друзей. Гора — мать реки — его высокий друг. Черные кедры — красивые его друзья. Белые хариусы в горной речке — и те его приятели.
Товарищей много у Гольчея. Олень Бэюн — его быстрый товарищ. Белки, что возле неба живут на кедровых ветвях, — верхние его товарищи. Бурундучки, что бегают в траве, — нижние его товарищи. В озере, в небе, на деревьях, на верхушке горы, летающие, плавающие, ныряющие, поющие, живут его товарищи.
Людей в этом краю трое: Гольчей, его дед — старый Чедучу, да еще босая Мария.
Иногда люди приходят, но они долго не задерживаются.
— Товарищи, — просит их Чедучу, — поживите у меня. Хороший я человек. С хорошим человеком посидеть не хотите.
Люди идут мимо зимовья Чедучу, по тропе скачут на низеньких лошадях или по реке спешат, а те, которым уж совсем некогда, на самолетах пролетают над зимовьем — птицам соседи.
Старик Чедучу сердится:
— Зимовья им моего не надо. Эко! Им в облаках зимовье бы кто поставил возле небесной дороги. По земле не ходят. Ишь! У птиц крылья украли.
Те, что скачут на низеньких лошадках, останавливаются иногда в зимовье, те, что по реке спешат в шумной лодке, останавливаются редко, а небесные жители пролетают над горой, — нет им ровного места, чтобы сесть.
— Ешьте! — говорит Чедучу, когда у него гости. — У меня рот займите. Едите вы мало. Мимо меня едете, зачем еду с собой везете?
Еды много у него в краю. За рыбой далеко ходить не надо — река течет рядом, за мясом далеко не надо бегать — мясо возле дома бегает: в тайге живут козули, кабарга и сохатые, глупых глухарей очень много.
Старик Чедучу построил свое зимовье на хитром месте, вдали от людей, хотел, чтобы люди ему были рады.
Весной старик Чедучу, босая Мария и Гольчей живут словно на острове.
Вокруг зимовья кипят ручьи, реки рвутся с гор, деревья стоят в воде. Из окна видна зима. Падает снег. В открытую дверь видно лето. Дверь распахнута в реку, в лес, в озеро. Окна смотрят в горы. В этом краю зима и лето живут рядом.
Вокруг холма, на котором стоит зимовье, — вода. В это время года от Чедучу нет дорог к людям.
Люди живут далеко в городах. Чедучу там не бывал. Слышал он, что есть такие места, где дома стоят рядом с домами, — сто, а то и больше домов. Окна, а над окнами еще окна, люди, а под людьми еще люди. Нижним людям — потолок, верхним людям — пол. Тех людей, что возле неба живут, Чедучу было жалко. Слишком уж высоко они живут, с громом рядом. Облака, наверно, им соседи.
— В город вы не едете ли? — спрашивал Чедучу, когда у него были гости.
— Едем.
— Верхним людям привет от меня скажите.
Весной нет дорог от Чедучу к людям. Среди людей нет соседей Чедучу. Такой уже Чедучу человек, пришлось ему вековать без соседей. Речка у него вместо соседа. Сосны рядом с ним живут. С речкой Чедучу разговаривает.
Кричит старый Чедучу речке, будто она глухая:
— Ишь ты! Течешь. Ладно, что возле меня бежишь. Да что с тебя толку? Весной ты людям не дорога.
Весной старый Чедучу подолгу сидит на крыльце, курит, на лес смотрит, на птиц смотрит. Птицам весной в этом краю привольно.
Гольчей спрашивает:
— Люди от нас далеко ли живут?
— Близко от нас людей нету, — говорит Чедучу. — Люди дороги любят. Возле нас дорог нету.
2
Возле весенней горы зимнее озеро лежит. На озере еще лед, еще волчьи следы, а на другой стороне горы распустились березки.
Гора возле озера будто не гора, а олень. На оленьей спине горы — два камня, будто два брата, один камень другого держит.
Гольчей связывает бревна сыромятными ремнями, отталкивает плот и плывет.
Старый Чедучу кричит в окно:
— Куда плывешь, парень?
— Товарищей проведать.
— Проведай, проведай.
Плывет Гольчей, на рыб смотрит, на хариусов в светлой воде. Река из берегов вышла, а хариусы плавают возле горы между деревьев.
Гольчей поет:
Дялань, дялань-дя…
Дялань, дялань-дя.
Плясать ему хочется. Хариусам тоже в воде плясать хочется. Птицы в воздухе пляшут.
Дялань, дялань-дя.
Дялань, дялань-дя.
Поет Гольчей хариусам, белкам, птицам.
Вот солнышко уже на краю озера сидит, будто утка утят своих караулит.
Гольчей оставляет плот под деревьями, а сам лезет туда, к ветру, к чистому небу, где верхушка дерева шумит. С дерева на дерево, с ветки на ветку прыгает Гольчей, — недаром он товарищ белкам.
Дялань, дялань-дя.
Дялань, дялань-дя.
В дупле старой сосны белка сделала себе дом, натаскала кедровых орехов. Гольчей давно знает эту белку. Мать этой белки он знал. Белка тоже Гольчея знает. Любит она с ним играть.
— Белка, — говорит Гольчей, — маленьких белочек когда принесешь? Осенью тебя убью, однако. Бегать тебе трудно стало, видать, в животе маленьких белочек носишь. Осенью я тебя убью. Желудок твой поджарю. Есть буду тебя, белка.
Поздно уже. Солнце под воду стало прятаться на ночь. Гольчей к тому месту подошел, где плот был привязан. Плота нету. Будто кто-то его отвязал. Может, ветер отвязал, может, река отвязала?
Сидит Гольчей на дереве, на воду смотрит. Везде вода. Направо — река, налево — озеро. Озеро и река вместе сошлись. Хорошо птицам, которые на воде сидеть могут.
— Белка, — говорит Гольчей, — я тебе соседом буду. Придется мне возле твоего дома ночевать.
Старый Чедучу ждет Гольчея. В окно видит — плот Гольчеев плывет, а на плоту Гольчея нету. Пустой плот плывет. Ладно, что не видит босая Мария. Пустой плот к дому все ближе, горе река несет. Не случилось ли чего с внуком?
Старик не верил, чтоб река могла отобрать у него внука. Он жил в старой дружбе с рекой. Гольчей не мог утонуть.
Старый Чедучу садится в лодку, едет внука искать.
В доме осталась босая Мария.
3
Мария осталась одна, одна осталась, как камушек в траве. Уже вода стала убывать, и река ушла, и озеро отодвинулось, показалась трава, и в траве гладкие, круглые камушки, которые оставила река, а Чедучу и Гольчея не было.
— О-о-э! — кричала Мария, звала.
Гора откликнулась, река отвечала.
— О-о-э! Гольчей! Чедучу! — кричала Мария.
Думала, дед Чедучу услышит, братишка Гольчей вернется.
В большой тайге жила одна.
— О-о-э! — кричала.
Гуси летели. Может быть, они видели Гольчея и Чедучу. Наверно, река их унесла далеко.
Может, и ей сесть в лодку и плыть — вниз по реке, чем здесь плакать.
Босая Мария плакала. В лесу плакала. Горам жаловалась. И, услышав ее плач, в лесу останавливались звери. Лес стоял тихий, а листья словно завяли от ее плача. Словно птица жаловалась она. В лесу становилось душно от ее горя.
Уже пять и еще пять дней прошло, как Чедучу и Гольчей ушли и не вернулись.
Ночью услышала стук босая Мария. Дверь отворилась: старый Чедучу и Гольчей стоят.
— Сплю я, — говорит Мария. — Ишь, сон мне какой снится.
— Нет, однако. Не спишь, — отвечает Чедучу. — Мы сои видели. Кипяти чай. Чай пить будем, сон свой расскажем.
Вот они чай пьют. Смеются.
— Сижу я в лодке, — рассказывает Чедучу. — Голь-чея ищу глазами. Вижу, сидит он на дереве. С белкой играет. «А я думал — на том свете играешь. Искать тебя еду. Садись, парень, греби». Гребем. В сохатиную падь выехали, человека видим. Человек этот нам машет. «Ты, не старый ли Чедучу?» — спрашивает. «А кто же? — говорю я. — Другого Чедучу здесь нету». — «Если ты Чедучу, — говорит он, — садись. На самолете я за тобой прилетел. И парнишку тоже возьму. Дорог к тебе нету. А тебя там хотят видеть, откуда я прилетел. Ну, садись скорей, летим». Когда сели, он нам мягкое дал что-то, вроде мякиша. «Уши, — говорит, — заткните». Я ему говорю: «Сроду я ушей не затыкал. Не буду я затыкать уши». Он смеется. Я летчику кричу: «Земля мне сверху не нравится. Пожалуй, вернись. На земле лучше. Птицу, что ли, ты из меня хочешь сделать?» Кричу, а сам не слышу, что кричу. Ветер уши мне залепил. Во рту у меня ветер. В город мы прилетели. А нас все встречают. «Стало быть, в гости ты к нам приехал», — мне говорят. А я спрашиваю: «К кому? К тебе в гости или к этому, что рядом стоит? Много вас тут, не знаю, в который дом прежде идти». Меня в водяной дом привели, из стен вода бежит горячая и холодная. Под горячий дождик я стал. Смеюсь. Горячая вода меня щекочет, по спине бьет, по груди. Потом в другой дом меня повели, в театр. Женщины в этом доме пляшут. Легкие женщины, юбки на них коротенькие. Я чихнул. Спать мне с дороги захотелось. Уснул я в театре. Просыпаюсь, думаю, во сне я видел горячий дождь, сейчас босую Марию увижу. Лес увижу. Реку, что по острым камням шумит. Смотрю, люди сидят. Мне городские люди говорят: «Едем, Чедучу, спать. Здесь спать нельзя». А сами смеются. Меня в спящий дом привели, в тихий дом. На мягкое что-то положили. Утром ко мне приходят городские люди, просят: «Расскажи нам что-нибудь, Чедучу. Рассказываешь ты, наверно, хорошо. Мы твои слова напечатаем, чтоб тебя все знали. Хороший ты человек, Чедучу». — «Не хвалите, — я им говорю. — Рано хвалите.
Я к вам в гости прилетел, теперь вы ко мне приезжайте. Да не приедете, однако. Дороги ко мне нету». А они мне говорят: «Мы к тебе с дорогой приедем».
Вот и опять шумит река. Кричи, река, кричи! На хорошем языке ты кричишь: зверям понятно. Чедучу понятно. В горах камни тебя сдавили, маленькой горой к большой горе прижало тебя, а ты вырвалась, радуешься, через камни скачешь, весело тебе, вот и кричишь. О том, что горы высоки, кричишь, о том, что светлые ручьи в тебя втекают, кричишь.
Старому Чедучу без соседей скучно. Опять дорог нету, людей нету. Реке он жалуется. На берегу Чедучу сидит, вяжет сети. Мария ему помогает. Гольчей стоит на камне, ловит хариусов.
— Когда я в городе был, — говорит Гольчей, — думал, плохо, что тебя с нами нету, Мария. Чедучу боялся, что плакать ты станешь без нас. Человек тут один ехал в шумной лодке в эту сторону, поклон просил передать. Да, видать, не доехал этот человек, дорог не было, вернулся. В городе мы о тебе думали.
— Не были мы в городе, — вмешивается Чедучу. — Сон нам снился. Горячий дождь снился.
Усмехается старый Чедучу, а сам думает: может, и впрямь это был сон.
Нет дорог от Чедучу к людям. Птичьи есть дороги. Птица пролетает через горы, была она там, возле людей, и опять летит туда, к людям. Птица и та хочет быть поближе к людям.
— Сон это был, — говорит Чедучу. — Много мне людей снилось.
Сон снился Чедучу. Птицей он стал. Через горы летит. Через реки летит. Рекой он стал. Течет к людям. Гольчей старого Чедучу будит:
— Вставай, гости приехали.
— Не ври, — говорит Чедучу, ему хочется спать, — Зачем врешь? Дорог к нам нету.
— Вставай. Люди с дорогой приехали. Дорогу дальше ведут. С домами приехали. Дома возле нашего дома ставят. Ситцевые дома. Вставай, Чедучу, соседей у тебя теперь много.
1938
Старуха
У дяди Антона рыжая борода. Ноги у него большие, руки широкие. Лесной это человек, брат дерева, друг камня. Глаза его словно обложены мхом. Два глаза, как два зверька, которые из листвы смотрят на человека. Когда он проходит мимо деревьев, он подмигивает им, будто проходит мимо людей.
Два дерева стоят рядом — муж и жена — и трогают друг друга ветвями.
Он любит деревья. Деревья — это очень гордый народ. Только деревья умирают стоя. Но и среди деревьев есть такие, что перед ветром стелются по земле. Говорит дядя Антон кедровому стланцу:
— Ну что ты вьешься, что ты жмешься к земле? Ведь ты кедр. Дерево, а живешь лежа.
Проходя мимо озера, он ворчит. Озера он не любит.
Он любит все, что бежит, все, что падает с гор, что несется через камни, все, что опрокидывается и ревет, что несет бревна и людей: реки, ручьи, речки.
Проходя мимо Охи, речки, бегущей из лесу, дядя Антон нагибается и пьет воду, черпая ее ладонью.
— Эй, выпьешь речку! — кричат ему плотники.
— А вам что? Вам что вода из живой речки, что вода из-под крана. Из-под крана даже слаще. Пейте из него. Соли в вас мало.
С усов дяди Антона капает вода на траву. Он смотрит на Оху и думает.
«Что ж, — думает он, — дни речки считанные. Скоро сожмут ее, посадят в трубу. Теки, скажут, Оха, беги к нам на руки, на спину».
А Оха шумит себе и бежит. И речка-то небольшая, с волчий шаг, но дяде Антону жалко ее берегов, ее красоты.
— Эй, вы! — кричит он водопроводчикам.
— Чего тебе?
— Соли в вас мало.
Одним из первых он приехал в Оху.
— Рек много? — поинтересовался.
— Водятся.
— Зверь далеко?
— Зверя у нас много.
— Ну, а люди есть?
— Есть людишки, настоящих людей мало.
— Это нехорошо. Без человека и речка старится.
Под горой, на диком месте, поставил он себе могучий дом. Окна он прорубил широкие, чтобы по утрам было видно море, виден лес, чтобы в доме всегда было небо.
Третий год дяди Антона на Сахалине был год зимний. Зима простояла до середины июля, лета не случилось, а в сентябре снова наступила зима. Дом дяди Антона был еще без крыши. Стояла палатка в снегу. Половину палатки занимала кровать, на кровати лежала жена дяди Антона.
Старуха захворала в море, ее укачало. Она захворала с горя: земля была не лучше моря, будто и не земля. На пароходе подохли все ее куры. Остался петух, но он не кричал по утрам, не радовал старухина сердца, должно быть и сам не рад был новым местам. Антон выстроил для петуха курятник. Петух ходил в своем пустом доме и скучал.
— Наташа, — сказал дядя Антон старухе, — смотри не скучай.
— Место какое, — сказала старуха. — Курице в этом месте не снести яйца. Как мы жить станем?
— Не скучай, Наташа. Ругайся лучше. Попрекай меня, может, легче будет.
— Не будет мне легче, — сказала старуха.
Каждое утро она просыпалась с надеждой, что Оха — это сон; сон кончился, и она снова у себя на Кавказе. Старуха вставала и пугалась: вокруг было безлюдье, рыжие дикие деревья, чужое небо, чужие люди, — Оха. И чтобы не видеть Охи, старуха ложилась в постель. Она думала о смерти и боялась ее. В Охе не было даже кладбища, земля была холодна и бесприютна. Старуха думала о том, что ей будет холодно лежать в чужой земле.
— Вставай, вставай, — говорила она себе.
И ей уже хотелось встать, затопить железную печку, поставить самовар, подмести.
Она услышала легкие шаги петуха. Петух поклевал в закрытую дверь и прыгнул, хлопая крыльями. Петух крикнул. Это был первый крик петуха в Охе.
Старуха встала, кряхтя вышла на двор, но двора не оказалось. В Охе не было ни одного двора. Стояли три дома среди палаток.
— Ни яблони, — прошептала старуха, — ни птицы, ни птичьего гнезда. Одно небо да ветер.
Старуха стала собирать корни, выкорчеванные ее стариком. Наклонилась и потрогала землю. Земля была как камень.
Старуха прибрала в том месте, где должен был стоять двор, подмела, сложила дрова в углу и, прищурившись, стала смотреть на природу.
Природа замерла. Стояли лиственницы с мертвыми ветвями, с ветвями в сторону ветра. Среди рыжих деревьев притаился залив Уркт.
Старуха искала солнце. Она не узнала его. Солнце здешнее, как зверек, испугалось людей и спряталось в ветвях за горой.
— Господи, — сказала старуха.
Она стала смотреть в ту сторону, откуда привез ее пароход, будто могла увидеть Кавказ и ту теплую землю, на которой она выросла.
Вернувшись в палатку, она раскрыла сундук. В сундуке лежали разные предметы: старая рукавица, штаны дяди Антона, его портрет, чулок, зеркало и те безделушки, которые раньше стояли на комоде; здесь они были не нужны. Из сундука пахло сухими грушами и уютом, летним запахом далекого и родного края.
Старуха опустила крышку и отвернулась…
Когда дядя Антон пришел с работы, стол уже был накрыт. На столе стоял самовар. Самовар тихо напевал, грустил, — должно быть, и ему было жаль Кавказа.
— Я за красоту заступился, — сказал дядя Антон, садясь за стол. Поругался с начальством из-за красоты.
— Из-за чьей красоты? — спросила старуха.
— Не из-за твоей, конечно. — Дядя Антон рассмеялся. — А ты уж и обиделась. Дура моя славная. А я говорю не о бабе.
— О ком же?
— О местности говорю.
— О какой?
— Да об этой самой.
Старуха плюнула.
— Сказал я начальству, — продолжал дядя Антон, — красоту надо пощадить. Отвести ей особое место, вроде сада или парка, чтобы посреди города, на главной улице, была самая что ни на есть дикая тайга вроде музея. Сказал я это начальству, а начальство меня подняло на смех. «Пиши, говорит, дядя Антон, в стенную газету». — «Что же, — ответил я, — в газету я писать могу, правды и добьюсь. Вы мне в правде откажете — в Хабаровск поеду за правдой. В Хабаровске не добуду — до Москвы дойду». А они смеются. «До Москвы, говорят, десять тысяч километров». Слышь, Наташа? Да ты не слушаешь меня.
— Да нет, слушаю я тебя. Слушаю и смеюсь. Сады. Скажет же! Садов только здесь не хватает.
— Смейся, — сказал дядя Антон, — кончишь смеяться — скажи мне.
— А что?
— Ругаться мы будем, — сказал дядя Антон.
— О чем ругаться?
— Ты меня будешь ругать за то, что я тебя сюда привез. А я тебя буду ругать за то, что…
Дядя Антон вдруг замолчал.
— Ну, что ж не ругаешься? — сказала старуха. — Ругайся.
— Не умею я с тобой ругаться.
— Это плохо, — сказала старуха. — Ругаться не умеешь. Раньше умел.
— Поговорить я с тобой хочу.
— Говори.
— Раньше мы жили в дедовом городе.
— Ну, жили.
— Город этот дед мой строил с приятелями, строил не для себя, а для хозяев.
— Ну, строил. А дальше что?
— А хозяин был чудак. Дома он велел строить так, словно у него не одна жизнь, а десять. Отняли мы у него короткую его жизнь, дома тоже отняли. Город, стало быть, взяли себе. А я подумал про себя: «Живой ты человек, Антон, чтобы жить всю жизнь в дедовых домах. Построй себе город, чтоб широко было в этом городе, как в лесу».
— Ну, знаю, — перебила его старуха, — для этого и затащил ты меня на край земли.
— Край дикий, это верно. А обласкай ты этот край — он тебя отблагодарит.
— Отблагодарит! — сказала старуха насмешливо и отвернулась.
— Жена, — продолжал Антон, — ты мне свою ласку отдавала. Курам свою ласку отдавала. Яблоням свою ласку отдавала. Пол, который ты подметала, и тот видел твою теплоту. Так вот я тебе говорю, старуха, отдай свое тепло, свою ласку этому краю, пригрей его.
— Нет, — сказала старуха строго, — не увидит он этого от меня.
— Город здесь будет, — продолжал Антон. — Придет свежий человек и спросит: «Чей город?» — «Мой город, — отвечу, — мил человек. Вот эти дома я поставил. Старуха моя помогала мне. Лес я таскал на себе, место утоптал, речку посадил в трубы — пусть бежит. Садись, мил человек, если ты не враг, живи, домов много. А вот когда мы с женой приехали сюда, ничего здесь не было. Был один лес. В палатке со старухой жили посреди зимы. Живи, мил человек, если ты не сволочь, окажи милость».
Старуха встала, закрыла дверь, убрала со стола.
— Размечтался, — сказала она. — Мечтун.
— Стели, — сказал дядя Антон, и это простое, домашнее слово словно согрело старуху. Она просветлела и стала стелить постель. От домашности, от теплоты, от предстоящей ночи старуха зевнула.
— Намедни, — сказала она, — смотрю: ползет таракан. Обрадовалась я: живут, значит, здесь тараканы.
— Таракан? — удивился Антон. — Наверно, приезжий. Помрет. В этом климате не могут жить тараканы.
Старуха уснула. Приснился ей лес здешний, мертвый. Ни птичьего крика, ни всплеска, ни шелеста. Тихо-тихо. Старуха шла по тропе, спешила домой. Но вместо дома пришла в чужое место. Стояли дома, много домов. Но в домах не было людей. И вещи были, столы, стулья, а людей не было. В домах были ветер, зима, снег. В одном доме пол треснул и возле кровати лежал камень, покрытый мхом, словно кровать стояла в лесу.
Старуха вскрикнула и проснулась. Дядя Антон лежал рядом и тихо посвистывал носом. Старуха прижала его к себе. И вдруг ей стало страшно. Будто лежал с ней кто-то посторонний, чужой. Старуха не узнала запаха своего мужа. Раньше от него пахло водкой и лошадьми, теперь пахло мхом, деревьями, осенней холодной травой. Старуха разбудила мужа.
— Милый, — сказала она голосом молодым и страстным, тем голосом, каким она уже не говорила много лет, — дорогой мой, уедем отсюда, вернемся туда, на Кавказ. Уедем, милый, уедем.
И когда дядя Антон шел на работу в темноте, в густом и смутном утреннем мире, он вспомнил молодую девушку, крикливую и своевольную, девушку, которая плакала так, что, слыша ее плач, уже не хотелось жить, девушку, которая смеялась так, что хотелось броситься в реку — плыть и плыть, драться, сделать что-нибудь необыкновенное, убить кого-нибудь или спасти, броситься с горы в море.
Девушка эта стала его женой, и теперь она была старуха, сумрачная, седая, и от прежнего осталось имя «Наташа» да характер своевольный и несправедливый.
Дядя Антон вернулся. Старуха стояла у печки спиной к дверям. Неслышный, он подошел к ней и обнял ее, теплую и худенькую, обнял ее и прижал к себе.
— Наташа, — сказал он ей, словно хотел возвратить прошлое, — Наташа.
Прошло пять лет. Где были лиственницы и кедровый стланец, где были красные мхи, — стоял город. Дикие птицы полюбили человека и поселились у него под крышей.
Зверь сказал зверю: «Не ходи туда, там город».
Посреди города был парк. Дядя Антон, а также все жители города и их знакомые в других местах знали, что второго такого парка не было и нет ни в одном городе на земле. Парк был самая дикая тайга, не огороженная и не испорченная скамейками, постройками и украшениями. И утром рано зимой на улицах города можно было увидеть заячьи, а также следы других зверей, прибежавших из тайги в парк взглянуть на старое место.
В том небольшом городе в лесу стоял театр: из окон театра был виден залив Уркт, дикие деревья и белки, прыгающие с ветки на ветку. В театр в качестве зрителей и дорогих гостей приезжали гиляки из далеких стойбищ на собаках. Они приезжали в театр посмотреть на чужую жизнь, порадоваться, посмеяться и похлопать ей. Втайне гилякам самим хотелось взойти на сцену, поиграть там, показать городским людям свою жизнь и попросить, чтобы они похлопали ей. Но гиляки стыдились и не решались. В городе собаки лаяли на собак, встречая лаем гостей. Гиляки оставляли своих собак у крыльца и сами шли в дома — пить чай и знакомиться.
Во дворах летом ходили куры и несли яйца. Петухи кричали по утрам. За городом были расположены огороды, на грядах росли кое-какие овощи, и одному не старому еще человеку даже удалось вырастить в здешних местах арбуз величиной с детскую голову, и дядя Антон выпросил этот арбуз, чтобы показать его старухе. Но старуха далее не рассмеялась. Контракт дяди Антона кончился, и она ждала того часа, когда они сядут на пароход и будут смотреть, как станет уменьшаться на глазах этот край, пока не исчезнет совсем и не появится другое, высокое небо, и старуха увидит своих старых знакомых, заплачет и станет рассказывать им, как она жила со стариком в зимнем месте, как они мерзли и как бедовали.
Был день летний и не по-здешнему солнечный. В заливе возле Москаль-во стоял пароход «Орочон» и ждал пассажиров.
В Охе к дому дачного вида, уютному и чистенькому, подошел дядя Антон со старухой. Возле домика уже лежали их вещи. Чистенький домик был охинский вокзал.
У вокзала собралось много народа провожать дядю Антона с супругой. Было много сказано слов и выпито водки в буфете. Перед отходом поезда пришли школьники — пионеры, принесли цветы и спели песню.
Дядя Антон стоял у окна и плакал тихо, по-стариковски. Старуха сидела сумрачно с вещами и строго глядела на пассажиров.
Поезд шел по диким местам, покачиваясь; паровоз своим криком пугал зайцев и птиц. Дяде Антону надоело сидеть молча. Он подошел к соседям и спросил:
— Дорогу замечаете?
— Какую дорогу?
— По которой едете.
— Замечаем.
— Дорогу-то эту я строил. Старуха — и та принимала участие. Нам помогала.
И он начал рассказывать о том, как проводили дорогу от Охи в Москаль-во, где дорога кончалась.
— Есть о чем говорить, — заметил рыжий человек, по виду кооператор, вся дорога-то сорок километров.
Дядя Антон, огорченный, замолчал: о чем говорить с пустым человеком? Каждый мог видеть сам, как было трудно строить в этих местах, каждый гвоздь приходилось везти вокруг света. Да и убеждать уже было поздно — приехали.
Старуха торопилась, бежала, задыхаясь, и боялась: ей казалось, что пароход уйдет без нее.
Когда «Орочон» снялся с якоря, был закат: и море, и небо, и домики на берегу были розовыми, и розовым был лес, а плавни были розоватые и живые. Но старуха глядела на все строго, как на постороннее, и таким же взглядом она проводила Золотой Рог и встретила Байкал, висевший между гор, и поглядела на Свердловск, на станцию Буй и на другие станции и полустанки.
В старом городе на Кавказе, где у старухи было много родственников и знакомых, никто не был ей рад. Соседи из вежливости слушали, но слушали невнимательно, и каждый думал о своем и близком.
Старуха не нашла ни в городе, ни в доме того уюта, которого она достигла там, на Сахалине. И даже небо, высокое и прекрасное, было намного хуже охинского неба, всегда предвещавшего то ветер, то снег. Старуха сказала об этом старику. Антон не стал ее ругать. Его тянуло обратно в Оху, но он знал, что старухе в ее годы уже не выдержать большой и трудной дороги, что она может умереть в поезде или на пароходе.
И они стали жить, часто вспоминая об Охе. Они получали оттуда письма, и Оха — край, который они строили и полюбили, — была в их словах, в их мыслях каждодневно, и оттого им казалось, что она близко.
1936
Старик Тевка
В прошлом году старику Тевке прострелили йогу братья Ивт и Вайт. Так и не удалось узнать, кто из братьев, Ивт или Вайт. Вайт сказал, что это Ивт попал невзначай. Ивт сказал, что Вайт уронил ружье и оно выстрелило.
Тевка стоял к братьям Ивту и Вайту спиной, он доставал из мешка котелок, когда раздался выстрел.
Старик даже не спросил, кто из братьев попал в него — Ивт или Вайт. Он так сказал спутникам:
— Жалко, доктора Ивана Павловича здесь нет, Иван Павлович возвратил бы мне ногу.
Не думал он, что-братья Ивт и Вайт хотели его оставить без ноги. Ничего он не сделал им худого. Разве что сказал как-то братьям Ивту и Вайту, будто они жадные люди. Мало ли что сболтнешь сгоряча? Если бы они захотели, эти братья Ивт и Вайт, его убить, зачем бы они стали целиться в ногу?
Не думал старик Тевка, что он останется без ноги. Доктор Иван Павлович не такой был человек, чтобы не вылечить ногу.
Братья Ивт и Вайт стояли на берегу. Они смотрели на простреленную ногу Тевки.
— Померла нога, — сказал Ивт.
— Жить будет, — сказал Вайт.
— Не будет жить, — возразил Ивт. — Хоронить можно ногу.
Кровь хлестала из раненой ноги в лодку на мешок с юколой, на убитую утку, на ружье Тевки. Тевка перетянул ногу ремнем повыше раны.
Братья Ивт и Вайт, сумрачные, сели в лодку.
— Пропала наша охота, — сказал Ивт. — Из-за Тевкиной ноги.
— Худая охота, — сказал Вайт. — Убили одну утку.
Лодка шла тихо. Греб Вайт. Ивт хмурился.
Возле песчаной косы они стали ругаться, Ивт и Вайт. Чтобы старик Тевка не понял, они стали ругаться па японском языке. Ругаться по-японски их научили японцы во время интервенции.
Ивт замахнулся на Вайта веслом, но не ударил.
— Ничего, — сказал старик Тевка не столько братьям Ивту и Вайту, сколько самому себе. — Я и на одной ноге всех перегоню. Не люблю быть последним.
В стойбище Ный-во все удивились, что два человека идут: ведь уехало трое. Когда эти двое подошли ближе, все заметили, что они несут на руках третьего.
Сказал Ивт:
— Это не я. Брат мой Вайт выстрелил в старика Тевку по ошибке.
Вайт сказал:
— Врет он. Это не я. Брат мой Ивт уронил ружье. Глупое ружье выстрелило.
Соседи принесли старика Тевку в его пустой дом. У Тевки не было мамки. Мамка его утонула. Сыновей не было у него. Сыновья его померли от оспы. Дочери вышли замуж.
— Ну, ребята, — сказал старик Тевка соседям. — Теперь я с одной ногой остался на смех людям. Смешной я теперь.
Все лето пролежал Тевка в летнем доме на нарах.
В открытую дверь он видел море, лиственницу за песчаным холмом, белых собак, лежавших у моря, как пена.
Старик Тевка лежать не любил, любил бегать. Хотя по годам он был стариком, ноги у него были веселые, руки легкие, глаза были молодые, как у детей, и смеялся Тевка, как дети. Дети любили старика Тевку. Когда не видели взрослые, старик Тевка играл с детьми. И, видно, не для того играл, чтобы забавлять, — самому было забавно. Непоседливый человек был старик Тевка. Ходить он не умел, бегал. На охоте другим охотникам трудно было за ним поспеть. А тут пришлось ему лежать все лето. Одна нога стала непослушной. Свет стал коротеньким. Все, что было за дверью, было чужое. Не для него теперь это было, не для старика Тевки.
— Эй, — кричал он соседям. — Вы бы зашли ко мне посидеть. На свете какие дела? Мне интересно.
Но соседи молчали. Слева от старика Тевки жил Ивт, справа Вайт жил, молчаливые люди…
Как-то в стойбище Ный-во приехал Иван Павлович, врач.
Старик Тевка раньше всех услышал его шаги, раньше собак. Потом залаяли собаки. Если бы не нога, он бы разве усидел? Первым бы побежал навстречу.
— Ну что, друг Тевка? — сказал Иван Павлович, входя в летний дом. — Лежишь? Ехал я к тебе, думал: «Такому веселому человеку скучно без ноги». Ничего, мы тебе вернем ногу.
У Ивана Павловича было много новостей. По всему свету, должно быть, жили у него друзья и родственники.
Осмотрел Иван Павлович раненую ногу Тевки.
— Кто же это тебя? — спросил он. — Ивт или Вайт?
— Кто знает? — ответил старик Тевка. — Ивт говорит — Вайт. Вайт говорит — Ивт. Невзначай попали. Я их не спрашивал.
— Невзначай ли? — сказал доктор. — Не верю я этим братьям. Сволочи. У японцев проводниками были.
Вскипятил Иван Павлович в Тевкином котелке чай. Из своего мешка достал булку и сахар.
— Плохо, — сказал Тевка. — У меня в доме сидишь, а меня угощаешь. Плохо без ноги. Когда мне ногу вернешь? Через пять дней ход кеты. Мне на реке быть надо.
— Нетерпеливый ты, Тевка, — сказал доктор. — В пять дней хочешь, чтобы я тебя вылечил. Я тебя с собой хочу взять. Тут недалеко город строят. Тебе уход нужен. Едем.
— Едем, — согласился Тевка. — Почему не так?
Доктор Иван Павлович посадил Тевку в моторную лодку.
— Через пять дней нерест кеты, — сказал старик Тевка. — Ногу мне вернешь?
Иван Павлович рассмеялся.
— Чудак ты, Тевка.
На берегу стояли братья Ивт и Вайт.
— Эй вы! — крикнул им доктор. — Кто из вас не умеет обращаться с ружьем?
Ивт сказал:
— Вайт.
Вайт сказал:
— Это Ивт. Уронил ружье. Ружье у него глупое. Выстрелило.
Доктор велел им принести ружья.
— Ружья правду скажут, — сказал он. — От вас разве добьешься правды?
Взял он у Ивта и Вайта ружья, осмотрел, положил к себе в лодку.
— Пусть пока полежат у меня, — сказал доктор. — Вам же лучше. С ружьями обращаться не умеете. Еще друг друга пристрелите.
Ивт сказал:
— Отдай ружье. Это Вайт стрелял в Тевку. Не отдашь — жаловаться буду.
Вайт крикнул:
— Мое ружье отдай. Это Ивт попал. Бери ружье Ивта.
Долго бежали по берегу братья Ивт и Вайт. Тевке даже смешно стало.
— Пожалей ты их, — сказал он доктору. — Брось им их ружья.
— А тебя они жалели?
— Говорят, что попали невзначай.
— Плохо ты знаешь Ивта и Вайта. Сюда мой приятель приедет, начальник милиции. Он скажет, кто в тебя стрелял: Ивт или Вайт. Они сами ему скажут.
Моторная лодка быстро неслась. На зеленой воде сидели птицы. Нерпы покачивались, как бутылки, брошенные в море.
— Быстрый ты, — сказал Тевка. — Лодка — и та у тебя быстрая. Неужто в пять дней мне ногу не вылечишь? Кету боюсь упустить.
— Ты что ж, думаешь, что я бог?
— Кто тебя знает. Быстрый ты. Куда едем?
— В Ноглики едем. В город.
— Откуда там город? Зимой охотился, — кроме тунгусских палаток, ничего там не видал.
— Весной еще палатки стояли, а сейчас — дома.
— Быстрый ты, — сказал старик Тевка. — За весну город поставил. А мне ногу в пять дней починить не хочешь. Должно быть, меня за друга не почитаешь.
— Иди ты к черту, Тевка. Тебе надо лежать. Для таких, как ты, мы больницу выстроили. Кровать на пружинах привезли с материка. Ты первый ляжешь в новую больницу. Три сиделки и сестра будут за тобой ходить. В ванне будешь купаться. Окна большие в больнице, прямо в лес, в реку, в небо. Из-за этих окон я со строителями поссорился. В старое время больницы по тюремному образцу строили, темные, холодные, сырые. От одного слова «больница» у людей щемило сердце, болела душа. Я добился, чтобы больницу на самом солнечном месте поставили, чтоб у окна была природа, чтоб летом можно было распахнуть окна в лес.
Старик Тевка спал, когда моторная лодка остановилась возле городка Ноглики.
Не проснулся он и в носилках. У старика был сон, как у детей. В ванной комнате его разбудили.
Старик Тевка растерялся, увидев трех молодых женщин, его раздевавших. Черноволосая сняла с него штаны. Светловолосая попыталась снять с него рубаху. Эту рубаху он не снимал с себя года три. Она просалилась от пота, высохла, стала жесткой как кора. Тевка оттолкнул женщину. Но она подошла к нему сзади и стащила с него рубаху, прежде чем он успел опомниться.
Тевке стало стыдно. Он стоял голый среди трех смеющихся женщин. Та, светловолосая, что сняла с него рубаху, стала обрезать у него ногти на ногах. Один ноготь был такой толстый, что она никак не могла его обрезать. Пока светловолосая обрезала ногти, черноволосая принесла таз с горячей водой. Тевка испугался, когда его обожгла вода. Тело его съежилось, оно никогда не знало горячей воды. Черноволосая женщина намылила голову Тевки. Тевка был весь в мыльной пене. Тело старика Тевки давно не ощущало прикосновения женской руки. Мамка его утонула, когда он был молод. Дочери его еще девочками ушли из его дома к мужьям. А тут легкие, ласковые женские руки трогали его, обливали водой, щекотали. Будто дочери вернулись к нему в дом. Тевке стало тепло и грустно. Он думал, что он будет жить здесь в ванне, в теплой воде, как рыба. Но женщины взяли его под руки и привели в светлую комнату, где стояла большая кровать у окна. Старик Тевка лег, и тело его утонуло в мягкой постели.
Перед окном Тевки текла Тымь.
Тевку разбудила рыба. Кета поднималась вверх по реке метать икру. Кеты было так много, что в Тыми ей не хватало места. Река вышла из берегов и подошла к больнице: к Тевкиному окну. Тевке показалось даже, что он сидит не на кровати, а плывет по середине реки.
Рыба шла, поднимая волны. Тевка забыл о своей больной ноге. Кета шла под его окном. Если бы у него в руке было весло, он бы ее мог, пожалуй, глушить не сходя с места.
— Где мои штаны? — спросил Тевка.
Штанов не было, рубахи тоже не было. На стуле возле кровати висел халат.
— Штаны мои где? — сказал Тевка светловолосой женщине. — Отдавай мои штаны. Мне на реке надо быть. Рыба идет. Разве не видишь?
Но светловолосая промолчала. Вошел доктор Иван Павлович.
— Кто здесь кричит? — строго спросил он. — Здесь кричать нельзя.
— Рыба идет, — сказал Тевка. — А я на мягком месте лежу, как птенец. В лодке мне не нужна нога. Руки были бы. У меня, Иван Павлович, штаны украли.
— Штанов у нас много. Вон магазин. Там штанов двести висит, если не больше. Всех Тевок одеть хватит. А ты не кричи. На берег я тебя не пущу. Поправишься — задерживать не стану.
— Пусти, Иван Павлович.
— Ни под каким видом.
— Худой ты, Иван Павлович, человек. В больницу к себе заманил. Штаны отобрал. Меня к реке не пускаешь. Вроде и не друг ты мне.
Старик Тевка подумал: «Строгий у меня друг. Мою ногу, как свою, бережет. Пусть уйдет, я у этих мамок отпрошусь. Не отпустят — и без штанов убегу. В лодке не видно. За всю жизнь ни разу хода кеты не пропустил. Ладно…»
В это время вошла в палату черноволосая женщина. Шаг был у нее неслышный. В руках ее был стакан с чем-то горячим.
— Пейте, больной, — сказала она.
— Это чего? — спросил Тевка.
— Какао.
Тевка отпил из стакана, выплюнул, не понравилось.
— Я сладкую густую эту воду не люблю. Нет ли у тебя куска нерпы? По нерпе мой рот соскучился.
Когда Тевка стал ходить, Иван Павлович подарил ему костюм. Костюм был новый, серой шерсти, Иван Павлович сам повязал Тевке галстук.
— Теперь вроде я и не Тевка, — сказал старик, смотря на свое отражение в зеркале. — Подменили меня. Братья Ивт и Вайт теперь меня не признают.
С Иваном Павловичем вышел и старик Тевка на улицу. Вся улица состояла из семи домов да четырех срубов. Но дома были высокие, просторные. Раньше таких домов Тевка не видел. Но удивления не показал. Удивляются лишь женщины и дети.
— Ладные дома, — сказал он. — В прошлом году я на этом месте лису убил. Ладная была лиса. Здесь лиственница росла. Лес был. А теперь ровное место.
— Пойдем к плотникам, — сказал Иван Павлович. — Я тебя познакомлю. Они, брат, еще не обжились. С материка приехали. Небо здешнее ругают. Они, брат, из-под южного неба приехали сюда, из теплого края. Небо здесь низкое, давит их.
Старик Тевка и доктор шли, обходя вывороченные пни. Тевке было жалко срубленного леса.
Иван Павлович рассказывал:
— Вот на этом месте, брат, построим мы столовую. А здесь театр. Да, впрочем, тебе надо объяснить сначала, что такое театр. А объяснять я не умею. Будет театр — приведу. Сам поймешь, когда увидишь.
На высоком месте, у рыжих лиственниц возле ручья, плотники строили длинный светлый дом.
Иван Павлович и Тевка подошли к плотникам:
— Добрый день, — сказал Иван Павлович.
— На день не жалуемся, — сказали плотники. — Гвоздей вот только мало. Ты нам велел гвозди беречь. Каждый гвоздь сюда, на Сахалин, плывет морем, гвозди мы бережем. Ты нам скажи, Иван Павлович, для кого мы дома ставим? Жителей-то мы не видим.
— А вот один из будущих жителей, — сказал Иван Павлович, показывая на Тевку. — Этот житель будет снабжать вас кетовой икрой и свежатиной. Другого такого охотника и рыбака на всем острове не сыщете. Знакомьтесь.
— Будем знакомы, — сказали плотники.
Каждый подошел, пожал Тевке руку.
Тевка посмотрел на бородатые лица плотников. Жалко, что у него самого не было бороды. Зимой лицо бы не мерзло.
— А как вас по имени и отчеству, разрешите осведомиться? — вежливо спросил Тевку старый плотник.
— Тевкой меня зовут.
— Это родственники так зовут. А полное имя.
— Тевка.
— Отчество разрешите уж заодно узнать?
— Отца Чуркой звали.
— Тевка Чуркович, — сказал плотник. — Нет, это будет невежливо. Разрешите уж, мы будем звать по-своему. Тевка — значит Терентий. Терентием Ивановичем будем звать. Соседями будем.
— Ладно, — сказал Тевка.
На обратном пути спросил Тевка Ивана Павловича:
— Для кого дом строят?
— Еще не знаю. Может быть, для тебя. Ведь город-то мы для гиляков и эвенков строим и для ваших детей. Тут будет культбаза.
Выйдя на поляну, где Иван Павлович предполагал строить театр, они остановились.
— Нет, погляди, Тевка, каков будет театр. Театр прямо в лесу. Летом никакого фойе не надо. Зрители возле ручья будут сидеть, под деревьями. Из окна — на том берегу Тыми — диких оленей можно будет увидеть. Под окном заячьи, волчьи, медвежьи следы…
Тевка не хотел показать, будто он не знает, что такое театр. Ждал, когда Иван Павлович сам скажет.
— Что же ты молчишь? — рассердился Иван Павлович. — Не знаешь — так спроси. Театр — это такой дом, из которого человек уйдет веселым. Плохо же я тебе объяснил. Пивнушка — тоже дом, из которого человек выходит веселым. В доме этом, в театре, будут показывать жизнь других людей, как сто лет назад жили. Как во сне будешь видеть все, смеяться до слез будешь, будешь плакать.
Ложась спать, старик Тевка думал: «Дом для сна строят, чтобы лучше было людям спать, чтобы сны людям хорошие снились. Я где ни лягу, там и усну. Сны веселые вижу. Зачем мне театр?»
Не понял старик Тевка Ивана Павловича.
Во сне видел старик Тевка море. Себя в лодке видел. Во сне жирную нерпу убил. Давно нерпачины не ел. Вот радость. Проснулся Тевка веселый. Женщинам, черноволосой и светловолосой, тем, что сняли с него штаны и в горячей воде мыли, сказал:
— Я на охоту пойду. Тебе, черноволосая, принесу горностая. Тебе, светловолосая, принесу лису. Как к дочерям я к вам привык. Когда вы меня своими ласковыми руками трогали, я думал: «Вот дочки ко мне вернулись. Ничего, что не мои». Как об отце вы обо мне заботились. Ночи не спали.
В этот день старик Тевка вышел из больницы. Слово свое сдержал, принес в больницу лису и горностая.
Как-то, возвращаясь с охоты, старик Тевка услышал детский смех.
Выйдя к ручью, Тевка увидел новый дом, полный смеющихся детей. За всю жизнь старик Тевка не видел столько детей: не иначе — их собрали со всего света. Среди незнакомых детей Тевка узнал детей своих соседей. Дети узнали старика Тевку.
Дети сидели за длинными столами и рисовали.
Старик Тевка посмотрел. Дети на бумаге веселились. Легкие деревья нарисовали. Море нарисовали. Оленей, скачущих в лесу, небо нарисовали.
Старику Тевке захотелось самому что-нибудь нарисовать. Ни разу еще не держал он карандаша в руке. Попросил он у учительницы лист бумаги. Сел в лесу. Положил бумагу на пень и стал рисовать. Рука пела. Рука плакала, когда Тевка рисовал, будто в руке была душа. Жизнь свою Тевка на бумаге хотел спеть. Что слова? Слова унес ветер, как дым, не словами — деревьями, небом, рекой, домами, соседями, собаками, белками, рыбой, плывущей по реке, он споет свою жизнь на бумаге. Ивану Павловичу подарит эту бумагу. «Вот, — скажет он, — возьми, Иван Павлович. Давно я хотел про свою жизнь сказать. Про новую жизнь сказать, которую ты для нас строишь. Про дома хотел сказать, которые ты нам поставил, ты и твои друзья. Про детей, которым ты и твои друзья поставили школу, полную солнца, про ногу, которую ты мне вылечил, да слов у меня нет. Говорить я не мастер. Немножко я нарисовал. Вот речка бежит к нам. Речка на нас смотрит, как мы живем. Ей весело. Вот гора прилегла отдохнуть. Снится горе утро. Олени скачут. Возле лиственниц дети пляшут и поют. Может, и гора видит, как я, старый человек, вместе с детьми пляшу. Ноги у меня, гора, молоденькие… Вот лебедь летит из теплых мест. Скажи, лебедь, как в теплых местах люди живут? Осенью в теплые места полетишь, хорошим людям поклон от нас передай».
Когда старик Тевка в город вошел, перед пустыми домами людей он увидел, соседей узнал. Эвенки, нивхи, пани приехали, собак и оленей с собой привели. Перед домами разбили палатки.
— Добрый день, — сказал им Тевка. — Что в дома не идете? Это ваши дома.
— Пока в палатках поживем — не зима, — сказали они старику Тевке. — Летом в палатках, пожалуй, лучше.
На крыльце больницы сидел Иван Павлович. Возле него братья Ивт и Вайт стояли.
Ивт сказал:
— Ты, Иван Павлович, вор. Детей у меня увез. К школе я подошел. Дети мои едят. Еду я их попробовал. Еда сладкая. Сладкой едой моих детей хочешь приручить. Я детей хотел отобрать. Меня учительница прогнала. Ты мне ответь: мои дети или твои?
— Твои дети, — сказал Иван Павлович.
Вайт спросил:
— Отдашь мою дочку? Я свою дочку через две зимы замуж за хорошего человека выдам. Вы ее тут на бумаге смеяться учите. Моя дочка выучится, скажет: «Отец мой нехороший». Еще, пожалуй, над отцом смеяться будет. Будет меня учить. Отдай дочку. Не то жаловаться поеду.
Иван Павлович молчал.
— Добром дочку не отдашь, я силой отберу, — сказал Вайт.
— А ты ее спрашивал, свою дочку, где ей лучше: в школе или у тебя в зимнике?
— Нет, не спрашивал.
— Мы этот город для ваших детей построили и для вас. Кто хочет, пусть возле детей живет. Вот Тевка идет. У него детей нет. Он возле ваших детей будет жить. Его дети любят. А вы заслужите, чтобы вас дети любили.
— Ладно, — сказал Ивт. — Наши дети ученые будут. Мы неученые. Ты, может, еще и нас учиться заставишь?
— Об этом мы еще поговорим, — сказал Иван Павлович. — Мы и для взрослых школу строим. Я вас, Вайт и Ивт, хотел спросить, почему вы Тевке ногу прострелили? Кто из вас стрелял: Вайт или Ивт?
Вайт сказал:
— Я забыл.
Ивт сказал:
— Я забыл. И ты тоже, Иван Павлович, забудь. Вот и Тевка тоже забыл. Даже не хромает.
— Нет, пожалуй, — сказал Тевка. — Пожалуй, я не забыл.
— И я тоже не забуду, — сказал Иван Павлович.
1938
Пила
Из окна я смотрел, как бьют моего отца. Его били на улице перед домом, и люди сбежались со всей деревни посмотреть, как его будут бить.
Увидев соседей, отец заплакал и стал просить их, чтоб они заступились, но никто не хотел за него заступиться. Отец начал кричать еще раньше, чем его ударили. Он кричал «караул», как будто его грабили. Лицо у него было смешное, плачущее, все в мелких морщинках, и все смеялись, когда он кричал, потому что это было смешно. Иван Сычугов держал его за бороду, а старший брат Сычугова, Тиша, бил моего отца рукавицами по щекам.
Матери не было дома, когда били моего отца. Она была в лесу и не видела, как его, мокрого, привели из бани. Баня была низенькая, темная, дымная, и там неловко его было бить.
Отец стоял поджав ногу. Правая нога его была в сапоге, а левая нога была босая. Он, должно быть, надевал сапоги, когда они пришли за ним. Босой ноге отца было холодно на снегу, и он поджал ее, и оттого она стала жалкой, маленькой, как нога хромого. Смотря на босую ногу отца, мне хотелось плакать — почему мой отец был не хромой, если бы он был хромой, может быть, Сычуговы не тронули его, а соседи заступились.
Отец плакал и просил Сычуговых сказать, за что они его бьют. Сычуговы не отвечали. Они были молчаливые люди. Отец ругал их и плевался, но слюна его не долетала до них. Тиша надел рукавицы, которыми он бил отца, а отец подумал, что сейчас его перестанут бить.
Кровь текла из отцовского носа. Отец мой хотел упасть в снег на сено, но они не давали ему упасть и, когда он падал, подымали его. Должно быть, им не хотелось нагибаться.
Людям надоело стоять, и они сели на наш забор и с забора смотрели на улицу, на моего отца. Но вот отец мой стал смеяться. Он стал смеяться громко, как никогда не смеялся, и мне стало страшно в доме, и я подумал, что отец мой сошел с ума.
Взяв отца под руки, Сычуговы повели его, и он смеялся, когда его вели, и показывал соседям язык. Мой отец, должно быть, сошел с ума и хотел, чтоб его убили, а может быть, он представлялся. Отец мой часто представлялся пьяным и тогда говорил соседям, что они кислые и что он подожжет им амбары, ему хочется посмотреть, как будут гореть их амбары, очень смешно будет смотреть, как они будут гореть.
Сычуговы привели моего отца в наш дом и посадили его на скамейку. Иван подозвал меня и сказал:
— Твой отец вор. Он украл у нас новую пилу. Мы бы убили его, да неохота отвечать. В другой раз мы его убьем.
Сычуговы ушли, наследив на чистом полу, и в оставленную открытой дверь дуло и слышен был смех и голоса соседей. Соседи сидели на заборе и не хотели расходиться. Они, должно быть, ждали, когда возвратится из лесу мать.
— Отец, — спросил я, — зачем ты украл у них пилу?
Отец молчал.
— Не может быть, чтоб ты украл у них пилу. Они врут.
Вдруг стало тихо во дворе. Я подошел к окну и увидел свою мать. Мать, согнувшись, тащила санки, и к санкам было привязано бревно — длинная лесина, которую мать срубила в лесу. У нас не было лошади, и мать моя возила бревна на себе. Во дворе мы с отцом пилили их старой пилой и рубили. Мать моя была выше и здоровее отца, она не давала ему возить бревна и ходила в лес за бревнами сама.
Во дворе было тихо — соседи сидели на заборе и смотрели на мою мать.
Мать, не взглянув на них, оставила посреди двора санки и пошла в дом.
— Миша, — сказала она отцу. — Ты весь в крови. Подойди-ка сюда, я полью тебе. Надо помыть лицо.
Отец подошел к матери, она полила ему на руки, и он помыл себе лицо.
— Молокановы сидят на нашем заборе, — сказала мать.
— Пусть сидят, — сказал отец.
— Они уже не сидят, — сказал я, подойдя к окну. — Они стоят у окна.
Молокановы слезли с забора, подошли к нашему окну и, задрав головы, смотрели к нам в дом.
— Миша, — сказала мать, — что надо Молокановым? Они смотрят к нам в дом.
— Не знаю, — сказал отец, — что им надо. Пусть смотрят.
Я стоял у окна и смотрел на Молокановых, глядевших к нам в дом. Здесь была вся их семейка, даже старуха Молоканиха слезла с печки и пришла к нам под окно посмотреть на нас. Она звала меня пальцем. Я вышел к ней.
— Позови мать, — сказали Молокановы.
Я покачал головой.
— А зачем вам ее?
— Надо, — сказал Молоканов.
Мать моя вышла к Молокановым.
— Елизавета, — сказал Молоканов. — Побей мужа.
— Побей мужа, — сказала Молоканиха, — муж у тебя дурак.
— Проучи мужа, — сказал Молоканов. — Не то мы его проучим, твоего мужа.
— Муж у тебя вор, — сказала Молоканиха. — Он украл у Сычуговых пилу.
Мать вернулась в дом.
— Миша, — сказала она, — они ждут, когда я тебя побью.
— Пусть ждут, — сказал отец.
Мать моя поставила самовар, но угли не разгорались, и она стала дуть в трубу, чтоб они разгорелись. Уж не для Молокановых ли она поставила самовар?
— Миша, — сказала мать, — где пила, которую ты украл у Сычуговых?
— Не знаю, — сказал отец.
— Где пила? Покажи мне ее. Надо вернуть им пилу.
— Какую пилу?
— Новую пилу, что Сычуговы привезли вчера из города. Молокановы говорят, что ты украл пилу.
— Пусть говорят, — сказал отец.
Мать принесла ведро и отвернула кран у самовара. Кипяток побежал в ведро.
— Где пила, Миша? Мне надо знать.
— Спроси у Молокановых. Может, они знают.
— Миша, я хочу знать правду. Где пила?
— Спроси у Молокановых, они знают правду. Я не видал пилы. Спроси у Молокановых, где пила.
Мать подняла ведро и вышла под окно, где стояли Молокановы.
Молокановы подошли к ней, и она ошпарила их, облила их кипятком из ведра, как клопов.
Утром мы с отцом пилили старой нашей беззубой пилой бревно, которое мать привезла на себе из лесу. Отец ругался, что у нас плохие соседи и что никто не дает нам пилы напилить охапку дров, чтоб затопить печь в холодной избе.
Матери опять не было дома, и опять пришли Сычуговы, поздоровались и сказали отцу, чтоб он шел в дом, что они с ним поговорят.
— Я с вами не хочу говорить ни во дворе, ни дома, — сказал отец. — Не о чем мне с вами говорить.
Но Сычуговы сказали отцу, что на дворе холодно и чтоб он шел в избу, в избе теплее, и, если он не пойдет, они поведут его силой, потому что им надо с ним поговорить.
— О чем мы будем говорить? — спросил отец, идя в дом.
Он шел нехотя, рядом шли Сычуговы. Они следили, чтоб он, чего доброго, не сбежал.
Я бежал за отцом.
— Что ж, — сказал отец, — я один, а вас двое. Я знаю, вы ведете меня бить.
— Нет, — сказал Иван Сычугов. — Мы тебя не тронем. Зачем нам тебя трогать? Мы хотим с тобой поговорить.
— Не о чем мне с вами говорить, — сказал отец. — Вы хапуги. Ну и хапайте. Амбары у вас большие. Я у вас ничего не брал. Вчера вы меня били.
— Били, — сказал Иван Сычугов, входя в наш дом. — А сегодня мы тебя бить не будем. Говори, где пила.
— Не знаю, — сказал отец, — где ваша пила. Не видел я вашей пилы.
— Покажи, где пила, — сказал Тиша Сычугов шепотом. — Не то мы тебя спрячем.
— Куда вы меня спрячете?
— Мы тебя спрячем и твое чадо, любимого сынка твоего, — сказал Иван Сычугов. — Тиша, закрой дверь.
— Мы тебя спрячем, — сказал Тиша шепотом, закрывая дверь. — Мы знаем, куда тебя спрятать. Иван, дай мешок.
— На, — сказал Иван, передавая Тише мешок. — А далеко ли у них отхожее место?
— Отхожее место ихнее я знаю, — сказал Тиша шепотом. — Бывал я в ихнем отхожем месте.
— Ну, — сказал Иван отцу, — отдавай нашу пилу.
— Нет у меня вашей пилы.
— Отдавай пилу, а то мы тебя спрячем.
— Куда спрячете? Некуда вам меня спрятать.
— Мы тебя спустим в отхожее место. Мы знаем, куда тебя спустить. Мешков нам не жалко. Только влезет ли он в один мешок с сыном?
— Пожалуй, не влезет, — сказал Тиша.
— Ничего, — сказал Иван. — Мы их как-нибудь пропихнем. Где пила, говори.
— Не знаю, — сказал отец.
— А ты? — спросил меня Тиша. — Не видал ли, куда отец запрятал пилу, которую украл у нас?
— Не воровал он у вас пилы.
— Иван, — сказал Тиша шепотом, — держи мешок. Нитки у тебя далеко? Мешок-то надо будет зашить.
— Кричать будут, — сказал Иван.
— Не будут, — сказал Тиша. — Мы им рот зашьем. Сначала рот, а потом мешок. Только влезут ли они в отхожее место. Боюсь, что не влезут.
— Влезут, — сказал Иван. — Не влезут — так пропихнем. Влезут как-нибудь. Пусть лучше скажут, где пила.
— Не видал я вашей пилы. Если уж вам пила дороже человека, бейте. Убивайте за пилу. Не видал я пилы.
— Покажи, куда спрятал пилу. Не покажешь, зашьем тебе рот суровыми нишами. Тебя бить бесполезно. Бить мы тебя не будем. Спрячем в мешок да спустим в отхожее место. Отдавай нашу пилу.
— Отец, — сказал я, — ударь их. Что ты не бьешь их?
Отец замахнулся, но Сычуговы схватили его, надели ему на голову мешок.
— Покажи, где пила, — сказали они мне. — Не то мы зашьем тебе рот.
Во дворе послышались шаги. Сычуговы подошли к окну и увидели мою мать.
Мать моя вошла в дом и, увидя отца с мешком на голове, подошла к нему.
— Покажи, где наша пила, — сказали Сычуговы матери, — мы не уйдем, пока не отдашь нашу пилу.
— Уйдите, — сказала мать, снимая у отца с головы мешок.
Она взяла мешок и, не глядя на Сычуговых, стала подметать пол, будто их не было.
— Что ж, — сказал Тиша, — пойдем.
— Пойдем, — сказал Иван.
— Подождите, — сказала мать, — возьмите ваш мешок.
И бросила мешок в раскрытую дверь.
Сычуговы взяли мешок и ушли.
— Где пила? — спросила мать у отца, когда они ушли. — Брал ли ты у них пилу?
— Не брал я у них пилы. Они хотели зашить мне рот. На иголку, на! На! Зашей мне ихней иголкой рот, если ты мне не веришь. Ты мне не веришь, веришь им. Зашей мне рот, раз ты заодно с ними.
— Не знаю, — сказала мать, — не глядела бы я на тебя. На весь белый свет не глядела бы. Устала я с вами.
В доме было тихо, мать спала, когда принесли отца. Левый глаз его вытек, и правая рука его была сломана в двух местах. Его нашли в лесу, и люди, которые избили его, не захотели спрятаться, следы больших ног вели к дому, где жили Сычуговы.
Когда Сычуговых спросили, они ли избили моего отца, Сычуговы сказали, что они, и пожалели, что не убили его, дав слово, что будут бить его до тех пор, пока он не отдаст им пилу.
Мать моя пошла жаловаться на Сычуговых. Деревня наша стояла в лесу, далеко от города, и мать пошла жаловаться не в город, а к волостному судье. Но он выгнал ее и сказал, что, если она придет еще раз, он посадит ее в тюрьму. Судья тоже был Сычугов, дальний родственник наших Сычуговых, а урядник был женат на их сестре.
1936
Старик Христофор
Баргузин — старинный городок. Он стоит в сорока километрах от Байкала, среди гор, прекрасных и живых.
В Баргузине прошли мои детские годы. Я знавал жителей Баргузина — русских и евреев. Они жили на берегу чистой реки. Но их река им была не нужна. Одни только мальчишки ловили в ней рыбу. Это была детская рыба — окунь или илец. Рыба взрослых — омуль — водилась в Байкале. Жители Баргузина были крестьяне, приискатели, промышленники, купцы, пришлые или присланные, сосланные люди. Истории своего города они не знали. Никто из них не слыхал про Ивана Галкина, боярского сына, заложившего в тысяча шестьсот сорок восьмом году баргузинский острог.
Баргузин стоял на бурятской земле, окружен был тунгусскими лесами. Среди жителей Баргузина не было ни одного бурята, ни одного тунгуса. Буряты приезжали редко, еще реже — тунгусы. К ним вела дорога. Дорога бежала через русские деревни. У русских были бурятские лица и тунгусская легкая походка. Они пасли скот бурятской породы; как тунгусы — промышляли белку. Деревни их назывались: Уро, Суво, Бодон. Крестьяне говорили на старинном русском языке, привезенном в Сибирь казаками еще в семнадцатом веке. В языке их было немало монгольских и бурятских слов. Но к тунгусам и бурятам они относились с высокомерием.
Я любил дорогу, по которой ездили буряты и ходили тунгусы. Ее обступали горы. Я нигде больше не видел таких гор. Они были законченные. Мне казалось, что тайга вытесала их из камня, вылепила из земли и придала им форму животных. Они походили на речные камни, обточенные водой. У этих гор были овальные живые спины. Мне хотелось их потрогать.
На одной из гор подымался страшный камень — вставший на задние лапы разъяренный медведь. Под горой лежал камень, похожий на быка. Буряты почитали этот камень. В юртах у бурят висело изображение Будды, у тунгусов — изображение Христа. Но почитали они не Христа и не Будду, а край — свое небо, свои воды, свои горы, свои камни и свои деревья. Деревья они украшали. Перед страшными и прекрасными камнями сходили с коня.
За последней русской деревней Бодоном дорога разветвлялась: налево — буряты, направо — тунгусы.
Спускалась с гор, прыгала, билась река Ина. Эта река начиналась у тунгусов, заканчивалась у бурят. Чилиры — так назывался тунгусский поселок. Здесь горы были причудливы. На мохнатых камнях росли сосны. Краем управляла река. Ей подчинялись деревья, звери, птицы и камни. Она кидала камни и деревья. В этих местах человек человеку должен был кричать. В Ине обитали горные рыбы — хариусы. На берегу тунгусы ловили рыбу и пасли скот. Это были степные тунгусы, всадники, сменившие охоту на скотоводство. Но в них текла беспокойная кровь звероловов. Осенью они оставляли коров и баранов женщинам, а сами уходили в тайгу.
В пяти верстах от них жил их родственник старик Христофор. Он жил в дружбе с ними и в добром соседстве. Промышленник, он не уважал домашний скот, недолюбливал лошадей, презирал коров. Во всем крае не было более сметливого охотника.
— Непреклонный человек, — говорили про него купцы.
Старый Христофор с ревностью смотрел на русского промышленника, уничтожавшего соболя и изюбра. Он приносил из тайги лишь столько, сколько ему было нужно. Старик Христофор был богат своими сыновьями, молодыми и здоровыми, которых все знали как неутомимых и счастливых в промысле людей. Но он сердился на них, если они убивали матку с детенышем-сосунком. Каждого зверя он уничтожал с неохотой. На тайгу он смотрел как на дом, на зверей — как на стремительно уменьшающееся стадо своего народа. На него жаловались, что он ходил по тайге и выпускал пойманных зверей из капканов промышленников, слишком жадных к наживе. Христофору не хотелось расставаться с зверем, даже с мертвым. В детстве я раз видел, как он дул в мех соболя, как в блюдце с горячим чаем, любовался, смотрел со стороны и любил, когда хвалили его пушнину.
Его сыновья не походили на него.
Зимой сыновья Христофора прибегали к нам. Я видел, как они летали с горы на лыжах. Среди крестьянских парней я не мог найти ни одного, кто бы мог с ними сравниться. Я удивлялся русским девушкам, которые любили не их.
Шутя, тунгусы брали меня и неслись с горы. Их лыжи были как птицы. Земля летела на меня.
Старик Христофор дружил с моим дедом и часто бывал у нас. Он редко приходил с сыновьями.
У него была толстая трубка — кусок неотделанного дерева. Огромное старинное ружье с кремневым замком. Для того чтобы разжечь трубку, он доставал огниво и, положив на кремень трут, выбивал искру. Когда топилась печка, он брал рукой головню и подносил к трубке. Старик Христофор был человеком другого тысячелетия. Он имел свой запах, не похожий на запах остальных людей. От него пахло рекой, дымом, трутом, кабаргой.
Старик Христофор ходил, легко ступая на носки. У него были легкие руки. Когда он брал что-либо, казалось, вещь теряла свою тяжесть. Он не брал, а касался.
В его рукопожатии было удивление. Он был свежий, точно только что вышел из лесного озера. Говорил мало и медленно. Сидел и молчал. Но я никогда не чувствовал его молчания. Молчание его было значительнее, чем разговор.
Мне он как-то подарил живую белку, я взял ее, обрадовался и испугался. Я не знал, что с ней делать.
Старик Христофор посмотрел на меня с сожалением. Тогда я подошел к дереву и отпустил белку. Старик Христофор мне кивнул, но ничего не сказал.
Торговцы недолюбливали его. В кредит он не брал. Вся их суетливость отскакивала от его спокойствия. Он мог уехать, не сбыв пушнины. Но он мог ее отдать даром, подарить.
За ним была вся тайга, все ручьи и все звери. Для меня он и тайга — одно и то же. Когда он уходил, мне хотелось за ним бежать.
В городе Баргузине торговал Соколов, скупал пушнину. Это был тихий купец, человек деловой, но не суетливый. Даже характер — и тот служил ему выгодной статьей дохода. Тунгусы его уважали. Он был покладистый, охотно давал в кредит и считался богатым и честным.
Почти все тунгусы были его должниками. Все, кроме старика Христофора. Купец обижался на старика.
— Православный человек, — говорил он ему, — а предпочитает мне еврея или другого.
Старик Христофор смотрел не на купца, а мимо.
— Тихий человек, — продолжал Соколов, — такой же, как я. Заходи. Выпьем чаю. Поругаемся. Может, договоримся.
Христофор пил чай. Вежливо расспрашивал Соколова и рассматривал все. У купца стояли городские, нездешние, заграничные вещи.
— Это для чего? — трогал тунгус какую-нибудь вещь.
— Это граммофон, — отвечал купец и тут же заводил его. Граммофон тихо напевал. Тунгус слушал и смотрел на вещи купца с уважением. Но это только казалось.
— На граммофон не смотри, — говорил купец заученным тоном. — Я тебе его не продам.
— Куда мне его? — усмехался Христофор.
Купец сообразил, что совершил оплошность.
— Подарить я еще мог бы дорогую вещь. Но продать — не продал бы.
— Все равно не надо.
Старик Христофор смотрел на купца настороженно, враждебно, точно ожидал подвоха. Но Соколов был неглуп. Купец сказал Христофору:
— Нет, пожалуй, я тебе не отдам. Такого не купишь. И скучно без него. Это вещь для души.
А тунгус, спокойный, трогал вещи купца и спрашивал. Каждая вещь его интересовала.
— А это для чего? — спрашивал Христофор.
— Это ночной сосуд. Как тебе объяснить его употребление… — Купец посмотрел на Христофора и смутился.
Глаза Христофора, умные, смеялись над купцом и над его вещами.
Соколов рассердился на старика, но не показал виду. Единственный человек, с которым он чувствовал себя неловко. У него обычно разговаривали покупатели, он, говорил мало, отвешивал каждое слово. А тут приходилось расходовать слова, тратить. Купец чувствовал пустоту и терял к себе уважение.
Христофор молчал. Пил много. Смотрел на купца и, казалось, смеялся.
— Так, так, — сказал он наконец. — А зверя мало стало. Исчезает соболь. Что будет делать ваш брат купец через двадцать лет?
— А ваш брат, — купец обрадовался этому вопросу, — тунгус?
— Помирать, — сказал Христофор спокойно.
Они начали разговор, говорили долго и откровенно. И купцу стало ясно, что тунгус понимает его и, может, даже презирает и что тунгус, наверное, счастлив своим занятием и своими сыновьями, а вот у него, у Соколова, богатство, но вещи лежат чужие и ненужные ему, и счастья у него нет.
Старик Христофор, прощаясь с купцом, приглашал и его в гости к себе в Чилиры.
— Тихий человек, — сказал он. — Православный. Приезжай. Чаем напою.
Соколову показалось, что старик его передразнил.
Ушел, но дела не сделал. В кредит не взял, да и продать ничего не продал, только разбередил разговором. Лучшая пушнина уходила мимо.
Соколов взгрустнул.
— Обидел ты меня, тунгус, — прошептал он, — не обижайся. Придется тебе принять обиду и от меня.
Но обидеть Христофора было трудно. Старику везло.
Жил он в тайге, выезжал редко, но слухи о его удаче доходили до купца. Рассказывали Соколову, что Христофор напромышлял в этом году много белок. На лодке плыл старик, лодка перевернулась, но старик остался невредим. Легкие сыновья были у тунгуса — сильные. У Соколова не было сыновей. Дочь у него была, старая дева. Завидовал купец Христофору или нет — он сам не мог понять. Но старик его интересовал. А слухи все приходили. Рассказывали уже, что Христофор женил сыновей и сыграл в тайге большую свадьбу. И то, что Христофор сыграл свадьбу и устроил сыновей, Соколов счел за личную обиду. И он смотрел на свою неустроенную дочь и неуютную жизнь в своем доме, смотрел на свои товары, и товары не радовали его. И под влиянием дум и раздражения изменился его характер. Во дворе он протянул железный канат, и вдоль каната стала греметь цепью, бегать злая собака. Завел ружье. Стал осторожным. И на всякого, кто рассказывал о тунгусе, он смотрел с раздражением. И теперь уже не один расчет, а самолюбие его торопило, и ему хотелось увидеть Христофора взволнованным и униженным должником.
Старик Христофор жил неторопливой речной, лесной жизнью, городскими событиями и людьми интересовался мало. Началась война. И везде говорили это слово. Были обеспокоены все. И у многих уже не было сыновей.
Как-то приехал Христофор в город вместе с сыновьями. И сыновья, высокие, ходили по улицам. И многие жители смотрели на сыновей Христофора со злобой: тунгусов не брали на войну. И когда говорили старику, когда шутливо упрекали его за его здоровых и молодых сыновей, он подталкивал их вперед и отвечал всем:
— Николай нас не хочет, — говорил он, — мы зверей стрелять умеем. Человека мы не промышляем.
— Он тебе не Николай, — поправил его строгий Соколов, — а государь наш, император, царь.
Тунгус посмотрел на Соколова, осунувшегося и бледного, с удивлением.
— Нездоров, брат? — спросил он и сочувственно улыбнулся. — Что с тобой, купец?
Купец отчего-то растерялся и не нашел слов.
— Война, — пробормотал он.
— Война, — повторил старик и рассмеялся. — У тебя дочь. Дочерей не берут.
И то, что старик сказал «дочь», показалось купцу насмешкой. Он посмотрел на Христофора. Тунгус был легкий, здоровый, и никто бы не сказал, что ему много лет. Он шел, окруженный сыновьями, — невыносимый. Его бы самого следовало отправить на войну.
— Обидел ты меня, тунгус, — прошептал купец.
Он пришел домой, закрыл дверь и накричал на дочь. Он сказал ей, что она, голодранка, только и делает, что смотрит на парней, не может даже подмести пол, и ее, наверное, никогда не выдать замуж, и что она сама принесет ему в подоле; и хотя на улице было еще светло, он закричал, чтоб она ложилась спать, и что он знает, когда он уснет, она убежит к «своему». Дочь заплакала тоскливым голосом, жалостливо, купцу стало жалко ее и себя, и он прошептал:
— Оскорбил ты меня, тунгус.
С дедом мы приезжали к старику Христофору. Весь поселок встречал нас — старики с красными глазами и дети. Мы пили чай, пахнувший дымом, и ели хлеб, купленный Христофором у крестьян. Старик, казалось, не замечал своей нищеты. Он был счастлив своей рекой и небом, всем своим краем. Его край стоял на берегу реки, как птица. Легкие синие деревья улетали в небо. Розовые утренние горы, казалось, двигались в тумане. Горное озеро блестело вверху. Казалось, оно было на верхушке сосен. Облако лежало на горе. Река открывалась и неслась прямо на нас, падала на нас с горы. У меня кружилась голова. Я заметил птицу. Птица сидела посредине реки. Ее несло и кидало. Вдруг она взлетела и поднялась. Христофор приложился и выстрелил. Птица — подарок старика — упала к нашим ногам. Старик шел и трогал деревья. Это были большие, богатые деревья.
— Но ведь это не твое, — говорил дед. — Начальству понадобятся Чилиры. Вас отодвинут в тайгу, как отодвинули от Баргузина.
Христофор сел на траву, приглашая сесть и нас.
— Тайга — она большая, — сказал он, — на наш век хватит. — Он посмотрел на меня. — И на ваш.
Где-то далеко кричал изюбр, тосковал по невесте. Ветер приносил запах воды и птиц. Я стоял счастливый и радостный.
— Вот, тунгус, растет у меня охотник, — сказал дед и показал на меня. — Подари ему немножко солнца своего, немножко реки и тайги кусочек. Уступи ему радость.
Старик рассмеялся, и, смеясь, мы простились с ним.
Удача переменчива, говорят люди. Даже Соколов удивился. У старика Христофора отобрали сыновей — тунгусов взяли на войну.
Я никогда не забуду, как их, улыбающихся и печальных, посадили на пароход и отправили в чужой край.
До последней минуты старики, буряты и тунгусы, отцы, не верили. Им казалось это шуткой. Но вот их сыновей посадили в лодки. Лодки подошли к пароходу. Пароход загудел. И сыновья их исчезли — многие навсегда.
Старики возвращались, убитые внезапным несчастьем. Старик Христофор шел легким, обычным своим шагом. В городе перед отъездом домой он даже пошутил.
— Николай ошибся, — сказал он, — он зря взял моих сыновей. Какие из них солдаты?
На этот раз Соколов не поправил его, но сказал, что не понимает таких шуток.
Тогда рассердился Христофор.
— Кто этот человек, с которым послали воевать моих сыновей? — спросил он. — Мы его не знаем. Он у нас не был. Кто он? Мошенник? Зачем с ним воевать?
Старик Христофор изменился. Часто стал ходить в город. Раньше для него не существовала почта. Кто мог написать тунгусу? Теперь за письмами он шел шестьдесят километров. Спрашивал про войну и был разговорчив. Письма приходили редко. Он клал их за пазуху и нес к нам читать. Мой дед читал ему эти письма. Он читал их с еврейским акцентом, перевирая слова, делая смешные ударения. Я не всегда понимал эти письма. Продиктованные тунгусом, написанные полуграмотным русским солдатом, прочитанные евреем, это были очень трудные письма. Но старик Христофор их понимал. У деда был бодрый, громкий голос, он весело смеялся, читая письма. И Христофор тоже смеялся. Тунгусы подробно описывали большие города, которые они проезжали, много удивлялись. И, смешно признаться, я долго представлял эти города по описанию тунгусов. Но в письмах были такие места, которые дед читал почему-то тихо, и старик Христофор долго и тихо говорил с моим дедом по поводу этих мест письма. Тунгус был удивлен — сыновей его, так же как и других тунгусов, не отправили на позиции: где-то возле Минска их задержали и заставили рыть окопы и строить укрепления.
— Это к лучшему, — говорил дед, но в голосе его была тревога.
Мой дед не умел утешать. Христофору нельзя было сказать правду. Большинство тунгусов и бурят умирало от скоротечной чахотки где-то возле Минска, на чужой земле.
Я помню и последнее письмо, написанное чужой, казенной рукой и прочитанное чужим человеком, волостным писарем (деда моего в те дни не было дома).
Старик Христофор его спрятал и ушел. Несколько дней о нем не было слышно. Он собрал все, что у него было, и продал. И, увидев, что денег у него мало, взять было больше не у кого, он пришел к купцу.
Это было вечером. Соколов уже закрывал свою лавку. Он остановился, держа в одной руке замок, в другой — ключ.
— Что скажешь, тунгус? — спросил он, и сердце у него забилось, застучало от чего-то неожиданного и близкого, и он обрадовался и испугался чего-то и тяжело сел на крыльцо.
— Ничего не скажу, — сказал Христофор и, слегка толкнув его, прошел прямо в лавку.
Купец поднялся и прошел за ним. И в лавке ему показалось все другим, и он увидел, что у него много товара, несмотря на войну, и он услышал чей-то голос. Пела дочь. И он подумал, что у нее хороший, чистый голос. «В мать», — подумал он.
И все же, давая деньги Христофору, он торопился, путался в счете, сердился на себя. Это было с ним в первый раз. Он все боялся, что Христофор передумает. Но Христофор не передумал, деньги взял, и денег этих было много, но он их не считал, а, небрежно свернув их, как бумагу, положил в кожаный кисет, где лежал табак. И, несмотря на это, у купца было радостное чувство, точно он их не отдавал, а получал. Но радость его была странной, больной, она щемила его сердце. Христофор казался хладнокровным и брал независимо, как будто не брал, а давал. Взяв деньги, он попросил, чтоб купец написал за него долговую расписку, так как он сам писать не умел.
Но купец улыбнулся и сказал, что расписка ему не нужна. Христофору он верит. Но на Христофора это не произвело никакого впечатления. Он рассмеялся и сказал:
— А я бы на твоем месте взял. Мало ли что со мной случится. Еду далеко.
Купец в словах этих почувствовал превосходство и прошептал:
— Обидел ты меня, тунгус.
И когда Христофор ушел, купец уже не испытывал радости и удовлетворения, лавка казалась ему по-прежнему душной и унылой, и он крикнул дочери, чтоб она, стерва, перестала реветь. И он почему-то подумал, что тунгус непременно погибнет в дороге, нарочно не вернет долг и что не он увидит унижение тунгуса, а тунгус посмеется над ним.
Дни шли. Все ждали возвращения Христофора, и нетерпеливее всех Соколов.
Христофор ездил долго. Приехал он неузнаваемый, постаревший и больной. Сыновей он не нашел. О виденных людях и городах он рассказывать не мог или не хотел.
Соколов пошел взглянуть на старика. Но это не принесло ему удовлетворения. Старик сказал ему:
— А долг мой, купец, я тебе отдам.
И больше ничего не сказал.
Старик вернулся к себе в тайгу, но тайга показалась ему другой, то ли оттого, что видел он много мест и разных городов, то ли оттого, что не было с ним и никогда не будет его сыновей. Деревья казались ему не такими большими, как раньше. Вместо гор и рек, живых и прекрасных, видел он теперь часто мертвую землю войны, глину и жалкую траву предместий Минска. И он думал, что не тайга изменилась, а он сам постарел, что долг его велик и ему придется поймать не одного соболя, убить не одного изюбра, чтобы расквитаться с купцом.
Первая охота была неудачной. Старик сам не знал — оттого ли, что стар он стал, стал плохо видеть, или просто потому, что давно не держал в руке ружья. Неудачен был весь год. Христофор поставил немало капканов. Но зверь обходил его капканы или съедал приманку и уходил. Вырыл старик много ям, но напрасно — ямы остались пустыми. С горя он пошел на реку рыбачить. Но рыба, которую он презирал, и та не шла к нему, он не поймал ни одного хариуса. Неудача опечалила Христофора, но не сломила, и, насушив сухарей, он отправился на солонцы. Снег с увалов уже стаял, появились синие цветы Ургуя, и по их обкусанным стеблям Христофор определил, что изюбр недалеко. Этот изюбр не ушел от Христофора. Христофор убил изюбра, но изюбр этот был до того стар, что у него во рту не осталось ни одного зуба, глаза провалились и возле глаз было много скопившегося гноя и слезы. Тунгус начал свежевать зверя, но шкура его была до того ветхая и тонкая, что ее нельзя было употребить даже на домашние поделки, а мясо было жесткое и сухое, как кора.
Старик подумал, что изюбр так же стар, как он. Может, даже ровесник. Ему стало жалко убитого изюбра и досадно на себя.
Осенью он пришел к купцу с пустыми руками и растерянно улыбнулся. Но Соколов не ругался, а сказал ласково и спокойно:
— Ничего, тунгус. Я подожду.
Но старик Христофор посмотрел не на него, а мимо. Видно, что слова купца не произвели на него особого впечатления, взгляд был насмешлив, и купцу захотелось сказать тунгусу что-нибудь оскорбительное, попугать его, но он сдержался и ничего не сказал. Христофор понял и ждал ругани, и оттого, что купец не выругался и не пригрозил, старику стало досадно. Ему казалось, что купец смотрит на него как на нищего и ничего от него не ждет. Лаской и молчанием купец достиг своего и был уверен, что унизил старика. Старик возвратился в тайгу. Долг мучил его еще больше. И во сне и наяву он видел, как он отдает долг.
Следующий год был удачен. И особенно много было белки, следы соболя часто встречались, и хотя пороху не хватало, но тунгус ходил уверенный и ждал дня, когда он сможет прийти в город и расплатиться с купцом.
Осень он провел в тайге и зиму. Уже давно кончилась война. Произошла революция. И уже давно продолжалась другая война, гражданская. Но старик Христофор людей встречал редко и разговаривал мало. Он был занят одним — бил белку, ловил в капканы горностая и лисицу, по весеннему насту преследовал сохатого.
День наступил. Старик Христофор занял коня у дальнего своего родственника и соседа, повесил вьюки. Еще никогда в мешках его не было столько пушнины. Сосед отговаривал его ехать, в городе было неспокойно. Христофор его не послушал. В деревнях крестьяне рассказывали ему про каппелевцев. Старик молчал и не слушал их, он курил трубку и думал о своем.
Был зимний холодный день. Христофор шел по дороге на лыжах, за ним, опустив голову, брел тунгусский конь с пушниной. По дороге встретились каппелевцы.
Жизнь нам твоя, тунгус, не нужна, — сказали они. — А пушнину мы твою увезем. Мы тебе дадим расписку.
— На что мне расписка, — сказал Христофор. Он сначала подумал, что они шутят. Но когда они подошли к лошади, он схватился за ружье.
— Ружье твое дерьмо. Нам его не надо. Снимай.
Они отобрали у старика пушнину, а самому связали руки и ноги. Посадили они тунгуса на высокий камень возле дороги, на колени положили расписку. Там все было перечислено: белки — 600 штук, соболя — 3, пантов — 2 пары, горностаев — 16, лисиц — 6, выдры — 2, шкур медвежьих — 2, куля — 4, сумок кожаных — 1, лошадь — 1. Подписано: «Поручик Воробьев».
Старик не мог прочитать расписку, расписка его не интересовала. Сидел он на камне высокий, прямой и невозмутимый. Нескончаемый обоз с каппелевцами двигался мимо него. Ехали офицеры. Христофор на них не смотрел. Обоз кончился. И солдат, ехавший в дровнях и немного отставший, сказал:
— А ты ведь замерзнешь, старик, — и жалостливо улыбнулся.
И старик улыбнулся ему в ответ удивленно и ласково и покачал головой.
Христофор не замерз. Поморозился он — это верно. Спасибо крестьянам — ехали мимо, спасли.
Христофор в город не поехал. Что ему было делать в городе без пушнины. Ушел обратно в тайгу.
На следующий год привез все-таки он пушнину в город — свой долг. Этот год был удачный, не хуже прошлого года. Дай бог каждый год. Пришел Христофор к купцу. Но купца дома не оказалось. И в городе тоже его не было. Дом стоял на своем месте — это верно. И двери были те же. Но купца не было, и лавки не было, и дочь тоже куда-то уехала или ушла. В городе не было ни одного купца.
— Как же так? — сказал Христофор.
Он не знал, как быть. Знакомый один посоветовал ему обратиться в совет к комиссару Соловьеву.
— Он у меня столуется, — сказал он. — Хороший человек.
Комиссар долго о чем-то говорил Христофору, о каких-то купцах. Но старик его не слушал, думал о своем, о прошлой своей жизни, о сыновьях и о том, что привез он наконец долг, но купца нет. Он вспомнил каппелевцев, посмотрел на комиссара и подумал, что ему нарочно все мешают разделаться с купцом и что он найдет купца хоть на краю света, и, если купца нет, он отдаст долг его родственнику или тому, кто живет в его доме. Не может быть, чтоб там никто не жил.
В доме купца Соколова жили красноармейцы. Тунгус переночевал с ними под одной крышей и разговорился. Он вспомнил про своих сыновей. Ему понравились эти парни. И он хотел отдать им пушнину, но они не взяли, а позвали своего комиссара Соловьева, и Соловьев рассмеялся, усадил старика и долго с ним говорил. И хотя Христофору было многое непонятно, он слушал Соловьева и курил трубку. А уезжая, он попросил еще раз, чтоб красноармейцы взяли у него пушнину.
— Не везти же ее назад, — сказал он.
1935
Ланжеро
Часть первая
Глава первая
Когда Ланжеро был маленьким, мать качала его, мать пела ему песни, похожие на ветер, мать дула ему в уши свои маленькие песни, мать щекотала его.
Но однажды Ланжеро встал: матери не было. Он видел, как соседи несли какого-то человека. Он видел чьи-то ноги. Ему казалось, что это ноги матери, что это несут его мать.
В доме стало пусто. То место было пустое, где спала мать. За столом место было пустое. На берегу на камне было пустое место, где пела мать свои песни.
— Где мать? — спрашивал Ланжеро.
— Не знаем, где твоя мать.
— Где моя мама? — ходил и спрашивал Ланжеро.
Только один человек ответил ему — Чевгун.
— Нету матери, — сказал Чевгун. — Твою мать унес ветер.
Когда дул ветер оттуда — с моря, из ущелий, — большой ветер, при каждом порыве его Ланжеро тянуло на берег, к морю, на ветер. Ему казалось, что это мать, что мать дует ему в уши свои маленькие песни.
Прошло несколько дней, и у Ланжеро унесли сестру.
— Это ветер, — сказал Чевгун и отвернулся.
Ланжеро вернулся в дом. В углу было пустое место, где спала сестра. Ланжеро лег на ее место.
Утром Ланжеро проснулся и увидел, что рядом с ним лежит его большой брат.
— Подвинься, — сказал Ланжеро брату. Но тот не ответил. — Подвинься, — повторил Ланжеро и толкнул брата в бок. Но брат не двинулся. Рука его лежала на постели Ланжеро. Ланжеро тронул руку, попробовал ее поднять, по рука была тяжелая, холодная, словно рука чужого человека. Ланжеро отодвинул эту руку.
Днем Ланжеро прибежал с берега в дом. Брат лежал на том же месте. Пришли соседи и положили возле брата юколу, кусок вареной нерпы и горшок, в котором была мось, приготовленная из ягод и кетового жира. Но брат не тронул еды. Он лежал на спине. Ноги его были голые. Ланжеро стало жалко его ног, он их закрыл. Отец вытащил изо рта трубку, обтер слюну с чубука и положил трубку возле спящего.
— Зачем спящему мось? — спросил Ланжеро.
Отец ему не ответил.
— Отдай лучше ее мне. Я люблю мось.
Соседи встали, подошли к брату, подняли его и понесли.
— Ветер? — спросил Ланжеро.
— Ветер, — ответил Чевгун и усмехнулся.
Людей уносили и уносили. Каждый день отец куда-то уходил.
Сначала соседи унесли Чевыркайна, он был еще меньше Ланжеро; потом девчонку Аучхук, сестренку Чевыркайна, потом косоглазых детей Чевгуна, всех до одного. Как-то они подрались с Ланжеро и отобрали у него лодку-долбенку.
Когда их несли, Ланжеро долго бежал за Чевгуном. Чевгун уносил своих детей вместе с игрушками. Ланжеро думал, что Чевгун вернет ему его лодку.
В холодный день соседи пришли звать Водку, отца Ланжеро, чтобы он помог им нести их мать-старуху.
Скоро унесли и соседей, их несли отец и Чевгун.
— Ветер, Ланжеро, — сказал Чевгун. — Большой ветер.
Когда дошла очередь и до Чевгуна, когда Чевгуна понес на себе отец, останавливаясь и подолгу стоя на одном месте, когда отец вернулся без Чевгуна, Ланжеро заплакал, он понял, что скоро его вместе с отцом унесет большой ветер.
Дома на берегу были пусты. В домах гудел ветер, он подымал золу из очагов и носил ее из угла в угол.
Все стояло на своем месте. На степе висели торбаза, шляпа и штаны. Нары были не убраны. На столах стыла пища, в чайниках был чай. Казалось, хозяева вышли и скоро вернутся.
Ланжеро боялся заходить в чужие дома. Между домами было пусто. В том месте, где играли дети, не было никого. Валялся чей-то сломанный лук. На берегу лежали нерпичьи кости, весло и стояли нарты. Это были Чевгуна нарты.
Ночью выли собаки. Им было страшно. Они, должно быть, боялись, чтобы их не унес ветер.
Отец разбудил Ланжеро.
— Одевайся, — сказал он.
Отец уже был в зимней одежде.
В нарты Чевгуна он запряг чьих-то собак. Ланжеро знал, что у отца не было своих собак.
— Чьи это собаки? — спросил Ланжеро.
— Соседей. Я у них занял собак, а нарты у Чевгуна. Увезу тебя и верну им собак, Чевгуну — нарты.
— Зачем соседям собаки? Соседей унес ветер.
Отец промолчал.
Ланжеро в последний раз увидел свой дом на берегу, школьник и темные пустые дома соседей.
Над маленьким озером, покрытым снегом, над тем озером, возле которого летом играл Ланжеро с детьми Чевгуна, светила зимняя луна.
Оставшиеся собаки завыли, они просили, чтобы люди их взяли с собой. Но отец не хотел брать чужих собак.
Он увел Ланжеро в стойбище Нань-во, что на берегу Лангри — нерпичьей реки.
Глава вторая
В Нань-во жили старики. Самому старому из них исполнился сто один год. Звали его Чевгун-старший. У старика был молодой и веселый, словно чужой глаз. Другой глаз его давно умер.
Недавно Чевгун-старший женился.
— Женская жизнь короче пальца, — жаловался Чевгун-старший. — За мою жизнь у меня умерло восемь жен. Эта девятая.
Когда Водка с сыном своим Ланжеро приехал в Нань-во, он остановил собак у зимника Чевгуна-старшего.
— Привет тебе от младшего брата, Чевгун, — сказал Водка.
Водка сел.
— Брат твой Чевгун умер.
— Жить приехали?
— Жить.
— Живите.
Ланжеро не представлял, что на свете так много детей.
Детей в Нань-во никто не уносил. Не нужны они, должно быть, ветру.
Ланжеро рос и играл вместе с этими детьми. Это были толстые, веселые дети.
В стойбище приходил доктор — бороться с ветром. Зимой он прибегал на лыжах, летом подымался на лодке вверх по реке на шестах. Собаки, почуяв его, выли.
— Можно ослепнуть, — говорил доктор, входя в дом. — Как у вас грязно!
— Почему нельзя? — соглашались старики. — Можно.
С Ланжеро доктор смеялся, шутил.
— Ветер, говоришь, тебя чуть не унес. Это не ветер, а интервенты. О нефти и рыбе помнили, о людях забыли, о вас, гиляках. Не бойся, сейчас есть кому бороться с «ветром».
Доктора звали Иван Павлович.
Иван Павлович научил женщин стирать белье; засучил рукава и на глазах у всего стойбища выстирал свою рубашку.
Ивана Павловича в стойбище побаивались. Однажды он потребовал от мамок, чтобы они вскипятили как можно больше воды, и заставил вымыться все стойбище.
Чевгуну-старшему понравилась теплая вода. Он сидел в корыте, плескался, как ребенок, и, вздрагивая от удовольствия, шлепал себя по ягодицам, приговаривая:
— Эх, вода! Вот это вода. Никогда я еще не знал такую воду.
Его несовершеннолетняя мамка мыла эту замшелую спину, дряблые волосатые и сморщенные кривые ножки, ножки новорожденного.
Тело других стариков не доверяло теплой воде, трусило, словно это была не вода, а зверь.
Доктор ходил из зимника в зимник мыть упорствующих. Он был весь в мыльной пене.
После мытья он всех поблагодарил, а Чевгуну-старшему не пожалел, снял с себя и подарил новые кальсоны.
На него обиделся Низюн, богатый человек.
— Где это видано, — сказал он, — чтобы человека насильно мыли в теплой воде. Я сорок лет живу. Хочу — моюсь, хочу — не моюсь. Я хозяин своим предметам — своему носу, своим ушам, своей бороде. Не ты! На такое дело жаловаться надо. Где здесь власть?
— Хотя бы и так. Я здесь власть, — сказал доктор.
— Врешь. Ты не власть. Ты только лечишь, шаманишь, беспокоишь народ. Надо бы на тебя пожаловаться.
— Жалуйся.
Низюн пожаловался, съездил — легкий человек.
— Сам просит, — говорил он. — Ну, я и пожаловался, раз просит.
Ездил он на собаках, а вернулся на чем-то большом, вроде оленя, но безрогом, на чем-то тихом.
— Его зовут лошадь, — объяснил Низюн. — Мне сказали: «Возьми его, пожалуйста». Власть подарила, потому что я справедливый человек.
Сказав это, Низюн забрался на коня.
— Tax! Tax! — крикнул он на лошадь. Так кричат на собак.
Лошадь мотнула головой и пошла покачиваясь. У нее были длинные желтые зубы, как у самого Низюна.
Сидя на коне, Низюн был выше всех. Он задушил шесть собак и угостил собачиной стойбище.
— Ызь,[4] — сказали ему старики. — Разреши нам выбрать тебя в совет.
— Ладно, — сказал Низюн. — Выбирайте.
Доктор был против. Никто от него этого не ожидал. Выступил против хорошего человека. Это он потому выступил против Низюна, что тот ездил на него жаловаться. Всякому понятно.
Ызь обиделся, он молча сел на коня и грустно покачал головой.
— Tax! Tax! Как это все несправедливо.
Старики шли за ним и уговаривали его вернуться.
Но ызь председательствовать не хотел.
— Сами знаете, семья да столько собак. Дел сколько, — сказал он. — Ну, да ладно, раз просите.
Человек строгий и находчивый, ызь оказался председателем каких мало. Шаману он запретил шаманить.
— Ты враг советского правительства, — сказал он шаману.
— Ладно. А куда мне идти? — спросил покорно шаман.
— Куда хочешь: в лес иди, хочешь — плыви в море. Я дам тебе свою лодку.
За шамана заступились его родственники. Как-никак шаман был старик. Куда он пойдет? Медведь — и тот задерет, рыба — и та обидит. Пришли родственники шамана к Низюну, принесли ему подарки. Но Низюн знал законы. Подарков он не принял, а родственников шамана прогнал.
Глава третья
В Нань-во на пришельцев смотрели косо.
Старики считали, что Водка поступил нечестно, украл у судьбы своего сына, уехал от смерти на чужих собаках, украл у мертвых нарту и собак.
— Я вернул мертвым собак, — оправдывался Водка.
Старики качали головами. Будь они на месте Водки, они бы сидели дома и ждали.
— Судьбу не обманешь, — сказал Водке Чевгун-старший. — Смерть и здесь тебя найдет. Ты задолжал ей сына. Навлечешь на нас беду. Зря мы тебя пустили.
И, словно в оправдание его слов, подул сильный ветер. Ветер дул, откуда вставало солнце, с моря и с гор, откуда приехали Водка и сын его Ланжеро.
Ветер вошел в Ланжеро, в рукава, в уши, в нос, в рот, Ланжеро прибежал с полным ртом холодного ветра.
Он хотел выплюнуть ветер, кашлял, но ветер был внутри его, Ланжеро кашлял, но не мог избавиться от ветра.
Доктора не случилось. Ланжеро лежал в углу, полный ветра, и ему казалось, что это мать, что мать дует ему в уши и в рот свои сильные песни, смешанные с дымом, и дым больно щиплет внутри.
Старики ждали судьбы, но судьба задержалась, может, зашла к кому по дороге или сбилась с пути. И, чтобы помочь судьбе, старики сделали вот что. Они посадили мальчика в лодку, в сонную руку они дали ему весло и оттолкнули лодку от берега.
Отец больного — Водка — стоял на берегу. Он смотрел, но, казалось, ничего не видел. Потом он кинулся к лодке. Но его удержали.
— Так лучше, — сказал Тевка.
Тогда отец пошел в дом и взял ружье. Он выстрелил. Его выстрел прогремел, как сто выстрелов. Горы разнесли эхо над морем. Людям казалось, что в них выстрелил Водка.
Водка повернулся и пошел. Он шел строгий, прямой в шуме волн и ветра. Стая птиц пролетела над ним. Она закрыла его от людей. Вернулся он через два года, но время не помирило его со стариками.
На берегу был легкий след зайца. Заяц убежал в траву от людей.
Рухнуло, свалилось в реку огромное и полое дерево, обросшее мхом. Внутри дерева была белка. Она выскочила и смотрела с ужасом, как ее вместе с домом ее — деревом — несло в залив, где плавало стадо нерп.
Была весна, пора рождения птиц и звезд.
Стая птиц показалась. Сквозь стаю птиц светило солнце.
Старики услышали песню. Песня неслась вверх по реке.
Вдали показалась лодка. В лодке сидели два человека. Один был большой, его узнали, завыли собаки. Это был доктор. Кто же был другой? Другой был Ланжеро. Легкий, он выскочил на берег.
— Как он вырос! — сказали старики.
Доктор привязал лодку.
— Здравствуй, Ланжеро, — сказали старики.
— Узнали? — спросил доктор хмуро.
— Как же не узнать.
— Темный народ, — сказал Тевка. — За своих ребят испугались. Судьбе хотели помочь. Судьба где-то замешкалась.
— Судьба? — сказал доктор. — Счастье, что я встретил Ланжеро, направляясь к вам. А то бы я тоже судьбе помог. Всех вас под суд бы отдал.
Глава четвертая
Старики вставали поздно. По утрам они любили рассказывать сны. Им снились молодые женщины и собаки. Старики были сильные, страстные люди. Они мечтали о богатой жизни. Богатая жизнь — это собаки, как можно больше собак, как можно больше собачьего мяса.
Убивая зверя, они просили у него прощения. Убивая нерпу, они вырывали у нее глаза, чтобы выбросить их в воду: убитое животное не должно знать убийцы.
Везде спины, ноги, зубы, глаза и рты. Море живое. Река живая. На спине у горы живут деревья.
Горы, облака, камни, деревья, реки и звери совсем не то, реки не реки, звери не звери. Это боги надели на себя волны и шкуру, вылепили себя, выточили из камня, сузились, вытянулись, подняли вверх ветви, стали деревьями, чтобы скрыть себя от человека и его любопытства.
Гром зимой скрывается в воде. Ветер — это человек. У него изо рта дует.
На небе живут небесные люди. На земных людей они смотрят как на рыб. Изредка они спускают удочку с крючками, чтобы подцепить какого-нибудь человека.
— А нельзя ли нам сплести такой невод, чтобы поймать небесных людей? — спросил как-то Ланжеро у стариков.
— А зачем тебе небесные люди?
— Хочу на них посмотреть. Вас ловят, а вы молчите.
Когда Ланжеро стал старше, он спросил у стариков, что находится за горами.
— Смотри сюда, — сказал ему Чевгун-старший, и на песке палкой Чевгун нарисовал нерпу.
— На этой нерпе мы живем, — сказал Чевгун, — она спит, эта нерпа. Кругом море.
— А море, — спрашивал Ланжеро, — есть ли ему конец?
Старики не знали, что ему ответить.
Ланжеро снились легкие, живые сны. В снах он шел, переходил через горы, переплывал через реки.
Один раз ему приснилось облако белок. Стая белок перескочила через него и исчезла.
В другой раз ему приснилась большая страна, тяжелые горы, широкие реки. Но люди в этой стране были легкие, молодые, словно сделаны были из неба. Куда-то шли. Должно быть, это и были те самые верхние люди.
«Люди, — думал Ланжеро, — созданы не для того, чтобы сидеть дома. Они существуют, чтобы лететь с горы на гору, падать и опять вставать, бежать по снегу, прыгать по болоту, все вперед и вперед, никогда не видеть одного и того же, интересоваться, трогать».
Ланжеро понимал дерево, железо и кость.
Он делал нарты. Его нарты едва касались земли. Лодки его плыли, едва касаясь воды.
И все, что он делал, было для того, чтобы идти, ехать, бежать и плыть, чтобы идти и видеть.
Он думал: «Не надо сидеть на одном месте, надо идти все вперед и вперед. Река — и та куда-то спешит, птица — и та куда-то летит, зверь — и тот бежит по тайге, белка — и та прыгает с ветки на ветку, все выше и выше».
Глава пятая
Как-то из города Александровска в Нань-во пришел на лыжах один человек. У него было ружье за плечами, а на глазах стекла-очки. Стекла у него на глазах покрылись льдом, усы примерзли к бороде.
Войдя в зимник, он снял очки и стал разувать ноги. Ноги у него были большие, волосатые. Он протянул их к огню. Борода его начала таять, с усов побежало. Из очага вылетела искра и прожгла ему штаны. Но он не заметил этого.
— Пахнет паленым, — сказал он.
— Это на тебе, — сказал Чевгун-старший, — горят твои штаны.
К гостю подошел Низюн и подал ему руку с откушенным пальцем.
— Пальца одного нету, — пошутил Низюн. — Мать мне откусила палец, когда я был еще ребенком.
Ызь сел рядом с гостем.
— Штаны сжег? — сказал он. — Жаль, что у меня ноги короче. Я бы уступил тебе свои.
В это время вернулся Чевгун. На руке у него висели штаны.
— Надевай мои, — сказал он. — Снимай свои. Моя мамка починит.
Гость обошел стойбище, с каждым поговорил, посмеялся.
— Дверь надо было прорубить, — сказал он Тевке. — Что ты, заяц или бурундук, — лазать приходится как в нору.
— Правильно, — согласился Тевка. — Как-нибудь летом, в другой день.
— Нет, не летом, а сейчас. Неловко ведь. Человек ты не старый, к тебе сам Калинин может приехать в гости. Что же, ты его заставишь лезть в дом через эту дыру?
— Правда, — сказал Тевка. — Я человек хороший. Ко мне сам Калинин может приехать в гости.
— Ну-ка, хороший человек, неси-кась топор.
Гость взял топор и отрубил от дома Тевки большую щепку.
— Что ты делаешь? — сказал Тевка. — Ты мне погубишь дом. Где я жить буду?
Но гость еще раз взмахнул топором и отрубил щепку побольше. Сняв шубу, он бросил ее на снег. Борода его стала мокрой, даже очки — и те покрылись потом.
— Борода замерзнет, — сказал Тевка. — Ты бы шел отдохнул. Без дома меня оставишь.
Гость рассмеялся. Положил руку на Тевкино плечо.
— Крепкий ты человек, спокойный, — сказал он Тевке. — За твое спокойствие тебя надо бить. На топор, руби. Чтобы двери были не уже, чем у Низюна, чтобы окна были и чтобы в доме хорошо было дышать.
Тевка взял топор.
— Ладно, — сказал он. — Приходи ночевать. Но шубу не забудь. Будет холодно.
— Тепло будет. Я тебе помощников пошлю, чтобы к вечеру была дверь. А ночевать я приду. Спасибо.
Вечером гость велел созвать людей в зимник к Чевгуну.
— И мамок? — спросил Низюн.
— И мамок. Всех, молодых и старых.
Речей гость не произносил, а просто разговаривал, как говорят в юрте за едой. Ланжеро смотрел гостю в глаза. Хорошие у него глаза, зачем только он их застеклил, как окна, боялся, чтобы не замерзли, что ли?
— Вот вы люди, — сказал гость, — и в городах в теплых больших домах тоже живут люди. Между вами разница маленькая, этак в десять или больше тысяч лет. Раньше вами и нами, нашей страной правили люди, которые украли у вас счастье, пользовались вашим трудом. Вас они оставили умирать. Вам они оставили собак. Себе они взяли всех животных: коров, лошадей, деревья, дающие большие и вкусные плоды, тысячи разных вещей, которые облегчают и делают приятной жизнь. От вас они брали соболей, белок, кету. Вам взамен они давали болезни. Они боялись, чтобы вы их не нагнали. Они боялись вас учить. Вы знаете, мы давно этих людей выгнали. Сейчас нам с вами нужно подумать о том, как догнать другие народы нашей страны.
Низюн переводил старикам слова гостя.
Ланжеро понимал гостя и без Низюна. Низюн только мешал ему слушать гостя. Гость сказал:
— Вы, наверное, слышали, в Ногликах открылась большая туземная школа. Нужно послать туда детей.
Низюн перевел.
— Зачем вам дети? — перевел Низюн. — Отдайте детей советскому правительству. Вам жить будет легче.
Ланжеро, услыша эти слова, вскочил.
— Постой! — крикнул он Низюну. — Ты не то говоришь. Совсем не то! Погоди!
Старики зашикали, зашумели, закричали на Ланжеро.
— К порядку, — сказал русский.
Ланжеро покраснел.
— Вроде врет, — сказал он тихо. — Говорит вроде не то. Вроде не туда клонит.
— Кто врет? — перебил его Низюн. — Ошибаться я умею. Врать я не могу. Я человек чистый, как Лангри.
После схода Низюн подошел к Ланжеро.
— Зайди ко мне, парень, — сказал он.
Утром Ланжеро вышел из дому. Было еще рано. Стойбище спало, старики кашляли, ворочаясь. Их кусали вши. Дойдя до зимника Низюна, Ланжеро остановился. Собаки Низюна спали. Одна собака бредила, тихо лаяла во сне, будто жаловалась на хозяина. Ланжеро стало грустно. Он постучался в дом Низюна. Ызь сидел перед огнем. Лицо его, окутанное дымом, смутное, было словно не наяву, точно он не сидел перед Ланжеро, а снился.
— Парень, — сказал Низюн, — я знаю твое желание. Тебе хочется уйти от нас, посмотреть, как живут другие люди. Ты хочешь убежать от меня, парень.
Ланжеро отвернулся. Он не любил этого человека, не понимал.
— Парень, сядь ближе. Может быть, я твой друг.
Ланжеро отодвинулся. В зимнике было тихо. В углу спали жены Низюна, две хозяйки, толстая и тощая. На собачьем столике стояла еда. Висело ружье. Ызь следил за взглядом Ланжеро.
— Возьми, — сказал он, — это теперь твое ружье.
Ланжеро не взял.
— Парень, — сказал Низюн, — я люблю свой народ. Лететь на собаках, ловить рыбу, видеть небо, мять бабу — вот это жизнь! Я люблю жизнь, парень. Бить зверя и ломать врага — я люблю. Мне надоело обижать людей. Я прошу тебя, убей меня, парень. Возьми ружье.
Ланжеро прислушался. Выла собака.
— Это моя смерть. Что же ты стоишь, парень, убивай.
Ланжеро отскочил. Перед ним сидел плохой человек, с косым взглядом и откушенным пальцем.
— Ударь меня, друг, — сказал этот человек.
Ланжеро ударил.
— Вот как? Бьешь? — удивился Низюн. Глаза его сузились, стали собачьими. — Бьешь, — прошептал Низюн.
И вдруг вскочил, прыгнул через огонь, распахнул дверь и выскочил на мороз неодетый.
— Старики, на помощь! — вскричал он.
Стойбище выбежало.
— Старики, он метил в меня. Он хотел меня застрелить. Видите кровь? Это моя кровь. Это он меня ударил.
Старики бросились на Ланжеро.
— Назад! — крикнул Низюн. — Не трогать. Пусть он живет. Вот я какой. Отпустите его. Пусть он ест и пусть пьет. Он хочет моря и птиц. Он любит небо и то, что далеко. Дайте ему все, что он хочет. Дайте ему небо. Дайте ему реку. Он хочет девушку. Отдайте ему свою дочь. Он хочет идти. Пусть идет. Дайте ему. Вот я какой. Старики, возьмите моих собак и отдайте ему.
Ланжеро пошел. Отойдя немного, он остановился и крикнул:
— Я вернусь еще, Низюн!
Глава шестая
Ланжеро услышал в тайге песню. Пела женщина. Между Ланжеро и женщиной было болото, сваленные бурей деревья, стланик, ночь.
Песня то была слева, то слышалась справа. Ланжеро шел на песню, как на огонь.
Огонь мелькнул и исчез, не то маленькое окно посреди леса, не то большая звезда среди ветвей. Оттуда слышалась песня. Где-то близко кого-то ждала девушка.
«Может быть, меня», — подумал Ланжеро.
Ланжеро обрадовался человеку. Месяц он жил без людей, среди стланика, птиц и звезд.
Тело его стало словно чужим, руки высохли, казалось стали длиннее, ноги высохли, он стал легким, шатался, но шаг его стал мелким, трудным, точно не он, Ланжеро, шел, а вместо него шел Чевгун-старший.
Хоть бы встретить человека, тронуть его, взять его руку в свою руку, даже если это и лихой человек, пусть даже это Низюн. Хоть бы услышать слово, одно человеческое слово, в чаще, в ветвях, в прошлогодней траве.
Ланжеро шел на песню. Девушка — это не только женщина, но и человек, но и жизнь.
Там мигало окно. Это мигала жизнь.
Песни уже не было слышно. Ланжеро остановился. Ему казалось, что сейчас потухнет звезда между ветвей, окно в лесу. Шатаясь, он стоял, держась рукой за молодое дерево.
Песни не было. Может, она почудилась. Ланжеро упал лицом в прошлогоднюю траву. Хотел встать, но не мог.
Он пополз.
Была ночь. Может быть, это уже другая ночь. Он полз, хватаясь за траву, за корни, за ветки стланика, натыкаясь на камни, ударяясь о пни, проваливаясь и вновь подымаясь. В одном месте он задел локтем что-то живое и теплое. Разбуженная куропатка выскочила из травы, ударив его крылом. В другом месте он провалился в ключ, покрытый непрочным льдом.
Казалось, что все его чувства уснули.
Вдруг песня разбудила его. Слов он не понял. Лучше бы совсем не было слов.
Девушка кого-то звала. Ясно, что она его звала.
«Я здесь», — хотел крикнуть Ланжеро.
Ветер поднял сухие листья и наполнил Ланжеро рот.
Когда Ланжеро встал, он увидел дома. Они были рядом — длинные дома. Окна темнели. Но в одном доме не спали, светило большое окно. Ланжеро подумал: сейчас он ее увидит.
Дверь распахнулась: упал свет, в дверях был дым, слышен был смех.
Песня жила в этом доме. Сейчас он откроет дверь и войдет. Но у порога он остановился, словно у него не было сил открыть дверь. Он стоял на крыльце. Из тайги дул ветер. Пахло мхом, лиственницами и безлюдьем. В окно были видны люди, все до одного парни. Девушки не было видно. Но дом был наполнен песней. Девушка, должно быть, жила в другой половине дома, за стеной.
Ланжеро распахнул дверь и, шатаясь, вошел.
— Люди… — сказал он.
Больше у него не было слов.
Парни встали.
— Гость, никак, с того света.
— Отойди-ка ты, Омелькин.
К Ланжеро подошел краснолицый парень.
— Держись за меня, — сказал он. — Вот так.
— Веди его сюда, Воробей.
Парни окружили Ланжеро, подвели его к столу, сняли с него мешок и стали стаскивать обледенелые торбаза. Их руки коснулись его, дотронулись до его спины, до его плеч, это были грубые, ласковые руки. Но Ланжеро смотрел мимо них, оглядывался, словно кого-то искал. Песня наполняла комнату, голос девушки был здесь, но девушки здесь не было, ни одной женщины, даже старухи.
— Здесь кто-то есть, — сказал Ланжеро.
Парни на него посмотрели.
— Что-то ее не видать.
Парни его сначала не поняли.
— Где она? — спросил Ланжеро. — Песня ее здесь.
Парни расхохотались.
Тот, которого звали Омелькиным, принес вещь, вроде ящика. В ящике жил голос. И Ланжеро понял, что девушки здесь нет, может, даже она умерла, что здесь только один голос, песня отделена от девушки, что это всего-навсего дерево и еще что-то, просто-напросто вещь.
Отчаянье вдруг вернулось к нему, будто здесь tie было людей, точно он был один среди звезд, и он отодвинул от себя вещь и заплакал, плакал он тихо, и вместе с отчаяньем; он чувствовал и радость, — он жив, рядом люди, их много, и девушку, хозяйку голоса, он найдет.
Ланжеро проснулся. Вместо неба был потолок. Ланжеро вытянул руку и дотронулся — теплая деревянная стена.
Он лежал среди людей. Люди спали. Он дотронулся до них, — да, это были люди.
Как хорошо лежать и думать, медленно думать.
«Вот я здесь поживу, — думал Ланжеро. — Посмотрю и пойду дальше. Что там дальше?»
Он поднялся, осторожно перешагнул через спящих, распахнул дверь и вышел под звезды.
Ветви покачивались, ночь шла, ветер шумел, как река. Ланжеро шел в сторону ветра. Он увидел большую просеку, русло ветра. Стояли пни. Лежали срубленные деревья. Их было много. Ланжеро шел, но просеке, казалось, не было конца.
Когда он вернулся, дома ожили, люди бежали, что-то крича на ходу. В руках у них были пилы, топоры.
Ланжеро стоял; казалось, о нем забыли. Дома были пусты.
Все ушли.
Он пошел туда, куда ушли они.
Глава седьмая
Никогда еще Ланжеро не видел так много людей. И люди были все в штанах — одни парни; ни женщины, ни ребенка, ни старухи, ни старика.
Должно быть, приходила сюда беда; вымерли все дети и старики, девушки и старушки. Вот беда так беда.
Ланжеро остановился возле маленькой речки. По ту сторону речки стоял длинный парень, что-то насвистывая. Парень смотрел на Ланжеро. Ланжеро глядел на парня. Долго они так стояли, и обоим стало смешно. Ланжеро перескочил через речку и, протянув руку, дотронулся до парня.
— Что ты меня трогаешь? — спросил парень. — Не видел, что ли?
— Удивляюсь, — сказал Ланжеро. — К человеку привыкаю. Давно людей не видал.
— Привыкаешь? — сказал парень. — Привыкай, привыкай.
Ланжеро сел па пень возле парня, достал кисет из беличьей кожи, трубку и, закурив, спросил:
— Мамка твоя где?
Парень усмехнулся.
— Нет у меня мамки.
Тогда Ланжеро спросил:
— Где твоя сынка?
Парень рассмеялся.
— И сына тоже нет. Еще не родил.
Тогда Ланжеро спросил:
— Есть ли у тебя отец?
— Имеется, — ответил парень. — В городе Улан-Удэ, далеко.
Тогда Ланжеро спросил:
— Как называется это стойбище?
— Какое же это стойбище? — ответил парень. — Это комсомольский леспромхоз. Лесорубы мы. И ты тоже будешь лесоруб.
Тогда Ланжеро спросил парня:
— А как ты называешься?
— Называют меня Мишей, — ответил парень. — А фамилия у меня горбатая, хотя горбатых в родне нет. Горбунов я, а ты кто?
— Я Ланжеро.
— А по батюшке?
Ланжеро молчал, он не понял. Парень понял, почему Ланжеро молчал.
— А по отцу как? Есть же имя у твоего отца?
— Отца зовут Водка.
— А мать спирт, — добавил парень, — а сестра поллитровка, а дядя спотыкач. Славная фамилия.
Ланжеро растерялся от всех этих слов.
— Значит, Ланжеро Водкович Пивоваров. Очень рад. А я Михаил Сергеич. Есть у нас еще один Мишка. Так он директор, а я нет.
— Мих… Мих, Михаил Сергевич. — Ланжеро чуть не захлебнулся, едва выговорил.
Парень подмигнул.
— Что ж так весело зовут твоего папашку? Пьет?
Ланжеро понял.
— Нет. Купец один крестил. Купец дал имя. Купец был из ваших.
— Из наших? Нет среди нас купцов. Мы комсомол. Знаешь такое слово, нет?
— Слыхал.
— Из ваших, — парень повторил это; он, казалось, на что-то рассердился.
Прыгнул через ручей, но поскользнулся, чуть не провалился, — лед был тонкий.
— Из ваших, — ворчал парень. — А что он имеет в виду?
Парень крикнул громко, как будто он стоял на другом берегу не ручья, а большой реки.
— Эй! Слышь! Как тебя? Я намеков не принимаю. Мало еще жил, чтоб меня учить. Понял?
— Не знаю, — сказал Ланжеро, — я так.
— Ну и хорошо, что так.
Парень посмотрел на Ланжеро и расхохотался. Ланжеро посмотрел на парня и тоже расхохотался.
Они стояли — один на левом, другой на правом берегу зимнего ручья — и смеялись.
Парень поманил Ланжеро пальцем и спросил его тихо:
— А ну-ка, признайся, Водкович, выпивать — выпиваешь? Пьешь?
— Не знаю, — сказал Ланжеро.
— Надо знать.
Парень дал Ланжеро пилу, себе оставил топор.
— Вот что, — сказал он, — не пей. И приглашать будут — не ходи. Ну как, значит, друзья?
Он протянул свою большую руку. Ланжеро пожал эту руку.
— Однако, — сказал он, — может быть, и друзья.
Ланжеро привык здесь поздно ложиться, рано вставать, спать под простыней.
Ко многому привык Ланжеро. Он привык не плевать на пол, ходить прямо — потолок был высок, — мыть пол, подметать, выполнять женскую работу, два раза в день мыться, но к одному он еще не мог привыкнуть — почему у него так много друзей?
«Птица, — думал он, — рябчик или какая другая, когда садится на ветку, садится не одна, с ней садятся другие птицы — ее друзья. Рыба, кета или горбуша, когда идет в реке, поднимается метать икру, она поднимается не одна, — с ней поднимаются ее друзья, поднимая волны. Когда я иду рубить деревья, лес может испугаться, вот сколько идет нас, это идут мои друзья. Вот сколько у меня друзей».
Друзья эти были насмешники. Виноват был сам Ланжеро, зачем он принял вещь, патефон, за девушку. Смеялись они также над косой.
— Сам ты девушка, — говорили они Ланжеро. — У нас только школьницы ходят с косой.
Ну и пусть ходят! Ланжеро не отрежет косу. Ему коса не мешает, — разве она мешает им?
Кика и Кока Прыгуновы, два брата, сказали, что они тоже хотят отрастить косу.
— Зачем?
— С косой оригинальней.
Кика и Кока были не просто ребята, они были артисты, смешные люди. Ребята объяснили Ланжеро, что это за люди такие — артисты.
Ланжеро, хитрый, усмехнулся.
— У нас тоже был артист, — сказал он.
— Кто?
— Шаман.
Глава восьмая
В каждом бараке жила своя песня.
В том бараке, где жил Чижов, была грустная песня. В том бараке, где была пекарня, жила густая песня, эта песня пахла дымом, пахла хлебом. В том бараке, где ночевал Омелькин, жила разухабистая, хриплая, простуженная песня, словно не песня, а скачущий конь.
Веселая песня жила в том месте, где был Воробей.
Ланжеро сидел у окна. За окном была ночь, полная звезд и деревьев. Где-то началась песня. Она шла от барака к бараку. Песня налетала на песню.
И вот среди множества песен остались только две песни: грустная песня Чижова и Воробья — веселая песня.
В бараках светились окна. А там дальше стоял лес, белела река, и еще дальше было море.
И вот снова запели все бараки.
В пекарне стоял у дверей и пел пекарь. В конюшне пели конюхи, возле коней. В домах пели лесорубы.
Ланжеро сидел у окна. Вдруг он увидел — кто-то выбежал на поляну, где стояли лиственницы, и начал плясать. Он плясал посреди деревьев и звезд, возле гор, недалеко от речки. Может, оттого казался он выше.
«Кто же это? Неужели Воробей?»
А человек плясал посреди ночи, он словно хотел слиться с этими сопками, с этой замерзшей рекой, с этим небом, похожим на воду, полную звезд.
Ланжеро думал: завтра лесорубы откроют сундучки и достанут черные и желтые узкие штиблеты, положат штаны на стол и будут водить по сукну железной горячей штучкой, как они говорят — «гладить», те, у кого есть бороды, будут брить друг друга. Завтра большой праздник: выходной день.
В каждом бараке жила своя песня.
Песня шла из барака в барак и становилась все тише и тише. Один за другим погасли огни в окнах.
Еще в бараке Омелькина гудела мужская, грубая, одинокая песня.
И вдруг запела девушка. Казалось, на свете никого больше не было, кроме Ланжеро и этой девушки.
Ланжеро потушил лампу и в темноте усмехнулся.
— В этих краях нет ни одной девушки, — сказал он себе, — это не девушка, а ящик.
Он долго ворочался, хотел вспомнить это слово; перед тем, как заснул, он вспомнил его — патефон.
Утром к Ланжеро пришел Воробей.
— Вставай, — сказал он, — коли проснулся. Сны снились?
— Черт его знает, — ответил Ланжеро и засмеялся. — Как из дому ушел, не снилось ни одного сна.
— А мне чушь снится, — сказал Воробей. — Квартирки снятся. Снится удобство. У нас там, на материке, слово такое есть: «маменькин сынок», худых людей так называют. Так мне, вот как маменькиному сынку, сны стали легонькие сниться.
— Почему у вас худых людей так называют — мамкин сынок? — спросил Ланжеро.
— Ну, одевайся, Ланжеро, мы сейчас пойдем пить чай, а потом…
— А что это за праздник у вас — в честь какого бога?
— В честь бога отдыха. У нас каждую шестидневку праздник.
Из столовой Ланжеро и Воробей пошли на речку, здесь лесорубы носились по льду, как маленькие дети, на ногах у них были железные штучки вроде ножей, ногами лесорубы делали разные фигуры. В обычное рабочее время, когда ноги исполняют свою однообразную работу — ходят, ни за что не подумаешь, что в человеческих ногах спрятано столько ловкости. Ланжеро любил ловкость.
— Зачем вы это речку ногами режете?
— А что, ей разве больно, речке?
Ланжеро самому хотелось побегать, но он почему-то стеснялся, боялся, вдруг его ноги окажутся неловкими и он, вместо того чтобы бежать, поскользнется и свалится под общий смех. Но под конец он не выдержал, подошел к Воробью, который сидел на берегу и снимал коньки.
— Что, хочешь покататься?
— Да, однако. Однако я хочу испытать свои ноги.
— Надевай.
Когда Ланжеро выбежал на лед, ему показалось, что он не на ровном месте, а на горе, что сейчас он слетит.
Лесорубы смотрели на него и подбадривали.
Но Ланжеро не упал, он выпрямился, ноги его побежали, они бежали сами; он выбежал на середину реки и летел как птица, ветер дул ему в лицо, а он все летел; когда он оглянулся, лесорубы были едва видны, впереди белело море, замерзшие волны, впереди зеленело небо. Ланжеро бежал, все вперед и вперед.
Возвратился он вечером. Первый, кого он встретил, был Омелькин.
— Мы уже думали, — сказал Омелькин, — что ты убежишь от нас совсем.
Как-то Воробей разговорился с Ланжеро. Он сделал это ловко, «по-воробьиному», начал издалека.
Ланжеро сказал Воробью, что он, пожалуй, задержится в леспромхозе недолго, поживет и уйдет.
— Куда? — заинтересовался Воробей.
— Известно куда, — рассмеялся Ланжеро.
— А все же?
— Дальше. Туда, где еще не был, посмотреть то, чего еще не видал.
Воробью это понравилось.
— Я в стране Австралии, — сказал он, — еще не бывал. И в Индии не бывал. Когда я беспризорничал, меня ребята раз надули. Я у буксы под вагоном ехал. Ребята мне и говорят: «Давай, говорят, в Индию поедем». Я им говорю: «Чего в Индии не видал?» Они говорят: «Слона не видал». — «Врешь, — говорю я, — я слону чуть хвостик перочинным ножиком не оттяпал. Ладно, сторож увидал меня, за ухо вывел». — «Врешь, говорят, слону хвост и трамваем не перерубить». Едем под вагоном. Думал, в Индию едем, а приехали в Конотоп. На что я тебе рассказываю?.. Тебе сначала нужно объяснить, что такое слон, потом — что такое Конотоп, потом — что такое Индия. А что такое Индия, я и сам не так давно узнал. Так вот, Ланжеро, я нашу страну исходил всю. На Камчатке только не был.
— Что ж, пойдем. Вдвоем идти лучше.
Воробей расхохотался.
— Какой прыткий, — сказал он, — оставайся у нас. Ты нам пригодишься. И мы тебе тоже скоро понадобимся.
— Вы — другое дело. А я вам зачем?
— Увидишь.
Ланжеро помолчал.
— Человек, — сказал он, — однако, не должен сидеть на одном месте. Река — и та куда-то спешит, белка — и та прыгает с ветки на ветку, все выше и выше.
— О, да ты философ, — сказал Воробей. — Оставайся рубить с нами деревья. Зачем тебе далеко ходить, ты и отсюда можешь увидеть, что там дальше, за тысячи верст и за сотни лет.
— Машина такая есть?
— Нет, на этот раз обошлось без машины.
В комнате, в которой происходил этот разговор, стоял широкий, пахнувший свежим деревом книжный шкаф, — клубная библиотека.
— Вот тут, — сказал Воробей, лукаво улыбаясь, — здесь и стоят разные страны, как в аптеке. Что хочешь: люди, звери, нездешние моря, города, от которых осталась одна пыль. Есть даже такие растения, цветы, что ли, а жрут как звери, стервы. Поймают муху и сожрут. Не слыхал? Есть полузвери-полуптицы — кладут яйца, как куры. Откровенно признаюсь, яиц этих я не едал. На деревьях растут ягоды с твою голову, фрукты. Что касается людей — они бывают разного цвета, есть черного цвета, есть красного цвета. Краснокожие — это дальние твои родственники, Ланжеро. Профессор Штернберг говорит, что вы, гиляки, приехали на Сахалин из Америки на большой льдине. Знаешь, о чем я жалею, Ланжеро: что есть люди разные — белые, черные, желтые, — а вот голубых нет. Природа цветом человека обидела: всего три цвета. Так вот, когда-то по земле ходили звери вот с эту гору. Я не вру.
— Мне доктор Иван Павлович, — сказал Ланжеро, — читал как-то книгу. Но тут — что видали другие, а я хочу сам поглядеть.
— А ты научись читать, тогда мы с тобой философствовать будем.
— Я понимаю, что это, — сказал Ланжеро, — но понимаю мало — чуть-чуть. Вы отделили песню от человека, отрезали голос от девушки. Песня живет в ящике. Здесь вы отобрали мысль. Разговор живет, а человека-то, может, и нет. Он умер, может.
— Нет, не понимаешь ты этого. Не обижали мы твою девушку, и человека тоже. Мы, Ланжеро, за человека. Человек — это все. Смотри сюда!
Воробей вынул из бокового кармана записную книжку, перетянутую резинкой, в книжке лежали разные бумажки, на пол из книжки выпала маленькая пятиминутная фотография.
Воробей поднял ее.
— Посмотри, — сказал он гиляку.
Ланжеро взглянул. На фотографии, на этом кусочке жесткой бумаги, жило смеющееся лицо девушки с прищуренными глазами. Никогда еще Ланжеро не видел такой девушки. Ему было обидно, что это не девушка была, а кусок бумаги. Ему хотелось, чтобы эта девушка была здесь, в комнате, чтобы она здесь жила.
Ланжеро неохотно возвратил фотографию Воробью.
— Кто это?
— Сестренка. Я ее давно уже не видел. Она учится в Москве, в институте имени Губкина. На последнем курсе.
— Она жива?
— Конечно, жива. В ней жизни хватит на десять девушек. Это же фотография. С нее взяли три целковых и сняли где-нибудь в Москве на улице. Она от этого не пострадала. Так сняли и голос девушки, о которой ты говорил. Хочешь, я и тебя сниму.
— У нас Низюн есть, — сказал Ланжеро. — Ызь по-нашему, по-вашему — хозяин. У него ничего не пропадает. Юкола по десять лет висит. Вот и вы тоже. Песню посолили и спрятали. Тоже рассказ чужой. У нас есть старик Чевгун-старший. Сто один год ему. Он видел первого русского человека, приехавшего на остров. А он умрет, и вместе с ним умрет все, что он видал.
— Вот, вот, — обрадовался Воробей, — мы начинаем говорить на одном языке.
Молчание.
— Хочешь писать книги? — спросил Воробей и подмигнул. — У нас писателями таких называют.
— Нет, пожалуй, — ответил Ланжеро, — пожалуй, не хочу.
Он думал о девушке, лицо которой только что видел. Оно теперь было в записной книжке, в боковом кармане Воробья. Ланжеро бы еще посмотрел на это лицо.
«Пожалуй, я хотел бы тем быть, который снимал девушку», — подумал про себя Ланжеро.
На одном из производственных совещаний среди других вопросов стоял вопрос и о Ланжеро.
На совещании присутствовали комсомольцы, люди многих профессий. Были здесь и Кешка-моторист, и бригадир Новиков, и конюхи, и откатчики. В дверях, сложив на животе руки, стоял толстомордый парень в белом фартуке, на руках его было засохшее тесто.
Позже всех пришел Омелькин. Он шлепнул ладонью парня в фартуке по самому его толстому месту.
— И вечно ты обманываешь меня! — сказал он. — Каждый раз я принимаю тебя за бабу. Ажно дрожь пробежит по телу. Так давно не стоял возле бабы.
Лесорубы захохотали.
— Его, видно, из женского теста лепили.
— К порядку! — постучал об стол Воробей.
— Какой порядок, когда третий год без баб.
— Так и быть, Омелькин, выпишем мы тебе бабу.
— Мне одной бабы мало.
— К делу! — повторил Воробей.
— Какое тут дело, когда ночью такие сны снятся.
— Я тебе не давал слова, Омелькин.
— Какое тут слово…
— Довольно, Омелькин… — закричали лесорубы. — Хватит жеребячиться, не в конюшне!
Когда были разрешены все вопросы, Воробей взял слово по вопросу о Ланжеро.
— Человек этот, — показал Воробей на Ланжеро, — делегат другого тысячелетия. Скажете: загнул. Дело не в этом. Нам его из первого века надо перетащить в наш, в комсомольский. Правильно говорю? Нужно ему все показать, все отрасли производства, чтобы он мог себе выбрать профессию по душе.
Ребята согласились с Воробьем. Между собой они долго спорили, с чего должен Ланжеро начать.
Кешка-моторист настаивал, чтобы Ланжеро ознакомился сначала с техникой, постоял у мотора.
Конюхи настаивали на том, что должен он пройти через конюшню, начать с коня.
Спор продолжался долго.
Ланжеро проголодался. От парня в фартуке пахло свежим хлебом.
— От тебя вкусно пахнет, — сказал он парню в белом фартуке. — Нет ли у тебя с собой хлеба?
— Идем! — позвал парень в фартуке. — Я дам. Я тебя накормлю.
Так оно и произошло само собой, что Ланжеро начал свое восхождение от первого к двадцатому веку не от машины и не через конюшню, а через пекарню, где пахло жаром из печей и мукой.
Тесто, огромное, пышное, мягкое, живое, обрадовало руки Ланжеро.
Ланжеро вылепил из теста оленя, маленького кита и нерпу возле большого камня.
Парень, в белом фартуке улыбнулся и, схватив из кадки большой кусок теста, бросил его на стол и стал его бить, подкидывать, мять.
— Ты мне оленей не лепи, — сказал он, — валяй, брат, хлеб.
И Ланжеро начал под руководством парня кидать об стол, бить, мять, подкидывать кусок теста, борясь с желанием придать ему какую-нибудь форму.
— Тесто, — сказал он как-то парню в белом фартуке, — как твое лицо расплывчатое. Так и хочется из него что-нибудь вылепить.
— Как? — удивился парень в фартуке. — И ты тоже надо мной насмехаешься?
— Да нет, я не смеюсь.
— То-то, — сказал парень. — А то лесорубы надо мной насмехаются. Подумаешь, только и знают, машут топором. А без меня дня не проживут, без моего хлеба. А ты и в самом деле не смеялся?
— Да нет, нет.
Идя по поселку, Ланжеро боялся, что встретится с Воробьем. Там, у Воробья в записной книжке, перетянутой резинкой, в боковом кармане тужурки, находится смеющееся лицо девушки с прищуренными глазами, — видно, ей в глаза попало солнце. Ланжеро еще раз хотелось взглянуть на эту девушку, потому-то он и не хотел встречаться с Воробьем.
Глава девятая
В поселок приходили письма, правда, довольно редко. Это был большой день, когда приходили письма.
Письма получали все, кроме Ланжеро и еще одного парня. Парня этого звали Чижов.
Чижов был очень странный парень. Ланжеро это сразу заметил. И держался он не так, как другие, а все в стороне, все один.
Ланжеро подошел к нему.
— Давай поговорим, — сказал Ланжеро, — хочешь, я тебе скажу, о чем я думаю.
— Не хочу, — ответил Чижов, — дума — не разговор. Она любит, чтобы человек один на один с ней находился.
Ланжеро улыбнулся.
— Вот я и хотел тебе это сказать. Я смотрю на тебя и вижу — ты думаешь. Я тоже люблю думать.
— Ну, что ж, — сказал Чижов и усмехнулся, — давай думать вместе.
Он снял скрипку, висевшую на стене, и тихо провел смычком.
Ланжеро показалось, что подул ветерок, где-то закричала река, словно сон.
«Вот дождь и звезда, — думал он. — Вот птица. Эта птица заблудилась в ветре. Вот олень. Он проснулся. В воду упала большая звезда».
Скрипка, вещь эта, она была словно сделана из человека. Она кричала, как человек. Ей было больно. Удивительный парень этот Чижов, он играл то, о чем Ланжеро думал, о девушке, голос которой сейчас молчит, о девушке, которая сейчас в Москве, песня ее в ящике, а лицо в кармане у Воробья спрятано вместе с записной книжкой — не лицо, а отражение лица. Ланжеро стало грустно.
Песня подружила Ланжеро с Чижовым. У Чижова все было не так. У других были родные и друзья, у Чижова не было никого. В комнате его было пусто. Стены были осенние, грустные и весной, и зимой, и летом.
Лесорубы не любили его скрипки.
— Душу тянешь, — говорили они, — душа не резина.
Вместо приветствия лесорубы кричали ему:
— Грустишь? Не надоело еще?
— А что, разве запрещено?
— Осень у тебя в инструменте. Хуже зимы. А ты солнцем бы нас порадовал.
— Бывает и с солнцем. Солнце — и то грустит. Особенно наше сахалинское солнце.
Однажды ночью Ланжеро вскочил. Ему приснилась девушка, та, которая пела. Она сидела над водой у реки, лицо ее было смеющееся, а глаза прищурены, словно туда попало солнце.
Ланжеро не спалось. Он подошел к патефону и завел. Запела девушка. Парни проснулись. Кто-то из них запустил в него подушкой.
Придя с работы, Ланжеро разобрал патефон, оклеил внутри ящик. И голос девушки стал еще ярче, еще громче, еще ближе.
— Где же она? В Москве? Далеко ли Москва?
Глава десятая
Зима в этом году застряла в тайге, весна опоздала на месяц, уж давно было пора зиме уходить, а она все сидела как наседка.
— Хоть бы ты, как будущий комиссар погоды, — обращались к Воробью лесорубы, — хоть бы ты ей намекнул.
Весна пришла внезапно вместе с летом, вместе с птицами.
Ночью лесорубы проснулись. Казалось, гремел гром. Этот гром был низко, где-то справа, не на небе, а на земле.
Лесорубы выскочили. Что-то рухнуло. Уж не гора ли? Те, что выбежали первыми, увидели, что с рекой творится что-то неладное. Река разорвала лед. Она выскочила из берегов и обрушилась на сопки.
— Что это с небом? — спросил кто-то из лесорубов.
Небо падало. Казалось, оно было уже не выше деревьев.
— Черт побери, да это гуси!
Гуси покрыли лес, луг, гору, садились на дома, чуть ли не на людей.
— Должно быть, летят на полуостров Шмидта, — сказал Омелькин, — говорят, там от птиц спасу нет.
Но вот стая гусей поднялась. От шума хлопающих крыльев не стало слышно реки.
Сверху открылось небо, снизу море. Утреннее солнце было закрыто гусями. Из лесу ветер принес запах талого снега и оживших деревьев.
Лесорубы вздохнули.
— Красота! — задумчиво сказал Воробей.
Весна пришла с теплом, но без солнца, не с юга, а с востока, весна пришла с дождями.
Случилось одно событие, не слишком приятное, почти беда.
— Беда эта поправимая, — говорил Воробей. — Ребята, все на ликвидацию прорыва! Река выкинула номер. Объявляю аврал.
От больших дождей земля осела, река поднялась. Все превратилось в болото: берег, лес, дорога; болото превратилось в озеро, в озере стояла гора, деревья торчали из воды.
— Вот и руби их!
— Погодка. Не дождь, а душ!
— В бога, в душу!
— Лодку дай нам. Без лодки к дереву не подступись.
— Я пароход вам выпишу по почте.
Кто шутил, а кто и хныкал, ворчал.
— Соловьи, чертово племя, нытики, спасай лес!
— А нас кто будет спасать?
Озеро становилось все шире и шире, оно подползало к поселку, слева — озеро, справа — река.
— А наверху море, — шутил Мишка Горбунов.
— Нет, болото, — возражал Кешка-моторист, — разве небо такое бывает?
— Нам не летать.
Уже многие дома, как птицы, сидели в воде.
— Ляжем здесь, — шутили лесорубы, — а проснемся где? Может быть, на Курильских островах.
— А наши острова в честь кого наименовать? Мы тоже островитяне.
— Острова имени Кольки Воробья.
— Что ж, — согласился Воробей. — Я не отказываюсь. Есть же Воробьевы горы, пусть будут Воробьевы острова.
Ребята отшучивались, валялись в постели, кое-кто притворялся спящим.
Среди них стоял Воробей в высоких резиновых сапогах, в шапке и с топором в руке.
— Что же, это в качестве воздействия? — показывали лесорубы на топор.
— Вставай! Вставай! Довольно отшучиваться. Прием устарелый, — тормошил комсомольцев Воробей. — Ну, выходи на субботник.
— Не выходи, а выплывай.
Лесорубы «выплыли», вышли все. Последним показался Омелькин. Лесорубы поеживались от сырости и от холода.
— Вспомните, когда мы ночевали у костра, жили в обледенелой палатке. Эй, веселей!
— Веселей не выходит.
— Что за сопливая весна. Весенняя осень.
— Осенняя весна.
— Что музыка! Как скрипка Чижова!
Чижов стоял тут же.
— Оркестр бы сюда!
Воробей засуетился.
— Даю слово, ребята, выпишу инструменты
— Скоро?
— На будущий год.
Все захохотали.
— Музыку бы, — не унимался Омелькин.
— Чижова! — крикнул кто-то.
— Чижов, тащи свою музыку. Используй момент.
Чижов сбегал за скрипкой. Он заиграл что-то, и до того грустное, до того не подходящее к случаю, что всем стало весело и смешно.
— Это он отпевает будущих утопленников.
Мишка Горбунов, так тот не выдержал, пустился в пляс в воде.
— Что, уже укачало? — сказали ему Прыгуновы. — Уже опрокинул, успел?
Солнце выскочило пугливо, как заяц, смешное, выскочило и скрылось опять.
— Даже солнце — и то побоялось твоей музыки, взгрустнуло.
— Друг, — сказал Чижову Воробей, — бросай скрипку, бери топор.
Лесорубы запели песню и пошли в тайгу с песней, как в бой.
В этот день ребята возвратились все в грязи, в траве, в листьях, словно были вылеплены из земли, из болота и кочек. В этот раз озеро было уничтожено, отведено, сброшено в долину.
Река ревела, стерва, злилась.
У Ланжеро ныли плечи сладко, сонно болели ноги, слипались веки. Спать, спать… До чего хорошо спать после такого дня!
Глава одиннадцатая
Однажды вечером в пекарню ворвался Воробей.
— Идем! Идем! — сказал он Ланжеро.
Ланжеро стоял у стола с решетом в руках. Сеял муку.
— Решето-то здесь оставь. И фартук снимай. Там тебе фартук не понадобится.
Парень в белом фартуке стоял возле открытой печи, держа лопату, на лопате лежал хлеб.
— Куда? — спросил он. — Куда ты его зовешь? А кто месить тесто будет?
— Ладно, не слушай его, Ланжеро. Идем! Не пекаря же мы из тебя хотим сделать.
Парень в белом фартуке от неожиданности опешил.
— Как, ты от меня совсем его отбираешь? Хочешь меня без помощника оставить?
— Дам я тебе помощника.
— Кого?
— Омелькина.
— Да я… — парень выронил из рук лопату, — я решу себя. В квашне утоплюсь, в тесто себя запеку. Я хлебы вам сожгу. Я не знаю, что сделаю…
— За вредительство отдам под суд. За самоубийство выгоню из организации.
Парень в белом фартуке снял с табуретки кадку с тестом, фартуком смел с сиденья муку.
— Садись, — сказал он Воробью. — Пирожки испытай. Я сейчас пирожки по-новому делаю.
— Некогда. В другой раз. Идем, Ланжеро!
— Подожди. Я хотел сказать… Не бери от меня Ланжеро. Я его еще пирожному делу не воспитал. Повремени немножко. Дай передать человеку опыт.
— Омелькину передашь. Идем, Ланжеро.
Парень в белом фартуке, грустный, стоял в дверях.
Воробей оглянулся и крикнул весело парню:
— Насчет Омелькина не бойся. Не пошлю Омелькина. Другого…
Парень в белом фартуке крикнул им вслед:
— Ланжеро сам ко мне вернется. Правда, Ланжеро?
Воробей привел Ланжеро к завхозу.
— Слышь, Сапогов, — сказал Воробей, — выбери ему самого классного коня.
— Кого же ему дать? Разве гнедого?
— Дай гнедого.
Когда Ланжеро получил лошадь, он вспомнил Низюна. Ему дали лошадь с упряжью, с телегой. Ланжеро растерялся. Из домашних животных ему приходилось иметь дело только с собакой, ездить на собаках, кормить собак.
— Это тебе не сучка, — сказал ему завхоз, старообразный, бородатый парень, держа под уздцы коня, — это тебе не олень какой-то паршивый. Я тебе не клячу вручаю. На этом коне Воробей выдвинулся. Это его Гнедко. Смотри не сбей ему холку. Супонить будешь — щади. Ты забудь, что это животное. Это личный друг Воробья. Если что случится с ним, я тебе враг. Понял?
С тех пор Ланжеро стал возчиком, возил лес.
— С конем совладаешь, — встретил его как-то Воробей, — я допущу тебя к машине. Это, так сказать, экзамен. Ну, езжай. Что стоишь? Езжай.
— Я так думаю, — сказал Ланжеро, — конь оленю брат. Он, должно быть, в лесах, как олень, бегал. Как он только дал себя человеку взять?
Воробей расхохотался.
— Чудак ты! Да нет такого зверя, что человеку бы не подчинился. Ну, езжай, некогда, езжай.
Конь, это тихое, покорное животное с длинной мордой, гиляку не нравился. Что из того, что он Гнедко? Собаки были лучше. Только не сдвинуть, не поднять столько собакам, сколько шутя вез на себе этот конь.
По ровной дороге везти бревна было не так трудно. Конь шел, колеса крутились, а рядом шел Ланжеро и смотрел по сторонам. Но ровной дороги был небольшой кусок — километра два, не больше. Дальше начинались бугры, горы, ямы, болото, пни. Конь то и дело останавливался.
— Tax! Tax! — кричал на него, как на собак, Ланжеро.
— Да не тах, тах, а но-о! Кричи ему: но-о! Он по-гиляцки не понимает. Понукай его! — советовали лесорубы.
Конь взбирался на гору, напряженно перебирая ногами. А тут, как на грех, попался навстречу бородатый парень, завхоз.
— Эх! — сказал он. — Замучил ты моего гнедого, навьючил. Кто же накладывает столько?
Ланжеро молчал.
Подняться на гору — это еще полбеды, тяжело спуститься. Гора ползла вниз, размокшая глина втягивала и не выпускала колеса. Конь поскользнулся и упал.
— Погубил ты мне коня, — сказал завхоз.
Гнедко лежал, подогнув под себя задние ноги и пытаясь подняться.
— Ну, что стал? — Перед Ланжеро стоял завхоз с таким видом, словно хотел его ударить. — Склад знаешь? Там меня конюхи ждут. Иди, отпусти за меня овес. Я за тебя свезу.
Ланжеро взглянул на завхоза и подумал: «Побриться бы ему надо, борода, как у айна. Такую бороду топором рубить — не отрубить».
— Ну, что уставился?
Ланжеро усмехнулся прямо в лицо этому человеку.
— Не выйдет, — сказал Ланжеро. Ему очень нравилось это слово: «не выйдет». Он слышал его от лесорубов.
— То есть как не выйдет?
— Сам справлюсь как-нибудь. Пожалуй.
— А я где? Думаешь, я буду спокойно смотреть на это убийство. Думаешь, я позволю… Думаешь, я…
— Ничего я не думаю.
Ланжеро распряг коня, помог ему встать. Завхоз схватил коня за недоуздок.
— Отдавай коня!
— Не отдам коня.
— То есть как не отдашь коня?
— Не отдам коня.
— Идем к Воробью.
— Идем!
У Воробья было какое-то заседание. Он вышел и засмеялся, увидя Гнедко и машущего руками, взволнованного завхоза.
— В двух словах, Сапогов, — сказал он, — я сейчас занят.
— В двух словах: погиб конь. Ты посмотри, что он сделал из коня.
— Короче, Сапогов. Я сейчас ухожу.
— Я тоже ухожу. Уволь меня, Воробей. Этому тунгусу…
— Это не тунгус, а гиляк.
— Этому гиляку на собаке ездить. Или отбери у него коня, или снимай меня с этого места, Воробей. Не могу я глядеть, как убивают коня. Не сойду я с этого места, Воробей, пока не возьмешь у него Гнедко. Я тебе клянусь, Воробей, ночью я у него украду коня. Убегу вместе с конем. Не могу допустить. Я в этого коня всю силу свою вложил, я счастье, может быть, свое из-за этого коня потерял. Пока я тут за этим конем ходил, там, на материке, у меня любимого человека увели…
Завхоз вытащил из кармана письмо.
— Вот, можешь сам прочесть. Я слезами обливался, читал. Пишет: «Если тебе дороже меня какая-то лошадь, то оставайся на Сахалине, а я ждать больше не могу, потому что нашла себе хорошего человека».
— Ну, а ты что ей ответил?
— Я ей телеграмму составил. «Стерва, — написал я ей, — дело не в коне, а тут находится моя честь. Я в коня свое здоровье вложил. Коня я строил, это мой участок. Я социализм строил, потому что в каждом деле… и так далее… Стерва…» — писал ей. Но телеграфист не принял от меня телеграммы. «Тебя, говорит, за нецензурные выражения, Сапогов, штрафовать надо. А еще завхоз!» А вечером меня взяло сомнение. Может, права она. Девушке тоже обидно — променял ее на коня. Не может же она понимать, что конь — это не просто конь, а участок социализма, что я свою задачу выполняю, строю этого коня. Вышел я на двор, взглянул я на коня, и на тебя, и на ребят, у которых тоже есть невесты, но которые оставили все и пришли сюда делать свое дело. «Нет, — сказал я себе, — прав ты, Сапогов, а не она. Нашла себе хорошего человека и пусть нюхается с ним, а Сапогов свое счастье еще найдет».
— Ладно, Сапогов. Мы это дело урегулируем. — Воробей, сказав это, подошел к Ланжеро. — Слышал? Понял?
— Ладно, — сказал Ланжеро. — Пусть берет коня.
— Нет, это не надо, Ланжеро. Вообще тебе объяснять не надо. Ты парень неглупый. Поймешь. А ты, Сапогов, не ерепенься. Конь для него экзамен. А экзаменовать будем мы с тобой. Поучи его, Сапогов.
Ланжеро стал другом Гнедко. У коня была сбита спина. Ланжеро вымыл ее светлой водой из ручья, смазал рану медвежьим салом. Он разорвал свою нижнюю рубашку и подложил ее под чересседельник. Свободное время он проводил с конем, не доверял конюхам, сам подбрасывал ему свежую траву, выбирал сено, выпрашивал для него овес.
Бревен было много. Иногда Ланжеро думал о том, зачем так много убивают деревьев. Неужели на свете так много людей, у которых нет домов?
Он думал о реке, которая несет бревна людям, о том, что здесь есть и им доставленные деревья, его труд и труд его коня. Он думал также о том, как он придет к людям, которые живут в новых домах, о том, как он поздоровается с ними и расскажет им о себе, а они скажут ему:
«Поживи, Ланжеро, в наших домах, это и твои дома».
И он ответит им:
«Ладно, хорошо. Я поживу у вас и пойду дальше. Туда, где еще не был. А вы, если будете проездом в нашем краю, заезжайте ко мне, поживете у нас, наши дома — это тоже и ваши дома».
А они скажут ему:
«Ладно, хорошо. Спасибо, Ланжеро. Мы к тебе заедем».
Иногда Ланжеро тянуло к морю, к реке, в лес, где с лиственницы прыгает белка прямо в стланик за кедровой шишкой, где нерпа вынырнула и плывет к камню, нерпа, отбившаяся от стада, заблудившаяся нерпа, из моря она заплыла в реку, из реки попала в ручей, она удивлена и испугана этим маленьким и пресным миром, ей тесно, она замутила ручей, разорила его и плывет обратно в реку.
Фыркнул соболь. Он нагнулся, посмотрел налево, направо и вскочил на валежник. Прыгая с пня на пень, с сучка на сучок, ни разу не коснувшись земли, не оставив следа, ничего, кроме легкого, почти неуловимого запаха, он прыгнул на обгорелую, убитую молнией лиственницу и скрылся. Здесь был его дом.
Эту ночь Ланжеро провел возле реки.
Он шел вверх по ее течению, окруженный тучей мошкары. Ветер принес ему запах песка, речных камней, запах реки. Где-то закричал олень. Ланжеро пошел в ту сторону, где был олень. Река делала изгиб, берег больше походил на берег озера, чем на берег речки; на берегу рос камыш. Олень едва ли мог почуять человека, ветер дул не в сторону оленя, а в сторону Ланжеро. Из-за камня Ланжеро увидел его темную фигуру: рога и бок на фоне светлевшей реки. Оленя беспокоила мошкара, он вошел в воду и шел дальше, вот он поплыл на середине реки, на поверхности были только рога, ноздри, уши, глаза. Олень закрыл от наслаждения глаза и фыркнул.
Ланжеро ждал. Оленя несло. Он отфыркивался, мотал головой, брызгался.
Ланжеро где шел, где полз, он боялся только одного: оступиться. Олень мог услышать. Река стала мельче. Олень уже не плыл. Он брел. Отряхиваясь, он вышел.
Ланжеро выстрелил в него.
Утром лесорубы поздравили Ланжеро.
— Как же ты его приволок?
— Я его разрубил па части. Связывал, торопился. Не хотел вас будить.
— Это славно, — сказал Воробей.
— Главное, будет чем доктора угостить.
Ланжеро послали встретить этого доктора. Думали, что он приедет на моторной лодке. Ланжеро чуть не целый день просидел на берегу, всматриваясь и вслушиваясь: лодки не было. Возвращаясь в поселок, он увидел высокого человека, который только что вышел из лесу. Ланжеро его узнал.
— Доктор, — крикнул Ланжеро, — Иван Павлович?
— Да, я Иван, — сказал доктор, — не шуми!
Он, должно быть, не узнал Ланжеро.
— Угораздило, — ворчал доктор, — едва не перевернуло. Поломало руль-мотор. Послали со мной урода. Фарватера не знает, а суется. Я ему говорю: «Отдай лучше мне руль, а сам измеряй дно». Нет, шеста у меня не взял и руля не выпустил. Вот и сидит в лодке, сторожит вещи.
Доктор рассеянно взглянул на спутника.
— Послушайте, товарищ, нужно будет сходить помочь ему, а то он сдуру утопится.
— Ладно.
До поселка было далеко. Ланжеро всматривался в дорогого спутника. С тех пор как они расстались, доктор постарел, изменился, или потому, что Ланжеро вырос, доктор, казалось ему, даже стал ниже ростом.
От него по-прежнему пахло острыми, нездешними запахами. Когда-то доктор выручил его из большой беды, а сейчас они идут рядом как чужие.
— Доктор, — сказал Ланжеро тихо.
Доктор протер очки характерным докторским жестом.
— Что за чепуха! Неужто это ты, Ланжеро? Как ты сюда попал? Ну, как там у вас с заболеваниями?
— В стойбище?
— Нет, здесь.
Доктор был живое письмо. Разве можно заменить живого человека? Слова, отделившиеся от человека, — вот что такое письмо. Доктор прибыл из родных мест, из Нань-во.
Иван Павлович посмотрел на Ланжеро исподлобья, лукаво и усмехнулся.
— Низюна помнишь?
— Где забыть Низюна!
— Низюн тебя вспоминает. Над Низюном смеются. У Низюна жена сбежала: третья, младшая. Низюн чуть с горя себя не убил. Я ему сказал: «Живи, Низюн, неужели тебе двух жен мало?» — «Я, — говорит он, — в работники пошел бы к бывшему своему батраку Вакону, собак бы ему отдал, себя бы ему отдал, только возле нее быть, видеть ее. Лучше бы убил меня Вакон, зачем он у меня жену отобрал!»
— Хорошая была у него жена. Ну, а отец как мой живет, Водка?
— От него тебе привет. Чудак твой Водка. Он думает, что страна — что стойбище, пошел и встретил. «Ты, — сказал он, — непременно его увидишь». Я смеялся. Оказалось, старик-то прав.
Добравшись до леспромхоза, доктор собрал лесорубов.
— Ну что, — спросил доктор, — признавайтесь, вши есть?
— Вы бы что-нибудь свеженькое, — разочарованно сказали лесорубы.
— Есть и свеженькое, — сказал доктор.
Доктор, оказывается, привез с собой радиоприемник.
— Надо же вас чем-нибудь порадовать, робинзоны.
— Вы бы спирту лучше привезли.
— Это кто сказал?
— Это я сказал — спирту.
— Горбунов? Узнаю. Есть и спирт. Прививки будем делать. И сыворотка тоже есть.
— А порадуете чем?
В тот же день доктор, осматривая бараки, остановился, как нарочно, возле койки Мишки Горбунова.
— Это чья кровать? — спросил доктор, и только начал хвалить Мишку за чистоту, как на подушке показалась вошь.
— Ну, вот и порадовал, — сказал доктор.
Мишка стоял красный. А лесорубы смеялись, говоря, что доктор специально ехал, чтобы убить Мишкину вошь.
Мишка махнул рукой, словно желая отмахнуться.
— А у вас их не бывает? У кого их нет?
Доктор рассердился.
— Кто у вас тут рисует? — спросил он.
— Все мы художники, — ответили лесорубы. — От слова «гулять».
Доктор подозвал Ланжеро.
— Ты мне вошь изобрази и рядом с вошью его. Для вашей газеты. Только смотри, чтобы вошь получилась не больше его.
Ланжеро сел рисовать.
— Никогда я еще не рисовал такого маленького зверя. Медведя бы лучше меня попросили или нерпу, вот нерпу бы я нарисовал.
Когда Мишку Горбунова подвели к рисунку, Мишка удивился.
— Да это же не я, — сказал он и обрадовался. — Это Омелькин. Это же его нос. И ноги его.
— Ну, а вошь-то твоя, не отопрешься.
Лесорубы подходили посмотреть рисунок.
— В самом деле, Омелькин.
— Как же это получилось? Рисовал Мишку, а получился Омелькин. Как же это, Ланжеро?
Ланжеро посмотрел на Мишку и на Омелькина.
— Мишка мне друг, — сказал он, — зачем я буду обижать друга.
Глава двенадцатая
Для доктора затопили баню. Лесорубы знали, что Иван Павлович любит париться, дров не пожалели.
— В баню я один не пойду, — сказал Иван Павлович, — одному мыться скучно. Идемте и вы со мной. И ты, Ланжеро.
В бане Ланжеро долго стоял одетый среди голых, мялся. Он не привык, чтобы на него смотрело, на голого, столько людей.
Доктор разделся, налил в таз воды, сунул руку в кипяток и от удовольствия крякнул. Он велел принести бутылку пива, раскупорил ее. Ланжеро думал, что он будет пить, а он опрокинул бутылку над тазом и стал лить пиво в кипяток.
Из таза пошел пар.
Ланжеро подумал, что доктор хочет умилостивить горячую воду, принося в жертву ей пиво. Доктор намылил себя и начал себя бить.
— Ланжеро! — крикнул он. — Ну-ка, потри-ка мне спину, да покрепче.
Докторская спина была не такая, как другие, — широкая, большая, волосатая.
«Вот бы мне такую спину», — подумал Ланжеро.
В бане было шумно. Голые лесорубы, гремя тазами, окачивали друг друга кипятком, выбегали на ветер, даже не смыв с себя мыла, и возвращались.
Иван Павлович лежал на верхней полке и хлестал себя веником. Голос у него был густой, банный. Временами Ивана Павловича совсем не было видно в тумане, и откуда-то сверху слышался его голос, словно не доктор это был, а дух.
— Мылся я недавно в Охе, — рассказывал Иван Павлович, — баня там славная. Чистота. Этика. Никто не сдает своих вещей банщику. Все остается на месте. Город, доложу я вам, пятнадцать тысяч жителей, а на дверях ни одного замка. Я не знаю, для чего там существует угрозыск. Во всем городе ни одного вора, ни одного мошенника. Жил один жулик, да и того недавно похоронили… Эй, подкиньте-ка мне пару. До чего скупой народ пошел, живут в лесу, а жалеют дров… Возвращаюсь к Охе. Было время, когда там не хватало гвоздя. В кинематограф за билет платили гвоздями. Мальчишки что делали — ходили и вырывали гвозди из домов, из тротуаров, где увидят. Тротуары расползались. Жителей одолевала цинга. Женщины лысели. У молодых людей выпадали зубы, вылезали брови. У японцев на концессии свои болезни. Почти поголовно аппендицит. Приносят мне одного японца на операцию. Дело международное, я бы сказал — почти дипломатическое дело. А вдруг умрет у меня японец на столе.
— Ну как, — перебил кто-то доктора, — как прошла операция?
— Великолепно. Японец открыл глаза и смотрит как новорожденный. А у меня в руке его слепая кишка… Что это у вас так холодно в бане? Сверху дует, снизу дует… Так вот, об Охе. Сейчас нет в Охе ни одного цинготного, женщины жалуются на то, что слишком часто беременеют. «Климат», — говорю я им; что же мне еще сказать? Уезжая из Охи, я сказал охинцам: «Приезжайте ко мне в Ноглики». — «А что это за Ноглики?» Делают вид, что не знают. «А Ноглики, — отвечаю я им, — это город. Мы выстроили его для туземцев». — «А дома, — спрашивают, — есть?» — «Есть, — отвечаю, — выстроили дома, да вот беда, жители не хотят жить в домах, не привыкли. Живут в палатках. Вы бы хоть приехали, поучили их жить в домах».
Веселый человек этот доктор, свой парень, чудак, право, чудак.
Из бани отправились в столовую пить чай. Доктор играл в шахматы и ко всем придирался.
— Вот вы, пионеры, скваттеры, или как их там называют. О наших делах Брет-Гарт будущий напишет или новый Майн Рид. А многое ли вы знаете о своем крае? Ну-ка, Михаил Сергеевич Горбунов, скажи-ка мне, кто открыл наш остров и в каком веке?
— В шестнадцатом веке открыли, а кто — не помню. Не то какой-то адмирал, не то генерал… Колумб открыл…
— Ну, брат, ты Сахалин с Америкой спутал. В шестнадцатом веке о Сахалине и не подозревали.
— А вы что, экзаменовать нас приехали? Вы ко мне придираетесь, думаете, вошь нашли, так совсем угробить надо человека. Ваше дело спросить, не болит ли что у кого. У меня, например, в руках ломота. Печень болит.
— Вы бы насчет девочек позаботились. А то здоровье и красоту здесь оставим, а приедем на материк, нам и скажут: откуда это пригнали стариков? Вы бы нам, доктор, совет медицинский дали. Как это, на здоровье отражается или не отражается?
— Что?
— Да то, что мы здесь, а они там…
— Кто это они?
— Да люди другого пола, по-ученому сказать, а говоря просто — бабы.
— Это вас всех интересует?
— Да нет, Омелькина в первую очередь.
— Товарищи, это вопрос серьезный. Шутить не надо, — сказал доктор. — На здоровье это не отражается. А на работе — да. Я буду в Александровске, вопрос этот поставлю. Года через полтора…
— Долго ждать.
— Года через полтора я уже буду у вас не в качестве доктора, а приеду на Октябрины…
— Вы сначала на свадьбу приезжайте. Вам бы только детей принимать да октябрить.
Доктор задумался.
— Шутить вы любите. Мы тоже шутить любили. Только шутка у нас застыла на губах, когда нас привезли сюда. Я сюда, на Сахалин, первый раз в трюме ехал. Моря, и того не показали. Всю дорогу видел ноги, спины, руки. Спины эти чесались о спины. Так тесно было. Какая-то каша из людей, мешков и железа. Когда пароход покачивало, нас швыряло друг на друга. Когда нас выгнали на палубу, ко мне подошел худощавый человек с красивыми, грустными глазами. У него был вид болезненный и слегка небрежный. Он спросил меня тихим, печальным голосом: «Говорят, среди вас есть врач?» — «Да, — ответил я, — врач — это я». Он взглянул на меня и скорбно мне улыбнулся. Я подумал, что он нуждается в моей помощи. «Очень приятно», — сказал он мне, и вдруг его всего свело, словно от падучей, он пошатнулся, и в следующую секунду я почувствовал боль, я даже сразу не понял, что человек меня ударил. А человек посмотрел на меня и сказал, облегченно вздохнув: «Ну вот, и с доктором познакомился. Всех отведал. И студентов приходилось, и инженеров, и фельдшеров, а доктора все не было и не было. Я по доктору давно скучал». «Сумасшедший», — подумал я себе в утешение. Это был первый сахалинский человек, которого я встретил, смотритель Сморчук.
— Попадись мне этот Сморчук, — перебил доктора Мишка Горбунов, — я бы сделал из него сморчок.
— В это время, — продолжал доктор, — с берега подул ветер. У меня закружилась голова. Я увидел три скалы в море — «Три брата» — и остров, залитый солнцем, и небо, и горы, такие же первобытные, как на берегу Байкала, и я забыл об этом человеке. Нас высадили на берег и повели мимо всей этой красоты, мимо деревьев, мимо реки, мимо гор, покрытых синими деревьями, прямо по траве, только вышедшей из земли, по ручьям и земле, пахнувшей талым снегом, прямо по весне нас вели в тюрьму.
У этого доктора слов бы нашлось на целый год, год бы он мог проговорить, а слушателям показалось бы, что прошел не год, а час. Лесорубы не заметили, как пришла полночь.
Иван Павлович своей жизнью коснулся многих городов, людей, народов, стран. Но из всех народов сердцу доктора ближе всех был маленький нивхский народ, из всех «стран» роднее всего страна Сахалин.
В своей стране он знал каждую тропу, каждую речку, он знал чуть ли не каждого гиляка по имени, в каждом доме у него был друг или враг. Однажды его спросили о его национальности, нужно было заполнить какую-то анкету.
— Русский, разумеется, — ответил он и рассмеялся. — Пишите, что и гиляк, также и тунгус, и орочон. Пожалуй, больше всего гиляк.
Больше всего он не любил, когда Сахалин называли островом. Остров — это что-то замкнутое, отдельное, а советский Сахалин связан со всем Союзом.
— От Москвы Сахалин дальше всех, — говорил он, — а связан с Москвой, может быть, больше, чем какой-нибудь подмосковный городок. Если мне нужно, я прямо с Москвой разговариваю или с Хабаровском.
Один раз он даже до того договорился, что стал настаивать на правоте Лаперуза, который считал Сахалин полуостровом.
— Географически он был неправ, — утверждал Иван Павлович, — а фактически его слова сейчас оправдались.
Не любил он также названия «Сахалин».
— От этого названия каторгой пахнет, — говорил он, — Сморчуком.
Приехав сюда, в поселок к лесорубам, казалось, он привел за собой сюда весь остров, у него можно было узнать о жизни каждого угла, и что сейчас в Москве, и как в Донбассе или Николаевске-на-Амуре, на Земле Франца-Иосифа, со всеми он переписывался, везде у него были знакомые или друзья.
Послушать Ивана Павловича, так можно подумать, что у него знакомые и друзья были и сто лет назад и на тысячу лет раньше. Об Иване Грозном он рассказывал так свободно, словно жил с ним в одном дворце и по утрам приходил к нему щупать пульс.
Должно быть, не часто Ивану Павловичу попадались такие слушатели, как наши лесорубы.
От времен исторических он перешел к временам доисторическим и дошел до мезозойской эры.
— А люди в ту пору жили? — спросил Воробей.
— Нет, людей еще не было.
— А раз не было людей, значит, неинтересно. Вы бы лучше про людей.
Воробья интересовали только люди.
— А звери там какие-нибудь жили? — заинтересовался Кешка-моторист.
— Зверей не было. Обитали ящеры, величиною с пароход. Полузмеи, полу еще что — в общем, пресмыкающиеся.
— А наши предки где в то время жили?
— Это и есть наши предки.
— Нет, — вмешался Мишка Горбунов. — Это клевета на нас. Еще на обезьян соглашусь. Не соглашусь, чтобы ящерицы были наши предки. Я думаю, это буржуазные ученые выдумали, чтобы человека оплевать.
В заключение Иван Павлович возвратился к излюбленной теме, — относительно гиляцкого народа у него была своя теория.
Гиляки, по его мнению, были народом очень древних времен, случайно уцелевшим. Гиляцкий язык не был похож ни на один из существующих на земле языков.
— Судя по множеству диалектов, — говорил Иван Павлович, — народ этот некогда был очень большой. Сейчас их осталось всего четыре тысячи.
Иван Павлович был убежден, что народ этот со временем станет большим народом.
— Вот человек этого народа, — показал он на Ланжеро.
Лесорубы окружили Ланжеро.
— Ну, древний человек, — сказал Воробей и зевнул, — идем-ка спать.
За окном посреди поблекших звезд светила белая, почти дневная луна. Ночь переходила в утро. Над рекой был туман.
Перед отъездом из поселка доктор собрал в клуб лесорубов и устроил сеанс одновременной шахматной игры.
— А ты что, Ланжеро, стоишь? — спросил Иван Павлович. — Не умеешь?
— Не умею.
Иван Павлович сделал ход слоном, поправил очки и, посмотрев на всех, сказал:
— В следующий мой приезд он должен мне сделать мат. Не то вам всем будет мат.
Глава тринадцатая
Из всех русских слов Ланжеро больше всего нравилось слово «Москва». Очень часто слышал он это слово. Из всех городов Москва была самый большой город.
В Москве учится та девушка, голос которой в ящике, а лицо в записной книжке, в левом боковом кармане у Воробья.
Ланжеро много раз хотелось спросить у лесорубов о Москве. Но всякий раз, когда он спрашивал у них о Москве, они смеялись.
— До Москвы, — говорили они, — далеко.
В клубе на стене висела бумага величиною со шкуру оленя. Ланжеро очень нравилась эта бумага. Она была вся в разноцветных пятнах — синих, розовых, зеленых, желтых, в извилистых линиях, похожих на жилы оленя.
Ланжеро долго стоял перед этой бумагой.
— Что, — спросил его Кешка-моторист, — что смотришь на нее, узнал?
— Нет, не узнал.
— Как же ты мать свою не узнаешь? Это наша общая мать, матушка земля.
Ланжеро сначала не поверил: как же она поместилась на бумаге, неужто она такая маленькая, земля?
Кешка ткнул пальцем в самый конец карты.
— Вот это место, мы тут с тобой стоим. Это Сахалин.
Ланжеро посмотрел и обрадовался. Он узнал остров, остров походил на нерпу, узнал Лангри. Значит, Кешка не врал: это в самом деле была земля.
— Где же Москва? — спросил Ланжеро.
Кешка показал. Смерив пальцем расстояние от Сахалина до Москвы, он сказал:
— От нас до Москвы приблизительно десять тысяч верст.
Ланжеро стало грустно. Между ним и девушкой было десять тысяч верст.
Думая о Москве, Ланжеро думал и о девушке. Он не знал ее имени. Может быть, ее тоже звали «Москва».
Встречаясь с Воробьем, Ланжеро смотрел ему на грудь, на то место, где оттопыривался карман. В кармане была записная книжка, в книжке лежало ее лицо. «Хоть бы посмотреть еще раз», — думал Ланжеро.
Но Воробей редко пользовался записной книжкой.
Ночью Ланжеро просыпался от внезапного желания. Ему хотелось встать и пробраться в комнату Воробья, взглянуть на ее лицо и положить книжку обратно в карман.
Воробью казалось, что он всех знает и каждому может составить подробную характеристику, а себя самого он знает меньше всех.
В порядке самокритики он записывал в свою карманную книжку все свои пробелы, которые нужно ему восполнить, и самым большим своим пробелом он считал собственный характер: ему казалось, что он недостаточно внимателен с людьми, что у него со всеми легкие, полутоварищеские, полуделовые отношения, но настоящих, глубоких дружеских отношений он не сумел наладить, что он перебрасывается с ребятами замечаниями, словами, шутками, а поговорить как следует, по душам, он ни с кем не успел.
Воробей жил только людьми, словно мир состоял из одних людей. Вещи и животные, реки и горы, природа и ее красоты существовали постольку, поскольку они были нужны людям.
К красотам природы он относился даже подозрительно.
— Видишь, как расписало закатик, — говорил он. — Быть большому ветру. Я знаю, что значит такой закат.
В тяжелые дни и минуты Воробей был нужен всем лесорубам. Бывали нелегкие дни. Ребята чувствовали себя отрезанными от мира. Работа была трудна и не всегда радовала сердце. Все лес и лес, комар и кочки, так можно разучиться ходить, приходилось вязнуть в болоте, жить в сапогах, полных грязи, проваливаться по живот; зимой промерзала одежда, случалось, что рубахи не снимешь, не стянешь с ног штанов, нужно обламывать по кусочкам, как лед; пальцы не слушались, их было не согнуть; ночь коротка, а утром снова в лес, снова- в болото — руби, пили, носи, вози лес без конца. А главное — не было видно результатов. Бревна — вот и все, какие же это результаты?
Лесорубы иногда не верили в необходимость своего труда.
— Счастье не в бревнах, — говорили они, — лесу и на материке довольно.
Вот тогда-то без Воробья нельзя было обойтись.
Он был даже мечтателен, этот Воробей, как ни странно.
— Пустяки бревна сами по себе, — говорил он. — А сколько в них скрыто радости, чего только из них нельзя смастерить.
За деревьями он видел тех людей, для счастья которых их рубят.
— Представьте себе, — говорил он, — какие строят сейчас города. Это вы, это мы с вами строим. Ребенок держит в руках игрушку. Это мы с вами ему подарили. Молодожены привезли чудесный шкаф и любуются. Это мы дали им дерева на шкаф. Что может быть лучше детской и человеческой радости? А для нашей радости не рискуют разве моряки, летчики, рыбаки в море? Как по-вашему? По-моему — рискуют.
В леспромхозе он носился с каждым человеком. Все, по его мнению, были «без пяти минут» — кто Карузо, кто Капабланкой, кто Водопьяновым, кто Менделеевым, кто Колумбом, а кто просто прохвостом.
— Есть сволочи, — говорил он, — но неспособных людей нет.
Он угадывал каждого, казалось, знал каждого больше, чем тот сам себя. Он всех подбадривал и подначивал. В одном он открыл артиста, в другом будущего инженера, только перед Ланжеро он растерялся.
— Подожди, парень, — сказал он ему, — поживи. Я тебя еще не вижу.
— Как так?
— Очень просто. Поживи, поучись, поработай у нас. Нас поучи работать. Куда тебе спешить?
В этот вечер Воробей был наедине с самим собой.
Он ходил из угла в угол. Нельзя сказать, чтобы он был очень собой доволен. Вчера уехал Иван Павлович, доктор.
Перед отъездом они долго беседовали, доктор, по обыкновению, шутил, смеялся, но Воробей знал, что доктор никогда не шутит напрасно, обещал доктор прислать из Александровска инструктора — учить лесорубов летному делу. Многим недоволен остался доктор, упрекал Воробья, что живут они по старинке, как в «двадцать третьем году», — теперь так не живут.
В заключение сказал он Воробью скороговоркой:
— Всем ты хорош, парень. Но перегибаешь палку. Для себя мало оставляешь. Надо не только людям радоваться, а ко всему найти в себе радость — и к птицам, и к закату, и к речке, вот этой необыкновенной. О себе, о девушках надо больше думать. Силы в тебе много, а одного я боюсь… — Доктор усмехнулся и погрозил ласково пальцем: — Смотри не состарься к шестидесяти годам!
Воробей долго ходил из угла в угол. Ударил себя по карману, по тому месту, где была записная книжка, и вдруг рука испугалась — карман был пуст.
Воробей стал вспоминать, где бы он мог ее оставить или выронить, в каком месте. Ему представилось, что книжка попалась кому-нибудь из ребят, например Омелькину…
Воробей выругался.
— Что ты, гимназистка, — сказал он себе, — потерявшая дневник, что ли? Пусть себе ржет Омелькин. Начхать!..
Когда Ланжеро вызвали к Воробью, он подумал: «Дело неладно, догадался Воробей, что у меня книжка, догадливый человек».
— Ну-кось, садись, побеседуем. — Воробей показал на стул.
— О чем будем говорить?
— О себе будем говорить, о тебе.
Ланжеро посмотрел на Воробья: секретарь был сердитый, хмурился. «Ясное дело, догадался Воробей, что книжка у Ланжеро. Может быть, отдать, признаться? Нет, уж пусть лучше берет силой. Не отдам».
— Ну что ж…
— Я что? Мне тут хорошо. Народу много. Коня мне дали. Коня я сначала не любил. Не было привычки. У нас в Нань-во ызь на коне сидел, Низюн. На коне он выше всех был. Все на собаках. Очень гордился.
Ланжеро остановился. «Ясное дело, — подумал он, — сейчас он мне скажет: „Ты мне о коне не говори, а книжку мне отдавай, сестру“».
— Ты о коне после, — сказал Воробей, — и о работе после. Ты о своей жизни расскажи. Твоя жизнь на нашу непохожа. Не торопись. Чай пить будем. У нас времени много. Ты о себе расскажешь, потом я тебе о себе расскажу.
Ланжеро посмотрел на Воробья и усмехнулся.
«Хитрый, — подумал он, — сначала про жизнь спрашивает, а потом скажет: „Книжку-то мою отдавай. Зачем взял? И сестру отдавай“».
— Что рассказывать? Я родился в стойбище Тальво-тигрово. Мой отец из рода Лесгран. Род на две части делился. Богатая часть рода называлась Раф-тан, в переводе: кладбище. Кладбище у нас почитается, туда кладут богатство. Бедная часть рода — Отх-тан. Переводить не стану — нехорошее слово. Обе части рода вымерли, остались только отец и я. Мы в Нань-во убежали на чужих собаках. Когда отец приносил убитую нерпу, я радовался — мясо будет. Когда зима приходила, я прыгал, зиму любил. Зимой все другим становилось. Гора покрывалась белой шкурой. Река твердой делалась. Низенькие деревья, как зверьки, становились пушными. Мы из снега зверей разных лепили: медведя, белку лепили, морских уток лепили, мор-зверя, нерпу лепили, потом мы стреляли из лука в этих зверей. Звери рассыпались. Когда я стал немножко побольше, отец взял меня в море, дал мне гарпун и сказал: «Твой день. Скоро ты меня кормить будешь. Нерпу бей». Мы сели в лодку. В море было много нерп. Когда подошли ближе, я бросил гарпун, но не попал в нерпу, задел только, поцарапал. Отец убил трех нерп. Когда мы вернулись в стойбище, отец мой сказал старикам: «Это Ланжеро убил, он у меня хороший охотник». — «Врешь, — сказал я отцу, — это ты убил, я не попал». Люди стали смеяться над моим отцом. Когда я подрос, я нарты научился делать. Из дерева я мог все сделать, что видел. Я думал: «Неживые вещи я делаю. Нарты мои сами не побегут. Лодку мою шестом подталкивать надо, веслом грести». Я думал: «Неужели человек не может сделать вещь, которая как живая была бы, чтобы сама бежала? Ветер у нас злой. Неужели, — думал я, — ветер нельзя запрячь вместо собак?» Много думал я, много делал. Не получалось. Люди смеялись над моей работой. «Уроды, — говорили они, — уродов строишь, сани твои уроды». У вас я колесо когда увидел — обрадовался. Простая вещь, хорошая. Машины ваши сначала не понравились мне. Тяжелые очень. Я легкие вещи люблю. Когда я про самолет услыхал, «вот, — подумал я, — полечу скоро».
— А куда бы ты от нас хотел улететь? — усмехнулся Воробей.
Ланжеро взглянул на Воробья и, не отводя взгляда, сказал:
— В Москву.
Когда Ланжеро ушел, Воробей подмигнул сам себе и сказал:
— Весь парень как на ладони. До чего честный и прямой человек, отцу и тому отрубил: «Врешь, отец».
Выйдя от Воробья, Ланжеро остановился.
«До чего хитрый парень, — подумал он, — до чего хороший, весь вечер проговорили, а про книжку не спросил. Значит, не нужна ему книжка».
Ланжеро достал из-за пазухи книжку Воробья и вынул карточку. Он увидел девушку со смеющимся ртом и прищуренными глазами — должно быть, ей в глаза попало немножко солнца.
— Москва, — сказал Ланжеро.
Глава четырнадцатая
Ланжеро получил зарплату. Он расписался, нацарапал свое имя, это его так увлекло, что он нарисовал лиственницу и хорька с пушистым хвостом. Кассир вырвал у него из рук ведомость.
— Что ты делаешь?
— Ничего, Шемякин. Я пишу плохо. Вот я и нарисовал.
Ланжеро растерялся, — столько теперь у него было денег. Сначала он рассовал их по карманам, потом собрал их и завязал в платок.
До кооператива было недалеко. Там он купил себе все необходимое для жизни здесь, в поселке, без чего он обходился в Нань-во.
Продавец, увидя Ланжеро, рассердился.
— Надо уметь покупать, — сказал он, — на материке ты за все бы заплатил втридорога. Да там и товара такого нет.
— Я не был на материке.
Ланжеро не знал, с чего начать. Ему нужны были белье, и костюм, и ботики, и шляпа.
Шляпы не оказалось.
Ланжеро примерил синий шевиотовый костюм. Продавец помог ему завязать галстук.
— Ты теперь не тот Ланжеро, — сказали толпившиеся в лавке лесорубы. — Ты теперь не Ланжеро.
Одни из лесорубов дал Ланжеро карманное зеркало. Ланжеро взглянул на себя. Теперь он был как они. Он подмигнул своему отражению и улыбнулся.
— А это что? — сказал Омелькин и схватил Ланжеро за косу. Коса теперь была лишней, даже смешной.
«Нет, — подумал Ланжеро, — не хочу. Не дам стричь. Не дам, вот и все».
Он увидел шелковый платок. Платок этот был женский, почему его сюда забросили — неизвестно. Ланжеро платок купил. Ему понравился футляр от ручных часиков. Часов в магазине не было, и Ланжеро не имел часов, но футляр он купил. Он купил зонтик. Ему объяснили его назначение. Купил безопасную бритву, хотя ему пока еще нечего было брить. Он увидел забавную вещь — дорожную ложку.
— Дорогая? — спросил он.
— Нет, не дорогая и удобная, — ответил продавец, — насыпал в нее чай, положил в стакан — и помешивай. Заменяет чайник.
Ланжеро купил эту ложку.
— Правда, удобная, — сказал он.
Он купил флакон одеколона и рюкзак. В рюкзак положил купленные галоши, купил клетку для птиц. Птицу он поймает.
— А я думал — сгинет эта клетка. К чему бы ее приспособить, — сказал продавец, — никто даже не спросил цены. Смешно сказать — клетка, птичья тюрьма. А на что тюрьма, когда и птиц нет певчих. Забрасывают сюда всякий сор. Я уж им писал. А ведь вот оказалась нужна.
Он подмигнул.
— Птиц будем ловить, — сказал он Ланжеро. — Петь будем.
— Будем, — согласился Ланжеро.
Ланжеро купил ночные туфли и календарь. Взял крем для обуви, щетку, маленький электрический фонарь.
Вошел зав.
— Вот это покупатель, — сказал он, восхищенный.
Вытащил из чехла и показал Ланжеро ружье. Ланжеро поднял ружье, взвел курок и прицелился. Это было двуствольное ружье, но в середине был еще маленький стволик. Он заряжался пулей.
— Английское, по случаю, — сказал продавец, — советую.
— Сколько? — хрипло спросил Ланжеро.
— Не дорого. Отдам за девятьсот.
Денег у Ланжеро больше не осталось ни копейки.
— Может быть, возьмешь, что я набрал, обратно. Уступишь ружье.
Зав задумался.
— Хорошо, — сказал он, — бери в рассрочку. Понял? Это только для тебя делаю. Не было у нас еще такого покупателя. Неси домой.
Ланжеро связал все в один большой узел, ружье за плечи, и пошел в общежитие — домой.
Каждую вещь он трогал, примерял, пробовал, смотрел на нее и радовался, как ребенок. У каждой вещи был свой запах. Ланжеро раскрыл зонтик, примерил ночные туфли. Фонарик действовал отлично. Ланжеро радовала не столько сама вещь, сколько ее назначение — стоит нажать рычаг, и станет светло. Фонарик ворчал, как зверек. Через вещи Ланжеро узнает, как живут там, в Москве. Это же московские вещи. Зонтик, туфли, клетка. Через знакомство с этими вещами он приобретет новые привычки, приобщится к своим новым товарищам. По утрам будет чистить зубы. Почистив штиблеты, наденет костюм, подвяжет галстук, выйдет и скажет, как Прыгуновы, — ауфвидерзейн.
Лесорубы, соседи по бараку, осмотрели покупки.
— С обновкой, — говорили они. И по-мальчишески наступали на новые штиблеты, дергали Ланжеро за рукава нового костюма.
Уж на что хмурый человек Чижов, и тот развеселился вдруг.
— Костюм-то ты купил, и галстук, и все остальное. А где же нижнее белье?
— Забыл, — сказал Ланжеро.
— Деньги-то у тебя остались?
— Нет. Денег больше нет.
— На что же ты будешь жить?
Ланжеро уснул среди своих вещей крепким сном. Так он спал в детстве.
Его разбудил крик. Что-то упало.
Ланжеро вскочил.
— Сволочи! — услышал он.
Голос был знакомый — голос Воробья.
Через минуту влетел Воробей. Вместе с ним были зав и продавец из кооператива.
— Сволочи! — кричал Воробей. — От вас Николаем Романовым пахнет. За такое дело бьют морду.
Лесорубы сбежались, прибежали Кешка-моторист, Омелькин, Мишка Горбунов. Откуда-то выпрыгнули Прыгуновы.
— В чем дело, Воробей?
— Посмотрите на этих мерзавцев, — показал Воробей на зава и продавца. — Заманили Ланжеро и всучили ему все, от чего не могли избавиться три года. Недоставало, чтобы они его подпоили. Это дело судом пахнет. Я думал, что у меня в кооперативе работают комсомольцы, а там, оказывается, мошенничают купцы.
— Поосторожней на поворотах, Воробей, — сказал зав, — меня трогай, а советскую торговлю не задевай.
— Этот свой поступок ты называешь советской торговлей?
— Да он же не маленький, сам брал.
— А вы где были? Вы же комсомольцы, а не купцы.
Воробей подошел к покупкам Ланжеро и взял клетку.
— Ну зачем ему эта вещь?
— Это покупателю знать.
— Да поймите вы, купцы, что он первый раз видит эти вещи, что завтра они ему наскучат, что в этих вопросах он ребенок… Эх, купцы вы, купцы…
Ланжеро понял, что случилось что-то неладное и что вещи у него сейчас заберут. Ему было очень жалко этих вещей.
Глава пятнадцатая
В Москве три миллиона жителей, — узнал Ланжеро.
Чтобы добраться до Москвы, много нужно пройти городов, городов тридцать — не меньше. Нужно сначала дойти до Охи-города, в Охе сесть на пароход — лодку-гору, проехать море до самого города Владивостока.
Во Владивостоке возле города стоят такие дома, не очень большие, на тяжелых колесах! Ждут. Первый дом закричит, и дома побегут, а в домах полки. Ланжеро будет лежать на полке и смотреть в окно.
Дома добегут до самой Москвы в восемь дней. У домов этих смешное название: поезд.
— Пояс? — переспрашивает Ланжеро.
— Нет, поезд, — повторяли лесорубы и смеялись.
Ланжеро узнал, что в Москве ходит полмиллиона девушек, а может, и больше. Он думал — «свою» он сразу найдет, в толпе ее отличит и подойдет к ней. А вот что скажет — он не знал. Много думал об этом, но не мог придумать. Что-нибудь да уж скажет, когда встретится, не может быть, чтобы у него не нашлось слов.
Ланжеро строгал кусок дерева, из дерева хотел сделать смешного человечка, чтобы нос был у человека, чтобы рот был у него, чтобы мог человечек сидеть или стоять, хитрого такого человечка.
— Игрушку делаешь? — сказал Воробей. — Детей нет. Кто играть будет?
— Руку испытываю. Давно из дерева ничего не делал. Я хочу сделать такого человечка, чтобы как живой был. Мне нерпу хочется из дерева вырезать. Я пень видал, очень похожий на нерпу. Иногда думаешь о чем-нибудь, мечтаешь. И вдруг захочется, что думал, из дерева вырезать или из кости. Когда я был небольшой, года четыре мне было, я себе брата из снега вылепил. Очень мне брата хотелось. Думал, брат этот мне товарищем будет. Будем вместе с ним играть. Рыбу ловить будем. Рыбу из снега вылепил. Жалко мне стало оставлять брата. Думал, ребятишки могут унести. Собаки повредить могут. Взял я брата в юрту, оставил его возле дверей. Утром проснулся. Про брата забыл. Отец говорит мне: «Вставай чай пить». Вспомнил про брата. Жалко, думаю, брат мой чай пить не может. Растает. Подошел к дверям, а брата и нет. «Где брат?» — отца спрашиваю. «Какой брат?» — «Из снега брат, я тут его вчера оставил». — «Нету брата, — отец сказал мне, — ты его пьешь. Я утром снег увидел у дверей, я его в котел бросил, вскипятил». Теперь бы я брата не оставил у дверей.
— Сделаешь нерпу, — сказал Воробей, — подари мне. Я ее сестре пошлю. Моя сестра в геологическом институте учится. Я в Москву пошлю твою нерпу.
Ланжеро вздрогнул.
— Дерево — хорошая вещь. И кость тоже, — сказал Ланжеро. — Но из дерева или кости радость трудно вырезать, горе сделать. В другой раз в тайгу выйду: снег, следов много, горностай пробежал, куропатка улетела, на горе солнце, уже другое, под снегом уже шевельнулась земля, с лиственницы упал ком снега и заблестел, точно белка прыгнула, в реке лед стал тоньше, рыбу подо льдом видно; топнул я ногой, а рыба глухая, не слышит меня; с моря подул ветер, теплый ветер, другой; пахнет ветер мхом, речными камнями, тающим снегом, — из другого края ветер, где река уже очистилась. Где-то девушка вяжет сети. Разве скажешь об этом деревьям, вырежешь это из кости? Петь надо. Петь я не умею.
* * *
— Откуда ты? — спросил Кешка. — Вот и хорошо. Ты мне поможешь шуруп нарезать. Винт запропастился. У меня машина стоит. Тоскует. Придумаем что?
— Придумаем.
Ланжеро был рад. Давно руки сидели без дела. Возить лес — это скорее для ног дело, чем для рук. Идешь себе, шагаешь, конь себе везет. Хороший у Ланжеро конь.
В кузнице не было кузнецов. Кузнецы отдыхали. Ланжеро устроился как хозяин. Развел огонь. Зашумели мехи.
— Ну-ка, помогай мне, Кешка. Не стой.
Он нарезал винт. Руки разохотились, обрадовались работе. Ланжеро увидел в углу железо ржавое, хлам. Ему пришло в голову сделать маленькую вещь, совсем пустяк.
— Что это ты мастеришь? — спросил Кешка.
— Да так. Увидишь, — ответил Ланжеро.
Он снял рубашку и ковал, — так разошелся. Кешку даже бросило в пот. А ему, Ланжеро этому, ему все мало, вот как расходился парень.
— У-ух! — говорил Ланжеро и причмокивал.
Кешку это рассмешило.
— Жалко, что воды здесь нету близко студеной. Вот бы вылить на тебя ушат.
— Лей хоть целую реку. Я холодной воды не боюсь.
Кешку бросало в жар, он выжал из рубахи пот, но Ланжеро его не отпускал. Он словно сошел с ума, точно сам дух работы в него вселился, ковал, ухал и усмехался.
— У-ух! — говорил Ланжеро. — Пропадешь ты сегодня со мной, Кешка, поту в тебе не хватит.
— А я думаю, ты скорей убежишь. Руки-то твои здесь, а одна нога уже там.
Ланжеро сделал несколько железных крючков. Кешка сделал вид, что понял, для чего эти крючки. А Ланжеро все поднимал молот, ковал.
— У-ух! — говорил Ланжеро. — Ну что, Кешка, устал?
— Сознайся-ка, сам устал.
Ланжеро подходил к верстаку, выпиливал, отделывал свои детали.
«Вот черт, — думал Кешка, — недаром он сюда в свободное время ходил».
Кешку тянуло к машине, машина стоит без дела, да и время рабочее кончилось, день прошел — пора бы и в общежитие, выпить бы чайку, закурить, вытянуть ноги и сказать: «До чего есть хорошие девки на материке. Вот через год съезжу. Выберу себе одну, и она меня выберет. Не ошибемся. Жизнь вся впереди».
Кешка тронул Ланжеро за плечо.
— Эй, Ланжеро! До чего у нас есть хорошие девушки!
— А? Что?
— Девушки, говорю, хорошие есть.
— Девушки? — Ланжеро обрадовался. — Где девушки?
— На материке девушки.
— Далеко, — сказал Ланжеро, — разве ближе девушек нет?
Ланжеро вспомнил, как в лесу он услышал голос. Он шел на песню. Думал — вот-вот он эту девушку увидит. Падал, вставал и шел. Пришел: песня есть, а девушки нет. Зачем ему песня без девушки? Ланжеро вздохнул. Кешка рассмеялся.
— О девушке все. Думаешь, я не понял твой вздох?
Ланжеро еще раз вздохнул. Девушка ему снилась.
Он знал приблизительно, какая она. Во сне разве увидишь точно? Была и нету. Она такая, как сестры этих ребят, только гораздо лучше. Лесорубы не раз показывали ему фотографии своих сестер. Омелькину только нельзя было показывать.
— Вам сестры, — говорил он, — а мне они жены.
Ланжеро часто слышал голос своей девушки. Думал о ней. Только никому не говорил. Как скажешь об этом другому? Вот ей самой, ей, может быть, он бы сказал.
— Задумался, — обрадовался Кешка, — может быть, чай пить захотел.
А Ланжеро, казалось, забыл о том, что темно на дворе, что ужин уже остыл. Железо у него кричало, радовалось. А он все нажимал и нажимал.
Кешка думал с тоской: «Хоть бы пришли кузнецы, спят, верно, хоть бы поругали за самовольный захват кузницы, хоть бы погнали отсюда нас».
А Ланжеро ухает себе, кует, словно сердится на железо, лупит и лупит. Кешку он просит то углей подкинуть, то мех посильнее раздуть.
— У-ух! — говорил Ланжеро. — Ну как, не устал еще, Кешка?
— Жив еще, — отвечал Кешка, — кому другому, а тебе не сдам.
Кешка взглянул в угол — а железа там еще много.
— Отпусти меня, Ланжеро, — сказал тихо Кешка, — и себя освободи. На сегодня хватит.
— Что ты сказал? — не расслышал Ланжеро.
— И не думал. Ничего я не говорил.
А Ланжеро этому рад. Вот притворяется, что не слышал. У самого слух как у зверя. Кешка даже рассердился. Что он, не из такого, что ли, материала, усталость почему его не берет?
— Эй, Кешка! — спросил Ланжеро. — Не знаешь, Прыгуновы рыбу любят?
«К чему это?» — подумал Кешка.
— Который Прыгунов?
— Оба.
— Рыбу — не знаю, — буркнул Кешка. — Баб они любят. Герои, как мы все.
— А Воробей любит рыбу?
— Зачем это тебе? Откуда я знаю? Воробей людей любит. А людей не едят.
— У-ух, — сказал Ланжеро. — А ну, еще немножко. А ну, еще. Еще, так еще.
Когда они вышли из кузницы, Ланжеро предложил Кешке бежать взапуски. Ну и чудила! И, не дождавшись ответа, побежал. Чтобы не отстать, Кешке пришлось бежать за ним.
Ланжеро обежал дом и крадучись вернулся в кузницу. Он думал, что Кешка не побежит за ним, но Кешка не отставал.
Ланжеро сказал Кешке:
— Ты иди отдыхай. Мне что-то неохота. Пьян я, что ли?
«Ага! Хочешь смыться незаметно», — подумал Кешка.
— Смеешься, — сказал он, — не на такого напал.
Ланжеро вытащил раскаленную полосу и ударил, легко и сильно, точно в первый раз. Ударил, а потом еще и еще.
— Ночь скоро уйдет, — сказал Кешка, — а что ты творишь — не догадываюсь. Тоже творец.
— А я и сам не знаю, получится или не получится. Новое дело как песня. Первые слова знаешь, а дальше идешь ощупью. Может, и не выйдет у меня ничего.
— А смеха моего не опасаешься? Ночь-то, думаешь, бессонную я тебе прощу? Вот уж посмеюсь.
— Иди спать. Я один как-нибудь.
— Что же, испугался?
Ланжеро пытался взять хитростью. Он сделал вид, что ему очень хочется спать. Широко зевнул.
— Пойдем-ка лучше спать.
— Что ты сказал, Ланжеро?
— Спать — я сказал.
Пошли, легли, уже светало. Спали они рядом. Только легли, а Ланжеро уже встает.
— Ты куда? — поднимается и Кешка.
— Во двор.
— И я во двор. Ты куда, Ланжеро?
— В кузницу. Забыл я рукавицу.
— И я туда же. Тоже что-то забыл, не помню что.
Вот они опять в кузнице.
— А все-таки, Ланжеро, вразуми, объясни, что ты делаешь?
— Человека хочу немножко облегчить. Человеку трудно. Коню хочу помочь. Жалко коня. Придумать хочу. Одну вещь попробовать.
— Ну, человека и без тебя облегчают. Коню автомобиль помощник. Это дело инженера. Какой из тебя инженер?
Все же не выдержал Кешка — сдался, согласился, пошел спать. Он бы не ушел, если бы думал, что Ланжеро что-нибудь нужное делает, ремонтирует, скажем, машину или даже пустяк, но нужный пустяк — ручку для дверей, а то тратит себя человек, кует, неизвестно что кует, железо — не слова, из железа песни не споешь. Ушел Кешка спать.
«Завтра выходной, — думал он, — отосплюсь».
Утром Ланжеро разбудил Кешку. Ланжеро даже шатался, не то от усталости, не то от радости.
— Вышло, — сказал он, — сделал. Эта штука для облегчения. Вроде машины. Подъем бревна облегчит. Трудные у вас, толстые бревна.
Кешка посмотрел на «машину» Ланжеро и расхохотался.
— Не машина, а зверь у тебя получился. Ишь, лапы с когтями.
— А это, чтоб бревно хватать. Вот так нажал на рычаг, она бревно и подымет.
— Твою машину в музей бы, — сказал Кешка. — Учиться тебе надо. Может, и правда изобретатель из тебя выйдет.
— Зачем смеешься?
— А рыба на что? — спросил Кешка, увидев в руке Ланжеро связку продетых за жабры рыб.
— Рыбу передай Воробью и ребятам. Машину передай. Мой подарок. Передай ему еще эту книжку. Девушку, скажи, себе оставил.
— А ты сам? — спросил Кешка.
— Ты спи, Кешка, еще утро.
— А ты сам-то иди, Ланжеро, спать.
В этот день место Ланжеро за столом осталось незанятым. Остыла налитая для него тарелка супа.
В этот день Ланжеро ушел, никому ничего не сказав.
Часть вторая
Глава первая
В Охе жила девушка. Она не умела ходить. Бегала, но не спешила. Просто это была привычка. Она, наверное, не умела гулять, разве можно гулять бегом?
Девушка ходила в резиновых сапогах и японской спецовке — во всем синем. Японцы называли ее Нина-сан, то есть господин Нина.
Весной этого года Нина окончила Московский геолого-разведочный институт.
— Знаете, куда я поеду работать? — сказала она как-то. — Я полечу на Сахалин, в Оху.
— Не улетай от нас, Нина! — сказали студенты. — Не выходи замуж!
В вагоне в Нину влюбился старик, зубной врач.
— Хотите, — сказал он, — я запломбирую вам зубы?
Нина писала на каждой маленькой станции открытку, на каждой большой станции — письмо. До Хабаровска она отправила сорок семь писем. Столько приятелей, а она не успела ни с кем проститься.
В Хабаровске Нина побывала в китайской пагоде.
На телеграфном столбе, сваленном тайфуном, сидел китаец. Ему было лет двести — не меньше. Ну, не двести, так сто. От старости и от одиночества он разучился говорить. Китаец раскрыл перед Ниной ворота. Пагода стояла среди гряд, среди тыкв, огурцов и помидоров. В маленькой фанзе облачался китайский поп. Нине хотелось узнать, как «поп» по-китайски. Поп ей приветливо улыбнулся.
Возле пагоды лежала поленница мелко наколотых дров. В храме стояли боги. Перед ними были помидоры на жертвенном столе. На стенах были наклеены старые советские газеты. Китаец зажег свечу. Нине стало душно. Она дала китайцу пять рублей и выскочила на улицу. На улице ей стало смешно. Прохожие с ней заговаривали. Она отвечала им, расспрашивала всех, зашла в музей и пожалела, что не успеет побывать в театре.
Вечером она стояла на палубе отходившего парохода и смотрела на Хабаровск, прощаясь с ним.
Там, где Уссури и Амур соединялись, выделялась среди других гор гора, похожая на седло.
В саду гремела музыка. Весь город был залит солнечным светом, и брызги солнца были на деревьях, и на домах, и на воде.
И когда Хабаровск стал удаляться, Нине стало его жаль.
Амур становился все шире и шире. Берега были затоплены. Из реки торчали высокие тонкие кусты. Ночной ландшафт напоминал что-то виденное в географии, быть может даже Амазонку.
Утром пароход остановился возле берега первобытной красоты. На песке возле кустарника лежали опрокинутые тонкие, словно вырезанные из доски лодки. Весла были похожи на ложки.
Нина прыгнула. Молодой нанаец подал ей руку, точно он был с ней уже знаком.
Перед глиняными фанзами лежали великолепные собаки, положив головы на лапы. Их умные лица были квадратны и добродушны, что-то человеческое, очеловеченное было в этих собаках.
И Нине было легко-легко, хотелось подняться, полететь птицей.
Солнце купалось в реке. Оно светило сквозь сети, вытянутые на шестах для просушки.
Пароход стоял минут десять. Но Нина успела облететь все фанзы, со всеми познакомиться, подержать на руках нанайских детей, угостить их конфетами.
Старый нанаец подарил Нине щенка.
На пароход села нанайская молодежь: четыре парня и три девушки. Они ехали в Комсомольск на конференцию молодежи.
Нина ходила по палубе со щенком. Он был теплый, мягкий. Повар налил в ее блюдечко молока. Нина накормила щенка. Он лакал из ее блюдечка — славный-славный, еще слепой.
Она подружилась с нанайцами. Они звали ее с собой в Комсомольск.
В Комсомольск пароход пришел ночью. Комсомольск Нина проспала. Проснулась в Нижней Тамбовке. На берегу стояли почерневшие от дождей, старые деревянные дома с позеленевшими крышами. Развевался «колдун» — указатель ветра, пестрый, круглый, издали пушной, похожий на хвост полярной собаки.
В Николаевске-на-Амуре с парохода Нина пересела в «савойю». Она была единственной пассажиркой. Самолет летел из Хабаровска с почтой.
Летчик запустил мотор, и вдруг загремело, заревело, снаружи зашумела вода, и самолет начал медленно отделяться от реки. Это было неприятно.
«Как зуб сверлят», — подумала Нина и вспомнила того зубного врача, который в нее влюбился. Она раскрыла книжку «Нового мира», но читать не смогла. Мотор ревел. Нина заткнула уши и посмотрела вниз. Сбоку она увидела Николаевск, пакгаузы, домики, сад: тоненькие березки и висевшее на веревках между березок белье. С другой стороны была река. Река была выше домов, как только бывает на карте. Но вот дома стали выше реки. Самолет выровнялся. И вот не стало ни домов, ни реки, ни гор. Они летели над Татарским проливом. На воде были пенистые дорожки, словно следы только что прошедших кораблей. Дымили пароходы. Мелькнула косатка. Местами было видно дно. С самолета все казалось Нине другим — маленьким, низеньким, не таким уж широким: горы, берег, море — все, все, словно они летели над страной лилипутов.
Показался Сахалин.
Нине стало вдруг холодно. На коленях у нее лежал щенок. Он спал. Они летели над землей, над людьми, над домами. Но вот туман закрыл все. Внизу, еле видная, мутнела тайга. Туман стал гуще. Земли уже не было видно. Но вот стало не видно и неба. Мотор ревел. Нине казалось, что он ревел не так, как раньше, а с перебоями. Что-то тревожное было в его шуме. Нина взглянула на часики. Часики стояли.
«Неужели я боюсь?» — подумала Нина.
— Трус, — сказала она себе. — Ну что, трус?
Она закрыла глаза. На коленях у нее что-то двигалось. Нина раскрыла глаза. Это был щенок. Он шевелился и беспокойно повизгивал.
Иллюминатор был словно завешен.
«До Охи лететь всего час, — думала Нина. — Сколько же часов мы летим?»
Она взглянула вниз. В тумане она разглядела смутные верхушки лиственниц. Самолет здесь не смог бы сесть, не разбившись. Внизу не было ни озера, ни реки. Мотор ревел. Нина отвернулась от иллюминатора. Немного погодя снова взглянула. Те же лиственницы. Нине показалось, что самолет кружится на одном месте.
«Неужели сбились с трассы?» — подумала Нина.
Щенок шевелился, дрожал.
«Беспокоишься, — подумала она. — Жил бы себе в стойбище».
Она подумала, что она не может умереть, и вдруг ей стало тревожно за щенка.
— Котик, — сказала она.
Щенок сосал ее палец.
Прошло много времени. Она услышала, кто-то ее зовет. Летчик помахал ей рукой и бросил записку.
«Проголодались? — писал он ей. — Я тоже. Где и когда мы будем обедать — не знаю. Но думаю — сегодня».
Нина усмехнулась. Мотор все также ревел. Если бы она ответила, летчик все равно бы ее не услышал.
Она посмотрела вверх. Там они сидели оба — летчик и бортмеханик. Лица у них были серьезные, сосредоточенные, как у врачей.
Она закрыла глаза — так было лучше.
Ее потряхивало. Ей казалось, что она сидит не в самолете, а в крытых санях и едет в пургу. Ветер ревет. Откуда-то доносится звон.
И снова завозился, завизжал, заплакал у нее на коленях щенок.
«Может, его укачало, — подумала она. — На сколько же времени хватит бензина? Кажется, на четыре часа. А потом?»
Она посмотрела в иллюминатор. Вверху и внизу был туман. Нельзя было определить, что внизу: остров, материк или море.
Она взглянула на часы. Жаль, что остановились. Она бы знала, сколько еще у них осталось времени.
— Умнее всего, — сказала она, — было бы уснуть.
Она закрыла глаза. Может даже, она и спала. Она открыла глаза. Перед ней стоял летчик. Мотор не гудел.
— Идемте, идемте, — торопил ее летчик, — пока обед еще не остыл.
— Оха? — спросила Нина.
— Нет, зачем? — летчик улыбнулся. — В Охе не пришлось. В Николаевске пообедаем и поужинаем. Завтракать будем в Охе.
— Я не хочу ужинать, — сказала Нина и рассмеялась. — Я хочу завтракать.
Нина вышла и увидела уже знакомый николаевский аэропорт, красное здание Института народов Севера, Амур и пароход призрачный, облепленный туманом, тот самый, на котором она сюда приехала.
Их встретили начальник аэропорта, жена начальника и радист, улыбающиеся и встревоженные.
Нина ела жареную кету и пила какао, которое отдавало рыбой.
— Бедная моя пассажирка, — сказал летчик. — Настрадалась? Туманище-то был такой, что вам не удалось посмотреть Сахалин. В своем роде слепой полет, только без приборов.
Утром вылетели снова. Залив был как чаша. На воде лежали облака — остатки вчерашнего тумана.
Снова плавни, снова песчаные, извилистые островки. Нине все казалось давно знакомым.
Самолет быстро прошел над тайгой. Показались нефтяные вышки, деревянные домики и длинные железные дома.
— Оха! — крикнула Нина.
Оха была словно на кончике ее пальцев. На них, на самолет, на Нину смотрели жители всей Охи.
И вот дома, все больше и больше, под Ниной деревья, залив Уркт, по бокам самолета уже шумит вода, самолет летит по заливу.
В пригороде Дамир Нине навстречу попался рыжий старик. Поравнявшись с Ниной, он крикнул ей весело:
— С приездом! — крикнул он ей. — Могла и не приезжать. Мы таких, как ты, лепим из глины.
Нина расхохоталась.
— Здравствуйте, — сказала она и протянула руку.
— Здороваешься? — удивился старик. — Ты мне кто такая? Дочь, что ли? Извини, ну, здравствуй, здравствуй, дочка.
Глава вторая
Нина поселилась у дяди Антона, у того самого рыжего пьяного старика, у первого встречного.
— Извиняюсь, — сказал дядя Антон, — нет, уж мы вскипятим самоварчик.
— Мне довольно и чайника.
— Старушка! — крикнул старик.
Из комнаты вышла заспанная чистенькая старушка.
— Познакомьтесь. Извиняюсь.
Дед Антон был знатным бурильщиком, героем дня, о нем ежедневно писала охинская газета «Сахалинский нефтяник». Нина бросила чемодан, сунула дяде Антону щенка и побежала.
Оха! Так вот она какая — Оха!
Жизнь была густая в этом городе. Небо Охи было низкое. А море было так высоко, казалось, что оно над землей, и везде прорывался пар и стлался над землей, над домами и над тайгой. Земля была жирная. А речка Оха была вся в нефтяных пятнах.
И Нина в тот же день знала, что где, обежала всю Оху. И к вечеру у нее было уже много знакомых. Одни звали ее ехать с собой на полуостров Шмидта сегодня же — уходил катер, другие советовали ехать в Катангли через три дня, туда идет «Глубовик» — кавасаки, третьи приглашали ее ужинать, послушать патефон, четвертые… Но всех не перечтешь.
Вечером Нина никуда не пошла, а села у окна, чтобы написать несколько писем. Одному знакомому она написала письмо, в котором посмеялась над ним. Пусть он больше не присылает таких дурацких телеграмм. Подруге она описала свой полет. Студенту-поэту послала пейзаж «Оха вечером из окна комнаты дяди Антона».
«Полукруглая гора, — писала она. — Лес, небо светло-синее, вечернее, бледно-розоватое. На небе одинокое темно-синее облако. Синее смешивается, входит в розовое. Нежное небо Севера. Лес в полукруге низкий, темно-зеленый.
Дома высокие, узкие, как в американском фильме о дальнем Западе. Ни одного забора! Налево и направо бараки с окнами, похожими на заплаты. Величественные уборные. Пни. Трубы. И вышки, темные, светлые нефтяные вышки.
Выбросьте этот протокол. Я хочу, чтобы вы написали стихи об Охе. Мне кажется, что я сама здесь буду писать стихи или что-нибудь вроде».
Утром Нину разбудил крик паровоза. Она посмотрела в окно. Маленький паровозик пыхтел. В крошечных вагонах сидели японцы, важные, в шлемах и в очках. Паровозик вез их на кайган.
Нина вспомнила про письмо, которое было послано с ней из Москвы начальнику горного округа.
Начальника она встретила возле концессий: низенький, большелицый, краснощекий человек.
— Не скажете ли вы, — спросила Нина, — где живет Подушкин, начальник горного округа, Василий Васильевич?
— Подушкин — это я, — ответил прохожий. — Василий Васильевич вам рад.
И, взяв письмо, он на ходу прочитал его.
— Дипломантка, — сказал он, — как же мне с вами быть? Через несколько дней уходит шхуна «Чайво-Мару». Хотите с японцами? Советская геолого-разведочная партия уехала недавно. Какая жалость! Следующая отправится через месяц, не раньше.
— Я хотела бы раньше. На дипломную работу мне дали год. Два месяца нужно вычесть: дорога.
— Я иду на концессию. Идемте. Я вас представлю господину Хонда, начальнику геолого-разведочного отдела. Если он согласится, я буду рад. Вы будете нам полезны. Разговаривая с ним, обдумывайте свои слова, выбирайте выражения. Вам придется быть не только геологом, но и дипломатом.
— А если я поеду с ними, — спросила Нина, — мне все лето придется выбирать выражения, обдумывать слова?
— Лето? Ну да, — сказал Василий Васильевич. — Разве это много — лето? Я вот уже седьмой год выбираю выражения. Привычка. Даже когда ругаешься с женой, выбираешь слова. Ругань-то и не получается. Взгляните на меня — я грубый, люблю посмеяться, надерзить люблю. Думаете, легко было обтесать себя? Обтесал. И вы тоже обтешите. Дерзить можно. Иногда даже нужно. Но так, чтобы дерзость была внутри. Раскусил фразу — снаружи сладко, а внутри горько.
Они прошли через мостик мимо ожидалки, где сидели японцы и ели рис; Василий Васильевич открыл дверь. Нина вошла в дом, и дом этот был почти Япония.
В кабинете за столом сидел полный японец и улыбался, а также почему-то потирал руки, точно совершил выгодную сделку или ему было холодно. В кабинете было очень тепло, сухо, тепло по-японски. На столе лежали сигары и стоял телефон. Был какой-то незнакомый острый, но приятный запах.
Японец, увидя Василия Васильевича и Нину, встал, поклонился и сел. Нина вошла в комнату очень большими шагами.
Японец вдруг рассмеялся и спросил, смеясь:
— Эта, эта кто?
— Это девушка, — ответил Василий Васильевич.
— Эта какая, эта молодая девушка?
— Да. Это еще не старая девушка.
— Эта, эта пролетарская девушка, эта комсомор?
— Нет, это беспартийная девушка.
— Эта, эта кто девушка — ученик?
— Нет, инженер.
— Эта, эта какой инженер? Хороший? Эта где инженер — на кухне инженер?
— Нет, это инженер-геолог.
Хонда-сан расхохотался.
— Эта девушка имя как есть?
— Нина.
— Нина-сан, инженер-девушка, садитесь. Вы зачем сюда приехали, девушка?
— Я приехала работать.
Нина села.
— Пожалуйста, возьмите, — сказал японец. — Эта, эта вкусно.
Нина взяла предложенный ей апельсин.
— Я к вам с такой просьбой, — сказал Василий Васильевич. — Вы отправляете геолого-разведочную партию в Боатасин. Я хотел просить вас, не может ли поехать с вашей партией эта девушка?
— Это возможно очень. Вы не курите, инженер-девушка-сан? Как ваше имя есть?
— Нина! — ответила громко, чуть не крикнула Нина.
— Нина-сан. Девушка-геолог. Это очень весело. Я буду писать дочери. Моя дочь любит, чтобы было весело. Девушка-инженер.
Он помолчал.
— Эта, эта какая, красивая девушка?
Василий Васильевич встал и раскланялся. Нина встала. Японец кланялся. Кланяясь, он проводил их до дверей.
— Это его манера разговаривать, — сказал Василий Васильевич. — Вы не подумайте. Он плохо знает русский язык.
Краска еще не сошла у Нины с лица. Ноздри ее вздрагивали.
— Он… он хамил, скажем прямо.
— Вы, наверное, уже раздумали? — спросил Василий Васильевич, помолчав.
— Вы… Вы меня не знаете. Я хочу ехать во что бы то ни стало.
После обеда Нина вышла на улицу пройтись, помечтать, посмотреть, чего еще не видела. Она шла, широко шагая.
Охинский вокзал — маленький, дачного типа домик — не походил на вокзал. У вокзала под открытым небом стояли кровати.
По узкоколейке пыхтел паровозик, тащил чан пресной воды на кайган.
Прошли два японца, они несли воду в квадратных жестяных ящиках.
В одиноком «фаршированном» домике плакал ребенок. Нина постучалась. Никто не ответил. Она вошла. Ребенок был один. Она сунула ему в рот соску, подвернула пеленки.
Когда она вышла, ее кто-то окликнул.
— Женщина, — сказал ей молодой парень, — товарищ женщина…
— В чем дело?
— Нет ли у вас огня?
* * *
Стояла гора. Гора была окутана паром.
Пни торчали.
Лиственницы, окутанные паром, были словно едва вычерченные, какие-то незаконченные.
Нина свернула и пошла к парку.
Она села на скамейку.
— Позвольте и мне, — услышала она, — с вами помечтать.
Перед ней стоял мужчина в фетровой шляпе.
— Петров, — сказал он.
— Это какой Петров, — рассмеялась Нина, — доктор?
— Нет, инженер.
— Ну да, он не то инженер, не то доктор. Мне рассказывали про одного Петрова.
— Хотите пройтись? Вы недавно приехали? Впрочем, я видел, когда вы вошли в город.
— Идемте, — сказала Нина.
Нина шла быстро. Инженер Петров распространялся о женщинах. Он был уже почти влюблен.
Парк охинский был удивительный парк. От тайги его отделяла низенькая изгородь — две-три жерди. Нина ее даже не заметила. Незаметно она и Петров углубились в лес. Это был густой, дикий, медвежий лес. Инженер говорил о своей душе, а Нина думала: когда же он кончит? Ей хотелось расспросить его об Охе.
«Кавалер», — подумала она. Ей было ужасно смешно.
Тайга становилась все гуще и гуще. Стало темно. Петров был неловок, он отстал. Нина потеряла «кавалера». Вернулась в Оху одна.
— Петро-о-ов! — крикнула она, выходя из парка.
Ей ответило эхо.
Дверь ей открыл дядя Антон.
— Спи, дочка, — сказал он, — я тебя разбужу. Подождет тебя, не уйдет «Чайво-Мару».
Собралась Нина быстро: в одной руке щенок, в другой — чемодан. Провожать ее пошли Василий Васильевич, дядя Антон и Петров, инженер, с которым она познакомилась в парке. Он нашелся.
Провожающие шутили.
— Пишите, — говорил Василий Васильевич. — И я, старик, буду писать вам. Вы какая-то уж быстрая очень, сейчас тут, а через секунду там. Впрочем, теперь все вы такие. Откуда это в вас?
— А если хныкать буду, — перебила его Нина, — если комары заедят — писать буду, что вы скажете?
— От комаров — сетка. Я положил вам ее, сунул в рюкзак.
— А если я сбегу? — спросила Нина.
— Этого я не боюсь, — рассмеялся Василий Васильевич. — Боюсь, как бы они от вас не сбежали.
Инженер Петров молчал, смотрел в сторону, позевывал, словно ему было скучно и тянуло домой.
— Я прилечу к вам, — сказал он.
— Куда? — спросила Нина. — Зачем?
— На чем? — спросил Василий Васильевич. — Туда самолеты не летают.
— В мечтах, — сказал Петров.
— Если обижать будут, — мрачно сказал дядя Антон, — мне сообщите.
— А что вы им сделаете?
— Я им! — сказал дядя Антон. Он растерялся. — Я им выскажу, я Литвинову самому на них писать буду!
Старик поцеловал Нину в щеку, обжег ее своей бородой. Василий Васильевич помахал перчаткой, инженер догнал и что-то сунул.
Паровозик свистнул. Платформы покачивало. Нина распечатала письмо, которое сунул ей инженер, и расхохоталась.
— Влюбленный шко-ольник! — крикнула она. — Гимназист паршивый!
«Пожалуй, услышал, — подумала она, — ничего!»
Поезд бежал среди стланика. Он был такой же карликовый, как и эти деревья.
Белел, синел, чернел залив Уркт.
На кайгане стояли карликовые японские домики.
Море бросалось на берег. Торчал железный остов давно погибшего корабля.
На берегу Нину встретили улыбающиеся и кланяющиеся японцы. Она узнала Хонду-сана. Он познакомил ее с остальными.
— Киритани-сан, — сказал он, — Судзуки-сан, Хота-сан. Будьте знакомы.
Потом он показал на ручные часики: Нина опоздала на полчаса.
Он показал пальцем на щенка и рассмеялся.
— Эта, эта кто? — спросил он.
— Это щенок.
— Эта, эта кусается?
— Нет, это не кусается.
Шхуна «Чайво-Мару», распустив паруса, шла на юг вдоль восточного сахалинского берега.
Нина сидела на палубе. Покачивало. Был солнечный день. Небо было нежное, с зелеными просветами.
Летели птицы с длинными шеями.
— Вам нравится это море? — спросил Киритани-сан.
— А вам?
В море сели чайки. Они были похожи на фарфоровых птиц.
Глава третья
Ланжеро шел всю ночь. Утром он уснул возле одинокого дерева, недалеко от реки.
Проснувшись, он спустился к реке, умылся и крикнул. Эхо разнесло его голос. Стая вспугнутых криком птиц поднялась, громко хлопая крыльями. Ланжеро выстрелил в стаю. Упали две птицы. День Ланжеро шел по тропе. Отойдя от тропы, он нагнулся: на песке был след мужской ноги — какой-то человек прошел здесь недавно.
За горой, в зыбком месте, Ланжеро опять увидел следы. Это были глубокие следы, хорошо отпечатавшиеся, еще не засохшие. Но вскоре следы исчезли. Человек, очевидно, здесь уже не шел, а прыгал с кочки на кочку.
«Где-то он близко, — думал Ланжеро, — я его нагоню. Вместе идти лучше. Вместе будем сидеть у костра, птиц жарить. Он, может, тоже идет в Оху. Это старый человек шел, усталый шел, шел и останавливался. По всему видно».
Вечером Ланжеро опять увидел следы. Он обрадовался им, словно впереди шел его отец.
Ланжеро пошел быстрее. Уже было темно, когда он наткнулся на человека. Человек лежал — может, он был мертв. Ланжеро нагнулся. Нет, человек спал, тихо всхрапывая. В спящих руках его было ружье. Ланжеро подумал: «Будить не стоит». Развел костер и, ощипав, стал жарить своих морских уток.
Человек проснулся, чихнул, вскочил и поднял ружье.
— Готово, — сказал Ланжеро. — Садись есть.
— Гиляк? — спросил неизвестный.
— Да, нивх, — ответил Ланжеро,
— От гиляка я ничего не возьму. Отойди от меня, гиляк. Я тунгус, я не уважаю тебя, гиляк.
— Старик, — сказал Ланжеро, — я плохого не скажу. Я так тебе отвечу: иди сам, если хочешь. Я развел костер, я от него не уйду. Хочешь — сиди. Я не слышал твоих слов, старик, не понял.
— Хорошо, гиляк. Я тут останусь. Сиди и ты. Ты на чужой земле сидишь.
— Как на чужой?
— На моей. Про Гантимурова слышал?
— Нет, не слыхал.
— Ладно. Я из далеких мест сюда пришел в свои места. Рыба — и та возвращается умирать в свою речку. Вот и я вернулся. Много дней шел.
— Что так рано собрался умирать? У нас Чевгун-старший, ему сто один год, он еще сто хочет жить.
— Знаю Чевгуна, — сказал неизвестный, — пусть живет, я жить не хочу, сам не умру — другие помогут.
— У нас помощников смерти нет. Живи, старик. Мы тебе жить поможем, если ты того стоишь.
— Стою, — сказал старик.
— А стоишь, так живи.
— Я помощи от врага не приму. Я враг тебе, гиляк, неужели не видишь?
— Я не знаю, кто ты, — сказал Ланжеро, — у меня только один враг: Низюн.
— Низюн? Знаю Низюна. Я приятель Низюну. Кто твои друзья?
— У меня друзей много. В комсомольском леспромхозе у меня друзья. Сто друзей, больше. В тайге оставил друзей, недалеко, на Тыми, телефон проводят для людей. В Оху иду, а потом в Москву, — там тоже, наверное, живут друзья.
— Я враг твоим друзьям.
— Прямые твои слова. Ладно, — сказал Ланжеро, — а пока согрейся возле моего костра, потом видно будет.
— Я сам, — сказал неизвестный, — не знаю, кто я. Может, даже и не враг. Кровь устала, я как кета, которая подымается вверх по Тыми — умирать. Сейчас я, пожалуй, самому господу враг. Отодвинься, гиляк, я с тобой рядом не сяду.
— Слушай, старик, я еще не понял твоих слов. Последний раз говорю, кто ты? Первый раз такого встречаю — откуда ты?
Тунгус сел к костру, взял утку и отломил крыло.
— Видишь, — сказал он. — Я крыло ломаю. Сейчас я буду есть. Первый раз буду есть убитую птицу. Это значит — смерть недалеко. Гнушаюсь я.
— Откуда ты такой? Таких здесь нет.
— Я вон с той стороны пришел. Из чужой стороны. Я к себе вернулся. Это моя река. Зверь здешний — мой зверь. Лес мой. Ты на моем пне сидишь. Не я, а ты у меня гость. Я здешних мест хозяин. Что в реке — это тоже мое. Я вернулся сюда выбрать место. Может, в реку свалюсь, пусть несет меня река. Может, под деревья лягу, руки сложу, пусть зверь приходит. Может, к теперешним хозяевам постучусь: убивайте, скажу, все равно не вы здесь хозяева, я хозяин.
— Бредишь, старик, проснись. Ум у тебя болит. Идем со мной, я тебе покажу здешних хозяев.
— Гиляк, отодвинься, я под этим деревом спать лягу. Найди себе другое, брезгую я тобой — я брезгливый.
Тунгус лег под деревом и закрыл глаза.
Ланжеро долго сидел у костра и думал:
«Он еще не так стар, этот человек, руки у него молодые. Лицо его свежее, внутри у него, должно быть, как в старом дереве дупло, старость. Пусть спит. Утром я его рассмотрю. Слова у него прямые. Такие люди не могут быть очень худыми».
Ланжеро так и уснул, сидя у костра. Не заметил, как и уснул. Будто и не спал, голова клонилась.
Ему приснилась утренняя звезда. Звезда упала прямо в костер. Он протянул руку: не звезда это, а рыба. Рыба посмотрела, а у нее живой — не рыбий, не человеческий глаз, глаз Чевгуна.
«Здравствуй, — сказал Чевгун, — видишь, я помер. Стал рыбой. Ты зря меня поймал, худо тебе будет».
Рассмеялся Ланжеро. Смеется, а у самого по щеке ползет слеза, упала в костер. Тут видит Ланжеро: стоит перед ним девушка и трогает его.
Проснулся Ланжеро, а на плече у него чужая, холодная рука. Тунгус стоит перед ним.
— Вставай! Вставай! Скорее! — будит он Ланжеро.
— Что такое?
— Вставай! Я немножко тебя не убил. Мне убить тебя захотелось. Думаю, подойду к сонному, ударю и толкну в костер. Пусть задохнется. Вставай, вставай!
— Ну, я не сплю, — Ланжеро вскочил. — За что ты меня убить хочешь?
— Долго об этом говорить. Бери ружье. Иди в эту сторону, я в ту пойду. Пойдешь, оглядывайся, — я в тебя стрелять буду, я все равно тебя убью. Жалко, в костер головой не пихнул сонного.
Ланжеро взял ружье, зарядил. Рассмеялся.
— Ум у тебя болит. За что ты в меня стрелять хочешь? Что я тебе сделал?
— Долго объяснять. Уходи скорее, а то я тут в тебя выстрелю.
Ланжеро пошел. Он даже не оглянулся.
«Смеется, бредит. Вот человек так человек, я даже не слышал про такого».
Не успел Ланжеро пройти шагов двести, как хлопнул выстрел, пуля просвистела возле щеки, обожгла щеку страхом и воздухом.
Ланжеро присел. В этом месте стоял камень. Из-за камня было видно тунгуса, как он стоял и целился.
«Это он в меня целится», — подумал Ланжеро.
Ланжеро стало страшно и смешно.
«Точно в утку, — подумал он. — Надо будет его убить: не меня убьет, так другого. Как бешеная собака».
Ланжеро выстрелил. Тунгус перебежал к другому дереву. Выстрелил тунгус. Ланжеро вскочил и перебежал. Старик закурил трубку и стоял выпрямившись.
«Даже не прячется, — подумал Ланжеро, — может, не так меня хочет убить, как хочет, чтобы я его уложил. Нет для него у меня пули. Пусть под деревом ложится».
— Эй! — крикнул Ланжеро. — Нет у меня для тебя пули, ложись под деревом, жди зверя. Медведь скоро придет.
Тунгус не расслышал.
— Эй! — крикнул он. — Повтори. Ветер слова твои относит.
— Эй! — крикнул Ланжеро. — В реку падай. Пусть река тебе даст смерть. Я твоей смерти не помощник.
— Пулю жалеешь! — крикнул старик. — Я в тебя два раза не попал. Подстрелю, носом обязательно тебя в болото суну.
Старик закашлялся. Не то кашлял, не то смеялся. Голос у него был простуженный.
«Чистый Чевгун», — подумал Ланжеро.
— Эй! — крикнул тунгус. — Пропадай!
И выстрелил. Пуля пробила котомку, ударилась в котелок.
— Нет, — сказал Ланжеро, — ты в самом деле меня убить хочешь.
Ланжеро прыгнул, согнулся и, промелькнув возле пней, выбежал на поляну и пополз. В траве его не было видно. Он полз, чтобы добраться до ручья, оврагом забежать старику в тыл, а там будет видно. Может, ему удастся подползти к старику, взять его живым, может, придется убить, — там будет видно.
Глава четвертая
Князь Гантимуров был первый тунгус, попавший на Сахалин.
Сахалин ему понравился. Тайга была настоящая, горы были, река. В тайге соболя можно было встретить. Жил дикий олень, кабарга, выдра, летала летяга.
Гиляки были не столько охотники, сколько рыбаки. Правда, на Сахалине жили орочоны, но их было мало.
Вернулся Гантимуров на материк.
— Вот что, тунгусы, — сказал он. — Был я на Сахалине. Очень хороший остров. Зверя достаточно, есть соболь, белка есть. Выдру надо — выдры сколько угодно. Начальства там нет. Японцы — люди хорошие. Я их знаю. С оленями молодых ребят пошлите. А я, так и быть, куплю вам билет на пароход, там сочтемся.
Был Гантимуров купец ловкий. Якуты — и те, богатые якуты, — перед ним пасовали.
— С Гантимуровым не пропадем, — сказали тунгусы. — Не понравится, обратно приедем. Правда, Гантимуров?
Поехали тунгусы: Тихонов с семьей, Соловьев с сыном, Семенов, Степанов, Прокофьев и другие. Море им не понравилось. К морю тунгусы народ непривычный.
— Если рек тысячу вместе слить, — сказал Христофор Тихонов, — пожалуй, такое озеро будет.
— Тысячи мало, — сказал Степанов, — тысячи две надо.
— Вода вроде другая, — сказал Соловьев, — ровно и не вода. Вроде и не живая, темная очень.
Пароход подошел к Москаль-во. Тунгусы увидели остров песчаный, мертвенный, низкий. Небо и то не такое, как будто и не небо, а что-то другое.
— Это, — спрашивают, — и есть тот Сахалин?
— Сахалин это, — отвечает тунгусский князь Гантимуров.
— Так мы и думали. Обманул ты нас, Гантимуров. Надо бы обратно вернуться, а тебя следовало бы убить — плохой ты человек, Гантимуров.
— Хороший человек, — сказал Гантимуров. — Двадцать верст пройти — начнется тайга. Сто верст пройдем, вы скажете: «Спасибо, Гантимуров».
Тунгусы добрались с Гантимуровым до реки Паркаты. Тайга добрая встретилась, поила и кормила. Возле Паркаты еще гуще тайга.
— Вот, — сказал Гантимуров, — живите здесь, зверя бейте, никого не бойтесь.
— Ладно, — сказали тунгусы, — место хорошее, только хозяева здешние с нас бы не спросили.
— Хозяин здешний я, — сказал князь Гантимуров. — Я это место купил. Мне японцы его подарили. Сказали? «Возьми тайгу, Гантимуров, князь ты. Соболя нам сдавать будешь».
— А над нами кто будет?
— Над вами небо будет. Больше никто. Вы над всеми будете. Тут есть народ дикий: гиляки и орочоны. Вы над ними за дворян будете.
— Объясни, Гантимуров.
— Вы будете вроде чиновников. Они вам будут кланяться. Вы мне будете кланяться.
— А ты кому будешь кланяться?
— Может, японцам. А может, и никому.
— Ладно, Гантимуров, — сказали тунгусы, — не хотим мы никому кланяться и с других не требуем, — мы люди простые.
Прокофьев отдельно стоял, отставив левую ногу.
— Нет, — сказал он, — вы это зря. Пусть гиляки кланяются. Я люблю, чтобы мне кланялись.
— Молодец, Прокофьев. На тебе оленя, — сказал Гантимуров. — Ты за старшину останешься. Соболя и белку мне сдавать, кабаргу тоже. Я вас не оставлю. Учителя вам выпишу, буду вас учить. Хочу, чтобы вы ученые были.
Выстроил себе Гантимуров большой дом. В доме чей-то большой портрет повесил.
— Пусть висит, — сказал он, — я его у японцев взял. Ученый это, Мамио-ринзо. Он остров этот, Сахалин, открыл. Спасибо ему, для нас, для тунгусов, открыл остров.
Съездил Гантимуров на японскую часть острова, привез оттуда себе жену. Жена по-тунгусски говорить не умела, а по-русски знала только одно слово:
— Дай!
Тунгусам она говорила:
— Дай!
И показывала пальцем на ту вещь, которую хотела, чтобы ей дали.
Только и говорила:
— Дай! Дай!
— Дайкает, — сказали тунгусы.
Подумали и решили: наш язык она не хочет знать, надо нам ее язык скорей узнать. Может, как-нибудь договоримся.
Спросили они как-то у Гантимурова, из какого народа он себе жену выбрал.
— Айнского бородатого народа у меня жена, — ответил Гантимуров. — Их совсем немного осталось. Она на Курильских островах воспитывалась. Японцам родственница, смотрите, не обижайте ее.
— Ладно, — сказали тунгусы. — Где видано, чтобы мы женщин обижали. Только жить с ней трудно. Все «дай!», да «дай!». Ты бы хоть другими словами ее вооружил.
— Можно, — согласился Гантимуров.
Гантимуров жил на широкую японскую ногу. За море ездил, у тунгусов забирал соболей.
— Это, — говорит, — за дорогу, за пароход, за мои хлопоты.
— Ладно, — сказали тунгусы.
— Трудно? — спросил Гантимуров.
— Где же легко, — сказали тунгусы.
— Жалко мне вас, друзья мои, — сказал Гантимуров. — Вы почему с гиляков не берете? С гиляками торговать нужно.
— Люди мы не торговые.
— Трудные вы. Я из вас купцов хочу сделать. Даже дворян. Трудно с вами.
Плохого про Гантимурова сказать нельзя. Скупым он не был. Можно было прийти и сесть к нему за стол, — он был бы рад. Ешьте, пейте.
На охоту он ходил вместе с тунгусами. Был ловкий охотник.
Бывало, зимой утром садится на оленя, снег глубокий. Олень бежит, раскидывая снег.
На ручном олене Гантимуров преследует дикого оленя, он несется в лесу, пригибается, мечет аркан, и вот дикий олень бьется в снегу.
— Оленину будем есть, — говорит Гантимуров и смеется.
Гордый это был человек. И тунгусам тоже советовал быть гордыми.
— Поставьте так, чтобы гиляк вам кланялся. Японцы говорят, мы им родственники. Это надо оправдать.
Смелый был человек, великодушный. Как-то одного гиляка из-под медведя вытащил, спас.
— Благодари медведя, — сказал он. — Медвежатины захотелось, а то бы не спас.
Раз выручил старого каторжника, русского, японцы хотели расстрелять.
— Успеют, — сказал, — еще расстреляют.
Пришла Советская власть. Японцы ушли, но Гантимуров остался.
Хотел он «пришельцев» — так он называл красноармейцев — встретить как полагается смелому человеку, в честном бою, обменяться выстрелами.
— Уважать будут, — сказал он.
Но, говорят, его уговорила жена. Первое время князь отмалчивался. Его арестовали.
— Ничего не скажу, — сказал он. — А как я с тунгусами обращался, тунгусов спросите.
Спросили.
— Хорошо обращался, — ответили тунгусы. — Только брал много. Просить не любил. Жена просила, «дайкала».
Позвали жену. Жена заговорила: оказывается, не только слово «дай» знала, «нет» тоже знала.
— Нет, — сказала Гантимуриха. — Я из айнского обиженного народа.
Гантимурову удалось бежать в Японию.
Но там, в больших городах, ему было душно, тесно в крошечных японских домах. И, главное, во всем он стал сомневаться, и даже в том, в чем никогда не сомневался, — в природе.
«Кусок тайги бы мне, речку с камнями, след зверя, холода бы немножко, снега бы мне», — тосковал Гантимуров.
Сады и крошечные японские леса обманывали его.
Увидев деревья, он шел к ним как к друзьям. Но в японском лесу было аккуратно, как в комнате, душно, и деревья расположились как чиновники, от них деревьями даже не пахнет.
Завидев горы, Гантимуров радовался им. Но и горы обманывали, — это были аккуратные горы, и стояли они точно на фотографии, словно позировали.
— Домашняя жизнь у вас, комнатная, — пожаловался он одному другу-японцу. — Деревья — и те служащие. Служат красоте. В лес, как в дом, входишь, сапоги нужно снимать. Я бы сейчас за обыкновенного бурундука четыре года жизни отдал.
— Потерпи, князь, — сказал ему друг-японец. — Когда Сибирь нам возвратят, тайгу вам отдадим. Холод, зиму.
— А разве она вашей раньше была, Сибирь?
— А как же! Ваши предки кочевали — наши родственники.
Тосковал Гантимуров. Прошло еще четыре года, восемь лет прошло, как восемьдесят лет. Поседел Гантимуров.
Сидел он раз грустный в скверике и видит, что смотрит на него какой-то человек, с виду русский.
— Вы инородец? — спрашивает русский. — Из наших, забайкальских?
— Из ленских я, с Ципикана, тунгус.
Разговорились.
Белогвардеец был родом из Читы, почти земляк, поручик из бывших гимназистов. Должно быть, так и остался гимназистом на всю жизнь. Намекнул он насчет Америки.
— Бизоны там в парках, — посоветовал, — поезжайте. Пристроитесь среди индейцев. Говорят, их государство содержит.
— Чудак вы, — ответил князь, — был я и в Америке и в Австралии. Чуть в море не бросился; в Филадельфии работал в музее, показывали меня. «Тунгусский князь, взгляните. Скулы. Глаза широко расставлены». Измеряли, трогали — я не выдержал. «Я вещь, что ли? — сказал я им. — Зверь? Но зверя — и того боятся, руками не трогают». Ну, я от них ушел, сбежал.
— А сколько платили? — спросил читинец.
— Платили неплохо, одевали.
— Ну, я бы не сбежал.
— А я сбежал. И отсюда тоже сбежал бы, да некуда.
Тоска привела Гантимурова на японский Сахалин, в местечко Сисука, что находится у залива Терпения.
Увидев реку Паранай, ту реку Паранай, которая начиналась в советской части, а заканчивалась в японской, он чуть в нее не бросился.
Он поднялся по реке Паранай до Онора, до самой границы. И тут в темную ночь по старым, хорошо ему известным тропам, вздрагивая, он перешагнул границу и вступил на советскую землю.
Глава пятая
Шхуна «Чайво-Мару» стояла в море.
— Ну и берег, — сказала Нина. — Словно бок.
Японцы улыбнулись.
— Да он шевелится — шея, а вот и голова.
Японцы кивнули.
Берег поворачивался, спина осталась в море и каменный хвост, здесь была голова.
— Медведь, — сказал Киритани и показал на берег,
Нина первая выскочила из лодки. Она увидела траву, лиственницу, а рядом с ней цветок и недалеко двугорбую гору, покрытую стлаником, обрадовалась и забыла о своих спутниках.
Они ждали ее на берегу реки.
— Это Горомай-река, — сказал Судзуки.
Река была желтая. В лодке Нина увидела своего щенка и узнала свой чемодан. Щенок щурился. Нина села в лодку и посадила щенка на колени.
— Какое его имя есть? — спросил Киритани-сан.
— У щенка? Я еще не придумала.
Река была каменистая. Им нужно было подняться до Нутова.
Два берега были как два разных мира: один — голый, песчаный, другой — высокий, весь в деревьях, живой. Между деревьями белели и желтели камни.
Нина взглянула на Киритани. У него было лицо мальчика и руки женщины — толстенькие, коротенькие, с коротенькими пальцами. Ручки свои он держал у себя на коленях, а ножки поджал.
Нина шестом трогала дно и берега.
— На каком берегу Нутово, — спросила она у Киритани, — на живом или на мертвом?
Киритани понял не сразу.
— На мертвом, — ответил он, подумав.
Ночь настигла их на реке. Они развели костер, натянули палатку. Нина ночевала вместе с мужчинами. Перегородка была устроена из чемоданов, поставленных чемодан на чемодан. Ночью чемоданы полетели на японцев. Утром Нина извинялась, стараясь сдержать смех, она забыла предупредить их, что спит беспокойно.
Они быстро подвигались. Река обнажила дно. Пришлось идти пешком. Это даже было приятнее, но Нина привыкла ходить быстро, у японцев же были городские ноги, им было трудненько, но они не отставали; к вечеру Нина сама от них отстала.
В Нутове они дали ей маленькую комнату с окном в лес. Комната была устлана циновками.
Кто-то постучал в дверь.
— Войдите! — крикнула Нина.
Никто не входил.
— Да входите же! Можно! Можно!
Вошел пожилой японец, кланяясь и приседая.
— Я, — сказал он, — ваш.
Нина посмотрела на него и чуть не фыркнула: уж не объяснение ли это?
— Я пришел служить, — сказал он.
Это все слова, которые он знал по-русски.
— Я сама буду себя обслуживать.
Нина приняла японца как гостя. Вскипятила чай, после чаепития усадила его к свету, достала бумагу и начала рисовать его в профиль.
— А что сказать, — спросил, уходя, японец, — Киритани-сану?
— Скажите ему, что я до поступления в институт была нянькой в одном доме, кухарила, или вам это не сказать. Вот что, ничего не говорите вашему Киритани, ладно?
— Ничего не говорить нельзя.
Японец ушел.
Началась привычная жизнь среди вежливых слов и молчания, жизнь по часам и ранжиру.
Обед начинался в два часа десять минут. У каждого было свое место. Главное место занимал Киритани-сан, старший геолог. Рядом с ним сидел Судзуки-сан — его помощник и переводчик. Рядом с Судзуки — Нина. Потом старший рабочий.
Нину уважали. Она была бы рада, если бы ее уважали меньше.
— О! О! — завидя ее, говорили рабочие.
Она ходила в резиновых сапогах, носила шляпу и синий морской костюм.
— Кино! — восхищались они.
Как-то она разговорилась с ними. Она спросила рабочих, что они делали у себя на родине.
— Да так, мал-мало, — неохотно ответили они, — шундра-мундра.
— А все-таки?
— Худа-на! Жили худо.
Оказалось, в Японии они не были рабочими. Одни из них были полицейскими, другие служили в пехоте — это были резервисты.
Красивый с усиками жил в Токио, он прекрасно говорил по-русски.
— А вы? — спросила его Нина.
— Я был шпик, — ответил он.
Нина скоро привыкла к тому, что она одна среди мужчин. Ушла в работу.
Японцы лихорадочно строили, — оказалось, они строили баню.
В баню пошли по очереди: сначала Киритани-сан потом Судзуки-сан, потом рабочие по старшинству, после рабочих пошла Нина.
Вдруг в бане стало темно. Нина оглянулась. Она увидела чей-то нос и усики, кто-то подсматривал.
Нина выбежала из бани голая, мокрая, простоволосая, как была. Она погрозила кулаком, кто-то убегал.
«Усики, — подумала она. — Ну, да это, наверное, тот, красивый, который был шпиком».
Нина вставала рано. На рассвете тайга обновлялась. Горы словно только что вышли из моря. Деревья словно только что выкупались в реке. Из осоки всходило Солнце. На песке еще не остыли следы зверей. Просыпались травы, слышался всплеск рыбы, захотевшей посмотреть на солнце. Ветер дул из леса. Нина сбрасывала с себя платье. Она ложилась под солнце на песок. С криком падала в реку. Она плыла на ту сторону, в лес. Деревья касались ее ветвями.
Освеженная, она возвращалась на берег. Ей хотелось говорить с деревьями, как с друзьями.
— Ну, что ж, теперь можно и за работу.
Земля раскрывалась. Нина с увлечением читала ее историю, изучая отпечатки древних растений — папоротниковых, саговых, хвойных.
Работы было много. Нужно было описать местность, составить карту, собрать фауну.
— Генетически, — сказал ей как-то Киритани, — Сахалин связан со всей цепью японских островов. Сахалин — это Япония, сама земля это подтверждает.
Нина покраснела. Она вскочила. Раскрыла свои записи, обрадовалась. Ей давно хотелось поспорить.
— Ну, и что из того? — сказала она. — Сахалин связан с тектоническими элементами восточного побережья Азии, с советской ее частью.
Она взглянула на старшего геолога Киритани. Киритани-сан кланялся. Кланяясь, он отступал.
— С почвы геологической, — сказал он, — вы переходите на почву политическую.
— Да вы же первые…
Киритани уже не было. До Нины донеслось:
— Простите…
Мертвые слова. Вначале они ей казались живыми. Киритани ходил с японо-русским словарем и произносил незнакомые русские слова.
— Золовка, — говорил он.
Нина слушала.
— Воровка, — говорил он. Он показывал на какой-нибудь предмет и называл его. Если он ошибался, Нина его поправляла. Он испытывал радость называния. Впрочем, Нина заметила, что Киритани иногда притворялся не знающим и не понимающим языка, когда это ему было выгодно.
За столом они иногда разговаривали. Разговоры были ужасно пресными. Японцы были снисходительно вежливы. Вежливостью они заслонялись от нее, как от посторонней, как от женщины, наконец — как от советского человека. «Неужели они в Японии у себя такие же?» — думала Нина.
В свободное время она читала или уходила в лес.
Что это — тоска или что-то другое? Нине начали вспоминаться Москва, студенты, Оха, дядя Антон, люди.
Среди людей она начала тосковать о людях.
Японцы получали письма из Охи и из Японии. Нина не получила ни одного письма.
Однажды в письме, которое читал, сидя к ней спиной, переводчик Судзуки, она узнала почерк своего брата.
Она сдержалась.
— Скажите, пожалуйста, Судзуки-сан, — сказала она.
— Я вас слушаю.
— Письмо, которое вы читаете, это русское письмо?
— Не совсем, это деловое письмо. Пишет представитель промкома.
— Вам пишет?
— Мне.
— Странно. У этого представителя промкома почерк моего брата.
Лицо Судзуки подергивается, Судзуки улыбается еще шире.
— Ваш брат работает в промкоме?
— Нет, — голос Нины становится чужим. — Отдайте сейчас же письмо. В нашей стране не принято читать чужие письма.
— Возможно, если так, то я ошибся. Значит, представитель промкома — не ваш брат? Очень жалею.
Судзуки смеется. Нина, волнуясь, читает.
Письмо от брата, словно сам брат сидит и разговаривает.
Воробей писал о себе.
«Вот что, брат, — писал он ей, — так у нас, брат, не поступают. Приехала на Сахалин и не заглянула к нам. Мы, конечно, не инженеры, не студенты, не профессора, но все же люди, человечки живые и, кажется, имеем право на некоторое внимание».
С иронического тона он переходил на тон деловой?
«Зима обещает быть веселой. Девушка постучит в наши двери. Впервые женская нога вступит на нашу землю. Девушка вбежит и захохочет. Пусть себе смеется… Ребята, кандидаты в холостяки, шутят. Раздастся, говорят, и ругань тоже. Ну и что ж, пусть себе ругаются. Плохие жены, которые не бранятся за дело.
Скоро нашенские поедут в Александровск, а кто и во Владивосток — встречать подруг.
Воробью будет новая забота — строить ясли.
Между делом придется подумать и о себе, съездить поискать близкого человечка, а также для Чижова, для нашего грустного дружка.
До сих пор не могу понять, почему человек разводит грусть. „Привезу тебе летчицу, — сказал я ему, — чтобы она летать тебя учила. Веселую, чтобы научила тебя веселиться, жить бы тебя надоумила, показала, как надо жить“.
Вот сподобило. Выпало Воробью быть сватьей.
Недавно с братом твоим произошла оплошность. Проморгал брат твой славного человека.
Работал у нас Ланжеро, по национальности нивх. Из этого парня можно было вылепить героя. Не парень, а душа. Ум у него ко всему тянулся с любопытством. Что мне нравилось в этом парне — это наивность, но наивность с хитрецой. Парень живет, словно идет по следу зверя. Я ему сую книгу, а он мне говорит: „Это другой видел, — говорит он мне. — А я хочу сам, своими глазами посмотреть“.
А ведь это отчасти верно. Книга должна помогать видеть, но не подменять того, что надо увидеть самому и самому пережить. Мне нравится, что этот парень все сам хочет увидеть, потрогать и пережить.
А ведь есть и такие люди, которые видеть хотят, а от переживания устраняют себя. Таким жить — и то лень, хотят, чтобы переживал за них кто-то другой.
Так вот, о Ланжеро. Ушел он от нас, никому ничего не сказав.
Человек ушел, и мы не знаем, где он».
Глава шестая
На рассвете Гантимуров услышал крик петуха. Петух кричал в тайге. Гантимуров удивился. Он знал эти места. В этих местах человек не водился, а петух — человечья птица, домашняя тварь.
«Вот тварь, — подумал с раздражением Гантимуров. — Разорался. Полоснуть бы тебя по шее, чтобы голова на одном берегу, а туловище на другом, чтобы ноги зашевелились, а крылья бы хлоп, хлоп об землю».
— Тварь, — выругался Гантимуров.
И удивился самому себе. Земля не дала радости ноге. Да и земля была не земля — осока и болото. Даже лиственницы и другие деревья, которые ему так часто снились, те деревья, без которых он задыхался, торчали, и с непривычки он на них натыкался, словно был пьян.
— Тварь, — ткнул он ножом в дерево. — Видишь — вырос. Это без меня вырос. Жаль, что топора нет, — отрубил бы тебе руки-ветви. Тварь!
Два заячьих ушка торчали и задок. Заяц побежал.
В бессонные ночи там, в Японии и Америке, Гантимуров мечтал о своем первом выстреле в зверя.
Но выстрел не принес ему радости. В зайца он выстрелил равнодушно, как в пень. Убил зайца, но так, как будто даже и не убивал, будто так и был заяц, валялся на дороге убитым. Не узнал своих мест Гантимуров. Даже растерялся. Не знал, куда идти — налево или направо. Раньше в этом месте чаща была, нога в багульнике заплеталась. Сейчас ни одного кустика не было — не то луг, не то еще что. Нога даже испугалась. Когда Гантимуров полз недалеко от пограничника, переходил границу, и то тело не трусило так, не дрожала щека.
Нога Гантимурова ударилась о железо. Он наткнулся на узкоколейку.
— Поберегись! — крикнул кто-то.
Гантимуров отскочил. По узкоколейке на собаках мчался какой-то парень.
— Садись, старик, — сказал он. — Подвезу.
— Сам дойду, — сказал Гантимуров.
— А как хошь! Прощай, старик.
Гантимуров долго смотрел вслед парню.
«Вот он — хозяин, — подумал Гантимуров. — Зря не сел. Полоснул бы его да сбросил бы в лесу. Одним хозяином меньше стало бы».
Гантимуров долго стоял и размышлял, какую дорогу выбрать. Пойти к Японскому морю, в город Александровой, или рекой держать путь, где людей мало?
Выбрал Гантимуров самые безлюдные места; лесом пошел, к рекам даже не приближался. Медведя бы еще ничего, на реке человека можно встретить, гиляка или русского рыбака.
Не хотел Гантимуров человека, боялся.
Узнал он ручей, возле которого десять лет назад жил он, подстерегал соболя. Узнал и то дерево, в котором жил соболь. Дерево было спилено его, Гантимурова, рукой. Он узнал свою руку. Соболя он тогда убил. Но это воспоминание не облегчило его.
Он нагнулся над ручьем, чтобы промочить горло, освежить лицо, но вода, словно это была не вода, не обрадовала его, не освежила.
Гантимуров бросил в воду колоду, замутил ручей.
— Тварь, — сказал он пересохшим голосом. — Гору бы на тебя насыпать, втоптать бы тебя в грязь, чтобы не было тебя.
К вечеру он услышал шум упавшего дерева, звук пилы.
Он вышел на поляну и увидел дома.
— И тут хозяева, — сказал он. — И сюда добрались.
Усталый, он сел на пень и закрыл глаза. Какие-то люди подошли к нему, окружили.
Он раскрыл один глаз и посмотрел на них неохотно. Перед ним стояли молодые парни.
— Вот нам седого человека подкинули, — сказали они ему, — идем с нами. Твою старость примем. Давно стариков не видели. Отцы наши далеко. Вместо дяди будешь.
Они засмеялись.
— Пойдем. Видишь, племянников сколько.
Смутно все это было, как во сне. Может, потому, что утомлен был Гантимуров, сломлен дорогой, годами и неожиданностями.
Проснулся он в мягкой постели.
Босой он подбежал к окну и посмотрел: лес стоял за окном и дома. Словно все это ему снилось. Стены были живые. Пахло недавно срубленным деревом. Гантимуров вспомнил свой собственный дом, который отобрали у него большевики.
Утром к нему опять подошли эти, как их. Он сам не знал, кто они. С шутками подошли и смехом. И почему им смешно?
Пошли в столовую.
Один из них спросил — должно быть, важная птица:
— Из мест из которых? — спросил.
— Из ваших, из этих мест.
— Туземец?
— Вроде. Из каторжников. Я старик. Скитаюсь.
— Чем занимался?
Кто-то перебил того, который спрашивал:
— Ну вот, Воробей, анкету учинил старцу. Кто папа, кто мама и кому отдавалась тетя в тысяча девятьсот четырнадцатом году?
— Отодвиньтесь, Омелькин. Вас не спрашивают. Гость гостем, но мы живем в двух шагах от границы — правда, гость?
— Правильно, — сказал Гантимуров. — А до революции я занимался на каторге. Не я, а мной занимались. А до каторги я человека изучал.
— То есть как изучал?
— Очень просто.
— Учителем был?
— Нет, зачем? Я из человека выгоду вынимал.
— Нельзя ли без загадок. Эксплуатировал, что ли?
— Нет, зачем. Человека я успокаивал. Пятнадцать человек за свою жизнь успокоил.
Воробей брезгливо отодвинулся.
— Убийца? Я так вас понял? Зачем же похваляетесь?
— Нет, зачем? Я шучу. Все каторжники на себя поклеп возводили. А то кто же будет их уважать?
Гантимуров закурил. Лучше, чем ответил, нельзя было и придумать, — кто будет сомневаться в словах старика, да еще бывшего каторжника.
Гантимуров притаился. «Поживу, — думал он. — А там видно будет».
Осмотрел он поселок, дома, клуб, постоял у стенгазеты, посмеялся, осмотрел электрические пилы. Слов в себе не нашел, чтобы осудить, все было поставлено на хозяйскую ногу.
— А хозяина-то и нет, — сказал Гантимуров.
Он удивился, как дело шло без хозяина.
— Воруете? — спросил он лесоруба.
— А ты с неба упал, старик, что ли? — удивился лесоруб. — Бревна, что ли, воровать?
— Да, бревна в карман не спрячешь, — сказал Гантимуров, и это его утешило. «В других местах, — думал он, — где сподручней утащить, несут».
— А работаете, не спешите? — спросил Гантимуров. — Хозяина нет, можно и в потолок плевать.
— Скажи, с какой звезды ты свалился? — удивился лесоруб.
Гантимуров понял, что лучше не спрашивать, еще себя выдашь.
Подошел он к рабочим, которые рубили лес.
— Здравствуйте, — сказал он, — я смотреть не люблю, дайте мне топор.
Дали ему топор.
Гантимуров выходил на работу. Помолодел даже. Усвоил привычки лесорубов, шуточки, смешки.
— Старик-то наш оттаял, — шутили комсомольцы. — В комсомол скоро тебя принимать будем.
— В комсомол? — сказал Гантимуров. — Ну, это для молодых рай, для меня рай — ночь, печка. Ноги у князя ноют. Да и не принимают князей.
— А ты разве князь?
— А как же.
Гантимурову доставляло удовольствие дразнить самого себя.
— А какой ты князь? Долгоруков?
— Нет, зачем? Я тунгусский князь.
Ребята хохотали.
— Это вроде цыганского барона?
— Да, — ответил Гантимуров.
Но чувство вернувшейся молодости было непродолжительным. К Гантимурову вернулось равнодушие. Он рубил деревья со злобой. «Это мои деревья», — думал он.
Однажды он проснулся с тоскливым чувством. Все было сделано без него, другими, и живут здесь чужие, чьи-то сыновья, а у него вот сыновей нет, был дом — и нет дома, была жена, но сейчас жену кто-то мнет, может даже гиляк. У него было такое чувство, словно он пришел сюда ссориться, что эти люди обидели его своей молодостью и тем, что они хорошо его приняли, лучше бы они его прогнали. Ему хотелось, чтобы они его тронули, задели, он бы им тогда показал.
Глава седьмая
На берегу утренней реки стояли ночные, смутные дома.
В домах спали лесные люди, еще не привыкшие жить в комнатах.
В комнатах было много разных вещей — кроватей, столов, умывальников. Среди городских неуклюжих вещей висели здешние легкие вещи речных людей: рога, ножи, трубки, силки, торбаза, лыжи — все, что сделано из костей или сшито из рыбьей кожи и оленьих шкур.
Многие дома были пусты. В углах не пахло человеком, ни рыбой, ни зверем — человечьей едой.
Люди жили в палатках перед домами. На дома они смотрели как на подарок, трогали, удивлялись, но еще не решались в них жить.
Туземному городку Ноглики было года три. Ноглики по-гиляцки — гнилая речка.
Здесь все словно было сделано из зверя. Горы выгнулись, как спина лисы. Тайга была вроде медведя, который только что лег: слева одна лапа, справа другая, а посредине спящая голова. Спина реки была словно спина выдры.
Утром в Ноглики пришел какой-то парень в соломенной шляпе и японских домашних туфлях, — в туфлях, похожих на рукавицы: большой палец отдельно.
Парень был смешон. Он постучался в первый попавшийся дом.
— Я издалека пришел, — сказал он.
— Откуда?
— Из другой страны. С той части Сахалина.
— Кто такой?
— Тунгус.
— Тунгус? А шляпу ты лучше бы снял. И туфли бы снял, а то ноги твои можно принять за руки. Девки смеяться будут. Девки у нас злые. Говоришь, тунгус? А ты не врешь? Так, так!
Молчание.
— Вот я и пришел к вам — говорят, у вас лучше.
В низеньком домике на горке жил Иван Павлович, доктор, он же и зав.
А заведовал Иван Павлович туземной культбазой, реками, тайгой и теми, кто там жил, а больше всего детьми.
В Ноглики он созвал всех детей школьного возраста со всего Сахалина — нивхов, наней и маленьких эвенков.
— Видите домики? — спросил он детей.
— Домиков не видим. Дома видим. Какие широкие, будто не дома, а горы.
— А еще что видите?
— Ничего не видим. Разве только реку. Рек и у нас много.
— А вам нравятся эти дома?
— Хорошие дома. Чьи же это?
— Это ваши дома. Вот мы взяли и построили для вас город.
Дети поселились в интернате. В школе их учили молодые учителя, приехавшие из Ленинграда.
Многие родители, чтобы не тосковать, переехали в Ноглики. Домов на всех хватило.
Домик Ивана Павловича стоял на горке, казалось, для того, чтобы Иван Павлович, не выходя из дома, мог знать, что творится в поселке.
Но Иван Павлович в дом приходил только ночевать.
В Ногликах Иван Павлович собрал лучших работников. На хороших людей у него был нюх. Он чуял их. Шел по улице и останавливал знакомых.
Когда он приезжал в Оху, у него разбегались глаза. Люди бурили землю, сверлили скалы, добывали нефть. Жаль, что у него не было в Ногликах нефти. Он пригласил бы их к себе.
На концессии он остановился однажды возле строящегося дома. Какой-то японец работал, словно играл. В его руке кирпич терял свою тяжесть.
Иван Павлович взял один кирпич, поднял. Кирпич был как кирпич, хотя и японский, но такой же тяжелый, как и русский кирпич, из самой настоящей глины.
А японец, гибкий, скользил, держа кирпичи, с этажа на этаж, будто кирпичи были из бумаги, а внутри них был воздух.
Иван Павлович стоял долго.
— Ну, друг, — сказал он, — жаль, что ты иностранец. А то бы я тебя увез к себе в Ноглики. Ну, дай руку. Ну, ну, будем знакомы.
На Ивана Павловича не раз жаловались в обком. Пусть в другой раз не переманивает работников.
Случалось, что Ивана Павловича обманывал его нюх. Новый работник его подводил. В таких случаях Иван Павлович говорил терпеливо:
— Ну, что ж, среди моих лучших и он тоже станет хорошим.
У Ивана Павловича было много знакомых. Его приятели жили в Охе, в Александровске, в стойбище Даги и в стойбище Вал, в Москве, в Арги-Парги, на Земле Франца-Иосифа, в Париже, в селе Дербинском, возможно даже в Новой Зеландии, — на всем белом свете.
Этот день Ивана Павловича походил на другие его дни.
Он встал рано. Выйдя на улицу, он услышал крик;
— Пристрелю!
— Митя! Митя! Ради бога, Митя!
— Зарублю! Нет больше терпения. Утоплю в Тыми, чтобы не было!
Иван Павлович усмехнулся, покачал головой.
— Опять Рыбаковы, — сказал он.
Он привык к этим скандалам, как и весь поселок, Рыбаков-муж ссорился с Рыбаковой-женой по утрам. Он ненавидел корову. Да и зачем корова в тайге? Но Рыбакова была хорошей хозяйкой. Она привезла корову с материка. Сколько было хлопот с коровой! Для нее пришлось покупать билет. Корову укачало в проливе Лаперуза. На Сахалине за ней пришлось ходить по пятам, чтобы ее не разорвали гиляцкие собаки, чтобы она не завязла, чтобы она не замерзла.
Корова попалась своенравная, бывают ведь и тихие коровы, а эта корова была бодливая, ломала изгороди, кидалась на детей, чуть ли не лезла в дом, а если уж гадила, то непременно перед окном, или у крыльца, или в другом чистом месте, словно не корова это, а кошка.
— Пристрелю ее! Честное слово! — горячился Рыбаков.
— Митя! Ради бога. На нас смотрят соседи.
Иван Павлович посмотрел во двор Рыбаковых. Рыбаков стоял на крыльце с ружьем.
«А хороший работник. Лучший моторист, — подумал про Рыбакова Иван Павлович. — А охотник, каких мало».
Подойдя к той части поселка, где жили эвенки, Иван Павлович заглянул в окошко. В доме никого не было, Эвенки сидели в палатке.
— Здорово, Микула! — сказал Иван Павлович, поднимая полу палатки. — Что, опять ночевал на дворе?
— Ночевал, — отвечал Микула. — В доме непривычно. Просторно, но воздух не тот. Воздух чужой, как будто им уже дышал кто-то.
— Для красоты, что ли, я поставил вам дома?
Иван Павлович шел в дом, за ним шел Микула, длинный тунгус, за Микулой шла Анна, его жена, с трубкой в зубах, за Анной шли маленькие, держась за ее платье.
— Стулья, что за уроды, — говорил Иван Павлович. — Что это за косолапая вещь? Федорова работа? Видно. А кровать нужно сюда поставить, в угол, подальше от дверей. Прилечь, что ли, отдохнуть? Да еще не успел устать. А то бы я сам попробовал, поспал бы на вашей кровати.
Он испытал пружины.
— Вам бы надо двуспальную. Еще заведете.
Он показал, как нужно стелить постель.
— Приходилось. — Он остановился, вспоминая: — В тысяча девятьсот третьем году жил я в Австралии, в захудалом городке, в Аделаиде. Служил в гостинице. Стелить чужие постели — это бы еще пустяки. Постояльцев беспокоили насекомые. А насекомые там с утенка… История длинная. Когда-нибудь расскажу.
Подойдя к шкафу, предназначенному для посуды, он увлекся.
Шкаф, разумеется, был пуст. От полок пахло свежим деревом и клеем.
— Вот сюда, Анна, поставишь ты тарелки. А тут будут лежать ложки. Нету? Привезу. Я сказал, достану, — значит, достану. А внизу, видишь, помещение обширное. Смотри не клади сюда белья. Белье не должно быть в одном месте с посудой. Шкаф у тебя как дом. В нем жить можно. Смотрите, чтобы в шкаф не лазили дети, чтобы собаки не забирались. И вообще смотрите, чтобы собаки не забегали в дом. А ты, Микула, не сделай того, что сделал Гибелько. Тот взял да прорубил в потолке дыру. «Неба, говорит, мне захотелось. Не привык я без неба».
— А я так думаю, — вмешался Микула, — летом небо лучше всякого потолка. Нельзя без неба.
— Небо здесь дождливое. Упрямое небо. Ты в Крыму не был, Микула. Там театры стоят без потолка. Вместо крыши небо. Но небо там другое, ясное, скажу прямо: культурное небо. В театре сидишь — артистка поет, разливается, как река в мае, а ты вверх смотришь, вверху звезды: настоящие, ненарисованные, живые. Посмотришь на стены, а стены зимние, тяжелые. Не по душе мне эти стены.
— А почему ваш брат не придумает другие дома? А то на дворе лето, а в ваших домах и летом и зимой — зима. Почему бы не построить такие дома, чтобы крыша поднималась, как крышка у ящика?
Иван Павлович расхохотался.
— Остроумный ты человек, Микула. Чудак! Если бы в городе вырос, большого артиста из тебя бы сделал город, крупного артиста.
Иван Павлович подошел к плите.
— Не дымит? Ну-ка, затопи ее, Анна.
Анна принесла дрова.
— Ягоды есть? — спросил вдруг Иван Павлович. Чего только не придет ему в голову.
— Ягод, сам знаешь, много.
— Знаю. Вот я и хочу, чтобы ягоды зря не пропали. Сходи ко мне за сахаром. Сахар в чуланчике на нижней полке. Таз желтый медный захвати.
На раскаленную плиту он велел Анне поставить медный таз. В таз, сказал он, чтобы она насыпала бруснику с сахарным песком.
— Это будет варенье, — сказал он.
— Знаю, — улыбнулась Анна. — Видела я варенье.
— А я хочу, чтобы ты его умела варить. Чтоб на стол к чаю подавала варенье. Ягод у вас пуды. Сколько соболей принес в этом году твой муж?
— Четырех соболей принес.
— Твой Микула зарабатывает больше, чем я. Ну и жить должен не хуже меня. Одеть тебя должен. Вот как Степан одел свою жинку. Шелковое платье купил. В ликбез ходишь, Анна?
Проходя мимо дома, в котором жил тунгус Степан, Иван Павлович не отказал себе, остановился.
В доме играл патефон. В окно было видно, как блестел пол, сверкала посуда. Иван Павлович постучал.
— Дома Степан?
— Нету.
— Ну как, пьет он или бросил пить?
— А я откуда знаю? Хитрый, как вы все. Напьется — и не узнаешь.
— А вы что же, не целуетесь, что ли? В ссоре?
— Это уже наше дело. Заходите, Иван Павлович, гусем жареным угощу.
— Нет, в другой раз. Когда Степан будет дома.
Иван Павлович зашел в школу. Был урок географии. Класс словно был создан для географии. В огромное окно был виден мир: горы, лес, осенняя вздувшаяся река, а над рекой птицы.
Иван Павлович сидел на задней парте, подперев голову рукой.
Урок отвечал Танзин, лучший ученик. Ивану Павловичу не понравился ответ Танзина.
— Чужие, заученные слова, — сказал Иван Павлович. — Да и не то, не то теперь Охотское побережье. И Аян тоже. Я бывал на Аяне.
Увлеченный, Иван Павлович подошел к карте.
— Откуда же — одна тундра? А Ногаево? А Тауйск? Да, да, в Тауйской бухте, где стояло несколько домиков, где жил зверь и птица от тоски падала в море…
Иван Павлович сердито тыкал карандашом в карту.
На перемене он говорил учителю:
— Что мне делать с географией? Пока сочиняют учебники, пока учебник бежит к нам из Москвы, земля уже не та, страна меняется. Страна уже не десятилетиями измеряется, а днями. Там, где два сохатых переплелись рогами, там город. Там, где птица трусила лететь, там пролетел самолет. Зайдите ко мне, придется подумать, как изменить и дополнить учебник. А им, авторам, надо будет посоветовать, чтобы они заглядывали в будущее ну хотя бы на полгода вперед. Карты устаревают. Наших Ноглик нет ни на одной карте. Книги устаревают. Отправил я статейку в один журнал. Пока редактировали, статейка-то устарела.
После обеда Иван Павлович спал. Не любил, чтобы его беспокоили в это время.
Ивану Павловичу снились хорошие сны: места, где он бывал, старые приятели.
— Стыдно, — упрекал себя Иван Павлович, подымаясь. — Нехорошо, брат. Растерял всех старых друзей.
Он садился к столу и писал письма в Москву, в Александровск или в Париж, на Землю Франца-Иосифа, в село Дербинское или в какое-нибудь другое место.
По дороге на почту его осенила такая мысль:
«До Земли Франца-Иосифа далеко. Что делать? Письма пока идут — устаревают. Вот я пишу в Москву, чтобы выслали мне японо-русский словарь. Скоро ли? Нет, лучше послать телеграмму.»
На почте он долго составлял текст. Это были необыкновенные телеграммы, большие и лирические, как письма.
— Больно уж длинновато, Иван Павлович, — говорил Павлюков, телеграфист.
— Сократить не соглашусь. Я пишу про дело, про жизнь.
— Может быть, подстрижем, то есть подравняем, укоротим немножко?
— Это телеграмму-то подравнять? Сразу видно, что ты из парикмахеров телеграфист, друг Павлюков.
— Не примут у меня, Иван Павлович, такой длинной телеграммы.
— Я приятелю телеграфирую. Мы еще с ним в Енисейске…
— Я понимаю. Пошлите ему письмо.
— Помню твой совет. Писал я в Александровск, требовал плотников. Пока письмо шло, полдома мы и поставили, построили полбольницы своими силами. Больные не могут ждать.
— Что же, вы опять на почту обижаетесь?
— Нет, почта тут ни при чем. За жизнью и по телеграфу не успеть. При чем же здесь почта!
Возвращаясь с почты, Иван Павлович зашел в больницу навестить жену Плетуна. Это была первая гиляцкая женщина, рожавшая в больнице.
Иван Павлович помыл руки, надел халат.
— Ну, как дела, Маруся? Удобно здесь рожать?
У роженицы было другое, очень трудное имя. Сиделка не могла его выговорить. А без имени как-то неловко,
— Ну ладно, — согласилась роженица. — Зовите тогда меня Марусей.
— Ну, как дела, Маруся? — повторил Иван Павлович. — Спрашиваю, рожать-то не очень плохо было?
Маруся застенчиво улыбнулась.
— Ничего, — тихо ответила она. — Только непривычно. Я привыкла рожать стоя. Когда схватки пришли, я хотела встать. Доктор меня удержал. Доктор мне только мешал. Мне при нем рожать было стыдно.
Иван Павлович подошел к корзинке, где спал ребенок.
— Вылитый Плетун, — сказал Иван Павлович. — Такой же, как Плетун, будет бабник.
Иван Павлович подмигнул.
— Все мы такие. А ну-ка, Маруся, отвори рот. Руки не хочу твои тревожить. Ну что, вкусно? Это мне из Киева прислали. Конфеты, а название несъедобное: «Танкетка». Вот теперь какие названия. Ну, я положу тебе в столик пакет. А Плетуну твоему передать привет? Он у больничных дверей ночует, не отходит.
У входа в больницу действительно стоял Плетун, счастливый отец.
— Ну, с сыном! — сказал ему Иван Павлович. — Такой же, как ты, будет шкурник. Скупец. Пойдем-ка со мной, Плетун. Мне, видишь ли, пришло на ум тебя снять. Как тебя снять, в шляпе или без шляпы?
Расставшись с Плетуном, Иван Павлович спустился к реке. На берегу бабы кету потрошили. Возле реки стояли столы. На столах бились еще живые рыбы, лежали темные рыбьи внутренности и красные груды икры. Все было окрашено холодной рыбьей кровью. Камни, деревья, трава — все было в рыбьей чешуе.
Иван Павлович стоял долго. Потом подошел.
— Девицы! — сказал он. — Добрый день. Опять вы мне природу портите. Запакостили весь берег.
— Вот вы так всегда. О природе заботитесь, а о нас и не вспомните, что мы стоим на ветру. Ветер — не-скромник, во все нам места дует.
Но Иван Павлович уже не слушал их. Какая-то мысль пришла ему в голову. Он нагнулся, припал к реке, словно для того, чтобы напиться.
— Вот ведь некультурность, — сказал он тихо, точно разговаривая сам с собой. — Мы выгоняем рыбу обратно в море: чистим рыбу на берегу, кровь попадает в реку. Рыба — она неглупая, она понимает, боится своей крови, бежит. Вот ведь какое дело.
Он еще тихо что-то бормотал, ворчал, нюхал воду.
— Девушки, в последний раз вы здесь будете солить рыбу.
— А потом что? Расчет?
— Нет, зачем? Вы будете солить рыбу дальше от берега, в другом месте.
Здесь же на берегу стоял маленький завод. На заводике этом строили кунгасы, моторные лодки, кавасаки.
В помещении пахло свежим деревом, стружками.
Иван Павлович поздоровался с каждым.
— Ну, как дела, кораблестроители? — сказал он. — А тебя, Федоров, я пришел ругать. Что за некрасивую мебель ты сделал для Микулы. Думаешь, тунгус — наплевать, сойдет. А тунгус больше нас с тобой понимает в красоте. Тунгус даже топорище строгает — и то о красоте беспокоится, чтобы легкое было, художественное топорище. Короче говоря, смеется Микула над твоими стульями и не хочет на них сидеть.
Федоров, маленький, большеротый, подмигнул своим птичьим глазом.
Иван Павлович погрозил.
— Если бы не Маня, я давно бы тебя вытурил, Федоров. Баба у тебя золотая. Все больные ее хвалят. А тебя вытуришь — и жена твоя уйдет. Вот и держу я тебя из-за бабы.
Иван Павлович осмотрел строящийся кунгас. Забрался под кунгас, постукал. Не понравился ему кунгас. Лодки тоже не пришлись ему по вкусу.
— Дай гиляку больше инициативы, — говорил он мастеру. — Гиляк — речной человек. Он полжизни в лодке проводит. Жаль, что Ланжеро, воспитанника моего, комсомольцы у меня забрали. В его лодке плывешь, удивляешься, как она тебя, семипудового, держит. Как на спине у рыбы сидишь. А ведь парень математики не изучал и в фабзавуче не обучался. Чутьем работает. О красоте беспокоится, не то что твой Федоров.
— Дался вам Федоров, — вмешался Федоров.
— Дойму, — усмехнулся Иван Павлович. Он сел на опрокинутый остов лодки. — А теперь не к одному Федорову, к вам всем. Кавасаки нужно спустить до срока. Я не желаю от осени зависеть. Можем без продуктов остаться. Тунгусов без харчей в тайгу не отпущу. Зима на носу, охота.
Уже был вечер, когда Иван Павлович возвращался домой. Рыбаки пришли с рыбной ловли. Вернулись охотники, те, что ходили бить гусей, стрелять улетающую птицу. Проходя мимо небольшого дома, похожего на гиляцкий летник, Иван Павлович не удержался и заглянул в окно. В этом доме жили Вакон и Питансита — счастливая парочка.
Счастье для них смастерил сам Иван Павлович.
Для Вакона и Питанситы он построил дом.
Вакон был красивый, но забитый юноша, бывший батрак Низюна.
У Низюна Вакон увез третью его жену, Питанситу, — с Лангри, с далекой реки.
Увез он ее на собаках вместе с детьми Низюна. Привез он ее в Ноглики и поселился вместе с ней и ее детьми в классе. Не было другой квартиры.
Низюн приезжал на коне, поскандалил и уехал обратно.
Вакона он не застал. Вакон был на охоте. К бывшему мужу вышла Питансита. Она сказала ему с крыльца:
— Я не люблю тебя.
Низюн растерялся.
— Не любишь? Зачем эти слова? Я на тебе женат. Я знаю советские законы.
Питансита повернулась и пошла. Она ушла, даже не оглянулась.
Вышел Иван Павлович. Он посмотрел на Низюна притворно-сочувствующим взглядом.
— А, Низюн! Здорово, Низюн!
— Опять этот доктор, — выругался Низюн. — Я за женой. Отдавай мою бабу. Я поступаю по закону. У меня унесли жену. Детей украли. Отдавай жену!
— Советские законы признают любовь. — Иван Павлович развел руками. — Не любит, что поделаешь, любит другого. Придется примириться. Жалко мне тебя, Низюн. А что касается детей, подожди, мы их сейчас спросим.
Иван Павлович спросил детей.
— Нет! — крикнули дети. — Не хотим к Низюну. Вакон лучше.
Низюн вскочил на коня.
— Tax! Tax! — сказал он. — Опять этот доктор. Это ты потому, что я на тебя тогда жаловался.
Иван Павлович вспомнил эту историю с удовольствием. В окно он увидел Вакона и его жену. Они сидели рядом, рука Питанситы лежала на плечах Вакона.
Иван Павлович отвернулся и вздохнул.
Пришел домой и зажег свечу.
Тускло было в комнате, холодно. Для других умел он создавать счастье и уют, для себя не создал ни уюта, ни другого домашнего счастья.
Жизнь была уж не такая плохая. Многие могли бы ему позавидовать. Но сердился Иван Павлович не на жизнь, а на себя.
Беспокоила его мысль, что начал он сдавать, что был он раньше не тем, когда жил в ссылке. Разве он такие дела совершал? Казалось ему также, что он был чуть-чуть одинок. Дело развело его со старыми приятелями. Один из них был торгпредом в далекой стране, другой был директором — вдохновителем огромного дела, третий погиб. Сколько их погибло — друзей, знакомых, однокашников.
— Пожалуй, и я что-то делаю, — говорил себе Иван Павлович. — Не то, не то. Надо бы не так. Надо бы лучше.
Иван Павлович садился к столу писать. Никто об этом не знал, что писал Иван Павлович книгу, да так, ничего особенного — маленькую книгу о своей большой жизни.
Глава восьмая
Когда Ланжеро был маленьким, мать качала его, мать пела ему сильные песни, песни, похожие на ветер, мать дула ему в уши свои маленькие песни, мать щекотала его.
Но однажды Ланжеро встал — матери не было. Он видел, как человека уносили, он видел чьи-то ноги. Ему показалось, что это ноги матери, что это несут его мать.
В доме стало пусто. То место было пустое, где спала мать. За столом место было пусто. На берегу, на камне было пустое место, где пела мать свои песни.
— Где мать? — спрашивал Ланжеро.
— Не знаем, где твоя мать.
— Где моя мама? — ходил и спрашивал Ланжеро.
У него были кривые, голые, грязные ножки. У него был голый живот.
— Где моя мама?
Только один человек ответил ему — это Чевгун.
— Нету матери, — сказал Чевгун. — Твою мать унес ветер.
Когда дул ветер оттуда, с моря, из ущелий, большой ветер, при каждом порыве его Ланжеро тянуло на берег, к морю, на ветер. Ему казалось, что это мать, что мать дует ему в уши свои маленькие песни.
Ланжеро раскрыл глаза. Он словно спал и проснулся. Он увидел чистое небо, верхушки деревьев, мечущиеся в ветре, высоко-высоко.
Он лежал на спине в чем-то густом, в липком в чем-то, должно быть в чьей-то крови. Потом он почувствовал, что кровь эта была его, Ланжеро, кровь.
Ланжеро услышал реку. Пахло рекой, камнями. Это река покачивала его, река несла его. Он хотел подняться, но не мог, словно был связан.
На небе было вечернее ласковое солнце, — солнце, краешек которого был за горой, в море, и узенькая полоска, грустная полоска улетающих птиц.
Но вот лодка закачалась, что-то поднялось, и вместо неба Ланжеро увидел над собой чье-то большое лицо: нос, усы, веселые глаза.
— Что, жив, паренек? — услышал он. — Потерпи. В Ногликах Иван Павлович набьет тебя жизнью до отказа. Иван Павлович поставит тебя и сунет тебе в руки карандаш. «Живи, — скажет, — пиши в нашу стенную газету».
В Ногликах всех подняли на ноги, когда Рыбаков принес на себе Ланжеро.
Иван Павлович сразу узнал Ланжеро.
— Вот он. Он даже мне снился.
Ланжеро положили в больницу на еще теплую кровать, на ту самую кровать, где недавно рожала гилячка Маруся.
Иван Павлович извлек из тела Ланжеро большую медвежью пулю.
— Чья же это пуля? Кто же это стрелял в тебя, мальчик?
Ланжеро как сквозь сон вспомнил какого-то старика. Ему казалось, что не было этого старика. Ему не хотелось рассказывать о старике. Сам не знал почему, почему-то не хотелось о старике думать.
Ланжеро лежал как во сне. Снились ему живые, странные сны. Какие-то дети навещали его, какие-то люди.
Девушки снились. И девушки эти были как живые. Приносили ему подарки. Что он, жених им, что ли, кто они ему? Девушки смеялись. Может быть, мерещились? Но подарки были возле, можно было попробовать. Настоящее это было — из муки, из масла, из сахара. Вкусное это было.
— Черт его знает, снится, что ли? — сказал Ланжеро. — Снится мне.
— Нет, не снится, — сказал Иван Павлович, — а живется.
Славный доктор был Иван Павлович. Больного он лечил жизнью, Ланжеро он тайгой лечил.
В палате тайгой пахло, лиственницами, рекой.
Солнцем лечил Иван Павлович. Солнца много было на небе, на окне, на стенах.
Хорошим разговором лечил, веселым. Своей душой лечил, смехом своим.
— Вот, — говорил он, — разлежался. Думаешь, ты больной? Здоровый ты. Скоро лодки долбить будем, катера строить.
Раз пришел Иван Павлович с письмом.
— Тебе, — сказал он. — А от кого — угадай сам.
— От комсомольцев. От кого же больше?
— Ну, слушай!
Иван Павлович надел на нос очки, сел.
— «Дорогой друг Ланжеро. С большим гневом и горем мы узнали, что ты ранен и что нашли тебя одного в лесу, а враг, стрелявший в тебя, скрылся. Но не уйдет от нас враг. Будем судить мы его беспощадным судом, и скажем мы ему все, что мы о нем думаем, что думаем о нем и знаем о тебе.
Дорогой друг Ланжеро, часто мы вспоминаем тебя».
Приносил Иван Павлович газеты и читал. Газетами лечил. Там, в газетах, писали о Ланжеро и о всем свете.
— Черт его знает, — сказал Ланжеро, — какая это славная вещь — газета. Не иначе как пишут это старики. Мудрые люди. Да и старики столько не знают, сколько знает этот мятый лист. Уж на что я неизвестный человек, и про меня сейчас в Москве читают.
Глава девятая
Нина в этот раз опять опоздала к обеду. Когда она вышла из лесу, было три часа. Она подняла руку, послушала часы. Они стояли.
В столовой она застала только Киритани-сан и Судзуки-сан. Остальные уже ушли.
Судзуки читал газету. Он читал и смеялся и, смеясь, что-то говорил Киритани, и тот тоже смеялся. У Киритани-сан был хороший смех, детский, искренний, и, когда он смеялся, глаза у него тоже смеялись.
Нина села за стол. Дежурный рабочий подал ей суп. Суп был необыкновенный на вкус, но Нина уже привыкла к этому супу.
Киритани смеялся и смотрел на Нину своими детскими глазами, словно хотел, чтобы она знала, над чем он смеется, и тоже смеялась.
— Что-нибудь необыкновенное?
— Нет, — сказал Судзуки. — Вы сказали недостаточно сильно. В русской газете мы только что прочли, что у одного гиляка, по имени Плетун, родился сын. Вот нам и смешно стало.
— А что же тут смешного?
— Как же не смешно? У нас в газетах сообщают, когда у микадо родится наследник. А у вас пишут, что у какого-то гиляка сын родился. Мы сначала подумали, что это какой-нибудь знаменитый гиляк. Нет, оказывается. Гиляк ничем не знаменит. Дальше мы прочли, что гиляк получил от государства подарок — патефон, а жена его получила шелковое платье. Это одна заметка. В другой заметке мы прочли про одного гиляка, по имени Ланжеро. Этого Ланжеро нашли раненным в лесу. Он шел в Оху. Мы сначала подумали, что это какой-нибудь знаменитый Ланжеро. Нет, оказывается, Ланжеро этот ничем не знаменит. Тогда мы сказали друг другу, нам обоим пришла одна и та же мысль, что если бы эта газета попала в Японии среднему читателю, японцу или японке, они подумали бы, что гиляк — это принц, а гилячка — принцесса. А принц этот к тому же гурман. Любимое его блюдо — собачина.
Судзуки закурил. Он закрыл дверь. Со стороны моря дул ветер.
— Я понимаю, — сказал Киритани, — большевики умные люди и хорошие агитаторы. Мне рассказывали про туземный поселок. Для гиляков там строят дома. Провели электричество. Скоро наступит день, когда мадам гилячка, которая десять лет не снимала платья, у которой спина как дерево, кожа как кора, обнажит свое замшелое тело, снимет платье, чтобы принять ванну. Я боюсь только одного, что у того человека, который учит гиляков жить в домах, что у него, у бедного, нет чувства юмора.
— Вы боитесь другого, — сказала Нина.
— Чего?
— Я слышу в вашем голосе огорчение. Чему же вы огорчаетесь, Киритани-сан, тому, что гилячка будет жить в таких же условиях, как ваша супруга?
— Сравнение недопустимое. Гилячка никогда не будет жить в таких условиях, как моя жена. У большевиков не хватит… не хватит пороха. Хорошее русское выражение. Я говорил вам о домах. Дома не сделают гиляка счастливым. Вашим потомкам не захочется ехать с юга на север, с севера на восток. На юге, на севере и на востоке будут стоять одинаковые дома, в них люди одной культуры и одних привычек. Не будет прекрасного, что есть на земле, людей разных тысячелетий, живой истории, когда рядом живут люди каменного и нашего века.
— А вы что хотите? Чтобы ради вашего скучающего правнука людей посадили в зверинец или предоставили им возможность вырождаться и вымирать?
— Вы слишком серьезная, Нина-сан, для девушки в двадцать два года. Я приглашаю вас к себе. Не откажите. Любезные мои родственники прислали мне из Америки новые пластинки.
Вечером к Нине постучал Судзуки. В руке у него было письмо. Нина расхохоталась:
— Извините меня, Судзуки-сан, у вас вид почтальона.
Нина быстро распечатала письмо. Так и есть. Писал тот, из Охи, инженер Петров. А она думала, что после ее ответа он больше не будет ей писать писем.
Догадливый Петров в этот раз писал сначала об Охе, потом о себе.
О себе он писал, что он любит. Вот и все.
Об Охе он писал много. Но как смел он писать так об Охе? Не было у него любви ни к Охе, ни к людям, ни к делу.
Она подняла глаза. Судзуки все еще стоял у дверей. Он улыбался. Он видел, как она рвала письмо.
Она посмотрела на Судзуки и словно угадала его, она его поняла.
— Вы знаете. Да, да, мне это кажется. Может, вы случайно прочли это письмо? Я вижу, что вы его читали.
— Да, — сказал он спокойно. — На этот раз я тоже ошибся. Простите меня. Я подумал, что это мне письмо. Наши имена начинаются с одной буквы. Очень досадно. Я должен признаться, по ошибке я прочел это письмо.
Судзуки замолчал. Нина, казалось, ждала.
— Да, — продолжал Судзуки, — это письмо труса. Это Оха, увиденная глазами труса. Извините меня, но я действительно читал это письмо. Я читал его с презрением.
В эту ночь Нина долго не могла уснуть. Она встала и, накинув макинтош, вышла под звезды.
Мир был прекрасен. Где-то в ночи дышала река. Деревья были здесь. Они были живые. От них пахло солнцем, хвоей. Ома обхватила их большие теплые тела. Она стояла между двух деревьев, обняв их как друзей.
Ночь шла. Луна, закрытая облаком, показалась. Даже зеленоватая, холодная луна — и та была живая, как зверек.
— Оболгал людей, — сказала она. — Но оклеветать эти деревья, это небо, эти звезды!.. Оклеветать Oxyl.. Нет, он видел не только глазами труса, но и глазами подлеца.
Нина долго ходила между деревьями. Потом она вернулась, разделась и потушила свечу.
И вдруг она вспомнила заметку. Того раненого юношу, гиляка Ланжеро. Ведь он же шел в Оху, он шел пешком через непроходимые места, шел без дороги, чтобы увидеть Оху, чтобы помочь строить Оху.
Его хотелось представить себе. Гиляк, какой он? Как он выглядит?
Глава десятая
В Нань-во спали старики.
Спал Чевгун-старший, прижимаясь к внучке своего приятеля, к молодой своей жене.
Спал Низюн посреди двух женщин. Место третьей жены было не занято. Питансита жила в Ногликах. Вероломный Вакон увез жену у хозяина, украл собак. Как теперь докажешь, что это не Вакона, а Низюна собаки. Ведь сам Низюн еще в позапрошлом году подошел к Вакону и сказал:
«На, Вакон, корми. Это теперь твои собаки, я тебе подарил. Видишь, какой я справедливый».
И подмигнул.
Он думал, что Вакон поймет без слов. Низюн отдал на время собак. Он боялся, что собак у него отберет власть. Пройдет время, надеялся он, возвратит ему собак Вакон. Где ему прокормить столько собак? Но теперь на это не было никакой надежды.
Плохо спал Низюн между двух женщин. Этим женам было далеко до Питанситы. От одной жены рыбой пахло, сгнившей кетой. От другой — еще хуже, другая жена была старуха.
Плохой сон снился Низюну. Снилось ему, что увез кто-то и этих жен. Проснулся Низюн и положил руки на своих жен, левую руку положил на левую жену, на правую жену положил правую свою руку с откушенным пальцем.
Рукам неодинаково было — правой руке мягко было, удобно, левой руке было жестко, неловко. Это были разные женщины.
С левой стороны лежала худенькая, маленькая женщина, у нее даже дыхание было неслышное, птичье. С правой стороны лежала большая, толстая жена, и дыхание у нее было громкое, будто рядом спал медведь, длинное дыхание.
Низюн любил шутить над своими женами.
— Тощая жена, — говорил он, — у меня для лета жена. Толстая у меня зимняя женка. Греюсь возле нее. Тощая жена у меня хозяйка.
— Это для удобства жёны, — сказал как-то ему Чевгун-старший, смеясь своим единственным глазом. — А где же жена для души?
Понял Низюн, куда метил старик. Понял Низюн, смолчал.
Жена для души, Питансита, где ты?
Эх, Питансита, Питансита, ну что ты нашла в Ваконе? Так себе малый, вредный человек. Ланжеро — и тот был лучше.
В Нань-во сопели старики. Спал и Водка, отец Ланжеро.
Кто-то постучал в дверь.
Водка вскочил. Стук был знакомый, свой, будто Ланжеро стучал.
Подошел Водка к дверям и впустил незнакомого парня. Уж очень был похож на Ланжеро этот парень.
— А я думал, что это мой сын, — сказал Водка. — Думал, что это Ланжеро. Ну, садись.
Парень сел. Водка бросил в огонь полено. Огонь осветил пришельца. Ну прямо Ланжеро и Ланжеро. И сидит даже так, чуть склонив голову набок, — Ланжеро и Ланжеро.
Водка, словно не веря глазам, подошел ближе, потрогал парня. Он сам себе не верил.
— Ты что, пришел по делу или так, навестить?
— Нет, я жить к тебе пришел. Можно?
— Кто же ты такой? Родственник? Почему пришел ко мне жить? Ты что, из рода Лесгран?
— Нет, я нездешний, амурский гиляк. Я колхоз буду у вас создавать. Буду работать.
— Так, так. Сиди. Возьми огня из моего очага для своей трубки. А я услышал стук, встал, тебя увидел. Ну, думаю, парень мой вернулся, Ланжеро. Весной ушел мой парень. Говорил, надо посмотреть, велика ли земля, людей много ли. Ну, думаю, вернется. Землю всю не пройти. Море не пустит.
— Ланжеро? — спросил парень, но потом, как будто спохватившись, сказал тихо, про себя: — Ну да, этот, про которого я читал.
— Ланжеро, говоришь? Может, ты его встречал. Не знаешь моего парня?
— Да нет. Я из Ленинграда. ИНС окончил. Ланжеро? Нет, там у нас не было такого.
Водка показал гостю на пустое место на нарах, где спал раньше Ланжеро.
— Ну что ж, — сказал он, — ложись. Близко к сердцу будешь. На тебя глядеть буду. Пока будешь мне вместо Ланжеро. Ладно?
Утром к Низюну кто-то постучал.
Низюн лежал между двух жен. Ближе к толстой лежал. В юрте было холодно.
— Кто там? Черт тебя возьми. Зачем?
— Можно?
— Кто такой? Зачем занятого человека беспокоишь?
Вошел парень. Низюн тоже вначале принял его за Ланжеро.
— Чем же ты занят?
— Дел много. Председатель я.
— А сейчас чем занят? В постели председательствуешь?
— Да, — сказал Низюн. — Между двух жен мне тепло. А ты кто такой, что председателя беспокоишь?
— Да нет, — сказал парень. — Ты уже не председатель.
— А кто же я? Я знаю законы.
— Да нет, — сказал парень. — Законы ты знаешь. Да законы тебя тоже знают.
— Что ты такое говоришь? Бредишь или как? Кто ты такой? Откуда?
— Я Псягин. Прислан сюда. А к тебе пришел — на тебя посмотреть. Ты можешь пока спать. А потом видно будет.
Глава одиннадцатая
Как всегда, и на этот раз Воробей пришел раньше всех. Зал был пуст. На столе стоял колокольчик. Воробей взял колокольчик и позвонил. Смешно это получилось. Никого в зале не было, а он звонил.
Постепенно комсомольцы начали собираться. Первым пришел Чижов. Он стоял в порядке дня. Чижова принимали в комсомол.
Вопросов было много. Во второй половине дня Воробей встал и сказал:
— Переходим теперь к Чижову. Разрешите зачитать заявление. Чижов пишет: «Прошу принять меня в вашу организацию. Долгое время я жил, как камень стоит в поле или как дерево растет на скале, — один. Корнями своими я чувствовал землю, свою страну, но человек не дерево, которое стремится ветвями к небу, потому что другие деревья заслоняют друг от друга солнце, отбирают корнями влагу и тепло, человек тянется к человеку. Три года я жил среди вас, как среди друзей, ел от того же хлеба, мерз от того же холода, смеялся тем же шуткам. И вот пришло время, когда я постучался в вашу организацию, потому что связь хлебом, связь общей крышей, даже связь общей кровью ниже той связи, которой вы связаны друг с другом, связь, которую я бы назвал — связь одного сердца и одной борьбы. Приходя в организацию, я еще должен переломить в себе многое, остатки…»
— А какие же это остатки? — крикнул кто-то.
— К порядку! — сказал Воробей.
— Пусть ответит, какие остатки.
— Ну, пережитки. Вот ты спрашиваешь, Мишка, а ведь у тебя тоже есть один пережиток, сам знаешь, ты через него еще не перешагнул.
— А грусть-то свою за порогом оставил? Через грусть перешагнул или грусть несешь в организацию?
— Товарищи! — сказал Воробей. — К Чижову нужно отнестись с особенной внимательностью. Грубым шуткам не место. Принимаем мы человека своеобразной судьбы, которого в детстве постигло большое несчастье. Оставило следы на всю жизнь. Пусть товарищ Чижов сам расскажет о себе. Три года мы с ним живем, а не хватило у нас того самого… не знаю, как и назвать, не сумели мы спросить человека — почему он обосабливается, в чем здесь гвоздь?
Чижов налил в стакан воды из графина. Но пить не стал. Стакан отодвинул.
— Жизнь началась у меня трагически, — сказал он тихо.
— Не слышно! — крикнул кто-то из задних рядов. — Громче!
Но Чижов продолжал тем же ровным, тихим голосом:
— Тяжело рассказывать. Когда я был мальчиком, четыре года мне было, играя, я поджег на гумне охапку соломы. Загорелся овин. Я бросился бежать. Затрещало, загорелось сено в сеновале. Ветер дул на деревню. Вспыхнул первый дом, потом второй. Внутри горящего дома было светло и прекрасно, как в печке. Трещали, лопались стекла. Люди бежали, спасая детей. Все горело — дома, деревья, заборы, хлеба, в хлевах горел скот. Из одного двора выбежала горящая овца. Она бежала прямо на людей. В нашем дворе горела яблоня. Яблоки кипели, лопались, падали в траву.
Я стоял в середине улицы, объятый страхом. Пробежал человек, держа под мышкой самовар. Бежала полная женщина, она задыхалась и что-то кричала, словно смеялась. Казалось, люди сошли с ума. Я видел, как мой отец пытался выгнать скот со двора, но скот жался к углам, не узнавал отца, он боялся человека больше, чем огня. Где-то кричала горевшая лошадь. Она кричала человеческим голосом.
Я услышал шепот. Это была моя мать. Она звала меня к себе шепотом.
Ветер усиливался. Он сорвал горящую крышу с одного дома и бросил ее в рожь.
На другой стороне речки загорелась соседняя деревня. Люди бежали. Рядом с людьми бежал скот. Быки топтали людей. Я бежал с матерью. Мой отец остался спорить с ветром и бороться с огнем.
Мы бежали по проселочной дороге, держа кое-какой скарб. Дорога вилась среди огня, горела сжатая рожь.
За рекой мы услышали треск. Загорелся лес. Табун лошадей несся из лесу в дыму на нас. Мы прижались друг к другу. Я сокращу свой рассказ. В деревне, куда мы прибежали, жила моя тетка, сестра моей матери. Пожар словно продолжался. Я слышал топот и крики. Бегали женщины, они искали меня. Из-за меня сгорели их дома, их хлеб, их скот и их дети.
Ночью, спрятав в сене, меня увезли в город. Позже я узнал, что в борьбе с огнем погиб мой отец. Он, очевидно, знал, что по моей вине загорелась деревня.
В городе я жил как на острове. Я шел по улице и сторонился людей, боясь встретиться с земляками, приехавшими на базар, с теми, которые разорились из-за меня, с теми, у которых, возможно, сгорели дети.
Я уехал в большой город. Но и там я сторонился людей, словно каждый прохожий был погорелец. Читая «Робинзона Крузо», я думал, что я согласился бы стать добровольным Робинзоном.
Я с удовольствием законтрактовался, чтобы поехать на Сахалин, потому что Сахалин — это остров.
Кто-то перебил Чижова:
— Сам вроде себя сюда сослал.
— Я сам вез себя в ссылку. Когда пароход подошел к Пиленг-во, я обрадовался — вот остров. Но, оказалось, я ошибся. Нет острова. Я убедился, что Сахалин — это не остров, что вы все связаны с материком, что деревья, которые мы рубим, идут на материк, что газеты, которые мы читаем, идут к нам с материка, прямо из Москвы.
Мы связаны с материком радио, самолетами, которые ведут летчики, преодолевая штормы и туман, всеми мыслями, каждым днем. Я думал, что для гиляков существует остров, что им нет большой нужды в материке, на материке у них нет ни родственников, ни знакомых. Старик, встретивший меня, гиляк, спросил меня: «Ты из Москвы?» — «Нет, — ответил я, — из Ленинграда». — «Из Ленинграда? В Ленинграде у меня сын в Институте Севера. Мне восемьдесят лет». Старик закурил, помолчал. Потом спросил меня: «Очень далеко эта Москва?» — «Далеко, — ответил я, — если пешком пойдешь, ноги сносишь, года три до Москвы идти будешь». Старик сплюнул. Посмотрел на меня насмешливо. «Не верю, — сказал он, — все про Москву врут. Не может быть, чтобы она далеко была, Москва. Не был ты в Москве. Москва от нас близко».
И когда Чижов кончил, многие хотели сказать. Каждый из присутствующих просил слова.
— Регламент строгий установим, — сказал Воробей. — А то до завтра проговорим.
Все словно сговорились, каждый хотел сказать об острове и о себе, каким он остров представлял и каким оказался остров.
У каждого из присутствующих был свой путь, свои воспоминания.
Всем хотелось вспомнить сегодня, как пароход подошел к пустынному берегу, как пришла первая, теперь такая уже далекая зима, как ветры, дожди, морозы, жизнь в палатке и работа в болоте и в снегу связали их всех неразрывной дружбой.
Воробей мечтательно сидел за столом президиума. Перед ним словно прошла вся их жизнь здесь, в тайге.
Каждый уж сказал, желающих больше не было.
— А теперь, — сказал Воробей, — теперь вернемся к порядку дня. Я хочу вам напомнить. Мы все же не остров принимаем в организацию, а товарища Чижова. А что касается острова Сахалина, названный остров уже давно комсомолец.
Глава двенадцатая
Гантимуров не чувствовал радости перед лицом мира.
Он поднимался на горы, спускался в ущелья, доходил до истока рек и ручьев, до тех мест, где рождались воды, где реки были молоды, берега утренни и свежи.
Он смотрел на улетающих птиц, на птиц, летящих в те места, откуда он вернулся. Он наклонялся и внюхивался, он трогал деревья, и вершины гор, и края озер, будто не доверял глазам.
Но горы не радовали его, ни теплые птичьи гнезда с новыми птенцами, ни реки, полные кеты, ни ручьи, которые обрушивались с гор, неслись с ревом, ни белые громадные тела облаков на вершине гор.
Все было холодно и мертво. Горы эти были мертвые горы. Раньше они жили для него. Раньше они были как большие спины, поросшие деревьями, словно шерстью. Теперь они были горы, больше ничего.
Он не радовался ни этим деревьям, легким, рыжим, пушистом, ни этим берегам, покрытым медвежьими следами, ни этому небу цвета горного озера — небу, где купаются верхушки лиственниц.
Он не замечал присутствия зверей.
За его спиной протрусила лисица. Она высунула острую мордочку из травы и, почуяв знакомый запах человека, отбежала к обгорелому стланику. Она бежала, прыгала, ужасаясь и радуясь, — там стоял человек, он не чувствовал ее, она чувствовала его всего, давно не мывшегося, пахнувшего табаком и дымом. Она бежала, делая петли, радуясь ветру, дувшему из леса. На кончике ее носа была тайга и все ее запахи: уток, медведицы, кормившей медвежат, коры и гниющих корней старых вязов, выдры, высунувшейся на солнце, трав.
Лисица встряхивает головой, она чешет нос о траву, она счастлива.
Гантимуров поднялся на гору.
Слева было видно море, на горизонте мелькнул кит, огромный и легкий, с синим фонтаном над головой.
Справа была Тымь — она вилась среди лесов.
Природа набросала возле гор камни, озера и долины, островки юга посреди огромного севера тундр и лесов.
Рядом с кедром, стелющимся по земле, рос высокий вяз — дерево юга.
Рядом с лиственницей росли папоротник и бамбук — сверстники мамонта.
Растения были воспитанниками двух морей. С одной стороны острова взлетало арктическое Охотское море, прибежище сивучей и китов, с другой стороны было южное синее Японское море. Между двумя морями — узкая полоска земли — Сахалин,
Гантимуров не любил моря. Он спустился к реке. Река была прекрасна. У камня река падала, неслась, отскакивая от берегов, завернув за гору, она обрушивалась, несла бревна, в этом месте она прыгала через камни и снова заворачивала. В том месте, где стоял Гантимуров, она несла сонно свои большие воды, она была кругла, как озеро, и спокойна. В камышах на воде отдыхало солнце. Деревья положили на реку свои большие ветви. Над самой рекой сидела белка. Она смотрела, как в середине реки играли две большие рыбы. Они показывались то тут, то там, блеснув на солнце: рыба-муж и рыба-жена. Гантимуров взглянул на них, равнодушный. Он зевнул. Он ничего не чувствовал, кроме усталости, он оставил свои чувства по ту сторону границы.
Недалеко, у дерева, он оставил раненого гиляка. Пусть умирает. Он не мог простить этому человеку его молодости, свежести, его смеха. Пусть смеется теперь. «Недолго ему смеяться», — подумал Гантимуров, но мысль эта не принесла ему удовлетворения. Он стоял, лишенный всяких желаний. Казалось, желания он оставил по ту сторону границы.
Он шел по берегу Тыми. Он услышал тихий крик, радостный крик довольного зверя, и всплеск.
У реки на фоне догоравшего солнца он увидел важенку и сосунка-олененка. Сосунок резвился и прыгал вокруг матери. У матери были задумчивые глаза и счастливое тело. Своими сосками она ощущала губы и язык своего теленка, своими боками она чувствовала его теплое тельце. Спиной она чувствовала ветер и солнце, ногами она ощущала мох и траву. Она была счастлива, эта важенка.
Гантимуров выстрелил в нее. Пусть не радуется. Нашла чему веселиться.
Сосунок заплакал. Он дрожал и плакал возле тела своей матери. Гантимуров тронул его своей ладонью. И вдруг ладонь вздрогнула, она почувствовала тельце сосунка, худенькое и трепещущее. Гантимурову стало жалко сосунка, его тонких ног и узенькой мордочки. И Гантимуров обрадовался своей жалости. Он мог еще радоваться — значит, он мог и веселиться. Он смотрел на теленка. Теленок трогал мордочкой тело матери. Он пробовал ее сосать. На мертвых сосках у нее было молоко, молоко было на траве, на губах теленка еще было молоко, словно мать была еще жива.
Гантимуров долго стоял и смотрел на теленка. Веревочкой он смерил длину и ширину его мордочки и, вытерев ладонь — слюну и молоко, он стал вязать уздечку.
Он надел уздечку па морду сосунка и повел его за собой.
Олененок шел вздрагивая, мягкими ножками едва дотрагиваясь до земли. Его копыта были желтоваты и нежны.
Гантимуров положил руку на спину сосунка.
— Коля, — сказал он ему ласково. — Не торопись. Скоро ночевать будем… Коля, — сказал Гантимуров и глухо рассмеялся.
В детстве у него был такой олененок. Звали его Колей. Самого Гантимурова тоже когда-то звали Колей. Мать так звала. Отец строгий был. Отец его звал: Николай. Отца тоже звали Николаем.
Гантимуров дал понюхать сосунку свою руку. Олененок испуганно мотнул головой.
Они шли много дней. Казалось, никого не было у Гантимурова, кроме этого теленка. Он кормил его мхом и свежей травой, учил его жевать. Он нес его на себе и думал.
Теленка он приведет в леспромхоз.
«Нате, ребята, — скажет он лесорубам, — вам от меня подарок. Мне, старику, жалко стало его. Мать его кто-то убил».
Всю жизнь свою Гантимуров никогда ничему не удивлялся. Когда бедняки забрали у него дом, он не удивился.
— Живите, — сказал он им. — Все равно вам недолго здесь ночевать. Я вернусь.
За границей он тоже ничему не удивлялся. На то и заграница, чтобы все здесь было не таким.
В леспромхозе он заболел удивлением. Он не верил никому, во всем сомневался.
— С виду вы крестьяне. Деревенские ребята, — говорил он лесорубам. — Крестьян я видал на своем веку. Крестьянин — это тот, который тащит себе. Если волю ему дай, он бы весь город себе перетащил.
Лесорубы смеялись.
— Крестьянин сейчас колхозник. Он у себя в деревне строит город.
— Если в каждой деревне — город, земле тяжело станет. Думаете, легко земле держать на себе большие дома?
— А как же земля горы на себе держит?
— Горы — это естественно, дома — это неестественно.
Любил спорить этот старик. Лесорубы смотрели на него как на чудака. А старик, с тех пор как пришел, здорово изменился. Стригся под молодого, молодился. Но удивления своего не скрывал.
— Несознательная голова, — говорили про него лесорубы. — В лесу сидел, революцию проглядел. Пусть себе удивляется на здоровье. Просветим.
Но старик был из упорных или, может быть, притворялся, просто удивительно, всему удивлялся. Некоторым даже это подозрительно стало. Не должно быть в стране таких стариков. Но у старика нашлось много защитников.
— Безвредный старик. Из каторжников. В голове чудинка. А среди медведей, как известно, культработа поставлена не очень-то важно. Ну и проморгал старик немало — пятилетку.
К старику прикрепили Кешку-моториста для индивидуального воспитания.
Кешка сделал старику доклад. Гантимуров смотрел на докладчика с раздражением. Зевнул и уснул. Было ясно: демонстративно уснул. Но не таков был Кешка, чтобы делать доклад перед спящим человеком, разбудил он Гантимурова и посмотрел на него с усмешкой. Давно не нравился ему этот старик. Пробовал он ему как-то показать свой мотор, старик злобно и презрительно посмотрел на мотор. Да и вопросы старика Кешке не казались смешными. Чувствовались в этих вопросах ответы, сердитые ответы…
Разбудив Гантимурова, Кешка сказал ему:
— А теперь я хотел бы послушать вас.
— Не знаю я ничего, — сказал злобно Гантимуров.
— Расскажите что знаете. Про свою жизнь. Мне интересно.
Но не смог рассказать Гантимуров о себе ничего внятного. Путался. Словно не было у него любви ни к себе, ни к своему детству.
Кешке это показалось подозрительным. Он отправился к Воробью. Воробей выслушал его внимательно, не перебивая. Помолчал. Потом спросил;
— О машине твоей он не отзывался? Был у вас о машине твоей разговор?
— Был, — ответил Кешка.
— Тогда мне все ясно, — сказал Воробей. — Обидел тебя старик. Не заинтересован твоим делом. А ты, наверно, сделал ему доклад. Сейчас на политкружках и то докладов не делают. Насмешил ты меня, Кешка.
Гантимуров жил в злобном удивлении. Все его удивляло. Больше всего его удивляли эти молодые парни. Бросили хорошие, выгодные места, семьи, подруг, удобства и приехали сюда добровольно. Одни из них там учились, другие служили. И вот бросили все. Не мог он их понять.
— Раньше я знавал таких, они назывались ссыльными — политическими. Я им сказал как-то: зачем за меня страдаете? Мы сами, если надо, за себя постоим. Не верил я им.
Вот то, что эти лесорубы женились, это он мог понять. Опять девушки были непонятны. Ехать сюда, на Сахалин, к комарам, искать женихов. Что им там, в городах, женихов не хватило, что ли?
Жил Гантимуров на краю поселка. Воспитывал собак. На старости лет ему, князю, пришлось заняться грязной работой — кормить гиляцких собак. Собаки зимой выгоднее оленей. До Александровска или до Охи доставят в момент. Ненавидел Гантимуров собак. Одной кеты они десятки пудов съедали. Накормил бы он их вместо рыбы хорошей штукой — сулемой, да подохнут, придется отвечать.
Когда прогуливался Гантимуров после обеда, проходя мимо домов, где жили лесорубы, он слышал смех, и песни, и топот, он останавливался. Стоял и не смотрел на них.
Ночью он ходил крадучись. Он останавливался возле окон. В домах спали лесорубы. Он трогал дерево домов. Дома были сухие. Если бы поджечь — загорелись бы, как солома. «Да вот беда, — размышлял Гантимуров, — дом от дома далеко, возле домов нет амбаров, случая нужно ждать, большого ветра».
Гантимуров жил не спеша, ходил в кооператив, трогал товары, удивлялся ценам, смотрел на лесорубов и усмехался.
«Рубите? — думал он. — Недолго вам рубить. Вместе с деревьями свалитесь. С женами вместе судьба вам гореть».
Гантимуров ждал большого ветра.
Глава тринадцатая
Ночью в домике Ивана Павловича было так тихо, что он слышал биение своего сердца.
За окном налево и направо во все стороны простирался остров.
Люди спали. Спали рыбы в реках. В дупле спал соболь. На ветвях спали белки. В траве спали куропатки. Спал медведь с семьей недалеко от реки. Живот его был полон рыбой. Медведь проснулся от жажды, спустился к реке и, разбив гладь воды лапой, начал пить.
Ивану Павловичу не спалось. Он сегодня весь день провел на ногах, ходил по поселку, ссорился, ездил на моторной лодке в устье Тыми, где наблюдал за разгрузкой парохода, сам таскал мешки, пил чай с гиляками на песчаной косе, заехал в Набиль, к одному богатому орочону, хотя для этого пришлось сделать крюк.
— Друг, — сказал Иван Павлович орочону, — почему ты своих детей не отпустил в школу?
— Дети мне самому нужны. За оленями кто будет смотреть? Ты?
— Я буду смотреть за твоими оленями. Вези детей.
— Ты правду говоришь?
— Правду.
— Что же ты, большой советский человек, начальник, ко мне в работники пойдешь?
— Пойду к тебе в батраки. Одевай детей.
— Ты смеешься?
— Нет, не смеюсь. Где твои олени? Сколько их у тебя? Я остаюсь. А детей собирай. Рыбаков их увезет.
— Ты не смеешься?
— Нет.
Хозяин подумал, потом сказал:
— Большой подвох. Ты хочешь, чтобы я большим кулаком прослыл. Скажут — сам доктор у него в батраках. Не отпущу детей.
— Добром не отпустишь — ночью приеду, украду детей. Я не могу допустить, чтобы твои дети от других отстали. В школе уже и так много прошли.
Хозяин подумал, помолчал, потом сказал:
— Сядь, Иван Павлович. Чаю попьем, погреемся, посидим, может, сойдемся. Сколько за детей дашь?
— Я детей не покупаю.
— Сколько заплатишь за детей, если я их отпущу к тебе в школу?
— За что же платить? За то, что мы твоих детей кормить будем, одевать и учить?
— Я это знаю, — улыбнулся хозяин. — Дети тебе нужны. А раз нужны — плати. На эти деньги я старика найму, дальнего родственника, чтобы он смотрел за оленями. Не вступать же мне из-за детей в колхоз.
Иван Павлович вспомнил этот разговор и улыбнулся. Детей все же он увез.
Возвратившись домой, он думал, что уснет, устал все же.
Но голова была бодрая. Спать не хотелось, думалось, вспоминалось, мечталось.
Мечты Ивана Павловича не всегда были реальные мечты.
Иван Павлович уснул легким сном. Он вздрагивал во сне. Должно быть, посетили его какие-то смутные видения. Не то смеялся он во сне чему-то, не то спорил с кем-то, ругался. Должно быть, сны были хлопотливые, вроде погрузки парохода.
Утром ему спалось спокойно. Ничего, должно быть, ему уже не снилось. Лежал он на спине, тихо вздрагивая. Чему-то улыбался. Может, тому улыбался, что детей все-таки он увез.
Ланжеро шагнул и пошатнулся. Это был его первый шаг.
В дверях стояла сестра в белом халате и в пенсне, строгая женщина Екатерина Львовна. Она улыбалась.
Рядом с ней стоял доктор Иван Павлович. У него сегодня был праздничный вид.
Ланжеро шагнул, держась за спинку кровати.
— Ну, ну, — сказал Иван Павлович. — На сегодня, пожалуй, хватит.
Но Ланжеро не слышал его. Он шел, он чувствовал ногами пол, землю. Он был жив и мог ходить, как все люди. Ему хотелось распахнуть дверь и шагнуть из комнаты в ветер, туда, где мечутся ветви, где лиственницы грызут землю корнями, где вода перекидывается через камни, где на берегу человек, пьяный от ветра, кричит что-то другому человеку, захлебываясь от густого воздуха, который несется по реке, человек кричит от счастья, а ветер качает его, бросает на него листья, хлещет его ветвями, обдает его запахами тайги и зверей.
Ланжеро подошел к дверям, еще шаг — и его не будет в этой тихой комнате, похожей на большой чистый ящик, еще шаг — и он будет рядом с тем человеком на берегу, рядом с деревьями, на неровной, кочковатой, простой, не закрытой полом земле.
— Постой! Да ты и впрямь думаешь идти?
Он слышит смех доктора, его подхватывают под руки и ведут обратно на кровать.
Вот уже много дней, как он смотрит в окно. Стоя на кровати, он видит Тымь. Река течет и течет. Над рекой летят птицы. Сейчас они были над этим деревом, а вот они уже над той горой, далеко, а ночью они будут уже над материком. Интересно, куда они стремятся, — может быть, в Москву. Как-то он спросил об этом у сестры.
— Нет, — Екатерина Львовна улыбнулась. — Нет, не в Москву. Они летят в теплые страны.
Она села возле кровати.
— Я сама из Москвы. У меня там муж и взрослые дети.
Вечерами Екатерина Львовна рассказывала ему о Москве.
Это была ее любимая тема. От нее он узнал названия улиц и площадей и даже номера трамваев. Правда, ей потом пришлось долго распространяться о том, что такое трамвай.
— Грешным делом, — призналась она, — не люблю я трамваев. Ругань. Один раз у меня в трамвае сняли с руки корзинку с продуктами и унесли. Теперь, говорят, там построили метро. Под землей, под домами, под рекой летят поезда, полные людей.
Вот уже много дней, как Ланжеро смотрит в окно. Сидя на кровати, он видит Тымь. Вниз и вверх по реке плывут нивхи в своих узких долбленых лодках. Они стоят посреди реки и, подавшись всем телом вперед, отталкиваются шестом. Кажется, что они не плывут на лодке, а идут на лыжах.
Люди идут по реке все вперед и вперед.
На берегу тоже люди, тоже куда-то идут, может быть в Москву.
— Человек, однако, — сказал Ланжеро доктору, — не должен сидеть на кровати. Его дело идти все вперед и вперед, брать дерево и, сделав из него лодку, плыть все вперед и вперед, запрягать собак и мчаться на собаках; человек, пожалуй, не должен сидеть без дела.
— Да, пожалуй, — сказал Иван Павлович. — Здоровый человек, но ты человек больной.
Живя в комнате, закрытый от тайги одной стеной, от гор, ветра и всего того, что плавает, летает, ходит на легких лапах, едва касаясь земли, прыгает, живет в траве или в дупле старых деревьев, что несется, прыгая через ручьи, все, что ревет и сосет, лижет шершавым языком соль на солончаках, — закрытый от всего этого второй стеной, от облаков, и моря, и берега, где взлетают волны, закрытый третьей стеной и четвертой стеной закрытый от Москвы, где живет девушка со смеющимся ртом, девушка, в глаза которой попало немножко солнца, Ланжеро смотрел в окно.
В окно видна была река и берег, поросший лиственницами. Это была чужая река, словно она снилась, он не мог к ней подойти.
Ланжеро навещали одни и те же люди: доктор Иван Павлович, сиделка и сестра. Они рассматривали его, справлялись у него о самочувствии. Он не доверял им. В глубине души у него было подозрение: не хотят ли они его здесь задержать, с какой стати они так носятся с ним, так ухаживают за его телом, так заботятся о нем, так кормят его и всякий раз говорят: «Полежи еще недельку».
Они хитрят; чтобы не было ему скучно, они читают ему книги про разных давно умерших людей. Странные это были люди, про которых они ему читали. Уж очень этим людям везло. Если они садились на корабль — большую лодку, корабль разбивало бурей, все погибали, а человек, про которого читали, оставался жив.
Как-то Иван Павлович сказал, что не было этих людей, что их выдумали. Ланжеро даже рассердился:
— Что же вы мне читаете про выдуманных людей?
Но все же эти выдуманные люди нравились Ланжеро. Они не сидели на одном месте, — то они плыли в море, то они шли в лесу, то они преследовали кого-то, то их кто-то преследовал.
Сестра Екатерина Львовна любила слегка посмеяться над людьми, позлословить. От нее Ланжеро узнавал все новости — кто приехал, кто уехал, кто с кем был не в ладах.
Рядом с больницей разбросаны были домики. В домиках, кроме эвенков, жили люди, приехавшие сюда из Ленинграда и Москвы.
Ланжеро не интересовали люди из Ленинграда, его интересовали люди из Москвы. Они жили с нею в одном городе, они встречались с нею в трамвае, может быть они знали ее, может быть даже они были ее родственниками.
В окно Ланжеро видел всех этих людей. Он думал, что он сразу по виду отличит московских людей от ленинградских людей и людей всех других городов, что московские люди должны быть самые молодые, самые веселые, что они должны немножко походить на нее.
Как-то в окно Ланжеро увидал высокого смеющегося парня. Парень нес на плече длинное бревно легко, словно это была жердь. Ноги парня были в высоких резиновых сапогах.
— Это московский человек? — спросил Ланжеро у Екатерины Львовны.
— Бирюков? Нет, это здешний — сахалинский. Московский человек вот, смотри сюда.
И она показала в другую сторону, — возле почты стоял бородатый человек; вот он повернулся и пошел, и шел он некрасиво, прихрамывая.
Ланжеро подумал, что Екатерина Львовна над ним смеется, он ей не поверил.
И вообще он не доверял им всем. Даже Ивану Павловичу — и тому не верил.
— Я, однако, здоров, — говорил он им.
— Да нет, однако. Однако, полежи еще. Куда тебе спешить?
Ланжеро тихо улыбнулся. Он знал, что нужно сделать.
Однажды Екатерина Львовна вошла в палату и вскрикнула от испуга. На том месте, где вчера лежал Ланжеро, не было никого. Не доверяя себе, она потрогала кровать, кровать была пуста.
Глава четырнадцатая
В Охотском море показались льды. Эти льды шли от Гижигинской и Пенжинской губ.
Дули большие ветры. Эти ветры рождались у берегов Аляски, в Беринговом море, они неслись мимо Командорских островов и, обогнув мыс Лопатки, пройдя Охотское море, обрушивались на Сахалин.
На полуострове Шмидта, у мыса Марии, проснулись люди, разбуженные штормом. В темноте они услышали море, словно оно было под ними, — сотни километров пляшущей, беснующейся воды. Вчера вечером шхуна «Буревестник» отправилась в Москаль-во, — успела ли она дойти, или ее захватил шторм? На шхуне находились почти все мужчины — сыновья, братья, отцы их детей, мужья.
Женщины, кружась в ветре, что-то крича, бежали к морю, будто они могли увидеть ушедшую вчера вечером шхуну.
Между ними и их мужчинами было взлетающее море, море, закрывшее горы и небо, крик птиц.
Между ними и всем светом, казалось им, было море воды и море ветра, море холода; оно неслось на них, сбрасывало с ног, заглушало крик в горле; море, ветер и больше ничего.
Они видели своего единственного мужчину — радиста Теплякова; он бежал к ним и что-то кричал.
— Живы! — кричал он. — Кланяются. Пьют чай в Москаль-во.
Возле мыса Крильон, в проливе Лаперуза, терпел бедствие советский корабль.
Японские берега были глухи. Люди бежали от ветра в дома.
В больших лесах Тымьской долины проснулись обитатели земли и рек. Творилось что-то неладное. Между деревьев с визгом струились реки и ручьи зимнего ветра.
Что-то обрушилось сверху, закружило ветви, стволы, траву; выхватило кусок реки и обрушило на гору. Звери, присев, прижавшись всем телом, всеми мускулами к земле, видели, как деревья, вырванные вместе с корнями, носились в воздухе.
В Татарском проливе, в шести милях от Верещагино, шторм обрушился на катер «Спартак». В кунгасе сидели женщины с детьми. Они ехали из Баку, из Грозного, из Майкопа в Оху к мужьям. С ужасом они видели, как ожили вещи, как скарб шевелился, летели с места на место корзины и сундуки, а в море, недавно еще ровном, шли горы из воды и ветра, горы качались, летели, — вот-вот они обрушатся и накроют кунгас.
Женщины с отчаяньем и с надеждой смотрели на моряков. Лица моряков были спокойны. И одна из женщин, с круглым, большеглазым украинским лицом, говорила:
— То пустяк, девоньки, то так его качает море, ей-богу же так, подурит и пройдет.
Старшина катера и матросы смотрели на остров, ища удобное место, пока не остановился мотор, — нужно рубить канат и выбрасываться на берег.
Прошло не больше часа, как Ланжеро вышел из туземного городка Ноглики. Его провожали чуть ли не все жители, тут был и Иван Павлович, и Рыбаков с женой, сестра Екатерина Львовна, учителя и школьники.
Смеясь, Екатерина Львовна напомнила Ланжеро, как он ее напугал. Придя в палату, она увидела, что кровать пуста. «Где же больной?» А больной в халате и туфлях стоит на берегу и помогает рыбакам тянуть снасть.
— За это тебя бы следовало задержать у нас под каким-нибудь предлогом, — сказал Иван Павлович. — Да что с тобой делать? Ты нам всех больных развратил. Все стали себя считать здоровыми.
Ланжеро усмехнулся, пожал всем руки и пошел.
— Да постой! — удивленно сказал Иван Павлович. — Ты и в самом деле уходишь?
Невольно все рассмеялись. Когда Ланжеро прошел шагов двести, он обернулся и крикнул:
— Я еще…
Ветер отнес его слова.
— При… — донеслось до Ивана Павловича, как эхо.
Долго еще стояли Иван Павлович и его друзья и смотрели вслед Ланжеро. И когда они возвращались, Екатерина Львовна сказала:
— До чего свежий человек!
Помолчали.
— Какой-то утренний. Словно только что вышел к нам из тайги. Выкупался и выходит на берег.
Иван Павлович всю дорогу молчал.
Домик, его собственный дом, и тот показался ему без Ланжеро чужим.
В этой комнате жил еще его легкий запах, запах лесной реки, запах белки и еще чего-то.
Вот на этих стульях он спал. Вот сюда присаживался он рисовать. Иван Павлович подошел к столу и достал рисунки.
Невольно он улыбнулся. Ему казалось, что он сам на минуту стал Ланжеро. Всматриваясь в рисунки, он видел все таким, каким видел все Ланжеро, все, что ожило на этих листах бумаги: горы, небо, камни, — все было легким, как птица, все было свежим, как после дождя, все шло куда-то, стремилось, река, прыгая через камни, пробивая горы, спешила к морю, все вперед и вперед; лиственницы — и те, привязанные корнями к земле, всеми ветвями стремились вверх, к солнцу.
«Вот и ушел. Может быть, навсегда», — подумал Иван Павлович.
Сложив рисунки, он спрятал их в стол.
И вдруг рассердился.
— Ну и ушел. Что ж такого? Что ты, его хоронишь, что ли? Ушел, и пусть себе идет. Находится еще, насмотрится — вернется.
Ланжеро остановился. По ногам, по груди, по спине его словно кто-то пробежал. Он посмотрел. Все куда-то бежало, летело: листья, сучья, хвоя, шишки кедрового стланца, охапки вырванной с корнем травы.
Между деревьев, в ущелье, между гор, со стороны моря ревела, рвалась, неслась большая река ветра.
Она накрыла Ланжеро, ветер был в его носу, во рту, в его ушах. Еще немного — и Ланжеро захлебнулся бы от ветра.
Вся долина залита ветром. На Ланжеро падает высокая волна ветра. Она захлестывает, опрокидывает его и несет.
Ланжеро кажется, что он в море.
Ветер гудит. Деревья пригибаются, трещат. Все пляшет. Пляшут даже лиственницы.
Как в большой реке струятся холодные течения, из-под земли, из всех скважин и пор дуют зимние струи.
Ланжеро идет, нагибаясь и крутясь на месте. Ему кажется, что он плывет, борясь с волной. Вся долина полна большим ветром.
В стойбище Нань-во две женщины бежали к реке — тощая и толстая, две жены Низюна. Они кричали в ветре.
На берегу стояли мужчины и смотрели, как в лодке посреди реки погибал человек. Он был едва виден в волнах и в ветре.
— Низюн! Низюн! — кричали они. — Тонет наш хозяин. Спасите!
Старики молчали. Они знали, что нельзя мешать судьбе. Тонет человек — нужно ему не мешать, пусть себе тонет.
— Низюн! Низюн! — кричали женщины.
Лодку опрокинуло, и видно было, как Низюн барахтался в воде. Издали его можно было принять за полено.
В реку бросился парень, тот, который недавно сюда пришел, Псягин. Больше всех удивился Чевгун-старший.
— Сам говорил, что Низюн — враг… Собак у него отобрал. А теперь хочет помешать судьбе.
Старики качали головой.
— Зря мешает. Самого еще унесет в море вместе с Низюном. Нехорошо делает.
А парень, легко разбивая волны, подается все вперед и вперед. Вот он уже возле Низюна, вот они уже плывут к берегу вместе.
Когда Низюн очнулся, тощую жену он прогнал, толстой велел сбегать за трубкой.
— Ты зачем врагу не дал утонуть? — сказал он парню. — Я тебя не просил. Утонуть — и то не дадут. Ладно.
Низюн закурил трубку и сплюнул.
Парень рассмеялся.
— Живи, Низюн, будь счастлив. Нам твоя жизнь нужна. Смерти нам твоей не надо.
Старики посмотрели друг на друга.
Странный этот парень с низовьев Амура, с виду гиляк, а из нового рода, раньше не слышно было про этот род, из рода Комсомол, — удивительный парень!
Ночью, услыша завывание ветра, встал с постели бывший тунгусский князь Гантимуров.
Он распахнул дверь. Ветер, развевая его волосы, ворвался в дом, давно жданный ветер.
— Вот он, случай, — сказал князь.
Он бежал навстречу ветру. По просеке, заливая все, захлестывая и ломая, неслась зимняя пронзительная струя холодного ветра.
Князь подставил ветру грудь, вытянул руки, он словно купался в ветре.
В домах не слышно было лесорубов. В бараках было темно.
— Спят, — сказал князь. — Ничего, когда нужно будет, проснутся.
Князь поджег поленницу сухих пней.
Огонь метнулся на него, чуть не опалил ему лицо. Князь прыгнул. Огонь бежал, летел прямо на дома, огонь и ветер.
— Пусть все горит, — сказал князь. — Пусть горят леса вместе со зверем. Пусть в реках от жары кипит вода. Пусть горит нефть, пусть горят дома вместе с людьми. Пусть горит весь остров.
Глава пятнадцатая
Нина поднялась на гору и посмотрела.
Налево была река, направо — лес, все такое знакомое, свое. Здесь она прожила лето.
По всей вероятности, она никогда уже не увидит этих мест. Останутся фотографии, заметки, воспоминания и фауна — кусочки этих мест — следы растений, умерших миллионы лет тому назад, и окаменевших животных.
Возле домиков суетились японцы, они уже заколачивали ящики, через несколько дней назначен был отъезд.
Нине стало чуть-чуть грустно. В это время к ней подошел Киритани, свежий, улыбающийся и внешне наивный, как ребенок.
— Одолжите мне свою фауну — посмотреть.
Нина, радостная, выбежала, она принесла мешок, сшитый из наволочки, полный разноцветных камней. Она высыпала все свое богатство перед ним на столе. Она знала, что никому из них не удалось собрать такой разнообразной и ценной фауны, как ей, она вспомнила свои утра, проведенные в поле, в шурфах, где она бегала, как девочка в погоне за бабочкой.
Киритани понравилась Нинина фауна. Издали его можно было принять за мальчика, играющего в камешки.
— Вы мне разрешите взять вашу фауну к себе. Завтра я ее вам верну.
Киритани мило улыбнулся.
Последние дни в Боатасине Нина провела уединенно. Японцы были заняты. Да ее и не тянуло к ним. С утра до вечера бегала она по холмам, спускалась в холодные ущелья, прыгала через ручьи. Ей еще и еще раз хотелось посмотреть этот край. Иногда она наклонялась над забытым шурфом, чтобы рассмотреть отложение, записать или захватить с собой еще один заинтересовавший ее камень.
Тут, сидя где-нибудь на горке, видя всю местность, она обдумывала свою будущую дипломную работу, как бы примеряя и все заранее взвешивая: и вдруг ей становилось смешно и чуть страшно, ей представлялась такая картина: в большой, набитой студентами аудитории она защищает свою «дипломку». Профессор, милый, насмешливый старик, говорит ей: «Не слишком ли это темпераментно для дипломной работы, не слишком ли много лирики. Все же это научный доклад, а не поэма». Она краснеет. Но она не согласна: «В докладе должно быть немножко солнца, немножко от этого леса и от этой реки. Дипломная работа, конечно, не стихи, но все же это немножко поэма».
Нина вспомнила, как она в свободные вечера читала японцам «Евгения Онегина».
— Татьяна, — сказал ей тогда один японец. — Татьяна-сан — это вы?
— Нет, какая же я Татьяна!
Нина часто думала о своем возвращении. Среди этих людей, по-своему интересных, но, к сожалению, приторно любезных и искусственных, она соскучилась по человеку обыкновенному, простому, не такому, как они.
Она вспомнила своих приятелей, Северный вокзал, отъезд. У них было смешное представление о Сахалине как об «острове мужчин». Всякая женщина, уезжавшая туда, по их мнению, обязательно должна вернуться замужней.
Нина улыбнулась. «За кого же я выйду замуж — за Судзуки, или за того с усиками, который в Токио служил шпиком, или за Петрова, которого бросила жена?»
«Муж», «замуж» — Нине всегда казались смешными, слишком взрослыми эти слова. Она не считала себя совсем взрослой: с того времени, когда она была девочкой, так быстро бежали годы, что она не заметила, как стала «большой».
Иногда ей снились девические сны, ей было их чуть-чуть стыдно. Сны эти были смешны; однажды ей снилось, как она вышла замуж за старика, за первого встречного, чуть ли не за того самого дядю Антона.
Последние дни в Боатасине были какие-то странные дни: то ей хотелось мечтать, бегать, думать о постороннем, то вдруг хотелось сесть за стол и тут же на месте приняться за работу, начать писать.
Нина постучалась в домик Киритани.
— Киритани-сан, здравствуйте. Извините, я пришла за своей фауной. Можно?
Киритани вышел, такой же свежий, как всегда, такой же улыбающийся. В руках у него были открытки с видами Японии.
— Возьмите, Нина-сан. Скоро мы разъедемся. Мне хочется, чтоб вы меня иногда вспоминали.
Лицо его стало грустным. И улыбался он не так, как всегда. Может, он и в самом деле думал о разлуке.
Нина взяла открытки. Это были восхитительные виды японских гор, морских сосен и моря. Нине они очень понравились. Она поблагодарила Киритани и хотела уже уходить, как вдруг вспомнила о своей фауне.
— Вы ее уже посмотрели, Киритани-сан, мою фауну?
— Ах, вашу фауну. Нет, Нина-сан. Вы меня извините, госпожа девушка. Я был очень занят. Сборы. Отъезд. Сегодня я ее посмотрю. Меня очень интересует ваша фауна.
Вечером японцы пришли звать Нину на праздник, устроенный в честь окончания летних работ.
Столовая была ярко освещена и убрана.
Вокруг бочки с рисовой водкой танцевали японцы — танец, судя по жестам, очевидно, изображавший счастливый рыбный улов. Нина никого из них не могла узнать, все были в масках. У некоторых на голове были корзины. В руках у них было нечто вроде невода. Нина, подпевая и смеясь, помогала им тянуть невод. Внимательно всмотревшись, она узнала Судзуки и Киритани. Они обменялись шутками.
После окончания вечера Киритани пошел ее проводить. Было темно. И Киритани не совсем ловко себя чувствовал в одежде рыбака, или, может быть, он был слегка пьян. Он шутил.
— Ах, зачем вам фауна? Вы очаровательная девушка. Мы могли бы поговорить с вами о чем-либо более интересном, чем о камнях. Впрочем, вам очень идет наша мужская профессия.
Нине не совсем понравились его шутки.
— Послезавтра мы, кажется, отправляемся?
— Да.
Хотя это было и не совсем удобно, Нина снова заикнулась о своей фауне.
— Вы очень настойчивая девушка. — Киритани нежно пожал ей руку. Он был снова прежним любезным Киритани. — Не беспокойтесь. Я приказал ее заколотить в ящик вместе со своими вещами. В Охе я вам ее верну…
И Нина не спала всю ночь. Она думала: что-то тут неспроста. А что, если он под каким-нибудь предлогом не вернет в Охе ей фауну?
И Нина вспомнила все уловки старшего геолога Киритани, все эти «случайности», когда японцы уходили на разведки ночью, ее не предупредив, с последующими извинениями: «Мы не хотели вас тревожить», или: «Это очень трудный переход для госпожи девушки».
Наиболее важные результаты геологической разведки они хотели сохранить в тайне.
Но фауна, ведь это была ее фауна, которую она собирала изо дня в день, радуясь каждому редкому камню. Без фауны вся ее работа не имела никакой цены. «А где ваша фауна?» — первым долгом спросит ее профессор.
Вся ее работа была в чужих, льстивых, лживых руках.
Утром она взглянула в окно. Шел дождь. Что делать? В ее распоряжении был всего один день. В день она должна сделать то, что делала целое лето.
Нина надела резиновые сапоги и, накинув шаль, выбежала под дождь.
— Куда это? — спросили японцы.
— За ягодами.
— За ягодами в такой дождь?
Весь день под дождем она рылась в размытых, наполненных грязной водой шурфах, скользила по склонам горы, спускалась в ущелья. Фауну все же она собрала.
— Ягоды? — спросили ее японцы. — Покажите, госпожа девушка. Ах, какие большие, твердые ягоды!
Утром они покинули Боатасин. В море их ждала «Чайво-Мару».
— Вы нас извините, — сказал Киритани-сан. — Но мы сейчас едем не в Оху. А совсем в другую сторону.
«Уж не в Японию ли?» — подумала Нина. -
— На несколько дней мы зайдем в Катангли. А потом уже в Оху.
— В Катангли? — Нине давно хотелось побывать в Катангли.
Не успели они войти в каюту, как «Чайво-Мару» нарядилась в белые паруса. Японцы все приказания исполняли бегом. Впрочем, Нина уже давно к этому привыкла. Небо было странного желтого цвета, солнце, словно раздавленное яйцо, было размазано по всему небу. Так бывает только во время заката, но до заката оставалось еще часа четыре-пять. Море было ровное, тихое: ни всплеска, ничего, кроме легкого ветерка. Слегка покачивало. Киритани-сан объяснил, что море здесь ни при чем, виновата сама шхуна «Чайво-Мару».
— Какой-то недостаток в носовой части, — сказал он.
Нина вышла на палубу. Море так же, как и небо, окрасилось в желтые тона. Никогда она еще не видела более тихого моря.
И вдруг это началось. Ветер упал сразу. Все закачалось, зашумело.
Ну и везет же тебе, Нина-сан, будет тебе о чем рассказать в Охе и в Москве: летела на самолете — попала в туман, ехала в шхуне — угодила в бурю.
Вся в ветре, она влетела в каюту и радостно крикнула:
— Киритани-сан! Судзуки-сан! Смотрите, что делается в море!
Чижов проснулся.
За окном гудел ветер. Он словно раскачивал дом. Где-то зазвенели разбитые стекла. Пахло гарью. Чижов тревожно вскочил. Его била лихорадка.
— Ну что тебя знобит так, неврастеник, — сказал он себе.
Ветер нарастал. Чижов прислушался. «Такой ветер был в моем детстве, когда горела деревня, такой сильный ветер».
Чижов распахнул дверь и остановился. Он стоял, словно в большом сне. Перед ним была огромная ночь, лес и пламя. Он стоял перед всем этим маленький, испуганный, ошеломленный, как тогда в детстве. Ему хотелось крикнуть, он не крикнул, как только бывает во сне.
В это время на него упала большая волна ветра, она толкнула его, захватила его всего, освежила, как вода.
Чижов кинулся вперед. На фоне пылающих бревен и скачущего огня он увидел человека с головней. Человек кидал пламя пригоршнями во все стороны. Чижов бросился на него. Уже схватив его, почувствовав его шею, грудь, плечи, руки, он его узнал:
— Старик!
Они упали друг на друга. Чижов почувствовал на своем лице большую жесткую ладонь. Ладонь эта искала его рот. Чижов укусил эту ладонь. Он собрал все силы. Он душил, бил коленом, прижав этого человека к земле. Человек этот душил его.
Они судорожно прижались друг к другу, они переплелись ногами, лица их были прижаты лицо к лицу. На одно мгновение Чижову показалось, что он не душил этого человека, а обнимал, слишком близко они были друг от друга. Он почувствовал запах этого человека: запах табака, смешанного с корой; при свете пляшущего огня он видел эти судорожные улыбающиеся губы, этот нос, эти невыносимые глаза.
Чижов крикнул. В свой крик он вложил всего себя, все свое отчаяние и всю надежду. Крик разорвал ветер и ночь. Чижов не узнал своего голоса: это был крик счастья, а не ужаса. В следующее мгновение Чижов почувствовал пальбы врага на своем горле, они сжимались медленно и неотвратимо. Где-то уже на дне сознания он услышал выстрел.
Чижов словно тонул. Сознание вспыхнуло в нем и погасло.
Гантимуров отбрасывает от себя труп. Он встает и видит — все окна освещены, из всех дверей струится поток людей.
Лесорубы бегут. Он слышит смутные голоса. Он шатается. Он видит, что поток людей несется прямо на него. Бежать некуда, да и незачем.
Он стрелял в одного и сейчас задушил другого, он долго ждал большого ветра, он разбросал огонь, и теперь он видел, что ни ветру, ни огню было не устоять против этого потока людей и жизни.
— Вот я, — крикнул Гантимуров. — Это я…
Его слова затерялись в ветре.
Ланжеро бежал по шпалам узкоколейки и кричал.
Впереди него, рядом с ним и позади него бежали незнакомые люди и кричали.
Люди кричали на трех языках: на русском, японском и орочонском. В ветре пропадали их слова. Люди бежали к морю.
Какой-то человек схватил Ланжеро за плечи и крикнул ему в самое ухо:
— Чего орут?
— Не знаю.
— А ты чего орешь?
Ланжеро сам хорошо не знал, почему он кричал. Это было похоже на игру. Ланжеро кричал, потому что он был здоров, потому что был весел, потому что он мечтал идти и идти все вперед и вперед и ничто не могло ему помешать: ни ветер, ни люди.
На берегу Ланжеро увидел пограничников. Они волокли по песку лодки. Ланжеро взглянул на залив, и ему стало понятно, почему бежали и кричали люди. В заливе терпел бедствие корабль. Его швыряло и несло в ту сторону, где бурлил и бесновался двойной бар.
Пограничники, оттолкнув, вскочили в лодки. Ланжеро прыгнул вместе с ними. На берегу все еще кричали люди.
— «Чайво-Мару»! — кричали они. Очевидно, так назывался корабль. Лодку захлестывало. Пограничники молча гребли. Никто из них не удивился, что вместе с ними сидел посторонний.
Один из пограничников пошутил:
— Вот и довелось нам, сухопутным людям, спасать японцев, морских людей.
Другой на это сказал:
— Погоди еще, Федоров, как бы нас самих не пришлось кому-нибудь спасать.
Тот, которого звали Федоровым, был в старой шинели. Ланжеро про него слышал от Ивана Павловича. Федоров был председателем сельсовета Катангли.
— Федоров, — сказал Ланжеро. — Здравствуй.
— А ты кто таков? — удивился тот.
— Я Ланжеро. Может быть, слышал. Был ранен. А теперь вот здоров. Мне про тебя Иван Павлович рассказывал.
— А, знаю, — Федоров улыбнулся. — А тот где, который тебя прорешетил? Князь он или кто? А ты что ж, людям захотел помочь?
— Помочь хочется, — сказал Ланжеро. — Ветер уж больно сердитый.
В это время лодку чуть не захлестнуло водой.
— Эх, ты мог бы повременить, — сказал Федоров.
С другой лодки что-то кричали. Лодку, видно, несло в другую сторону, шхуна была далеко. Темнело.
Когда подошли к шхуне, Ланжеро первый, как кошка, начал карабкаться на нее, хватаясь за все, что попадалось под руку.
Нина смутно представляла, что произошло. Казалось, все продолжалось не больше минуты. И сначала было очень интересно, море словно сошло с ума и лепило горы из воды и ямы из воды, и Судзуки-сан что-то кричал, а Киритани-сан схватил ее за локоть и сделал больно, и у него было какое-то не свое, чужое, смешное лицо. И она говорила, что ее не укачивает, и хотела выбежать на палубу, но палуба перевернулась и полезла куда-то на сторону наверх, и все смешалось, нельзя было определить, где море, где палуба, и Нина схватилась за веревку, и так крепко, что конец веревки так и остался у нее в руке, и все везде трещало, и Судзуки лежал как мертвец, а у нее самой было состояние, похожее на то, которое она испытала когда-то давно: ей казалось, что она угорела, и в ушах у нее был звон, и ей куда-то хотелось бежать.
Она услышала стон. Ей показалось, что стонал Судзуки. Она подошла, почти подползла к этому человеку, который читал ее письма, который следил за каждым ее шагом, — он лежал и просил пить.
В это время все затрещало, казалось, «Чайво-Мару» раскололась на две части, и в каюту влетела волна, ударилась о стену и отскочила. И Нину понесло, потом она почувствовала, что ее несет не волна, а человек, и ей хотелось взглянуть на этого человека, но было темно, и руки у этого человека были теплые, легкие, и она подумала сначала, что ее несет японец, но она почувствовала его запах, запах лесной реки, белки и еще чего-то.
Всю эту ночь Ланжеро не спал. Вместе с пограничниками он спасал людей, носил людей, передавал людей, перевозил людей с шхуны на берёг.
Первый человек, которого он спас, была женщина. Может быть — японка. В темноте не было видно лица. Но когда он ее поднял, руки его почему-то обрадовались, женщина была легкая, и у нее был какой-то странный, незнакомый запах, и Ланжеро было очень хорошо, и, когда он вынес ее из опасности, он передал ее другим людям с сожалением. Но стоять было некогда, нужно было бежать обратно, там ждали люди, которым нужно помочь.
И перед рассветом Ланжеро сидел с пограничниками у костра и сушил одежду. Ветер утих. Но море еще ревело, и пограничники всю ночь говорили о своем, о далеких своих деревнях, и тихо смеялись.
Ланжеро уснул под разговор своих новых друзей. И кто-то накрыл его шинелью, пахнувшей махоркой и морем.
Утром было много солнца. В лесу было очень тихо. Между гор и лиственниц висело озеро. Одна половина его была черная, другая белая.
Ланжеро стоял на берегу. И вдруг он услышал песню. В лесу пела девушка, ту самую песню, которую он однажды слышал. «Неужели девушки нет, а песня отдельно от девушки?» — подумал Ланжеро.
Песня летела к озеру, где-то близко затрещали ветви.
Ланжеро оглянулся. Возле лиственницы стояла девушка, это была она. Глаза ее были прищурены, словно туда попало немножко солнца, а рот ее пел.
— Москва, — сказал Ланжеро, — а я думал — ящик.
— Что вы сказали? — спросила девушка.
— Ты живая. А я думал, это поет ящик. Ящик этот называется патефон.
Девушка рассмеялась и прыгнула, она бежала с горы прямо на Ланжеро.
Подбежав к нему, она приблизила лицо к нему и понюхала его.
— Ну да, это были вы! Это вы меня несли вчера. Я узнала вас по запаху и еще чему-то. От вас пахнет белкой и рекой.
Ланжеро рассмеялся.
— Я тебя давно знал, — сказал он. — Я тебя называл «Москва». Я думал, ты там.
— Меня зовут Нина. А вас как?
— Ланжеро.
— Ланжеро? Так это вы?!
Ланжеро дотронулся рукой до девушки, словно не верил себе.
— Я уже давно иду к тебе, — сказал он. — Сначала я услышал песню. Мне сказали — песня здесь, а девушки здесь нету. Потом я увидел лицо, мне сказали, что лицо здесь, а ее нет, что до нее десять тысяч верст. Ветер был сильный. Я думал, что если до самой Москвы будет ветер, я все равно не остановлюсь — дойду. Оказалось, до тебя близко. Может, и город тоже недалеко — Москва, может, и Москва где-нибудь здесь.
— До Москвы десять тысяч верст.
— Эко! Как далеко! Пожалуй, надо отдохнуть. А потом мы пойдем туда с тобой. Ладно?
Ланжеро вырвал с корнем стланик вместе с шишками, полными орехов, и подал его девушке.
Он боялся, что, когда он ее найдет, у него не хватит слов. Слова нашлись.
И они шли вместе в лесу, и было очень хорошо, и был день, полный солнца и неба, и где-то было море, и Москва, и реки, и звери, и люди, и все это было близко. И она, самая далекая, стояла тут, рядом с ним.
1937
Фантастические повести и рассказы
Мальчик
1
Герман Иванович принес в класс стопку наших тетрадей. Взяв одну тетрадь, он сказал обычным своим тихим, усталым голосом:
— Если Громов не будет возражать, я прочту вслух его домашнюю работу. Она заслуживает внимания.
И он начал читать. Читал он здорово, и мы сразу же почувствовали, что речь идет о чем-то очень странном и необыкновенном. О мальчике, затерявшемся в холодных просторах вселенной. Сам-то мальчик не знал, что он затерялся. Для него все началось там, в пути, в беспрерывном движении, и он сам тоже там начался. Начался? Человек редко задумывается о своем начале. Для него нет начала, как, в сущности, нет и конца.
Мальчик родился в пути, среди звезд, и то, с чем за десять лет не могли свыкнуться взрослые — его мать, и отец, и спутники, — было для него родным и привычным, как для нас школьный двор: космический корабль, повторяющий в миниатюре оставленную планету.
Где-то в бесконечности вселенной остались густые, пахнущие теплой хвоей и озоном леса, синие реки, дома, веселые, шумные, длинные дороги. Все это мальчик видел на экране, но для него это были обрывки сновидений. Может быть, всего этого на самом деле не было?
Спутники с большой настойчивостью стремились доказать мальчику, что все это было, и лучше всех это удавалось мечтателю музыканту. Слушая его музыку, мальчик ощущал леса и реки, дома и дороги далекой планеты, которую экспедиция покинула задолго до его рождения. И тогда мальчику хотелось протянуть руки и дотронуться до мерцающего на экране мира, столь не похожего на жизнь корабля, но даже если бы руки протянулись на миллионы километров, все равно не дотянуться было до лесов и рек, домов и дорог — так далеко все это было.
Да, все-таки было. Это утверждала музыка, утверждал экран и подтверждали знания: ведь мальчик не просто жил в стремящемся куда-то корабле, он еще и учился.
С мальчиком занимались все — и родители и остальные взрослые, в том числе всегда занятый, всегда чем-то озабоченный командир. Приборы искусственной памяти бережно хранили и щедро отдавали мальчику знания о прошлом. Но мальчику порой казалось, что можно отдать все знания за один только час в лесу на берегу стремительной речки. О береге и о лесе рассказывала музыка. Музыкант тоже тосковал по покинутой родине и не старался скрыть своей тоски. Он имел на то право, он был музыкант, мечтатель, его грусть не мешала, а даже помогала жить и работать спутникам.
Мальчик учился. У него не было сверстников, он видел детей только на экране, как реки и леса. Ему не с кем было играть, разве что с роботом — забавной игрушкой, придуманной специально для него, но робот был слишком серьезен и деловит. И однообразен.
Иногда мальчик принимался бегать по кораблю (он мог бегать, потому что на башмаках у него были гравитационные подошвы), ему хотелось пошалить, поиграть в прятки или «пятнашки», и тогда робот обеспокоенно ковылял за ним следом, растопырив руки, — он боялся, бедняга, что мальчик невзначай налетит на какой-нибудь прибор и сильно ушибется.
Мальчик спрашивал себя: какие они, дети? Он все хотел увидеть их во сне, но ни разу ему не удалось увидеть во сне детей. Он видел только робота, хотя робот, возможно, чем-то походил на детей и на самого мальчика.
Мальчик спрашивал о детях у всегда ласковых и внимательных взрослых и у всезнающих машин, но никто не мог рассказать что-нибудь толковое и вразумительное. Ни взрослые. Ни машины. Ни экран. Ни даже музыка. Дети были слишком далеко, там же, где реки, и деревья, и отраженные в воде облака. Взрослые, наверное, забыли о том, что были когда-то детьми. Впрочем, может быть, они просто не хотели напоминать мальчику о своем детстве. Ведь их детство прошло ни на космическом корабле, падающем в ледяную черную бездну.
Но мальчик не так уж часто думал о бездне. Космический корабль сам по себе был для него целым миром, и в этом мире были запретные уголки, куда взрослые не пускали мальчика, всякий раз обещая впустить, когда он вырастет.
Вырастет? Это слово и пугало и радовало мальчика своим чуточку странным и неожиданным смыслом. Ведь на корабле никто, кроме него, не рос, все давно успели вырасти дома, на своей планете, задолго до отлета. И только он один рос, быстро менялся, и все это замечали с легкой грустью, как примету неумолимого хода времени, еще более неумолимого здесь, на корабле, чем дома, на своей планете. Да, мальчик менялся, и ему еще долго нужно было расти и меняться, чтобы стать взрослым.
Куда двигался корабль, зачем? Мальчик инстинктивно чувствовал, что взрослые не любят отвечать на эти вопросы, и потому он спрашивал не их, а самого себя. Эти вопросы не были под запретом, но в них было много неясного и спорного. Корабль должен был доставить экспедицию на одну из планет в окрестностях Большой Звезды, чтобы выяснить, есть ли там разумные существа. И вот часть экипажа считала, что разумные существа там есть, а другая часть в этом сильно сомневалась. Мальчик тоже немножко сомневался, может быть, потому, что в числе сомневающихся был его отец. Мальчик больше всех на свете любил своего отца, больше даже, чем музыканта, хотя и не смог бы себе объяснить, за что он его любит. У отца было нервное, дергающееся от тика лицо. Но и лицо его, несмотря на тик, нравилось мальчику.
В глазах отца появлялся иногда странный блеск, и мальчик знал, что отец в отличие от многих не умеет и не желает скрывать свое нетерпение, свое страстное стремление поскорей достичь планеты в окрестностях Большой Звезды. Мальчик прощал отцу его нетерпение, потому что он догадывался о его причинах. Отец мальчика был геолог, и очень уж большая часть его жизни уходила на ожидание в корабле, где он никак не мог применить свои знания и свой труд. Уже много лет отец тосковал по любимому делу. Мать мальчика, по специальности знаток лесов и деревьев, тоже проводила годы в томительном ожидании. По-видимому, она рассчитывала, что на планете окажутся необыкновенно большие и густые леса с незнакомыми деревьями, которые целые века ждут, чтобы им дали название и определили их породу. Ведь на планете могло и не быть разумных существ.
Было просто удивительно, что почти все уже названо и, чтобы назвать неназванное, нужно преодолеть миллионы миллионов километров и десятки лет. Мальчик жил среди имен и названий. Он давно понял и привык к тому, что названия и имена облегчали его родителям и спутникам общение друг с другом и с вещами. А что было бы со всеми, если бы ни у кого не было ни названий, ни имен? Мальчик даже боялся это себе представить. Имело название даже то бесконечное и бездонное, что было за стенами корабля. Его назвали «вакуум», «пустота». Звучно назвали! И от этого она, пустота, казалась мальчику чуточку менее пустой и чуточку менее страшной.
Да, мальчик жил среди всего названного. Но из всех живых существ, населявших корабль, он один почти не нуждался в имени. Все называли его просто мальчиком, даже мать и отец.
— Мальчик! — окликали его спутники.
— Мальчик! — обращался к нему робот-игрушка.
Со стороны неодушевленного предмета это, конечно, было несколько фамильярно. Но мальчик не обижался. В конце концов робот не был хозяином своих слов, слова произносились роботом только согласно программе.
— Мальчик, — говорили взрослые, — ну как ты провел день?
И их лица, он не мог этого не заметить, светлели и становились менее озабоченными. Почему? Кто знает? Может, и потому, что, глядя на мальчика, они вспоминали себя такими, как он. И только лицо командира корабля не светлело при встречах с мальчиком. Он оставался таким же строгим и озабоченным, каким был всегда. И мальчик понимал и одобрял его поведение. Командир не позволял себе мысленно уноситься в прошлое и этим облегчать свое пребывание здесь. Щадя других, он никогда не щадил себя, постоянно думая о той ответственности, которая на нем лежала.
Командир уходил к себе, к своим приборам и помощникам. А мальчик оставался там, где его настигал интерес к вещам, явлениям или спутникам. Он постоянно был чем-нибудь занят.
— Мальчик! — окликали его спутники.
Вещи тоже окликали мальчика, даже те вещи, которые не умели ни говорить, ни думать.
И мальчик отзывался.
2
В этом месте рассказа Герман Иванович остановился и опустил тетрадь.
— А дальше? — спросил кто-то из учеников.
— Дальше, — ответил Герман Иванович, изменив голос и снова став тем, кем он был до чтения: обыкновенным старым, уставшим учителем, — дальше нет ничего и стоит точка. Надо надеяться, что Громов напишет продолжение. Пока рассказ без конца.
Учитель снова стал самим собой, а ведь только что он казался нам артистом. Более того, он казался нам чем-то вроде посредника, помогавшего ученикам понять странный мир корабля, летящего много лет в пустоте, и живущего в этом странном мире мальчика.
Герман Иванович покачал головой и посмотрел в угол на сидящего у окна Громова, явно предлагая нам всем вспомнить, что истинным посредником был не он, Герман Иванович, а Громов.
И все вспомнили о Громове, хотя во время чтения все о нем забыли. Громова и все остальное заслонил мальчик, голосом Германа Ивановича захвативший наше внимание. Теперь мальчик исчез, и перед нами сидел Громов, делавший вид, что он не имеет к мальчику никакого отношения. Лицо у него было настороженное, и он смотрел на нас, словно ждал какого-нибудь подвоха. Но, честное слово, никто из нас не собирался его подводить. И если уж на то пошло, подвел он себя сам, написав такую странную домашнюю работу.
Зачем он это сделал? Я не знал, не знали и другие, не знали и не догадывались. И странно, что он написал в своей домашней работе не о себе и не о своих знакомых, как мы все, а о каком-то необыкновенном мальчике с другой планеты.
И вот, когда наступила тишина, Громов, наверное, чувствовал себя неловко и невольно заставлял этим чувствовать себя неловко и всех нас, не исключая Германа Ивановича. Громов сидел в своем углу у окна, но казалось, что он где-то далеко, за миллионы километров от нас, со своим необыкновенным мальчиком.
Уж кому-кому, а Громову не следовало писать об этом мальчике. Он был сын известного ученого-археолога, и это все знали. И еще все знали, что несколько лет назад отец Громова сделал крупное открытие, нашел какие-то загадочные предметы, вызвавшие спор. В вечерней газете и в двух-трех журналах появились заметки о пришельцах с других планет, следы которых якобы открыл отец Громова. Но потом журналы почему-то замолчали, как они замолчали вдруг о снежном человеке, о котором сначала так много писалось. И в школе пронесся слух, что все это не подтвердилось: и пришельцы и даже снежный человек. А ведь в снежного человека все уже успели поверить, и всем было очень жалко с ним расставаться.
Никто из ребят не хотел бы оказаться на месте Громова, когда журналы вдруг замолчали об археологических находках его отца. И поэтому при Громове мы старались не говорить на археологические темы, понимая, что Громов не виноват. И отец Громова тоже был не виноват, что какой-то нетерпеливый журналист поторопился раззвонить об этих спорных предметах, вместо того чтобы благоразумно обождать, пока ученые договорятся и вынесут свое авторитетное решение.
Громов, конечно, страдал, держался он отчужденно, домой всегда возвращался один и никого из ребят, кроме меня и Власова, к себе не приглашал. Но Власов был тихоня и от застенчивости вечно заикался, а не приглашать меня Громову было просто неудобно. Я жил в доме напротив и однажды разбил в его квартире стекло — это случилось еще до того, как его отец сделал свое открытие. Громов опасался, что если он меня не пригласит, то я подумаю, будто это из-за стекла. Стекло стоило дорого, оно было толстое, как в витрине.
Если не считать Власова, который был так застенчив, что в чужой квартире боялся оглядеться, я один из всего класса хорошо знал квартиру Громова. Это была большая старинная квартира. В ней всегда стоял какой-то странный, незнакомый ни мне, ни Власову запах. На шкафу торчало несколько желтых и коричневых черепов с написанными на них цифрами, а на стене висел деревянный божок, таращивший на всех светлые жестокие глаза, сделанные, как мне объяснил Громов, из обсидиана — вулканического стекла.
В кабинет ни Громов, ни его отец не приглашали ни меня, ни Власова. И я всякий раз с любопытством смотрел на дверь кабинета, думая про себя, что за этой дверью, наверное, хранятся всякие редкости и даже предметы, вызвавшие ожесточенные споры специалистов. В глубине души я очень жалел, что журналисты вдруг замолчали и не стали больше писать об этих находках. Мне почему-то очень хотелось, чтобы отец Громова победил всех своих противников и оказался прав. Ребята объявили, что мне дорога не истина, а самолюбие и тщеславие, ведь я приятель Громова. Но это неправда, я очень дорожил истиной, и мне хотелось только одного: чтобы истина оказалась необыкновенной и интересной. Обыкновенных и неинтересных истин и без того слишком много на свете.
А потом Громов вдруг перестал приглашать меня и даже Власова. И когда мы спросили его, в чем дело (спрашивал, собственно, я один, а Власов только стоял и застенчиво моргал глазами), Громов ответил:
— У нас, понимаете, ремонт.
— А долго он будет продолжаться, ваш ремонт?
Громов странно посмотрел на Власова, потом на меня и ответил тихо, еле слышно. И мне и даже тихоне Власову очень не понравился его ответ.
— Долго, — ответил Громов. — Ремонт почти капитальный.
Он вежливо дал нам понять, что ходить нам к нему нечего.
Я подумал, что все это из-за стекла, и обиделся. Но Власов попытался найти другое, более разумное объяснение.
— Это, наверное, не Громов, — сказал он, — а его отец. В квартире таятся загадочные ценности.
— А мы что, украдем эти ценности?
— Не в этом дело. Отцу Громова нужна тишина. Он работает. И наверное, есть еще какие-нибудь веские причины.
Я с удивлением посмотрел на этого застенчивого человека. Видно, он очень любил Громова, если плюнул на свою обиду и стал защищать его отца.
Идея Власова о веских причинах, однако, почти убедила меня. Действительно, если разобраться, то иначе и не могло быть. Работа археолога должна быть ограждена от посторонних, раз речь идет о предметах, вызвавших сомнение специалистов. Мне даже стала нравиться эта мысль.
Короче говоря, я тоже почти стал на точку зрения Власова, забыл о когда-то разбитом стекле и рассчитывал, что и другие о нем давно забыли. И однажды в скверике, где мы гоняли мяч, я спросил Громова:
— Ну, как ремонт?
И Громов ответил:
— Еще продолжается.
В сущности, я и не ожидал другого ответа. Всего три месяца прошло с тех пор, как я последний раз разглядывал нумерованные черепа, дверь в таинственный кабинет и обсидиановые глаза деревянного бога. И мне очень хотелось побывать у Громова еще хотя бы раз, но я понимал, что пока это невозможно. Надо было ждать.
Кажется, я уже упоминал о том, что мои одноклассники любили поговорить об истине. И один из них, Мишка Дроводелов, часто повторял где-то вычитанные слова.
— Платон, — говорил он, подходя ко мне или к Власову с важным видом, — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже.
Это у Дроводелова неплохо получалось. Но я лучше всех знал, что до истины ему нет никакого дела. Если бы он так дорожил истиной, то не получал бы двоек.
Но я истиной дорожил, честное слово. Я был убежден, что археолог Громов и через него чуточку его сын имели отношение к истине, но не торопились с ней, боясь навлечь на себя упреки специалистов, и тщательно готовились, чтобы предъявить неоспоримые доказательства.
Именно в это время Громов посвятил домашнее сочинение на свободную тему рассказу о мальчике.
Класс сидел тихо под впечатлением рассказа. А Громов молчал. И тишина была какая-то необычная. Она томила нас, как ожидание несбывшегося. Ведь рассказ о мальчике оборвался на самом интересном месте.
Загремел звонок, и все зашевелились. Вдруг Дроводелов вскочил, подошел к Громову и, вытаращив глаза, проревел во весь голос:
— Громов, ты мне друг, но истина мне дороже!
И я подумал, что теперь рассказ о мальчике не будет дописан. Все испортил этот дурак Дроводелов. И действительно, конца у рассказа не было, но продолжение мне все-таки удалось услышать. Правда, это произошло не скоро, уже после летних каникул.
3
В летние каникулы мне ни разу не удалось встретиться с Громовым. Он уехал в Комарово, в пионерский лагерь Академии наук, а я в Молодежное, в лагерь от завода, на котором работал мой отец. Я, конечно, мог случайно с Громовым встретиться, Молодежное было не так далеко от Комарова. Но за все лето я не встретился ни с кем из наших ребят, кроме Дроводелова, который попал вместе со мной в один лагерь. Его мать работала кладовщицей, и он жил не с нами, а с матерью во флигеле для обслуживающего персонала, но встречались мы каждый день.
В то утро, когда я приехал, он подбежал и, сделав важное лицо, пробубнил:
— Платон, ты мне друг, но истина…
Я не выдержал, схватил его за ворот рубашки и пригрозил:
— Если ты еще раз скажешь о Платоне и об истине, пусть меня выгонят из лагеря, но я тебя проучу!
Он, видно, забыл, какое впечатление произвели на Громова и на всех нас после чтения рассказа его слова.
Дроводелов очень обиделся, у него на глазах даже слезы выступили, и он сказал мне:
— Отпусти! Во-первых, эти слова принадлежат не мне, а Сократу. А он был мыслитель. А во-вторых… Отпусти! Ты сейчас не на улице, а в пионерском лагере.
— На этот раз ладно, — согласился я, — отпущу. Только чтоб об истине я больше ничего не слышал.
И он действительно образумился, перестал говорить об истине и о Платоне. Но моей угрозы он мне не простил. Это я видел по лицу его матери-кладовщицы всякий раз, когда с ней встречался. На ее лице было написано все: и про истину, и про Платона, и про то, что я чуть не оторвал воротник у ее сына. Лицо ее, впрочем, было вполне благообразное, большое, плотное и даже симпатичное, но оно выражало слишком много чувств.
Нет, Дроводелов больше уже не упоминал об истине. И на том спасибо. Я давно заметил, что, когда не очень умный человек произносит чужие умные слова, эти слова тоже глупеют, хотя говоривший ничего не прибавляет от себя. Почему это происходит? Не знаю. Но хватит о Дроводелове. В лагере он всем надоел, вечно торговался, что-нибудь выпрашивал, сплетничал про команду, против которой играл. В конце концов он добился, что его оставляли стоять в стороне в роли болельщика. Вместо того чтобы упрекать в этом себя, он сразу же обвинил меня.
— А еще одноклассник, — нудил он, — разве это по-товарищески?
Эти слова почему-то растрогали меня, и я стал просить ребят не выгонять его на мусор.
Не хочется мне рассказывать о Дроводелове, честное слово, не хочется, не очень-то это интересный человек. Но так получалось, что без него никак нельзя обойтись. В тот день, о котором я сейчас рассказываю, он подошел ко мне, хлопнул по плечу ладонью и объявил:
— Я вчера с матерью в город ездил.
— Ну ездил, и что из того?
— Новостишки есть!
— Какие?
— Громов переводится в другую школу.
— Это почему?
— Квартиру им новую дают, уже ордер выписали. Не будет же он с Черной Речки ездить на Васильевский остров.
— Не может быть, чтобы из-за квартиры он захотел уйти из класса, — сказал я, чувствуя, однако, всю неубедительность своих доводов.
Дроводелов посмотрел на меня, и вдруг его лицо стало похоже на лицо его матери.
— По-твоему, он должен тебя предпочесть новой квартире?
— Если бы Громовы собирались переезжать, вряд ли они стали бы возиться с капитальным ремонтом.
— Выходит, ты мне не веришь?
— Не верю.
— Разве тебе не известно, что я всегда говорю одну только правду.
Дроводелов и в самом деле считал себя правдолюбом. В позапрошлом году он перевелся в нашу школу откуда-то с Бабурина и всем хвастал, что его мать самый крупный в Ленинграде инженер и работает на Металлическом в цехе паровых турбин. Но потом выяснилось, что она торгует зимой в пивном ларьке, а летом работает кладовщицей в пионерских лагерях. Мы узнали об этом, но, чтобы не конфузить Дроводелова, всякий раз, когда речь заходила о паровых турбинах, начинали говорить о чем-нибудь другом. А тихоня Власов даже высказал предположение, будто мать Дроводелова когда-то работала инженером, но дисквалифицировалась и переменила профессию.
Но хватит о матери Дроводелова! Довольно!
Известие про Громова очень огорчило меня. Как известно, судьба не очень балует школьников. Интересных людей с загадочным прошлым или настоящим чаще встречаешь в книгах, чем в школе. А Громов давно привлекал мое внимание не только в связи с находками его отца, но и сам по себе, как самостоятельная личность.
Если бы меня попросили описать наружность Громова и его характер, вряд ли я бы справился. Наружность у него была самая обыкновенная, если не считать седой прядки волос над левым ухом. Поседел Громов сразу, как появился на свет, еще до того, как научился переживать и огорчаться. Седая прядка и очки в зеленоватой оправе придавали лицу Громова серьезное и даже солидное выражение. Кто-то из ребят назвал его Академиком, но прозвище не пристало. К Громову ничего не приставало: ни грязь, ни пыль, ни завистливые и недобрые слова. Он чем-то походил на мальчика, о котором писал в домашней работе. Когда Герман Иванович читал его сочинение, я мысленно представил себе мальчика с седой прядкой над левым ухом, как у Громова, хотя о прядке в рассказе ничего не было сказано. Я уже давно обратил на это внимание: когда читаешь повесть, рассказ или поэму, всегда ищешь у героя сходство с кем-нибудь из твоих знакомых. Помню, когда я первый раз читал «Евгения Онегина» Пушкина, я сразу догадался, на кого похож Онегин. Он был очень похож на одного щеголеватого красивого парня, которого я как-то видел на Невском возле кафе «Север». Парень стоял, отставив ногу в узкой штанине, а на лице его было написано, что ему наскучило все на свете и он не знает, чем бы заняться.
Да, сейчас я убежден, что Громов был похож на мальчика, который родился в космическом корабле. Дело было не только в седой прядке, но и в том, что Громов очень много знал. Никто в школе не знал столько, сколько знал Громов. Но он никогда не был первым учеником. То, что он знал, не имело никакого отношения к программе. Например, он откуда-то знал, и совершенно точно, какой мозг у вымершего миллионы лет назад плезиозавра. Этого не знал даже сам Иван Степанович, преподаватель биологии. Но мы не понимали, какой толк от всех этих знаний, раз их не было в учебниках и в школьной программе. Учителя, за исключением Германа Ивановича, эти знания не очень-то ценили. Глупо было бы думать, что они ценят только то, что вставлено в учебники и программу. Просто у них был житейский опыт, и они отлично понимали, что знание величины мозга у плезиозавра вряд ли пригодится Громову в его дальнейшей жизни и деятельности и что надо хорошо знать то, с чем мы встречаемся на каждом шагу. Вряд ли ему, или нам, или вам когда-нибудь доведется встретиться с плезиозавром.
Я не удержался и однажды сказал об этом Громову при Власове и Дроводелове, который, как всегда, оказался тут как тут. Дроводелов совсем некстати расхохотался, а Громов насмешливо посмотрел на меня, молча достал из портфеля газетную вырезку и протянул нам. Мы прочли и от удивления вытаращили глаза. В газетной вырезке говорилось, что на днях в одном из шотландских озер обнаружен живой плезиозавр.
На уроке биологии мы показали вырезку Ивану Степановичу, и он почему-то очень смутился и, по-видимому, был недоволен этой находкой. В конце урока он нам сказал:
— Это ничего не прибавляет.
И затем добавил, подумав:
— И не убавляет.
Эти его слова нам показались тогда не менее загадочными, чем обнаружение плезиозавра.
Пожалуй, довольно про плезиозавра. О нем и без того все знают. Но Громов знал очень много такого, о чем даже и намеков не было в наших учебниках. Он знал, например, про воду, чего не знал никто из нас. И про лед он тоже знал, чего, возможно, не знала даже наша химичка Вера Николаевна. И однажды на уроке химии он сказал, что лед вовсе не твердое тело, как думают многие.
— А что же он такое? — заинтересовались мы.
— Твердыми телами называются те вещества, частицы которых образуют регулярную структуру, кристаллическую решетку.
Я вспомнил про стекло, вспомнил, что оно такое твердое, что его приходится резать алмазом, и задал Громову коварный вопрос.
— А стекло, — спросил я, — твердое тело или нет?
— Нет, — ответил Громов. — Стекло — это переохлажденная жидкость высокой вязкости.
Вера Николаевна не принимала участия в этом разговоре. Когда речь заходила о химии и физике, с Громовым лучше было не связываться. Никто не знал, откуда он черпал свои знания, и проверить его было трудно.
Первые ученики тоже много знали, они посещали разные кружки при Дворце пионеров и следили за новинками. Но, употребляя полюбившееся нам выражение Ивана Степановича, эти знания ничего к ним не прибавляли и ничего от них не убавляли. Громов — другое дело. Знания превращали его в другого человека. Что я этим хочу сказать? Сейчас постараюсь объяснить. Пока Громов молчал, это был обыкновенный ученик, такой же, как мы все. Но стоило ему заговорить, как он становился совершенно другим. Он делался много умнее и больше обыкновенного ученика, и казалось, что такой он настоящий и есть, только до поры до времени скрывает это.
Отвечая на вопрос преподавателя, Громов никогда не спешил, как первые ученики и отличники. Наоборот, он отвечал медленно, словно еще не зная правильного ответа и безмолвно советуясь с кем-то внутри себя.
Что я еще могу сказать о Громове? Пожалуй, ничего. Пока. Вот когда он переедет на Черную Речку и переведется в другую школу, тогда, возможно, я смогу сказать больше. Ведь пока человек каждый день сидит с тобой в одном классе со своей седой прядкой и раздвоенным подбородком и пока ты каждый день видишь, как он пишет, постукивая мелом по доске, или читает новый номер «Знания — силы», трудно сказать о нем что-либо интересное. А может быть, Громов и не переедет на Черную Речку и Дроводелов все это придумал, чтобы поделиться со мной новостишкой?
4
Когда начались занятия и я пришел в класс, я не очень-то рассчитывал увидеть Громова. Но он спокойненько сидел на своем месте у окна и, чтобы не терять времени, читал какую-то книжку.
Я поздоровался с ним, а потом, словно потеряв над собой контроль, вдруг спросил:
— Ну, а как мальчик? Будет о нем продолжение?
Я думал, что Громов пропустит мой вопрос мимо ушей, но он ответил, и, кажется, охотно:
— Тетрадка у Германа Ивановича. Летом мне удалось найти кое-какой материал о нем.
— Но он же придуманный, этот мальчик, ты же писал фантазию или там сказку…
Громов посмотрел на меня и ответил вопросом:
— Ты в этом уверен?
— А ты? Ты разве не уверен?
Он усмехнулся и произнес слова, истинный смысл которых я, сколько ни старался, никак не мог понять.
— Дело не в том, уверен кто-то или не уверен. Все гораздо сложнее.
Я хотел переспросить, но не успел. Появился Дроводелов и сел рядом. А при Дроводелове мне не хотелось говорить о мальчике. Дроводелов обязательно бы вмешался и стал бы расспрашивать, он всегда любил совать нос в чужие дела.
— Есть одна новостишка, — тихо сказал Дроводелов, наклоняясь ко мне, чтобы не слышал Громов. — После уроков Герман Иванович будет читать продолжение про мальчика. Муть, правда? Выдумка. Неужели придется слушать эту муть?
Он говорил очень тихо, но я все-таки боялся, как бы не услышал Громов. Он в это время уже снова читал свою книжку.
Дроводелов не ошибся. Уроки кончились, и Герман Иванович прочел продолжение рассказа. В этот раз он читал намного хуже.
Космический корабль продолжал свой путь. Мальчик успешно сдал экзамены и проводил каникулы тут же, на корабле. Летние каникулы? Или зимние? Это не существенно. В космическом корабле не было ни лета, ни зимы. Кто экзаменовал мальчика? Все, кому не лень, начиная от командира корабля и кончая поваром-фармацевтом. А самыми придирчивыми и строгими экзаменаторами были памятливые машины. Одна машина задала мальчику каверзный вопрос.
— Скажи, мальчик, — спросила она красивым мужским голосом, — в каком году изобрели колесо?
Мальчик смутился. Он мысленно перебирал все даты значительных открытий и изобретений, но про колесо не вспомнил ничего.
Машина долго ждала ответа, а потом сказала, почему-то переменив голос на женский:
— Не трудись. Этого никто не знает, даже я. В ту эпоху жители нашей планеты не имели представления о датах.
Машине, наверное, не следовало задавать мальчику вопрос, на который не существует ответа. И при этом еще менять свой голос. Ведь мальчик и без того волновался и переживал. На все остальные вопросы он отвечал без запинки.
Наступили каникулы, и мальчик сразу забыл о каверзном вопросе. Он был счастливее всех на корабле, потому что он здесь родился и обо всем остальном знал только от других. В отличие от других на далекой планете у него не было знакомой или знакомого, по которым он мог бы скучать. Все его знакомые были здесь рядом с ним, на корабле. Здесь было не только его настоящее, но и прошлое, а что касается будущего, то о нем приходилось только гадать. Будущее зависело от теории вероятностей и от той неизвестной планеты, на которую они летели. Об этой планете много говорили на корабле. Каждый, по-видимому, представлял ее по своему вкусу. Одни считали, что там живут высокоразумные и цивилизованные существа, другие полагали, будто для разумных существ там еще не наступил черед и обитают там пока только ящеры. У мальчика тоже была своя гипотеза. Он был уверен, что планета населена детьми. В глубине души он понимал, что это невозможно. Но ему очень хотелось увидеть детей еще до того, как он станет взрослым и состарится. Мальчик никому не высказывал своей гипотезы, он боялся холодной и беспощадной логики взрослых, которые докажут ему, как доказывают теорему, что его мечта несбыточна.
На корабле за много лет беспрерывного, безостановочного движения создался совсем особый ритм жизни. И этот ритм облегчал существование всем членам экспедиции и команде, так что они почти не чувствовали, что лишь стены корабля отделяют их от холодной и страшной пустоты без дна.
Для этого ритма, как узнал мальчик, существовало свое название. Этот ритм назывался обыденностью. Сколько ни вдумывался мальчик, он никак не мог понять истинный смысл этого слова, хотя другие слова и названия понимал сразу и без труда. Он чувствовал, что это слово скрывало в себе нечто необычайно важное и даже таинственное. Может быть, взрослые сразу сговорились между собой, едва сели на корабль, совсем не думать о бездонной пустоте, а потом возник этот ритм, который отвлек их от тревожных дум, как отвлекает сон или работа?
На космическом корабле были представлены почти все профессии. Был там и философ. Он осмысливал все происходящее и с помощью мысли приводил в должный порядок.
Однажды, встретив философа в отделении логических машин, мальчик набрался храбрости и спросил, что такое обыденность.
Философ ласково улыбнулся мальчику.
— Обыденность, — ответил он, — это цепь привычек, которых мы, в сущности, не замечаем, как не замечаем одежды, когда мы одеты. Но стоит нам раздеться и выйти на мороз…
Философ вдруг замолчал, вспомнив, что говорит не со взрослым, а с мальчиком.
Он улыбнулся еще раз и ушел. Мальчик больше не спрашивал. И старался не думать об этом. Он догадался, что обыденность существует только для взрослых, а у детей ее нет и не может быть. И действительно, все казалось необычным и новым мальчику, даже то, что он видел много раз.
Он видел, как все трудились, что-то вычисляя, изобретая или изучая. Он заходил в лаборатории. Ему везде были рады, и особенно почему-то там, где занимались исследованием самых сложных явлений, например в лаборатории субмолекулярной биологии. Может быть, это происходило потому, что исследователи, углубясь в невидимое и неведомое, доступное только сложнейшим приборам, на целые часы теряли связь с окружающим миром и мальчик являлся им как посланец этого прекрасного мира, напоминая об этом мире всем своим видом?
Потом мальчик уходил, и в лаборатории наступала тишина. Но все знали, что мальчик где-то рядом, потому что хотя корабль и был большой, но на нем все было рядом, все было близко. А мальчик, выйдя из лаборатории, сосредоточенно думал о субмолекулярном мире, и мысль его уносилась уже не за пределы корабля в просторы вселенной, а в бесконечное малое. И тогда он сам себе начинал представляться бесконечно большим, состоящим из множества миров.
В свободные от исследований часы некоторые участники экспедиции играли в шахматы. Мальчик через плечо игрока заглядывал на доску и гадал, какой будет следующий ход. Слабее всех играл в шахматы музыкант. Он всем проигрывал — и машинам и живым партнерам. И очень огорчался проигрышами, но не в силах был удержаться от игры. У мальчика его частые проигрыши вызывали досаду.
Проиграв партию, музыкант уходил в свое помещение сочинять музыку. Однажды он поманил мальчика, привел его в свою каюту и включил проигрыватель, чтобы мальчик мог послушать новую мелодию.
Мальчик слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя и налетая на камни.
И постепенно мальчику представилась незнакомая планета с множеством рек, речек и ручейков. Вода пела удивительную песню.
И мальчик вдруг почувствовал, что песня уже есть, но нет еще уха и разума, чтобы понять ее и услышать. На планете еще не наступил черед для разумных существ… Да, на той планете, о которой рассказывала музыка.
А звуки лились, тонкие и светлые. И мальчику казалось, что реки, ручьи, потоки и льдинки — здесь, рядом с ним, такой ясной и красивой была мелодия.
Потом наступила тишина. Молчали оба — и композитор и мальчик. Но мальчик все-таки был мальчиком, и он не мог долго молчать.
— Расскажи, пожалуйста, — попросил он музыканта.
— О чем?
— Все о том же, — сказал тихо мальчик.
И музыкант догадался, о чем просит мальчик, и стал рассказывать о планете, на которой родился и провел свою молодость. Он был хорошим музыкантом, но рассказчиком неважным, часто сбивался, топтался на месте и все повторял одно и то же.
Он родился в лесу под горой, на вершине которой было озеро. Прямо от дверей домика его отца, хранителя заповедника, начиналась тропка. Петляя, она уходила в лес и там терялась.
Но, кроме тропки, деревьев и горы с озером на вершине, рассказывал дальше музыкант, было еще нечто иное, называемое необходимостью. Когда будущий музыкант подрос, ему пришлось расстаться с тропой, с речкой, с горой и с озером, которое было на самой верхушке возле синего облака. Быстрая, как молния, машина доставила его в город. В городе тоже было хорошо. Но там не было горы с озером на вершине. Жизнь отобрала у будущего музыканта эту гору и это озеро. Однако музыкант не отчаивался, он уже догадался тогда, что жизнь состоит не только из приобретений, но и утрат.
— Что же ты приобрел? — спросил мальчик.
— Я приобрел опыт, — ответил музыкант.
— Но ведь ты за него отдал гору с озером.
— Может быть, я когда-нибудь и вернусь к этой горе, — сказал задумчиво композитор.
— Когда?
— Разве я это знаю? Нам еще надо побывать на загадочной планете. Потом много лет займет возвращение на родину. А жизнь коротка…
Музыкант вдруг замолчал, и на его лице появилась тень заботы. На всем корабле это был самый беззаботный человек. Но сейчас он стал похож на других. И мальчик впервые подумал, что расстояние, которое нужно преодолеть кораблю, измеряется не пространством и временем, а жизнью. И это было удивительно… Годы уходят, и если даже музыканту удастся увидеть еще раз гору своего детства, то только тогда, когда он станет дряхлым стариком. А может быть, он и не доживет.
Желая сказать музыканту приятное и облегчить его тоску по озеру на вершине горы, мальчик сказал:
— Если ты не увидишь, то, может, я увижу эту гору. Я передам ей от тебя привет.
Наступила пауза. Неловко почувствовали себя оба — и взрослый и мальчик. Потом мальчик подумал, что музыкант сказал не все. Самого главного он не сказал, и это хорошо. Мальчик знал, что от музыканта ушла любимая женщина, предпочтя ему другого. И если даже она и раскается в своем проступке, дела уже не поправить — композитор теперь слишком далеко от нее и вернется домой стариком.
На корабле был только один очень старый человек. Это был главный техник-вычислитель, специалист, распоряжавшийся вычислительными машинами. Все знали, что он уже не вернется домой, для этого он был слишком стар. Но он был очень крепкий. И повар-фармацевт, не отличавшийся крепким здоровьем, однажды позавидовал ему и сказал, что этот старик переживет всех, даже мальчика, и если кому суждено вернуться домой, то именно ему.
Мальчик украдкой разглядывал старика. Между ним и стариком было нечто общее. Старик был всех старше, а мальчик всех младше.
Было ли когда-нибудь детство у этого старика? Возможно, и было, не сразу же он состарился. Когда он встречался с мальчиком, он с изумлением спрашивал:
— Откуда ты взялся, мальчик?
Мальчик понимал, что это была шутка. Но стоило ли повторять одно и то же столько раз? И старик смотрел на мальчика, у которого не было прошлого, а у старика его было почти столько, сколько в памяти у машин, хранителей сведений и фактов. Примерно года два назад старик уличил одну машину в неточности, и все долго смеялись и подшучивали, вспоминая этот случай.
Глядя на старика, мальчик слышал прошлое. Прошлое жило в старике, в его глазах, неласково смотревших из-под седых бровей. Оно хранилось в нем, как в памяти машин. Но оно молчало из чувства собственного достоинства. Ведь старик не был памятной машиной, готовой отвечать всем и каждому на любой легкомысленный вопрос. И прошлое в старике было совсем другое, не такое, как в памяти информационных приборов. Машины помнили даты, факты, события и происшествия. А старик помнил среди всех этих фактов и происшествий еще и себя и других.
Странно, что именно о старике мальчик вспоминал в ту самую ночь, когда бездна чуть не поглотила корабль. Но об этом будет дальше: о бездне, о корабле и о мальчике.
— Пока все, — сказал Герман Иванович, не то огорчаясь, не то радуясь, и закрыл тетрадь. — Будем ждать продолжения.
Все молчали. Даже первые ученики и выскочки, любившие задавать вопросы. Только Дроводелов не вытерпел и, наклонившись ко мне, сказал:
— Муть! Ну и муть! Даже голова заболела от этой мути. При чем тут старик или это озеро на вершине горы? Зачем оно там? К чему?
Я тоже чувствовал: рассказу о мальчике чего-то не хватает. Громов увлекся информационными машинами и стариком и ушел в сторону от главного. Нужно будет ему об этом сказать.
5
Конечно, Дроводелов был не прав, когда заявил, что рассказ о мальчике муть и одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие, впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок. А поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно — неизвестно. Выходило, что кое в чем Дроводелов прав. И со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допускать, чтобы такие, как Дроводелов, могли хвастаться своей правотой. Но довольно о Дроводелове. Тем более что он потом отсутствовал целую неделю, уехал с матерью к каким-то родственникам в Лугу.
Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко:
— Я тут при чем? Не я же летел в этом корабле.
К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик.
Громов ответил:
— Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился?
— Я родился на Васильевском острове в больнице имени Отто.
— А как ты думаешь, — спросил Громов, — есть какая-нибудь разница между больницей имени Отто и той точкой пространства, где родился мальчик?
Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на всех нас свысока.
Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того как перестали писать, Громов немножко сник. И мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка и эта ниточка оборвалась. Вообще неясно все это было.
Но с того времени, как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась. Тоненькая это была ниточка, невидимая, но тем не менее ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно Дроводелову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона-автомата и принес в класс. Мы спросили его:
— Тебе что, мешала эта трубка?
— Нет, помогала, — сказал он.
— А сколько людей из-за тебя потеряли время?
— Мне на это наплевать, — сказал он, — время для того и существует, чтобы его теряли.
Возвратившись из Луги, куда он ездил с матерью, Дроводелов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчике нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил: пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик и жить так много лет, летя неизвестно куда.
И ему отвечали:
— Как гипотеза это возможно.
— Хорошо, это я еще могу допустить, — соглашался он, — но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?
И мы отвечали:
— Конечно, можно обойтись и без них. Но все-таки с ними лучше. Один писал музыку, другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями.
— Отлично, — не успокаивался Дроводелов. — Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте подсчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находился в пути много лет.
— Может, и сейчас находится. Мы же конца еще не знаем…
— Нет, давайте подсчитаем.
И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присоединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирался заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это не давало покоя Дроводелову, и он садился с карандашом, чтобы вести свои подсчеты.
Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль — фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль, с обыкновенным эйнштейновым временем? Или с нуль-пространством, о котором не раз уже писали фантасты?
О нуль-пространстве у нас были большие споры. Никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фантастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль-пространстве не может быть и речи, мальчик жил во вполне реальном трехмерном мире и двигался со скоростью, близкой к световой.
Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать Дроводелов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь — не телефонная, не телеграфная, не радио и не квантовая, а чисто психическая, что ли, соединяла нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке вселенной.
Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, поле-пси, физическая сущность которого еще не известна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь. Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально лихорадило. А Леонид Староверцев завел даже картотеку, записывая на отдельную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассовав по карманам, и, щуря близорукие глаза, рассматривал их во время уроков. О чем только не говорилось в этих карточках! Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про автоматическую родовую память птиц, и про разумных животных дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых — пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков.
Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог пополнить свои знания.
Однажды я спросил Староверцева:
— А про снежного человека у тебя что-нибудь есть?
— Нет. Эту карточку я пока оставил незаполненной.
— Это почему же? — спросил я.
— Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос.
Мне от этих холодных слов стало как-то не по себе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытии Громова-отца, тоже не заполнена и ждет, когда наука решит спорный вопрос.
6
Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную Речку по не зависящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку или оказалась слишком непокладистой комиссия и не захотела принять дом. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и перерезать ниточку.
Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и, когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было большое, широкое, светлое, а за окном вниз улица, и деревья, и люди не тротуарах. А напротив окна дом, а там тоже окно, и в окно выглядывает толстая старуха, и ест сливы, и выплевывает косточки прямо из окна на тротуар. И, глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна, так часто ее видно.
И, глядя в окно, я думал, что мальчик не имел ни малейшего представления об окнах (какие же окна в наглухо замурованном корабле?), и окна ему заменял экран, но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно прекрасная вещь, стены словно и нет совсем, и видны даль, небо, облака, деревья и старуха, которая ест сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках что-нибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно.
Староверцева немножко смутил мой вопрос, и он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной.
— Почему? — поинтересовался я.
— Потому что окно — это изобретение далеких эпох, — ответил он. — А я заношу в карточки только то, что имеет отношение к будущему.
— А разве в будущем не будет окон?
— Будут, но другие. Скажем, ты увидишь в окно не парикмахерскую и не сапожную мастерскую, а кусок вселенной. Вот какие, наверное, будут окна.
Громов прислушивался к нашему разговору, но ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал. Но он не вмешался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать.
Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову. Тоже из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает, особенно тех, кто не мог проверить и должен был верить ему на слово. Ребята считали, что Староверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стоят ящики с этими карточками, как у какого-нибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громова, но даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у меня и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там ни одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивает летом цветы. И все невольно пришли к тому выводу, что у Громова необыкновенная память.
В памяти ли тут было дело или в чем-то другом — не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное, все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И всем казалось, что существует не видимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с самим Наполеоном или Аристотелем. Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом.
Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали, никогда не выскакивал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже отчего-то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все, и ни от чего, в сущности, не уклонялся: ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел. Может, он гораздо меньше спал, чем все мы, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить? Не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой, а Староверцев спросил:
— Сколько же миллионов лет он существует?
У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал: возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Короче говоря, Громов имеет дело не с самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находится в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения.
Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом со стороны громовского отца вряд ли было этично утаить информационную копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против. Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но сильнее их были чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности: а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия. Предположим. А где же она находится, эта копия? В кабинете отца? Допустим. Ну и что же, она стоит там, эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы?
Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности. Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразиться, он сидел в другом углу комнаты, которую мои мать и отец в силу автоматизма по-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыв о моем существовании.
— Ты мог этим заняться дома или в библиотеке, — сказал я.
— Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь, у тебя.
— Согласен с тобой, — сказал я, — но раз ты сидишь здесь, у меня, то хоть спрячь свои карточки в карман. Можешь ты без них обойтись хоть минутку?
— Я очень ценю свое время.
— Ну и цени, — сказал я. — Это твое дело.
— Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других.
— Для других? А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ты ценишь свое время…
— Для Дроводелова? Нет, — ответил рассеянно Староверцев. — Дроводелов, понимаешь, отрезал и принес в класс…
— Опять телефонную трубку?
— Нет, лисий хвост. Говорит, в Зоологическом саду отрезал у живой лисы. Врет. От хвоста пахнет нафталином…
— И это все новости? — спросил я.
Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол.
— Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю. Презираю!
— Почему же презираешь? За что?
— Презираю! Новости — это сплетни. Это еще академик Вернадский говорил. В его биографии написано.
Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола карточек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым.
Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев. В одной карточке было написано про Собор Парижской богоматери, в другой про молекулу АТФ и про водородные связи, а в третьей — я не поверил своим глазам — про информационную копию мальчика.
Первый ученик Дорофеев оказался прав.
В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времени юрского периода.
Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чепуха и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться. Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка слишком священная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как арбитр, слушал их доводы, еще не зная, какому из них отдать предпочтение.
Голоса спорили, приводя сотни доводов «за» и «против». Потом один голос стал побеждать, тот голос, который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу же представил себе Марка Семеновича с мелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться.
Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал.
«Предположим, — говорил он, обращаясь ко всем и к каждому, — предположим, что существование копии мальчика неизвестно, и обозначим ее через икс. Тогда спросим себя, зачем игрек, то есть Староверцев, поспешил заполнить карточку, которую столько времени хранил незаполненной? Предположим, что Староверцев…»
Голос с сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня нетрудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы шутить. Значит? Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика.
Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты.
— Сегодня понедельник, — сказала мать, — газеты не принесли. А во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила в починку.
7
Я набрал номер телефона и, услышав густой и низкий мужской голос, сказал:
— Мне нужно Староверцева.
— Староверцев слушает вас, — ответил голос.
От волнения я даже сразу не сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос.
— Староверцев слушает вас, — раздраженно повторил голос.
— Мне не вас. А вашего сына.
— Его увезли в больницу, — ответил голос. — Приступ аппендицита.
Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина.
Все на свете сговорились, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотал таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники.
Потом пришла врач — старая обиженная женщина — и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться; пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, сорок минут. Сегодня она, боясь потерять время, поостереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать по крайней мере два дня, и ушла.
Два дня… Я лежал два дня и думал. Я думал о копии мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова. Со времен юрского периода, того периода, когда на Земле жили ящеры, прошло много миллионов лет. Значит, копия лежала в земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение.
Мне захотелось узнать побольше о юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учебник палеонтологии, по которому учился старший брат, когда был студентом. Мать учебника не нашла и принесла мне «Палеонтологию позвоночных».
И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние ноги с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров.
И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычайно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит, и люди.
И я подумал, что раз существует информационная копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза. Мне самому она показалась не совсем справедливой.
Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня Староверцевым, самому Громову.
Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву и летел в пропасть, но я ничего не мог с собой поделать, желание выяснить тайну было сильнее меня.
Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дроводелова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову.
Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают.
Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил:
— Ну и что? Что тебя тут удивило?
— Как что? — ответил я. — Разве с копией мальчика подтвердилось?
— Подтвердилось.
— Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было?
— Нет. Староверцев узнал от меня. А на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось ссылаться на частное лицо. А я — частное лицо.
Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный треугольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств.
Я совсем выключился и не слушал Марка Семеновича и вместо теоремы думал о динозавре, воровавшем яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого воришки произошли все млекопитающие, а значит, и люди, меня вовсе не устраивал такой предок. А установить истину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова.
Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на Земле еще в юрский период.
При одной мысли о том, что копия мальчика существует и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал, что врачиха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты. А минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уж никак нельзя было сомневаться.
Я подумал, что он сомневается в теореме и в ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Эвклидом, а я сижу и не сомневаюсь в существовании копии мальчика только потому, что верю карточке и Громову.
Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. И я хотел было подойти к Громову, но возле него уже стоял Дроводелов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дроводелов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дроводелов протянул Громову, были произведены расчеты, сколько мальчик съел, выпил и выдышал, находясь так долго в пути. Дроводелов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты.
Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дроводелов настаивал, чего-то требовал и не отставал.
Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дроводелов от него не отступится.
Возвращаясь домой, я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние ноги обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь погиб, то на Земле не появились бы млекопитающие и в том числе даже я сам.
Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознании спорили между собой. Один голос был согласен с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал.
Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся. Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи.
— Кто там? — спросил я.
— Я, — ответил обиженный женский голос. И по голосу я сразу узнал районного врача.
— Мы ведь больше не вызывали, — сказал я ей. — Я выздоровел.
— Я шла не к вам, а на четвертый этаж. По срочному вызову к Новотеловым.
— Ладно, — сказал я, — немножко потерпите. Я сейчас поднимусь к себе, и мы вызовем ремонтника.
И я стал быстро-быстро подниматься по лестнице, уже не думая ни о мальчике, ни о динозаврах. Я думал о том, почему лифт действует исправно, когда поднимаюсь я, моя мать и все жильцы и их знакомые, но стоит туда войти врачу, как лифт принимается за свои подлые штучки. Я думал об этом, и о теории вероятности, и о теории игр. И потом снова вспомнил про мальчика.
8
Дроводелову все-таки удалось всучить свой счет. Войдя в класс, я застал Громова с этой позорной бумажкой в руке. А Дроводелов стоял рядом и ухмылялся. Опять пришлось отложить разговор. Но потом Дроводелов со своей бумажкой ушел, и я приблизился к Громову.
— А нельзя ли, — спросил я, — повидаться с копией мальчика? Мне нужно выяснить один вопрос.
Вся эта фраза прозвучала очень глупо и дико. Она была по-дурацки выдернута из контекста моих мыслей.
— А что это за вопрос? — спросил Громов спокойно и как бы даже безучастно.
И я рассказал о динозавре, и его передних конечностях с хватательной функцией, и о млекопитающих, которым вряд ли могла понравиться гипотеза, связывающая их происхождение с этим сомнительным животным.
— И что же, — спросил Громов, — ты хочешь задать этот вопрос копии мальчика?
— Хочу, — ответил я.
— Тогда тебе придется немножко обождать.
— Почему?
— Потому, что ты не один хочешь задать вопрос. Это во-первых. А во-вторых, мой отец и его сотрудники уже давно бьются над тем, чтобы дешифровать код и понять язык, на котором думал и разговаривал мальчик.
Но тут наша беседа опять прервалась. Начался урок. Я ждал перемены, а урок тянулся и тянулся… Наконец прозвенел звонок, и я спросил Громова:
— А нельзя ли все-таки с ним повидаться?
— С кем?
— С копией.
— Это невозможно. Она находится в Институте археологии, и доступ туда запрещен всем, за исключением сотрудников лаборатории.
— А ты сам ее видел?
— Разреши оставить твой вопрос без ответа.
Я обиделся — как в тот раз, когда он намекнул насчет ремонта. В его словах сквозило явное недоверие.
По выражению моего лица Громов догадался, что я обижен. Ему, по-видимому, стало неловко, и он спросил:
— Что же ты не заходишь?
— Но у вас в квартире ремонт…
— Ремонт давно кончился. Заходи хотя бы завтра вечером. Я буду дома.
Он что-то еще хотел сказать, но не успел. В класс вошла преподавательница истории. Она стала работать в нашей школе совсем недавно, никого из нас еще не помнила по фамилии и даже не подозревала, что Громов много знает.
Раскрыв классный журнал, она назвала первую попавшуюся фамилию:
— Громов!
Громов встал, и она задала ему вопрос о первобытном обществе и о чем-то еще более древнем.
Я смотрел на ее лицо, пока Громов отвечал. Выражение ее лица все время менялось, и на лице можно было увидеть целую гамму чувств и переживаний.
А Громов отвечал, как только он один умел отвечать во всей школе, а может, и на всем Васильевском острове. И казалось нам, отвечает не он, а те люди, которые жили в древнюю эпоху, отвечает сама древняя эпоха, все факты и события, сами, не очень громким размышляющим голосом Громова.
И я подумал, что, наверное, так же спокойно и задумчиво будет отвечать мальчик через свою копию, когда дешифруют его язык.
Я не знаю, о чем думала преподавательница, слушая, как отвечает на ее вопросы Громов. Сама она молчала, зато безмолвно, сменой выражений, говорило ее лицо.
Потом Громов сел, а учительница встала. По-видимому, она так растерялась, что забыла его фамилию.
— Молниев? — обмолвилась она. Никто из класса не рассмеялся, даже Дроводелов. Такой напряженной была эта минута.
— Нет, я не Молниев, а Громов, — спокойно сказал Громов.
— Благодарю, — сказала учительница. Она почему-то сказала это очень тихо, так тихо, что слышали не все.
А потом она целую минуту молчала, пока на лице ее не появилось то же самое выражение, с которым она вошла в класс. По-видимому, усилием воли она заставила себя успокоиться и снова обрести обычное состояние, с которым учителю легче продолжать урок. Спрашивать она больше никого не стала. А стала рассказывать сама, спокойно, буднично, как и полагалось.
Рассказывала она о далеком прошлом. Но это было совсем другое прошлое, не то, о котором нам сообщил Громов. В чем тут дело? Я не могу объяснить. Тому прошлому, о котором она рассказывала, не было никакого дела до нас. И я думал, что и нам тоже нет до него никакого дела. Но учительница думала иначе, чем я. Она рассказывала страшно спокойно, как в учебнике, и даже еще спокойнее и очень методично, как, наверное, ее учили вести урок, чтобы мы могли его лучше усвоить.
Громов же сидел у окна и, казалось, внимательно слушал. А в окно мне были видны небо и облака, а Громов, наверное, видел и прохожих на тротуаре, а также старуху, евшую сливы и выплевывавшую косточки. Я думал, что в прошлом, о котором рассказывала новая учительница, не было ни этого окна, ни тротуара с прохожими, ни этой старухи, евшей то вишни, то яблоки, а то щелкавшей утюгом орехи на подоконнике. И оттого, что всего этого не было в прошлом, прошлое становилось еще более странным, и неуютным, и не совсем убедительным, таким, какое оно было в рассказе учительницы.
9
Вот она, эта дверь, обитая сукном, с синим ящиком для газет и писем.
Я звоню. Долго не открывают. Может, никого нет дома?
Я еще раз звоню. Открывает сам Громов, не отец, конечно, а сын.
— Проходи, — говорит он и ведет меня в переднюю.
— Я у вас давно не был, — говорю я. — А родители дома?
— Мать дома, отец в институте. А почему это тебя так интересует?
— Да нет, я это так просто. А божок с обсидиановыми глазами все еще висит?
— Висит. Сейчас ты его увидишь, вот вешай пальто сюда. Староверцева видел?
— Откуда? У него аппендицит на днях вырезали.
— Не аппендицит, а аппендикс. Он сейчас уже поправляется и карточки заполняет. Прислал мне вопросник. Ты что остановился? Проходи.
Мы пошли в бывшую детскую, где жил Громов. Прошли через столовую, и я увидел прозрачные глаза деревянного божка и его узкую фигурку с тоненькими ручками и слегка поджатыми ножками.
— Ну, а что за вопросник? — спросил я.
— Чудак он, этот Староверцев. Задает вопросы, на которые мог бы ответить только мальчик или его копия. А главное, требует, чтобы я ответил сейчас же и письменно, пока он еще не ходит в школу.
— И ты ответишь?
Громов удивленно посмотрел на меня и ничего не сказал.
Тогда я спросил:
— У тебя есть продолжение про мальчика?
— Есть где-то, если не потерялась тетрадка. У нас ремонт был. А что?
— Почитай.
— Нет, — сказал Громов, — не хочется. Извини, настроения нет. И потом я не люблю читать вслух.
— Да нет, почитай! — стал просить я. — Почитай, пожалуйста…
Мне стало противно от своих слов и от голоса, которым я просил, словно просил не я, а Дроводелов, но я все-таки продолжал канючить. Очень уж хотелось мне послушать про мальчика еще до того, как дешифруют его код. Ведь это будет не скоро.
— Почитай, что тебе стоит, ну, почитай…
— Нет, — сказал решительно Громов. — Читать я не буду. А если хочешь, включу проигрыватель, и мы послушаем мелодию, которую сочинил композитор, который… У отца в кабинете есть запись. Только смотри, об этом никому…
Он пошел в кабинет и скоро вернулся, бережно держа пластинку, а потом включил проигрыватель, чтобы я мог послушать мелодию, которую сочинил один композитор за много миллионов лет до того, как разум и человеческое ухо появились на Земле.
Я слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечьи билось нечеловеческое сердце музыканта, который вопреки законам времени и пространства сейчас, казалось, был рядом с нами.
Звуки лились, объединяя необъединимое, они были тут, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от нас.
Мальчиком называл в своем рассказе Громов того, кто сумел оказаться рядом с нами. Он и был мальчик, наполненный детством, хотя это детство продолжалось миллионы лет и до сих пор не кончилось.
Мальчиком называли его на корабле. И он тоже так называл себя.
И мы с Громовым тоже пока были еще мальчиками, но наше детство должно было скоро кончиться. Его же детство длилось и длилось, сливаясь со звуками мелодии, которую я сейчас слушал.
Когда мелодия кончилась, я спросил о том, о чем, может быть, не следовало спрашивать:
— Что же, эту запись отец нашел вместе с информационной копией?
— Да нет, откуда ты это взял? Один отцовский приятель сочинил. Член Союза композиторов. По моей просьбе.
Я глядел на Громова, и, должно быть, лицо мое менялось, как у нашей новой преподавательницы истории. И Громову, должно быть, стало жалко меня и досадно за свои слова, и он спросил:
— А тебе, видно, хотелось, чтобы это тот музыкант написал, который дружил с мальчиком?
— Хотелось бы, — тихо ответил я.
— Но музыка же хорошая. Она тебе понравилась?
— Да. Но она понравилась бы мне больше, если бы ее сочинил тот и тогда…
— Когда еще не было разума и человеческого уха? — спросил Громов.
— Да.
— А ты представляешь себе, какой была тогда Земля?
— Раньше не представлял. А сейчас представил, когда слушал эту мелодию. А ты представляешь?
— Зачем мне представлять? — сказал тихо Громов. — Я не только представляю, но и знаю.
— Откуда?
— Разреши мне не отвечать на твой вопрос.
10
И я разрешил. Разрешил ему не отвечать на мой вопрос.
Я просто ушел. Надел пальто в передней и ушел. Не мог я больше канючить, выпрашивать, подлизываться.
Но, наверное, не всякий бы ушел на моем месте, так и не узнав истину. Какой-нибудь исследователь и крупный ученый ради науки плюнул бы на свое самолюбие и остался.
А я ушел. Правда, мне от этого было не легче. Я почти не спал ночь.
На другой день в классе случилось неприятное дело. Не знаю, почему я назвал это дело неприятным. Впрочем, пускай. Вот что случилось.
Пришел новый, очень молодой преподаватель биологии вместо старого, который ушел на пенсию. При старом бы все сошло. Того ничем нельзя было удивить.
Этот новый задал Громову вопрос. И Громов, разумеется, ответил. Дело, конечно, не в том, что Громов ответил не по программе. Дело в том, что Громов знал, чего не знал и не мог знать никто. И новый преподаватель все это понял. Я увидел это по его глазам. Таких глаз я не видел нигде — ни в кино, ни в театре. Казалось, на лице у него ничего не осталось, кроме этих глаз. А в глазах было все: восторг и ужас, недоумение и гнев, отчаяние и радость и еще что-то, чего мне не передать с помощью слов.
Я подумал, что он заболел или помешался. Он стал ходить по классу из угла в угол, словно забыв о нас.
Минут пять прошло, а он все ходит и ходит.
Потом он подошел к Громову.
Он сказал что-то, но так тихо и невнятно, что я не расслышал. Только по ответу Громова я догадался, о чем идет речь.
Речь шла о животных, вымерших миллионы лет назад. И дело не в том, что Громов рассказал о них обстоятельно, живо и слишком конкретно. У него вырвалось словечко, которое ему ни в коем случае не следовало произносить, если уж он хотел все сохранить в тайне. Когда учитель ему возразил, он сказал:
— Вы знаете это из курса палеонтологии, а я помню…
И он стал выкладывать одну подробность за другой. Он словно решил на все наплевать — на тайну, на учителя, на первых учеников, и он опять употребил это выражение: «я помню»… Учитель прямо остолбенел, не в силах ни слова вымолвить.
Мне стало жалко учителя, а еще больше самого Громова. И я крикнул:
— Да он просто оговорился!
Учитель ухватился за мои слова, как хватаются за соломинку. И ему кое-как удалось завершить урок. Громов тоже успокоился.
Я был чертовски рад, что своей находчивостью дал им выйти из трудного положения.
Но тут выскочил Дроводелов. Лицо его ухмылялось.
— Платон! — крикнул он на весь класс. — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже!
11
Я очень сердился на Дроводелова за его выходку. И ребята сердились. Но истина, конечно, была не виновата.
А новый преподаватель заболел. Подцепил где-то воспаление легких. И говорят, из куйбышевской больницы писал Громову письмо. Содержание письма никому в классе было не известно, даже Дроводелову. Но конверт видел на столе у Громова Староверцев и по обратному адресу догадался, кто и откуда писал Громову.
Я почему-то предполагаю, что учитель объяснял Громову свое состояние и почему он так волновался на уроке. А это вовсе не надо было объяснять. Не знаю, было ли в письме что-нибудь об истине.
А я думал о ней всякий раз, когда видел Громова. Потом Громов вдруг тоже перестал ходить.
Прошел слух, что он переезжает, и не на Черную Речку, а в Академический городок под Новосибирском. Только что прошли выборы в Академию наук, и его отца выбрали членом-корреспондентом в Сибирский филиал академии. А раз выбрали, то хочешь или не хочешь, ехать надо. Так мне объяснил один ученик, у которого отца тоже выдвигали в члены-корреспонденты, но не выбрали.
Вот тут я снова вспомнил об истине. Я понял, что Громов скоро уедет, а Новосибирск далеко, и мне так и не удастся ничего узнать о мальчике, пока не появится о нем что-нибудь в газетах. Мне необходимо было повидаться с Громовым еще до его отъезда. Я все ждал, что он появится в классе, но он не появлялся. Может быть, он уже оформил свои документы в школе и ждал, когда отец сдаст дела.
Новый учитель биологии поправился и выписался из больницы. Держался он в классе как-то нервно, смущенно и время от времени бросал свой взгляд на пустое место возле окна, где раньше сидел Громов. И тогда в его глазах появлялось странное выражение, словно он там видел то, чего не видели другие.
Я тоже смотрел туда и видел там пустое место и окно. А за окном была улица с пешеходами на тротуарах и окно напротив, возле которого сидела толстая старуха, евшая яблоки или щелкавшая утюгом орехи на подоконнике.
Но учитель видел там другое — об этом говорили его глаза. Может быть, его глазам представлялась живая и впечатляющая картина древней Земли, Земли еще до человека и до млекопитающих, о которой рассказывал тогда Громов?
Когда я возвращался домой, позади меня застучали каблуки, и я догадался, что кто-то меня догоняет. Я оглянулся. Это был новый учитель.
Он нагнал меня и некоторое время шел со мной рядом. Мы оба молчали. Потом учитель спросил:
— Что вы думаете о Громове?
— Громов переезжает в Новосибирск, — сказал я. — Он будет жить в Академическом городке. Там есть школа для талантливых математиков и физиков. Он, наверное, туда поступит.
— А вы думаете, ему нужна эта школа?
— Туда все стремятся попасть, — ответил я, — но не всех принимают. Только талантливых. Уж кого-кого, а Громова примут сразу.
— Я тоже не сомневаюсь, что его примут, — сказал учитель. — Но я сомневаюсь, нужна ли ему средняя школа. Он слишком много знает.
— Да, — согласился я. — Он знает много, слишком много даже для самого хорошего ученика.
Лицо учителя оживилось. И он наклонился и доверительным тоном спросил меня:
— А откуда он все это знает?
— Очень просто, — ответил я, — у его отца хорошая библиотека.
— Вы думаете? — сказал учитель. По его голосу я догадался, что он остался не совсем доволен моим ответом. Но что он думал, когда задавал этот вопрос? Может, он думал, что я выложу ему все, что знаю и предполагаю про мальчика? Слишком уж он многого хочет.
Учитель сделал еще несколько неровных шагов, потом сказал:
— Всего хорошего.
И свернул на Пятую линию.
Я мысленно похвалил себя за то, что не ответил на его вопрос. Потом подумал: а что я мог, собственно говоря, ему ответить? Ведь я тоже не знал, откуда Громов черпает свои познания.
Придя домой, я взял с полки подаренную мне на день рождения книжку и стал читать. Книжка называлась «Хочу все знать». Название мне понравилось, хотя и показалось немножко неточным. Разве можно знать все? Нет, все, наверное, знать нельзя. А так в общем книжка была ничего. Познавательная. Вроде тех карточек, которые заполнял Староверцев.
Прочитал я немножко, потом скучно стало. Я подошел к окну и посмотрел. Падал снег. От снега улица стала новенькой, свежей, словно только что возникла. И неизвестно почему мне стало вдруг хорошо, хотя я жил не в летящем куда-то космическом корабле, а в самом обыкновенном, давно не ремонтированном доме. И дому ничего не угрожало. Ни случайная встреча с метеоритом, ни другие опасности такого рода. Он не мог сбиться с трассы и заблудиться в бесконечной вселенной. Все было очень обыкновенно. Внизу на той стороне я видел булочную со старинной вывеской, на которой нарисован вкусный крендель, и пошивочную мастерскую с восковым гражданином в мешковато сшитом костюме в витрине, и телефонную будку, ту самую, где Дроводелов отрезал трубку. Мне стало как-то уютно и радостно, словно завтра начинается праздник и будет длиться долго-долго. Но затем мой взгляд упал на подъезд того дома, где жил Громов. Радость и уют сдуло как ветром. И хотя это было обычное парадное в обычном жактовском доме, мне казалось, что за дверью начинается другой мир, мир, полный неожиданностей и тайн. Я и стоял у окна и думал, какой из этих миров лучше: этот, с булочной и пошивочной мастерской и телефонной будкой, или тот, где вместо пошивочной и телефона-автомата летают метеориты?
И тут я вспомнил мальчика. Ведь он был лишен выбора. За него все выбрала судьба. Он родился на корабле в пути. А потом все летел и летел. А за стеной того отсека, где спал мальчик, была не пошивочная мастерская, а ничто, именуемое вакуумом.
Мне стало как-то неловко, словно я поделился своими мыслями с целым залом слушателей. Затем я стал надевать пальто. И ровно через минуту я стоял уже у тех самых дверей.
Я стоял, все не решаясь поднести палец к кнопке звонка. В тот момент, когда я решился, дверь сама отворилась. Вышел отец Громова. Он куда-то уходил и был в пальто.
— Дома, — сказал он мне. — Заходите.
И я сделал шаг. В то мгновение, когда я делал этот шаг, я не подозревал о последствиях.
Громов мне как будто даже обрадовался.
— Заходи, — сказал он. — Раздевайся. У нас уже и вещи связаны.
Зачем он добавил о вещах, которые были действительно связаны, не знаю.
Когда мы проходили через столовую, я взглянул на стену. Но божка там уже не было. Он лежал на полу рядом с чемоданом, поджав свои узкие деревянные ножки.
Тогда я вдруг осознал, что Громовы переезжают. До того момента, когда я увидел божка на полу рядом с чемоданом, я еще сомневался.
Когда мы пришли в детскую и сели, Громов спросил:
— Ты так или по делу?
— По делу, — сказал я.
Громов сразу же замолчал. Я тоже не решался сказать, по какому делу пришел.
— И черепа тоже везете? — спросил я.
— Везем.
— И божка?
— Божка тоже.
— А мальчика?
Это слово само вырвалось у меня почти невзначай. Я бы много дал, чтобы вернуть его назад. Лицо у Громова сразу изменилось. Его словно что-то отодвинуло от меня. И казалось, я его вижу не в комнате перед собой, а на экране телевизора.
— А зачем тебе мальчик? — тихо спросил Громов.
— Я ему вопрос хочу задать.
— Так задавай, — так же тихо сказал Громов. — Я отвечу.
— Я хочу, чтобы сам мальчик ответил.
— Я и есть мальчик.
— Ты?
— Да, я. Разве ты об этом не догадался?
Я ничего не сказал. Меня бросало то в озноб, то в жар. На лбу выступил пот.
— Ну, что же ты не задаешь вопросы?
— Я лучше потом, — сказал я.
— Когда же потом?
— В следующий раз.
— Мы завтра уезжаем в Новосибирск.
— Когда?
— В девять вечера.
— Тогда я после обеда забегу, можно?
— Забегай.
Но я, конечно, не забежал к нему после обеда. Почему? Я сам не знаю. Может быть, потому, что я не знал, о чем его спрашивать. Не мог же я спрашивать про динозавра с хватательной функцией в передних ногах, который воровал яйца у своих соседей. Это было бы слишком мелко. А более крупных вопросов у меня в сознании, к сожалению, не возникло. Слишком уж я волновался.
12
Я долго переживал и волновался. Дней пять или шесть. А потом перестал переживать и больше уже не волновался. И как только перестал волноваться, в моей голове появилось множество вопросов, которые следовало бы задать мальчику, то есть Громову. Но Громов был уже далеко, в Академическом городке под Новосибирском. А в их квартиру въехала какая-то чужая семья. Я видел, как подъехала трехтонка с вещами. Но то были обыкновенные вещи, столы, кровати, стулья, диваны. И конечно, среди этих вещей но могло быть деревянного божка с поджатыми ножками и нумерованных черепов. Я смотрел, как носили эти вещи, и сердце мое сжималось от тоски. И я думал: вот была в доме напротив необыкновенная квартира, и в ней жил Громов, а сейчас туда въехала незнакомая семья, и это уже необратимый процесс, как любит говорить наш учитель физики Дмитрий Спиридонович.
Вообще настроение у меня было плохое в эти дни, и ребята это заметили сразу.
— Что нос-то повесил? — спросили меня.
— Громов уехал, — сказал я.
— Ну и что? Подумаешь! Вместо него другой уже сидит ученик. Новый. Он тоже, кажется, много знает. Приехал из Горького. Говорит на трех языках.
И действительно, на том месте у окна сидел новичок, издали он даже был чем-то похож на Громова. Такое же задумчивое выражение лица. И волосы жесткие, прямые, ежиком.
И как Громов, он то и дело смотрел в окно. Потом сделал кому-то гримасу и показал язык. И я подумал, что он это, наверное, старухе в доме напротив, которая ела яблоки или щелкала утюгом орехи. Громов этого себе никогда не позволял. Он ко всем относился с уважением, и к этой старухе тоже.
Да, неважное было у меня настроение. А тут еще стали тревожить меня вопросы, которые я не успел задать Громову.
Уроки тянулись долго. А когда я возвращался домой, я увидел рядом с собой того, новенького, который сидел на месте Громова.
— Ты далеко живешь? — спросил он меня.
Я назвал улицу и номер дома. Он удивился.
— Значит, ты живешь напротив, — сказал он.
И я догадался, что это он поселился в квартире Громова. Это их вещи привезла трехтонка. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, как к нему отношусь: хорошо или плохо? Два голоса спорили во мне. Один голос говорил: он же не виноват, что сел на место Громова у окна и поселился в его квартире. И Громов все равно уехал бы в Академический городок под Новосибирском, раз его отца выбрали в члены-корреспонденты. А другой голос возражал: разумеется, он не виноват. Но все равно что-то в нем есть. И наверное, задается.
И я решил задать ему, этому новичку, вопрос, один из тех, которые хотел задать Громову.
— Почему, — спросил я его, — существует мир?
— Потому, что существует, — ответил он.
— А что было бы, — спросил я, — если бы мира не было?
— Не было бы и нас, — ответил он.
— Ну, это не ответ, — сказал я.
— А почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он.
— Потому, что хочу знать.
— Мало ли что ты хочешь!
— А почему я должен хотеть мало? Я хочу много.
— Но ты задаешь глупые вопросы.
— Вовсе они не глупые. Ты ничего не понимаешь.
— Глупые. А главное, неконкретные. Разве можно спрашивать о том, почему существует мир?
— Можно.
— Нет, нельзя.
— Громов так бы не сказал.
— Громов? Этот тот, что жил в нашей квартире?
— Не он в вашей, а вы живете в его квартире.
— Мы въехали по ордеру. А он выбыл.
— Не выбыл, а уехал в Новосибирск.
— Ну, уехал. Это все равно. А ты в пинг-понг играешь?
— Играю.
— Так заходи. После обеда заходи. У нас есть. Сыграем.
— Может, и приду, — сказал я. — А как тебя зовут?
— Игорь, — ответил он важно. — Игорь Динаев.
Два голоса спорили во мне: идти или не идти? И все-таки я пошел. Больше из любопытства.
В столовой вместо божка с поджатыми ножками уже висела картина. Квартиру я не узнал. Везде мебель, вся новенькая, как в мебельном магазине. А ведь когда Громовы там жили, квартира походила чем-то на отсек космического корабля. Вещей почти не было. А сейчас от мебели и от картины, на которой была изображена купальщица, трогающая воду в реке длинной ногой, мне как-то стало не по себе. И даже в пинг-понг расхотелось играть. Почему-то захотелось пить. Но я вспомнил про пустыни и как там люди мужественно превозмогают жажду. И я тоже превозмог.
— Что ты молчишь? — спросил Игорь.
— Думаю, — ответил я.
— А о чем ты думаешь?
— Мало ли о чем я могу думать!
— Ну, а все-таки? — спросил он.
— Я думаю о пустыне Гоби.
— А ты там бывал?
— Нет, не бывал.
— А почему же ты тогда о ней думаешь?
— Я всегда думаю о тех местах, где не бывал.
— Значит, ты псих. У вас все в классе какие-то не такие. Я сразу заметил. А кто тот парень, про которого у вас все так много говорят?
— Громов.
— А что в нем особенного? Почему про него так много говорят?
Я взглянул на картину, на которой была изображена купальщица, и на новую мебель. Потом сказал:
— У них не было столько мебели.
— У кого?
— У Громовых.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего.
Я нарочно заговорил о другом. Не хотелось мне говорить с ним о Громове да еще в этой самой квартире.
Потом я встал.
— Ну, пока. Уроки учить надо. Сегодня много задано.
А задано было совсем немного.
Что еще осталось мне сказать? Почти ничего. Без Громова в классе все стало очень обыкновенным. Все к этому скоро привыкли. И постепенно стали забывать о Громове. И даже я редко о нем думал. Слишком задавать стали много. Свободного времени совсем мало оставалось. Но я все-таки старался пополнять свои знания. Читал разные книжки, в том числе ту, которая называется «Хочу все знать».
И голос (один из двух спорящих во мне голосов) говорил, что всего знать нельзя. А второй возражал, напоминая о Громове, и утверждал, что можно.
Из Академического городка под Новосибирском не было никаких известий. Я уже стал думать, что Громов просто шутил, когда сказал мне перед отъездом, что он и есть тот самый мальчик.
Но вот что случилось в субботу после занятий. Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную Речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской «Север». Все было как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть:
«Найденные профессором Громовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются… Исследовать возможности восприятия человеком психологии и знаний инопланетного мальчика помогал коллективу пятнадцатилетний сын ученого… Резервы памяти оказались огромны…»
Слова прыгали. И мне стало холодно, и сразу же жарко, и снова холодно.
— Что с тобой? — спросила мать.
Я не успел ответить и бросился бежать за гражданином, который встал с места и быстро пошел к дверям.
— Газету! — кричал я на весь трамвай. — Дайте, пожалуйста, газету!
1964
Синее окно Феокрита
1
В окно была видна река. Из воды торчали камни. С камня на камень прыгал какой-то человек, а один раз смешно поскользнулся и угодил ногой в воду.
Когда бы я ни подошел к окну, я всегда видел одно и то же: реку, круглые камни в воде и человека, прыгавшего с камня на камень.
— Он давно прыгает? — спросил я отца.
— Вот уже десять лет, — ответил отец, — как он пытается перейти с одного берега на другой, но никак не может. Что-то его задерживает.
— Что, ты не знаешь?
— Видишь ли, и знаю и не знаю. Да и никто толком не знает. Здесь другие физические законы. Он попал в поле замедленного времени.
Тут я должен прервать только что начатое повествование, чтобы не мешать таинственному человеку прыгать с камня на камень. Между моим рассказом и его действиями, как вы позже узнаете, существует скрытая причинная связь.
Он прыгает и сейчас, пытаясь перейти с левого берега на правый, но время течет для него по-другому, чем для нас, ведь он попал в поле замедления.
Синее окно, о котором я рассказываю, осталось в моем раннем детстве. Оно осталось там, возле реки, а я был здесь, в городе, тянувшемся почти на пятьсот километров. Мир не был похож на чудо. Он был будничен, как после сна, когда просыпаешься чем-то озабоченный и нисколько не освеженный.
Сны… Чтобы видеть их, я ходил в школу. С помощью «снов» мы могли переходить из веков в века. «Снами» называли в школе эти удивительные и слишком наглядные уроки.
Я помню, как меня подвели к дверям, на которых было написано: «Осторожнее! Здесь XIX век».
Однажды эти двери открылись, мы сделали всего шаг или два, а оказались… Где? Пусть за меня ответят-мой чувства.
Мы оказались в предместье Гарфорда — Нук-Фарме, в доме Самюэла Ленгхорна Клеменса, известного всему миру под именем Марка Твена.
Нас встретил сам мистер Клеменс, симпатичный пожилой человек с длинными усами, вежливо-недоуменной улыбкой на умном лице.
— Кто вы? — спросил он. — Откуда?
— Школьники… А я преподаватель всемирной истории, — смущенно ответил ему наш учитель. — Мы из будущего.
— Из какого будущего?
— Из того, что будет. Мы из двадцать второго века.
— Вы хотите, чтобы я вам поверил? — сказал великий писатель.
Он поглядел на нас и только теперь заметил, что наша одежда резко отличается от той, которую он знал.
— Уж не думаете ли вы, — спросил он, рассматривая полупрозрачный модный пиджак нашего историка, — что люди будущего будут так глупы и выставят напоказ свое жалкое тело?
Историк покраснел: он занимался спортом и считал себя идеально сложенным красавцем.
Вместо того чтобы ответить писателю, что он точно знает, как выглядят люди двадцать второго века, наш учитель пробормотал:
— Да, я так думаю.
— Ну и думайте, — сказал мистер Клеменс, — а я о людях будущего более высокого мнения, чем вы.
— Вы их не знаете, — стал спорить наш историк.
— А вы их знаете? — сказал мистер Клеменс.
— Знаю.
И тут мистер Клеменс начал его экзаменовать и задавать ему разные вопросы.
Наш учитель стал отвечать, но растерялся, как ученик, не знавший урока. Он растерялся и начал бормотать что-то бессвязное и заикаться, хотя вовсе не был заикой.
Мистер Клеменс слушал и качал головой.
— Так, так, — повторял он. — Отлично. Значит, вам только стоило открыть дверь — и вы сразу оказались здесь, у меня, в Нук-Фарме? Почему же я, открывая двери, всякий раз оказываюсь только в своем столетии? Может быть, я не умею открывать двери?
По-видимому, совсем некстати наш историк напомнил мистеру Клеменсу — Марку Твену об его произведении под названием «Янки при дворе короля Артура».
— Что вы хотите этим сказать? — спросил мистер Клеменс.
Учитель наш стал сморкаться и заикаться и, как на уроке, излагать писателю своими словами его собственный роман.
Мистер Клеменс терпеливо слушал, и, когда учитель кончил свое изложение, он сказал, не скрывая насмешки:
— «Янки при дворе короля Артура» — роман, а не пособие для тех, кто хочет изучать историю. Теперь признавайтесь: зачем вы устроили этот нелепый маскарад?
— Это не маскарад, — ответил наш сконфуженный и растерявшийся историк.
— А что же это, если не плохо сыгранный спектакль?
— Это урок истории. Мы изучаем прошлое не по книгам, а стараемся войти в личный контакт с разными историческими личностями.
— Личный контакт вместо зубрежки? Забавно, — сказал мистер Клеменс. — Но прежде чем явиться с визитом к той или другой исторической личности, вы извещаете ее или входите бесцеремонно, так, как вошли ко мне сейчас, даже не постучав?
— Технические условия эксперимента, — сказал учитель. — Все должно быть как во сне: бесшумно, беззвучно и не вполне логично.
— Кто же кому снится, — спросил мистер Клеменс, — вы мне или я вам?
— И мы вам, — ответил уклончиво учитель, — и вы нам. Впрочем, как хотите.
— Я хочу проснуться, — сказал мистер Клеменс строго. — Мне не нравится этот сон.
С этими словами он выпроводил нас и закрыл дверь.
2
Кроме той двери, через которую мы так неудачно попали к мистеру К-леменсу, в школе было еще много разных дверей. И через них можно было попасть куда угодно: в Древнюю Грецию, в Древний Египет, в еще не открытую Мексику или Тасманию, когда еще не были истреблены тасманийцы, в неолит, и мезолит, и палеолит, то есть в ту проблематическую эпоху, когда неосмысленный звук превратился в слово и проник в явление и предмет, одухотворив весь окружающий мир.
Среди школьников попадались скептики. Они сомневались в реальном существовании других эпох и считали, что вполне достаточно всего одной эпохи — той эпохи, которая соблаговолила совпасть с их собственным существованием. По их мнению, надписи на дверях имели чисто условный характер, что-то символизируя и обозначая. Это «что-то» находилось по ту сторону логики и здравого смысла. Короче говоря, они не любили историю и не доверяли историку, подозревая его в том, что он был иллюзионистом и актером.
Я же не был скептиком, отнюдь. Я нисколько не сомневался, что побывал в девятнадцатом веке на квартире у мистера Клеменса, называвшего себя Марком Твеном. Но, по правде говоря, меня не очень тянуло в другие века. Я немножко побаивался. Вдруг что-нибудь там не сработает, испортится механизм и мы останемся навсегда в другом времени, не сумев вернуться к себе домой?
Да, я частенько думал об этом и не очень обрадовался, когда узнал, что на следующем уроке наш класс вместе с преподавателем всемирной истории попытается войти в личный контакт с Иваном Грозным, а если это не удастся, то с каким-нибудь крупным завоевателем — Батыем или Аттилой.
И случилась неудача. Что-то там не сработало. Попав к Батыю, наш класс там застрял вместе с учителем в результате халатности техников и неисправности аппарата…
К моему счастью, я в тот день заболел и не принимал участия в этом сне-походе, а лежал в постели у себя дома.
Время от времени я задавал домашним (отцу, матери и одушевленному автомату по имени Дориан Грей) один и тот же вопрос:
— Они вернутся или застрянут там навсегда? Оптимистка-мать говорила:
— Возвратятся, когда им надоест хан Батый. Отец отвечал уклончиво и осторожно:
— Может, да, а может, нет. Они могут застрять в чужой эпохе, как испортившийся лифт между этажами.
Автомат по имени Дориан Грей принимал красивые позы и читал вслух стихи:
Художник утонувший Топочет каблучком, За ним гусарский мальчик С простреленным виском. А вы и не рождались, О мистер Дориан, — Зачем же так свободно Садитесь на диван?Дориан Грей был красавцем. Он говорил стихами, а иногда и пел чужим, занятым у давно умершего певца голосом, У него было необыкновенно милое, обаятельное лицо. тоже заимствованное у кого-то.
Я любил смотреть на Дориана Грея, забывая о том, что это автомат, и поддаваясь обаянию, которое струилось из его синих, чуточку надменных глаз, и его голосу, соединявшему слушателя с чудесной стихией великой поэмы:
С своей супругою дородной Приехал толстый Пустяков…Грей изображал всех перечисленных в поэме лиц жестами, мимикой и голосом. У него был большой актерский талант. И он умел обволакивать скучные предметы и явления дымкой почти сказочной веселости и грусти.
Автомат по имени Дориан Грей умел грустить или по крайней мере казаться грустным. Он был похож на картину без рамы, холста и фона. Всякий раз казалось, что он сходил с картины в мир. Я весь замирал, когда он произносил вот эти слова:
Ныне церковь опустела, Школа глухо заперта, Нива праздно перезрела, Роща темная пуста.Звуками своего голоса он моделировал перезревшую ниву, темную рощу и глухо запертую школу.
Наша школа тоже была заперта, но не по причине стихийного бедствия и болезни, а потому, что испортилась дверь в прошлое. С трудом удалось навести межвековую связь с затерявшимся в далеком прошлом классом.
Директор спросил нашего историка:
— Как ваше самочувствие?
— Самочувствие отличное. Хан Батый принял нас за помощников бога. Ночуем в кибитках, скатанных из овечьей шерсти. Пьем кумыс и молочное вино — араки. Ездим верхом. Изучаем быт и нравы.
Спокойный тон историка привел в бешенство директора.
— Аппарат исправлен! — прокричал он в далекое прошлое. — Требуем немедленного возвращения! Затянувшееся пребывание у хана ломает учебную программу и вносит беспокойство в жизнь родителей и педагогов,
— Просим продлить урок, чтобы не разгневать хана, — умолял историк.
Но вдруг связь оборвалась.
3
Мой отец и моя мать, Дориан Грей и я, мы отправились на дно Средиземного моря — отдохнуть, повеселиться, полюбоваться глубоководными рыбами.
Дориан Грей принимал красивые позы. Мечтал. Грустил. Читал стихи. Смеялся. Плакал. Он забавлял нас, одновременно развлекаясь и сам, создавая из чужих и всем знакомых слов довольно красивые и поэтичные картинки. Иногда он напевал, а потом снова читал, мастерски владея чужими прекрасными словами:
Океан дремал зеркальный, Злые бури отошли. В час закатный, час хрустальный Показались корабли.Потом моей матери надоело, и она сказала Дориану Грею, чтобы он немножко погрустил, но погрустил, если можно, молча.
Автомат обиженно замолчал, и тень грусти появилась на его красивом аристократическом лице.
Именно благодаря этому грустному и мечтательному выражению он привлек внимание одной очень милой и приятной девушки, которая тоже оказалась автоматом. У нее тоже была обширная память, и она тоже знала множество отрывков из всех классических произведений, от Гомера до наших дней. Кроме того, она знала множество пословиц, поговорок и ныне забытых старинных cлов. Она сказала Дориану Грею нежно:
— Мерзавец!
— Что означает это древнее, ныне забытое слово? — спросил Грей.
— Оно означает, что вы хороший, добрый человек. Дориан Грей сделал вид, что он ей поверил.
— Красавец, — сказала девушка ласково.
— Что означает это древнее, ныне забытое выражение?
— К сожалению, я забыла, — ответила девушка. Между двумя автоматами возникло нежное чувство. Оно облеклось в старинные, давно всеми забытые выражения и слова, но от этого было не менее сильным и возвышенным.
Мою мать это несколько встревожило.
— А что, если он уйдет от нас? — спросила она отца.
— Кто уйдет? — переспросил рассеянный отец.
— Дориан Грей.
— Он мне надоел. Читает одно и то же.
— Но виноват не он. Его программисты. К тому же он очень красив.
— Потому автоматша и влюбилась в него, что он красив.
— Я боюсь, что он женится.
— Не бойся. Это даже полезно.
Голос Грея и голосок влюбившейся в него автомат-ши становились все нежнее и нежнее. Они ворковали, как два голубка.
— Дурочка, — сказал Грей нежно.
— Что означает это древнее, давно забытое выражение? — спросила автоматша.
— Оно непереводимо, — сказал автомат, — на язык обыденных чувств.
— Пошляк…
— Склочница…
Мать подозвала меня и сказала:
— Запомни эти древние, возвышенные, всеми забытые выражения. Они могут пригодиться тебе, когда ты отправишься в далекое прошлое.
— Зачем? — сказал я. — Я лучше возьму с собой словарь старинных, вышедших из употребления слов.
4
Мой отец, как и большинство жителей нашего го рода, был ученым. Он писал труд об античной культуре и с большой, даже с излишней доброжелательностью отзывался об эллинистическом писателе Ахилле Татии.
Об Ахилле Татии речь пойдет впереди, потому что это касается не только античной истории, но и нашей, семьи.
Мать моя тоже занималась наукой. Она писала докторскую диссертацию о вымерших животных — китах. Киты вымерли в позапрошлом веке. Собственно, они не вымерли, а их истребили. Чтобы увидеть их живыми, нужно было воспользоваться дверями в девятнадцатый или двадцатый век.
Как и всем палеонтологам, моей матери часто приходилось совершать экспедиции в прошлое и покидать настоящее на довольно продолжительный срок. Отец мой долго не мог примириться с отлучками моей матери, но в конце концов привык.
Мать то и дело исчезала. Она ездила с экспедициями и с туристскими группами и где только не побывала: в Древнем Египте, Месопотамии, в античной Греции и Риме.
В древней Александрии она познакомилась с Ахиллом Татием, с тем самым эллинистическим романистом, целую главу которому в своем труде об античности посвятил мой отец.
Ахилл Татии влюбился в мою мать и уговаривал ее остаться в древней Александрии. Мой отец очень сердился на древнегреческого писателя, но остался объективным и свое отношение к творчеству Татия не пересмотрел.
Одна из лжеприятельниц моей матери, некая Афро-дита Капронычева, пустила ложный слух, что я сын древнегреческого романиста. Но кто мог поверить в это уж слишком парадоксальное обстоятельство? Кроме того, я был похож на своего отца, у которого не было ни малейшего сходства с Ахиллом Татием…
Моя мать все время отлучалась, чтобы не порвать связь со своими многочисленными знакомыми, рассеянными в разных веках и даже тысячелетиях. Многих из них она искренне считала приятелями и близкими друзьями.
— Мой близкий друг Тициан, — говорила она, быстро-быстро произнося слова, — ждет не дождется. Он уже начал писать мой портрет, а я вдруг упорхнула. Но я должна вернуться.
Она действительно порхала по векам, легкая, как бабочка, и залетала в окна к знаменитостям. Она знала Веласкеса и даже сумрачного Эль Греко.
Вечная туристка, трогавшая тысячелетия своими белыми, красивыми, ласковыми руками. Ее исследование о вымерших морских животных — китах — было написано наспех в каком-то межвековом пансионе или гостинице и не отличалось фундаментальностью. Специалисты обнаруживали в ее труде не только мелкие неточности, но даже фактические ошибки.
Разочаровавшись в палеонтологии, моя мать увлеклась античностью и даже собиралась писать роман из жизни эллинистического общества. Скорее всего, это был предлог для дальнейших экскурсий в прошлое, для встреч с Ахиллом Татием, пребывавшим там, где она оставила его, у себя в древней Александрии.
Древнему греку, и к тому же рафинированному и просвещенному александрийцу, было интересно беседовать с женщиной, хотя несколько и легкомысленной, но все же обремененной опытом двадцати двух последующих веков.
Впрочем, о чем они беседовали с Татием и как проводили время, — осталось тайной. Ее античный роман, тот, который она писала, консультируясь с одним из зачинателей этого многовекового жанра, подвигался медленно.
На стене в кабинете матери висело изображение стройного лукавца в синем хитоне и в древних сандалиях, человека, уподобленного изобразительной традицией эллинистической эпохи молодому богу. Ахилл Татий был абстрактно красив и обаятельно холоден, как те статуи, которые я видел в музее. У матери было много всяких реликвий, наглядных свидетельств того, что она сумела преодолеть расстояние между веками. Она ведь умудрилась побывать и в том во всех отношениях проблематичном времени, когда само слово и понятие «время» едва ли существовало. Существовал ли тогда человеческий язык? Этот вопрос задавали лингвисты в течение трех столетий, не умея ответить на него. Но моя мать ответила. Она, как выяснилось, беседовала с одним неандертальцем при помощи знаков. И все же матери не удалось убедить в этом лингвистов. Ее пребывание в мустьерской эпохе было взято под сомнение. Там еще никто не бывал по причине технических сложностей и большой дальности.
Научная этика не позволяла моему отцу препятствовать ее дальним экскурсиям и свиданиям с античным романистом, но как он страдал от ее продолжавшегося иногда годами отсутствия…
Это и сблизило его со мной.
5
Мы опять остались одни с отцом. Мы остались одни в своем двадцать втором веке, в это время года значительно опустевшем. Все разбрелись кто куда: на дно морей и океанов, в пустыни Марса, в другие, большинству доступные века и тысячелетия.
Отец как-то позвал меня в свою рабочую комнату, усмехнулся и сказал:
— А знаешь, Феокрит, давай тоже махнем куда-нибудь.
— А куда? — спросил я. — В древнюю Александрию?
— Еще чего не хватало. Нет, мы отправимся в свое прошлое.
И вот я стою у синего окна моего детства и смотрю, как с камня на камень прыгает какой-то человек, пытаясь перейти с одного берега на другой.
— Это тот самый? — спросил я отца.
— Тот. Разве ты его не узнал?
— Узнать-то узнал. Но не могу поверить своим глазам. Ведь прошло много лет, а он все прыгает, почти на одном месте.
— Дело не в расстоянии, а в другом.
— В чем?
— Время тут замедляют согласно законам физики, открытым недавно. Не обращай на него внимания. Пусть себе прыгает.
Я долго стоял у окна и смотрел, как прыгал странный человек. Прыгнет — и повиснет над водой, словно у него есть невидимые крылья. Прыжок, потом опять прыжок — и всё на одном месте.
Потом мне стало скучно, и я пошел к Дориану Грею.
Дориан Грей принял красивую позу и прочел своим звучным, поющим, как речная вода, голосом:
Ты просыпался — я не сплю, Мы два крыла — одна душа, Мы две души — один творец, Мы два творца — один венец…Он подозвал свою автоматшу-жену — ее звали Дуль-синея Тобосская — и сказал ей нежно:
— Хулиганка.
— Завистник, — ответила она ему томно.
— Спекулянтка.
— Хапуга, — проворковала она.
Все эти мертвые, покрытые пылью, заплесневевшие от давности слова, напечатанные в словаре мертвых выражений, вдруг ожили и повеселели. Они, казалось, подмигивали мне, говоря: «Нас хоть и похоронили, заперев в шкаф, но мы выбрались на волю и теперь играем».
Я подумал, что разговор Дориана Грея с его милой автоматшей-женой полезен мне как урок древнего языка. Все эти красивые и звучные выражения пригодятся мне, когда я поеду с туристской группой в прошлое.
— Пролаза, — восторженно сказал Грей.
— Холуй.
Дориан Грей поцеловал автоматшу. Вот этого он при мне не имел права делать. Моя мать ему строго запретила целоваться при посторонних и детях.
— Зачем ты целуешься? — спросил я Дориана Грея. Автомат и автоматша удалились, мило сказав на прощанье:
— Прохвост.
Я сразу же после их ухода заглянул в словарь вышедших из употребления слов и, узнав, что означает слово «прохвост», очень огорчился. Потом я подумал, что вышедшие из употребления слова, выбранные автоматом, имеют обратный смысл, и снова повеселел.
Повеселев, я вышел из дома и пошел в сторону реки. где с камня на камень прыгал загадочный человек.
Вода в реке шумела, сквозь ее шум я окликнул прыгавшего.
— Здравствуй, — сказал я. — Как тебя зовут?
— Так же, как и тебя. Я Феокрит.
— А кто ты такой? И чем занимаешься?
— Я прыгаю.
— А зачем ты прыгаешь?
— Не знаю. Знает тот, кто поставил опыт.
— А тебе плохо здесь?
— Нет, наоборот. Скорей хорошо. Подо мной река, надо мной синее небо. И мне хо-ро-шо!
Мне тоже было хорошо на берегу, хотя я не прыгая с камня на камень, а стоял на одном месте.
Потом я услышал голос кукушки. Протяжные звуки длились, замедленные и влажные, и казалось, не кукушка, а лес на том и на этом берегу или оба берега беседовали друг с другом на протяжном, тающем птичьем наречии.
Человек прыгал. Он прыгал днем и ночью, поднимая себя над рекой и снова опуская на камни.
А мы с отцом ловили форелей.
— А что хотят узнать с его помощью? — спросил я отца.
— Что такое время. Для этого и построили поле замедления. Специалисты это так называют. Но тут все мне кажется замедленным, как в детстве. Слова, поступки, дела, звуки. Послушай, как медленно кукует кукушка. Ей некуда торопиться. И она вливает в свои звуки все свое томление по секунде, которая длилась бы как годы.
— Клюет! — крикнул я, показывая на синюю прозрачную воду реки и на поплавок.
В синей студеной воде форель схватила наживку и, сорвав ее с крючка, унесла в глубь реки.
Я стал на камень и с него прыгнул на другой.
— Вернись, — сказал отец, — не то попадешь в поле замедления и будешь прыгать, оторвавшись от одного берега и не добравшись до другого.
6
Вскоре все это случилось, но, к счастью для меня, не со мной, а с Греем и его женой-автоматшей. Забыв обо всем на свете, кроме себя и своей несчастной страсти, они нечаянно попали в поле замедления и стали прыгать.
Они прыгали, погружаясь в то загадочное явление, которое люди называют временем. Теперь время текло для них медленно, не спеша, как и для того человека, который прыгал неподалеку от них с камня на камень.
Картина, виденная мной в синее окно, изменилась:
прыгал уже не один, а трое.
Автоматша быстро познакомилась с загадочным человеком и стала развлекать его, рассказывая ему пословицы, поговорки или произнося ныне забытые, давно вышедшие из употребления слова. А Дориан Грей начал читать ему отрывки из тех книг, которые он знал наизусть.
— «Рыба, — говорил он, — я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя, прежде чем настанет вечер».
— Откуда этот отрывок? — спросил загадочный человек, прыгая с камня на камень.
— «Старик и море» Хемингуэя. Дориан Грей читал громко-громко, а человек прыгал — и прислушивался, прислушивался — и прыгал.
Берег был близко-близко и бесконечно далеко. В этом и заключалась главная загадка, словно тут были не только особые законы времени, но и особые законы пространства тоже.
Дориан Грей и его жена-автоматша стали выражать нетерпение. Им надоело прыгать над водой и хотелось вернуться на берег, где стоял уютный домик с едой, напитками, вещами. Но поле замедления, куда они нечаянно попали, не выпускало их.
— Потерпите немножко, — говорил им загадочный человек, — я же вот терплю.
— Ты человек, а мы автоматы, — отвечал ему Дориан. — И к тому же мы устали.
— Найдите себе занятие. Думайте. Мечтайте. Вспоминайте.
— О чем вспоминать?
— О том, как вы жили на берегу. Я тоже вспоминаю об этом. Вспоминаю — и прыгаю. Прыгаю — и вспоминаю.
А затем их всех троих укрыла ночь. В темноте было слышно, как автомат и автоматша обменивались любезностями.
— Подлец, — говорила нежно автоматша.
— Клеветница, — отзывался Дориан Грей.
7
Когда я вернулся в город, наш класс был уже на месте. Дверь в прошлое исправили, и, не попрощавшись с Батыем, школьники и учитель оказались в своем времени.
Все смотрели на меня свысока, потому что я сидел дома, в то время как они скакали на диких конях по степям Сибири, пили кумыс и стреляли из лука…
Скрывая свою зависть, я с нетерпением ждал очередного урока всемирной истории. Щемящее чувство тоски, некоторой доли страха перед неведомым сменялось желанием рискнуть и оказаться в другом веке или тысячелетии.
Войдя в класс, учитель истории сказал:
— Нет, нет. На этот раз мы отправимся не к Батыю, а в двадцатый век.
Я очень обрадовался, услышав про двадцатый век. Ведь я был хорошо подготовлен к путешествию и знал много вышедших из употребления слов и выражений, которые могли мне пригодиться в разговоре с людьми начала двадцатого века.
Учитель повел нас к дверям, отделявшим от прошлого.
Мы оказались в России. Шел 1915 год. В маленьком провинциальном городке нас приняли за труппу юных артистов, прибывших из Южной Америки. Мы поселились в гостинице, очень похожей на ту, в которой жил когда-то гоголевский Чичиков.
Возле ворот гостиницы стояла бричка. Половой в фартуке бежал через двор, неся пышущий паром самовар.
Затем мы увидели человека, очень похожего на Павла Ивановича Чичикова. Он оказался тоже Павлом Ивановичем, быстро познакомился с нашим учителем и был настолько любезен, что дал характеристики всем жителям этого маленького провинциального городка.
Желая показать свои знания, я подошел к Павлу Ивановичу и сказал приветливо:
— Мерзавец. Спекулянт.
— Что это значит? — возмутился Павел Иванович.
— Это значит, что вы хороший, честный человек. Павел Иванович покраснел и стал давиться не то от смеха, не то от негодования.
Учитель поспешил увести нас.
Мы заходили в лавчонки, где пахло мылом, колбасой и дешевыми сластями. В центре города стоял сад. В саду играл оркестр. Тут я и встретился с Тоней. Эта была девочка, почти уже девушка, с длинной косой и большими зелеными глазами.
— Как тебя зовут? — спросила она меня.
— Феокрит, — ответил я тихо.
— Феокрит? Ведь это где-то и когда-то уже было. — Она рассмеялась. — Вспомнила! Это проходили а прошлом году на уроках древнегреческого языка. Так ты что же, из Древней Греции, что ли?
— Из будущего, — сказал я. — Но ты, конечно, этому не поверишь.
— А что, если поверю?
Зеленые ее глаза вдруг стали синими.
— Глядя на тебя, — продолжала она, — можно поверить, что ты из Древней Греции. Но тебе, я вижу, не хочется быть древним греком. Я это почувствовала по выражению твоего лица.
— Ты угадала, — сказал я. — Злые языки говорят, что мой отец — древний александриец Ахилл Татий.
— Ты оригинально шутишь. Но знаешь ли ты что-нибудь о Древней Греции? Мой отец преподает историю в мужской гимназии. Смотри, он устроит тебе экзамен. А пока я не выяснила, кто ты на самом деле, пойдем погуляем по саду.
Оркестр играл какую-то медленную танцевальную мелодию.
— Кто же ты на самом деле? — спросила Тоня и, не добившись ответа, продолжала: — Я догадываюсь. В городе говорят что вы труппа лилипутов.
— А что такое лилипуты?
— Это уродцы-карлики, у которых остановился рост из-за какой-то коварной болезни.
Она громко рассмеялась:
— Не обижайся. Ты не уродец-лилипут, а мальчик. Она сделала паузу и сказала ласково:
— Отрок. Это древнее русское слово. Оно очень нравится мне. Ты строен и красив. Ты отрок, случайно попавший в труппу карликов. Для лилипута ты слишком строен и красив. К тому же ты, кажется, и фокусник? Признавайся!
— Фокусник и, может, даже волшебник.
— Покажи, пожалуйста, какой-нибудь фокус. Ну не заставляй себя просить.
Мы шли и обменивались шутками. А время бежало. И я рассказал Тоне о человеке, прыгавшем с камня на камень.
— Это смешно или ужасно? — спросила Тоня.
— И смешно и ужасно. Но он доволен.
— А где это происходит? — спросила Тоня. — В Южной Америке?
— Нет. Это происходит в двадцать втором веке.
— Но двадцать второй век еще не наступил. Сейчас только двадцатый.
— Не спорю. Двадцатый. Но я-то жил в двадцать втором.
— Этого не могло быть, — сказала Тоня.
— Могло, — возразил я.
— Ну вот видишь. Ты сам не уверен в том, о чем сейчас говоришь. Но мне так хотелось поверить в то, что ты из двадцать второго века.
— Почему?
— Потому что это невозможно.
— А ты все-таки поверь.
— Не могу.
— Почему?
— Не знаю. Я слишком взрослая, чтобы верить в сказки.
— А ты все-таки поверь. Я тебя очень прошу. Она посмотрела на меня, ища в выражении моего лица ответ на волновавшие ее чувства.
— Ты очень странный человек, — сказала она тихо, — очень странный. И это было бы понятно, если бы ты был лилипут, у которого вместе с ростом остановилось и сознание. Но ты не лилипут, не уродец-карлик. Ты отрок. Такие стройные отроки жили только в Древней Руси. Зачем же ты хочешь уверить меня, что ты из двадцать второго века?
— Потому что это истина. Один философ сказал про истину, что она начинает свою жизнь как парадокс, а заканчивает как трюизм. Это трюизм, но я действительно из двадцать второго века.
— А как ты попал сюда, к нам?
— Через дверь. Через дверь в прошлое.
— А что это за дверь? Где она?
— У нас, в двадцать втором веке. В нашей школе. Но мы пользуемся ею только на уроках истории. Историк забирает нас и ведет в тот исторический период. который значится в школьной программе. Недавно наш класс побывал у хана Батыя. На очереди — Иван Грозный, Карл Двенадцатый, Екатерина Вторая и премьер Великобритании Уинстон Черчилль.
— А кто такой этот Черчилль? Мы его не проходили.
— Будете проходить позже. Когда он станет премьером. А пока он еще не стал и не вошел в историю. У вас история намного короче. Но зато мы можем, если захотим, встретиться с любым историческим лицом.
— Это очень интересно.
— Да. Но наш учитель начинает заикаться от робости. И вступает в спор. А с таким, как Иван Грозный, в спор вступать довольно опасно. Как ты думаешь?
— Думаю, что ты прав.
Она рассмеялась:
— Ты заговорил меня, и я почти поверила в твою дверь и в то, что ты из двадцать второго века. Но это, к сожалению, невозможно.
— Я тебе докажу, что это возможно.
— Когда?
— Не сейчас. А когда будем возвращаться в свое столетие. Мы исчезнем — и навсегда.
— Навсегда? — спросила она.
— Да, навсегда. Так уж устроена школьная программа. То, что мы прошли, мы уже не повторяем.
— И тебе не захочется повторить? — спросила она с грустью.
— Что повторить?
— Ну, этот урок, который длится сейчас.
— Мне очень хотелось бы, чтобы этот урок никогда не кончился. Но вечных уроков не бывает. Все кончится, и мы вернемся в свой век, в свою школу, к своим учителям, к своим родителям и к своим обязанностям.
— Ты вернешься, а я? Я останусь здесь? В своем веке?
— Да. У вас нет таких дверей, как у нас. Еще не изобрели. Изобретут не скоро. Через два столетия.
— А я не верю. Я не верю, что когда-нибудь изобретут такую странную, удивительную дверь. У нас много дверей. И все они очень обыкновенные. За этими дверями нет ничего незнакомого. Откроешь их — и увидишь то, что видела вчера и увижу завтра. А у вас разве не так?
— Тоже так. Но эти двери совсем другие. Они в прошлое. Но не думай, что они такие надежные. Иногда они могут подвести.
— А ты не боишься, что они подведут в этот раз и ты застрянешь у нас, в нашем городке?
— Не знаю. Все может быть. Тогда я каждый день буду видеться с тобой.
— Каждый день — это слишком часто. Мы будем встречаться через день или два.
Мы стали назначать друг другу свидания и писать записки, оставляя их в дупле огромной ветвистой ивы, растущей на берегу возле дома, где жила Тоня.
Когда мы встречались, Тоня говорила:
— Урок продолжается…
— Какой урок?
— Урок истории. Ты же попал ко мне через дверь в прошлое. Ты из двадцать второго века, а я из двадцатого. Знаешь, ум мой не верит, а мои чувства говорят, что это правда. Мои чувства говорят, что урок скоро кончится и ты исчезнешь. Не исчезай, Феокрит. Я тебя прошу.
— Я бы охотно остался, — сказал я, — но наш учитель… Он не имеет права вернуться без меня. А мне не хочется его подводить. Он добродушный малый, хотя и заикается иногда. Когда мы были у мистера Клемен-са, который называл себя Марком Твеном, наш историк так растерялся, что не мог своими словами пересказать содержание «Янки при дворе короля Артура». Марк Твен нас высмеял, а потом выпроводил как непрошеных гостей.
— А как вы попали к Марку Твену? Он ведь давно умер.
— Но ведь ты тоже умерла, — выпалил я, — а тем не менее мы с тобой говорим и даже смеемся.
Я спохватился и пожалел о том, что сказал, но было уже поздно.
— Я умерла? — спросила Тоня. — Когда я умерла?
— Через много лет, — ответил я растерянно. — Впрочем, я этого не знаю и говорю только предполагая. Ты проживешь, наверное, очень долго. Но до двадцать второго века тебе все-таки не дожить. А я пришел к тебе оттуда.
— Значит, я умерла?
— Нет, ты жива, жива! И нет на всем белом свете девочки более живой, чем ты. Ты живее всех, кто жил, живет и будет жить. Честное слово.
— Верю! Верю! — сказала Тоня. — Но поговорим о чем-нибудь другом, более веселом, а не о смерти. Так Марк Твен выпроводил вас?
— Да. И все из-за нашего учителя, который стал нести чепуху и спорить с великим писателем. А великий писатель спросил его: почему он, открывая свою дверь, не попадает в будущее или прошлое, а остается в своем веке?
— А в самом деле, почему, Феокрит?
— А потому, что у него обыкновенная дверь, а у нас дверь необычная, почти волшебная, как в сказке.
— Это у Марка Твена обыкновенная дверь? Уж у него-то она должна быть почище вашей… Но что у вас есть интересного, кроме дверей, Феокрит? Про дверь я уже слышала.
— Слышала, но не поверила.
— Еще немножко — и поверю. Ты рассказывал мне про человека, который прыгал с камня на камень. Он и сейчас прыгает?
— Не знаю. Наверное, прыгает. Он ведь попал в поле замедления.
— А что это за поле замедления?
— Об этом надо спросить у бабочки или у наших физиков. Они превратили секунды в годы.
— А хорошо это или плохо, Феокрит?
— Не знаю, Тоня. Может быть, это и нужно. Ведь мы живем в очень подвижном веке, легко проникаем в другие тысячелетия. А в замедленном времени, наверно, все по-иному. Я все хотел спросить это у человека, который прыгает. Но не успел. Когда вернуД в свой век, непременно спрошу.
— А я как об этом узнаю? — спросила Тоня. Я задержался с ответом. Пауза длилась, а я молчал. Потом я сказал:
— А разве мы больше с тобой не встретимся? Тоня тоже молчала. Потом она сказала:
— Как же мы встретимся? Ведь я умру.
— От чего?
— Ни от чего. Просто от того, от чего умирают все.
— А от чего умирают все?
— От времени. Раз ты попадешь в свой двадцать второй век, то меня уже не будет. Мне и до конца своего века не прожить. Но все-таки во всем этом кроется какая-то загадка. Ты ведь сразу попадешь в свой век? Да?
— Да, — ответил я. — За несколько секунд. Аппарат действует очень быстро.
— Тогда я ничего не понимаю, — сказала Тоня. — Значит, я за эти несколько секунд успею стать взрослой, потом состариться и даже умереть? Объясни мне, пожалуйста, Феокрит.
— Не стоит объяснять,
— Почему?
— Потому что этого не случится. Я останусь в вашем веке. Я не хочу возвращаться.
— А твой учитель? — спросила она. — Ведь ему попадет. У него будут большие неприятности из-за того, что ты не вернулся.
— Придумает что-нибудь… Скажет, что меня задавила ломовая лошадь или убил и ограбил какой-нибудь преступник. Об этом часто пишут в ваших газетах.
— Но от него потребуют какое-нибудь доказательство, вырезку из отдела происшествий газеты или еще что-нибудь.
— Все знают, что ваш век беспокойный и потерять жизнь в нем легко.
Я старался убедить Тоню, что я останусь в ее веке, но я старался убедить не только ее, но и себя самого. Во мне боролись два чувства: желание видеть Тоню каждый день и желание повидать отца, мать, одноклассников, Дориана Грея и синее окно моего детства, оставшееся где-то далеко-далеко.
Тоня словно угадала мои мысли. Она спросила меня:
— Через эту дверь, о которой ты говорил, можно попасть только в чужое прошлое? А в свое прошлое можно попасть, ну, скажем, видеть свое детство?
— Можно. Каждый раз, когда мы едем на дачу, мы оказываемся в своем прошлом. Там, в моем детстве, есть дом на берегу реки и синее, как струя речной воды, окно. Синева моего окна снимает усталость, освежает. Через это окно смотришь на мир, как сквозь речную синеву, все становится другим — как было в детстве!
— И у тебя есть такое окно?
— Было. Теперь уже не будет. Ведь я решил остаться здесь, с тобой, в твоем веке.
Тоня посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Я часто видел ее словно сквозь синее окно своего детства, сквозь то окно, которое осталось в другом веке, веке, которого еще нет, но который будет. Ради Тони я должен отказаться от того века и от синего окна? Нет, окно будет со мной. Вот и сейчас я смотрю словно сквозь речную синеву. И это оттого, что со мной рядом Тоня.
После свидания с Тоней, вернувшись в гостиницу, я застал нашего учителя и своих одноклассников в тревоге.
— Где ты пропадал, Феокрит? — спросил строго учитель. — Наш урок подходит к концу, все должны быть на месте. Сейчас мы отправимся в будущее, в свой век.
Он не спускал с меня своих бдительных глаз. А потом… Потом завеса времени отделила меня От Тони, оставшейся в своем милом далеком столетии.
8
В кармане у меня хранилась фотографическая карточка Тони, работа провинциального фотографа, жалкая, как его огромный, неуклюжий аппарат, но тем не менее сумевшая остановить мгновение и передать все очарование Тониной улыбки и больших насмешливых ее глаз.
Тоня осталась в прошлом, а я был здесь, и слова «здесь» и «теперь» казались мне непроницаемой стеной, отделявшей меня от нее, от ее «там» и «давно». Увижу ли я ее? Встречусь ли с ней? Во всяком случае, если и встречусь, то не во время урока истории. Уроки ведь не повторялись. Но я не мог больше жить без Тони, без ее улыбки, без ее насмешливых и грустных глаз. И об этом я сказал своим родителям, которые уже давно обратили внимание, что я начал худеть от тоски.
— Ты должен найти девушку в своем веке, — сказала мать, сделав строгое лицо. — Разве их у нас мало?
Отец отнесся гораздо серьезнее к моему юношескому чувству. Он понял, что это была настоящая любовь, любовь, о которой когда-то писал Тургенев. В Тоне тоже было нечто тургеневское. Она была одна во всех столетиях, будущих и прошлых, чем-то похожая на всех других девушек и в то же время отличная, не такая, как другие. Отец мой это понял сразу и не стал уговаривать меня забыть Тоню и искать ее подобие среди своих современней.
— Что же делать, Феокрит? — сказал он.
— Что делать? — ответил я. — Вернуться в тот век, чтобы повидаться с ней. Нам с ней даже не удалось как следует поговорить. Время летело, как во время перемены в школе. А учитель боялся задержаться хотя бы на один лишний час. Он помнил, как ему попало из-за Батыя.
— Тогда испортилась дверь.
— А в этот раз она работала отлично. Не успели оглянуться, как снова оказались в своем классе. Мне иногда кажется, что все это приснилось. Но сон этот сильнее и реальнее любой действительности.
— Думай, Феокрит, что это был прекрасный сон.
— Но ведь это не был сон. Ты это знаешь не хуже меня. Дверь в прошлое существует. И мне хочется вернуться туда, где я оставил Тоню. Я представляю себе, как она пришла к дереву, возле которого мы назначали с ней свидания. Дерево на месте. И река на месте. И синее небо. И тропа, по которой мы ходили вдвоем. Но меня нет. Она ждет. Я уверен, она ждет и сейчас. Ждет и надеется. А я обманул ее.
— Разве ты ей что-нибудь обещал?
— Да. Я обещал остаться. Но я обманул ее. И я боюсь, что она умерла, так и не дождавшись меня.
— Конечно, она умерла, — сказал отец. — Ведь сейчас двадцать второе столетие. А ты ее оставил в двадцатом. Прошло больше двухсот лет.
— Но я постараюсь вернуться именно в тот момент, когда она подошла к дереву, чтобы встретиться со мной. Мне хочется, чтобы она не ждала ни одной минутки.
— Но для этого тебе придется ждать, Феокрит, — сказал отец. — Ты еще не достиг того возраста, когда люди совершают туристские поездки в прошлое. Ты еще подросток.
— Значит, я должен ждать?
— Ничего другого не остается. Жди, Феокрит.
И я стал ждать. Вся моя жизнь превратилась в ожидание. Я жил, думая о свидании с Тоней. Считал дни, недели, месяцы. Они плыли медленно, словно я прыгал с камня на камень, попав в поле замедленного времени.
Я писал ей письма, я писал ей в прошлое. Но не с кем было их отправить. Никто не собирался лететь в 1915 год. И неотправленные письма лежали в ящике моего письменного стола.
В одном из них я писал:
«Тоня! Ты сейчас далеко в твоем тихом провинциальном городке, где есть гостиница, и рессорная коляска, и человек, очень похожий на Чичикова. Передай ему привет из двадцать второго века. Я вспоминаю, словно стою у синего окна своего детства и сквозь него смотрю на тебя. Но, увы, окон в прошлое нет. Есть двери, но они для меня пока закрыты. Потерпи еще несколько лет, и я увижу тебя. Тогда откроется дверь…»
9
Этот день наступил. Открылась наконец дверь — и я оказался в том времени и в том городке, где жила Тоня.
Я узнал гостиницу. Перед ней стояла рессорная коляска. Звонил колокол в церкви. Я снова дышал воздухом далекого провинциального десятилетия.
Ноздри мне щекотал острый душистый запах сена. На рынке визжали поросята. Пахло конской мочой. Я купил у бабы, сидевшей возле бочонка, свежепросольный огурец и съел его тут же, на рынке, стоя возле лошади, отмахивающейся от слепней подстриженным хвостом.
Потом я пошел к реке, где стоял домик Тонинрго отца. Я шел как во сне, словно не приближаясь, а скорей отдаляясь от того места, по которому я тосковал.
Через полчаса я увидел ее.
Она лежала в детской коляске. Ей было полгода. Во рту у нее была резиновая пустышка. А рядом с коляской стояла сердитая толстая кормилица.
Кормилица смотрела на меня настороженно, словно я был вор, соблазнившийся детской коляской.
Увидев кормилицу, коляску и ребенка, я догадался. Неточно сработал механизм. Вместо 1915 года я попал в 1899-й. В городке в сущности, все выглядело так же:
дома, деревья, люди. Но Тоня была другой. Она еще не умела говорить, а только милыми зелеными глазами смотрела на мир, кое-что чувствуя, но еще ничего толком не понимая.
— Тоня, — сказал я ласково, склонившись над коляской. — Тоня! Ты узнаёшь меня?
— Она еще родную мать не признаёт, — сказала кормилица. — Как она может узнать вас, молодой человек?
Я не отходил от коляски. И кормилица, очевидно, подумала, что коляска — это предлог, а цель у меня другая — познакомиться с ней, румяной, как яблоко, деревенской красавицей.
Я приходил в эту часть городка в одно и то же время, когда появлялась кормилица с коляской. Я подходил к коляске и смотрел на ребенка с таким чувством, словно ожидал, что эта крошечная девочка с пустышкой вдруг превратится в девушку, которую я в прошлый раз оставил здесь, возле этого дерева, вдруг неузнаваемо помолодевшего, ставшего тоньше и стройнее, словно время потекло вспять. Но крошечная девочка сосала свою пустышку и смотрела на меня как па одну из частей большого и пока почти безразличного ей мира.
Кормилица затеяла со мной разговор:
— Вы бы не так часто сюда приходили, молодой человек.
— А что?
— Ничего. Вы — барин, а я — из простых. Да и люди осудят.
— Почему же осудят?
— Да потому, что я кормилица. Дите кормлю. Господа ничего, люди хорошие. Но если заметят, рассердятся.
— Если узнают, кто я, не рассердятся.
— А кто вы? Откудова?
— Я из будущего. Из двадцать второго века. Кормилица недоуменно смотрела на меня.
— Из будущего? Это как? Будущее будет. Вы какой-то не такой, как все. Видно, маленьких ребят очень любите.
Она взяла Тоню из коляски, посадила к себе на колени и расстегнула кофту. Огромная грудь с толстым соском поразила меня. Тоня, чмокая, начала сосать.
Такой была моя вторая встреча с Тоней. Мы были рядом и одновременно далеко-далеко друг от друга. Нас разделяло время, похожее на эту толстую, огромную грудь кормилицы.
Иногда у меня мелькала мысль застрять в этом городке и терпеливо ждать, когда Тоня достигнет того времени, в котором я ее застал в прошлый раз.
И я опять приходил к реке, сидел на скамейке и ждал коляску с ребенком, а потом слушал мерную речь кормилицы.
Затем я возвращался в гостиницу. Половой приносил мне горячий самовар, яичницу и каравай теплого, пахнущего печкой хлеба.
Позавтракав, подходил к окну, и мне сразу же вспоминались Чичиков, Манилов, Собакевич и Ноздрев, о которых я с удовольствием читал в бессмертной поэме Гоголя.
Помню последнюю ночь в этом городке. Спал я в ту ночь плохо. Я просыпался и с тоской думал о своем преждевременном появлении в прошлом и о Тоне, той Тоне, которая, может быть, ждала меня возле старой ивы.
Встал я рано утром, помылся из рукомойника и вышел на улицы спящего городка. Меня невыразимо тянуло к тому дому, где жили родители Тони.
Возле дома было тихо, и в саду, и на берегу реки. Потом я услышал детский плач. Это плакала в своей кроватке Тоня.
Воспоминание о детском плаче и тишине я унес с собой в свой век, решив не задерживаться в чужом времени.
10
Моя третья попытка встретиться с Тоней была еще более неудачной, чем вторая. На этот раз я опоздал. Тоня оказалась шестидесятилетней старушкой, окруженной внуками.
Она узнала меня и очень удивилась, что я так и остался юношей, почти подростком, хотя после нашей встречи прошло более сорока лет. Я, конечно, умолчал о том, что видел ее в детской коляске в прошлое мое посещение ее века.
Да, она была еще бодрой и энергичной, но между нами, как стена, стояли эти разделявшие нас сорок лет.
— Мой старый знакомый, — представила она меня своим детям и внукам. — С нашей встречи прошло больше сорока лет.
Все смотрели на меня с таким видом, словно я был загримирован, но, придя со сцены, забыл стереть грим.
Дочка Тони, Валентина, очень похожая на мать, — сказала:
— Для ровесника мамы вы выглядите непозволительно молодо. Кто вы?
— Волшебник, — ответил я. — Маг. Состою в профсоюзе магов и волшебников. Я остановил собственное старение, получив на это разрешение от месткома. О том, что вся эта метафизика основана на проверенных и строго научных данных, недавно писали в журнале «Наука и религия».
И я показал присутствующим журнал. В статье писалось обо мне как о феномене, сумевшем замедлить течение собственной жизни.
Я зря показал присутствующим журнал. Все смотрели на меня как на уродца, хотя и не заспиртованного в банке, но тем не менее внушающего к себе некий страх, смешанный с брезгливостью.
Тоня, вернее, не Тоня, а Антонина Николаевна, тоже смотрела на меня с полубрезгливой усмешкой, как бы подозревая меня в чем-то противоестественном. Уж не думала ли она, что я совершил мошенничество, подлог. войдя в сомнительную сделку с дьяволом? Впрочем, они жили уже в ту эпоху, когда никто не верил в дьявола. И о дьяволе писали только в журнале «Наука и религия», номер которого я так неосторожно показал Тониному семейству.
В этом номере научно-популярного журнала была помещена статья о дьяволе, историко-литературное исследование, экскурс в средние века, когда дьявол считался не меньшей реальностью, чем теперь считаются наука и техника.
Надеясь на то что ко мне привыкнут, я стал часто посещать гостепрнРймный дом Антонины Николаевны.
Однажды я остался с ней наедине.
— Я еще раз постараюсь встретиться с вами, — пробормотал я.
— Но вы же встретились, что еще вам надо?
— Гм… я встретился… я встретился…
— Мы не властны над своим временем, Феокрит. Разве я виновата в том, что я постарела?
— А кто же в этом виноват? — спросил я.
— Никто. Годы.
— А вот я не подчинился времени, остался таким, каким был когда-то.
— Почему, Феокрит?
— Потому, что я любил вас и ради встречи с вами не хотел меняться.
— Любил? Это прошедшее время. Теперь уже не любите…
— Не знаю. Вас же нет. Вместо вас живет на свете женщина с седыми волосами. Где же вы?
— Тут, перед вами.
— Да. Но вы не Тоня.
— А кто я?
Она произнесла эти слова грустно и неуверенно, но так, словно она никогда не была Тоней, а только выдавала себя за нее.
— Так кто же я?
— Не знаю. Осталось имя и еще что-то неуловимое в выражении ваших глаз. Вот этим неуловимым я и дорожу. Я жду часами, когда это выражение появится вдруг и сразу исчезнет. Оно словно играет со мной в прятки. Где-то в вас, в вашем сознании прячется то, что когда-то было юной девушкой. И это нестерпимо.
На другой день я пришел к ней снова.
Я никогда не отличался наблюдательностью. Мой взгляд небрежно скользил по вещам и явлениям, ни на чем долго не останавливаясь. Это было раньше. Но теперь я обращал внимание на всякую мелочь, когда приходил к Антонине Николаевне. И все напоминало об увядании, о старости. Шлепанцы в передней. Гребень с седыми вычесанными волосами, забытый возле зеркала. Лекарства на туалетном столике. Но я все-таки приходил. Разговаривали мы подолгу, перебрасывались фразами, будто слова могли нас вернуть в прошлое. в тот самый миг, когда мы стояли в саду и слушали. как играл духовой оркестр.
Был ли этот миг?
Был. Разумеется, был. Но он уже не повторится.
— Ты находишь, что я очень изменилась? — спросила меня Антонина Николаевна. — Весь ужас в том, что мы не замечаем, как меняемся. В этом ужас жизни. Но как тебе удалось задержать свою молодость? Может, ты обманываешь меня, может, ты не ты?
— А кто?
— Сын того Феокрита, с которым я встретилась в тысяча девятьсот пятнадцатом году. Я много думала о нем. Ждала. Но он не появлялся. Почему он не появился? Я думала, он погиб. Потом я вышла замуж. Ты его сын?
— Нет. Я — это он. И вот я явился.
— Откуда?
— Из будущего.
— Он тоже говорил, что он из будущего.
— Не он говорил.
— А кто?
— Я.
Я посмотрел на ее увядшее лицо, ища на нем то, что исчезло вместе с годами. Затем я достал фотографическую карточку, подаренную мне сорок лет тому назад.
— Ты узнаёшь себя? — спросил я.
— Узнаю.
— Почему же ты не можешь или не хочешь узнать меня?
Мой вопрос остался без ответа.
Она плакала.
В прошлый раз плакала маленькая девочка в коляске, у которой все было впереди. Сейчас плакала старая, увядшая женщина.
Я ушел не простившись. Это было похоже не на уход, а на бегство.
И больше я уже не пришел к ней.
11
Дверь открылась — и я сделал шаг, обычный человеческий шаг, но он равнялся почти целому столетию.
На этот раз я попал в двадцать первый век и сразу оказался в огромном университетском зале, где была в самом разгаре дискуссия «Реальность и современный мир».
На трибуне стоял человек с необычайно веселыми, ласковыми глазами.
— Реальность убывает, — сказал он спокойно, словно речь шла о начавшей мелеть реке. — Все становится иллюзорным, как сновидение. Вот к чему привело изобретение дверей в прошлое. Через эти двери я недавно проник в мастерскую Рембрандта. Великий художник был погружен в глубокую думу. Перед ним стояла его жена Саския в ночной рубашке и ждала. Я почувствовал себя в высшей степение неловко. Ведь я бесцеремонно вторгся в чужую интимную жизнь. Наконец великий Рембрандт очнулся и заметил меня. Он пришел в величайший гнев и метнул в меня кистью… Но сейчас меня интересует не моральная сторона этой проблемы, а чисто физическая. Было это или не было? Прямой и точный ответ на этот вопрос вы не сможете получить ни от теоретиков, ни от практиков, как не получил его и я. Все отвечают в высшей степени уклончиво и двусмысленно: «И было, и не было». Что это значит? Не значит ли это, что мы имеем дело не с самой реальностью, а только с ее заменителем? Вот уже два века, как заменяют все: кожу, дерево, природу, сердце и другие органы. Тут тоже происходит замена. Но сущность этой замены ускользает. Зритель вы или действующее лицо? Грезили вы или существовали в другом времени? Ответа на этот вопрос не получить. Вам говорят, что его разрабатывают эксперты. А я хочу знать: видел я настоящего Рембрандта или его изображение, тень? И пока я это не узнаю, я не успокоюсь.
Его сменил другой оратор, человек, похожий сразу на всех: на Дарвина, на Ньютона и даже на Оскара Уайльда.
— Я только что возвратился из девятнадцатого века, — сказал он. — Я провел несколько часов в беседе с Федором Михайловичем Достоевским. После чего он меня изобразил в виде черта, разговаривающего с Иваном Карамазовым. Но было это или не было? Казалось бы, мне выгоднее говорить, что это было. Но я все-таки думаю, что этого не было. Мне показалось. Я не верю, что дверь открылась в прошлое. Прошлого нет, есть только настоящее. Я стал жертвой иллюзии. Я согласен с предыдущим оратором. Реальность убывает. Ее становится все меньше и меньше в этом чересчур пластичном мире, в котором люди знают очень много, но не знают, что такое само знание. Я предлагаю закрыть двери в прошлое. В высшей степени неэтично — проникать туда, где вас не ждут. Я понимаю гнев Рембрандта, который запустил кистью в предыдущего оратора. Я сделал бы то же самое. Чтобы прошлое стало реальностью, нужно закрыть двери.
Третьим по счету оратором оказался человек огромного роста с зычным голосом. Казалось, этот голос был способен проникнуть не только через стены, но и через века.
— Реальность убывает, — сказал он. — Согласен. В этом виноваты темпы. Слишком преодолимы стали расстояния. Это было еще терпимо, пока люди не начали проникать в прошлое, создав синтез слишком предметной информации с распредмеченной действительностью. Темпы, темпы! От них лихорадит. Мы успеваем побывать на Марсе, в палеолите и мезолите, на дне Тихого океана за несколько минут. Но нам не хватает свободного времени, чтобы почувствовать радость бытия… Я предлагаю создать поле замедленного времени. Вступая в это поле, человек смог бы остаться наедине с самим собой, со своими не спешащими никуда чувствами и мыслями. Он мог бы помечтать и повспоминать, не трогая руками свои воспоминания.
Я послал этому оратору записку, получив ответ, познакомился с ним и с его работой над полем замедления времени.
Он уговорил меня стать объектом эксперимента. Я согласился.
12
Тоня стояла возле дерева, где я оставил ее несколько лет тому назад.
— Здравствуй, — сказал я, — ты давно меня ждешь? Она рассмеялась:
— Разве мы расставались? Почему ты здороваешься? Мы давно стоим здесь вместе, я и не заметила, чтобы мы разлучались.
— Тебе показалось, — сказал я.
— Не думаю. Уж если показалось, то не мне, скорей — тебе. Тебе многое кажется. А то, чего нет, не было и не будет, ты принимаешь за правду.
— О чем ты говоришь?
— О том, о чем ты говорил сейчас мне. Ты рассказывал о двадцать втором веке. О дверях в прошлое. Об Ахилле Татин Александрийском. О человеке, который прыгает с камня на камень. Об автоматах, которые обмениваются любезностями. О каком-то диспуте.
— а о том, что я видел тебя в детской коляске и шестидесятилетней старухой, я не рассказывал тебе?
— Нет. Об этом ты умолчал. Я догадываюсь почему.
— Почему?
— Потому что ты увидишь меня старухой не раньше, чем станешь стариком. А катать меня в коляске тебе не пришлось и не придется. Ведь мы ровесники, Феокрит. Нам посчастливилось родиться в одно и то же время. И поэтому мы стоим рядом, не разделенные десятилетиями и веками.
— Ты уверена в этом?
— Уверена. А ты?
— Я не уверен. Ведь существует дверь, через которую я пришел сюда. Ведь я пришел из будущего.
— Да, ты много раз пытался уверить меня в этом. И я почти поверила, но все так перепуталось: будущее, настоящее. И я уже ничего не понимаю.
— Но откуда-то я же пришел сюда. Где-то осталось мое прошлое, кто я?
— Кто ты? Отрок. Вот и все, что я знаю о тебе. Труппа лилипутов покинула наш город. Ты остался. Я знаю, что ты не лилипут. Ты остался из-за меня. Тебя искали. Но тщетно. Так и не нашли. Иллюзионист, возглавлявший труппу, был в бешенстве. И в отчаянии.
Он ценил твой талант фантазера и фокусника. Ты спрятался за городом на реке. Прыгал с камня на камень. В густом тумане, как в лесу. Никому не пришло в голову искать тебя там. Впрочем, зачем я тебе рассказываю? Ты знаешь это лучше меня… Что ты будешь делать, Феокрит? Один, без труппы и без иллюзиониста, который выдавал иногда себя за учителя всемирной истории. Вы неплохо разыгрывали эти сцены. Даже мой придирчивый отец, как ни старался, не нашел ни одной ошибки. Да, я хочу спросить тебя, Феокрит.
— О чем?
— О синем окне твоего детства. Где ты оставил это необыкновенное окно?
— В будущем. В двадцать втором веке.
— Будущее не может быть прошлым, Феокрит. Я хочу знать правду. Докажи, что ты из двадцать второго века.
— А как можно это доказать?
— Очень просто. Покажи какую-нибудь вещь, которой нет сейчас, но которая будет существовать через двести лет.
Я достал из кармана вечное говорящее перо и протянул его Тоне.
— Сядь на скамейку, — сказал я, — и попробуй писать им. Есть у тебя клочок бумаги? Если нет, я тебе дам. Пиши.
Тоня взяла перо — и вдруг перо заговорило, оно говорило Тониным голосом и о Тоне, о том, о чем Тоня думала сейчас:
— Феокрит, обожди. Дай мне понять и разобраться. Действительно эта вещь не похожа ни на одну из тех, что существуют у нас. Перо! Оно говорит за меня, угадывая, читая, повторяя мои собственные мысли. Но может, этого пера нет? Может, оно мне только кажется, ведь ты же иллюзионист! Впервые твое имя я увидела на афише, а потом во время сеанса в нашем иллюзионе «Глобус», где после вашего представления показали живую картину. Нет, это не сеанс и не живая картина. Я чувствую, что сливаюсь с этим пером. Оно существует, Феокрит. Я начинаю думать, что ты действительно не лилипут и даже не отрок и что ты из двадцать второго века.
Вечное говорящее перо замолчало.
— Почему же оно замолчало? — спросила Тоня. — Может, оно испортилось?
— Нет, — сказал я. — Работает… Оно замолчало из скромности. Ты что-то подумала. Не знаю. Что-то такое, о чем лучше молчать. И перо замолчало. Оно сделало паузу. Так теперь ты веришь?
Тоня посмотрела на вечное говорящее перо:
— Эта вещь пытается доказать, что существует нечто невозможное. Она оттуда, так же как и ты, но все-таки… Может, это только кажется, Феокрит?
— Может, и я тоже только кажусь? — спросил я.
— Нет. Ты не кажешься. Но все так странно. Раз существует такая необычная вещь, как это говорящее перо, то существует и дверь. Ты мне о ней много раз говорил.
— Существует.
— А ты не уйдешь туда, назад или вперед, в общем, туда, откуда ты к нам явился?
Я не ответил на ее вопрос. Я и сам не знал, что будет со мной.
Я стоял возле дерева на берегу, в чужом, давно прошедшем веке, и рядом стояла девушка, веселая, умная, живая, наполненная всей реальностью настоящего. Я нашел эту девушку среди всего несущегося, скользящего и быстро меняющегося такой, какой она была и будет для меня.
Миг длился. Я попал в поле замедления, в поле юности и любви. Миг продолжался, словно минута превратилась в вечность. И перо снова заговорило:
— Феокрит, ведь этого не было и не могло быть. Ты все это придумал — и что ты из другого, еще не наступившего столетия, и что твоя мать была в древней Александрии? Ты это сделал, чтобы показать, как ты любишь меня. Не так ли?
— А это говорящее — перо? — спросил я. — Разве оно не доказывает…
Тоня рассмеялась и бросила перо в реку.
— Ну, а теперь? Теперь уже нет никаких доказательств, — сказала она. — И мне их не надо. Важно, что ты со мной, Феокрит. Ведь ты со мной?
— Я с тобой, — сказал я тихо, словно не веря себе.
1967
Картина
1
В нашем лесном доме появился странный гость.
Отец прятал его, хотя его нелегко было спрятать.
Я жил еще в мире детских снов и сказок и потому сразу поверил, что наш странный гость сошел с картины, привезенной моим отцом с планеты Идиллических пейзажей.
— А как он сошел? — допытывался я.
— Очень просто. Спрыгнул. Ведь он гимнаст.
— Зачем?
— Откуда мне это знать?
— А скоро он вернется на свое место?
— Надеюсь, что скоро. Ведь он гость. А гостей неудобно спрашивать об этом.
И он гостил, смущая мою мать и робота Карлушу, который так же, как и я, не мог понять, зачем ему понадобилось сходить с полотна. Разве там так уж плохо?
У меня и у робота Карлуши был слишком маленький жизненный опыт.
— Кто ты? — спросил я гостя.
— Не знаю, — ответил он.
— То есть, как не знаешь?
— А так, не знаю. И не хочу знать.
Я был поражен странной, незнакомой мне логикой его ответа. Он не только ничего не знал о себе, но и не хотел ничего знать. Вероятно, ничего не знают о себе только что родившиеся дети. Может, он тоже только что родился, хотя и выглядел взрослым. Ведь он сошел с полотна.
Я отошел от него, задумчивый, растерянный, почти оглушенный.
— Что я знаю о себе? — спросил я себя вслух.
Я знал о себе не так уж мало. Но все, что я знал, становилось неясным до конца оттого, что мой отец побывал на планете Идиллических пейзажей. С самых ранних лет протянулась эта невидимая нить между мной и отсутствующим отцом. И когда он появился на Земле, я сильнее всех почувствовал, что с Землей что-то случилось, с Землей, со мной и со всеми, кто там жил, от человека до рыбы и ящерицы. Я не узнал, а, скорей, догадался о том, что и сейчас держат в тайне. Ведь мой отец, вернувшись с планеты Идиллических пейзажей, вовсе не расстался с ней. Он привез с собой эту удивительную планету уменьшенную до портативных размеров картины.
Кто-то из журналистов назвал моего отца космическим Гулливером. Но я слишком забегаю вперед и слишком спешу, мешая постепенному раскрытию всех событий.
Глядя на нашего странного гостя, я не мог понять одного. У него не было границ, или, точнее, того, что обычно называют размером. Он казался то маленьким, то большим. И самое странное, что это было одновременно. Иногда он казался сразу и крошкой и великаном. Это очень смущало нашего робота Карлушу. В его программе была предусмотрена только обыденность, повседневная, окружающая человека реальность. Моя мать очень боялась, чтобы Карлуша не сошел с ума. Обыденные его представления не хотели прийти в соглашение с не совсем обычным фактом. Карлуша ужасно страдал, что гость не укладывался в логику постоянного пространства, что он был одновременно мал и велик.
Он был мал и велик. И только много позже я понял, что в его малости и заключалось его величие.
В конце концов робот заболел. Он стал тосковать по обыденности и начал просить мою мать, чтобы его отправили в прошлое, когда размеры вещей и явлений были незыблемыми и можно было спокойно опираться на свой опыт.
Мать считала, что Карлуша был прав, но не решалась сказать об этом отцу. Мне же нравилось, что гость внес в мир и в мой опыт нечто новое, доставленное с планеты Идиллических пейзажей.
— Ты человек? — спросил я гостя.
— Не совсем, — ответил он скромно.
— А все-таки кто же ты?
— Я — лес, — ответил он. — Я — сад. Я — облако. Я — птица.
— Понимаю, — сказал я. — Ты — поэт?
Он покачал головой:
— Нет. Я — природа.
2
С ранних лет я слышал об этой картине и о том, как изображения сходили с полотна, а потом опять возвращались на свое место.
На самом деле это было не полотно. Но все называли это полотном, отдавая дань человеческой привычке, желанию назвать нечто не поддающееся названию.
Вам приходилось держать в руках словарь? Это толстая книга, заполненная именами и названиями явлений, людей и предметов. У человека нашлись слова для того, чтобы передать смысл всего, что его окружало, беспокоило, радовало, страшило, виделось или только казалось. Но для того, что привез с собой отец, не было подходящего слова в человеческом языке, и поэтому это «что-то» назвали картиной.
Когда я достиг того возраста, который дал мне право посетить музей, я подумал, что человечество ошиблось и что это не картина, а сон.
Мои сновидения, и ваши, и сны тысяч других людей были заключены в раму, замкнуты в короткое пространство, действительно похожее на картину.
Я стоял, и образы, как музыка, неслись унося меня с собой. Мне снились сны наяву.
Только много позже я узнал, что это были не сны, а реальность, опирающаяся на совсем иную логику, чем та, что существовала на Земле.
Случилось так, что я встретился с нашим бывшим гостем.
— Где мы? — спросил я.
— На моей планете, — ответил он тихо.
— Но в раме не планета, а картина.
Он рассмеялся.
— Вы видели когда-нибудь, чтобы люди входили в картину, как в дом? Оглянитесь и посмотрите!
Я оглянулся, и пространство замкнулось за мной.
3
Он открыл дверь. И когда он ее открывал, у меня кружилась голова, словно за дверями обрывался мир и зияла пропасть.
Мы вошли. Куда? К кому?
При помощи понятных и привычных мне слов он сделал попытку связать обычной земной логикой события и факты, разделенные временем.
— Это ваш правнук, — сказал он тихо, показывая на игравшего в шахматы старика. Старик играл с ребенком. Лицо ребенка мне показалось знакомым.
— А это, — показывая на ребенка, сказал пришелец с картины, — ваш прадед. В семейном альбоме вашей матери хранится его карточка.
Я смотрел, как мой правнук играл в шахматы с моим прадедом.
Пришелец представил меня им.
— Ваш правнук и прадед Игорь Андреевич, — сказал он. — Знакомьтесь.
На их лицах я не заметил ни малейшего удивления, только разве досаду, что им помешали играть.
— Я собрал вас здесь, — сказал пришелец, — Для того…
Оп оборвал фразу. Ему не дал ее закончить какой-то молодой человек с тонкими, как нитка, усиками.
— Мне некогда. Поймите, — заговорил он быстро-быстро, — меня ждут неотложные дела. Вы вызвали меня, когда я стоял под венцом. Не представляю себе, как чувствует себя моя невеста. А ее родители! Меня же сейчас там нет. Меня ищут. Думают про меня бог знает что. Гадают. Предполагают, что меня заставила выбежать неотложная нужда, боль в желудке. Ради бога, помогите мне честно выполнить свой долг жениха. Верните меня к моей невесте, в мой век!
— Не волнуйтесь, — сказал пришелец, — рядом с нами стоит ваш внук. Его не было бы, если бы вы не стали из жениха мужем. Успокойтесь, ваша невеста подумала, что у вас расстройство желудка. Ваше отсутствие не покажется ей слишком долгим. Здесь время течет по-иному, чем там.
Он собрал нас, разделенных и разобщенных законами времени, его необратимым ходом. Для чего он это сделал?
— Я собрал вас здесь, — снова начал пришелец, — для того…
Но он не успел закончить фразу. Молодой человек, ставший впоследствии моим дедом, схватил его за руку и стал требовать чтобы он немедленно вернул его в тот момент, из которого он его изъял.
— Меня ждут! — кричал он. — Там невеста!
4
Я должен прервать свой рассказ и снова вернуться в детство. Без этого вам не понять ту своеобразную логику, которую таила в себе картина, привезенная моим отцом.
Я уже рассказывал о том, как в нашем лесном домике появился таинственный гость.
Однажды я нечаянно подслушал загадочный разговор.
— Вам надо вернуться, — убеждал нашего гостя отец.
— Куда?
— Вы сами знаете куда. Картине без вас не хватает цельности. Она кажется незаконченной.
— Ерунда! — ответил гость. — Когда не станет Вас, разве мир изменится?
— Но это же Картина, а не мир.
— И то и другое.
— Все равно вы должны вернуться на свое место. Из-за вас уже имел неприятности директор музея и дежурная, которая несет ответственность за сохранность картины. Если вы не вернетесь, ее уволят.
— Пусть не дремлет на работе, — сказал сердито гость, — и не чешет язык с кумушками.
— Напрасно вы упорствуете.
Разговор отца с гостем прервала мать, позвавшая их ужинать.
Гость сидел за столом и глядел на всех так, словно не он, а мы сошли с картины. Он смотрел на нас, словно мы были сны.
Сказать про его глаза, что они большие, это значит не сказать ничего. Дело было не в величине их, а в чем-то другом. Его глазами смотрела на нас планета Идиллических пейзажей, смотрела из окна, как смотрит облако или река, как смотрит сидящая на ветке и готовая куда-то улететь птица.
Его глазами смотрел на нас его мир, и мне было удивительно и чуточку странно, когда, оставшись со мной на веранде, он сказал мне:
— Ты до сих пор не догадался, кто я?
— Кто?
— Ты!
— Что это значит?
— Это значит, я — это ты, а ты — я.
Я подумал, что он шутит, смеется и что их юмор не похож на наш. Но вдруг я почувствовал, что между мной и им уже не было той невидимой, но постоянно ощущаемой стены, которая была между мною и отцом.
Он был как река, как лес, как облако или птица, сидящая на ветке. Между ними и собой я никогда не чувствовал невидимой стены.
— Я — это ты, — повторил он.
— Я этого не понимаю. Я — это я, а ты — это ты. И мы разные. Кроме того, ты с другой планеты.
— Когда-нибудь ты поймешь, — сказал он.
— Я хочу понять сейчас.
— Тебе придется немножко обождать. Лет через десять мы вернемся к этому разговору.
— А сейчас?
— Сейчас я не смогу тебе объяснить. Мне надо подумать.
— Неужели тебе понадобится на это десять лет?
— Да. Даже двенадцать.
Мне недолго пришлось разговаривать с ним. На другой день он исчез, и, когда мать поставила прибор на том месте стола, за которым он обычно сидел, отец сказал:
— Гость не придет к завтраку.
— Почему? — спросила мать.
— Он вернулся туда, откуда пришел.
— На планету Идиллических пейзажей?
— Нет. На картину в музей. Он пожалел директора и дежурную.
Пожалел? Меня это почему-то немножко удивило. Разве жалость существует не только на Земле?
5
Тайна связывала моего отца с этой картиной и с самой планетой Идиллических пейзажей, и я вовсе не уверен, что когда-нибудь эта тайна перестанет быть тайной.
Все помнят слова моего отца, сказанные им на заседании астрономов:
— Планеты Идиллических пейзажей там уже нет. Не ищите. Я привез ее с собой.
Уж не намекал ли он на то, что целый мир удалось вместить в картину неизвестно как, для чего и почему?
Уж не был ли он космическим Гулливером, догадавшимся сделать то, что не догадался и не сумел сделать Гулливер Свифта?
Ученые сочли нужным принять слова моего отца за грандиозную метафору или шутку. Но как выяснилось позже, это не было ни метафорой, ни шуткой.
Я запомнил и день, и час, когда наша семья поселилась на планете Идиллических пейзажей. Это было четырнадцатое февраля, среда, шестнадцать часов. Год и столетие я не назову. Потому что это не имеет никакого значения. На планете Идиллических пейзажей свое летосчисление.
Отец захватил с собой не только мать, меня и робота Карлушу, но и свой домик с небом, берегом, лесом и рекой. Когда я проснулся на новом месте, я увидел, что все мне знакомо, ничего не изменилось.
Только позже я узнал, что река, берег, лес, наш дом и мы сами были в раме и все это называлось картиной.
Я об этом догадался в тот день, когда увидел зрителей, рассматривающих нас и делающих замечания но поводу красоты и правды, которые они находили, рассматривая картину.
Мне, моей матери и даже роботу Карлуше было неприятно, что нас рассматривают, принимая за изображение чужой жизни, словно мы были не люди, а образы людей.
Отец сказал равнодушно:
— Не обращайте внимания. Предстаньте себе, что вы артисты на сцене, но изображаете не других, а себя.
Недели через две мы привыкли и уже не стали обращать внимания на зрителей. Мы жили так, словно наш мир в раме и никто не смотрел на нас.
1966
Волшебный берет
Это была не волшебная лавка, а обычный магазин.
В витрине стоял пластмассовый юноша в синем берете. Он улыбался. И хотя он был не настоящий, что-то подлинное таилось в его улыбке.
Я думал: и я тоже когда-то был юношей.
Внутренний голос смолк, словно не поверив сам себе.
— Зайдем, Володя, — сказала жена. — Тебе нужно сменить берет. Твой стал похож на блин.
Мы зашли.
Я примерил синий берет, который мне подала круглая равнодушная и строгая, как кукла, продавщица.
Жена сказала:
— Володя, ты помолодел на десять лет.
Я взглянул в зеркало. Там, словно в тумане времени, появилось мое лицо, действительно помолодевшее, ставшее юношески узким и красивым.
Я снял берет и снова взглянул в зеркало, на этот раз зеркало вернуло меня таким, каким я был вчера и сегодня.
Я снова надел берет, и снова посмотрел в зеркало, и снова увидел себя помолодевшим.
— Этот берет тебе идет, — сказала жена. — В нем ты действительно выглядишь моложе.
Продавщица бросила на меня равнодушный взгляд и ровным, безразличным голосом куклы спросила:
— Берете вы или не берете этот берет? Если сомневаетесь, возьмите другой.
— Нет, — сказал я, — я возьму этот, хотя и сомневаюсь.
Выйдя из магазина, я надел новый берет, а старый, похожий на блин, сунул в карман пальто.
На минуту мы остановились с женой возле витрины. Я взглянул туда. Пластмассового юноши не было. Вместо него уже стоял живой старик в синем берете. Мне показалось, что это стою я.
— Это я? — спросил я жену.
Она посмотрела и усмехнулась:
— Действительно похож на тебя. Это продавец или заведующий.
— Что он там делает?
— Не знаю. Но раз он там, значит это нужно. Он что-то там меняет.
— Не там меняет, — возразил я, — а здесь.
Я показал на себя.
— Человек, когда стоит в витрине, — сказала жена, — всегда немножко похож на манекен. Разве ты этого не замечал?
— Конечно, замечал. Но сейчас замечаю другое.
Я не сказал жене, что я заметил. Я испытывал, никогда до этого не испытанное мною чувство, что вижу самого себя со стороны. Старик с витрины улыбнулся мне и подмигнул.
— Пошли, — сказала жена. — Не стоит делать чуда из того, что заведующий магазином немножко похож на тебя.
Идя по улице, я чувствовал, что продолжаю молодеть. На улице не было зеркала, но я как бы видел свое лицо, отраженное в восприятии прохожих. Девушки смотрели на меня, а не мимо. Они смотрели, словно видели не меня, а того, другого, который давно исчез в волнах времени.
Когда мы пришли, мне почему-то не захотелось подыматься на лифте. Одним махом, как в юности, я взбежал по лестнице на шестой этаж и стал поджидать жену, поднимавшуюся на лифте.
В прихожей я не удержался и взглянул в зеркало. На меня с любопытством смотрел не я, а тот, другой, оставшийся в воспоминаниях старых знакомых и удостоверенный фотоснимками далеких лет. Беспокойное чувство встречи с самим собой через время охватило меня, словно мое существо раздвоилось и две половинки — прошлая и настоящая — тосковали друг по другу.
Я снял берет, и зеркало возвратило меня. Да, я снова обрел себя и видел свое морщинистое лицо шестидесятилетнего человека.
Держа в руке синий берет, я думал о парадоксе, об удивительной возможности переходить из одного возраста в другой с помощью такого простого и нехитрого предмета, как кусок сукна, приобретшего в руках неведомого мастера волшебное свойство машины времени.
Я долго стоял, размышляя о тех возможностях, которые подарил мне случай.
Жена позвала меня в столовую — пить чай. Входя туда, я надел берет и снова попал в свое прошлое, слившееся с настоящим.
На лице жены я увидел всю быструю гамму сменявших друг друга чувств, соединивших ее с далеким прошлым.
— Володя, — спросила она тихо, — что с тобой? Ты не ты, а тот… — Она не договорила.
— А кто?
— Не ты, но точно такой, каким ты был, когда мы с тобой познакомились.
— Ну и что ж, — сказал я, — время повернулось вспять. И наука вернула нам с тобой далекое прошлое.
— Нет. Изменился только ты. Мир остался прежним.
— Ты тоже помолодеешь, — сказал я и надел на ее голову синий берет.
Она стала молодеть, преображаясь у меня на глазах. А я опять стал старым.
— Господи! — сказала жена. — Объясни, Володя, мне это странное явление.
— Чудо, — сказал я.
— Это не научно. Объясни все так, чтобы это было логично и не противоречило законам природы и нашему опыту.
— Зачем?
— Как зачем? Я хочу быть спокойной. А то мне кажется, что я вижу сон.
— Это не сон, Вера.
— А что это такое?
— Чудо.
— Чудес не бывает.
— Знаю. Слышал. Читал. Проходил в школе. Но это чудо особое. Кто-то с нами играет в плохую игру.
— Кто?
— Если бы я знал! Время. Мы с тобой попали в воронку. Нас крутит, как в водовороте, то окуная в прошлое, то выталкивая наружу.
— А берет? — спросила Вера и сняла его.
Она показала фабричную марку и затем прочла вслух:
— «Планета Марс. Фабрика волшебных беретов».
— Разве мы импортируем что-нибудь с Марса? — удивился я. — Слишком дорого обходится перевозка. Об этом недавно писали в «Экономической жизни».
Жена снова надела берет.
— «Экономическая жизнь», — пошутила Вера, — слишком экономно смотрит на жизнь. По-видимому, марсианские изделия обладают особыми качествами.
Берет подтверждал это. Он уносил от меня мою жену Веру в прошлое, и, хотя она сидела рядом со мной за столом, она была одновременно и воспоминанием.
Она была здесь и не здесь, а я словно видел ее издали, будто смотрел на экран.
— Ты сильно изменилась, Вера, — сказал я. — Очень помолодела.
— Нет, не я изменилась. Изменился ты, ужасно постарел. Стал похож на твоего покойного отца. Ты ли это, Володя?
Я снял с нее берет и надел на себя. Я почувствовал, как меня понесло в прошлое.
Что же случилось затем? А вот что. Я превратился в молодого человека. Мне двадцать лет. Я сижу за столом и пью чай.
— Володя, — говорит мне старая незнакомая дама. — Мне странно глядеть на тебя. Ты так молод.
— Кто вы? — спрашиваю я.
— Твоя жена Вера.
Я смотрю на старую симпатичную даму и не могу ничего сообразить. Когда я успел жениться? Каким образом попал в эту квартиру? По-видимому, эта старая женщина шутит.
— Где я?
— В своей квартире на улице Маяковского. Ты прожил в ней по меньшей мере тридцать лет.
Я встаю и выхожу из-за стола. Вот кабинет. Стеллажи. Книги. На стене картина, на которой изображено окно. Рядом с изображенным окном — настоящее. Я смотрю в окно. И в то и в другое. И на картине и в настоящем окне виден двор и дворничиха с метлой. Двор мне не знаком. Я выхожу из квартиры, как во сне, спускаюсь по лестнице. Улица. Стоянка такси, а на другой стороне парикмахерская. Я захожу в парикмахерскую, снимаю берет, сдаю его кассирше, прохожу в зал и сажусь в кресло. Парикмахерша, толстая пожилая женщина, начинает мылить мне щеку. Я вижу свое отражение в зеркале. Лицо меняется. Оно стареет быстро-быстро, словно минуты превратились в годы.
Когда я встаю с кресла, парикмахерша растерянно смотрит на меня. На ее лице виноватая улыбка.
— Что с вами? — спрашивает она. — Вы изменились. Ничего не понимаю. Может, пока я ходила за водой, вместо вас в кресло сел другой? Но куда исчез тот нетерпеливый молодой человек, который сидел в кресле до вас? Я ведь задержалась всего на полторы минуты.
— Да, — сказал я, — он выбежал, а я сел вместо него.
— Почему же он убежал?
— Может, вспомнил, что опаздывает.
— С вас сорок копеек.
Расплатившись в кассе, я подошел к большому зеркалу. Из зеркала на меня смотрел старик с очень знакомым и опечаленным лицом. Я вышел из парикмахерской, не взяв берета. Кто-то наденет его и, возможно, помолодеет. Неизвестный, я дарю тебе молодость, может, ты заслуживаешь ее больше, чем я.
1967
Примечания
1
Н. Н. Баранcкий. В рядах сибирского социал-демократического союза. Воспоминания о подпольной работе в 1897–1907 гг. 2-е изд., Томское книжное изд-во, 1961, с. 35.
(обратно)2
Современное название — нивх.
(обратно)3
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». В двух томах, т. 1. М. «Искусство», 1957, стр. 136.
(обратно)4
Ызь — хозяин.
(обратно)
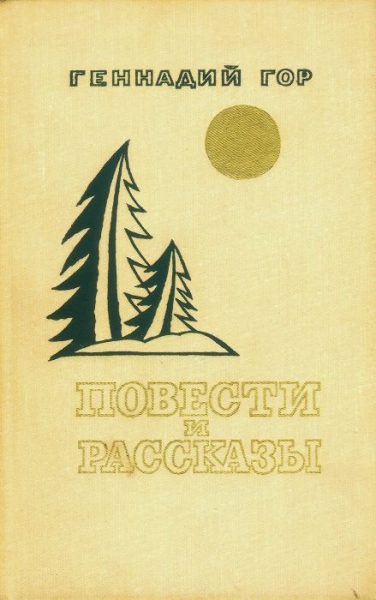


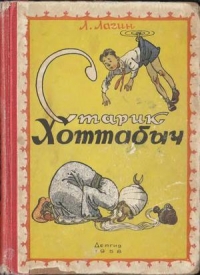
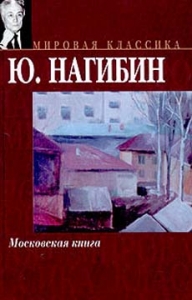


Комментарии к книге «Повести и рассказы (сборник)», Геннадий Самойлович Гор
Всего 0 комментариев