Рассказы советских писателей
От составителя
Существует ли такое самобытное художественное явление — рассказ 70-х годов? Есть ли в нем новое качество, отличающее его от предшественников, скажем, от отмеченного резким своеобразием рассказа 50-х годов? Не предваряя ответов на эти вопросы, — надеюсь, что в какой-то мере ответит на них настоящий сборник, — несколько слов об особенностях этого издания.
Оно составлено из произведений, опубликованных, за малым исключением, в 70-е годы, и, таким образом, перед читателем — новые страницы нашей многонациональной новеллистики.
В сборнике представлены все крупные братские литературы и литературы многих автономий — одним или несколькими рассказами. Наряду с произведениями старших писательских поколений здесь публикуются рассказы молодежи, сравнительно недавно вступившей на литературное поприще. Двадцатипятилетняя Ирена Гансиняускайте — самый молодой из авторов сборника, среди которых такие корифеи литературного труда, как Павел Нилин, Григол Чиковани, Ибрагим Гази, Бердыназар Худайназаров, Федор Уяр. Особенно широко представлено в сборнике среднее поколение, плодотворно работающее в последние годы: Евгений Носов, Юрий Казаков, Валентин Распутин, Григор Тютюнник, Грант Матевосян, Андрей Битов, Фазиль Искандер, Нодар Думбадзе, Агаси Айвазян, Андрис Якубан… От творческой энергии писателей этого поколения в значительной мере зависит — и это показывает сборник — судьба рассказа сегодня.
Можно ли найти какие-то общие черты, объединяющие столь пестрое содружество талантов, художественных традиций и школ, стилевых манер? Если говорить о том, что несет на себе печать последних лет 70-х годов, то для братских литератур несомненно общее — отход от этнографизма и бытописания и ориентация на проблемный рассказ.
Не сразу и не без труда преодолевает новеллистика некоторую робость перед сложной проблематикой современной жизни. Но все же овладевает ею. Рассказ описательный, иллюстративный, благодушно сторонящийся острых вопросов, какие ставит ныне жизнь, постепенно отступает, теряет кредит у читателя, а на первый план выходят произведения совсем другого духовного потенциала. Именно они и определяют тенденции роста и развития.
Конечно, необходимы уточнения и не следует слишком поспешно обобщать. Сказанное выше нельзя отнести в равной мере к русскому, украинскому или узбекскому рассказу — у каждого из них свои свершения и надежды, свои традиции и пути. Ведь истинное значение творческих достижений писателя можно понять до конца только в контексте национальной литературы.
Молодой эстонский прозаик Рейн Салури, внимательно изучающий опыт западноевропейских мастеров, совсем не похож на Григора Тютюнника, вносящего в украинскую новеллу ноту сурового реализма, характерного для украинской литературы XIX века; размытые пастельные краски латышской новеллы резко контрастируют с густой и яркой живописью Нодара Думбадзе. Столь же контрастен по отношению к лирическому, мягко напевному белорусскому рассказу графически четкий рисунок рассказа Оролхона Бокеева, воспринявшего уроки замечательной плеяды основоположников казахской прозы. У Евгения Носова и Гранта Матевосяна общая для них тема «истоков» находит разное выражение, в духе разных национальных и художественных традиций русской и армянской литератур. Все это так. Различия очевидны.
Однако и общее тоже проступает явственно — что и позволяет представить читателю это пестрое собрание рассказов и многоцветную панораму жизни как нечто цельное, связанное единством художественного и духовного поиска.
Ахмедхан Абу-Бакар Человеку дарят имя
«Дерхаб!» — слово, достойное любой похвалы.
Не упрекайте меня, почтенные, в излишнем пристрастии к этому слову — я готов повторять его при каждой встрече с добрыми людьми. Уж сколько веков оно служит нам, а ничуть не износилось от частого употребления, лишь отполировалось до блеска. На самой скромной свадьбе, на самом пышном торжестве, от бритоголовых вершин Дупе-дага до отвесных скал Цудахара — всюду: и на равнине, и в горах моей страны — звучит и радует слух это доброе даргинское слово, смысл которого составляют самые сердечные, самые светлые пожелания. Слово это полно радостью до краев, как полон рог и бокал с геджухским вином, сопровождающие «Дерхаб!» по обе стороны, как самого почетного гостя.
«Дерхаб!» — этим словом началось торжество в доме кузнеца Асхаба. Поскольку мы с вами немного запозднились, позвольте мне теперь познакомить вас с кузнецом Асхабом из рода Сурхаевых, его милой женой Меседу и гостями. Начнем, как водится, с главы дома. Кузнец… Слышите, сколько упругого звона в этом слове? Скажешь — и сразу видится маленькая сельская кузня с закоптелыми стенами, пропахшими окалиной; старые залатанные мехи раздувают горн; на сплющенную наковальню то присаживаются острокрылые щипцы, чьи губы напоминают птичий клюв, то падает с тяжким уханьем древняя кувалда, за которой в споре с железом всегда остается последнее слово. Кувалда… Слово старое, но смысл его стал совершенно иным. Хозяин дома теперь работает на заводе сепараторов, где кузня — ведущий цех: здесь кузнецы не жонглируют кувалдой, а работают пневматическим молотом, который в тысячу раз тяжелее кувалды и на столько же легче для мускулов мастера. Древнее ремесло обрело в наше время почет и уважение не только за мощные бицепсы кузнеца, но и за его умную голову.
Пятнадцать лет назад кузнец Асхаб женился на дочери хромого бухгалтера с красивым, как зарница в июне, именем — Меседу. И я скажу, и земляки подтвердят: Меседу по праву носит свое имя; отец красавицы не зря твердил, что готов стать хромым на обе ноги, если кто усомнится в том, что его дочь — самая ладная в ауле, хотя спесь и не лучшее украшение папахи мужчины…
Первые пять лет кузнец прожил в согласии и уважении (в отличие от всех горцев, которые любить, ладно уж, согласны, но чтоб уважать — не уговоришь и не заставишь) со своей женой в ауле. Всюду их видели вместе, что немало удивляло тех, кто избегает показываться со своей половиной на улице, не сядет с ней рядом в клубе, чтобы послушать лекцию о равноправии женщин, я уж не говорю о том, чтобы поддержать под руку мать своих детей, помочь, когда она несет воду или вязанку хвороста. Спросите: а что мешает мужчине самому принести воду или дрова? Отвечу: предрассудок, чтоб его… Ну, ладно, мы люди культурные, будем жить надеждами, что этот самый предрассудок вот-вот сойдет на нет, как нефтяные пятна на волнах Каспия… Вах! Мы, кажется, отвлеклись, далеко отошли от праздничного стола в доме кузнеца Асхаба.
Все, казалось, было хорошо в его молодой семье, и в пасмурный день первый луч солнца заглядывал к ним раньше, чем в другие сакли, и гости у них бывали, и не за пустой стол садились, только одно обстоятельство омрачало юных супругов. Каждый — втайне от другого — печалился и грустил, горевал и беспокоился. Не было детей.
Родные кузнеца не раз и не два намекали ему, чтобы развелся с бездетной — тут не то что предрассудок, сам закон был на его стороне — и женился на другой.
Родственники мужа пытались осторожно втолковать и жене, что все равно без детей крепкой семьи не создашь. Меседу от этих разговоров «по душам» делалась кроткой, молчаливой и на все вопросы отвечала горькими слезами. Но кузнец о разводе и слышать не хотел, даже если суждено оборваться прославленному роду Сурхаевых.
Чтобы уберечься от возможных и даже неизбежных распрей, Асхаб решил переехать в большой город, где никто никого толком не знает. А там можно взять ребенка на воспитание: в конце концов, не тот отец, кто жизнь дал, а тот, кто воспитал, человеком сделал.
Для работящего всюду дело найдется. В городе кузнецу особенно повезло: вместе с другими рабочими он первым закладывал фундамент завода сепараторов, на котором и теперь кузнецкое дело — не лишнее. Здесь Асхаб обрел верных друзей, завоевал уважение. А в награду за терпение и верность спустя пятнадцать лет после свадьбы Меседу родила сына. Да еще какого! Через месяц младенец улыбался миру четырьмя зубами-жемчужинами. Не верите? Хотите уличить меня в незнании законов природы? А известно ли вам, почтенные, что у природы бывают свои причуды? Захочет — у одной матери из трех сыновей вырастут два мастера-умельца, а третий — доцент. И что поделаешь? Еще не все законы природы нами познаны…
А вы посмотрите, как славно улыбается малыш, которого мать бережно запеленала и уложила в деревянную, изукрашенную выжженными узорами колыбель: это родные кузнеца, как гром среди ясного неба, явились с подарками и сразу же, как на пожар, умчались обратно в свой аул — видимо, совесть их грызла, поджаривала за былые попреки, хотя Меседу — гордая, счастливая — уже не помнила зла. Сегодня ее сердце, как говорят горцы, не умещалось на земле, вот он, ее первенец, ее солнышко, смысл и цель жизни. У нее даже голос стал звонче, моложе…
За столом кузнеца собрались самые близкие друзья. Сегодня предстояло торжество особого рода: новорожденный получит имя, с которым ему долго-долго жить, учиться, служить в армии, работать, отзываться на голоса друзей и — так ведь тоже бывает — приводить в трепет врагов…
Имя человека! Не такое это простое дело выбрать имя. Я знаю: один папаша, тот самый доцент, решил назвать своего сына Электроном — еле дедушка с бабушкой отстояли, а вот за внучкой не углядели — то ли шайтан попутал, то ли аллах не уберег юных родителей, но их младшую дочь, милую, славную аптекаршу, зовут Станей — это сокращенно Станя, а полное имя — Гидроэлектростанция!
Нет, нет, сыну нашего кузнеца подобное не угрожает: сегодня ему дадут имя, достойное рода Сурхаевых, где каждое новое поколение получало в наследство мастеровитые руки и умную голову.
Ну, вот мы и познакомились с хозяевами, а теперь прошу к столу, где дымится в глубоких блюдах мясо черного барана, кость которого разбивать ни при варке, ни во время еды не полагается — иначе новорожденный вырастает хворым на тело и слабым на голову. Предрассудок, скажете? Возможно, но безобидный и благожелательный предрассудок неизбежно превратится со временем в добрый обычай, которыми украшается наша жизнь. Согласны?
—..Мне говорили: разведись! А я отвечал: не разведусь! — уже не в первый раз вспоминал кузнец. — Вот представьте себе: мог я поддаться уговорам, разрушить семью, потерять Меседу? И сына, значит, не было бы… — В счастливом умиротворенном голосе кузнеца прозвучала тревога. Он даже оглянулся на колыбель — там ли его счастье, его отцовская гордость?
— …Я не разрушил, я сохранил… Верьте, не хвастаюсь… Хорошая у меня жена, порой ей доставалось, ой как трудно…
— Каждой достается от своего мужа, — улыбнулась Меседу, не боясь упрека, что без позволения вмешалась в разговор.
— Дорогой Асхаб! Горцы говорят: у первой жены найдется один недостаток, у второй — обнаружится два, а у третьей — наверняка сыщутся все три повода для развода, — напомнил мастер Максуд.
— Что верно, то верно! — поддерживал мастера молодой кудрявый инженер. — Только вот откуда появилась притча — лишь тот мужчина, кто имеет семь шрамов от боевых ран и семь жен?..
— Семь шрамов, семь жен?.. Ты-то что в этом понимаешь? — вмешалась жена кудрявого. — Смотрите, друзья: вчера женился, а сегодня уже обсуждает такие проблемы!
— И не вчера, а два месяца и семь дней! — уточнил инженер и грозно сдвинул угольно-черные брови над смеющимися глазами. — Помолчи, раскрепощенная! Дома поговорим, а в гостях веди себя прилично! Ну, дорогой наш Асхаб, твоя радость — наша радость! Да последуют за первенцем еще сыновья! Дерхаб!
Дав бокалам отзвенеть за этот приятный сердцу каждого отца похвальный тост, кузнец с достоинством ответил:
— Пусть плодоносит моя Меседу, как анаровые рощи нашего колхоза! Хотите верьте, хотите нет, только вряд ли кто видел такие гранаты, какие выращивают у нас! В прошлом году председатель привез на выставку анары весом в два килограмма!
Мастер Максуд, поглаживая опаленные кислотой усы, подмигнул соседу-инженеру:
— Наш Асхаб немного похож на акушинца. Когда спросили, что нового в ауле, акушинец ответил: пока все по-старому, новость одна: вырастили такую тыкву, что она заслонила собой солнце; теперь жители соседних аулов страдают — у них нет тенистой прохлады, какую дает тыква акушинцев.
Все рассмеялись, а кузнец, немного захмелевший, не столько от вина, сколько от счастья, искренне огорчился:
— Не верите? И я удивился: такие гири-гранаты как удерживаются на тонких ветвях? Во время сбора плодов председатель выдает всем пожарные каски, чтоб люди не получили травму…
— Ха-ха-ха! — грянуло за столом.
Мастер, покрутив бурый ус, добавил;
— Вот-вот… и кубачинцы решили помочь соседям: смастерили такой котел для варки акушинской тыквы что удар молотка по одной ручке котла не слышен клепающему вторую ручку! Неплохие габариты, Асхаб! Под стать твоим гранатам!
— Ну, это ты уже зря, — посерьезнел кузнец. — Я своими глазами анары видел…
— И на вкус пробовал?
— Нет, гранаты стали выращивать уже после моего отъезда в город.
— Ну, и шутник! — развеселился мастер. — А ты знаешь, что полагается за приписки?.. На первый раз — взыскание, а там…
Гости смеялись, даже Меседу улыбалась, видя озабоченное лицо мужа: как же ему доказать свою правоту? Как на грех именно сегодня не было у гостеприимного кузнеца ни одного земляка из родного аула… Он чуть было не грохнул по столу кулачищем, который вполне мог заменить если не кувалду, то хороший молоток, но вовремя удержался, вспомнив, в честь чего собрал гостей.
Кузнец рассмеялся, не желая отставать от друзей:
— Ладно, придет день, я познакомлю вас и с нашим председателем, и с нашими гранатами! Дерхаб, друзья! Пусть плохим людям живется скучно, зато моим друзьям — сытно да счастливо! Дерхаб!
— Дерхаб! — отозвались сидящие.
В это время в дверь кто-то постучал.
Меседу, всегда встречающая гостей сердечно, приветливо, кинулась к двери:
— Входите!
На пороге стоял молодой парень. Невысокий рост, скуластое, сухощавое лицо, пылающее здоровым деревенским румянцем человека, большую часть суток проводящего под открытым небом, выдавали в нем жителя аула. Из-под черной папахи доверчиво поблескивали живые, чистые глаза; губы, плотно сжатые, заявляли о воле и упорстве, а светлый шрам на подбородке — след падения на горных лыжах — говорил о храбрости.
— Простите-извините, не скажете: здесь живет Асхаб Сурхаев? — стеснительно начал парень.
— Входи, входи, дила узи[1]. — Меседу улыбалась, будто все пятнадцать лет с нетерпением ждала именно этого гостя.
— Вы, наверное, меня не узнаете…
— Узнала, как не узнать! Проходите к столу!
— …Когда я… меня вызывали на соревнование по вольной борьбе, мать очень просила, чтобы проведал родственника. Вот… пришел, но у вас гости… простите-извините, если некстати. — Он тщательно вытирал ноги о коврик, а потом решительно сбросил с ног ботинки и остался в одних шерстяных носках домашней вязки.
Меседу, по секрету говоря, большая чистюля, была польщена таким жестом гостя.
— Входите, входите! Грешно разговаривать у порога, когда все ждут за столом… Мы давно уже из аула и многих не узнаем сразу, но рады, очень рады землякам. Папаху можно положить здесь, на столик.
— Мать записала адрес, а я потерял листок. В городе дали справки на троих Сурхаевых… — продолжал объяснение новый гость уже в комнате.
— Садись, дорогой! Объяснительную записку потом подашь! Меседу, дай еще бокал. — Кузнец подвинул стул и крепко, с какой-то особенной признательностью пожал руку пришедшего: вот теперь, когда появился кунак из его родного аула Банава, пусть только попробует кто-нибудь усомниться в том, что анаровые рощи дают крупные плоды.
— Как твое имя?
— Бахадур!
Должен заметить, почтенные, на нашем наречии Бахадур означает: смелый, храбрый. Как правило, в горах первенцу дают имя или погибшего отца (что случалось в грозные времена былого не так уж редко: сын появлялся на свет, когда отца, сраженного в бою за свободу, за честь рода, уже унесли на кладбище), или нарекают именем деда. Есть у нас добрый уважительный обычай: давать имя пришедшему в мир человеку в честь кунака, посетившего саклю, где появилась яркая, расписная люлька для новорожденного. В день, когда родился Бахадур, в ворота дома его отца постучался старый верный кунак…
Шло время, Бахадур рос, и все чаще его отец говорил:
— Из этого воробья должен вырасти орел.
Для таких слов были основания: в мальчишке рано проступили черты упорства, воли к победе в спортивных играх, стремление защитить слабого.
Борьба — наш древнейший вид спорта, любимый и почитаемый не менее, чем джигитовка, стрельба на скаку, метание камня. Если первые два вида очень ценятся наставниками наших призывников, то метание камня — его проводят в дни празднеств первой борозды — сочетает в себе приятное с полезным: сколько полей очистили джигиты — об этом знают только груды валунов, сброшенные ловкими, сильными руками, да спелые колосья, выросшие на земле, освобожденной от каменной тяжести. Я так думаю: каждый вид спорта должен вместе с красотой иметь пользу, взрыхлять поле жизни. Вот только не могу додуматься, какое поле взрыхляют заграничные конькобежцы-прыгуны через пять, семь, а если чемпионы, то и через десять бочек, уложенных в ряд на ледяной дорожке?..
Ну, ладно, пока мы с вами толковали о разных видах спорта, наш воробышек Бахадур успел оглядеться и даже настолько осмелел, что отказался от штрафного бокала вина.
— Понимаете, ну никак нельзя… — Парень покраснел, но решительно накрыл бокал своей крепкой смуглой рукой.
— Почему не можешь? Болит что-нибудь? Врачи не велят?
— Понимаете, вызвали на сборы борцов и сказали… ни капли.
— То-то, я вижу, у тебя шея крепкая! — догадался мастер Максуд. — Слышали, интересные предстоят схватки. Ну, если режим, — не будем настаивать. За победу нашего приятеля! Дерхаб!
Бахадур был очень польщен вниманием к себе: первый раз пришел к родственнику и всех, можно сказать, светлым крылом задел, встретили, как родного.
Бахадур поднял бокал и чокнулся со всеми:
— Дерхаб! За вашу радость! Пусть она часто гостит в этом доме!
Кузнец, выждав, пока гость закусит добрым куском баранины, напомнил об анаровых рощах родного аула, где каждый куст — ростом с корабельную сосну, а каждый плод — не меньше арбуза.
Бахадур слушал кузнеца с недоумением, но быстро сообразил, что хозяин решил повеселить гостей и его, Бахадура, приглашает быть партнером в розыгрыше.
— Точно, дядя! — с ходу подхватил юный гость. — У нашего председателя именно такие рощи, если считать орешник за анар, орех — за гранат, а двухпудовую гирю — за штангу в шестьсот килограммов!
Мастер схватился за живот. Инженер поперхнулся так, что жене пришлось постучать своему супругу кулачком по широкой спине.
— Вот тебе и анары, Асхаб! — закатывался мастер Максуд, хлопая в ладоши.
— Что ты говоришь, парень, — вскипел кузнец, — ты что, не видел республиканскую газету, где рощи нашего председателя сравниваются с хвалеными цитрусовыми плантациями?
Бахадур и эту шутку оценил по достоинству:
— Верно, дядя! Это только здесь, в городе, не знают, что наш аул окружен райскими садами: ветви ломятся от плодов; одно дерево по-разному плодоносит: внизу — манго, наверху — бананы, справа — финики, слева — ананасы!
— Замолчи! — рявкнул кузнец. И тут же прихлопнул рот рукой: не следует так вести себя с гостем, хотя он и младше тебя. — Ты, парень, напрасно меня на смех поднимаешь…
— Я?! — изумился Бахадур. — Это вы, дядя, разыгрываете всех нас…
— Нет, ты вспомни, на всю первую страницу газеты был снимок: наш председатель в анаровой роще, — не унимался кузнец.
— Для славы чего не сделаешь, чтоб в газету попасть, наш толстяк мог и в чужой сад залезть…
— Как ты сказал о нашем председателе? «Наш толстяк»? Как это?..
— Да наш же, Мустафа, помните, дядя, пришел Мустафа с войны: самый худой и самый длинный. А теперь посмотрели бы: апогей с перигеем сравнялись, очень упитанный стал. Может, и от возраста?..
— Мустафа?.. Упитанный? А куда вы дели председателя Алибека? Маленький такой, рванулся в небо на метр сорок вместе с папахой!..
— Не было у нас Алибека… — Парень нахохлился, ну точь-в-точь воробей в дождливый вечер. — Я с детства помню только одного председателя — Мустафу. Толстяка Мустафу.
— Стой, стой, друг! Скажи-ка, ты сам из какого аула?
— Я?!
— Не я же!
— Из Гулебки…
Теперь за столом громче всех хохотал кузнец. Остальные усмехались, понимая, в какое неловкое положение попал воробышек. Кузнец поднялся со своего места, подошел и обнял парня за опущенные плечи:
— Я, дорогой, из аула Банава, есть такой, недалеко от Дербента. Ваш Гулебки — вон он где, в Сирагинских горах, а мой Банава — вон он где, у самого синего Каспия. Ясно?!
Бахадуру все стало ясно: ошибся, ох как ошибся он, сев за чужой стол. Он поднялся, поправил пояс и оглядел собравшихся:
— Простите-извините меня, почтенные. Я виноват и перед вами. Пусть всегда в этом доме будет так тепло и радушно, как сегодня. Мать сказала: не может того быть, чтобы ее брата из рода Сурхаевых не знали в городе; для нее город — такой же аул: все знают каждого, а каждый знает про всех. Вы так любезно встретили… я подумал… конечно, вы и есть мои родственники. Позволил себе шутить, как с односельчанами… Простите-извините, еще раз прошу…
— Ну, ну, пустое говоришь! — успокаивал кузнец гостя.
— Позвольте, я уйду…
— Нет, нет, — вмешалась Меседу. — Гость в такой день — счастье для нас, для нашего маленького. И… даже интересно, как ты здорово поддел моего Асхаба, — засмеялась она молодо, звонко.
— Спасибо. За все я благодарен… но лучше я пойду искать своего родственника. У меня еще два адреса…
— Э, нет, дорогой! Есть дело поважнее, чем анаровые рощи аула: надо моему сыну дать имя. Как можешь уйти?
— Почему это «моему» сыну? — вскинула тонкие дуги бровей Меседу.
— А как надо сказать? — не понял кузнец.
— Поглядите, люди! Работает на заводе, в коллективе, а дома ведет себя единоличником! Что ж, по-твоему, сын только твой? Я, значит, не принимала никакого участия?
— Правильно, Меседу! — поддержал мастер. — Так его, воспитывай, сбивай спесь.
— Хорошо, хорошо, пусть будет — наш сын.
— Пусть — совсем не хорошо! Что значит «пусть»?
— Опять не так сказал? Да, да — наш сын. Теперь довольна? Друзья! — Кузнец обратился ко всем и обнял Бахадура за плечи по-родственному, будто два аула — Гулебки и Банава — испокон веков стоят так близко друг от друга, что уже никто и не может сказать, идет ли он по тропинке Банава или уже спустился на землю Гулебки. — День этот запомним по двум событиям: встрече с нашим молодым кунаком Бахадуром и тем, что сегодня дадим нашему сыну имя. Мы тут с Меседу не только спорили, но успели обсудить и решили…
— Что же вы решили? — не дождался конца паузы инженер.
— …Не отступать от доброго горского обычая: в честь нашего юного кунака назвать первенца Бахадуром. Дерхаб!
Все подняли бокалы. Взволнованный Бахадур на этот раз забыл строгие наставления тренера. Да и чем угрожает один бокал вина, выпитый по такому торжественному поводу? Говорят, в одном ауле отец крепко проучил своего сына кизиловой тростью: не за первую рюмку и не за последнюю, а за все те, что были между, ними: больше десяти раз, говорят, прогулялся кизиловый сук по спине и бокам выпивохи. Синяки сошли, а память осталась. Так что, если кто не попадет к чародею-врачу, можем предложить курс лечения от пагубной страсти к вину у нас — в горах кизил растет повсеместно.
Первый и единственный бокал за всю свою жизнь осушил Бахадур. Он поблагодарил собравшихся, родителей новорожденного, дал клятву быть старшим братом мальчику, который с этой минуты носит его имя, и закончил свой тост добрым даргинским словом, смысл которого составляют самые светлые, самые сердечные пожелания:
— Дерхаб, Бахадур! Дарю тебе имя!
Перевод с даргинского Т. Резвовой
Агаси Айвазян Вывески Тифлиса
Восемнадцать ступенек вело в подвальный кабачок «Симпатия». Спускаться по лестнице было трудно, подниматься еще труднее: только настоящий мужчина, выпив у Бугдана пять-шесть бутылок вина, мог удержаться на ногах и одолеть эти самые восемнадцать ступенек. А если бы на полпути у него подогнулись колени, он уже не рискнул бы снова здесь появиться. Мало того, у Бугдана тяжелая дверь на улицу, и выходящий должен был еще толкнуть и ее, а для этого нужны крепкие руки.
Если ты коротышка, «Симпатия» поднимет тебя на смех, если ты верзила, голова твоя уткнется в низкий потолок. Надо было быть высоким и так незаметно сгибаться, чтобы никто этого не заметил, ибо в «Симпатии» не любили склоненных в поклоне мужчин. Чуть легкомысленным был Тифлис, чуть мудрым, чуть щедрым, чуть печальным… Бог с ним…
Со стен «Симпатии» смотрели Шекспир, Коперник, Раффи, царица Тамар и Пушкин. Нарисовал их Григор. И остальные стены тоже он разукрасил. И все хорошо знали Шекспира, Раффи, Коперника и Григора. И Григор любил всех: хорошие были люди — веселились, кутили, тузили друг друга, грустили, порой плакали, порой песни горланили… Григор словно вобрал в себя всех этих людей — когда разговаривал с Бугданом, как бы сам с собой разговаривал, когда разговаривал с Пичхулой, опять-таки сам с собой разговаривал. И Григор был Григором, и Пичхула был Григором. И все люди для Григора были единым существом. У Григора душа нараспашку, сам до конца раскрывался и у других все выпытывал. Поверял им свои сомнения, рассказывал о слабостях и грешках своих, всю душу выскребывал и — наружу… Когда же ему казалось, что собеседник знает его лучше, чем он думал, Григор втягивал его в себя, чтобы он, этот другой человек, обосновался в нем… Какое-то странное чувство владело Григором: ему казалось, что, если он не откроется, если не обнажит свои слабости, свои сомнения и свою веру, не будет ему жизни. Скрывать свою сущность — боль, радость, порывы, мысли, опасения — значит уничтожать себя и взамен создавать другого человека. Но это уже видимость, а не человек, иллюзия, маска… Самого человека нет. И поэтому у Григора была потребность откровенности — единственное доказательство его существования.
Откровения Григора захватили весь Тифлис: он расписывал вывески на дверях кабачков, на витринах парикмахерских, над духанами…
Над дверью духана Капло Григор нарисовал танцующих кинто и ниже вывел очень свободно и ясно, радостно и просто:
ТАНЦУЮ Я
ТАНЦУЮТ ВСЕ
ХОЧИШ СМАТРИ
ХОЧИШ НЕ.
Григор был уверен, что эти неуклюжие слова, от которых несло вином, одухотворены. Истинная свобода… ХОЧИШ СМАТРИ, НИ ХОЧИШ НИ СМАТРИ… Ва! Это был гимн его свободы… Свобода, братство, верность… Хочиш сматри, хочиш не…
Вывеска над Шайтан-базаром:
БАРЕВ, КАЦО, МАРД ОКМИН[2]
ДОБРИ ЧЕЛАВЕК…
Вывеска в Сирачхане:
БАЛНИЦА
ЧАСТИ ВЕНЕРИЧЕСКИ
ФЕЛШЕР,
НЕ ЗАХОДИ, НЕ НАДО
ПУСКАЙ БЕЗ РАБОТИ
УМРУ Я
ЛЕЧУ ВСЕ БОЛЕЗНИ
ИМЕУ ПИАВКА
Вывеска в Ортачалах:
ГОСТИНИЦА.
НЕ УЕЗЖАЙ ГОЛУБЧИК МОЙ
Вывеска в Авлабаре
ДУША РАЙ
ДВЕРЬ ОТКРИВАЙ
НЕ СТУЧАЙ
Вывеска в Клортахе[3]:
ЗДЕСЬ ЖИО
САПОЖНИК ШИО
ВИНО ПИО
САПОГИ ШИО
Вывеска в Дидубе:
«МОБРДЗАНДИ, ДАБРДЗАНДИ,
ГАЛАМАЗДИ, МИБРДЗАНДИ»,
что в переводе с грузинского означает: «Заходи, сиди, стань красивым, уходи».
И дело было не только в смысле этих слов. Григор был во всем. Вывески Григора стали девизами Тифлиса. Любая замызганная улочка имела свою вывеску, и вывеска эта открывала улицу, освещала ее. Откровенность Григора парила над городом, и каждый оттенок его чувств окрашивал по-своему разные районы и кварталы Тифлиса… Вот так и жил в этом городе Григор…
В «Симпатии» посетителей не было. Пичхула играл на шарманке. Григор рисовал Хачатура Абовяна рядом с Шекспиром, Раффи, Коперником и царицей Тамар, а Бугдан, уткнув свою тяжелую голову в ладони, смотрел на пальцы Пичхулы и на кисть Григора. Бугдан и сам верил, что он добрый человек: Соне, одной из девочек мамаши Калинки, он часто давал выспаться в какой-либо из задних комнат кабачка. Иногда Соня с робкой страстью целовала жирную руку Бугдана, иногда Бугдан ложился с Соней в постель, бывал печален и пьян, звуки шарманки трепетали в его ушах, и он проникался к себе жалостью.
Бугдану захотелось сделать добро Соне, и он решил выдать ее за Григора.
Григору захотелось сделать добро Соне, и он решил взять ее в жены.
И, как только собрались в кабачке кинто, шарманщики, карачохели и дудукисты, зажгли разноцветные свечи, сплясали шалахо и поженили Григора с Соней — одной из девочек заведения мамаши Калинки.
Низкий сводчатый потолок «Симпатии» сгустил, придушил воздух, и густ был красный свет, и густ был цвет вина в красном, и густы были в красном красные газыри архалуков, и черны были в красном черные чухи, и в разрывы этой густоты врывались, подпрыгивая, звуки шарманки, жаждали простора, вносили страсть, стоны и стенания в эту красную густоту. Со стен смотрели Шекспир, Раффи, Коперник, царица Тамар, Хачатур Абовян и Пушкин. Мамаша Калинка вытирала глаза. И шарманка заиграла шаракан[4]. Бугдан улыбался из-под усов и радовался, что он так добр. Перемешались добро и зло, земля и небо. Все слилось воедино, все было единым, все было печально и радостно, и все было правда…
В подвальном кабачке и свадьба была, и пир, и церковь…
Ночью Григор и Соня осталась вдвоем. Григор смотрел на Соню, и ему казалось, что это он сам сидит напротив себя и разговаривает сам с собой. И полюбил Григор Соню. Каждую, ночь он рассказывал Соне о любви, говорил о таких вещах, о которых и сам до сих пор не подозревал… Говорил о том, что знает Соню уже несколько сотен лет, и с ее помощью вспомнил свое начало, своих предков и ту их большую любовь, от которой зародилась, взорвалась, разлетелась в разные стороны и теперь вновь соединилась их любовь. Вспомнил и словно бы увидел тех людей, которых было много и которые размножались…
И он, и Соня оказались воплощением этого множества людей: с их бедами, с их прожитой и вновь возрожденной страстью, воплощением чувств и сумятицы жизни всех этих людей. И Соня стала ему близка, и оба они были одним существом.
Ночи Григора обратились в вывески, ворвались в закоулки и трущобы города. Его безумная любовь взлетела на фасады больниц, на уличные фонари, на стены церквей и мелких лавчонок… Григор открывался напропалую: своей радостью и грустью, своими слабостями, желаниями и нежеланиями, своим величием и ничтожеством… Он выносил свою любовь на обнажённые холодные улицы, под студеный сквозной ветер… И вывески полюбили…
Тифлис был влюблен.
Влюбленный город…
Рядом с Шекспиром, Коперником, Раффи, Пушкиным, царицей Тамар и Хачатуром Абовяном оставалось еще свободное место. Григор решил нарисовать Соню. Где ему было знать, что Соня продолжает захаживать в «Симпатию» Бугдана и с той же робкой страстью целовать его руки.
Григор спустился по ступенькам в «Симпатию», развел краски, подошел к стене и в щель за занавеской увидел Соню с шарманщиком Пичхулой. Поздоровался, поискал глазами знакомых, увидел Бугдана, еле узнал. Бугдан сказал:
— Ничего, ничего…
Потом Григор заметил, что это не Бугдан, немного погодя заметил, что Пичхула — это не Пичхула, и Соня — не Соня, а какая-то другая женщина. Григор протер глаза, снова вгляделся — другие это были люди, не мог он их узнать. Оглянулся — со стены смотрели Шекспир, Раффи, Коперник… посмотрел на сидящего в углу Капло. Капло тут же на глазах как-то изменился и превратился в другого человека и этот другой человек, улыбнулся. Григору показалось, что его тоже не узнают, что он тоже другой… Может, он и не был знаком с этими людьми?.. Смутился Григор, собрал свои краски и пошел к выходу.
Дома выпил водки Григор и стал бить себя по голове.
Всю ночь бродил Григор по улицам Тифлиса и срывал свои вывески. Спустился к Шайтан-базару, поднялся в Авлабар, прошелся по Дидубе и Харпуху… Сорвал все, что сумел, соскоблил надписи со стен, закрасил стекла витрин…
Проснулся Тифлис, и вывесок Григора уже не было. Бугдана это не взволновало: позвал Зазиева, угостил утром хашем с водкой, днем — чанахом с вином, вечером — портулаком опять же с вином и заимел новую вывеску. Потом и его сосед повесил новую вывеску, а Соня вернулась к мамаше Калинке…
Казалось, никто не заметил отсутствия Григора, но мало-помалу Тифлис загрустил, и какая-то серость навалилась на него, словно зевота напала на город, и стал он равнодушен ко всему. Не сразу, но все-таки почувствовали тифлисцы, что в городе чего-то недостает. Разобраться в этом было трудно… Никто не понимал, почему новые вывески — яркие, написанные более опытными руками — не могут заменить вывесок Григора… Никто не мог представить, что откровенность одного слабого человека, честность одного бедного человека могли полонить большой и богатый, щедрый, красивый и жестокий город…
По какому-то странному наитию продолжали собираться тифлисские горемыки под низкие своды кабачка «Симпатия», со стен которого еще долго смотрели наивный Шекспир Григора и наивный Раффи, наивная царица Тамар и наивный Коперник, наивный Хачатур Абовян и наивный Пушкин… и кусок белой стены, на котором Григор не успел нарисовать Соню. Долгое время оставались на стене кабачка эти портреты. Потом и эту стену закрасили…
Много позже, когда догадались, чего недостает городу, начали искать вывески Григора…
И по сей день, заприметив в комиссионном магазине или в лавке старьевщика, на базаре старый рисунок — будь то на искромсанной тряпице, на куске фанеры или жести, — люди с жадностью набрасываются на него, осторожно берут в руки в надежде обрести откровение…
Перевод с армянского Л. Бояджана
Эрлом Ахвледиани Когда мы будем рыбами
Вон то — камень. Я тоже камень. Между нами вклинилась земля и пыль, как остановившееся мгновение нашей разлуки.
Сейчас тихая городская ночь. Завтра встанет солнце и погаснет одиноко дремлющий фонарь на столбе. Наступит полдень, и солнечные лучи беспощадно высосут из земли последнюю влагу, земля высохнет, потрескается.
Потом пойдет дождь, омоет нас, размягчит землю — и в нас шевельнется окаменевшая надежда: может быть, мы коснемся друг друга…
Но ветер разгонит тучу, выглянет солнце, уставится в землю, вновь станет пыльной улица и неподвижное мгновение между нами снова заполнится.
Все неизменно для нас. Для нас все из камня: из камня наша радость и наша разлука, и близость наша тоже из камня; из камня мысли наши, и мечта, и глаза наши; окаменело наше небо и наши звезды; и горечь наша из камня и камень наш бог…
Сейчас тихая городская ночь. Тот камень, видно, спит… Может быть, это я сплю, а не тот камень? Но что есть сон камня? Или что есть его пробуждение?
И сон наш — камень, и пробуждение наше из камня…
Я не сплю. Я лишь вспоминаю прошлое и мечтаю о будущем. Это, наверно, потому, что у меня нет настоящего. Для камня не существует настоящего. У камня есть только то, что было, и то, что будет. И захоти я даже найти свое настоящее, я не увижу его между моим прошлым и будущим — у камня настоящее раньше прошлого и позже будущего.
Я только вспоминаю…
Мое прошлое кажется мне порой моим же предком, так много у меня воспоминаний. О, с какой великой радостью променял бы я свое необъятное прошлое на сегодняшний день хотя бы одной крохотной рыбки… И теперь я терпеливо жду завершения своего будущего, после чего должна начаться моя жизнь.
Изначальным моим прошлым была холодная, твердая скала. Я был замурован в эту скалу. Я не знал, где начало мое и где конец. Долго так было. Потом шли дожди, омывали скалу, всходило солнце, тускнела луна, был холод, была жара, снова лил дождь, рассветало, смеркалось, возвращались в небо секунды, минуты, годы, века…
Скала полопалась, покрылась паутиной трещинок-морщинок. Появились расселины. Расселины углубились, почернели, набились землей и пылью. В земле пустили корни деревья… А в нас не пустили корней, жизнь зародилась вне нас.
Потом опять шел дождь, обмывая нас, всходило солнце, садилась луна, был снег, холод, была жара…
Скала обрушилась.
Дно Техури, где я очутился, это самое счастливое мое прошлое. Тогда я был мокрым, как рыба. Надо мной в водяном небе плавали чудесные рыбки. Всходило солнце, и я уже забыл, что солнце одно — тысячекратно преломлялось его отражение, прежде чем достигнуть дна.
Долго лизала меня благословенная Техури. Постепенно стерлись мои угловатые бока и я сделался скользким, как рыба.
Опять где-то совсем рядом была жизнь, и опять я был камнем.
Какое было время!
Много плавало рыб в водяном небе надо мной. Но все они запомнились мне как две рыбки. Одна была резвой и гибкой. Вторая — степенной и чуть побольше первой. Они всегда были вместе. Иногда рыбки прятались в зеленых тенях синей воды. Потом снова появлялись. Только чуть другими были теперь их движения — исполненные какой-то непонятной мне тайны. Именно тогда я почувствовал необычную тоску: они были живые, эти рыбы, а я нет. Рыбы плавали надо мной, только я валялся на дне реки, как чье-то несбыточное и забытое желание.
Именно там, в Техури, родилась моя мечта — быть живым. Но тогда я не знал, зачем мне нужна жизнь. Сейчас знаю…
Печально закончилась история с рыбами. Степенная зацепилась за крючок, и потащили ее вверх.
Бедняга…
Но еще несчастнее тот, кому не дано даже быть рыбкой, трепыхающейся на крючке.
Беспомощная маленькая рыбка носилась вокруг обреченного друга, старалась спасти его, не спасла. Оставшись одна, она все кружила на том же месте, надеясь, что вернется ее друг. Но я-то знаю: всякий, кто однажды покинет наш подводный мир, — не возвратится никогда.
Долго лежала на моей груди опечаленная маленькая рыбка. Потом она уплыла и навсегда покинула наши края.
Так закончилась эта история. До сих пор у меня перед глазами их игры и ласки. Тогда ведь и запала в мое каменное сердце та самая мечта.
И настал еще один день в моем прошлом.
Пребывал я спокойно на дне реки и вдруг заметил над собой тень. Тень медленно приближалась и наконец превратилась в человеческое тело. Совсем близко я увидел человеческую руку… Она шарила по дну, и я попался ей на пути.
О как трудно, оказывается, когда нарушают твой покой — будь то к счастью, будь то к беде.
На берегу стояли голые мальчишки…
— Достал, выиграл пари! — кричали они.
Выиграл пари — достал меня со дна Техури. За какие-то минуты высохла на мне вода, потому что наверху было солнце. За какие-то секунды исчезло мое самое прекрасное прошлое.
Шел дождь, омывал меня, всходило солнце, стояла жара, и я укрывался в собственной тени, тускнела луна, перекатывался день по моей груди, день сменялся ночью, светили звезды, падал снег, облетала листва с деревьев, и за секундой текла секунда, дни цеплялись за дни, один год тащил за собой другой, один век передавал меня другому.
Все было отчетливым вокруг. Солнце вновь стало одно. Небо было сухим, и высоко надо мной летали птицы. Поблизости извивался прозрачный ручеек. Крестьяне любили стоять на деревянном мосту и глядеть в Техури.
Иногда Техури разливалась, лизала меня, ласкала, напоминала о своем тепле.
Из этого прошлого я вспоминаю юношу, который приходил каждый вечер и садился на берегу Техури. Он напевал тихую песенку и возвращал камешки Техури. Лишь совершенно случайно я не вернулся на дно.
Шел дождь, омывал меня, всходило солнце, тускнела луна, мерцали звезды, падал снег, облетала листва с деревьев, небо наполнялось веками…
Вечерами на берег Техури выходила девочка мингрелка, садилась у реки и пела ту же песню, что некогда тихо напевал юноша. Девочка пела и бросала камешки в Техури. И мне досталось тепло ее руки, только я оказался слишком тяжел для нее и не смог вернуться в свою влажную обитель.
И настало мое последнее прошлое. Кто-то у кого-то в шутку вытащил тайком еду из дорожной сумки. А вместо нее сунул в эту сумку меня.
До города лежал я во мраке. Затем распахнулось окно и меня выбросили на улицу. Здесь был подъем…
Небо еще больше отдалилось от меня — по обе стороны подъема стояли дома. Надвигалась ночь, и уже зажглись уличные фонари. Светились изнутри окна. Из открытых окон доносились песни.
Шел дождь, омывал меня, вокруг была грязь, я увязал в ней, уходил в землю, иногда колесо тяжелой машины прокатывалось по мне, листва облетала с деревьев, всходило солнце, заглядывало и на нашу улицу, тускнела луна, озаряли улицу фонари.
На подъеме это и произошло. Тут я почувствовал всю сладость моей мечты. Понял, отчего так жаждал исполнения своего заветного желания.
Тут я встретился с тем камнем.
Произошло это так.
Подъем не был вымощен. Приехала груженная булыжником тяжелая машина. Я уже был здесь. Оказывается, был здесь и тот камень, только в этой непролазной грязи мы не видели друг друга. Пришли рабочие и принялись мостить нами улицу. Тот камень был совсем маленький, и рабочий хотел выбросить его, но поленился. Мы очутились рядом, я и тот камень, только земля и пыль вклинились между нами, как неподвижное, безжалостное мгновение разлуки.
С тех пор мы так и лежим. С тех пор мы все хотим приблизиться друг к другу. Нам кажется, если мы коснемся друг друга, случится необыкновенное. Может быть, тогда вдруг и обнаружится, что мы не камни, и мы затрепещем, как рыбы!
Но нет…
Мы камни. Из камня все, что внутри нас. Из камня и радость наша, и разлука, и наша близость тоже из камня. Камень — глаза наши и наша мечта; окаменело наше небо и наша любовь, и сами мы — камни.
Камень наш бог…
Из камня эта наша беседа:
— Я камень.
— Я тоже камень.
— Между нами застывшим мгновением вклинились земля и пыль.
— Льет дождь, омывает нас, смягчает нашу разлуку, сделавшуюся землей.
— Восходит солнце.
— Садится луна…
— Секунды превращаются в минуты.
— Минуты наполняют дни.
— Дни наполняют годы.
— Века наполнят вечность.
— Тогда мы исчезнем.
— Потом мы вернемся.
— Когда мы вернемся…
— Тогда мы будем рыбами.
— Когда мы будем рыбами…
— Ты будешь мамой, я — отцом;
— Ты будешь отцом, я — мамой.
— Когда вернемся…
— Когда мы будем рыбами…
Идет дождь, омывает нас, восходит солнце, тускнеет луна, сияют звезды.
Перевод с грузинского А. Абуашвили
Мар Байджиев Улыбка
В маленьком, занесенном снегом аиле, укрывшемся в одной из расщелин Тянь-Шаня, в сером глиняном домике под серой глиняной крышей умирала старая женщина. Умирала она давно. Так давно, что и сама не помнила, когда начала умирать. Может, с того дня, как родила первого ребенка, может, с той ночи, когда стала женщиной, а может, еще раньше… Иногда ей казалось, что она давно уже умерла и лежит в большом светлом помещении; из окон струится свет, на стенах играют солнечные блики; а за окнами шепчутся тополя.
В ее сознании путались прошлое и настоящее, осень и весна, день и ночь. Она лежала с закрытыми глазами и открывала их только тогда, когда далекий голос звал выпить чаю.
Старуха приподнимала голову и высохшими, как саксаул, руками брала пиалу с горячим чаем (ладони не ощущали ни жары, ни холода), пила, смотрела перед собой не мигая и почти не видела девочку, которая бросала ей в пиалу кусочки хлебного мякиша.
Больная пила чай и не замечала, что там хлеб, потом она протягивала вперед жилистую руку. Девочка подставляла голову, старуха шершавой ладонью гладила ее волосы.
— Сама-то пила? — спрашивала старуха.
— Пила, — отвечала девочка.
— Отец приходил? — спрашивала старуха.
— Приходил…
— Что принес?
— Мясо и сладкие пряники.
— И опять в горы ушел?
— Ушел. Сказал, отару спустит вниз, комиссия будет пересчитывать.
— А чего пересчитывать? Волков не было, джута[5] не было…
Можно было не отвечать — бабушка говорила сама с собой.
— А мать твоя?
На этот вопрос надо было отвечать, но девочка молчала.
— А мать что, спрашиваю?
— В городе…
— В городе. А ты написала, что она стерва?
— Нет…
— Напиши! Даже волчица не бросает своих красноглазых волчат… А мать твоя стерва. Красивой жизни захотела. Знала бы, что в утробе моей росла змея, сама бы себе брюхо вспорола…
Теперь опять можно было не отвечать. Девочка убирала пиалу, чайник, хлеб и прятала в шкаф.
— В город захотела. Посмотрим, как она проживет в своем городе. Там даже за воду деньги надо платить… Э-эх, несчастная! А когда я умру, с кем останешься? — вдруг спрашивала старуха.
— С отцом…
— С отцом… Будешь ходить по горам, пасти овец?
— Буду…
— Будешь? Ноги будут в цыпках и кривые, как клещи, замуж не возьмут, — предупреждала старуха.
— А я не пойду замуж.
— По-ойдешь! Все живые живут парами. Детей рожают… Да и отец твой пока терпит, потому что переживает. Привыкнет — возьмет себе другую жену. Она будет бить тебя. И никто не заступится. Меня-то не будет. Э-эх, бедняга! В какой черный день ты родилась…
Девочка вышла из дома, принесла охапку дров, кизяк и бросила у печки.
— Дом хочешь спалить? — повернулась бабушка на звук.
— Буран будет?..
— Откуда ты знаешь?
— По телевизору сказали?..
— Кто сказал?
— Красивая тетя сказала…
— Красивая тетя! Все красивые тети обманщицы. Чужих мужиков любят. Ты тоже, пока маленькая, — хорошая, вырастешь — будешь обманывать…
— Не буду.
— Бу-удешь. Все девочки хорошие, откуда берутся плохие женщины?
Сегодня бабушка говорила больше обычного, значит, чувствовала себя лучше.
Девочка подошла к старухе, укутала ее теплым платком.
— Ты что кутаешь меня? Не пойду я на улицу! — обиделась бабушка, как будто была способна выйти из дома.
— Двери открою. А то печка не тянет, дым…
— Простужусь — может, умру пораньше…
Однако, когда девочка распахнула дверь, старуха с головой укрылась одеялом и затихла. С улицы ворвался студеный ветер, закружил по комнате, заставив дрожать тряпье, вытеснил острый запах кизячного дыма. Старуха чуть приоткрыла одеяло и высунула голову так, чтобы можно было дышать. Свежий морозный воздух пощекотал ноздри, пробрался в грудь, отчего у нее приятно закружилась голова и навернулись слезы. Старуха погрузилась в полудрему…
А девочка опять вспомнила о ящике, спрятанном в сарае. Неделю назад, когда точно так же она распахнула дверь, чтобы проветрить комнату, и бабушка уснула, к дому подъехал всадник. Это был почтальон Батырбек.
— Эй, большая девочка! — позвал он (так обращаются к девочкам-подросткам). — Что же посылку не забираешь? От матери, наверно, — сообщил он.
— Бабушка не разрешает! — ответила девочка.
— Нельзя быть такой жестокой. Все же мать она тебе родная, не посылать же назад. — Батырбек вручил ящик и отъехал.
Девочка отнесла ящик в сарай. Посылка действительно была от матери. Но бабушка приказала ничего от нее не принимать.
И вот этот ящик уже целую неделю лежал спрятанный в сарае…
Девочка закрыла дверь, взяла большой нож и начала строгать лучину для растопки, а сама все думала о посылке. Что там? Конечно, что-нибудь сладкое и, может быть, красивое платье или кожаные ботинки, такие же красивые, как у Закен: подошва гладкая, коричневая, а у самого каблука выдавлена цифра 30. А может, там что-нибудь такое, о чем она и не подозревает… Но сколько надо ждать, пока умрет бабушка? А когда она умрет, набегут со всех сторон родственники, начнут плакать, голосить, хозяйничать в доме, резать баранов, развешивать в сарае красное мясо и обязательно обнаружат посылку.
Может, мама тоже приедет, хотя бабушка запретила ей приезжать на похороны. Мать тогда прижалась лицом к ногам бабушки и твердила одно: «Прости меня… прости меня… прости меня…» Бабушка подняла свою сухую руку и сказала: «Жогол» — «Уходи».
А мать, словно только этого и ждала, схватила маленького сына, прижала к груди и выбежала, забыв большой платок, в который были завернуты ее вещи и одежда мальчика. Девочка схватила узел, выбежала вслед за матерью, но мать уже села в машину с черными клеточками по бокам, хлопнула дверцей. Девочка бросилась за ней, но машина обогнула дом и исчезла. Девочка в отчаянии забегала вокруг дома. Не могла же мама, родная мама, бросить ее и уехать! А потом увидела завесу пыли далеко от аила. Машина, блестя лакированной спиной, увозила маму. Девочка упала и зарыдала, обняв землю. Аильчане, высыпавшие смотреть, как Сонун уезжает в город, окружили девочку и молчали: пусть наплачется — легче станет. А потом подняли на руки, понесли в дом и наперебой бранили мать, которая ради красивой жизни бросила родное дитя…
Отец вернулся поздно ночью, когда аил спал. Он молча гладил большой неуклюжей ладонью голову дочери и долго смотрел на огонь… Бабушка лежала на кровати и кашляла. Казалось, что кашляет она потому, что ей стыдно перед зятем. «Что я могла сделать? Я же очень старая и очень больная», — говорил ее кашель. А девочке почему-то было хорошо в этот вечер — отец никогда раньше не ласкал ее, редко с ней разговаривал, а сейчас она чувствовала, что у него нет никого ближе и дороже, чем она. Приятно было ощущать, что вся нежность сильного человека обращена к ней одной.
…Девочка разожгла печку. Почти в тот же миг зашумел чайник, который начал было остывать. И тут ей пришла в голову хитрая мысль. А что, если открыть ящик, посмотреть и снова закрыть?! Бабушка спала и шевелила губами, наверное, и во сне ругала свою непутевую дочь. Девочка тихонько вышла в сарай, вытащила ящик и осторожно его открыла. Сверху в конверте лежало письмо, адресованное ей. Девочка некоторое время раздумывала и все же вскрыла конверт: «Доченька! Из глаз моих каплет кровь, когда я думаю о тебе. Может, тебе внушают, что я бросила тебя ради городской жизни, а может, говорят, что я бросила твоего отца, потому что он не окончил института? Это не так, моя малышка. Я хотела забрать и тебя вместе с маленьким Таалайбеком, но пожалела твоего отца. Он бы умер от тоски и одиночества. Он очень хороший человек и не заслуживает того, чтобы отнимать у него все. Таалайбеку нужна материнская грудь, а ты уже большая и сможешь жить с отцом и бабушкой. Да и бабушку я не смогла бы оставить одну. А отец твой для нее теперь чужой человек… Сейчас ты еще маленькая, а когда станешь большой, поймешь, что жизнь человека, которая кажется очень длинной, на самом деле очень коротка. Жизнь — это не весь отрезок времени, заключенный между рождением и смертью! Это, может быть, всего один час, минута, когда ты вдруг почувствуешь себя птицей, захочешь бросить все и улететь очертя голову на край света. Вот этот миг и есть кусочек настоящей жизни, ради которого стоит жить. И если у тебя никогда не будет такого мгновения, или ты сама струсишь и упустишь его, не послушав своего сердца, — можешь считать, что не жила на свете, потому что вся остальная жизнь человека есть его медленное умирание. Бабушка твоя — моя родная мать — никогда не могла понять этого и не поймет. Она всю жизнь работала в поте лица. Жизнь для нее была борьбой за кусок хлеба. Она никогда не могла забыть о своих заботах, не могла от души посмеяться со своими друзьями, с мужем, не могла забыть о том, что после этого придется тащить на спине мешок с кизяком, топить печь, кормить детей, ругаться с подвыпившим мужем. Всю жизнь она экономила каждую горсть зерна, каждый рубль и всю жизнь бедствовала. Мечтала иметь дюжину белых простыней и никогда не имела больше трех. Пока она покупала четвертую, первая изнашивалась. А купить сразу двенадцать не решалась — боялась, что завтра не останется денег на хлеб…»
Письмо было очень длинное — на нескольких тетрадных страницах. Мать сообщала о том, что живет пока у чужих людей, так как еще не получила квартиру, что работает она на фабрике, где делают конфеты. Девочка прочла все, хотя не все поняла. Мать умела писать. У нее была толстая тетрадь в блестящей гладкой обложке, где она чернилами рисовала цветы и сочиняла песни. Девочка не однажды открывала эту тетрадь. И хотя каждое слово там ей было понятно, все они, вместе взятые, хранили какую-то тайну. Так было и с письмом. Как будто все понятно, и в то же время не все. Ясно было одно: поступок матери — не каприз и не глупость. Тут был какой-то очень сложный смысл. Хотя бы потому, что мать не оправдывалась перед дочерью, она стремилась объяснить нечто такое, чего, очевидно, не понимали ни бабушка, ни отец, ни аильчане. Хотя, может быть, отец все понимал, да не мог ничего поделать.
Ясно было и то, что мать поступила так, как поступают очень редко и только по особым причинам.
Мать писала, словно была очень довольна своей жизнью, но девочка почувствовала, что не так-то уж ей сладко, хотя она и работает на конфетной фабрике.
Девочка аккуратно сложила письмо, спрятала за пазуху. В ящике были конфеты, теплые чулки и трикотажное белье. Отдельным свертком лежали белые полотняные простыни. Мать писала: «Купила тебе красную шапочку, но ее пошлю после, увидит бабушка — бросит в печку, а рубашку и чулки носи так, чтобы она не заметила. Будут деньги — куплю тебе шубку беленькую с черными крапинками. Говорят, это такой материал, который можно стирать. Четыре простыни — для бабушки, скажи, что нашла в старом сундуке…» Мать не знала, что бабушка почти перестала видеть.
Девочка вспомнила, что бабушкины простыни пожелтели от времени и стирки, и решила их заменить, пока та спит. Она вернулась в дом, на цыпочках подошла к старухе, осторожно сняла с нее ватное одеяло и старую простыню. Бабушка что-то пробормотала, свернулась в калачик и стала похожей на маленькую замерзшую собачку. Почуяв запах свежей простыни, она открыла глаза, начала щупать ее пальцами.
— Эй! — позвала бабушка.
Девочка не ответила.
— Эй! Я знаю, что ты здесь! Где взяла простыню?
— В старом сундуке, — ответила девочка.
— В старом сундуке… Я же для себя берегла.
— Вот и постелила вам…
— Убери! В могилу мою постелили! — отрезала бабушка.
У девочки расширились глаза. Бабушка была похожа на старую ворону: лицо заострилось, жидкие седые волосы были распущены.
— Чего стоишь, как полено? Положи в сундук. Зачем разрезала белую материю?
— Ничего я не резала…
Чем больше бабушка раздражалась, тем больше становилась похожей на старую ворону.
— Десять метров было… Пятнадцать лет хранила… Хоть на том свете посплю в чистом белье…
Девочка вспомнила, что в старом сундуке хранился рулон белой материи. Мать говорила, что это бабушкино приданое. Только теперь она поняла ее назначение: это приданое не к свадьбе, а к похоронам. Девочка открыла сундук и принесла рулон, тщательно завернутый в марлю и перевязанный тесемкой. Старуха пощупала рулон, удостоверилась, что «приданое» в сохранности, и успокоилась.
— Так бы и сказала. А то: не резала. Туповатая, видать, будешь женщина. — Старухе было неловко, что зря ругалась, но признаться в этом она не хотела. — Опять стоишь, как полено. Отнеси на место! Насмотришься, когда помру, будут заворачивать меня…
Казалось, старуха была обижена на всех за то, что много прожила, состарилась и теперь должна умереть.
Девочка положила сверток в сундук. Теперь можно было не слушать бабушку, заниматься своими делами и обсасывать конфету, которую все еще держала за щекой. Она достала из сумки тетрадь в клеточку, учебник по арифметике и начала решать примеры на умножение.
— А что она еще сказала?.. — вдруг спросила старуха.
Девочка вздрогнула — неужели узнала о письме? Бабушка сидела, свесив ноги с кровати, и теперь была похожа на старую колдунью, которая угадывает мысли и предрекает судьбу. Она смотрела в ее сторону, поджав бескровные губы, и ждала ответа.
— Сказала, будет буран, и все?
У девочки отлегло от сердца — бабушка спрашивала о дикторше телевидения.
— Она сказала: «Будет снег, и будет холодно».
— Бога нет, бога нет! — брезгливо сказала старуха, словно кого-то передразнивала. — А сами погоду предсказывают.
— А погоду не у бога узнают.
— Не у бога?.. А кто им говорит? Твой покойный дед погоду угадывал по звездам… Пока не пил. А как запил, ничего не мог угадать.
Теперь бабушка была похожа на обыкновенную старуху. Когда она начинала говорить о своем покойном муже, становилась обыкновенной старухой.
— Никакого бурана не будет! Врет она! Все врут…
Разговор снова перешел в ворчанье. Бабушка опять стала похожа на старую ворону, и девочка вновь принялась за уроки.
— Красивая. Прическа высокая! (Это о дикторше.) А красивые бабы — дуры все… Вон мать твоя… У, чтоб ей!.. Тоже красивая была. А теперь небось высохла в щепку, в городе-то. Там даже за огонь надо деньги платить, — ворчала старая ворона.
Девочка решала примеры на умножение. В трубе гудел ветер. Погода готовилась к чему-то важному и набирала силу. Старуха слушала вой ветра и видела силуэт девочки.
«…Сидит себе и пишет. Точь-в-точь, как мать. Та тоже любила сидеть за этим столом, поджав под себя ноги. Сидит себе и не знает, что завтра будет оплакивать меня. А попробуй сейчас сказать ей что-нибудь. Будет слушать и ухмыляться: «Поговори, мол, старая, поговори. А я знаю, что все это не так». Это книжки выворачивают им мозги…»
…Буран приближался. А зятя все не было. Не застанет ли его пурга в пути? Ему бы она рассказала все. Он бы понял. Сегодня ночью старуха видела сон. Снилось ей, будто лежат они с мужем в широкой степи на огромном стоге сена. Молодые, красивые. Он положил руку свою на ее грудь, обнимает упругое тело, пахнущее свежескошенным лугом. Ее черные длинные волосы разбросаны по плечам. И ей нисколько не стыдно своей наготы, не ежится она под его взглядом. А над головой небо. Оно синее-синее, высокое-высокое. Вот на горизонте показались две беленькие звездочки. Это бегут два сына — близнецы Асан и Усен. (Они погибли под Сталинградом.) Они совсем маленькие. Они бегут, держа за утолки белую простыню, накрывают родителей и убегают. Сверкают детские ягодицы и пятки, зеленые от свежей травы. А они с мужем, обнявшись, летят в синее-синее небо мимо облаков. А там, внизу, на земле, поют женщины, поют громко и слаженно… Старуха проснулась, долго лежала, смотрела на потолок, хотя ничего не видела. Она поняла, что часы ее сочтены. Пыталась вспомнить взрослые лица Асана и Усена и не смогла вспомнить. Забыла. За свой долгий век она видела столько смертей, порою самых неожиданных, что давно привыкла к мысли о смерти как к чему-то обязательному и неизбежному, что может прийти в любое время и, подобно нищему, постучать в любую дверь. Смерть казалась ей вечной тишиной, умиротворением, избавлением от земной суеты. Солнечные блики не будут раздражать глаза. Человеческий плен не будет отягощать душу и тянуть в омут.
Старуха слышала, как ветер треплет калитку, как гуляет по крыше, поднимая снежную пыль. Буран начинался. А зятя все не было. Неужели она так и унесет с собой все свои думы, и никто никогда не узнает о них? А сказать ей было что. Сколько накипело на душе за три четверти века. Она хотела сказать, что бог, который создал человека, большой дурак: бездушная земля и камни вечны, а человек начинает умирать с самого начала своей жизни — каждое движение его тела, мысли, души направлено на то, чтобы не умереть, но он умирает; жизнь человека бесконечно длинна и безотрадна. А разве нет? Была девочкой, мечтала встретить хорошего человека, выйти замуж, встретила, вышла, вскоре услышала, что он ходит к толстой тетке, которая никогда не знала, что такое белые простыни… Мечтала родить сына, родила двух, вырастила — обоих унесла война… Мечтала иметь дочь, родилась красивая девочка, выросла, вышла замуж, на неделю съездила к тетке во Фрунзе, вернулась, забрала маленького сына, оставила мужа, дочь, больную мать, уехала в город — разбила семью. То ли спятила баба, то ли напилась какого-то зелья… А что было еще? Был муж. Он умер (старики часто умирают раньше). Пил. Напился, узнав о гибели сыновей, и до последних своих дней не переставал пить. Болел, клялся, что больше капли в рот не возьмет, а через неделю все повторялось. Да и умер, видимо, от водки. Утром уехал на сенокос. Вечером привезли труп. Говорят, кровь ударила в голову. Господи! Что находят люди в этом диком напитке?! Неужели эта горькая жидкость приятнее детской ласки, теплее женского тела? А почему люди тянутся к ней? Сама она никогда не пробовала хмельного. Суеверие? Страх? Нет. Женщина пить не должна, и все. В годы войны, когда муж ушел в трудовую армию, солдатки и вдовы готовили бузу, звали ее в компанию, пили, ели, а потом плакали. Иные, чего греха таить, встречались с чужими мужчинами и даже с подростками — утоляли свою бабью тоску. Но она, хоть и бывала в этих компаниях, держалась строго — женщина должна знать только мужа. Мужа она боялась и уважала. Когда пришло известие о гибели сыновей, муж рыдал в голос, как девчонка. Стал нелюдим. Однажды налил водки и протянул жене: «Выпей, легче станет». Женщина поднесла пиалу к губам — может, действительно легче станет? В нос ударил острый неприятный запах. Она поставила водку на стол. Это был первый случай, когда она не подчинилась его воле. Он выпил всю водку сам и помотал головой.
— Горькая? — спросила она.
— Горькая, — ответил он.
— А кто заставляет пить? — спросила она.
— Гитлер, — ответил он, встал и ушел.
После этого она не задавала подобных вопросов. И теперь, на смертном одре, старуха почему-то вспомнила об этом разговоре. Почему он так сказал тогда? Неужели эта горькая жидкость может заглушить горе? После войны начали пить даже верующие старики. Пустили слух, что пиво — не алкоголь, значит, его употребление грехом не считается. Пили пиво допьяна. Пили все, а она не попробовала.
При этих воспоминаниях старая женщина почувствовала, как пересохло в горле — мучила жажда. Жажда мучила ее давно, несколько лет.
Как-то муж послал ее за пивом. Она купила полный бидон, и, когда несла его через поле, оно плескалось и выливалось через край. А он отбросил в сторону кетмень, широко расставил ноги и жадно пил. Пиво текло у него по усам и падало на сухую землю. Она, щурясь от солнца, смотрела на него и видела, как ходит его кадык… Больная проглотила слюну, ей показалось, что сейчас глоточек такой жидкости мог бы утолить жажду раз и навсегда… После смерти мужа она не однажды хотела испробовать пива, да так и не решилась — стеснялась дочери, зятя, соседей… А сейчас все это было безразлично. Все равно в мире нет ничего святого. Даже самого бога костерят, и никто за это не наказан. Все равно твое тело, мысли, совесть, стыд, страх, любовь — все твое существо превратится в прах… Дышать становилось труднее. Во рту, в горле, в груди становилось горячо. Очень хотелось пить. Попросить чаю? Нет. Это не то. Глоточек, один бы глоточек пива, и все — кончилась бы жажда!..
Старуха подняла сухую, как саксаул, руку (так она просила пить). Девочка встала, налила чаю. Бабушка помахала рукой. Девочка отставила пиалу, выдвинула из-под кровати тазик. Старуха покачала рукой.
— Ну что? — спросила девочка.
— Пива…
У девочки расширились глаза — бабушка бредила.
— Деньги там… в кошельке, — сказала старуха.
Нет. Бабушка не бредила. Она выглядела как обычно.
— Зачем вам пиво?
— Пить.
— Пить?
— Иди, принеси.
Девочке пришлось набросить шубу и идти к продавщице. Когда вернулась с двумя бутылками пива, бабушка лежала с закрытыми глазами.
— Есть? — спросила она, не открывая глаз.
— Есть.
— А продавщица что?
— Я сказала — для отца…
— Умница. Подогрей…
Девочка поставила холодные бутылки к печке, села за круглый столик и принялась за уроки. Бутылки же вспотели, по их стенкам, как слезы, покатились струйки, рисуя на полу мокрые круги. А девочка, видимо, забыла о них. Она решала примеры: шестью восемь — сорок восемь, плюс семнадцать…
— Подогрела? — спросила старуха. Она сидела на кровати и опять была похожа на старую ворону.
— А?
— Если бутылки сухие, значит, согрелись…
Девочка осмотрела бутылки — струйки-слезы высохли.
— Ну что ты возишься?
— Открыть не могу.
— Дед твой зубами открывал…
Девочка попробовала — не вышло. Она долго возилась с железной пробкой, наконец, открыла ножом, налила в пиалу.
Старуха вытянула губы, словно пила горячий чай, осторожно сделала маленький глоток — пиво показалось невкусным, подержала в руках, а потом закрыла глаза и выпила все до дна. Вернула пустую пиалу и откинулась на подушку. Она смотрела так, словно только теперь совершила то, к чему готовилась всю жизнь, чтобы отомстить за все свои муки.
— Налей еще.
Девочка налила еще полпиалы и поставила перед ней.
— Чего смотришь, иди спи!
Девочка собрала тетради, юркнула в постель и тут же уснула.
Старуха ощущала такое облегчение, как будто никогда не болела, а просто прилегла отдохнуть после тяжелой работы, будто она вовсе не старуха, а такая же молодая и красивая, как полвека назад…
Во рту все еще держался горьковатый привкус. А по всему телу расползалась сонная теплота.
Качалась и скрипела калитка. Выл ветер. Там была ночь и пурга…
Старуха отпила еще два глотка. Она уже не чувствовала прежнего тепла, но руки и ноги словно налились молодой силой. Казалось, что сейчас она может уйти в степь и бродить там до восхода утренней звезды — Чолпон; пойти туда, где шумит река, где цветут пахучие желтые цветы, где ходили они с будущим ее мужем, обнявшись, и лошадь покорно шла за ними; там целовались они, и лошадь трогала их плечи теплыми замшелыми губами, трогала ее руки, в которых были цветы. Потом они шли дальше, вдоль берега, и лошадь брела за ними, блестя выпуклыми глазами, шумно щипала прибрежную сочную траву… Возвращались к утру, и никто не знал об этих ночах. А ночи были сказочные. Почему она не вспомнила об этих ночах прежде? Может, жизнь, которой она жила каждый день, была настолько не похожа на ту сказку, что не хотелось сравнивать, иначе уж лучше броситься со скалы. А он? Разве он был плохим мужем или плохим отцом? Пил? Не он первый, не он последний. Пил с горя. Значит, не пить не мог. Обижал? Ну и что? Будешь есть один мед — затошнит. А там, у реки, сейчас хорошо. Шумят сосны. Цветут пахучие желтые цветы. Они кланяются человеку в ноги. Солнце сияет. А большая раздвоенная сосна, на которой можно сидеть долго-долго, смотреть на бурлящий под тобой поток и ни о чем не думать… Остались ли на ней зарубки, которые он тогда сделал перочинным ножом? На второй день там заблестела янтарная смола. Он сказал, что сосна плачет от боли. Прилепили к ране сосны подорожник и перевязали. Раны? Они заживают…
Старуха осторожно встала с постели. Ноги дрожали от слабости и непривычки — два года не поднималась. Она нащупала свою одежду, повязалась платком, оделась, осторожно открыла дверь и шагнула в темноту…
На краю села у конторы качался фонарь. Пурга замела дорогу. Дома стояли, укутанные в белые снежные простыни. Где-то скулила озябшая собака.
Старуха шла по цветущему клеверу. Жужжали медовые пчелы. Дочка любила высасывать сладкий нектар из розовых пестиков трехлистного клевера, росшего по обочинам дороги, по которой должен был возвратиться он. Они ждали и искали стебелек с четырьмя лепестками — загадывали, скоро ли он приедет. Завидев далекий силуэт отца, дочка бежала навстречу и кричала: «Это я нашла счастливый клевер. Я!» Он брал дочку на седло. По скуластому, чуть тронутому оспой лицу скользила смущенная улыбка, и он слегка трогал жену камчой: «Ну как?» — «Ничего…» — отвечала она, брала поводок, вела коня к дому, отвязывала курждун. Там уж обязательно было что-нибудь для нее: яркое платье или красивая косынка, словом, что-нибудь очень яркое. Так он выражал свою любовь. Он целовал дочку, а мать ощущала его поцелуй на своей щеке. Дочка! Как она там, бедняжка! В городе-то за все деньги надо платить. А она плохая хозяйка. Может отдать последнее, а сама будет сидеть голодная. Сладко ли ей живется? Небось приходят к ней подвыпившие мужики, пристают. Своего-то нет.
…Пчелы жужжали. Пахло цветущим клевером. Там, на краю села, сияло и раскачивалось солнце. Клевер был такой густой и высокий, что с трудом давался каждый шаг… Бросила?! Может, в книгах написано, чтобы так поступали. Зять? Он еще молод. Он еще найдет свое счастье… Солнце било в глаза. Она шла к тому месту, где горная река, словно набухшие вены на человеческой руке, разветвлялась по широкой долине и поила жаждущую землю. Там стояла большая раздвоенная сосна, на стволе которой были две зарубки, сделанные полвека назад влюбленным юношей. Старуха прошла мимо солнца. Солнце, раскачиваясь, осталось за спиной. Руки, лицо, шея горели, ломило в пояснице, словно весь день она пробыла на сенокосе с непокрытой головой. Женщина решила отдохнуть и опустилась на землю. Пчелы жужжали. Клонило ко сну. Она легла на спину и раскинула руки. По небу плыли облака. Небо было синее-синее, облака — белые. Облака спускались все ниже и ниже, делились на мелкие кусочки, превращались в белые листовки и летели на землю. Точь-в-точь как много лет назад в день Победы, когда над аилом пронесся самолет и осыпал землю листовками. Детишки бегали по степи и ловили их. Листовки покрыли землю белым ковром. Женщина слышала топот сапог. Два сына — Асан и Усен — в солдатской форме шли в ногу. Они держали за уголки большую листовку, которая превратилась в белую простыню. Сыновья накрыли ее и пошли дальше. «Спасибо, дети мои!» За ними шли еще два солдата и тоже несли простыню. Накрыли, прошли. За ними шли еще и еще. И все были похожи на Асана и Усена… «Спасибо, дети мои!» Становилось тепло и так приятно, словно чьи-то очень большие сильные руки качали и убаюкивали ее. О жизнь! Слезы катились по ее щекам и задерживались на мочке уха, превращаясь в жемчужины. Диск солнца, раскачиваясь, улетел в небо. На лице ее навсегда застыла улыбка.
Андрей Битов Образ
Когда Монахову напоминали — друзья ли, родичи ли или прослышавшие о том люди, — что он скоро станет отцом, он видел и слышал их издалека, и лишь слегка удивляли его выражения их лиц, самые различные — то ли проникновенные, то ли сочувственные, но им не подвластные: все с оттенками подрагивания и подмигивания. Притом, чему они подмигивают, им, по-видимому, не было вполне ясно, это было помимо их воли, — и тогда на смену этим выражениям приходила мина достойная. Независимо от того, были ли они сами отцами, эта достойная мина подчеркивала их посвященность в таинство: что они-то знают, что там, за той дверью, которую ему, Монахову, еще предстоит открыть.
Монахов объяснял в ответ, как бы оправдываясь, что, хотя его жену и увезли в больницу, но увезли еще не рожать, а понизить давление, что еще не скоро… но, заметив несколько раз выражение скуки и нетерпения на лицах, перестал объясняться таким образом. Да и самому надоело: от повторения переживание это притуплялось и пропадало. Он теперь как бы принимал приглашение на некоторый короткий ритуал и воспроизводил на лице ту же мину, которую исполнял вопроситель — родич ли, знакомый: либо достойную, либо хихикающую, — и не чувствовал от напоминаний ни волнения, ни потрясения, ни внезапного осознания, ни помрачнения, ни взлета — никакого переживания. Он испытывал лишь некоторое нетерпение от каждой подобной встречи, даже без особой неприязни к вопросителю; взгляд его убегал, замирал в бесконечности или просто становился безразличным.
Странное его лицо никого при этом не смущало. Все понимали, что он, вполне естественно, волнуется.
Он же расставался со знакомым и шел дальше с легким удивлением от собственной бесчувственности в преддверии события, столь важного в его жизни.
В общем, сознание того, что при мысли или напоминании о предстоящем его отцовстве никакого чувства в нем не возникает, и было основным его по этому поводу чувством. Он размышлял о странной роли отца во всем этом деле: действительно необходим был он лишь на какую-то, теперь уже такую далекую, секунду. Дальше же — раз, и все: дальше он не продолжался, он был оставлен, покинут и брошен. Оборванное его чувство росло в пустоту. При чем тут я? — спрашивал он тогда себя парадоксально.
Просто это не умещается в мозгу, однажды ловко подумал он о своей бесчувственности, слегка беспокоившей его.
Жену он ежедневно навещал, носил передачи и писал письма, излагая в них перипетии всяких своих дел, которые как раз в это время были тоже как бы на сносях, вот-вот решались, и это много значило для него — следовательно, для жены, которая была в курсе и разделяла его деловые переживания, и, следовательно, для их будущего сына или дочери.
Написав письмо и вложив его в передачу, он направлялся на улицу под ее окно. Свистеть он не умел и знаками пытался привлечь чье-либо внимание, чтобы подозвали к окну жену. Всякий раз Монахов испытывал при этом неловкость и легкое унижение и внутренне боролся с ним. Наконец жена подходила, и они объяснялись хлестами, улыбались и кивали, недослышивали и недопонимали, а прохожие «хорошо» улыбались, наблюдая эту трогательную сценку из жизни, за что Монахов их не любил, конечно. Потом, вспугнутая сестрой или врачом, жена пропадала в своем окне.
Эта поспешность и этот испуг казались Монахову почему-то неправдоподобными. Некоторое время он еще стоял под пустым окном, на него поглядывали другие жены из других окон, и он на них поглядывал, а потом, не то с чистой совестью, не то с облегчением, направлялся домой или куда там ему надо было… Жене его было еще рожать и рожать.
В один из таких дней поворот дел Монахова наконец произошел, и все кончилось успехом. (Важно обозначить, что дело у Монахова было непростое и значительное, а успех — крупный и заслуженный.)
Закрепляла этот успех некая большая бумага, выданная Монахову в том, что он имеет отношение к делу, которым был занят и без нее. Но как бы до подписания этой бумаги и этого дела его не существовало, и работы его, и чуть ли самого Монахова тоже. Теперь же, по этой бумаге, ему начинали платить значительные деньги и оказывать всяческое уважение. И именно её держал он сейчас в руке, свернутую трубочкой, и постукивал ею по краю директорского стола. А потом сложил как бы небрежно и сунул в карман.
На лестнице ему показалось, что он положил ее мимо кармана, и его прошиб пот. Но нет, она была на месте. Он развернул ее, ласково оглядел штамп и подпись и с удивлением и удовлетворением прочел в ней свою фамилию, напечатанную крупными буквами, а имя-отчество — помельче… Он даже удивился, что у него такая фамилия и словно не его даже. Он решил тотчас ехать к жене в больницу и поделиться радостью, и автобус тотчас подошел. «Это нехудо, это нехудо», — уже не слыша этих слов, чему-то в такт повторял Монахов, взбираясь в автобус, и для уверенности снова потрагивал бумажку.
«Ну да ладно, ну да ладно…» — повторял он, глядя в окно.
— Господи, Алексей! — услышал он и голос сразу узнал, но не поверил, и одновременно почувствовал, как проседает с ним рядом кресло и запах духов «пиковая дама» был все тот же, — все это в тот момент, когда, вздрогнув от неожиданности, быстро обернулся к говорившей. И больше всего поразился, что это действительно была она, что так сразу узнал ее, даже еще не увидев, За столько-то лет и не встретил ни разу, и не вспомнил, а в ту же секунду… — какая же прочная была в нем запись!
— Ну, здравствуй, — сказала она и подставила щеку таким знакомым движением (ну да, чтобы ничего не размазать!). Автобус в этот момент качнуло, так что он, не поняв, хотел ли он этого и было ли это так уж ему приятно, но уже приложился, очень скосившись, однако, на пассажиров: как же это все со стороны понять можно и нет ли все-таки знакомых?
— А ты все так же неловок, — засмеялась она. — Ну же, как следует… — и снова подставила щеку, все тем же, таким знакомым движением. И он, ощущая полную потерю чувствительности в губах, старательно и не глядя уже на пассажиров, как бы махнув рукой, но не закрыв глаза, так что увидел, слишком близко, морщинку с кремом, которой не было раньше, приложился к ее щеке.
— Как же так… — с облегчением отстранившись, бормотал он, уже по привычке используя то, что всякое движение может быть понято как угодно, и лишь слегка направить его надо: так, не в силах скрыть некоторого своего смущения и даже неприятности происходящего, успел он придать смущению своему форму как бы естественного волнения и замешательства. — Как же так… — бормотал он. — Ася… может ли быть?..
И они заговорили оживленно, он тоже говорил, но услышал, о чем речь, лишь две остановки спустя, а пока справлялся со странным смущением удивления и недоверия, что эта женщина, сидящая с ним рядом, — кто бы мог подумать, но это Ася. И дело было не в том, что она очень постарела или подурнела, было и это, но это был все равно ее голос и ее лицо, и, тем не менее, лица незнакомых людей показались бы Монахову сейчас менее посторонними. И он начинал догадываться, что окажись сейчас с ним рядом каким-то чудом совершенно та, прежняя Ася, — эффект был бы тот же. Потому что той Аси, Аси, которую он помнил, вообще никогда не было. Был образ, Монахов держался за него и год и другой, образ сохранился даже в мучении разрыва, а потом и в памяти. Сейчас он как бы держал в руках портрет и сличал его с оригиналом, и ничего не совпадало. Ася, постаревшая Ася, сидевшая рядом с ним, была просто неловкой кустарной поделкой, и ему как бы даже странно было, что он разговаривает с ней, как с Асей. И это движение, которым она подставила щеку, такое знакомое, показалось ему заученным и ненатуральным, и той же голос, и тот же хохоток — тоже были эрзацем, химией, синтетикой, что ли, но не правдой, и даже глаза, как он всегда думал, самые красивые, что он встречал в жизни, были хоть и голубыми, как у Аси, но плоскими и пустыми, и, что говорить, у его жены глаза были красивее. Но, по мере того как он убеждался, что это Ася и сомнений быть не может, в этом процессе сличения с оригиналом началась обратная реакция — недоверия к образу. Это распадение образа, может, впервые в его жизни происшедшее столь наглядно, что он видел как бы рвущиеся линии и исчезающие краски, было неосознанно болезненным, и, когда образ испарился и уплыл, растаяв, словно облачко, он почувствовал облегчение, ожил — ему стало интересно. Потому что ощущение, им теперь овладевшее, называлось уже любопытством: именно оно присутствует при сличении старых механических записей, с новыми, еще не известными.
Именно тогда, проехав уже две остановки, он услышал, о чем они говорят, и лишь легкое затруднение испытал в том, что теперь, любопытствуя, но не помня начала разговора, может повториться, а это может показаться невниманием, чего он уже не хотел, испытывая любопытство уже не только к рассказу, но и к сидевшей рядом с ним новой женщине. Он, впрочем, быстро сообразил, что и это может быть отнесено за счет столь уместного тут волнения и надо только учесть это.
— Так ты что, недавно приехала? — спросил он.
— Помилуй, я никуда не уезжала.
— Как же мы с тобой и не встречались ни разу? — действительно удивился Монахов. — Вот раньше — встречались каждый день и даже еще, не сговариваясь, сколько раз сталкивались просто так на улице, помимо свиданий, а как расстались — ни разу. Я был уверен, что ты уехала.
— А ты все такой же рассудительный… — ласково засмеялась она.
Монахов снова отметил неестественность ее интонаций, но теперь это его вполне устраивало, потому что намекало на некую возможность, уже начинавшую увлекать его и в то же время ни к чему его впоследствии не обязывающую.
— А ты куда сейчас едешь? Если не секрет? — сказал он.
— На работу, — сказала она.
— Надо же! — опять вполне искренне удивился Монахов. — Так ты что, каждый день этим автобусом ездишь?
— Конечно, — сказала она.
— Так я ведь тоже на работу на нем езжу, — сказал Монахов. — Вот ведь странно, впервые встретились…
— Очень просто, — сказала она, — просто мы ездим в разных автобусах.
— Да… — протянул в ответ Монахов и посмотрел на нее с недоумением.
— Ты что на меня так смотришь? — засмеялась она. — Как на дуру. Просто мы ездим на встречных автобусах: ты работаешь там, где я живу, а я наоборот, — вот мы и разъезжаемся все время.
— Ну, я тебе скажу!.. — как бы восхищенно сказал Монахов. — Голова у тебя все такая же ясная. Я бы никогда не сообразил.
— Ты что же думаешь, — кокетливо хохотнула Ася, — что у меня уже склероз обязательно должен быть! Неужели я кажусь тебе такой старой?
— Нет, что ты, — не вполне искренне сказал Монахов, — ты прекрасно выглядишь. — И, чтобы придать достоверность своим словам, сказал как бы грубовато, но так, что любая женщина легко бы простила, будто это подтверждало его искренность: — Помнишь, ты сама говорила: маленькая собачка — до старости щенок.
— Верно, верно, — обрадовалась Ася, — маленькая собачка…
А Монахов, еще раз взглянув ей в лицо, теперь обнаружил его не постаревшим, а даже помолодевшим. Все-таки тогда он был совсем мальчик, а она на пять лет старше, а теперь он ее как бы нагнал. Это было и на самом деле странное чувство, он его уже отмечал в последнее время… Однажды люди, всю жизнь бывшие значительно старше его, решительно помолодели. Учительницы, например.
— А ты тоже совсем не изменился, — сказала Лея, — хотя вот и седеть, я вижу, начал. — Монахов поймал и узнал этот цепкий Асин взгляд: таким он был у нее, когда таскала она его, мальчиком, за собой по магазинам или смотрела на проходящих мужчин, — и он не любил его тогда, а сейчас этот взгляд польстил ему. — Это девочкам должно нравиться: лицо молодое и виски седые.
— У меня уже и зубов нет, — расплывшись, неумно хвастался он. — Вставлять хожу.
— И костюм на тебе хороший, — сказала она, скользнув по пиджаку тем же цепким взглядом.
И Монахов ощутил освобождение, облегчение, с него как бы спали цепи, гири насилия над собой, благодаря которым был он человеком с такими-то и такими-то редкими качествами, а без гирь и цепей, свободного, его просто не было — одно желание, желание, усиливавшееся всеми теми неприятными ему по вкусу, уму или морали чертами, которые бросились ему в глаза через столько лет в его первой любви. Тут уже было не воспоминание-узнавание, а нечто обратное и противоположное: садизм разочарования — изнанка, негатив прежних чувств. И тем страннее, где-то вдали, мутно, показалось ему подобие… Потому что, обратным ходом, прежние-то чувства были спечатком с того же негатива.
Начиналось отчасти то, что теперь называется не в силах подобрать другого слова и разбираться в нем, «заводкой». Что-то ложное и обратное всем чувствами мыслям и, одновременно, на этот момент словно бы наиболее правдивое, появилось на свет, раздвигая скорлупу. Нечто отодвигаемое в постоянном испуге перед собой и своей слабостью справиться с этим, что-то тщательно хоронимое от других и еще более от себя, что-то задавленное полнотою общепринятого в том или ином кругу и никак не разрешенное личностью и оттого все высовывающееся, вылезающее — и нечистая сладость в этом. И договариваются напиться, ничего уже не имея как бы в виду — но все для этого, и даже почти необходимость и некий институт регуляции в этом, периодичность и режим. И никто не скажет себе: зачем? — прозвучит неприлично, пошло, можно сказать — несправедливо. Просто повеселиться, выпить среди друзей «заводка»… Тут как бы человек махнет рукой, закроет глаза — и поехали. «Ну и пусть, ну и пусть», — бессмысленно повторяет человек. И царское чувство вседоступности вдруг исходит током, от одного к другому, охватывает всех, и наутро разъезжаются тихие, а глаза бегают.
И весь этот механизм «заводки» настолько уже не составлял для Монахова тайны, что становился еще большей тайной. Но ток уже был установлен, он был взаимен — это тотчас почувствовали и он и Ася, они разрешили тут же его себе, он рос и усиливался от обмена, этот ток. И они вдруг замолчали, как бы обо всем договорившись. Помолчав и пережив в себе что-то, они, отдыхая, как тянутся за сигареткой, некоторое время не глядя друг на друга, продолжили разговор, в том тоне новой близости и отдаления после близости, какого не могли бы позволить себе сразу.
— Ну, и как твой доцент? — спросил Монахов с тем вечным удовлетворением в голосе, что рождается от мнимого превосходства над другим мужчиной, если его женщина рядом с тобой.
— А мы расходимся, — легко сказала Ася.
Все-таки где-то, далекими тенями, была еще в Монахове память о пережитом: о ненависти к этому человеку и о боли. Теперь же ему предстояло некрупное торжество, вроде записи задним числом или подделанной подписи…
— Так ты что же, все это время с ним? — сказал он и не мог скрыть разочарования; взглянул в окно: остановку свою он проехал.
— А ты все еще ревнуешь? — снова засмеялась Ася, и смех ее уже вовсе показался Монахову неживым и бренчащим. Но вопрос поразил своей грубой точностью. Его, как человека, удалившегося по ходу мыслей от первоисточника так далеко, что не видна уже ни цель, ни отправной пункт, а лишь вечная середина, пустыня, удивил столь прямой перелет над этим морем рассудка и прямое называние предмета, ему, за деталями, не различимого…
Монахов промолчал, удивляясь. Ася сказала:
— У нас уже дочь в будущем году в школу пойдет.
— Подумать только, — сказал Монахов, повторяя про себя ее фразу и бессмысленно перемещая по ней слово «уже», которое спокойно помещалось в любом месте фразы и тем ее окончательно разваливало. — Так ты все-таки умудрилась выйти за него замуж? Мне казалось, он на это никогда не пойдет…
— Что ты! Он умолял меня… — сказала Ася.
— Значит, упросил, — сказал Монахов.
— Да нет, я, в общем, этого и хотела, — сказала она.
— М-да, — сказал Монахов.
— Ну, а у тебя, — спросила Ася и опять прицелилась взглядом, — дети есть?
Монахов немножко вздрогнул и задумался.
— Н-нет… — сказал он неуверенно.
Ася усмехнулась.
— Но ты женат?
— Женат, — сказал он, опять подумав. Почему-то, если его все-таки вполне устраивало, что она замужем, то он сам вроде бы должен был быть свободен…
— Значит, ты пропал для женщин, — сказала Ася. — Жаль.
— Как сказать… — Монахов выпрямился, надулся и поелозил в кресле. — Смотря для кого… Для тебя — нет, — наконец сказал он и шумно вздохнул.
— Покраснел! Покраснел! — рассмеялась Ася. — Все такой же ребенок!
— Я жеребенок молодой, заносчивый и гордый… — пропел Монахов.
И они оба рассмеялись и заговорили оживленно, а Монахов опять не мог бы вспомнить — о чем. «Почему это, — мимолетно удивился он, — как только я начинаю вести себя, с моей точки зрения, как раз не по-детски, женщины говорят, что я ребенок?» — и он чуть повернулся седым виском к Асе. Так они смеялись и болтали оживленно, перебивая друг друга и ничего не запоминая; слегка плавали и подпрыгивали расплывшиеся пятна лиц — они уже не стыдились автобуса; как бы плавали над всеми в состоянии невесомости.
— Нам выходить, — вдруг сказала Ася.
«Нам…» — подумал Монахов.
Они сошли на Островах… По обе стороны улицы, свободные, без решеток, стояли старые деревья почти нагие, где-то за ними маячил обветшалый желтый особнячок — они шли по улице, улица изгибалась, соединяя мост с другим мостом. И Ася спросила:
— Ну и какая она, твоя жена?
— Как — какая?.. — несколько оторопел Монахов.
— Красивая?..
— Да, наверно, — неохотно ответил Монахов.
— На меня похожа? — сказала Ася и состроила гримаску. Гримаска ей не пошла.
Монахов от гримаски отвернулся, подумал, что ответить, стал вспоминать, какая же она, его жена, в двух словах, и вдруг оживился от внезапного открытия, которое раньше никогда ему на ум не приходило.
— Представляешь, — сказал он звонко, — как странно… Полная тебе противоположность. Как будто специально подобрал, — рассмеялся он и спохватился. — Представь себе женщину, столь же красивую, как ты, — сказал он дипломатично, — но полностью тебе противоположную: ростом, и полнотой, и голосом, и мастью…
— Получается что-то очень большое? — сказала Ася, и на этот раз интонация очень удалась ей, и Монахов рассмеялся и тут вдруг вспомнил Асю всю, какую любил: ей и раньше, бывало, удавались такие фразы. Он вдруг вспомнил Асину близость — желание, почти тоскливое по силе, поднялось в нем.
— И темперамент, — подавленно добавил он, опять удивившись, что противоположным было все, даже постель, и что-то тут было не просто так и недаром. «Как же все-таки все необходимо связано, чтобы быть цельным… — подумал он. — Чтобы не рассыпаться».
— И живете вы, конечно, с твоей мамой? — Тут Монахов опять вспомнил всю Асю: так она сказала «м-ма-мой», — эту Асю он в свое время боялся и, кажется, даже не любил, но хотел еще больше, чем Асю любимую.
— Это чувство, я вижу, в тебе не ослабло с годами, — сказал он.
— О да!.. — сказала Ася. — И как она с ней ладит?
Монахов отметил это «она с ней», как нежелание назвать ни ту, ни другую, уловив в этом и в тоне некую ревность, что ему опять польстило.
— Очень хорошо, — сказал он убежденно, хотя у него не было на это оснований, и покосился на Асю: как она это воспримет.
Ася же отнеслась к этому необычайно равнодушно и, казалось, думала о другом.
— Значит, у тебя нельзя, — сказала она.
Монахов задохнулся.
Ася взглянула на него и расхохоталась.
— Ты все такой же!
Монахов не вполне внятно развел руками.
Они дошли до красной кирхи, и Ася остановилась.
— Дальше меня не провожай.
— Что так? — обиделся Монахов.
— Просто меня там на остановке ждут. — Она взглянула в нелепое лицо Монахова и счастливо рассмеялась. — Ну да, ждут.
— Муж?
— Нет, жених.
— Слушай, — сказал Монахов, — и ты не устала еще? Ты опять собираешься замуж?
— Что поделать… — искренне вздохнула Ася.
— Сколько же у тебя энергии! — сказал Монахов почти с восхищением.
— Устаю я… — сказала она просто.
— У тебя есть комната, ты хорошо зарабатываешь… Отдохнула бы хоть…
— Ох, с удовольствием! — Ася устало улыбнулась и подмигнула Монахову. Подмигивание ей снова не удалось. — Монахов почувствовал себя неловко.
— Хороший хоть парень? — спросил он.
— Хочешь посмотреть? — сказала Ася. — Я пройду вперед. А ты потом за мной, как бы невзначай. Вечером расскажешь, как он тебе понравился. Хочешь? — оживленно и настойчиво спрашивала Ася.
— Давай, — сказал Монахов. Это «вечером расскажешь» очень ободрило его. Он прямо-таки не ожидал такой легкости.
Ася ушла вперед. Он выждал и последовал за ней. Подойдя к остановке автобуса, Ася подкралась к высокому человеку, стоявшему в конце очереди, и, подпрыгнув, обхватила его со спины, повисла. Монахов услышал рассыпавшийся ее смех, то, как она наскочила и обняла незнакомца, было в точности знакомо ему и ни капли не изменилось. Она, маленькая, привстала на цыпочки, он, длинный, наклонился и подставил ей щеку, и они заговорили оживленно, не выпуская рук. Монахов почувствовал странное смешение в мозгу, до того он вспомнил себя сейчас этим вот длинным человеком. «Кто он? Кто Ася? Кто я?» — странно подумал он и поглядел на них как-то косясь, бочком, слегка склонив голову набок, как курица поглядел. В голове слегка зазвенело. «Зря это она»… — подумал он, но относилось это не к длинному, а к нему самому, это он себя пожалел, не понимая еще — за что. «Не надо было мне этого знать…» — подумал он. «Ничего не надо ни о ком знать!» — подумал он с раздражением, вдруг представив себе жену, которая, допустим, вот так же бы подошла сейчас к нему, оставив за утлом, допустим, этого длинного. «Тьфу, черт!» — процедил Монахов, но он уже поравнялся с ними, исподволь разглядел лицо длинного. Лицо длинного понравилось Монахову, и тогда он его пожалел. В этом было, впрочем, и некое тщеславие. Длинный вдруг поднял лицо от Аси и взглянул в глаза Монахову, внимательно и простодушно, и Ася в этот момент успела подмигнуть Монахову. Длинный снова склонился к Асе, а Монахов уже удалялся от них, сдерживая в себе желание оглянуться, чувствуя, как стягивается на спине кожа в какую-то гуляющую знобливую складку; он удалялся, пощупывая в кармане бумажку с телефоном, по которому ему было назначено позвонить через два часа, и смешанное чувство удовлетворения и неприязни жило в нем. «Вот ведь… — самодовольно и грустно думал он. — Переменились роли… Нет, тогда была не роль!.. Тут есть над чем подумать…»
«Надо же! За десять лет, и не встретил ни разу — как исчезают люди! А может, десять лет исчезли?» — так думал Монахов и вдруг подошел к больнице. Справился о здоровье жены: все было в порядке, давление упало, и скоро ее выпишут, чтобы она уже дома дожидалась срока. Он написал жене письмо, слова не шли, и он не мог ни о чем вспомнить, о чем бы таком написать. И лишь отойдя порядочно от больницы, вспомнил, что спешил поделиться с женой радостью по поводу утренней своей удачи.
Мать пекла пироги и курсировала по коридору из комнаты в кухню и из кухни в комнату, все что-то забывая и вспоминая, Монахову никак не удавалось остаться наедине с телефоном. Он с удивлением обнаружил, что нервничает. Он чувствовал себя, как десять лет назад, может, чуть глуше, но так же. Чувства его свернули на боковую, заросшую, но удивительно знакомую тропинку. И в этом смысле он становился на десять лет моложе. Хуже было то, что он почти тут же сознавал это, не успевая чувствовать долго. Во всяком случае, запахивая пальто и бурча невнятно про сигареты, которые якобы кончились, он испытывал почти удовольствие от позабытых волнений, выскочив на улицу.
В автомате, набрав номер, в ожидании гудка, он уже заволновался по-настоящему, без наблюдений и фиксаций: а вдруг ее нет или номер неправильный… — время для него на мгновение выпало, и он вздрогнул, услышав неожиданный голос, и, уже понимая, что это Ася, на всякий случай спрашивал Агнессу Михайловну.
— Это же я, глупый! — говорила Ася. — Подъезжай ко мне.
Детский сад, которым руководила Ася, находился на окраине, в новом районе. Монахов распрямился и шел все более упруго, приближаясь к цели. Уверенно спрашивал дорогу. В какой-то момент спохватился и почувствовал себя неумным. «Неужто победителю обязательно быть глупым?» — было подумал он, но тут же как бы обрадовался этому поглупению и как бы похвалил себя за него: «Зато насколько полноценнее я себя чувствую», — сказал он себе с полуусмешкой.
Желтоватый дом стоял в парке, выгороженный заборчиком. Парк был пуст, Монахов пересекал вытоптанную площадку перед домом, огибая горку, и гриб, и порожнего лебедя так решительно, так — как бы ни на кого не глядя, словно шел в толпе, где все останавливались, поворачивались и с восхищением смотрели ему вслед. Он чувствовал себя выше своего роста. Он очень быстро рос, подходя к дверям, вестибюль и лесенка были уже малы для него — это казалось естественным для детского сада, — на лице Монахова появилась добрая улыбка, он поднимался по лестнице, как бы мимоходом приостановившись и потрепав по голове выбежавшего навстречу озорника, но было тихо и пусто. Весь шум был шумом крови Монахова. Открывая дверь с табличкой «Заведующий», Монахов был уже так высок, что слегка пригнулся, чтобы не задеть головой притолоку.
Ася встретила его очень деловито, почти не взглянула. Монахов тут же стал своего роста, это получилось резковато, так что он почувствовал себя приниженно. И низкое кресло неожиданно глубоко присело, и Ася за столом возвышалась над ним — его омоложение схлынуло. Ася сосредоточенно переписывала с черновика. «Учебный план», — прочел Монахов заглавие. Ася подчеркнула его по линейке красным карандашом. Монахов хотел пошутить по поводу учебного плана в детском саду и не пошутил. А так и продолжал молча сидеть. Кресло было неудобным.
Зазвонил телефон. «Милочка!» — Ася закудахтала. Монахов откинулся, вжимаясь в кресло, глядел на Асю издалека, отчуждался. Ася уже договаривалась прийти примерить: «Ты никому, смотри, больше не предлагай. Мы к тебе зайдем». Ася рассмеялась по-своему звонко, отдельным от себя смехом: «Нет, нет, ты не знаешь!» — и подмигнула Монахову.
Повесив трубку, она выбежала из-за стола и села Монахову на колени. Поцеловала. Рассмеялась. Монахов попробовал в свою очередь поцеловать ее, она ускользнула.
— Сейчас, Алеша. Еще один звонок, — сказала она озаботившись.
Это был деловой звонок. Монахов слушал Асю и немножко удивлялся. «Это возмутительно! — говорила она. — Ведь дети мерзнут!» — она стала расстегивать халат. Под халатом была рубашка. Это было неожиданно для Монахова. Ася поймала его взгляд, посмотрела сама себе на грудь и вдруг взглянула на Монахова так откровенно и просто, что Монахов задохнулся. «Какое мне дело! — тут же вскрикнула она. — Хотите нажить неприятности? Завтра будут», — и бросила трубку.
Этот тон, каким она говорила по телефону, и этот ему взгляд очень польстил Монахову, он бы не мог ответить себе — почему.
Ася проходила к шкафчику, на ходу сбрасывая халат, натягивала кофту, говорила «застегни», подставляя спину. Монахов бережно тянул молнию. Входила нянюшка. Монахов продолжал сидеть в том же кресле, но уже как будто что-то тайное произошло в этой комнате: поза его была той же, но раньше она была неудобной, а теперь небрежной. Он снисходительно прислушивался к разговору. Нянюшка, белесая девица, что-то быстро сказала, невпопад взглядывая на Монахова не то с любопытством, не то с замешательством, и это ему тоже льстило. Он вдруг заметил, что Ася умно смотрит на него, и смутился, отвернулся. Нянюшка сбилась. «Ладно, Настя, ступай», — сказала Ася.
Выйдя из детского сада в парк, они увидели, как два мужичка, тщательно расположившись на скамейке, выпивали и закусывали. Монахова умилила эта мирная картинка, и он сказал Асе:
— Может, выпьем где-нибудь?
— Мне нельзя, — сказала Ася.
В который раз у Монахова схлынуло в предчувствии поражения.
И дальше Монахову временами становилось вовсе непонятно, что происходит. Он проталкивался за Асей по магазинам, задевал ее сумкой чужие ноги. Ася в магазине становилась так далека от него, он снова вспоминал чувство десятилетней давности, когда вот так же сопровождал ее, и, хотя теперь он не страдал и был независим от Аси, ему становилось неуютно видеть в Асе свое столь полное отсутствие. На Асином лице было одно из немногих не подвластных ей выражений, когда она щупала вещи, — пристальное, цепкое, такое поглощенное, око было настолько чужим и непохожим, что не только влюбленному, но и нынешнему Монахову становилось не по себе. Словно выдавало ее с головой, словно сдергивало парик, и это не подвластное ей лицо с испугом осознавалось истинным. И когда, отходя от прилавка, она оборачивалась к Монахову, на секунду примерив прежнее свое лицо, натянув улыбочку, поспешно, кое-как, так, что два ее лица как бы не совмещались на какую-то секунду, и на бровь одного приходился глаз другого, а губы — на одну щеку, Монахову казалось, что она держит в каждой руке по маске на палочке и немножко путается, какую приложить, но она уже устремлялась в следующий отдел, отдел обуви.
Они купили туфли, которые Ася тут же надела.
Она была счастлива, прижимаясь к Монахову, заглядывала, смеясь и щебеча: он начинал чувствовать тепло, приятно смущался, и ему казалось, что это он купил ей туфли.
Он заходил вместе с ней к одной знакомой по делу. Тощая темнолицая женщина с седыми нечесаными волосами в нечистом халате, расшитом хризантемами, подавала свою жесткую руку и представлялась: «Тося». Ася начинала издалека. Монахов сначала не понимал, а потом устал пытаться понять. Женщина судорожно курила, но судорожность эта была лишь манерой: женщина отнюдь не волновалась — волновалась Ася. Они перешли на полушепот, а потом и вовсе скрылись в соседней комнате. Монахов листал журнал «Болгарская женщина». Асин голос стал возбужденно громок за стенкой, но слов было не разобрать. Монахов закрыл журнал. На обложке была изображена знатная сборщица табака, и тогда он догадался закурить.
Ася вышла, явно поссорившись.
— Пойдем, — бросила она Монахову.
— Дай закурить, — сказала она, остановившись на площадке этажом ниже. Жадно затянулась.
— Что случилось? — мутным голосом сказал Монахов, и его насторожило, что ему совершенно все равно, что там стряслось у Аси, и, более того, он не хочет этого знать.
Ася внимательно взглянула на него и, как бы стряхнув с себя все это, мужественно улыбнулась.
— Ничего. Пойдем, — сказала она. — Пойдем к той подруге, с которой я, помнишь, говорила по телефону.
Ехали они уже молча. Монахов туповато и покорно поддался чувству ведомого. Ему было безразлично куда, и он не запоминал дороги. Он вяло ждал неизвестно чего. Все это просто так сегодня уже не могло кончиться. Но инициативу в какой-то момент определенно взяла на себя Ася, и он сразу спаразитировал, предоставляя ей все заботы, и только слегка подумал, что когда-то все было наоборот. «Если кому-то надо ухватиться за тяжелый конец, то ухватится за него тот, кто ухватится за него первым», — косноязычно подумал он, мысль вдруг стала трудна ему.
На лестнице Ася приостановила его. Быстро и деловито, по-родственному чмокнула в щеку.
— Ты тут подожди, — сказала она. — Я с ней поговорю сначала, а потом тебя позову.
Монахов остался обдумывать эти слова, Ася же исчезла, в радостных возгласах.
Он сел на батарею. Она была холодной. «Ведь вот, еще не топят… — медленно подумал он. — Еще не зима…» Ему было зябко и вдруг показалось, что он уже очень давно ждет. Много лет. Люди поднимаются по лестнице, слегка измерив его, скрываются в свои норы. Монахова нисколько не волновали и не смущали их взгляды, что они могли подумать, что он ждет тут кого-то, как мальчик. «В том-то и дело, что я уже не мальчик…» — не то важно, не то грустно отметил он. Это когда-то ему казалось, что все про него все знают и всем только и дело, чтобы влезать ему в душу. Теперь эти взгляды не трогали его. Это были теперь не те взгляды, что когда-то. В конце концов, он, быть может, просто привык к человеческим взглядам, теперь-то он знал, насколько им все равно: есть он, нету его, — и во взглядах людей прежде всего видел незаинтересованность в нем, Монахове. «Да и что тут интересного…» — подумал он.
Он закурил. И голова вдруг закружилась. Это было по ощущению в точности так, как когда-то, когда он начинал курить… На секунду Монахов почувствовал себя очень юным. «Это от голода, — тут же сообразил он. — Я с утра ничего не ел, — скучно подумал он. — Да, все повторяется… — печально подумал он. — Все ситуации те же. Как оттиски. Точка в точку. Только бледнее. Или как пластинка заскочила. Все то же, только звук с каждым оборотом хуже. Хрипы, трески… Все то же, только мы уже не те…»
Он с тоской посмотрел на дверь, за которой скрылась Ася. Когда же она наконец позовет его? Ему уже ничего не хотелось, только погреться бы, напоили бы хоть чаем… «Да и хотелось ли мне?.. — вдруг подумал Монахов. — Уйти, что ли?» Но продолжал ждать.
И думал о том, что все то же… Что вот она заставляет его ждать, назначает сложные свидания, таскает его за собой по путаному маршруту и графику — все так же, но все уже не то. Он вот нисколько не страдает от этого, как раньше. «Я допускаю ее отдельное от меня существование, — подумал Монахов. — Я допускаю отдельную и самостоятельную жизнь, соглашаюсь с этой жизнью. Попросту — я равнодушен».
Монахов задремал. Ему померещилась больница. Он встряхнул головой и увидел перед собой Асю. Она рассмеялась коротким оборванным смехом.
— Ну, пошли, — сказала она решительно.
Монахов встал на затекшие, не свои ноги. Ася взяла его под руку и, вместо того чтобы повести наверх, потянула вниз по лестнице. Он вопросительно посмотрел на дверь Асиной подруги.
— К ней сегодня нельзя, — сказала она.
Тут время опять выпало.
Он услышал долгий, нечеловеческий, но нестрашный почему-то крик. Странно далекий и близкий одновременно. Почему-то нисколько не удивился крику и очнулся у кондитерской фабрики. Это стало понятно по мерзкому сладкому запаху, который и вернул его к действительности. Улица была пуста, фонари горели отчужденно, и это была уже ночь. Они шли, и подошвы его горели. Это был далекий окраинный район, и тогда Монахов понял, что они прошли пешком через весь город. Поминутно они останавливались и долго и исступленно целовались. Рука Монахова обнимала Асю за шею, рука как-то затекла и ничего не чувствовала. Ему было неудобно так идти, но руку, которую он вдруг обнаружил столь странно, так вдруг убрать он тоже не мог. Он ничего не понимал. Из подворотни высунулась дворничиха. Ася отскочила в сторону и рассмеялась, как девочка. Монахов потряс свободной теперь рукой и идиотски захохотал. И они побежали.
«Пойдем так», — сказала она.
В парке на центральной аллее еще горели фонари и был кое-какой народ. Монахов понял, что еще не так поздно. И только тогда он догадался взглянуть на часы — не было даже одиннадцати, приложил к уху — нет, они не стояли. Народу на аллее было несколько пар, немного — они как бы высовывались из боковых темных аллеек, хмурились на свет и снова пропадали; остальной же народ, разрозненный, озабоченный и спешащий, имел одно направление — на электричку: короткий путь лежал через парк. Чумазый, как бы состоящий из одних теней парень попросил у Монахова закурить, и опять только тогда Монахов понял, что давно не курил, и с наслаждением, уверенно и самодовольно поглядывая на свою даму, закурил сам. Все сегодня он понимал лишь с помощью других: и время, и место, и собственные желания, — сам бы уже не догадался.
Тропинка пошла вниз, и повеяло холодом. Тогда воздух показался Монахову свежим. Он вдохнул его чрезмерно глубоко и сделался сентиментален.
— Будто ничего не изменилось… Так я не ходил десять лет. Будто и время не прошло…
— Да, нам опять негде, — сказала Ася.
Монахов, переполнившись, попробовал снова привлечь к себе Асю, но она увернулась.
— Давай лучше посидим, покурим, — сказала Ася.
Тут, у пруда, было совсем темно. Монахов некоторое время сидел молча и как бы отдельно, деревянный от оборванного своего движения. Тишина и темнота, окружавшие его, постепенно наполнялись шорохом и всплеском: что-то ворочалось в кустах, большое и неловкое, но не в одном месте, а как бы перепрыгивало за кустами и, устроившись поудобнее, снова вспархивало и казалось Монахову надутым матрасным мешком.
— Я тебе не рассказывала, — сказала Ася, — тут хулиганы… Тут вечером опасно… Тут недавно девочку одиннадцати лет изнасиловали и зарезали… — Ася снова хохотнула, и Монахову показалось, что она отодвинулась, он неловко и грузно повалился вперед, на Асю.
— Не надо, — сказала она и, легко вывернувшись из пустых его рук, встала. Она стояла над ним, Монахов остался полулежать, опершись о локоть, и смотрел, как она поправляла вздернувшуюся юбку. Коленка, бывшая у него перед глазами, померещилась ему мордочкой, он посмотрел на неясное пятно Асиного лица и поразился сходству.
— Вставай, вставай, — сказала Ася.
Монахов тупо встал. Ася пошла вперед, он последовал, чувствуя себя неуклюжим.
— Это самый короткий путь, — сказала Ася.
Монахов уже не задавал себе вопрос, куда он, короткий этот путь.
— Вот мы и пришли, — сказала Ася.
Монахов стоял перед двухэтажным домом. Окна в нем не горели. Парк кругом был темен, а на площадке перед домом на одиноком столбе горела сильная лампа. Свет падал из-под колпака широким конусом и освещал горку и деревянного лебедя, казавшегося черным, и первый этаж, вполокна.
— Откуда ушли, туда и пришли, — сказал Монахов с непонятной самому себе интонацией.
— Ты тут подожди, — сказала Ася. — Она согнула ногу и сняла туфлю, вынула ее из-за спины, как бы желая вытряхнуть камушек, и подала Монахову. Он машинально взял. Она стояла на одной ноге, а он не понимал. Тогда она подала ему вторую туфлю. Монахов стоял, держа перед собой туфли, по одной в каждой руке. Ася перед нам стала ниже ростом и от этого как-то беззащитней и ближе. Она была сейчас перед ним прежней Асей, какую он знал когда-то, — ну да, тогда ведь высоких каблуков не носили…
— Ты не ходи, — сказала она.
Он видел, как она пересекла освещенное пятно, приблизилась к дому. Монахову не было ни холодно, ни страшно, но, один, он вдруг стал дрожать крупной, бессонной дрожью, как конь. Белым ночам было явно не время, должно было быть совсем темно, однако какой-то призрачный свет все стоял у Монахова перед глазами и поворачивался вслед за ним, но за светом этим он уже ничего не различал. Будто это он сам светился. Время чрезвычайно замедлилось, вытянулось — собственно, остановилось. Так ему казалось, или так он потом вспоминал об этом. Он не ручался бы, что все именно так, как он видел… Может, она и не пошла в чулках по песку, может, он ее до самой двери проводил и лишь там, на пороге, вручила она ему свои туфли, а он потом отошел под гриб… Но почему-то в памяти она долго шла босо к дому, а Монахов даже и потом поджимал пальцы в ботинках при воспоминании. То, что она так изменилась без каблуков, — это помнил. Помнил или видел?.. Она шла неловко и задела юбкой клюв лебедя. Приникла к двери ухом. Подергала, попробовала какой-то ключ. Тот, видимо, не подошел. И тут все стало уже очень странно — так ему казалось, или так он потом вспоминал, будто Ася, крадучись, чтобы быть ниже окон, прошла к пожарной лестнице, отряхнула ладошкой одну ступню и поставила ее на железный прут, первую ступень, затем отряхнула вторую и так медленно полезла вверх. И так Монахов ощутил за нее холод железа, что протянул ей вслед ее туфли безотчетным, глупым движением… Ася пересекла линию света и оказалась в темноте. Монахов еле различал медленное и громоздкое теперь пятно. Может, и не различал. Может, она и не лезла, а лишь подергала за лестницу и от такого безумия отказалась, Монахову, во всяком случае, это казалось преувеличением, что она по лестнице лезла. Однако он допускал и такое. Было, могло быть или не было — находились здесь в некоем равновесии, если не равенстве. Обозначали факт, хотя им и не были. Острое, слезное чувство владело Монаховым. «Да, — думал он восхищённо и пораженно. — Она же здесь начальница… Вот ведь недаром… Недаром все это со мной тогда было… Именно это я в ней любил…» — думал он, следя за темным пятном, угадывая в нем Асю и проглатывая судорожный комок в горле. В этом своем невнятном восторге различил он ее как бы стоящей на подоконнике — она дергала раму, и та не поддавалась. Монахов затаил дыхание, мальчишечье волнение и какой-то веселый страх распирали его. Может, только вот это волнение Монахова и было, ничего, кроме него, и не было… Но звон стекла был уж точно. Вдруг он услышал хруст и звон рассыпавшегося стекла.
Ася выругалась. Внизу загорелись сразу три окна, Монахов стоял ни жив ни мертв. Во всяком случае, когда он снова осмелился поднять глаза туда, где, казалось ему, должна была повиснуть Ася, ее уже не было. Он услышал в тихом доме громкие, подбадривающие себя голоса; свет зажегся и на втором этаже. Затем голоса стали глуше, и свет наверху погас.
Монахов стоял за кустом и напряженно следил за домом, нелепо держа перед собою Асины туфли. Но в этой тишине он различал лишь шорох сосны за спиною и внезапно сник и завял, и ему стало зябко; он опять подумал, что не ел целый день.
Ему показалось, что уже светает, он понял, что прошло время, сколько — он не знал, но он стоял тут под кустом с туфлями уже целую вечность. Дом был снова слеп и нем.
Замирая от смелости, он сделал шаг из кустов. Постоял озираясь. Мелкими шажками, неся руку с туфлями впереди, как бы следом за ними, перебежал он площадку и встал под грибом, пристально вглядываясь в темные окна. Под грибом он стоял тоже долго, прежде чем решился — и тут им снова овладело детское и радостное чувство опасности и страха — перебежать к двери. Приник к ней ухом и ничего не услышал. Только что-то тикало там внутри. «Внутри» ему представлялось черным и густым, как вар, тикало, как мина. Что-то громко скрипнуло, сердце Монахова громко подпрыгнуло вверх и там где-то остановилось не стуча. Он отпрянул от двери и прижался к стене. Но это было просто так — показалось, снова та же тишина. Уже не понимая, что делает, он, как прежде Ася, подкрался к пожарной лестнице и уже занес ногу на ступень… «Алеш-ша» — услышал он шипящий шепот, вздрогнул, настигнутый, и увидел на пороге распахнутой двери Асю — она манила его. Неуклюже и как будто виновато, потупившись, он вернулся назад, и Ася, цепко и больно ухватив его за руку, втянула внутрь, в темноту. В темноте он почему-то все совал ей туфли, она же нетерпеливо и жестко подталкивала его вперед; одну туфлю он уронил, что наполнило весь дом страшным грохотом. Ася недобро зашикала. «Не споткнись, — сказала она, — тут ступенька». И он споткнулся. «Агнесса Михайловна, это вы?» — послышался отдаленный голос. «Я, я!» — сердито откликнулась Ася, резко устремляясь по коридору вперед и немного наверх, волоча за собой Монахова и жестко сжимая ему руку. Она втолкнула его куда-то. «Сиди тихо и жди», — сказала она и закрыла за ним дверь. За дверью зажегся свет и выбился в щель. Кто-то окликнул Асю, она ответила бодро и звонко, и оба голоса, оживленно переговариваясь, поспешно удалились.
Монахов огляделся. Это была большая комната во много окон. Окна выходили на две стороны, и из них шел небольшой свет. Косые и призрачные тени переплетов ложились на пол. В углу темнели большие фикусы. Вдоль стен рядами стояли маленькие стулья. В центре помещался корабль с флажками, в комнате было как-то очень пусто и прибрано. Это была, как сообразил Монахов, комната игр.
Стараясь не нашуметь, не скрипнуть, Монахов сделал три тяжелых шага и грузно опустился на маленький стульчик у стены. Он смотрел на узкую щель света из-под двери и прислушивался. Только сев, он почувствовал, как устал. Некоторое время он тупо смотрел в призрачные мерцающие окна и ничего не думал. Глаза уже хорошо видели в темноте. Он разглядел даже портрет кудрявого мальчика на стене, когда дверь приоткрылась, свет кубом вошел в комнату, выхватив из нее Монахова, и в комнату проскользнула Ася. Она была уже в халатике. «Жив?» — сказала она смеясь, Лицо ее было диковато и красиво. «Жив», — сказал он. Ася порывисто обняла его, по-юному неумело прижав его голову к груди и так на секунду застыв в неловкой позе. Монахову стало неудобно в шее, и дышать трудно… Он деревенел в ее объятиях и ничего не чувствовал. Ася вдруг отодвинулась и присела перед ним на корточки. «Ты что? — сказала она, держа его голову в руках, как бы повертывая и разглядывая. — Ты это что?» Монахов молчал. «Ладно, — сказала она, — посиди еще немного. Я сейчас приду». Она резко поднялась. «На», — она сунула ему что-то в руку и вышла. Это были два небольших яблочка, в черных жестких точках. Монахов недоуменно повертел их. «Ева, — сказал он. — Адам…» Он укусил яблоко — ему показалось, что треск яблока раздался на весь этот мертвый дом. Где-то под ним, над ним, со всех сторон, спали дети, как личинки. Монахов располагал этих детей в заплечном своем пространстве, но они были неодушевленными для него. «Эти яблочки им давали сегодня на третье…» — сообразил он. Он понял, что ничего не хочет и не ждет, и ему стало гадко от себя. Ася была ему как бы понятна и казалась прекрасной, он же сам себе сильно не нравился, потому что, казалось ему, должен был сейчас быть в некой буре чувств и желаний, иначе как бы он тут оказался, среди ночи, в спящем детском саду, в комнате для игр? Что бы его сюда привело, взрослого солидного человека? с семьей и положением? Он подумал, что все какая-то кошмарная, кромешная подтасовка, подмена всех желаний, чувств, мыслей, и там, где мы (он думал о себе во множественном числе) осознаем, что чего-то хотим, то уже и не хотим, а хотим лишь, пока не понимаем еще, что с нами происходит. Что желание — и не есть желание в том смысле, в котором можно рассказать о нем и изложить его, а что-то вовсе другое. Что желание теряется где-то на полдороге и чуть ли не при первом шаге… И даже безрассудство — вовсе не доказательство силы желаний и чувств, а лишь свидетельство нашей к ним неспособности. Одна лишь видимость решительности, на самом деле — полная растерянность перед мутностью и неясностью собственных ощущений. Ах, что так — что этак… Верность любого обобщения испугала Монахова.
Он обводил потрясенным взором призрачный объем неожиданного помещения, и оно казалось ему удивительно подходящим, заслуженным и оправданным в своей неправдоподобности. «Со мной уж только неправдоподобное и должно происходить…» — горько усмехался Монахов. Господи! как мучителен опыт! Не приобретение его, не рождение, нет — сам опыт, его наличие. Какая нечистота!
…Когда, в детстве, были реальны чувства — нереальны были люди: они были носители, объекты, они были — образы. Когда же опыт придал людям реальность в наших глазах — нереальны стали чувства. Теперь как бы чувство стало образом, образом чувства. Чувства нет, а есть его образ: не любовь — образ любви, не измена — образ измены, образы дружбы, труда, дела и т. д. И человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, чем ребенок, еще более запутался в нем из-за нереальности собственных чувств. У него появился выбор там, где раньше чувство не предоставляло выбора: любит — не любит, сделать — не сделать, поступить — не поступить… И оба варианта, по опыту, вдруг оказались однозначны, равновеликий выбор: одинаково хорошо, или одинаково плохо, или одинаково все равно — уехать или остаться, придут к тебе или не придут, и даже вот: переспать или не переспать… Свершение грозит пустотой и разочарованием, и тогда все несостоявшееся, небывшее, непроисшедшее приносит чуть ли не удовлетворение, едва ли оправдываемое сохранением энергии и прочих возможностей — последних ресурсов, как в метели.
Давно бредешь, и устал, и темнеть стремительно начало. И нет уже ни времени, ни сторон света. Откуда вышел и куда идешь? И утробы-печки не видать уже, и цели не видать еще. Середина. Воет. Крутит. Смерч. В сон клонит. И страх вдруг исчезает. Тепло и равнодушно. В сугроб — и спать…
Почти так думал он, гремя яблоком, и оно грохотало, когда он его жевал, грохотало в его голове, как камнепад, и лишь постепенно, внушением, убедил он себя, что это не всеобщий грохот, от которого все просыпаются и вскакивают с постели и несутся с криками ужаса и непонимания, а лишь его собственный, маленький, внутренний грохот, в полной, глухой тишине. «И мы в тиши…» — какие-то строчки вспомнились ему, забубнили в нем. «И мы в тиши та-та-та-та-та…» Откуда, чьи?.. Они очень нравились ему когда-то — это он вспомнил, — волновали его. Хотя он их не понимал тогда. Будто своей непонятностью они ему нравились…
И мы в тиши полураспада на стульях маленьких сидим…[6]только и удалось вспомнить ему теперь. И тут холодный восторг понимания, полного понимания этих невнятных строк поразил его. Надо же! Как бы ни был далек поэтический образ, чужд и странен — он, прежде всего, всегда конкретен, даже не только точен, а именно предметен до чрезвычайности. Вот он, Монахов, сидит на маленьком стульчике, в такой уж тиши… У-ди-ви-тель-но! «Это о нем, именно так, правильно, так…» — с уничижающим восторгом думал Монахов, слезы навернулись ему на глаза. Тогда он эти стихи помнил, но не знал, а теперь знает, но не помнит… Слезы наполнили ему глаза и тут же кончились, хотя ему так хотелось плакать безудержно, навзрыд — но уже не получалось, уже прервалось. Разучился… И он лишь длил их, две сладкие большие слезы, боясь сморгнуть.
Сверху заплакал ребенок. Монахов взглянул на потолок, и слезы скатились. Снова раздались голоса, возбужденные, они росли, приближались. Один был Асин, убеждающий, другой — неприятно простой, подозрительный. Монахов больше не пугался, не замирал, и сердце его не ёкало — размеренно билось его сердце, и, даже если бы сейчас его арестовали и повели скованного, он, казалось, не возражал бы.
Но Ася убедила, шаги, голоса стали удаляться, и тогда в Монахове что-то испарилось и исчезло, как то же облачко. Он смотрел в окна — они, пожалуй, посветлели: стулья и кони выплыли из углов и потеряли в таинственности, становясь просто скучными, облезлыми. Он чувствовал себя ждущим словно бы с температурой в больнице, чтобы получить бюллетень, ждущим с пустотой и апатией начинающегося гриппа, чтобы уйти после всех этих ненужных осмотров и записей и тихо лечь и попытаться уснуть. Впервые, быть может, за этот день зашевелилось в нем и опасение перед домом, поздним возвращением и объяснениями. Правда, жена в больнице, но тем более ему должно быть стыдно и неловко — однако эти совестливые веяния он прогнал. Он еще отодвигал предчувствия расплаты и даже подумал: за что и какая тут может быть расплата? Просто объяснить ничего никому по правде невозможно… Ну, соврет что-нибудь: жена-то в больнице, а мать его не выдаст… Тут же он морщился от подобных своих соображений, но беспокойство росло, и озабоченность, как все это кончится и утрясется, кружила над ним и снижалась.
И когда Ася снова вошла, они посмотрели друг на друга в этой предрассветной, казенной и нетаинственной комнате издалека, отчужденно. И лишь секунду какую-то было Монахову неприятно, что и Ася — тоже, что в ней тоже кончилось, но тут же он внутренне с нею согласился, и так было даже удобнее ему и быстрее.
— Ты знаешь, — вяло сказала Ася, — там стерва одна что-то заподозрила… Придется тебе сейчас уйти. Ну, дождется она у меня! — Тут у Аси в голосе появилось чувство. — Пошли. Надо быстро пройти, пока она снова не высунулась. Я ее в кладовку упрятала…
— Как упрятала? — равнодушно удивился Монахов.
— Ну, послала… Ну, иди же.
И они пошли, и путь был куда короче, чем показалось сначала Монахову. В дверях Ася сказала равнодушно:
— Ну, ты позвонишь?
Монахов помялся ответить.
Тогда, на секунду, взгляд Аси стал как-то глубок и внимателен, в нем блеснул печальный огонек усталого ожидания и погас.
— Позвоню… — невнятно сказал Монахов.
— Позвони, слышишь? — вдруг звонко и отчаянно зашептала Ася. — Позвони обязательно! Слышишь? Слышишь? — трясла она его, будила…
— Позвоню… обязательно… — сонно сказал Монахов.
И вот дверь за ним закрылась, и он степенно пересекал площадку перед домом, сдерживая внутренний бег, а когда свернул за куст, где на секунду увидел себя стоящим с туфлями в руках, вздохнул изо всех сил и побежал. Он бежал через парк, уже светлевший в темных своих деревах, словно, кто-то гнался за ним, и даже действительно мерещились ему бандиты и хулиганы, которые его сейчас остановят и прирежут. «Справедливо, справедливо», — приговаривал он себе на бегу. И лишь выбежав из парка и столкнувшись с бессонным квартальным, в нерешительности посмотревшим на него: остановить или не остановить! — лишь тут словно споткнулся и перешел на шаг, трудно дыша. Из-за поворота, повизгивая, выехал ремонтный трамвай, это было Монахову по дороге, и, не ожидая от себя такой дерзости и прыти, Монахов улыбнулся милиционеру, подмигнул и вскочил на подножку трамвая. Милиционер погрозил кулаком — и все.
Монахов ехал домой, и ему легчало. Его мотало на рассветном, выплывающем из пара мосту, и он радостно глядел на мир. И то, что могло показаться ему неудачным приключением, вдруг вполне устроило и даже обрадовало его и чуть ли не исполнило удовлетворения. «Какое счастье, — думал он, — что ничего не произошло». Так ему нравилось то, что он не достиг сегодняшней столь владевшей им цели, что это случайное воздержание и неожиданная чистота чуть ли не начинала казаться ему собственной заслугой, побежденным искушением и подтверждением его высоких нравственных качеств. «Ничего не произошло, ничего не произошло», — повторял он себе, и лишь на мгновение мелькнуло в нем, что в этом «не» заключено что-то безнадежное и последнее, и нечем тут гордиться… но все быстро перешло на размышления, что же сказать матери, и ничего не шло на ум. «Я устал врать, не хочу», — почти самодовольно думал тогда он, прибавляя и эту свою сейчас неспособность придумать оправдание к удавшемуся сегодня воздержанию. «Как бы я пошел в больницу, как бы посмотрел ей в глаза…» — удовлетворенно думал он. И довольство собой, своей женой, своей жизнью, которая, не получаясь и распадаясь каждый день, все-таки получается в сумме этих дней, наполняло его. «Надо бы все-таки что-то придумать», — снова подумал он, спрыгнув с трамвая. Тут уже было совсем близко до дому, и вдруг его осенило, что можно и не придумывать, а рассказать все как было. Почти все. А если бы было… «Я бы так не мог», — подумал он.
«А что, может, я еще ей и позвоню… — думал он дальше, почти с легкостью, как под горку, и, придавая себе вид окончательной бодрости и наглости, поднимался по лестнице. — Может, мы еще и встретимся».
Пока он топтался у двери, доставая ключ, и лез им в замочную скважину, дверь распахнулась, и на пороге стояла растрепанная бессонная мать.
— Ты? — сказала она холодно.
— Я, — сказал Монахов потупляясь, и бодрость слетела с него.
Мать, пятясь, отступала в прихожую, и Монахов робко следовал за ней, нежно прикрывая за собой дверь, чтобы не шуметь. И боялся поднять глаза, зная взгляд, который был сейчас устремлен на него, его холодность и поджатость губ.
Мать перестала отступать, и Монахов замер перед ней.
— Где ты шлялся? — сказала мать.
Монахов молчал, чувствуя, как в нем нарастает холодное и жесткое нахальство.
— Мальчик… — вдруг всхлипнула мать, и Монахов изумленно и испуганно, медленно начал поднимать взгляд. — Мальчик… — всхлипнула она, обнимая его своими легкими, как сухие лепестки, руками. — Дай я тебя поцелую… У тебя мальчик!
Монахов смотрел с ужасом.
— Ну же! — вскрикнула мать, целуя его в бесчувственную, устраняющуюся щеку. — У тебя сын!
— Почему — сын? — сказал Монахов.
Он отвернулся и расплакался наконец. Может, впервые за много последних лет… Легко плакал он — нет, не разучился…
— Что ты! Не надо! Милый мой! — умиляясь сыновней чуткости, утешала и ласкала его мать. — Мальчик… это же хорошо!
И было не хорошо.
Оролхон Бокеев Кербугу — серый олень
А-аууа!
Мощный серый олень Кербугу — так в этих местах зовут вожаков оленьих стад — не пил и сегодня. Ему очень хотелось пить, но стоило только коснуться губами студеной воды родника, льдистых краев его, тонких и узорчатых, словно кружево, как его бросало в дрожь, а ноги слабели так, что, казалось, вот-вот он рухнет прямо на рога.
Тогда он отступал.
Но жажда была сильнее его — она гнала, требовала, жгла его внутренности, и он трижды тихо подходил к роднику и трижды отступал. Он и сам не мог понять — как же так: он хочет пить, вот возле его ног бурлит, кипит и смеется веселый родничок, а он все не может набраться решимости и погрузить в него морду.
Нет, это правда, что он, видно, постарел и ослабел, а это уж такое горе, горше которого ничего и не придумаешь.
Однако через несколько минут он уже думал иначе, — нет, нет, это еще не аул его старости, будут, будут еще у серого оленя-вожака дни веселого базара. И совсем не от старости он ослабел. Просто во время брачного гона три дня ему не пришлось сомкнуть глаз, он не давал отдыха ни ногам, ни рогам — вот и выбился из сил.
Он вспомнил, что и в прошлом году тоже был гон — но тогда он так не выбился из сил, а в позапрошлом году даже с целым стадом самок справился, ни одну из них не обошел. Так что же с ним случилось? Или ранняя осень в этом году была особенно холодна и ветренна, и он просто промерз до костей? Да, но за осенью идет шестимесячная зима, лютый дракон этих мест — не переносил ли он ее всегда, как комариный укус? Правда, нынешняя осень была очень ранней, и солнце сейчас постоянно в тучах, тяжелых и плотных, как льдины во время паводка. Небо стало низкое, серое, с утра до ночи идут дожди. Мелкие, косые, холодные, такие, что, кажется, самую землю они заставят завыть от тоски.
А ветер воет и воет — тоже холодный, пронизывающий, и вместе с ним летят куда-то полосы дождя. Но всего печальнее слышать, как воет лес. Его голос сливается с голосом дождя, ветра — и кажется, это не вой, а песня-плач об утраченных надеждах, и Кербугу — серый олень испустил протяжный долгий зов:
Аааа-ууу-аааа!
Голос его уже не был таким, как прежде, но все равно в нем еще чувствовался отзвук былой мощи. Но только отзвук! А раньше эхо разносило его могучие призывы на много километров окрест, и все, что было вокруг, — снежные горы, ущелья, затаившие в себе, смерть и ужас, подхватывали его трубный глас и повторяли стократным эхом. А сейчас его никто не услышал. Просто стоял старый олень над ручьем, взбухшим от дождей, и ревел, не то жалуясь, не то призывая кого-то на помощь. Но никто не откликнулся на его запоздалый призыв. Где же ты, былая быстрота? Где сила и отвага? Ведь ради них он всегда был готов пожертвовать всем. Нет ни одного момента в его жизни, при воспоминании о котором он не вздрагивал бы от восторга. И вот они улетели, и он стар, одинок, и слезы струятся из глаз.
И все-таки олень не сдается. Нет, он еще далеко не стар. Это просто молодые маралы своей егозливостью да суровая осень подточили его силы. А так он еще ничего. Так он еще вполне держится. Отступив от ручья, он крикнул еще раз, призывая свое стадо, — но это был не победный крик самца, могучего Кербугу, а зов отставшего оленя. Ответа не было и, подождав еще немного, он стал подниматься в горы. Но и горы, как назло, стали не те — выросли, что ли, — он лезет, лезет, а все нет конца уступам и перевалам. Он еле карабкается по камням. У него перехватывает дыхание, першит в горле. Его что-то давит и не пускает. Он остановился, чтобы передохнуть… голова его была опущена. Да, пожалуй, это если не самый конец, то уже сдача, покорность судьбе. Его гордая голова поникла, грудь, некогда высоко вздымавшаяся, обессилела — и все в нем пусто, немо, как в могиле. Дикое упрямое животное, которое каждый год отдавало рога, но никогда не позволяло хотя бы погладить себя, стало тихим и кротким, — а это означало высшую степень унижения. Удар в бок, полученный им в последней схватке (силой он был, пожалуй, с добрую тонну) снова дал себя знать, да так, что он чуть не упал.
И подумалось ему тогда, что теперь он только во сне увидит танец юной самки и что никогда не сможет ласково коснуться бока или спины маралихи-матери, гордо проходящей перед ним, что заблудился он в каком-то густом тумане, потонул в омуте быстрой реки, и из этого омута уже более не выплыть. Все это ему подумалось, припомнилось и пронеслось перед ним, и он поднял голову и, содрогаясь от боли и напряжения, каждым мускулом затрубил:
— Аааааа-уууууу-аааа!
Вчера рано утром, когда Кербугу, как обычно, сбил маралих в стадо и повел их в горы, олени-самцы окружили его, и вид у них был такой, что они умрут, а не отпустят с ним самок. Но недаром Кербугу столько лет был вожаком и каждый год одерживал верх в поединках. Он разогнал маралих и, раздувая ноздри, прокричал «аауууаа». И сразу стадо разделилось. Самки разбежались, а самцы, вздымая рога и взрывая копытами землю, сомкнулись и приготовились к бою. Стали друг против друга и, всхрапывая, косились на Кербугу, — каждый надеялся на победу.
Молодой крепкий олень, стоявший против Кербугу, отвел глаза: он дрожал всем телом. Еще бы! Нелегкое это дело — выступать против самого вожака. Но и Кербугу чувствовал себя не лучше. Он и без того знал, что нынешний гон для него будет особенно тяжелым, потому и хотел угнать стадо спозаранку. Но молодые олени заступили ему путь. Кербугу взглянул на своего противника: молоденький, с пятнадцатью мягкими отростками на рогах, а Кербугу перед ним робеет! Что же будет, когда в конце схватки он останется один на один с самым сильнейшим? Противники постояли, поколебались, преодолевая минутную робость и вдруг изо всех сил рванулись друг на друга.
Трах!
Начался бой!
Один мощный удар следовал за другим. Крепкие, уже начавшие ветвиться рога, со свистом разрезали воздух. Казалось, искры сыплются на землю из рогов и голов. Битва шла не на жизнь, а на смерть, за право быть первым. Прекрасные, словно выточенные руками искусного мастера, головы оленей взмывают вверх и остервенело рушатся друг на друга. Видны лишь силуэты, потому что все обволакивает такой густой туман, какой бывает только на Алтае. Но вот, волоча подол, туман пополз в низину, тогда становится видно, что на желто-зеленой поляне остались только Кербугу и его соперник — молодой олень Жасбугу. Остальные, потерпев поражение, словно растворились в тумане.
Поединок! Кербугу знал — таков закон мужества и силы могучего племени оленей. Но он не знал того, что этот закон существует и у разумных сыновей Адама и что они даже более кровавы и жестоки. Ведь люди не могут, как олени, отбушевав раз в году, мирно потом жить бок о бок. До Кербугу никаких сведений об этом не доходило, хотя он иногда и задумывался, почему люди держат диких животных в загонах и питают непонятную страсть к полым оленьим рогам.
Где поединок — там и справедливость! Минутное забытье прошло. Перед старым вожаком, взрывая землю, стоял Жасбугу. Взор у Кербугу затуманился, он с трудом поднял гудящую от тяжелых ударов голову и только тогда понял, что устал по-настоящему. Но Жасбугу все косился на него и все всхрапывал, огромное тело его было напряжено до предела, и он каждую секунду мог ринуться в бой. И в эти считанные секунды он вдруг увидел в Жасбугу не врага, не соперника, а себя самого в дни молодости. И от этого ясного понимания своего конца он закрыл глаза, и в висках у него заломило. Может быть, он в этой позе упал бы, да так и остался на земле, если бы не раздался мощный, призывающий к схватке зов. Молодой олень видел, что вожак ослаб, он мог бы одним сильным ударом в бок расправиться с ним, но был по-оленьи честен. Кербугу почувствовал себя пристыженным. Собрав всю свою гордую волю — наследие диких предков, никогда не подводившее их, поднял голову и откинул рога. Широко раскрытые влажные глаза его одновременно и уничтожали противника, и молили о пощаде: «Уступи один раз свой черед, у тебя в жизни все впереди. Уступи… Ведь следующей осени у меня, может, и не будет».
Жасбугу попятился назад и с налитыми кровью глазами приготовился к схватке. На мгновение Кербугу показалось: это не олень стоит перед ним, а жестокий бородатый старик с ножовкой, и вот сейчас он начнет пилить его драгоценные рога с восемнадцатью ветвями. И словно морозным железом прожгла его обида. Он задрожал от ярости. Вот он, его смертельный враг! Они стоят друг против друга, а в стороне мирно щиплют траву другие маралы, и им безразлично, кто падет, а кто станет вожаком. Кербугу всхрапнул, выбил волосатыми копытами ком земли, отступил. И вдруг молнией метнулся на врага.
Трах!
На секунду он потерял сознание, а когда очнулся, увидел, как, пошатываясь и ковыляя, уходил Жасбугу. Из глаз его брызнули слезы, и он мощно, как в молодости, затрубил:
— Ааааааа-ууууу-ааааа-ууууууууууу!
…Кербугу поднял голову, сорвал пожелтевший лист березы и впервые за утро стал жевать. Туман еще не рассеялся. Пробивая его то там, то сям, падали дождинки-сиротинки. В воздухе было очень сыро. И на земле, и на небе — всюду текла вода, стоило тронуть березу, как с нее тоже сыпались капли. Чего ни коснешься — всюду слезы. В мертвом лесу — ни души, похоже, что на свете остался только один несчастный Кербугу. Не слышно даже его зова. Он один, стада нет.
Да и сил у него не хватило бы для всех этих юных, этих жадных молодых маралих. Потому сразу же, почувствовав его бессилие, они бросились бежать. Это же непорядок, когда старый, дряхлеющий олень разгоняет молодых самцов. Но Кербугу поддавал их рогами, и они бежали туда, куда он их направлял. И молодой олень, проигравший сегодняшнюю битву (он еле волочил ноги и вообще походил на пса, проглотившего иголку), не отставал тоже. Кербугу несколько раз оборачивался, угрожающе наклонял рога — и побитый соперник его сразу же шарахался, убегал, чтобы через минуту снова заковылять за стадом. А стоило Кербугу отвернуться, как все молодицы подскакивали к Жасбугу и начинали его обнюхивать. А тот сам не зевал. Кербугу, одержавший с таким трудом эту свою, вероятно, последнюю победу, понимал, что ни сил, ни желания на все дальнейшее у него нет. И все-таки, раздувая ноздри, обхаживал пахучую озорную молодицу с иссиня-черной шерстью, от которой так и разило крепкой оленьей плотью. А кости у него ломило, и все суставы как бы налились тяжелой желтой жидкостью и нестерпимо ныли. Ведь бой продолжался целый день. Где ты, его сила и ярость? Куда девались те дни, когда он сбивал в кучу десяток маралих и не забывал ни одной из них… И сейчас он тоже наскакивал на молодицу, терся о нее боком, ласкался, прыгал, но в груди его словно лежал черный тяжелый камень, и он ничего не мог, ровно ничего. И замученная молодица, тоже уже лишившаяся покоя, только безмолвно и жалобно обращала прекрасные глаза свои на молодого Жасбугу, который, не рискуя подойти, все время держался поодаль. У молодицы кружилась голова, она вздрагивала всем телом и, вконец ослабев, жалобно и кротко мычала, покорно поглядывая на своего мучителя. Но увы! — Кербугу был бессилен. Ничего, кроме желания выстоять, не оставалось в его некогда могучем теле. И тут Жасбугу не выдержал — его мутило от этой возни, от этой горделивой стариковской немощи, от того, что старик этот не в силах даже как следует тряхнуть рогами. И словно барс молодой, прыгнул на старика. А тот вдруг оборвался, рухнул на колени подле молодицы. И тогда Жасбугу с ревом и свистом налетел на него («сдыхаешь, старый пес, а лезешь туда же!») и нанес такой страшный удар в бок, что от него старый вожак, десять лет не знавший поражения, упал навзничь. И жалко торчали его бессильно шевелящиеся ноги. А молодицы, увидев это, подбежали к победителю, закружились вокруг него, стали лизать его губы. И в следующее мгновенье Жасбугу уже гнал все стадо через перевал. Кербугу тоже еще мог вскочить на ноги и догнать стадо. Если не молодица, то любая другая сильная крепкая олениха-матка не отвергла бы его. Но уже все желанья погасли в нем. И было непонятно, зачем он рвался в этот бой, что хотел доказать, когда отлично знал, чем все это кончится. Эх, старость, старость, почему ты не видишь себя. День, проведенный на базаре юности, обязательно принесет тебе тысячу дней муки и страданья.
Кербугу долго лежал, собираясь с силами. Поначалу, видимо, в горячке, он не ощущал боли. Сейчас все нутро его ныло. Ноги не слушались его, и он едва дотащился до края леса, там, углубившись в чащу, он лег и пролежал, не шелохнувшись, до самого утра. И только когда забрезжил рассвет, медленно подошел к ручью.
Напившись, он стал подниматься на гору. Жухлый березовый лист, проглоченный недавно, очень мешал ему, похоже, он прилип к нёбу, и Кербугу никак не мог освободиться от него. В животе заурчало — перед гоном он не сорвал ни единой травинки. Бока его впали и словно слиплись изнутри. Глухо ныли ростки вновь пробивающихся рогов. Эти рога принесли ему столько боли и несчастья, что он разуверился во всем белом свете. И сейчас он решил отыскать где-нибудь густые заросли кедровника, лечь в них, свернуться и до следующего водопоя или до конца жизни, — а до него и осталось не больше вороньего шага, — лежать, думать и вспоминать. Но первое, что он услышал, это ликующий голос покалечившего его Жасбугу. Он донесся из-за дальних отрогов белой горы. Ему был знаком этот ликующий рев. Когда-то, раскроив лоб старому вожаку и завладев стадом, он тоже пел эту громогласную песнь победы. Но мир переменчив, и всему на свете бывает конец.
Аааа-ууууу-аааа!
Возможно, Жасбугу — его плоть и кровь, его сын. Только у него рога не из восемнадцати ветвей, а из пятнадцати. И может быть, Кербугу последний из той редкой породы оленей, что имеют рога с восемнадцатью ответвлениями. И еще может случиться, что от этого молодого глупца, который своим «ауа» оглашает сейчас все предгорья, родится олененок с тринадцатью ветвями, а от того — с одиннадцатью, а потом с десятью и восьмью… А в конце концов народится что-то совсем безрогое, комолое, которое и оленем назвать нельзя будет. Все возможно. И Жасбугу должен был уважить раскидистые, восемнадцатиостные рога старика, потому что у самого никогда таких не будет. Но вот не уважил, а вступил в бой и отобрал стадо. А у бесстыжих маралих какой разум? Кто сильней, тот их властелин, за тем они и следуют покорно. У маралих ни ума нет, ни рогов, недаром они — комолые.
В свое время важенка[7] родила малыша Кербугу в густом караганнике. В полном уединении — сюда ни люди, ни звери не заходили — она дождалась, пока он не встал на ноги, и только тогда привела его в стадо. С тех пор чего он только не перевидел: и доброго и худого, чему только не радовался, о чем только не печалился. Но до сих пор он не в силах забыть свое первое страдание.
Олени тогда мирно паслись на склонах холма и в ложбинах, но вдруг раздались крики и улюлюканье — из-за кустов выскочили всадники с куруками[8] в руках. Кербугу, ошарашенный, стоял, не зная, что происходит. И вдруг он увидел, как на вороной со звездочкой на лбу лошади прямо на него мчится бородач. И не успел он даже опомниться, как на его рога набросили курук. Он видел, как олени ринулись в низину, и рванулся вслед за ними. Но люди на быстроногих конях, покрикивая и тесня со всех сторон, загнали его сначала в большую ограду, потом в другую, поменьше. И так он переходил от загона к загону, который все уменьшался и уменьшался, пока не заскочил в маленькую калитку, и она за ним тут же захлопнулась. Кто-то, тыча его длинной палкой, погнал вдоль частокола, потом заставил вскочить на деревянный помост и отгородил поперечным заслоном. Кербугу стоял и испуганно перебирал ногами. Как и для чего он оказался в этом маленьком помещении, он не понимал. Хотел спастись, а попал в ловушку, И вдруг что-то словно клещами стиснуло его виски, и резко оборвалось, ухнуло сердце, помост провалился куда-то в подземелье. Клещи давили все сильнее, небо упало на землю, лес и горы повисли вниз вершинами, человек вверх ногами, — вся вселенная перевернулась в повлажневших глазах оленя. А человек, хозяин этой вселенной, ходил вокруг, держа наготове пилку-ножовку; и в его ненасытных, алчных глазах олень увидел свое отражение. Кривые зубья пилы вгрызлись в мохнатые основания рогов, и тут Кербугу показалось, что целый миллион муравьев набросился на его обнаженные мозги и пожирает их, и, ох как заныли тогда его ровные белые, как жемчуг, зубы. Огромные, испуганные, молящие глаза его налились кровью и чуть не вылезли из орбит. Вот так впервые олень, гордый, вольный, носившийся с холма на холм, из низины в низину наперегонки с ветром, постиг горькое и сладкое начало жизни и вкусил ее. И сделал это — человек! Наверное, если бы малышу вбили в пятку гвоздь и подковали, он был бы так же несчастен и жалок, как Кербугу сейчас. Ох, ты, человек! Все высокое ты стремишься низвергнуть, все белое очернить, честное оклеветать и оподлить — и на каждую подлость есть у тебя свое оправдание — расхожие словечки, вроде вот таких истин: «нет худа без добра», «не было бы счастья, да несчастье помогло», «не было бы злодеев, не было бы героев». Пусть все это так, но чем же ты оправдаешь страданья Кербугу?
Его высвободили из тисков, он выскочил прочь, прыгнул, хотел тряхнуть рогами, но комолая голова словно опустела и рассохлась, как пустой бочонок. И тогда ярость, будто лава из вулкана, забила в нем. Кербугу одним махом перепрыгнул через вороного со звездочкой коня — он стоял у коновязи — и помчался, как вихрь. Куда глаза глядят. Подальше от людей. Он бежал не переводя дыхания, не останавливаясь, и готов был так бежать, пока хватит сил, но перед ним вырос заплот — забор из нарезанных жердей. Кербугу побежал вдоль него в надежде скорее добежать до конца, но забор не кончался. И когда он, обежав все горы и низины, воротился на прежнее место, он понял, что они — олени, живут в загоне. В пространстве, окруженном кольями. Летом загон просторен, они в нем ходят к водопою, пасутся, а когда приходит зима, их сгоняют в загон потеснее. Зимой из незамерзающего ручья они пьют воду, а едят чуть припахивающий силос. Летом же их загоняют в узкий коридор. Настоящей воли для оленей, видно, не было и не будет…
Так и лежал Кербугу под густыми зарослями самырсына[9] и вспоминал о том, как он тосковал по воле, когда у него впервые срезали рога. Сколько с тех пор прошло зим, сколько весен пролетело, столько раз он лишался рогов… Эх, за всю жизнь ни разу не было случая, чтобы он сам, как наступит срок, сбросил свои рога в восемнадцать ветвей. Да, восемнадцать ветвей — это и счастье, дарованное природой Кербугу, и горькое горе его… Недаром люди накидывались на него, словно вороны на кровь, и ставили его в станок раньше всех.
Он долго лежал, дрожа, как забитый пес. Никто не пришел к нему. Куда-то исчезли даже люди, обычно в разгар сезона налетавшие, как пчелы, не подошла и ни одна из тех маралих, что во время гона осаждали его и не давали прохода. А куда девались те друзья олени, что ранней весной пускали его первым разбивать лед и послушно следовали за ним. Все ушли, все покинули старого оленя. А ведь самое страшное и горькое — это знать, что умираешь всеми забытый, одинокий и ненужный. И он опять вспомнил, что, когда он был в расцвете сил и могущества, маралы не давали даже птице задеть его крылом. Он был всегда в центре. И в дни гололеда и при любой опасности маралы не давали ему быть ни впереди, ни сзади, только в середине стада — так безопаснее! Лучшие травы, самая чистая, прозрачная вода — все предназначалось ему. И вот он, их бывший вожак, лежит униженный и обессиленный. И никто не подойдет к нему. Уныние и отчаяние снова овладели Кербугу.
Хоть бы глоток воды! Тяжелый свинцовый туман рассеялся, и наконец сквозь деревья проглянуло солнышко. Оно словно бы ласково спрашивало Кербугу: как, мол, себя чувствуешь? В низине с грохотом неслась по камням горная речка. Только природа-мать не забыла его. Кербугу поднялся из-под зарослей самырсына, подставил отяжелевший лоб лучам солнца и натужно и хрипло, даже самому страшно стало, коротко крикнул:
Аааа-ууу-ааа!
Вместе с ним самим угасал и его голос. Он взглянул на снежные вершины невысокой горы, белевшие сквозь дымку.
В детские годы, когда он был маленьким олененком-козыка, эта вершина казалась невозможно высокой, а когда он повзрослел, она вроде бы стала ниже, а вот теперь опять высоко упирается в небеса и вновь недосягаема. Эта белоснежная вершина казалась Кербугу волшебной мечтой. Он тосковал по ней, глядел на нее с надеждой и верил, что однажды его копыта коснутся ее чистой белизны. В трудные минуты жизни стоило ему только прикрыть глаза, как сквозь голубую дымку выступала всей своей громадой белая гора, его мечта — Акшока[10], манила его и звала трубными звуками «аууа». Иногда эта бело-голубая вершина тут же на глазах превращалась в серого волка или в бородатого оленевода — и тогда Кербугу поднимал ресницы и больше уже не смыкал их. Он не знал, что предки его раньше обитали у подножия этого хребта Акшока. Его прародители сотни и тысячи лет назад, никогда не слыша человечьего окрика, вольно паслись на зеленых холмах Белухи. Свободные стада оленей не знали курука, выбирали самые тучные и самые зеленые луга с ароматными травами, ходили на водопой к самым чистым и вкусным родникам. Они не спеша переходили от холма к холму, от одной лощины к другой и засыпали, укутавшись в бархатные летние ночи, там, где заставала усталость. А в иные ночи, когда с небес лила яхонтовый свет полная луна, тысячные стада, пасущиеся там и сям, казались беспечными полчищами таинственного воинства. Но края неба алели все больше и больше, и стада выше и выше поднимались по всей шири предгорья, входили в белесые облака, обложившие вершины холмов, и пропадали в них. Позже олени переменили место своего обитания. И только тогда они поняли, что вместе с родиной предков они потеряли свободу. А когда впервые к их ворсистым рогам прикоснулась звонкая ручная пилка, они поняли и то, что ею на корню срезается для какой-то надобности самое дорогое, что у них было, — воля и что ее уже им никогда не вернуть.
Да, тот, кто оторвал оленей от древнего обиталища их, а потом пригнал в эту узкую долину, поступил жестоко не только с ними, но и с давними обитателями этих мест — лошадьми. Какой-то человек написал письмо белому царю, и тот отдал ему все пастбища и луга, а тех, кто пас коней, угнал на лысые такыры, в желтую степь со скудной жесткой травой. Олени лишились родных мест, их никак не радовали чужие травы и воды, и с тех пор оленье племя год от году стало постепенно вымирать…
Полежав и отдохнув, Кербугу встал и медленно направился к ограде. Деревянная лестница, набухшая от дождя и воды, как всегда бледно серела вдали. Так было в прошлом году, было нынче и будет всегда… всегда… Кербугу робко протянул морду и почесался о лесенку. До ноздрей его донесся кисловатый запах мертвечины. Кербугу всхрапнул и покачал головой. Потом отступил на шаг. Он еще раз взглянул на Акшока — и опять она, словно белая чайка его мечты, белела сквозь голубую дымку. С вершины тянуло легким ветерком. Он был свежим и теплым, как парное молоко, и так же, как молоко это, вливал новые силы и бодрость. И всем тем, кто был долго тут и дышал воздухом вершин, казалось, что они слышали трубный олений глас, это мощное «аууа», древний боевой призыв силы и дерзания. Вольная, беспечная жизнь! Только здесь, около белых гор, и была она возможна. Но белые горы заграждала мертвенно-неподвижная, скверно пахнущая, состоящая из кольев, но все равно непоколебимая ограда эта. Не было бы ее, и Кербугу тут не было бы. Он давно бы умчался к белой горе, сунул бы морду в снег, жевал бы его, хрустел, пока не охладил пылающее нутро свое, свое могучее сердце, сожженное горем и жалостью к себе. О, утерянная моя свобода! — ревел он. — О родная природа моя! О вольная воля! Так он стоял за проклятой оградой, глядел на белую гору столь долго и пристально, что гора начала колебаться и расплываться, как марево. Кербугу набрал воздуха, чтобы испустить такой крик, такой неистовый рев, от которого бы снега поползли с вершины, а его иссохшая, словно бочка, грудь разорвалась бы на части. Это был прерывистый, надсадный и, если уж так говорить, жалкий крик: «Ааааууууааа-ууууаааа!»
Но серые слепые скалы даже не удостоили старого оленя своим ответом: как стояли, так и остались стоять, и никто не откликнулся.
А солнце пекло все сильнее и сильнее, и роса, блестевшая на синих листьях, как бусинки, упадала и исчезала. Но земля была ненасытна и жадно впитывала каждую каплю.
Раньше здесь пели птицы, а сейчас никого из них тут не было, и только из далекой вышины слышался их крик:
Прощайте, прощайте, прощайте!
Откуда-то очень далеко, из ложбины, послышался брачный крик молодого оленя, вдруг прозвучал выстрел, и он умолк.
Да, вот так все и происходит — молодые сходятся, старые уходят, слабых убивают, а жизнь все равно продолжается.
Где-то близко сел вертолет: человеку все чего-то не хватает, и вот он залез уже на небо.
Ни во что уже Кербугу не верил, ничего не ждал, во всем разочаровался.
И тут к нему пришли великое бесстрашие и решимость. Ему надо покинуть эту проклятую ограду и вырваться на свободу. Его тело было разбито и расшатано, у него ломило грудь и схватывало сердце, но он напрягся и зарядил надеждой каждый свой мускул. Этот подвиг мог быть только последним. Сейчас он освободился от всего, что тяготело над ним, — от человека, от его хватких рук, от бесстыдной молодой оленихи, от унижения перед молодыми соперниками, от старости и, наконец, от изгороди.
Глаза у него горели, изо всей силы он рванулся головой вперед — вот она, свобода! Несколько секунд стоял неподвижно, не понимая, что произошло, а потом, поняв, что ограда позади, что здесь он на вольной земле, что никто ему больше не хозяин, помчался к белой горе.
Он бежал и боялся оглянуться, он не мог видеть эту проклятую ограду! И вот она, мечта его — белая гора! Перед ней стоял какой-то столб, он обнюхал его, потерся носом, потом боком, оглянулся и, содрогаясь всем телом, вдруг затрубил:
Ааааа-ууууу-аааааа-уууууу-аааа!
И снова в этот миг он был молодым и сильным, и не было в стаде оленя сильнее его. И, наверное, понимая это, все скалы повторили трубный звук, и долго он перекатывался по горам, потому что вся жизнь его закончилась этим, «ааууаа».
Да, так оно, вероятно, и было. Он стоял, он смотрел: молодой, сильный, готовый на любой подвиг, и в это время две пули впились в его рога, в те две горящие пульсирующие точки боли, которые остались от рогов. И старый олень Кербугу, вожак, не знавший до этого поражений, рухнул на землю.
Он даже ногой не шевельнул, он был мертв и все.
Тело Кербугу лежало где-то недалеко от ограды, а гордый дух его уже шел по пути предков к истинной и вечной свободе.
Непонятно, как это случилось, но выстрелили с разных сторон, и, наверное, сразу же испугались друг друга, поэтому никто не приблизился к мертвому оленю. Так он и остался лежать под белым столбиком, на ничейной поляне, могучий и не знавший поражений до этого дня, вожак Кербугу.
Никто к нему не подошел, никто не взял на себя этот выстрел на вольной земле в вольного оленя. А между тем из загона, над деревянными жердями, гремел ликующий трубный глас, и все покорное стадо, все молодые самцы и самки сбегались на него.
Это торжествовал свою победу новый вожак Жасбугу.
Вот и все. Но не все примирились со смертью Кербугу. Молодые и пылкие уверены, что он гуляет по склонам белой горы, и порой даже как будто можно услышать его трубный глас «аауа». Он свободен. Но другие, постарше, знают свое — олени могут быть свободны только на том свете.
Перевод с казахского Ю. Домбровского
Юрий Бондарев Степь
Иногда я пытаюсь вспомнить первые свои прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что это может возвратить меня в наивную пору счастливых удивлений, смутного восторга и первой любви, вернуть то, что позднее, уже зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно.
С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи? Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства.
Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение самого высшего счастья — это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, навсегда — утраченного с сущей красотой вечного, детского со взрослым, подобно тому, как соединяются золотые сны с явью. Однако, может быть, первые ощущения — неясный толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, мотал, исхлестывал травы под сизым лунным светом и скрип множества телег на пыльных дорогах перемешивался с первозданной трескотней кузнечиков, заселивших своим сопровождающим звоном многое верстные пространства, днем выжигаемые злым солнцем до горячей сухости пахнущего лошадьми воздуха?..
Но первое, что я помню, — это сырая свежесть раннего утра, сочные травы, тяжелые от росы, высокий берег реки, где мы остановились, видимо, после ночного переезда.
Я сижу в траве, укутанный во что-то пахучее, теплое, мягкое, наверное, в овчинный тулуп, сижу, среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер (которых у меня не было), а рядом с нами, тоже укутанная во что-то темное (ясно помню только деревенский платок на ее голове), сидит какая-то бабушка, кротко-тихая, уютная, домашняя. Она чуть наклонена к нам, как бы своим телом давно согревая и защищая от рассветного холода (это вижу и чувствую совершенно отчетливо), — и все мы смотрим, как очарованные, на чудовищно огромный, малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно огненный, такой искрящийся в глаза брызгами лучей, весь отраженный на середине розовой неподвижности воды, что все мы в счастливом безмолвии, в затаенной ритуальной радости ожидания сливаемся с его утренним теплом, уже ощутимым нами на овлажненном росой берегу безымянной степной реки.
И удивительно — как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, траву, реку, солнце над ней и нас на том бугре, всех, наклоненных слева направо, темную нашу кучку, укутанную на холодке рассвета тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами, — вижу это вроде со стороны, но не помню ни одного лица. Лишь белое, круглое, не лицо, а доброе пятно под деревенским платком ощущается мною, рождая чувство детской защищенности и невнятной умиленной любви к ней и к этой прелести открывшегося на берегу реки утра, неотрывного от доброго лица никогда позднее не встречавшейся мне бабушки или прабабушки…
Когда же я вспоминаю этот осколочек полуяви, полусна, то испытываю непередаваемо покойное, подхватывающее меня мягкими объятиями счастье, как будто впереди открылась ласковая доброта мира и тот миг поднявшегося из травы солнца, встреченного, увиденного нами где-то в пути, в длительном переезде куда-то. Куда?
Странно вдвойне: я помню освещение, запахи, время переездов и ожидание медленного приближения к невиданной и неизведанной красоте, к обетованной земле, где все должно быть радостью.
И встает из уголков моей памяти серый, дождливый день, большой деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой на бугре проступает какой-то расплывчатый в своих очертаниях город, с церквами и садами, что-то не совсем определенное, четкое по предметам, но все-таки большой город.
Я не вижу самого себя — в доме ли я или возле дома. Я лишь представляю мокрый завалинок, наличники резные и истоптанную копытами дорогу — от дома к реке — и чувствую лепет дождя и ожидаю, что меня сейчас позовут, а вокруг в сыром воздухе теплый запах лошадей, сбруи, навоза, запах хлеба — эти удивительные запахи, вечные, как жизнь, движение, томительно беспокоящие меня до сих пор.
Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови моих предков? Уже будучи взрослым человеком, я спросил у моей матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда не было на белом свете. А вернее — мне кажется так, — она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая навсегда осталась в моей памяти.
Среди темноты я лежал на арбе в душистом сене, таком пряном, медово-сладком, что кружилась голова, и вместе кружилось над головой черное звездное небо, устрашающе-далекое и огромно-близкое, какое бывает только в ночной степи, и перед моими глазами колюче мерцали, шевелились, горели, тайнодейственно перестраивались созвездия, в высотах сияющим белым дымом тек, двумя потоками расходился Млечный Путь, что-то происходило, совершалось там, в темных небесных глубинах, пугающее, счастливое, непонятное…
А внизу наша арба медленно переваливалась по степной дороге, и я словно плыл между небом и землей с замирающим от восторга сердцем. Невысказанный восторг вызывало еще то, что все это разверстое вверху черно-звездное пространство вселенной и вся чернота летней степи были туго заполнены металлическим звоном сверчков, неистовым, страстным, не прекращающимся ни на секунду, и, казалось мне, будто сверлило серебристо в ушах от царственного блеска распыляющегося Млечного Пути…
И лишь по-земному подо мной лениво покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль мягко хватала колеса, доносилось тихое, влажное пофыркивание невидимых внизу лошадей, чувствовался запах сена и приятного конского пота. Эти привычные звуки и запахи возвращали меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими необъяснимыми звездными таинствами неба, испытывая почему-то неизбывную радость перед непонятным сладостным миром.
«Я всех люблю, — думал я. — И все тоже любят меня. И так будет всю жизнь».
Потом рядом зашевелился отец, я услышал возле себя заспанное его покрякивание, ощутил запах его табака, одежды, знакомый и терпкий; отец, смутно чернея, сел на сене, поглядел по сторонам, на едва белеющую дорогу, осторожно взял винтовку и двинул затвором с легким железным стуком, вынул обойму и вщелкнул ее опять, протерев патроны рукавом. Затем отец вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Я замер, закрыл глаза. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать? И зачем?
В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.
Но и никогда потом в жизни не повторялось того единения, слития с небом, того немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.
Александр Борщаговский В лугах
Перед тем как уйти в пойму, Алексей поднялся на высокий берег Оки, к дуплистым липам. Взгляду открылись травянистые склоны, уступы, выбитые овцами, река и паром вдалеке с лошадьми, с машинами и людьми, неоглядная пойма, окованная по горизонту зеленым и черным мещерским лесом. Пойма распахнута широко: песчаный створ старицы, извилистая дорога в Мещеру, две рощи с ласковым именем — Липки, ближние и дальние, и озерца, озерца, бочажки и ямины, едва прочерченные камышом.
День прошел в смятении, к вечеру Алексей надел серый костюм, примерил и галстук, но отставил его и взбежал на высокий берег, чтобы лучше приглядеться к дороге на Липки, постоять на том месте, где его поцеловала Тоня, увериться, что оно есть, это место, и густые ветви над ним, и стожок у заречной рощи.
Он заторопился — может случиться, что Тоня поспеет к Липкам раньше, чем он, переедет паромом или в лодке, — лучше поспешить. И Алексей бросился вниз, к гулу стеклянно-изогнутой воды, вступил на плотину, узкую, в четыре доски, со стальным тросиком-перильцами, сквозную, щелястую, подрагивающую от напора реки, живую, не окаменевшую в бетоне. Шел, не держась за тросик, минуя шлюзовских рыбаков со спиннингами, с далеко распущенной по струям снастью.
На толоке короткая трава пружинила, Алексей на ходу вытер носки туфель о штанины и, довольный возвращенным блеском, шел напрямик, пока не уткнулся в извилистую узкую топь. Темная вода перемежалась ископыченной грязью, заслон осоки тянулся далеко, показывая, что нужно вернуться к грейдеру. Скошенный луг все еще дышал недавним разнотравьем: запахи сочились из луговой стерни, стога вобрали в себя яростные запахи июля и, разогретые за день, отдавали их в сумерки пойме.
Он ощутил тоскливое желание, чтобы Тоня жила в деревне одна, одна как перст: где-то есть родня, отец с матерью, но не здесь, не в этой деревне, а здесь она одна, и одиночество томит ее не первый месяц и делает отчаянной, какой он узнал ее сегодня в полдень. А может, не одна, а с сыном или с дочкой, но без мужа. И Алексей, посмеиваясь над собой, рисовал себе избу Тони, чистую горницу, сероглазую девочку, которая, едва увидев его, потянулась к нему, приняла, признала…
Уступая дорогу лесовозам, торопившимся к парому, повозкам с длинными, волочащимися по пыли еловыми хлыстами, он перебирал в памяти встречу в магазине, вспоминал всякое ее слово и движение.
После полуденной площади в магазине его обступили сумерки. Свет входил в дверь, как и люди, боком, в щель, скользнув по вытертой дверной жести. Два окна заколочены наглухо, застроены полками, два других запечатаны ставнями. У прилавка что-то по мелочам набирали старухи; Алексей стоял, спиной и руками упираясь в длинный прилавок. Хорошо в прохладе, в сумеречном спокойствии, среди запаха печеного хлеба и мазутно-темного масла, налитого в бочку.
— С баржи? — спросила продавщица, отпустив старух.
— У нас не баржа, плавучая лаборатория. Дом на воде.
— Пароход свой, что ли?
Она прошла за прилавком, нагнулась, потом выпрямилась и попала в полосу света. Лицо с широко поставленными глазами, чувственное, будто сердитое на мелочность магазинного быта, и строгая небрежность взгляда поразили Алексея.
— Нас катер на буксире привел.
— А говорит, не баржа! Баржа, да еще не самоходная, — выговаривала ему женщина, не глядя, повернувшись боком, так, что он увидел, ее в профиль, с приоткрытым, коралловым ртом, чуть срезанным носом и зеленоватым свечением глаза, которому, кажется, все равно, на что смотреть — на Алексея или на полку с хозяйственным мылом, банками повидла и уксусной эссенцией.
Она сняла с полки бутылку водки.
— Одну?
— Мне джем и сигареты с фильтром, — сказал Алексей.
Он слышал, как она шлепает босиком за прилавком. Может, они так и расстались бы; Алексей приготовил трешку, ей оставалось только протянуть руку к полке. Но в магазин вошла женщина, за ней, скрипя протезом, поднялся на крыльцо инвалид, подкатил мотоцикл, нагнав пыли, из пыли вынырнули двое «марсиан» в кирзовых сапогах и белых шлемах, — появление этих людей с безгласной, оцепеневшей в зное площади казалось чудом. Продавщица заработала быстро, посматривая на Алексея, дожидаясь, что он не утерпит, заскандалит, почему она обслужила вперед других.
— А вы смирный! — Она выбралась из-за прилавка, прошла босоногая к двери, небрежно распахнула ее и подперла ящиком. — Ослепнешь с вами в темноте.
Алексей был пойман в капкан света, схвачен зорким взглядом женщины, неспокойным чувством их обоюдной отделенности от деревни.
— Мне торопиться некуда. У вас хорошо.
Женщина обвела неверящим взглядом стены и полки.
— Чего тут хорошего?! — Она отодвинула ящик, а двери не тронула, и без того дверь заскрипит и повлачится обратно к стертому порогу.
— Прохладно у вас.
— Прилетай зимой, еще и померзнешь. В валенках ноги околевают.
Она заговорила с ним просто, грубовато, без скрытого интереса. Сейчас она снимет с полки банку джема и пачку сигарет, даст ему сдачу с трешки и закроет магазин на обед. Но она задержалась взглядом на его разъехавшейся выше пояса ковбойке, на проглянувшем голом животе.
— Что же тебе пуговок никто не пришьет?
— Значит, некому.
— Неужто сам не пришьешь?
Он смутился под ее взглядом: быстрым, ощупывающим, не оставляющим и лоскута, закрытого от нее.
— Вот, джинсы: сам кроил и шил сам. — Ничего другого Алексей шить не умел, а джинсы шил: узкие, в обтяжку. Он шлепнул себя по глубоко подобранному животу. — Пуговок не шью для вентиляции.
— Будет врать! — Она присела на корточки, повела рукой по штанине. — Вроде сами: больно нитка грубая. Из нее сети вязать.
— Джинсы только так и шьют…
Она порывисто поднялась, и с этой секунды ею владела веселая, раскованная напряженность. Алексей растерялся от внезапного ласкающего прикосновения женщины. Дальше все сделалось быстро, неожиданно, сумбурно, будто слова — пустяки, прикидка, а главное — впереди, оно еще только будет, и еще неясно, в чем оно — главное?
— Как же вы загорели!
— Плохо? — Она повела плечами, намекая, что загар прихватил ее всю.
— Красиво!
По площади, затмевая пылью небо, промчался грузовик; на реке кричала баржа, просила входа в шлюз; склочно зашумел петух где-то рядом, — все шло мимо них, не отпечатываясь, не заслоняя от Алексея беловолосой женщины.
— В лугах почернела; в сенокос у нас все выходят, и почта, и школа, и счетовод. Все косят…
Она намекала, что сенокос — не ее дело, ее должность поважнее, но в страду, когда и деревенская интеллигенция выходит с косами, могут посягнуть и на нее.
— Сенокос издавна в деревнях как праздник, — сказал Алексей.
— Ага! И деньги, и праздник. — Она заговорила быстро, легко, включила лампочку, закрыла дверь изнутри, сунула ноги в потрескавшиеся белые босоножки, отдала Алексею джем и сигареты и повела по складу-подсобке, держа его за рукав. — Вперед на колхоз косим, а потом себе — боровину. У нас крутом леса. А соседи, лыковские, за Старицей косят, там их земля. Они и на покос и с покоса в лодках, и все поют. Свяжут штук пять больших лодок, всех моторка тащит. А запоют — и мотора не слыхать…
Она погасила лампочку, дневной свет проникал в щели бревенчатой пристройки, сникал на мешках и ящиках, на груде бутылок, на ржавых селедочных бочках; женщина придвинулась к Алексею.
— Тебя как зовут?
— Я — Алексей. А вы?
— Тоня, Антонина… — Она рассмеялась.
— Вы давно продавщицей здесь?
— Я завмаг.
— Верно, — поправился Алексей. — Это в городах продавцы, бухгалтерия…
— Здесь одни мои руки! — Она вскинула темную руку хвастливо, но и устало. — Хорошо еще, товар возят, не на горбу таскаю.
Она дышала близко, часто, будто о чем-то просила, ждала прикосновения, ласки, всерьез или для игры, чтобы оттолкнуть и посмеяться: в деревне и это водится. Алексей стоял неподвижно, боясь выдать свое волнение.
— А боровину вы далеко косите?
— Нашим лесам конца нет, до самой Волги, — охотно ответила женщина, хотя и поняла, что вопрос он задал праздно, из неловкости. — Береза, дуб, а ели такие, что шею, глядя, сломишь… Я луг люблю. В лесу ночь — страх, а на лугу — нет, луг и ночью добрый. — Она кинулась к выходной двери, открыла, жестом позвала Алексея на крыльцо и, запирая на замок дверь, сказала: — Покажу тебе наш луг, ага? Никто его так не покажет. — Не отворачиваясь, сунула ключ за бюстгальтер, спросила серьезно: — Пойдешь в луга?
— Пойду! — откликнулся Алексей. — С вами пойду. Сейчас?
— Мне еще работать. В лугах вечером хорошо. — Она пересекла двор, слыша за спиной его легкий шаг. — Сейчас выйдем на горку. Я место покажу, куда идти. Будет и у нас свиданка: а чем мы не люди?! — смеялась она. Еще раз, на ярком свету, оглядела Алексея: не ошиблась ли, тот ли он человек, за кого она его приняла? — И на свету — глаза у тебя карие.
До горки, до старых лип над Окой шли торопко, молча, едва не бежали. А когда пришли, она стиснула руку Алексея выше локтя и показала на пойму:
— Не на меня — на пойму смотри. А то заплутаешь, зря прожду.
Он смотрел на ее руку — обнаженную до округлого, золотистого и коричневого, как луковичная кожура, плеча и матовой притененной подмышки, руку нежную в сгибе локтя и грубую в кисти. Руку эту сделали природа и работа, и оттого, что пальцы были вылеплены работой грубо, в ссадинах и надрезах, нежное в этой руке казалось еще нежнее.
— У ближних Липок стожок, во-о-н, особо стоит, у рощи. Там и свиданка наша.
Алексей видел и не видел: думал о неблизком вечере, когда он придет к стожку (или не придет? раздумает, что-то переменится в нем? возьмет верх осторожность, как случалось с ним?), чувствовал ее рядом, — полуденный зной мешался для него с живым теплом Тони, с запахом ее сухих волос.
— Найду. У меня профессия такая — геодезист.
Счастливая растерянность владела им, звала довериться женщине, не сомневаться. Судьба подарила ему радость: Тоня выделила его среди других, хотя и застала врасплох, в затрапезье, в старых кедах, в линялых джинсах, в короткой, без нижних пуговиц ковбойке, его, серого с виду парня, мальчишку в свои тридцать лет. Все было внезапно: быстрая, откровенная приглядка к нему, отвергающая резкость движений, и вдруг жадный и такой же быстрый интерес — все было непохоже на другие дни его жизни. И он откликнулся женщине с такой же поспешностью, ощутил и в себе порыв, желание слушать ее грудной завораживающий голос, видеть шевеление ярких губ, и жадный оскал редкозубого рта, и захватывающий, бесцеремонный взгляд зелено-серых глаз. На ней было ситцевое платье без рукавов, старомодное, ниже колен, и стоптанные босоножки на сухих в лодыжке, темных и сильных ногах.
— Прошлое лето к нам тоже геодезисты приезжали. — Она смотрела, будто сравнивала его с кем-то, сличала, благодарно улыбнулась тому, что он — другой, ни на кого не похожий, летошние — пустое дело, они и памяти ее не стоят. — Двое стариков были: скучища!.. На машине прикатили, ночевали в палатке. Ой! — Она схватилась за Алексея обеими руками, покачнулась, стоя на одной ноге и отгоняя позднего августовского слепня. — Меня и комар, и слепень всегда найдут. Один выживет — и тот ко мне… Тоже сладкое любят!
Она повисла на нем так, что он близко видел радужные глаза, густые и жесткие брови, волосы, белые и у корней, влажную от духоты переносицу и подрагивающие, слишком тонкие на этом лице ноздри. Солнце стояло над ними, за густой еще листвой, проливало сдержанный, почти домашний свет, мягкий и целомудренный.
— Мы и росту одного, — обрадовалась Тоня и толкнулась виском в его висок. — Еще поранишься об твои гляделки. — Сняла, будто смахнула, с него очки, протерла их подолом, открыв полные колени, и глянула сквозь стекла.
— И Липок-то не видать. А красиво там, я всякий раз в ту сторону хожу… — Она осеклась, но с вызовом, в предчувствии неудобного вопроса. Алексей промолчал. Его близоруким зрачкам представилось чудо: колдовская, зыбкая игра размытых, нежных, стесняющих сердце красок, трепетание плоти, которая уже не дробилась на частности, а дышала слитно, звала припасть, погладить, прикоснуться губами. — Как тихо стало! — Она призывно запрокинула голову, озирая темные оставленные птицами гнезда. — За делами и не приметила, когда грачи улетели. А теперь эти наладились — слышишь?
Из глубины неба, сквозь шелест и лопотание листвы и отдаленный гул падающей с плотины воды, доносилось курлыканье. Вчера Алексей нагляделся на журавлей, как они строем, медлительной, гибкой стрелой одолевали небосвод, и поутру, и среди дня, и ближе к закату успевали и дело делать, и, походя, обучать молодых. Хорошо, что они с Тоней подумали об одном, в разное время, но об одном, и в этом перст судьбы. А грачей он уже не застал, только черные против неба гнездовья.
— Улетают, — сказала женщина без грусти. — Улетают, а ты прилетел. И глаза карие, а карие — к добру…
— По-всякому бывает. — Он еще оставался во власти ее потянувшегося вверх тела, запрокинутого, как в ожидании ласки, лица, во власти самой природы — струящегося над рекой зноя, зеленого чекана листвы, простора, который звал взлететь, перемахнуть реку и парить до самых Липок, до белого стога, сейчас, не дожидаясь вечера…
— Придешь? Я буду ждать. — Она выбила из рук Алексея сигарету и зажигалку, сжала в ладонях его голову и поцеловала в губы. — Теперь придешь, ага, придешь! Теперь ты мне задолжал!.. — смеялась она, присев на корточки, выбирая из травы зажигалку и сломавшуюся сигарету.
Она убежала; пестрый, желтый ситчик замелькал между стволами лип, вспыхнул после тени на солнце и пропал: тропинка круто падала с угора, в направлении рубленых амбарчиков и ближних к берегу изб.
Алексей постоял в странной невесомости, словно он и впрямь парил над Окой и над поймой, летел в журавлином клину, учась и полету, и жизни, зорко приглядывался из поднебесья к лугу, к короткой полуденной тени у стожка, запоминал, чтобы не ошибиться и не опоздать.
Путь оказался неблизкий. Пока можно было, Алексей держался дороги, а у кукурузного поля повернул, как велела Тоня; грейдер долго еще бежал вдоль берега, а ему нужно в глубь поймы.
Длинные тени гасли, таяли в сиреневых сумерках. Тихо стало и на дороге за спиной Алексея, пустовали луга, оставленные людьми и скотом на отдых. Прошел мальчишка с самодельным удилищем и куканом с уснувшими, слипшимися, будто в сплошной отливке, червонными карасиками. Алексей оглянулся на его одинокую фигурку, и сердце тронула грусть — след всегда живущих в человеке, но не сказанных слов, не заданного вопроса, не родившейся улыбки.
Тишина. Дневное все умолкло, отговорило, откричало, отгудело, отработало, ночное еще не приступило к делу. Прощальными, убывающими, словно спешили исчезнуть, стушеваться, были случайные звуки: стук лодочного мотора при последнем пароме, чей-то зовущий голос на высоком берегу, рокоток невидимого самолета.
Алексей не тревожился тем, что может или должно случиться у ближних Липок. Их темный, боровой массив придвигался с каждой вечерней минутой. Женщина придет, не обманет, сквозь ее резкость ему виделся человек сложившийся, не обласканный, а испытанный жизнью. Не потому ли и он так охотно откликнулся ей?
Алексей знал это за собой еще со студенчества: интерес не к девчонкам, а к женщинам, к чужой, взрослой судьбе. Он не искал этого пристрастия: оно пришло с юности, огорошило поначалу, устыдило, оскорбило, но скоро он привык, как привыкаешь к тому, что ты левша. Алексей научился убивать в себе интерес, которому не хотел поддаваться; ему нужно было приблизиться к женщине, рассмотреть ее в упор, но не быстрым, стесняющимся взглядом, а пристальным, берущим все по отдельности — и пористость кожи, и животную крапчатость зрачка, почти неизбежную, природную неравномерность зубов или едва заметную бугристость лба. И вот уже перед ним не нежный, туманящий мозг образ, а просто другой человек, иначе скроенный, женщина, с которой можно дружить, работать вместе, существовать рядом, не испытывая тоски или неловкости.
В полдень он разглядел Тоню так, что ближе нельзя: ее утолщенную вверху переносицу, жесткое, грубое остье бровей, облупившийся лак ногтей на руках, большую ступню, — отчего же она не отдалилась? Почему он так неспокоен, приближаясь к Липкам?
Может, виной тому буйное, в неуемных ветрах Прибалхашье, его недавнее, безнадежное влечение к жене начальника партии, и взрыв, когда встретились придуманный им образ несчастной, сложной, страдающей женщины с истинным — будничным и тщеславным, — взрыв, отшвырнувший его за тысячи километров в Москву, в холостую берлогу, а затем, случайно, для перемены обстановки, — на Оку, к гидрологам, в чужую экспедицию.
Тони у Липок не было. Он обошел стожок, покричал в темную глубину рощи, вступил в нее, на некошеную траву. За стволами отсвечивало недвижное, в корягах и ряске озерцо, — Алексей вернулся на луг.
«Может, не придет», — подумал он с малодушным облегчением, но и с горечью потери, почти неизбежной, будто его обманула жизнь, а женщина к этому не была причастна.
Алексей решил ждать. Стал раздергивать уже порушенное кем-то сено, чтобы сесть поудобнее, когда послышался голос Тони: «Алеша! Алеша!» По земле, по ивняку и деревьям запрыгал свет фонарика, и она влетела на луг на велосипеде, который содрогался и скрежетал всем своим ржавым, застоявшимся железом. Спрыгнув на землю, Тоня размашисто толкнула велосипед, и он покатился, кренясь, светя фонариком, пока не упал.
Было что-то ждущее в ее опущенных руках, в том, как она уронила под ноги сумку. Еще миг — и Алексей обнял бы Тоню, но встретило его словно бы чужое лицо: ее и не ее. Лицо бледной, йодистой желтизны, приоткрытые, со стертой краской губы, приглушенный, напряженный блеск глаз, будто она ждала увидеть здесь другого, а встретила Алексея.
Он замер, испытывая тревожное чувство вины. Может, ей нельзя было приезжать, а она решилась, приехала, но чего это ей стоило? Она и принарядиться не успела, в тех же босоножках, в светлом ситце, только поддела черные сатиновые шаровары до щиколоток, а на плечи накинула рабочий ватник. Ее лицо без резких переходов, в один тон с игрой вечерних теней, как будто возникающих изнутри, от смятенности, выражение на кем недоверия, вины и тайного, сдавленного зова, шевеление бледных губ, которым не хватает дыхания, чтобы заговорить, — все это мгновенно увиденное Алексеем, а отчасти и воображенное им вызвало в нем чувство, близкое к любви.
— Что-нибудь случилось, Тоня? Могли бы не приезжать, ничего особенного.
— Век не простил бы!
— Это вы меня, Тоня, не знаете.
— Обмана ни один мужик не простит. Чего не куришь? Я в избе табака не люблю, а на лугу — кури.
— Кто у вас дома остался?
— Домовой! Больше некому, — легко уклонилась она, словно ждала этого вопроса. Сбросила босоножки, пальцами ощупала сумку. — Я загадала: не разобьется бутылка — полюбишь меня, а разобьется — неудача, конец свиданке.
— Вы все сделали для неудачи: она чудом уцелела.
— Перебегай со мной на «ты», а то как чужой. Раз познакомились, так тому и быть!
— У меня это не всегда получается. Попробую.
— Привыкай! — сказала она беспечно. — Я сбегаю, искупаюсь. Садись, женишок, на мягкое. — Она бросила ватник почти под ноги ему. — За мной не подглядывай, я, по-ночному, вся искупаюсь.
Луговое озерцо обнаружилось близко.
Алексей увидел поднявшееся вверх в руках женщины платье, светлые и в сумерках волосы — и все скрылось, послышался удар тела о воду, бултыхание, шлепки рук.
Вернулась Тоня не остывшая, а будто разгоряченная купанием, в надетом на мокрое тело платье, с переброшенными через плечо шароварами, скользнула коленями в сено рядом с Алексеем и, будто изголодалась, быстро поцеловала его несколько раз.
— Табаком пропах, мужик ты, мужик… — Она откинулась тяжелым, широким и в поясе телом и, брызгаясь, потрясла мокрыми волосами. — А я луком, слышишь? — дохнула она. — Покушать по-людски некогда: хлеба отрезала, луковицу обмакнула в масло, а соль всегда под рукой. Соли и водки хватает!
— И так каждый день? — Должно же что-то открыться и об ее жизни, кроме магазина, диковатого ее характера, этого ржавого мужского велосипеда, брошенного на землю.
— Тебя накормлю и сама при тебе покушаю. Хочешь, костер жечь? — И, не дожидаясь ответа, поторопилась сказать: — Не будем дрова искать — время терять. Нам и луна посветит, сколько нам того света надо? Встретились, так не заплутаем! Не промахнемся!
Все у нее под рукой, в сумке, в холстине, притороченной к велосипеду; холстину она расстелила между собой и Алексеем.
— Ты хоть — сытый?
— Днем жара умаяла, а после не хотелось.
— Переживал?
Она ждала: очень ей хотелось, чтобы он подтвердил, что переживал, чтобы не ответил грубостью.
— Конечно… волновался.
— Дурачок ты-ы! — запела она. — Чего же ты волновался, Алеша?! Я тебя выбрала, не каждый же день я целуюсь. Или, думаешь, я такая?
— Что вы, Тоня! Как я могу о вас плохо думать?! Ты… мне нравишься… ты… ты мне интересна… — Он укреплялся в этой новой близости, в надежде, что Тоня поймет и его, что не за одним приключением он пришел, что-то начинается между ними и серьезное.
— Будет врать-то! — сказала довольная Тоня. — Тебя только послушай. Ах ты… И-и-и… — Ругательство задержалось на ее языке. — Бутылка, смотри, развалилась. — В руке Тони зеленовато блеснуло горлышко с острыми клиньями стекла. — Это я, зараза, похозяйничала! Как же теперь?
— Да ладно, я бы не стал пить.
— Нельзя тебе?
— Сегодня — незачем.
— Ох, и хитрый ты! — на всякий случай сказала Тоня, не догадываясь о лестном для нее смысле его слов. — Теперь всухомять горло дери. — Она забросила отбитое горлышко в черноту рощи, а затем и осколки, донышко и граненый стакан.
— Хитрости во мне нет, это ты знай, как бы ни сложились наши отношения. Бывало, и надо бы схитрить, а не получается.
— Какие еще отношения? — насторожилась Тоня. — Ты не мудри. Чего на Оку прилетел?
Он рассказал ей о своей работе, даже и о том рассказал — спокойно, с насмешкой над собой, — как оступился в Прибалхашье, обманулся в чувствах, и пришлось уехать, наняться в новую экспедицию.
— Так один и ездишь?
— Зимой поживу в Москве, наберусь ума и — в дорогу.
— А джем кому брал?
— Себе! — Он улыбнулся ходу ее мыслей. — А ты меня на заметку, да? Я, Тоня, скорее безгрешный, чем грешник. Ты меня чем-то задела.
Тоня хмыкнула; она с аппетитом ела намазанный маслом хлеб, колбасу и зеленый, хрустящий огурец.
— Правда, задела. Все мне в тебе интересно.
— Сколько же ты баб помял на веку, шатун!
Алексей закурил, хмурясь.
— Это не разговор. Я человек, не скотина.
— А мы, что ли, не люди? — Его не угадать, похвалила, польстила ему, а он недоволен. — Человек и есть первый грешник.
— Не все же, Тоня!
— Все! Кроме хворых и убогих.
— Быстро ты рассудила: я так не думаю. Для меня каждый человек — загадка.
— Ты ешь, ешь, — торопила Тоня. — И я загадка?
— Великая загадка. Как бы я хотел понять тебя.
Тоня тихо смеялась, раскачиваясь всем корпусом, и в смехе ее, в медлительном перемещении тела таился призыв, завораживающая, притягивающая сила.
— Зачем ты так, Алеша?! — выпевала она. — Потому что я тебя полюбила, да?
— Как — полюбила? — терялся взволнованный Алексей. — Вдруг, ни слова не сказав, полюбила?
— Разве без любви я пришла бы сюда? Все бросила…
— Что же ты бросила? Домового? Лешего?
— Ага! Лешака… Деревню… — сказала она невпопад. — Деревня моя во-о-он где, а мы с тобой где? В лугах. Избу бросила.
— Позвала бы к себе.
— В избу?! — Она рассмеялась с тайным превосходством над ним. — В избу мужа зовут, а не прохожего. Не зима, лето на дворе.
— Мужа зачем звать? — допытывался Алексей. — Муж и сам в избе, если он есть.
— Смотря какой мужик: одного в избе не удержишь, другого не выгонишь. Ты-то на месте усидишь? Небось на недельку к нам прилетел?
— Не меньше месяца, Тоня.
— Ах ты, пес, хороший ты мой! — открыто обрадовалась она, потянулась к нему, схватила за руки, и он почувствовал, что и ее бьет дрожь, ведь она так и сидела в мокром после купания платье. — Алеша ты, Алеша! Месяц! Только измени мне, только попробуй с кем загулять хоть на часок!..
Она звала и поощряла его; тревожась о возможной его измене, она говорила ему, что сегодняшняя их любовь уже позволена, уже она в их сплетенных пальцах, и нечего им ждать, робеть и теряться.
— А почему ты не стал бы пить?
Тоня улеглась сильной, подвижной спиной на его колени, пригибала голову Алексея, заглядывала в глаза сквозь стекла, потом сняла очки, целовала в глаза и губы.
— Хочу видеть тебя ясно, без дурного тумана, — ; сказал он.
— Ну, и чего видишь?
— Ты красивая.
— Дурачок! Уже моей красоты нет, а была.
— Никогда ты не была такая красивая, как сейчас!
— Не знаешь ты, не знаешь…
— И не хочу знать.
— А раньше все вызнать хотел. Я почуяла.
— Теперь мне все равно, Тоня, Тоня, — шептал он в самое ухо женщины, в нежный ее затылок, в висок, в губы, так что звук его голоса не уходил от них никуда, а был с ними и только в них.
— Вот какой ты сильный… карий ты мой! Я тебя старше, а ты меня любишь.
…В луга слетел ветер, короткий, в один порыв, он на ходу внятно расчесал близкий камыш, скрипнул сломанной веткой и затих в густой листве лип.
— Леш! А, Леш! Я иголку принесла и пуговки, хотела пришить, а ты ковбоечку дома бросил. Чего ты вырядился?
— Для тебя.
— Что я, особенная какая?
— Для меня да — особенная.
— Чем же я особенная? — Она и не верила, и хотела услышать приятное: а вдруг что-то есть, чего она и сама не понимает.
— Ты — счастливая, все тебе ясно, все решено. При тебе и другой может стать счастливым.
— Отчего же не стал?
— Кто? — не понял Алексей.
— Не видела я возле себя счастливых. Ты лежи, не смотри на меня. — Она не дала ему приподняться, прижалась виском к плечу, рукой обхватила грудь.
— Так бывает: счастья нет, нет или есть, а человек не замечает его, и вдруг все меняется.
— А за что мне счастье? И как это не приметить ого, если оно при тебе?
— Человек может не знать, в чем его счастье.
— Не в деньгах же! — с сомнением сказала Тоня. — По деньгам я счастливее других.
— Какие у тебя особенные деньги?!
— Есть! — сказала она деловито. — Я в день десятку могу снять, а стала бы красть да ловчить, так и четвертак при мне.
— Это как же снять? Из кассы?
— Нет у меня кассы, в ящике деньги, все в ящике; и за товар, и за труды мои. Хватит у меня на новую избу и на двух мужиков, а счастья на них не купишь. — Тоня поежилась. — Провались они все; я тебя полюбила, ты хороший, только еще впотьмах бродишь.
— Я впотьмах?!
— Ага! Закрой глаза: видишь ты чего?
— Тебя. И с закрытыми тебя вижу.
— Жадный ты… Леш! Где же ты наголодался так, карий? В городе, что ли?..
…Так и полая вода не берет, не кружит человека, как взяла его Тоня, то тихая, будто и руке лень шевельнуться, то ненасытная.
— Умаял меня — и спишь.
— Что ты! — Погладил ее по шелковому, жаркому плечу, чувствуя, как покойно распластано ее тело на земле, в стороне и от ватника, и от сена.
— Я сына родила. Ты думал, я в невестах, а у меня сын. Не знал?
— Откуда же мне знать, — Алексей ответил тихо, без отвергающего удивления: он просто принял и эту новость, и самого сына.
— В деревне секретов кет; захочешь — все узнаешь.
— Знаю, что ты хорошая, а чего мне еще допытываться?!
— Не говори, не знаешь — и не говори! — Тоня села, откинувшись, упираясь руками в траву позади себя. — Не нахваливай, не поверю. Тверезый ты, оттого так и говоришь.
— А если бы выпил? Что, мозги у меня поменялись бы?! Или ругал бы тебя?
Он привлек к себе Тоню; она легла на бок, близко уставясь на Алексея.
— Ты не ругал бы, — сказала неуверенно. — Ты, верно, молчал бы.
— Только и всего?! — Он накрыл ладонью ее щеку и висок, пальцами касаясь волос. — Так я помолчу.
Несколько секунд они лежали тихо, Тоня закрыла глаза, — он ладонью ощутил, как в нее вступал покой, быть может, преддверие сна.
— Не думал, что у меня сын? — прошептала Тоня. — А у меня трое могло быть: хорошо — спохватилась.
— Я думал, у тебя дочка, — тихо ответил Алексей. — Так, привиделось, что дочка… В мыслях дочку видел и избу. Чистая изба, а в ней ты и дочка.
— А отец? Куда отца девал?
— Мало ли что случается.
— Сын! — сказала Тоня холодно, трезво, обращаясь к жизни, какая она есть. — Безотцовщина! Он больше у моих родителей: растет! — будто удивилась она. — У них изба, у меня — своя. Я новую поставила, белую, чистую. У меня в избе хорошо… хоть кричи, хоть плачь.
— А меня не зовешь.
— Нечего тебе там делать, Алеша, — невесело сказала она, — живи, как живешь. Ты меня полюбил ненадолго… Спасибо тебе, Леша.
Тоска и самоуничижение, застарелое, привычное самоуничижение стенали в ее словах, в напевном, кликушеском тоне.
— Ну! Антонина! — прильнул он к ней, давая понять, что он ей защита, и любовь, и друг, как бы она ни оговаривала себя, как бы ни отталкивала унизительной благодарностью. — О чем ты горюешь?! Сын! Мальчик! Он есть, он — живой, и твой, твой… Если еще в доме достаток, чего печалиться? Ты его воспитаешь, хорошим, совестливым…
— Чокнутый ты, Алеша! — простонала Тоня. — Что с тобой делать?! Жил ты когда-нибудь жизнью или не жил.
— Жил! Жил! — смеялся он, снова волнуясь, весь наполненный ею. — И сейчас живу. Или не узнала, что я живой? Ну вот, вот! Живой!
— Карий, а карий! — шепнула она ему на ухо, когда, казалось, и дыхания уже не оставалось для слов. — Что это я все: Алеша да Алеша — фамилия твоя какая?
— Сорокин, — сказал он, ощутив неловкость от этого, ничего не значившего теперь слова…
Землю укрыл туман. Густой, теплый, он зыбился и клубился. Алексей осторожно встал на колени, но и с такой малой высоты видел лицо Тони в струящейся дымке.
Не просыпаясь, она ответила бесшумному движению Алексея: дрогнули ресницы, чуть сомкнулись брови и сразу вернулись в прежнее состояние, как и шевельнувшиеся было бледные губы. На холстине, укрытая ватником, спала женщина, усталая и во сне не знающая безмятежности. Рот приоткрыт, и в легком его оскале настороженность, жалоба, готовность к самозащите. Туман скользил по ее лицу, тек по бронзовой, чуть провалившейся щеке, запутывался в волосах; при слабом свете нового дня Алексей еще и еще убеждался в том, что Тоня, рассмотренная вот так, в упор, Тоня, родившая сына, желаннее ему, чем вчерашняя дикарка.
Теперь она — его женщина, а вместе с тем и не его, он познал ее и мало знал о ней; проснись она и взгляни на него отчужденно, строго, и он смешается, отступит, и снова будет искать ее, теряться от недостижимости своего желания.
С сердцем, полным благодарности, с глупым, зыбким ощущением дома, близости, с иллюзией начавшейся новой жизни, диковинной семейной жизни посереди росистого луга, Алексей побрел к озерцу. Он остановился у осоки, на утоптанном рыбаками пятачке, разделся и вошел в воду. Илистое дно скоро ушло из-под ног, Алексей поплыл. Долго плавал в теплой на зорьке воде, лежал на спине, шевеля кистями, будто стерег тишину счастливого утра, и вдруг принимался ворочаться, нырять и выныривать, как молодое животное, призывающее подругу. Тоня не просыпалась, он и не ждал, что она придет, наслаждался той же мягкой, теплой водой, которой отдала себя вчера Тоня, след его ноги отпечатался в прибрежном иле рядом с ее следом, туман укрывал их одной холстиной, — чего ему еще ждать от этого утра!
За дальними Липками показалось солнце; Алексей заметил, как зарозовел туман и задвигался живее. Вдруг он ощутил на себе чей-то взгляд, почувствовал, что кто-то еще есть у озерца. Может, рыбак пришел на прикормленное место — к тишине, к непуганой рыбе — и услышал бултыхание Алексея.
Стесняясь, как всегда, даже и в бане, наготы, Алексей побрел к берегу. Выходя из воды, он вынырнул из оседающего на землю тумана к режущей ясности утра. Туман стлался над поймой, как не схлынувшая вешняя вода: деревья, кустарники, дальний холм с шлюзовским сараем, правый высокий берег Оки — все плыло по туманной зыби. У одежды Алексея стоял человек: испитой, с ожесточенным взглядом усталых глаз. Ноги по колени утопали в тумане, а узкое тело, длинная шея и небольшая, костистая голова возвышались над поймой. Руки, чуть присогнутые в локтях, свисали вдоль тела, прижимая распоясанную синюю рубаху, ворот расстегнут, видны резкие, с темными провалами ключицы.
Алексей потянулся к рубахе, стараясь не смотреть на мужика.
— Ну, здравствуй! — сказал тот простуженным голосом. — Как ночевал, как рыбалка?
— Я не рыбак.
— Охотник, значит?! Охотник! — повторил он. — Все тебе в охотку, что увидел, то и взял, была бы охота! Рано ты охоту открыл, недельку еще ждать надо. Выходит, ты браконьер!
— Не угадали. — Алексей видел, что мужик не трезв, пьяная развязность и претензия на насмешливый ум выдавали его. — Я и без ружья.
— Не беда! — Он шагнул ближе, не сводя темно-карих глаз с побуревшего в Прибалхашье тела Алексея. — Иного зверя и голой рукой возьмешь… была бы рука поласковее… Вьюн ты… гадина!.. — бормотнул он негромко, про себя, наблюдая, как Алексей нырнул в крахмальную рубаху. — Ты чистый! — воскликнул он с мстительным удовлетворением.
— Ладно! — Алексей натянул, трусы, мог постоять спокойно, вглядеться в мужика. — С утра пораньше принял.
— Не с утра — с ночи! — похвалился мужик. — Я к ночи готовый был. У меня жена — сахарная, ей в ночь на работу, на труды праведные, а мне — банку на стол, а то и две. Чтоб не скучал!
В голосе его злоба и томительное ожидание: понимает ли его, поймет ли собеседник? Алексей и не старался: только бы разойтись по-доброму, не портить утро.
Трудно было сказать, какого возраста мужик, то ли ему тридцать с небольшим, то ли все пятьдесят. Тело под рубахой угадывалось худое, сильное, длинные руки сплетены из сухожилий, и лицо — твердое, резкое, с выгоревшим волосом, с короткими, не укрывающими десен губами, зубы не все, зубы не в порядке, и русый волос на щеках и подбородке не выбрит, а вроде выщипан не весь, а где попало, в спешке. Рот в непрестанном движении, то в нахальной, издевающейся улыбке, то кривится просительно, холуйски, то с обидой, с болью, как перед пьяными слезами. Дрожащей рукой он потянулся за сигаретой, Алексей подал пачку и чиркнул зажигалкой, наблюдая, как угодливо тот пригнулся, открыв нестриженый сухой затылок. Мужик качнулся, Алексей поддержал его, ощутив каменную тяжесть худого тела.
— Иди ты!.. — Мужик отступил на шаг. — Не трогай меня, зараза!.. — Он закурил, громко втягивая дым, грудь поднялась, натянув узкую линялую рубаху. — Хорошие куришь… городские. У тебя — порядок, да?! Денег навалом, пей, не считай!
— Сигареты у вас покупал. — Алексей кивнул на высокий, уже освещенный солнцем берег.
Внезапное наблюдение поразило его: что-то было в них двоих схожее: узкая, мальчишеская фигура с провалившимся мускулистым животом, небольшая, но соразмерная голова, жесткие облепляющие голову волосы. Только у мужика все поношенное, траченное жизнью, все поблекло, выцвело, потеряло свежесть и краску.
Туман сошел к траве, неслышно полоскался у щиколотки Алексея, у грязных ног мужика, обутых в старые с оборванными ремешками сандалии.
— У Антонины покупал?
— В магазине… — уклончиво ответил Алексей.
— Зашел в магазин, сигареты взял, а хозяйки не приметил? Ну, и сукин же ты сын! — Он будто влюбился в Алексея, холил его взглядом, потянулся руками к его лицу. — Тонька у нас ученая: в техникуме побыла, потом агентом работала, по страховке. Ей агентом нельзя: придет в избу, и — готово! — Он развел руками, извиняя слабость Антонины, согнулся, паясничая, и прижмурил глаз. — Рюмку приняла, и — твоя! Ка-а-ак гуляла, всех перебрала! — Он перешел на шепот: — И теперь гуляет, хорошо гуляет… по выбору.
— Не смейте… вы… скотина!
— Думаешь, одному тебе блины с маслом?!
— У нее, я знаю… мне говорили, у нее сын, муж… — волновался Алексей.
— У нее все есть, — обрадовался взаимному пониманию мужик, — ты и не придумаешь такого, что б у Тоньки не было… — Он потянулся к уху Алексея, чтобы сообщить ему что-то важное, но Алексей отшатнулся, в нос ударила сивушная вонь. — Она мужа взяла, а он ей не ндравится. В избу допустила, а он ей — впоперек. Она гуляет, а он было — цыц! Муж!.. Его право! Она его в отгон и назначила, куда подалее, в лес, к стаду…
— Надо же такую грязь придумать! — вспыхнул Алексей. — Как это завмаг может мужа на колхозную работу назначить?!
— Деньги при ней, вот и назначила! — похвалился он. — Деньги назначили! Деньги… Ты что — малохольный?!
Тоня проснется: даже и глухой, ночной сон не защитил бы ее от истошного — до синюшных губ — вопля, от этих глумливых похвал.
— Иди ты своей дорогой, — примирительно сказал Алексей. — Я трезвый, ты нажрался, разговора не выйдет.
Он потянулся к туфлям, но мужик опередил его и бросил туфель в воду. Алексей схватил мужика за руки, а он, словно того и ждал, с оскорбительной легкостью отряхнулся, и Алексей снова ощутил его железную, поршневую силу.
— Сбегай, опохмелиться принеси, — потребовал мужик, — а то вторую кину.
— Сам нырнешь за ними.
— Тащи баночку! — Он стоял с занесенной рукой. — Тебе что послаще, а мне горькую неси.
— Магазин не скоро откроется, — Алексей закурил, теперь и его руки дрожали.
— Зачем магазин?! От нее тащи! — Он кивнул на стожок, за которым спала Тоня. — Антонина без вина не ходит, — объявил он с оттенком уважительности. — Поднесешь тихарем баночку, я нырну, достану… А? — Он бросил и второй туфель, но легонько, под берег, чтобы легче доставать. — Кулачки сховай! — посоветовал он, видя, что Алексей напрягся. — Обломишь, о тебе еще жить…
Пришлось стиснуть руки на груди, чтобы умерить дрожь от нахлынувшего стыда, от бессилия, от сознания, что их с Тоней подстерег кто-то и уже принялся мазать грязью все святое для Алексея. Туман ушел, утренний свет жестко, трезво обнажил пойму.
— Туда не ходи! — Алексей уловил опасливое, нерешительное движение мужика. — Только попробуй, убью!
— Ты сроду не убивал и не убьешь, — сказал мужик. — Я тебя добром просил, ты не захотел…
Он двинулся к стожку. Алексей налетел сзади, рванул за плечи и почувствовал, что чугунное тело мужика обмякло. Алексей выглянул из-за его плеча; придерживая рукой велосипед, к ним шла Тоня. Она приблизилась с угрюмым спокойствием и ударила мужика по лицу.
— Чего в воду бросил? — спросила строго.
— Туфли.
— Достань. Человеку на работу.
— Пусть убирается, — сказал Алексей. — Сам найду.
Она словно не услышала Алексея, шагнула к мужику, и тот попятился с необидчивой улыбкой.
— Ты меня не доводи, — сказала Тоня, и Алексей поразился, каким недобрым может быть ее голос. — : Я не шутки шучу: давай!
Мужик отвернулся, сбросил сандалии, через голову стянул рубаху, открыв белую, худую, с сиротливой цепочкой позвонков спину. Бросил рубаху в траву и взялся за пояс.
— Еще чего! — прикрикнула Тоня. — На срам твой смотреть!
— Я в исподнем, — неуверенно попросил мужик.
— В портках давай! Обсохнешь.
Он затянул пояс, повел плечами и безропотно побрел к воде, ровным шагом, будто не замечая, когда вода коснулась ступней, поднялась до колен, до груди.
Алексей искал на лице Тони следов огорчения и растерянности, а видел только упорство и равнодушие к нему, к самому его присутствию и еще жестокий, хозяйский интерес к ныряющему в озерце мужику.
— Ты слыхала наш разговор? — Он виновато улыбнулся: мол, пустяки, не огорчайся чужой болтовней.
— А и не слыхала бы, все наперед сама знаю. У Тимофея одна песня, он меня похвалить умеет.
— Мало ли чего люди наплетут.
Тоня повела головой, будто платок, повязанный по-дорожному, тесно, давил шею. Она подняла наконец глаза на Алексея. Смотрела, недоумевая, сожалея о чем-то.
— Он правду говорит. Все правда. — У их ног шлепнулся туфель, лег рядом с бросовыми сандалиями, новехонькой охряной подметкой кверху. Тоня приподняла велосипед, нацелила его на тропу, которая вела от озерца к грейдеру. Сказала отчетливо и грубо: — Мужу про жену положено все знать. Помечтали мы с тобой, карий… а мое счастье — короткое. Оно, видишь, во-он бултыхается!..
— Тоня?!
Она оглянулась на озерцо, на мужа, который брел к ним, еще по грудь в воде, держа в руке туфель. Закрыла глаза, обхватила руками шею, будто испугалась чего-то, и не услышала, как ударился о землю велосипед.
— Вчера к тебе ехала, а навстречу сын, карасей несет… Я за кустами отсиделась — вот оно, мое счастье… Прощай, Алеша!
Алексей оцепенел. Слова Антонины отняли у него все, что так радостно тяжелило руки этой ночью, что наполняло сердце: вступило опустошение — до глухоты, до незрячести. Потом оцепенение стало отпускать его, он услышал птичий гомон в Липках, чавканье гуляющего в камышах карпа, чье-то дыхание за спиной.
Тимофей смотрел вслед Антонине, будто проверял, как она держится в седле, все ли ладно, и туда ли она держит путь, куда надо. Смотрел привычно, а вместе с тем и с тайным интересом, и с глупой, униженной гордостью, что вот он причастен к ней, связан как-то с ее необычной, удачной жизнью.
— Хозяйка! — сказал он негромко и словно в поучение Алексею.
Арво Валтон Опасное изобретение
Архиепископ Донат встретил их в зале капитула. Они поочередно приложились к простертой руке святого отца, преисполненные сознания собственной значительности, ибо на совет призвали также их — всякого рода знатоков своего дела и попечителей, а не только от века непогрешимых церковников. Уже одно то, что вопреки обычаю их не пригласили рассаживаться за высоким столом, чтобы затем почтить благоговейным вставанием парадный выход его святейшества и принять его благословение, но что архиепископ приветствовал каждого особо, свидетельствовало о серьезности и деловой сути предстоящего совета, где праздничность и не могла иметь места. Ибо при решении особо затруднительных вопросов архиепископ Донат утрачивал чувство высокого парения и снисходил до уровня мирской суеты, где разум, роющийся наподобие крота, иной раз мог оказаться даже более полезным, чем сверкающий в небесах. И архиепископ великодушно дал это понять собравшимся, что они приняли с благодарностью и смирением.
К назначенному времени все они были на месте, и архиепископ сотворил краткую молитву, в коей испрашивал у всевышнего для всех ясного рассудка, проникновенности и прозорливости, что помогло бы должным образом раз и навсегда решить дело и пошло бы на пользу и благо всему миру.
Далее он сказал так:
— Я призвал вас к себе по делу доныне неслыханному, каковое на первый взгляд кажется малозначимым, однако оно посеяло в моей душе тревогу, и я хочу услышать ваше откровенное о нем суждение. Речь идет об изобретении неких искусных мастеров из города Майнца. Изобретения подобного рода в наше предприимчивое время рождаются то и дело, иные из них становятся благом как для низкого, так и для высокого сословия, тогда как другие, противу коих мы и выступаем со словом увещевания, представляются нам происками дьявола. И отнюдь не каждое изобретение удостаивается быть обсужденным на таком уважаемом совете, куда вы приглашены по настоятельной надобности. Более пространно суть дела изложит вам брат Магнус, имевший и время, и помощников, дабы ознакомиться с ним подробнее. Выступи вперед, сын мой!
Чуть в сторонке за кафедрой стоял доминиканский монах, перед ним были разложены какие-то предметы, в силу исходившего от архиепископа сияния оставшиеся для многих из присутствовавших пока что незамеченными. Монах взял с кафедры несколько листков бумаги и разложил на длинном столе перед собравшимися.
— Взгляните, досточтимые, на этот шрифт.
Всем им доводилось читать книги, некоторые не усмотрели в листках ничего особенного. Из содержания же явствовало, что это — страницы Священного писания. Однако аббат Ефраим, занимавшийся смолоду в своем монастыре переписыванием книг, под началом которого еще и поныне находился отлично оборудованный, но по причине небольшой численности и малого усердия монахов, равно как и соперничества цехов, вяло действующий скрипторий, вгляделся в текст повнимательнее, и на лице его отразилось удивление. Он даже послюнил палец и попытался растереть буквы. Брат Магнус с интересом за ним наблюдал. Цеховой же мастер Эразм, чувствовавший себя среди высокообразованных мужей несколько стесненно, сразу увидел, что листы оттиснуты. Но чтобы кто-нибудь вырезал на досках целиком Священное писание — о такой невероятной работе ему еще не доводилось слышать.
— Да, это и есть изобретение мастеров из Майнца, о коем говорил вам его преосвященство, — произнес доминиканец. — Перед вами оттиснутые новым способом листы, из тех, что попали к нам в руки. Мастера, само собой, держат свое измышление в строжайшей тайне, ученики, возложив руку на Писание, клянутся ее не разглашать, но господь наш проливает свет и на самые темные дела, так что ищущий кое-что видит. Нынче же мастера судились друг с другом и пришли к расколу, часть учеников разбрелась по белу свету, и, надо думать, они свое умение не станут держать под спудом. Мастером же там именитый гражданин Майнца Иоанн Фуст, при нем искусный помощник Петер Шеффер, каковой знает и налаживает все работы. Отколовшийся же от них человек — некто Иоанн Гексфлейш, золотых дел мастер, с родовым прозвищем Гутенберг, — по дошедшим до нас слухам, и есть зачинатель всего дела, но теперь он уже не в силах тягаться с мастерской Иоанна Фуста. Об их изобретении скажу я, что они не вырезывают доски для каждого листа, как оформители для своих заголовков золотом, но прибегли к способу более легкому. И хотя дело поначалу требует еще немалых усилий, грозятся они в скором времени в короткие сроки печатать тысячами совершенно одинаковые книги.
Доминиканец умолк и зашел за кафедру.
— Теперь мы желали бы услышать, что вы об этом думаете, если у нас появятся тысячи одинаковых книг, и так в каждом городе. И надо полагать, далеко не все они будут Писанием или молитвенниками, — сказал архиепископ Донат.
Ректор Гонорий, на голове которого была повязка из ткани, а на плечах отороченная мехом тога, спросил:
— Чтобы мы могли представить серьезность дела, не объяснит ли нам досточтимый брат более подробно суть изобретения?
— Говори, сын мой, что тебе известно, — повелел архиепископ.
Когда доминиканец взял с кафедры пригоршню металлических предметов и подошел ближе, Эразм проявил к ним особенный интерес.
— Ничего более определенного сказать я не имею, но сколь нам известно, каждая страница набирается из отдельно отлитых букв, кои укладываются в особую раму, так что после оттиска с нее на бумаге нужного числа листов буквы эти можно рассыпать и составить из них новый текст. Стало быть, эти твердого литья знаки годны для пользования до тех пор, пока они не изотрутся о мягкую бумагу.
Доминиканец положил на стол пригоршню кусочков металла с вырезанными на них в отраженном виде буквами.
— Известно также, что для оттиска употребляют специальный станок, позволяющий делать это быстро.
Брат Магнус вновь отступил за кафедру. Достопочтенные мужи некоторое время молча сличали металлические буквы с напечатанными страницами, затем слово взял теолог Якоб, имевший почетное звание — doctor universalis.
— Оттиснутые листы наблюдались то здесь, то там и прежде. Вопрос в том, в праведных или в нечестивых руках пребывает установка. Следует также предположить, что дело совершается не без ведома отцов церкви города Майнца. Но вообще-то, конечно… действительно… действительно, мы должны подумать, что станется с этим миром, если машина начнет работать без передышки и тому не будет конца.
— Не должно забывать, что первыми сделанными в наших землях оттисками были игральные карты, библия дьявола. И нечестивые мастерские действуют в некоторых городах еще и поныне, — заметил архиепископ.
— Воистину, воистину, — подтвердил высокоученый теолог. — Но это, действительно, страницы из Священной книги.
— Что скажет по этому поводу граф?
Облаченный в черный талар доктор правоведения Томас Клани, ученый из графов, чью ученость заметно усугублял графский титул и чью принадлежность к графам его ученость непостижимым и оттого достойным почитания образом выявляла, поднялся с места и сделал рукой знак монаху, после чего тот положил перед ним богатую рукописную книгу и несколько печатных листов, оттиснутых на дешевой, изготовленной из тряпья бумаге. После секундного размышления Клани высоко поднял инкрустированную золотом и драгоценными камнями книгу и всем ее показал.
— Вот книга, и этим все сказано, — он раскрыл издание in folio, продемонстрировал его каллиграфическое письмо, красиво расписанные заглавные буквы и изящные миниатюры. — Владелец подобной книги обладает достоянием, исчисляемым многими гульденами. Если он дает тебе такую книгу читать, то справедливо требует мзды, и ты твердо знаешь, что приобщился света. Теперь взгляните на этот печатный товар! — Томас Клани приподнял пачку ярмарочных картинок и с презрительным жестом позволил им упасть на стол. — Мало того, что хлам, именуемый бумагой, стали изготовлять из рваных тряпок! Теперь еще и самое великое достояние духа — книгу — понадобилось обряжать в это тряпье! И машина, тупая и примитивная, начнет повелевать нашим разумом! Мне такого не нужно!
Архиепископ кивнул и выжидательно обвел стол глазами.
Магистр Бартоло, обретший известность составительством книг по риторике, однако стыдливо сочинивший и несколько возвышенных поэм, откашлялся и осторожно заметил:
— Нам, пишущим книги, возможно, мог бы приятно пощекотать самолюбие факт, что наше слово распространяется в тысячах томов и его великий и малый, всесильный и ничтожный прочесть смогут. Но досточтимый доктор прав: когда мы знаем, что наша книга достойна многократного переписывания, это нашему самолюбию более лестно, чем однократная работа бездушной машины, коей не руководят ни чувство, ни способность оценки.
Не думаю, чтобы магистру Бартоло было приятно, если его труды станут читать ремесленник или крестьянин, кои в своем невежестве извратят каждую из его высоких мыслей. Или еще более прискорбная картина, порожденная этой штамповальной машиной: куда ни глянь, все завалено возвышенной поэмой магистра Бартоло, так что на нее никто уже и глядеть не желает, она валяется, как не имеющая ни малейшей ценности, по углам, и мальчик на побегушках подбрасывает ее ногой вместо мяча… Не принесет ли подобное явление ущерба личному достоинству и умственным занятиям магистра, так что их высокий смысл сойдет на нет? — возразил Томас Клани.
— Что скажет досточтимый аббат?
Брат Ефраим поднялся и устремил скорбный взгляд к сводам зала.
— Слова нашего ученого брата о ценности книга есть истина. Сомнений быть не может, при новом способе печатания цена книги в силу ее широкого распространения упадет, одновременно потеряет свою прежнюю стоимость и старая книга: ее легко будет размножить печатанием, и оригинала никто не купит. Посему наш монастырь, владеющий обширной библиотекой, потерпит прямой урон. И тем не менее, возвышая голос противу нового способа, пекусь я не о собственной выгоде, но о предмете более серьезном. Вдумайтесь, достопочтенные, в старину каждая книга была явлением единственным в своем роде, у нее был характер и лицо ее создателя, и изготовление ее считалось высоким искусством. Ни одна книга не повторяла в точности другую: если даже один и тот же каллиграф переписывал ее несколько раз тою же рукой, все едино, в наклоне и стремительности почерка, в уверенных линиях и осторожных штрихах присутствовал его темперамент и, если хотите, его изменчивое настроение, что делало ее торжеством человека и через его бессмертную душу приобщало божественному сиянию, каковое в каждое преходящее мгновение своеобразно и значимо. — Аббат немного помолчал, затем еще выше возвел глаза и продолжил: — Настанет время, когда исследователю древних рукописей даже описка в нынешних книгах доставит радость, и он определит по ней характер ее создателя, особенности его языка и настроения. Ныне хорошая книга — многократное произведение искусства. При новом же способе всех прочих искусников от дела отстранят, дабы явить миру лишь лицо сочинителя. Но я говорю вам, что это лицо, напротив, предстанет перед читателем более тусклым, если он не узрит за ним многократную оценку, которая добавляется к книге трудом переписчика и оформителя. Так обстоит дело с мирскими книгами. Божественное же слово, в том числе и Писание, окажется полностью во власти машины, не будет в нем дыхания Творца, глаголющего через сердце переписчика, но лишь нескончаемое однообразное повторение мертвых букв. И мир нашего духа вновь станет намного беднее.
Аббат картинно вздохнул и опустился на место. Все одобрительно на него взглянули. Ректор же Гонорий сказал так:
— В речи уважаемого аббата бесспорны глубина мысли и прозорливость. Но не должно ли признать, что присутствие личности оформителя в каждом сочинении не представляется нам столь уж необходимым? Возьмите какой-нибудь приказ или документ: вряд ли бумага подобного рода имеет нужду в своеобычности переписчика. Напротив, могущественный благодавец жаждет здесь лишь одного: дабы выражение его воли распространилось елико возможно точным и однозначащим. Нечто в этом духе желает, видимо, и сочинитель книги, зело чувствительный к ошибкам переписчика.
— Не имею что возразить, — заметил аббат. — Однако если те же самые ошибки, кои печатник весьма легко может допустить и при новом способе, укладывая рядами мелкие и утомительные для глаза металлические буковки, окажутся повторенными в тысячах томов, ущерб будет и того больше, автор же бессилен доказать, что это не он так написал. Когда же книгу переписывает сразу много каллиграфов, то едва ли все они сделают одну и ту же ошибку, и при сличении текстов истину возможно установить.
Бакалавр Луллус, застенчиво хмыкнув, неуверенно приподнялся с места.
— Говорите, говорите, сын мой, — подбодрил его архиепископ.
— Я хотел спросить, так ли уж это плохо, если книга станет дешевой? Так ли уж нам надобны эти ссоры наследников и постыдные судебные тяжбы из-за одолженных и невозвращенных книг? В иных библиотеках ценные фолианты прикованы к столу или к стене толстыми цепями, чтобы посетители не смогли унести их. Так ли уж это плохо, если новый способ печатания поможет освободить от оков книгу, свет разума?
Архиепископ покачал головой и снисходительно произнес:
— Младость, младость! Горячность и поспешность для нее от века предпочтительнее мудрой осмотрительности и дальновидности! Не так-то просто, да и ну ясно, отвергать устойчивые ценности!
— Не будет ли разумным рассмотреть вопрос расчлененно? — заметил ректор. — Ведь и сейчас уже имеется печатная библия для бедняков и кое-что иное, рассчитанное на простолюдинов. В Голландии же подобным способом изготовляют и книги попроще, вроде грамматики. И не следует думать, будто новый прием разом вытеснит доселе существовавший. Посему не счесть ли желательным, чтобы духовную пищу для черни, более дешевую, выпускали в свет новым способом, серьезные же книги изготовляли прежним?
Доктор Якоб поднял со стола оттиснутый на доске лист и помахал им в воздухе.
— Взгляните, вот она, духовная пища для черни! Непристойные картинки и непотребные подписи под ними. Их продают в качестве лакомства даже возле храмов в дни церковных празднеств, — главное, чтобы деньги шли. Вот оно, ваше расчленение, вот к чему ведет изобретение мастеров из Майнца! Всякая мерзость и ересь, распространяемые тысячами богопротивных книжек, обрушатся на голову простолюдинов, и то малое смирение, каковое и без того едва теплится в их душах, будет сведено на нет.
Архиепископ несколько раз кивнул, затем покачал головой: нелегкой была эта миссия. Он сказал:
— Мы, твердые в духе своем, призваны оберегать простолюдинов, и нам должно принять на себя удары Сатаны, кои он пытается нанести мирянам посредством слова. Просвещенные люди обязаны нести этот крест. — Он обвел глазами собрание и заметил человека, еще не выступившего со своим мнением. — А что скажет о предмете мастер книжного цеха Эразм, представляющий здесь упомянутых простолюдинов? Не привнесет ли его деловой опыт какую-нибудь новую ноту в наше беспокойство об их душах?
Эразм некоторое время сидел, опустив глаза и ковыряя ногтем столешницу. Наконец он сказал:
— У каждого подмастерья и впрямь своя рука и свое письмо, а у каждой мастерской своя искусность в оформлении и переплете, что правда, то правда, и я не знаю, хорошо это или плохо. Новые буквы все на один лад, читать их, может, и полегче, довольно того, если выучишь, нет надобности всякий раз сызнова привыкать к руке. Но я со своей стороны скажу, что поначалу нам, понятно, не по нутру придется, если мастера из Майнца станут держать дело в секрете и все так обернется, что мы с ними тягаться не сможем. Сейчас у нас в цехе работа налажена и в полном порядке. Некоторые заглавные буквы и заставки выполняем по трафаретам, но, конечно, не всегда. Наше дело такое: можем изготовить книгу, как заказано, аккурат по вкусу покупателя. Если у заказчика есть свои требования и к шрифту, то при новом способе соблюсти это будет трудно. К тому же мы можем работать на пергаменте и на бумаге. В церковных книгах пишем буквы, как удобней для богослужения, разной величины и разного цвета, чтобы можно было издали схватить глазом. На станке такое, пожалуй, не выйдет. Каждый мастер у нас в своем деле искусен, переписчики само собой, иллюминаторы, миниатюристы, переплетчики и пергаментщики — все хорошей руки мастера. Если новая машина дойдет и до нас, тогда, ясное дело, придется все перестроить. Товар попроще, такой, как книги для ученых и всякая философия, можно бы, пожалуй, и на станке печатать.
— Так, так, — архиепископ кашлянул. — Попытаемся подвести итог нашей беседы. Видимо, все мы весьма единодушны в нашей озабоченности судьбой народов и просвещения перед лицом этого новшества. От печатания и распространения книг не следует ждать добра. Дешевым и низким сделалось бы знание, стань оно предметом разговоров мясников и пастушек, как сулит нам новое изобретение. Исчезнут утонченность и возвышенность человеческого духа, его неповторимость и божественное предопределение. И пусть каждый наш просвещенный теолог, да и философ тоже, представит себе, что станется с полетом его мысли, если ему из толпы простолюдинов начнут выкрикивать низменное суждение о ней, наподобие того, как римские плебеи решали государственные вопросы и требовали «хлеба и зрелищ». Машины теснят человека и хотят втоптать во прах прекраснейшие цветы его духа. Исчезнет суть, останется лишь серый покров, каковой опустится на нас и не токмо не поднимет пастушек до нашей высоты, но подавит нас своею необъятностью и принизит до них. Я тверд в своем мнении, мы не можем этого допустить, нам должно выступить противу печатного станка немедля, пока од еще не проник всюду. Согласны ли вы со мной? Дабы нам оградить себя от опрометчивых решений, пусть каждый из нас еще раз вкратце выскажет свое мнение. Итак, итак… начнем с графа.
— Как я уже сказал, я в своем доме не желаю видеть изданий для бедняков. Не нужно нам это новое искусство, — высокомерно изрек Клани.
— Именно, именно… Следующий.
— Я также премного озабочен состоянием духа людского, коль скоро его таким манером начнут искушать. Настало время пресечь это.
Так заявил высокообразованный doctor universalis Якоб. Затем слово взял аббат Ефраим:
— Я уже изложил подробно свои соображения. Ежели мы желаем сохранить высокую суть и ценность зерцала человеческой души, каковое есть книга, то запретим это искусство от машины!
— Такого рода новшество иной раз подобно лавине, и удержать его трудно, — сказал ректор. — Некоторую опасность, таящуюся в распространении дешевой духовной пищи, усматриваю и я. Чем больше людей будет причастно к книге, тем расплывчатее станет мысль, тем неустойчивее сознание, и гул пустых споров помешает расцвету истины. Должно неусыпно блюсти границы и разрешать печатать на станке лишь некоторые бумаги самого простого назначения.
Настал черед магистра Бартоло высказаться. В обители его преосвященства Доната никто не решался говорить вразрез с волею владыки, которая столь ощутимо витала в воздухе, довлея над сознанием участников совета. Бартоло взглянул преданным взором на Томаса Клани и произнес:
— Не хочу и я, чтобы неповторимое в своей сути искусство представало в дешевых изданиях. Дайте беднякам то, что им предназначено, но высокую философию и утонченную поэзию нет надобности печатать новым способом, ибо мясники все равно не станут ее читать.
Архиепископ выжидательно взглянул на бакалавра. Луллус пожал плечами.
— Ну что же, если все против… Переписка книг для студентов победнее, которые не могут платить, сейчас большое подспорье, да и профессора имеют в том нужду. Если это будет упразднено, сможет ли, кто победнее, учиться? Так что и я вкупе со всеми против новшества и за осмотрительное его использование.
Оставалось еще низшее сословие — ремесленник Эразм. Он сказал коротко и ясно:
— Я против.
Архиепископ потирал руки. Святого отца премного обрадовало единодушие его паствы. Для чего ему понадобился этот совет из людей разного происхождения, пусть остается на его совести. Высокий владыка иной раз любил казаться гласом всех сословий и мудро придавал своему заранее готовому решению вид их волеизъявления.
— Итак, мы можем сообщить епископам Майнца, Страсбурга и близлежащих городов о своем единодушном и твердом желании, исторгнутом из наших общих уст. Тем самым мы явим миру, что неусыпно печемся о бессмертной душе, отданной господу, и алчущем общения разуме человека и всеми помыслами устремлены к тому, дабы и это новшество, вынесенное из тьмы на свет стараниями брата Магнуса, не обратилось во зло детям господним. И да будет каждый из вас благословен на его добром слове.
Архиепископ вновь обвел взглядом свою паству, стремясь запечатлеть в памяти, кого разумно будет привлечь к полезной деятельности и при следующей надобности. Затем все разошлись.
Так закончился совет, еще раз показавший, что человеку во все времена было свойственно предвидеть далекое будущее и в сердце своем печься о благе всего человечества. И да послужит для нас отрадой доброжелательная забота этих древних мужей. Они сказали, что могли, и менее всего повинны в том, что новое изобретение все же пробило себе дорогу. Стало это наказанием или же благословением — пусть каждый решит для себя сам, но нам не должно забывать их голоса, не столь уж и давние, рядом с новыми, которые время от времени возвышаем мы сами, озабоченные будущим человечества, каковое, по нашему опасению, не в состоянии в этом суровом мире само за себя постоять.
Перевод с эстонского Н. Яворской
Ибрагим Гази За багряными туманами
Древний город смотрит с горы на широкую реку и, как в зеркале, видит себя, видит свои широкие улицы, каменные дома и горожан своих, вечно спешащих куда-то. Видит, как сегодня с утра бродит по улицам какой-то старик, придерживая за край шляпу, потому что в городе разыгрался ветер. В руке у него клюка, шагает он, припадая на одну ногу. Пройдет и остановится, пройдет немного и снова остановится, поглядит, посмотрит по сторонам пристально и ковыляет дальше. Он, кажется, что-то бормочет про себя.
Рядом с ним — совсем молодой, юнец зеленый. Ему годков так пятнадцать. Худющий, тонкий. За плечом — видавшая виды боевая винтовка образца восемьсот девяносто первого года. Острый трехгранный штык вот-вот вонзится в небо. Твердые шаги парня гремят по дощатому тротуару. А старик шаркает ногой. Идут они рядом — и хоть бы словом перекинулись.
Кто они? А это Старость и Юность. Старик вместе со своей незабвенной юностью проходит древним городом. Этот легкий, порывистый юноша, с царапающим небо трехгранным штыком, — сама молодость хромого старика, его комсомольские годы. Тогда про него говорили: «Отчаянная голова…» Перенесся старик в мир дорогих воспоминаний и ходит по городу, где когда-то рос, воевал с белобандитами, любил…
Незнакомые улицы… Город шагнул за прежние границы, могуче раздвинулся. Старик разглядывает все новое, удивляется, радуется, а сам невольно выискивает старое, памятное. Хочет найти следы своей молодости. А город стал совсем другим. Кого теперь старик найдет в нем и кто его признает? А было время, когда его, молодого, знали все — и друзья и враги. Залы гремели от аплодисментов, когда он выступал. А сегодня — мимоходом, невзначай — его бесцеремонно толкнули. Заполняя улицу, спешат молодые люди. Нет, он не обижается. Молодежь, она всегда была невнимательна. Чтобы какой-то старик стоял на дороге да чтобы его в спешке не толкнуть… Он ничего, он не обижается, он даже рад, любуется ими — юноши здоровые, сильные, красивые. Они не идут, а летят. Пусть себе летят. Пусть! Настало их время. Придет пора — их толкнут ненароком. А сегодня они на высоте положения. Молодость, сила, красота, будущее — все в них.
Что это? Слеза блеснула? Не замечайте, не надо, пусть… Старик надвинул шляпу на глаза, подошел к древнему дому и тяжело опустился на лавку у ворот.
Этот двухэтажный кирпичный красный дом был знаменит. Это в нем бурлила жизнь, день и ночь кипели митинги, взлетали над головами крепко сжатые кулаки, и стены содрогались от аплодисментов. Это здесь, на самодельной сцене из неструганых сосновых досок, разыгрывались каждый день спектакли в пользу Красной Армии. Сколько раз «стрелял» в него из нагана соперник и враг его по пьесе, и сколько раз падал он у ног своей любимой… Здесь впервые зарницей вспыхнуло в нем жаркое чувство к девушке. Из этого же дома весной, на утренней заре, отправились молодые бойцы «Железного батальона» биться с Колчаком. А ведь многие из них не вернулись. Снимем же шляпу, память о них священна.
Постарел ты, славный дом. Осел, потускнел. Древесный жучок источил твои лесенки. Окна отливают цветами радуги.
Со вздохом поднялся он с лавки. Эти ступеньки были когда-то крепкие, не стонали, как сейчас, под ногами. Бывало, приходишь утром, а они вымыты, выскоблены до янтарной желтизны. По этим широким ступенькам спустился давним летним утром худенький, тонкий юнец с винтовкой за плечом, отправляясь на боевую схватку.
Разрывая штыком сизые туманы, порывисто шагает пятнадцатилетний боец. Фуражка едва держится на затылке. Шагает — искры высекает. Идет, словно бы море ему по колено. Вот он, шевельнув плечом, поправил винтовку и прибавил шагу.
Солнце за Волгой еще только продирается сквозь мохнатые туманы, а у парня за плечом уже винтовка. Нет, он идет не на Колчака — в «Железный батальон» его не приняли: нос не дорос! Родись он двумя-тремя годами раньше, тогда бы другое дело. Хорошо еще, если Колчака не успеют распотрошить, пока парню исполнится шестнадцать.
Не приняли! Не довелось ему громить Колчака. Он сегодня идет брать бандитов. В лесу их полно. Сидят там, коз, коров завели. Отобьется скотинка от сельского стада — они ее в один момент под нож и в котел. А то нароют картошки в чужом огороде — и к себе в лес. А прошлой ночью ворвались в городскую пекарню: свеженького хлеба им захотелось. Вот срочно и организовался комсомольский боевой отряд…
А старик, кажется, даже помолодел. Он стащил с головы шляпу, пусть озорной ветер поиграет в свое удовольствие его жидкой сединой. В уголках рта затрепетала улыбка. Еще бы! Эта же его Юность теснила бандитов!
Из-за багряных туманов с трудом выбралось солнце, еще влажное, холодное… А он все шагает с винтовкой за плечом. Позади остались сады с вызревающими яблоками на отяжелевших ветвях, остались городские дома, словно бы громоздящиеся друг на друга. Впереди таинственно темнеет лес. Тревожный, полный бандитов. А в кармане пять патронов.
Рядом с ним вышагивает его друг Салих. Салих совсем взрослый: ему уже полных семнадцать. И ростом вымахал… Куда! И весь он мускулист. В спектаклях ему всегда достаются роли рабочих. Обычно эти роли бывают без слов. Но он и тому рад! Как засучит рукава (а ручищи у него — сила!), лицо сделает серьезным-пресерьезным, да как пройдется по сцене туда-сюда, сразу видно: этот все сможет!
В комсомол их принимали в один и тот же вечер. Закрыв собрание, секретарь ячейки Нугманов (тот, что в Отечественную остался лежать под Варшавой) вписал свежеиспеченных комсомольцев в список бойцов вооруженного отряда и сказал:
— Будьте готовы к первому испытанию!
Вот они идут на первое испытание. И с ними еще двое. Эти совсем старики: им уже за двадцать. Они — командиры, возглавляют боевую операцию. Один из командиров совсем не знаком юным комсомольцам. А другого — Солнцева — они хорошо знают. Солнцев из уездного комитета комсомола, смуглый, в черной кожаной куртке и черных сапогах. Правый карман куртки порван тяжестью нагана. Фамилия Солнцев у него не своя, а комсомольская… А Салих, как только ого приняли в комсомол, взял себе имя Спартак. Если найдется имя повнушительней, и наш парнище не прочь возвысить себя достойным именем. Ему ли носить такое древнее имя — Абдулмаджид, данное каким-то муллой, раз он уже комсомолец, раз его острый штык уже царапает небо, раз он идет вылавливать самых что им на есть настоящих бандитов!.. Отчего бы ему не зваться славным именем Марата, наводившего ужас на французских буржуа? Жан-Поль Марат! Или Робеспьер! Ну да ладно, это уж потом. Сперва надо обезвредить бандитов.
Абдулмаджида возмущает, какого черта этот Солнцев на сапоги еще надевает и галоши? Разве недостаточно одних сапог, чтобы ходить по земле гордо. И так обуви нехватка, а он сразу две пары изнашивает! А на шее у Солнцева шелковый шарф. Летом — шарф!..
Тут старик усмехнулся: кто знал тогда, что Солнцев прикрывал этим шарфом рваный ворот гимнастерки, и галоши маскировали сапоги без подметок?!
Второй, незнакомый командир — тоже в черном. Только брюки у него малиновые. Малиновые галифе! Такие брюки не всякому дано носить. Таких удостаивается лишь боец, который вместе с самой Смертью хлебал пшенную кашу из одного котелка. И весь он, этот командир, страх какой суровый. Взгляд — что острие ножа. Глянет на тебя — дрожь берет. Он идет молча, бесшумно. Два рядовых комсомольца жмутся поближе к Солнцеву, с ним теплее…
За плечами огромное, как колесо телеги, солнце… Сады в росе… Над головой утреннее безмятежное небо… Впереди лес. Тревожный, полный бандитов.
У зеленой стены таинственного леса их встретил милиционер с оседланным конем на поводу. Молодой. Красавец! Улыбка с лица не сходит. «Он, наверное, и бандитов забирает с милой, девичьей улыбкой», — подумал про себя завтрашний Робеспьер.
— Эти, что ль? — удивленно посмотрел милиционер на Абдулмаджида со Спартаком.
Потом он о чем-то переговорил с Солнцевым и легким перышком взлетел на коня. Отъезжая, обернулся с улыбкой:
— Не забудьте дать сигнал!
Лет пятьдесят с лишком прошло с тех пор. А молодой милиционер так и стоит перед глазами старика, так и улыбается. Старик все так же отчетливо видит, как он отъезжает, стегнув коня плетью, и, обернувшись, улыбается: «Не забудьте дать сигнал!»
Абдулмаджид уже потом, в госпитале, узнал, что молодого милиционера в той схватке убили бандиты. Абдулмаджида оперировали, извлекли бандитскую пулю. Не из ноги. Ногу он стал волочить с Отечественной. Он был комиссаром полка. Это на плацдарме за Вислой рядом с ним разорвалась мина…
После того как ускакал милиционер, лес с его зеленым зевом стал все глубже заглатывать в себя отряд из четырех человек. Засвиристели, защелкали птички, перепархивая с дерева на дерево. Пять патронов… Пять пуль… Пять смертей… Давно ли Абдулмаджид носился в этом лесу, рвал орехи, собирал ежевику, смородину?! И лес тогда вовсе не казался таким загадочно-тревожным.
Суровый командир, как матерый волк, шагает, мягко, бесшумно. А у Абдулмаджида под ногами сухие ветки предательски трещат. У Солнцева галоши заблестели от мокрой травы.
Винтовки на взводе. Стволы готовы изрыгнуть смерть. Сквозь холодную листву просачиваются зеленые лучи солнца. Сумрак тает. Милый, давно знакомый лес! Не будь бандитов — в лесу было бы так радостно!
Меж вершинами деревьев скользит небольшая просинь… «А тут недалеко должен быть родник», — вспомнил Абдулмаджид.
— Ты, — коротко сказал Солнцев, ткнув дулом нагана в Абдулмаджида. — Ты идешь на разведку! Перед нами дорога на родник. Бандиты туда ходят по воду.; Понял?
Они подошли поближе к роднику. Повеяло прохладой.
— Винтовку отдай! — вдруг приказал Суровый. — Сними ботинки. И фуражку… Тропа тебя приведет прямо к их землянкам. Помни твердо: ты — мальчишка из деревни, у вас пропала корова, ты ее ищешь. Ну, успеха!
Он обнял Абдулмаджида за костлявые плечи, и, странное дело, взгляд его сделался мягким, даже ласковым.
— Если сцапают, ври как можешь. Конечно, лучше не попадайся… Ты ведь артист?
— Играю в клубе.
— Если что — разыграй роль пацана, который ищет свою корову. Буду ждать тебя у родника. Удачи!.. Постой-ка! — окликнул он. — Билет сюда!
Юноша вынул из кармана новенький комсомольский билет, отдал командиру и побежал тропинкой вверх на бугор. Тропинка извивалась, петляла, спускалась в темные овражины, опять выбегала наверх… «Если сцапают, ври как можешь…»
Первое, что увидел Абдулмаджид за деревьями, была корова, большая, рогатая, с белой лысиной. Возле нее сидел на корточках обросший бородой дядька — доил.
Абдулмаджид, боясь дохнуть, лег в папоротник. Сердце у него заколотилось, словно в грудь били молотком. Он приподнял голову. Над трубами землянок вились дымки. Три трубы, три дымка… Лысуха машет хвостом, отгоняя оводов, а бородатый дояр доит и доит… У Абдулмаджида дух перехватило.
Вот из землянки вышел еще один бородач. Сел на завалинку, скрутил цигарку, высек огонь, прикурил от трута. Бандит дымит, труба дымит. Корова машет хвостом.
Абдулмаджид считает бандитов. Вместе с Лысухой он насчитал их пять. Два рога, четыре бороды. У одного бородача винтовка. Дояр подхватил посудину, зашагал к землянке. Один бандит выхватил у него посудину с молоком, напился через край. Стал пить второй. Молоко пошло по рукам. Последним приложился сам дояр.
Винтовки составлены в козлы. Бородачи то уходят в свои землянки, то выходят опять. Абдулмаджид сбился со счета. У одного на поясе висит граната…
У пожилых на давнее память остра. Старик отчетливо помнит: бандит с винтовкой посмотрел-посмотрел в сторону Абдулмаджида и стал медленно приближаться к нему…
Молнией метнулась в траве зеленая ящерица, выползшая погреться на солнце. Абдулмаджид кубарем скатился в овраг. Бешено заколотилось сердце. Бандит, может, и заметил что-то, но выстрела не последовало.
Не пробежал и десяти шагов, как перед ним вырос сам Суровый с наганом в руке. Абдулмаджид чуть не вскрикнул. «Не поверил! Следом шел…» — обожгла догадка. Он глянул на командира, не скрывая обиды.
— Не подумай, что мы тебе не доверяем, — сказал Абдулмаджиду командир, по глазами читая его мысли. — Я прикрывал тебя.
…Гурьбой идут по тротуару веселые молодые люди. С недоумением поглядывают они на старика, жидкие седины которого треплет ветер.
А старик, кажется, и не замечает прохожих. Его мысли, его глаза — далеко отсюда.
…В схватке, кажется, первым ранило Абдулмаджида. И, раненый, он еще бежал за бандитами. Потом в нем словно что-то надломилось, деревья колыхнулись, трава подскочила к лицу.
Он пришел в себя на носилках, наскоро изготовленных из сучьев с необломанными зелеными ветвями. Его куда-то несли. Рядом шагал Суровый в своих малиновых галифе, шли незнакомые милиционеры. Потом внесли куда-то под крышу и потащили вдоль коридора. Подошли тетеньки в белом. Запахло лекарствами.
Приходил Солнцев, все еще с шелковым кашне на шее. Справился о самочувствии и положил на столик кусок сахара. Белый с синеватым отливом.
— Двое в тюрьме, один в соседней палате, — услышал от него Абдулмаджид и сразу догадался: это про бандитов…
Суровый принес его комсомольский билет.
— Получай! Ты достоин его! — И светло так улыбнулся.
А Спартаку в пьесе снова дали роль рабочего. На этот раз не без слов. Он всю роль выучил наизусть. Он был так рад, что далее сыграл для Абдулмаджида — с жестами и мимикой. Потом еще похвастался:
— Я теперь трехпудовую гирю поднимаю…
Хромой старик волжской кручей спускается на пристань. В одной руке у него шляпа, в другой — клюка. Вот и весь багаж. Он жмется к перилам, пропуская шумную молодежь. Те спешат, обгоняя его, а он смотрит и радуется. Оборачивается, застыв, глядит на высоченный глинистый берег, на лестницу, круто уходящую в небо. И думает свое… Что полковник Баязитов (суровый командир) пал в жестоком бою под Ржевом, старик давно знал. А что Солнцев жив, услышал только сегодня. А Салиха — Спартака старик давно потерял из поля зрения. Слышал — давно, правда, — будто тот выучился на агронома. Пригодились ли ему, агроному, его мускулы, которыми он так гордился?..
Долго, до тумана в глазах, смотрел старик с палубы на удаляющийся город, и ветер шевелил и шевелил его жидкие седины.
Перевод с татарского М. Рафикова
Ирена Гансиняускайте Канарейка
В клетке, обернутой газетой, ксендз-настоятель нес свою канарейку. С пичугой что-то случилось — уже три дня отказывалась она от пищи, не подавала голоса…
— Затосковала бедняжка, скучная такая, нахохленная… Вот несу…
Реда, неопределенно хмыкнув, покосилась на его ношу.
— Вы не смейтесь. Для меня это вопрос жизни. — Настоятель отогнул краешек газеты, желая показать канарейку учительнице.
— У меня дурной глаз. Еще сглажу…
— К фельдшеру несу. Может, понимает что-нибудь в птицах. Что-то невеселы вы сегодня, соседушка.
— А вы, святой отец, сегодня смешны.
Не собиралась девушка обижать старика, просто попал он под горячую руку: скверное у нее нынче настроение… Фельдшер. Опять фельдшер! Давно уже не обращает она внимания на этого лекаришку, на этого дамского угодника, а он все еще вертит хвостом. Взять хотя бы вчерашний вечер — пристал, ходит следом и бубнит то же самое, что и полтора года назад: «Вы мне необходимы!..» Господи, до чего же мерзок! И отец-настоятель тоже хорош — вечно у него на языке этот трепач…
— Умрет канарейка, чую, и мне конец. Старые мы с ней и никому, кроме друг друга, не нужные…
— И впрямь, скверное дело. — Ни с того ни с сего и уже совсем серьезно вздохнула Реда.
— А у вас-то что же случилось, соседушка?
— Завтра скажу.
Старик поплелся дальше, а она свернула к школе.
Гости еще не уехали. Автобусный мотор, правда, уже урчал потихоньку, но физрук Шпокас притащил из школьной столовке где они вчера славно посидели, кувшин пива, разливал его по стаканам и приговаривал:
У-ха, у-ха, у-ха-ха, Было тут не без греха!.?Гости охотно соглашались «промочить горло, чтобы дорога не пылила». Директор школы Винцентас Паукштялис топтался возле автобуса, потирая вечно мерзнущие руки, и улыбался. У него даже уголки губ свело от этой радушной улыбки.
Наконец автобус взревел, вроде бы даже присел перед тем, как рвануться с места, и… прощайте, дорогие, ласково встречавшие, вкусно угощавшие!.. Только замельтешили, замахали за стеклами окон автобуса руки и… до свидания, спасибо за все.
— Вот и по-о-ехали… — Шпокас зевнул, шмыгнул носом и, составив из стаканов башню, понес в школу. — Поехали, и все дела…
Директор, несколько шокированный такими проводами, недовольно осмотрел свои промокшие выходные башмаки: «Мог бы и попроще надеть».
Неподалеку, в луже талой воды, весело топтался обутый в валенки первоклассник. «Какая ерунда — жалеть ботинки!» — подумал директор, но замечание ученику все-таки сделал.
Потом обернулся и в одном из окон школы увидел Реду. Неужели ни одна из учительниц не могла подойти к автобусу?! Попрятались, как куры… Не сахар житье — всего двое мужчин в бабьем царстве. Встретив его взгляд, Реда — фьють! — тут же исчезла. Только усеявшие подоконники дети все еще смотрели вслед удаляющемуся автобусу, обсуждали волнующее событие. Часть окон коридора была для проветривания открыта, и голоса ребят проникали во двор.
— До четырех утра гуляли. Вот Шпокас и раззевался…
— Ого-го, сколько народу понаехало! Мама даже удивлялась, как удалось накормить такую прорву.
— Так колхоз же свинью дал!
— Зачем?
— Зачем? К столу. Уважаемые люди…
— А я знаю, это такие курсы, — вмешался в разговор старших первоклашка, ковылявший мимо окон в промокших валенках. — Курсы по этому, как его? По обману опытом. Вот!
— Сам ты по обману! Иди, иди, малявка! Не по обману, а по обмену. Они всюду ездят, осматривают школы, где какой порядок. Ну и к нам заехали.
Малыш покраснел, утер ладонью нос, но не сдался:
— А пиво мой папа варил!
У старших ребят заблестели глаза:
— Вкусное?
— Не… Так себе.
В учительской покатывалась со смеху старая математичка:
— Захожу в столовую, а там Шпокас. Пивка, видно, захотелось, ковыряет бочку. А тут пиво как зашипит, как ударит фонтаном! Вьется наш физрук около бочки, никак это бедствие утихомирить не может. Даже стонет от горя! И кувшин подставить нельзя. Крутит он, крутит кран, а тот ни в какую. Наконец, заткнул пальцем и орет: «Будь ты проклят, кран чертов!» Весь с головы до ног в пиве и пене!
— Что ж тут смешного? — На Реду иногда накатывало мрачное настроение, все к этому привыкли. — Право, совсем не над чем смеяться. И стыдно — дети видят…
Развеселившиеся было учительницы притихли.
Вошел директор. Уже по одному тому, что человек он предельно добрый и степенный, никто не решался в его присутствии делать или говорить дурное. Серьезно, сосредоточенно, со своим всегдашним ксендзовски-постным выражением на лице, потупя взор, прошел он мимо женщин к своему столу. Уселся, бесшумно подул на закоченевшие пальцы, погладил ими расписание уроков, лежавшее на столе.
Реда искоса, но внимательно наблюдала за ним.
«Замерз, ноги промочил… И за пьяного Шпокаса ему неловко. Устал. Гости эти, вечеринка… Ну, чего молчишь? Хоть бы словечко обронил…»
Винцентас, словно услышал ее, поднял глаза, оглядел учительскую и спокойно сказал:
— Все хорошо, что хорошо кончается.
Три молодые женщины, учительницы младших классов, молча грели у печки спины. Это они только на первый взгляд такие тихие да скромные. Уж кто-кто, а директор-то знает, что одна истеричка, другая сплетница, а у третьей несчастье — год назад родила мальчика, а он у нее какой-то больной.
— Чуть не проспала! — запыхавшись, влетела в дверь химичка, вынырнула из шубы, стащила с головы косынку, бросила ее на полку. — Фу, жара!
Реда, как всегда по утрам, опустив глаза, сидела, уткнувшись в газету. И на лице ее было то же отреченное выражение, что и у директора. И эта же его привычка — опускать глаза. Подолгу общаясь друг с другом, люди, сами иногда того не замечая, становятся удивительно похожими…
Винцентасу Реда была не по душе, но все вокруг, точнее говоря, все женщины, рассчитывали на столь сильное в нем чувство долга и надеялись на его «милосердие»… Однако вот уже сколько времени, всегда заваленный тысячью разнообразных дел, он был с ней холоден, даже подчеркнуто холоден. Со своими светлыми, коротко, по-мужски постриженными волосами Реда казалась Винцентасу этим утром едва вылупившимся желторотым цыпленком, хотя была далеко уже не первой молодости.
«Уехала бы она отсюда, что ли…» — впервые за многие годы совместной работы подумал директор. Мысль была неприятная, нечестная какая-то. Почему именно нынче пришла она, почему раньше не являлась?.. Несколько более хмуро, чем обычно, взглянув на Реду, Винцентас вдруг ощутил глубокую жалость к ней, и, почувствовав это, Реда растерялась, кашлянула и сказала хрипловато:
— Шпокаса надо домой гнать. Слоняется тут выпивший… Старшеклассники, я слышала, клянчат у него пива. Попробовать…
Зазвенел, затрещал электрический звонок. Учительская пришла в движение.
— Ну что ж, развлечения окончились. Пора за дело. — Старушка математичка высморкалась и взяла с этажерки журнал восьмого класса.
«Скорей бы уж они выкатывались! И чего торчат?» — У Реды не было первого урока, и ей хотелось поскорее остаться наедине с Винцентасом.
Первыми вышли учительницы младших классов. В коридоре зашушукались:
— Реда-то даже с лица спала после вчерашнего…
— Допек ее этот фельдшер.
— А Винцентас? Хоть бы глянул в ее сторону!..
Учительская опустела. И в коридоре тоже все утихло. Затворились двери классов, начался урок.
— Кажется, наша школа произвела на них впечатление: успеваемость, чистота… — начал было Винцентас, желая как-то нарушить неловкое молчание.
Реда сидела, опустив глаза, глядя в широко развернутый газетный лист, но не видя на нем ни буковки… Да. Как же ему хочется, чтобы она уехала. Ведь живой укор, заноза. Это она хорошо понимает. Очень хорошо.
— Боюсь, не слишком ли мы их обкормили, — осторожно выведывал директор.
— Все хорошо, что хорошо кончается, — нарочито повторила Реда его недавнее высказывание, и, подняв глаза, с печальным упреком посмотрела на Винцентаса. А он стоял к ней спиной и глядел в окно. Отсюда было далеко видно. Утро ясное, погожее. Холмы и взгорки еще тонут в сугробах. Но сугробы-то уже оседают! Скорее бы весна. Передохнуть малость. Солнышко все теплее. На школьном дворе — каша из снега и воды. Рассматривая двор, он и в собственной душе ощутил такую же слякоть. «Неужели не мог я вчера пригласить ее потанцевать? Ведь мог же…»
С улицы свернула к школе какая-то девушка, совсем еще девчонка: черное пальтишко, резво топают по снегу ноги в модных сапожках. Напрямик идет, смело шлепает по лужам, совсем как тот первоклассник!
Винцентас обернулся к Реле.
«Сказать ей что-нибудь поласковее, чего уж… Но неужели она не понимает?..»
Положение у Реды, если взглянуть со стороны, куда как выгодное, позиция вполне благородная… Но вблизи… Вблизи Винцентас видел лишь не очень молодую, нескладную девицу, которой не выпало случая выйти замуж. Педагог она неплохой, но человек скучный, раздражительный.
«В наше время женщина должна быть… Ну, хотя бы интересной, что ли…» — думал Винцентас, вновь отвернувшись к окну. Незнакомая девчушка уже усердно очищала на школьном крыльце свои сапожки.
Сам он никогда не был красивым. Длинный. Худющий. С запавшими от постоянного замота глазами. Его сухие волосы, когда он их причесывал, наэлектризовывались и вставали дыбом. Однако он был отличным учителем и директором, до капельки отдавал школе все лучшее, что имел. Запродал ей, как дьяволу, душу.
И все-таки интересно: почему он, самостоятельный мужчина средних лет, холостяк со стажем, проработав столько лет бок о бок с этой девушкой, хорошо зная о ее чувствах и переживаниях, почему он, черт побери, лишь опускал глаза и дружелюбно улыбался, почему ни разу не сказал ей ни одного словечка всерьез, не объяснил: мол, так и так, вы и я разные птицы, не летать нам вместе… Как он, Винцентас Паукштялис, разрешал этой несчастной на что-то надеяться, терпел ее подле себя?.. Одному богу известно.
И с какой стати сама Реда, ведь не уродина — здоровая, умная женщина, почему прозябает она здесь уже семь лет, обучая детей всяческой премудрости, а сама не может усвоить простейшей науки — женской стратегии и тактики? Вот вопрос, вот загадка, которая волнует весь их крошечный городок.
«Я — как та больная канарейка в клетке, — вздохнула Реда. — И никакой фельдшер мне не поможет».
А Винцентас думал в этот момент, что она, Реда, очень добросовестный работник и очень добрый человек, настолько положительный во всех отношениях, что и влюбиться в нее невозможно. Додумав до конца эту, парадоксальную мысль, он вдруг опечалился: «И все-таки она — моя судьба».
— Можно? — В дверях учительской появилась черноволосая улыбающаяся молоденькая незнакомка в сапожках.
— Милости просим! — Директор, посветлев, протянул ей руку. — Я из окна увидел и сразу понял, что это вы…
Они знакомы? Кто она? Реда оживилась, лицо ее потеплело, на нем появилась краска, но, ощутив вдруг во всем теле какую-то странную неловкость, она вновь помрачнела и уныло уставилась на гостью.
— Знакомьтесь — наша новая преподавательница французского, — Винцентас глянул на Реду такими веселыми и ясными глазами, что у нее не осталось сомнений: «Вот какие ему нравятся…»
Новенькой, вероятно, около двадцати. Симпатичная. Реду кольнуло острое чувство ревности. Но она протянула руку и снисходительно, по-матерински улыбнулась:
— Будете заменять Шпокене?
— Не знаю… Какую-то учительницу, которая малыша ждет…
Директор рассмеялся, помог девушке снять пальто.
«Не такая уж она и красавица. Пустышка, наверное», — решила Реда и снова уткнулась в газету. Ее короткие прямые волосы, упавшие на лоб, снова напомнили Винцентасу желторотого цыпленка. И он ужаснулся: «Реда будет моей женой. Это ясно, это неизбежно. И деваться мне некуда…»
— Очень приятно познакомиться. Мне вас по телефону рекомендовали. Вы как раз вовремя!
«Ишь как лебезит… Около меня ни разу так не вертелся… Господи, что же теперь будет?.. Что мне делать?»
Да. Случается, что и самые опытные педагоги дают промашку, окончательно запутываются. Винцентас даже раскраснелся, обхаживая молодую коллегу. Так осточертели ему все эти женщины, ежедневно кудахчущие возле печки, так надоело тоскливое обожание Реды, ее терпеливая любовь, так обрыдли попойки Шпокаса… Новый человек оживил его, как свежий ветер. И лицо порозовело от радости. И на губах порхала какая-то незнакомая улыбка, не похожая ни на ту, дежурную, радушную, с которой провожал он нынче гостей, ни на ту искреннюю, хоть и вымученную, с которой привык он обращаться к Реде. В душе проклюнулось какое-то новое, еще не изведанное старым холостяком чувство. И он радовался, как мальчишка. Далее заставил девушку погреть возле печки руки…
«Ах так… Ну ладно!» — оказывается, в душе «неплохого педагога» под покровом всяческих добродетелей есть место не только для чувства ревности, но и для жажды мести, пусть невелика эта жажда, с чернильную капельку, но сейчас капелька расплылась кляксой, отвратительно испачкав чистую душу Реды. «Ну ладно! Я теперь нарочно никуда не уеду. Никуда! А ведь ты хотел бы. Очень бы хотел, Винцентас! Не поеду! Буду смотреть на вас, жечь глазами, покоя не дам… Фельдшер станет моим мужем, а ты, ты — мучеником…»
Новенькая ничего этого не поняла. Она смотрела то на него, то на нее, оглядывала учительскую и была бесконечно рада и прозрачному утру, и заснеженным холмам за окном, и теплой, изразцовой печке. Она нравилась самой себе, и ей приятны были и эта бледная хмурая учительница, и директор школы, пусть несколько чересчур оживленный и любезный.
«Буду с ним построже. Ни шагу навстречу!» — это была самая смешная мысль, какая могла прийти в голову наивному, не знающему жизни существу. Но правильная. Женская.
— Кстати, — громко сказала она, — на автобусной станции говорили, что умер какой-то настоятель…
Директор удивленно поднял глаза от бумаг, которые листал, абсолютно не вникая в их смысл.
— Не может быть!
А Реда ахнула. Какой-то час назад встретила она старика, его больную канарейку… И тут же вспомнился фельдшер…
Ну что ж… Лучшего повода и не найдешь. Сегодня же вечером явится она к фельдшеру и поинтересуется, жива ли настоятельская канарейка?..
Перевод с литовского Б. Залесской и Г. Герасимова
Олесь Гончар Позднее прозрение
Серое низкое небо. Дюны, валуны. Где-то субтропиках золотые диковинные плоды родит земля, а здесь она родит камни. Всю жизнь люди собирают их: в этом году соберут, очистят от них поле, а на следующую весну камни вновь наросли, повылазили гололобые из-под почвы. Говорят, морозами их тут выдавливает из земли.
Над заливом — рыбачьи поселки да сосны кое-где. Скупая природа, суровый край. Однако и он, этот суровый, когда-то ледниковый край, способен, оказывается, рождать поэтов! Способен вдохновлять нежных избранников муз… Собственно, поэт или, вернее, растущая слава его и позвала сюда Ивана Оскаровича, человека по горло занятого, перегруженного бесчисленными обязанностями, будничной текучкой, хлопотными делами, которые, в конце концов, к нежным музам не имеют ни малейшего отношения. Пол-Арктики на твоих плечах. Каждая секунда на учете. А вот поди ж ты, бросил все, приехал. Даже сам, немного удивленный собственным решением, слегка иронизирует над собой: вот ты и в роли «свадебного генерала», в роли гостя на чествовании того, кто из всех участников твоей экспедиции был, пожалуй, самым нерасторопным, личностью почти курьезною. Порой просто беспомощным! Даже при ничтожном морозе умудрился отморозить свой птичий нос!
Вспоминается щуплая, хилая фигура, которая, торопясь на вызов, комично и неловко путается в каком-то меховом балахоне (товарищи все-таки позаботились, чтоб не обморозился), из-под съехавшего набок полярного башлыка встревоженно смотрит худое, посиневшее от холода, всегда будто сконфуженное лицо… Требуешь объяснений, скажем, за самовольную отлучку, а он, поблескивая слепыми от солнца стеклами очков, что-то бормочет, шепелявит, не в состоянии толково слепить даже то, что имеет за душой. Ходил, мол, на пингвинов смотреть… «Да ты лучше под ноги себе смотри: там трещины такие, что незадолго до тебя несколько тракторов проглотили! Провалишься, кто за такого гения отвечать будет?» Стоит, ухмыляется смущенно, ничего уж и не лепечет в свое оправдание.
И вот ты здесь «в связи с ним», ради него, вместе с многочисленными его друзьями из разных республик (честно говоря, ты и не подозревал о такой его популярности). Тебя тоже пригласили в качестве почетного гостя, и вот прибыл, ведь не откажешь этим рыбачьим поселкам, которым ты должен рассказать о своем содружестве с поэтом во время вашей общей полярной экспедиции. А так ли все это было, как теперь представляется, так ли уж вы были близки в тех полярных испытаниях? Для него ты — один из командиров грандиозной экспедиции, непосредственный его начальник, чья власть практически безгранична, тот, кто отвечает за людей, технику, ледоколы, а он… Да кем он, в конце концов, был для тебя? Лишь один из многих твоих подчиненных, почти ничем не занятый, не приспособленный к полярным условиям, какой-то нахлебник с корреспондентским билетом, ходячий балласт при тебе — этим, собственно, и исчерпывались ваши взаимоотношения. Откуда было тебе знать, что под невзрачной внешностью, под тем неуклюжим меховым балахоном трепещет нежная, легко ранимая, поэтическая душа… Та самая, что столь тонко, проникновенно, с такой страстью сумеет потом воспеть людей экспедиции, отдаст должное также и тебе, твоей энергии, воле, личной стойкости… Об этом первыми и вспомнили здешние пионеры, встретив тебя с цветами. Какая-то девчушка, смешно шепелявя (точь-в-точь как тот ее земляк), все допытывалась:
— Скажите, вы — прообраз? Это вас он вывел в образе главного героя «Полярной поэмы»?
— В образе того белого медведя, от которого вся экспедиция стонала? — попробовал было отшутиться Иван Оскарович, но шутка его не дошла до школьников, они взялись его еще и успокаивать:
— В поэме вы вполне позитивный, это совершенно ясно! Воплощение железной воли, силы. Это же вы с тракторным поездом пробиваетесь сквозь пургу, спешите на помощь тем двоим?
Стрекочут кинокамеры, запечатлевая твое прибытие, вот ты уже среди родственников поэта и невольно оказываешься таким, каким тебя хочет видеть этот рыбачий край. Для всех, собравшихся здесь, ты не просто бывалый полярник, арктический командарм, гроза подчиненных — в представлении этих людей ты еще и задушевный друг поэта, тот, кто поддерживал его в необычных условиях экспедиции, не раз его подбадривал, облегчал его существование, и он тебе, быть может, первому доверительно читал свои вдохновенные строки… «Но ведь он тогда как поэт совсем еще для меня не существовал», — хотелось Ивану Оскаровичу внести ясность. В своем творчестве поэт, земляк ваш, раскрылся позднее, а тогда был просто чудаком с корреспондентским билетом, посланным сопровождать экспедицию, был одним из тех неприспособленных, необязательных при тебе людей, которых порой не знаешь, куда и приткнуть.
В большой экспедиции почти всегда находится несколько таких, будто и нужных для порядка, но больше путающихся под ногами, налипших, как морская мелюзга на тело корабля, и ты их должен нести на себе. При первой с ним встрече Иван Оскарович даже не скрыл удивления, как мог такой хилый, болезненного вида человек очутиться в экспедиции, где нужны люди двужильные, сто раз закаленные… Потом уж станет известно, сколько настойчивости проявил сей субъект, добиваясь права участвовать в полярном вашем походе, какая могучая страсть вела его, побуждала преодолевать множество препятствий, пока он, в конце концов, вооруженный корреспондентским билетом, едва держась на ногах, после шквалов и штормов, после приступов «морской болезни», все-таки ступил вместе с вами на вечный лед, перешел, смущаясь собственного волнения и, с обледенелого судна в мир слепящих, еще, наверное, в детстве грезившихся ему снегов, самых чистых снегов на планете!..
До смешного застенчивый, деликатный, совсем беспомощный в практических делах, этот шепелявый любимец муз не вызывал с твоей стороны серьезного интереса. Нечего и говорить про какую-то глубокую между вами дружбу: ты для него Зевс-громовержец, скорее всего с замашками самодура, а он для тебя… Впрочем, что теперь вспоминать… Был он каким-то неприкаянным в вашем походе. Казалось, он чувствовал себя лишним, неприспособленным — и от этого еще больше смущался, пробовал угодить товарищам, да все как-то невпопад. Незлобиво над ним подтрунивали, что, мол, наш корреспондент и при плюсовой температуре умудрится обморозиться. Тебе он тоже рисовался фигурой почти анекдотической. А получилось, вишь, так, что именно ему суждено было стать певцом экспедиции, творцом знаменитой «Полярной поэмы» — поэмы, ставшей для ее автора лебединой песней. Вложил он в нее всего себя, щедро, самозабвенно. Сгорел сравнительно молодым, на протяжении одной инфарктной ночи, и теперь — по местному обычаю — только свечка горит, мигает бледным лепестком пламени, поставленная на камне среди простых венков из вечнозеленых исток хвои. Почти в диком месте он похоронен — на опушке, среди камней и зарослей низкорослого можжевельника. Неказистый, скромный этот кустарник тоже воспет в одном из его произведений.
Поистине народным поэтом стал он в этом краю. Вот где чувствуешь, как любят его, как дорожит им это рыбачье, от природы сдержанное, не щедрое на признания побережье. Теперь ты можешь лишь жалеть, что так и не подружился с поэтом по-настоящему при его жизни, не сумел проявить к нему чуткость, бережность, не сделал всего, что мог, а ты многое мог сделать, когда в экспедиции он очутился непосредственно под твоей рукою. Многое в его полярной судьбе зависело тогда от тебя! Не особенно заботился о том, чтобы его оберегать — это факт… А в их глазах, в их представлении сложились совсем другие отношения между тобой и поэтом, считают, что связывала вас та характерная для полярников товарищеская близость, для которой нет служебных барьеров. Предполагается, что в трудностях экспедиции вы взаимно раскрылись сердцами, ведь не случайно же он так щедро воспел наряду с другими и тебя, твою энергию, мужество, размах, эти совершенно реальные твои качества, которые, перейдя в поэму, приобрели еще более высокий, значительный смысл, вроде бы породнив тебя с античными мореплавателями.
Напрасно, конечно, было бы идти против представлений, сложившихся здесь. Если отвели тебе именно такую роль — ничего не остается, как только принять ее и выступать в ней. А может, ты и сам в себе чего-то недооцениваешь? Может быть, то, что объединяло вас во время экспедиции, все те преодоленные трудности и все прочее было куда значительней, чем до сих пор тебе казалось? Возможно, что поэт со своим детским ясновидением, со своей пылкой увлеченностью вами, людьми полярного закала, был намного ближе к истине, к подлинной сути вещей? Вот и успокойся, перестань казниться и спокойно принимай как должное почет, оказываемый тебе этими людьми, земляками поэта. Где-то здесь он рос среди этих можжевельников… Так рано ушел из жизни, и так поздно ты открыл его для себя. Теперь ты и сам ощущаешь его отсутствие. Чем дальше, тем острее возникает чувство большой и незаменимой утраты. Ведь он мог бы еще жить и жить… Еще долго, наверно, полярный люд не будет иметь такого певца. А может, и вообще такого больше не будет? Ровно и безжизненно горит свеча среди вороха свежей хвои. Лепесток пламени вместо человека. Несколько месяцев не дотянул до юбилейного рубежа… Однако земляков не особенно, как видно, угнетает его физическое отсутствие. Неспешно собираются на митинг к памятнику, открываемому сегодня. Целыми семьями стекается степенный рыбачий люд, изредка блеснет в толпе даже улыбка: Ивану Оскаровичу объясняют, что кто-то пошутил по адресу островитян, — вспомнили одну из метких шуток, во множестве оставленных поэтом своим землякам.
В толпе выделяется колоритная фигура старого рыбака: кряжистый, исхлестанный ветром, стоит впереди, лицо смелое, даже будто немного сердитое; трубка в руках, бакенбарды рыжие, почти огненные. Мог бы сойти за морского разбойника для кинофильма…
— Вон тот был тоже его другом, — указывают Ивану Оскаровичу на старика.
«Тоже, тоже, — с горечью замечает он про себя. — Тобой уже и других здесь мерят».
Указывают еще на острова, низкой полоской едва виднеющиеся далеко в заливе:
— Наши Командорские, — так он их шутя называл… Это потому, что в детстве казались они ему очень далекими, достичь их было мечтой всех мальчишек побережья. А оттуда тоже в кои веки добирались до материка — за керосином или за солью…
Повторяют его меткие афоризмы, они и на самом доле очень своеобразные, ни на какие другие не похожие, Иван Оскарович с удивлением открывает это для себя: «Каждый народ мудр, но мудр по-своему, его мудрость одета в такую одежду, которая наиболее ему к лицу…»
Митинг должен состояться на окраине поселка, где у огромного, торчмя поставленного валуна работают приезжие студенты, тоже выходцы из здешних мест: ни на кого не обращая внимания, они завершают работу — высекают на глыбе камня профиль поэта. Это и будет памятник. Иван Оскарович находит, что у студентов получается совсем неплохо: имеется сходство и одновременно — нечто большее, чем сходство, — порывистость, юность, стремительность… И то, что высекают именно на валуне, — тоже удачно: сама природа предоставила им материал для этого наскального рисунка.
Когда Иван Оскарович в сопровождении хозяев осматривал глыбу, его представили художникам:
— Знакомьтесь, ребята: это друг поэта по экспедиции, известный полярник…
На минуту парни отрываются от работы, смотрят на гостя: конечно, они слыхали о нем. Один из резчиков, молодой бородач, спрашивает, кивнув на глыбу:
— Ну как? Таким он был?
Требуют оценки. Да еще так резко спрашивают. И хотя со стороны своих подчиненных Иван Оскарович уклончивости, неопределенности не терпел, но тут почему-то и его самого стал водить лукавый:
— Да как вам сказать… Каждый из нас воспринимает ближнего своего субъективно…
— Нет, вы без дипломатии… Нам необходимо знать: схвачена ли его суть? Его глубинное, характерное?
— Здесь нужен специалист, я вам не судья, — тянет Иван Оскарович.
Тем временем памятник уже покрывают белым полотнищем.
Вот так. Порыв, вдохновенность — это для них главное в его образе. А ты-то сам видел его таким? Что-то не замечал. Но все ж, наверно, в нем это было, коль другие заметили?
Гостей уже просят к трибуне. Трибуна импровизированная, из свежих досок, оплетенная со всех сторон елочными ветками. А народу! Стоят под дюнами и на дюнах женщины, мужчины, с любопытством осматривают прибывших; взгляды многих нацелены на твою крепкую, с глыбистой отливкой плеч фигуру. Сдержанно приветливые, а некоторые даже суровые. Хотят услышать твое слово, Иван Оскарович: что же ты им скажешь? Нет, здесь надо без лукавства, здесь режь только правду-матку. Все, как было, все, как виделось… Не выдумки слушать собрались они сюда, ты им без прикрас поведай эпопею арктического похода, со всей откровенностью поведай, даже если правда ваша была жестокою, — в тех условиях без суровости попробуй обойтись! Именно с этого и начал Иван Оскарович, когда его пригласили к микрофону. Рыбачий люд, притихнув, внимательно слушает гостя, самых дальних достигает его сильный, на ветру натренированный голос. Оратор позволил себе в несколько грубоватой, простодушно-веселой манере изобразить, как впервые встретился с их земляком, прибывшим с последней партией для пополнения экспедиции. Неказистый он имел тогда вид — здесь, как говорится, из песни слова не выкинешь. «Среди людей важнейших полярных профессий — еще один корреспондент, мерзляк, балласт, хорошо, если хоть анекдоты умеет рассказывать», — воткем он был для тебя, по крайней мере, во время той первой встречи. Тысячи забот на плечах, а тут должен думать еще и о нем, позаботиться об его ночлеге, чтобы где-то приткнуть этого окоченевшего типа в перенаселенных ледяных пещерах. Для вящей правдивости Иван Оскарович не утаил даже того, как он посоветовал было ему кочевать по добрым людям, по очереди занимая место того из полярников, который станет в эту ночь на вахту. То у радистов, то у метеорологов, то еще у кого-нибудь, одним словом, гонял ты, всемогущий, его, как соленого зайца, — ведь досадить корреспонденту в подобных ситуациях, чего там греха таить, люди твоего ранга считают для себя своеобразным шиком… Исповедался Иван Оскарович, как на духу, с этой елочной трибуны, во всем признавался без дипломатии, совершенно искрение. Видел, мол, что по состоянию здоровья следовало бы освободить горемыку-поэта от авральных работ, но с льготами не спешил, да к тому же и сам он оказался человеком самолюбивым, поблажек не искал, от всевозможных неудобств защищался больше юмором, незлобивой шуткой. Когда и не звали — по собственному почину шел со всеми, оказывался там, где труднее всего. Разгружать трюмы, тащить ящики, выкатывать грузные бочки — ничто его не обходило, ни от чего он не уклонялся. Брался за работу даже непосильную, становился рядом с самыми крепкими, точно хотел проверить себя, убедиться, чего он сам стоит… И все это с твоего молчаливого согласия.
— Вы можете сказать: чем ты хвалишься? — раскатисто громыхал Иван Оскарович. — Тем, что имел возможность уберечь и не уберег? Что безжалостным оказался? Такое нежное создание не пощадил? Но вы ж и меня поймите, друзья: в тех условиях пожалеешь одного — на соседа взвалишь двойную ношу. Бывает так, когда щадить не имеешь права. В самом деле, чем он там был лучше других? Что чаще нос отмораживал? Что музы были к нему благосклонны? Но об этом я тогда даже не подозревал… Зато вот разных курьезов с ним хватало…
Дальше эпизод был такой, что слушатели волей-неволей должны были бы заулыбаться, однако лица у всех — каменные, и только еще напряженнее смотрят с самых дальних дюн на тебя. Иван Оскарович почувствовал: что-то неладно. Совсем не та реакция, какую он ожидал. Ничего не утаиваешь, все им выкладываешь откровенно, а впечатление такое, будто не этого они от тебя ждут. Там, где поэт оказывается в смешной ситуации и, собственно, должен был бы возникнуть комический эффект, люди стоят без улыбок, а тот рыжий пират с бакенбардами даже хмурится, с каким-то свирепым выражением стискивает трубку в зубах. Нет, делиться воспоминаниями — вещь, пожалуй, рискованная. Должно быть, своим откровенным рассказом ты невольно нарушил уже сложившийся образ поэта, за подробностями не рассмотрел в нем чего-то значительного, как раз того, чем он живет в их воображении, в их строгой молчаливой любви.
Кое-как закончил Иван Оскарович свое выступление, получил сдержанно отпущенную ему порцию аплодисментов — аплодисментов вежливости, и только отойдя от микрофона, понял с досадной очевидностью: речь не удалась. Постарался усилием воли возвратить себе душевное равновесие, но выйти из состояния удрученности оказалось не просто. И даже причину неудачи не мог себе пояснить: на чем споткнулся? Возможно, что слишком уж выпирала твоя собственная персона, твое полярное всемогущество? Но о каком всемогуществе может идти речь, когда над множеством твоих служебных, вообще-то необходимых отчетов об экспедиция уже теперь возвышается «Полярная поэма», не стареющая, не перекрываемая никакими, в том числе и новейшими отчетами, возвышается самым прочным, самым долговечным отчетом для потомков о вашем походе… Вместо твоих давних критериев, жизнь выдвигает свои, неожиданные. Твое же грубоватое иронизирование над поэтом и вовсе было некстати, а для некоторых из здесь присутствующих оно прозвучало, кажется, даже кощунственно. Странно. Ты, не раз выходивший победителем из сложнейших служебных баталий, не сумел здесь вовремя сориентироваться, попал впросак. Уж и не рад, что согласился приехать сюда, хотя как же было отказаться, когда приглашал, по сути, целый край, все эти разбросанные по взморью и островам рыбачьи поселки. И рассказ твой, что ни говори, опирался на факты, все они ведь имели место, ничего ты не выдумал от себя… Так виноват ли ты, что не совпадают они с чьими-то представлениями и фантазиями, с извечной человеческой слабостью — создавать себе кумир, идеал или по меньшей мере объект для восторгов?
Был потом в кафе обед с ячменным пивом местного изготовления; зачерпывают сей экзотический напиток грубыми деревянными кружками, — надо непременно такими кружками, это давний рыбацкий обычай, идущий из средних или еще более давних веков. Выступали тут же художественная самодеятельность, пели песни, главным образом шуточные, которые оставил своему краю поэт. Был он, оказывается, человеком веселым, озорным. И как много успел! И какой необходимой оказалась людям его будто бы и нескладная, будто бы и несерьезная жизнь!.. Удивительная вещь! Иван Оскарович замечал, что и его, как и тех детишек из местной школы, личность поэта чем-то завораживает, захватывает и не выпускает из своего силового поля. Внутренний голос подсказывал, что есть и тебе, дорогой товарищ, о чем пожалеть. Может, с редкостным другом разминулся, с тем, чье отсутствие уже ничем и никогда не сможешь восполнить. Раньше об этом ты и не думал, а теперь вот узнал, как щемяще нарастает чувство утраты и раскаяния: поздняя печаль, позднее прозрение!
Напротив Ивана Оскаровича сидят три женщины в черном, сдержанные, неразговорчивые. Молчаливые плакальщицы, пифии чьей-то судьбы. А на другом конце стола среди земляков уже бражничает вовсю тот рыбак-гигант с огненными бакенбардами: поминки так поминки! Осушил один ковш, другой берет с кипящей пеной… И вдруг громко, через стол обращается к Ивану Оскаровичу:
— А вы, капитан, с ним не особенно церемонились там, в ваших знаменитых льдах… Такое бездушие, прямо скажем, поискать…
— Такой уж материк. Там не до нежностей…
— Это ясно. Несмелый, говорите, робкий? А я с ним в одном взводе был, видел его в ночном бою на островах. И никакой робости мы тогда за ним не замечали…
— Вот как? — удивился Иван Оскарович. — Я и не знал, что он фронтовик.
— То-то! Совсем паренек, однако и тогда дух наш поддерживал. Уже тогда мы его любили. За верность, за товарищество. Даже за его шепелявость, что вам казалась смешною.
— Попал под огонь, — смутился Иван Оскарович. — И заслуженно. Кройте, кройте…
— Крыть не собираюсь, это так, между прочим, — усмехнулся гигант. — За ваше здоровье.
Иван Оскарович сидел понурясь. Кажется, разгадал, наконец, причину неудачи своего выступления. Эти анекдотики. Козыряние собственным величием… Беда в том, что еще до нынешнего дня ты смотрел на поэта как на своего подчиненного, с которым можно повести себя как угодно, выставить его смешным, неумелым, беззащитным… Ты и не заметил, как он со своею «Полярной поэмой» уже давно вышел из-под твоего подчинения! Если он и подчинен нынче каким-либо законам, то разве что иным, вечным, тебе уже нисколько не подвластным… И для всех собравшихся здесь он — гордость, он — чистота и вовеки уже неотделим от своей прекрасной поэмы. Впрочем, ты ведь тоже не хотел принизить его образ?.. Ну, а то, что был черствым и бездушным к нему, так это же правда, никуда от этого не уйдешь…
Неважно чувствовал себя Иван Оскарович. Уловил момент, когда оказался вне внимания присутствующих, вышел из кафе и, вздохнув полной грудью, медленно зашагал вдоль побережья. Уже вечерело. Всюду вдоль берега громоздились валуны, то темно-серые, то побуревшие от времени, большие и малые, самых причудливых форм, — остатки ледниковой эпохи. Камни и камни. Тут и там упрямо лезли они из-под земли, из-под сосен, из-под можжевельника… И даже в заливе, по его замерзшему мелководью, удивляя странным видом, лобасто выпирали сквозь лед динозавры гранитов.
Залив, низкое небо, валуны. Это то, что было его миром, то, что он воспел. У тысячетонного валуна, на котором перед этим студенты высекали профиль, стоят венки еловые, остальное все уже прибрано, нет и покрывала, снятого еще при открытии. Ни души поблизости. Лишь в стороне маячит стайка девочек-школьниц в поднятых капюшонах, кажется, как раз те, которые приветствовали Ивана Оскаровича утром и для которых он был лишь уважаемый «прообраз»… Сейчас девочки, будто даже не приметив его, повернулись в сторону моря: притихшие, присмиревшие, смотрели на тающие в предвечерье острова. Маленькие, осиротелые музы этих мест…
Полярник решил еще раз рассмотреть наскальное произведение: чем-то оно привлекало все ж… Профиль поэта — во весь размах валуна. И хотя изображение эскизное, тем не менее безразличным тебя не оставляет: долговязый, чубатый поэт, улыбаясь, направил взгляд куда-то мимо тебя, и нет зла на его лице, нет и той робости, той курьезности, о которых ты сегодня столь некстати разглагольствовал… Напротив, чувствуется в нем какая-то вдохновенная мальчишеская веселость, открытость души, которой он, кажется, больше всего и привлекает: знаю, мол, что бывал я смешным и неуклюжим, ну и что с того? Я же все-таки с вами был! Жил для вас! Что-то вроде этого хотел он сказать, глядя в море, на свои едва заметные над вечерним окоемом «Командорские».
Тучи надвинулись, начал пролетать мокрый снег, но Иван Оскарович не замечал этого. Стоял перед глыбой, неотрывно изучая высеченный на ней размашистый профиль, и горькое чувство утраты не покидало его, и уже Ивану Оскаровичу самому казалось, что именно таким, летящим, порывистым, довелось ему видеть поэта в жизни.
Перевод с украинского Л. Вышеславского.
Евгений Гуцало На рассвете
Утренняя прохлада осела на листочки клевера серыми орешками росы; если оглянуться назад, видны темные цепочки следов, спешащих за тобою; вдали, в круглой ложбинке, застыли растрепанные нити тумана. Легким дыханием веет от овражка, что вон там, слева; по дну его бежит речка; свежесть охмеляет, от нее сладко во рту, в увлажненных глазах; и кажется, где-то глубоко внутри тебя — так, как это бывало в детстве, — шелком шелестит и благоухает весенняя трава, сияет изумрудами, просвечивает на солнце.
Поля на рассвете в июле, после теплой или душной ночи, словно покрыты зеленоватым маревом, а марево легкое и какое-то призрачное — то ли звездная пыль плавает в воздухе, то ли лунный пух не уляжется. И дорога в предрассветных полях — белая, с усыпленной пылью, лениво-неповоротливая, совсем еще пустынна, а по ней вкрадчиво прохаживаются сны. Первый — сон полыни, горьковато-тревожный и запыленный; второй — сон василька, синеглазый, почти девичий; третий — сон цикория, легкий и душистый. Но не только эти сны прохаживаются по дороге, потому что не только эти цветы растут на обочине, еще вдоль нее дремлют чабрец, душица, чернобыл, шиповник, стоят, не Шелохнувшись, рожь и пшеница. Торжественно стоят они, с врожденным достоинством, которое не позаимствуешь и не изобразишь. Глядя на все это, хочется увидеть, как из зеленой воды выплывает русалка, из ржи выходит полевая царевна или какой-то живой дух этих просторов, и очень жалеешь, что они не выйдут, а сам ты уже не в силах поверить в возможность этого.
Вдруг останавливаешься, потому что все заметнее и ощутимее зеленоватый свод неба расширяется, растет и растет в высоту, светлеет, набирает торжественности, и не бесстрастной, а такой, что пробуждает холодок восхищения, а в глазах зажигает искры, — даже ощущаешь, как засветился твой взор. Солнца еще нет, оно за горизонтом, но присутствует уже во всем: там, на востоке, тепло и мягко переливаются скупые еще краски, словно разбавленные жиденьким свечением, которое пока не сияет, однако с веселой улыбкой празднует свое появление. Там, над горизонтом, замерли малиновые крылья облаков — в тех крыльях есть перья и лиловые, и розовые, и желтенький гусиный пушок. Крылья замерли как бы в парении, не шелохнутся, и окраска их неспешно меняется: лиловые перья светлеют, распушиваются, желтые выгорают, белеют, как одуванчики. Но вот невидимое солнце внезапно выпускает пучок стрел из своего колчана, и стрелы те, пронзив крылья, ранят их без боли, и они вспыхивают тихим пламенем. Славно тогда под этим огромным сводом, и мысли хорошие приходят в голову, и жаждешь хоть как-то сравняться с окружающей тебя чистотой, хоть толику перенять от природы непорочности, добра и любви. Если бы можно было перестать ощущать себя, раствориться в бесконечности, стать частицей и этой высоты, и этих красок, и этой торжественности — и в этом обрести смысл бытия!
Ровный луг покрыт росой, как звездной сбитой пыльцой, по нему идти да идти. Вот пасутся кони; прохожу мимо, а глаз сам косит на них, и я невольно забираю все левее, пока не оказываюсь рядом с ними. Чалый и карий щиплют траву — так осторожно, словно своими влажными губами целуют, голубят этот луг; Меня они будто и не замечают, но стоило только приблизиться к ним еще на два шага, как чалый и карий Подняли головы, гривы их всплеснулись и растеклись, — теперь кони настороженно всматриваются в меня, какое-то мгновение в их глазах видно бездонное удивление, потом они поворачиваются ко мне хвостами, опять пасутся, слышен короткий, с придыханием, звук, когда они срывают траву.
— Кось, кось, кось! — зову я и, протянув руку, пробую приблизиться к ним.
Чалый повернул ко мне голову, а карий только косит блестящим напряженным глазом. И в глазу том видится такое, словно комок земли, оформись и приобретя свойства живой материи, стремится понять меня и мои намерения.
— Кось, кось, кось! — как можно ласковее говорю я и делаю еще один шаг.
Чалый кладет голову на шею карему, губы его вздрагивают, ноздри раздуваются, а по изогнутой шее пробегает дрожь, словно под кожей пролетают большие мухи. Уже и карий не пасется, и вот они дружно, с ржанием бросаются вперед.
— Ну и глупые же вы оба, — говорю я им вслед. — Я ведь ничего плохого вам не сделаю, только поглажу. Боитесь, что сяду проехаться? Не бойтесь.
Делаю вид, что мне до них нет никакого дела; кони, удалившись на некоторое расстояние, успокаиваются и опять пасутся; тогда я, улыбаясь как можно дружелюбнее, еще раз пробую подойти к ним. Они меня подпускают, но когда я глажу изогнутую шею карего, чувствую, как она испуганно дрожит. Чалый пасется, а обращенный ко мне глаз его зорко следит за мной.
— Вот и хорошо, — говорю я им, — а вы переполошились. Разве я могу обидеть вас…
Шерсть у карего влажновата, — должно быть, кони целую ночь пасутся; но если дольше подержать ладонь, то ощущаешь, как горяча кожа, — кажется, она излучает тепло. Я вбираю это душистое тепло, а рука моя ползет по гриве, я уже протягиваю другую руку, чтобы опереться и вскочить… но карий, уловив в моем движении что-то подозрительное, отпрыгивает в сторону, а за ним и чалый, и оба они, выгнув спины и резко загребая передними ногами воздух, легкой рысью удаляются от меня.
Сколько потом я ни хожу, следом, они уже не подпускают меня. Мгновение назад почти укрощенные, сейчас они совсем неприступны, особенно карий. Не пасется, задрал голову, будто принюхиваясь к клеверному дыханию ветерка, а на самом деле сторожит каждое мое движение.
— Я же только самую малость проедусь, — говорю им. — Ну, с воробьиный скок, не больше. Вы погодите, не пугайтесь…
Оба слушают. Чалый прижал одно ухо, и во всем ого облике улавливаю разумную, почти человеческую иронию. А карий все принюхивается к влажному запаху клевера и луговой мяты, а на самом деле следит за мной. Нет, лучше, видно, не скрывать своих намерений. И я широким шагом иду прямо к ним.
— Ой вы, кони мои прыткие, возьмите меня на крылышки…
Оба смотрят на меня; протягиваю руку, и они, дружно отпрянув, удаляются; скачут неторопливо, с достоинством, словно и не от меня скачут, а просто так, и на росной скатерти луга остается вязь их темно-зеленых следов; хочу позвать их, но голос застревает в горле, и кажется, будто кто-то сжимает его сильнее и сильнее. Провожу ладонью по глазам, вытираю их и вижу, как кони неспешно бегут и бегут, уже там, где к лугу подплывают зеленые волны ржаного поля, вот уже и миновали то место; стою до тех пор, пока они не останавливаются совсем далеко, но не пасутся, а, подняв головы, замирают.
Между тем солнце взошло; недавние крылья облаков растаяли, голубизна вверху расширилась и сгустилась, теперь уже все небо словно вылеплено из диковинного прозрачного воска, усыпанного барвинком; луг и поле изменились — туман исчез, нигде не видно его волокнистого свечения, и только в желобе оврага, с теневой стороны, дрожит темная прохлада. Наверное, по дороге уже не прохаживаются сны, а покачивается над ней пыльная завеса, пахнущая шершавым теплом; скрип возов, скороговорка автомобилей спугнули сны.
Иду своей дорогой, а из головы не выходят карий и чалый, не исчезает ощущение внезапной утраты — точно мог сейчас вот познать радость и не познал. Луг весь засветился, волны трав на нем уже совсем легкие, и ромашки вдоль стежек легкие, как будто лежит на всем одна необозримая и счастливая улыбка. Оборачиваюсь — кони уже едва виднеются, так и стоят, вытянув шеи. Ветерок жмется к груди, как ребенок, гладит мое лицо, брови, и в его касаниях мне мерещится сыновняя ласка. Вот уже видна речка в камышах, сады и соломенные стрехи меж деревьев, где-то там ждет меня шоссе, где-то по нему бежит автобус, чтобы забрать меня, увезти…
Сейчас, когда вспоминаю то утро, отчетливо вижу колючие россыпи утренней влаги на клевере, мониста из стеклянных шариков на лебеде, паутину на терновнике; грезятся даже те сны полевых цветов и бурьянов, что блуждают по грунтовой дороге, пока сами растения еще не проснулись; ощущаю простор тот, что исчезает с первыми лучами солнца, как исчезает и настроение, которым пронизан мир на рассвете, потому что тополя на окраине села очнулись от безмолвного восторга и на лугу не курится белый туман, и даже то ощущение утраты, когда очень хотелось проехаться верхом, а кони не дались, взмахнули гривами и поскакали туда, где взошло солнце, — даже то горьковатое ощущение поныне преследует меня. Я даже ощущаю, как в моих волосах покачивается ветерок, щекотно перебирает их и, запутавшись, не может взлететь…
Авторизованный перевод с украинского Н. Котенко
Нодар Думбадзе Неблагодарный
На кладбище в селении Ципнагвари покоятся столько Бережиани, проживших более века, что никто и не вспомнил о столетии Гудули. Да что там другие, сам Гудули запамятовал о собственном дне рождения. Нынешним утром он поднялся вместе с петухом Лонгинозом. Сначала поговорил с соседской собакой, крутившейся у ног:
— Ну, прожора, сколько яиц собираешься стянуть сегодня из моего курятника?
Потом осыпал упреками слетевшего с насеста петуха:
— Вместо того чтобы будить меня до света да лебезить передо мной каждое утро, приглядывал бы лучше за своими курами, которых обхаживает петел Ардалиона Брокишвили!
Отведя душу, Гудули прошелся по двору, завернул в дощатую кухню, присел на корточки у очага, разворошил палочкой горячие угли, присыпанные золой, наложил сверху хворосту, дул, дул и, когда огонь занялся, поставил на него кувшин с водой. Едва вода согрелась, Гудули засучил правый рукав, перелил воду в подойник и отворил хлев. Привязанная к яслям корова скосила на хозяина огромные глаза и замычала.
— Здрасте, сударыня! — и Гудули хлопнул ее по крестцу, Корова перестала жевать, медленно поднялась, пятясь боком на сухое место, и приготовилась отдать молоко. Гудули подтянул трехногую скамеечку и присел поближе к увядшему вымени. Молока надоилось немного.
— На живодерню тебе пора! — обругал Гудули корову и распутал веревку на рогах.
Затем распахнул ворота и погнал корову к жнивью:
— Пошла, волчья задница, какая ты корова, ты коза!..
— Здравствуй, Гудули!
Гудули сидит на лестнице, бездумно глядя на солнце, которое, словно любопытный ребенок, вставший на цыпочки, выглядывает в прогале гор.
— Здравствуй, Гудули!
Гудули оборачивается на приветствие. Под грушей стоит Уча Мелимонадзе и почесывает голову.
— Сколько раз надо объяснять, что я тебе не Гудули, а дедушка Гудули, ясно?!
— Здравствуй, дедушка Гудули!
— Здравствуй!
— Мама просила угостить меня вареньем.
Гудули улыбнулся.
— А молоком?
— Нет, только вареньем!
— Покуда не выпьешь молока, не будет тебе варенья! — отрезал Гудули.
— А много? Дай-ка я посмотрю! — и Уча заглянул в кувшин, стоящий на ступеньках. — Мама велела: не кидайся на сырое молоко, как теленок недоношенный, а то схватишь бруцеллез.
— Много она понимает, твоя мать! Бабий ум коза с травой съела. Я сам вырос на сыром молоке! — рассердился Гудули и протянул мальчику кувшин. Уча со вздохом поднес его ко рту. Гудули, с трудом сдерживая смех, глядел, как раздувается живот у мальчишки. Наконец Уча громко перевел дыхание, стер рукавом молочную полоску под носом и отдал кувшин Гудули.
— И ты помоги мне! — попросил он.
Гудули взглянул на солнце.
— Ты что, в школу не собираешься сегодня?
— Сегодня воскресенье! — расплылся в счастливой улыбке Уча.
— Суббота! — поправил его Гудули.
— Воскресенье! — упрямо повторил Уча.
— Вот напасть! — Гудули хлопнул ладонью по колону.
— А тебе, дедушка Гудули, не все равно, суббота или воскресенье? Тебе в школу не идти…
— А число какое?
— Число — двадцать восьмое, день — воскресенье, месяц — ноябрь, год — одна тысяча девятьсот семидесятый, — выпалил, улыбаясь, Уча.
— Вот напасть! — сокрушенно повторил Гудули и поднялся.
Не обращая внимания на удивленного мальчика, он прошел в дом и уставился на отрывной календарь, прикрепленный над его кроватью. Сорвал листок, вернулся на веранду и снова уселся на ступеньку.
— А что, дедушка Гудули? — спросил Уча, присаживаясь рядом и с любопытством заглядывая снизу в лицо старика.
Гудули молча вытащил из нагрудного кармана очки, надел их и буква в букву прочел все, что было напечатано на листке календаря:
Пятьдесят четвертый год Великой Октябрьской социалистической революции
28 ноября — воскресенье
Солнце — восход 8,06
заход — 17,32
Долгота дня — 9,26
Полнолуние 24 ноября
восход — 10,55
заход — 20,31
1820 — родился Фридрих Энгельс.
И с той же обстоятельностью прочитал на обороте:
Знаете ли вы, что…
…человек делает до 20 тысяч шагов в день. В течение года эта цифра возрастает до 7 миллионов, таким образом, за 70 лет человек сделает 500 миллионов шагов. Этот путь приблизительно равен расстоянию от Земли до Луны…
Гудули взглянул на небо и увидел солнце. Потом перевел взгляд на запад и заметил ущербную луну. И солнце, и луна были сейчас на небе, но Гудули показалось, что солнце несравненно ближе к нему, чем луна. Он продолжал:
…384 тысячи км — это свыше девяти земных экваторов, следовательно, за 70 лет человек способен девять раз обойти вокруг Земли.
У Гудули закружилась голова. — За семьдесят — девять раз, а за сто? — Гудули посмотрел на ноги, колени его дрожали, тело налилось страшной усталостью, словно в этот миг он в двенадцатый раз завершал обход земного шара. Старик положил руки на одеревеневшие колени и долго-долго, пока не унялась дрожь, поглаживал их. — Слышите? Вот, оказывается, если бы мы эти сто лет только и делали, что бродяжничали из Ципнагвари до Озургети, от Озургети до Батуми, от Батуми до Москвы, из Москвы в Германию, из Германии в Америку, оттуда в Японию и снова до Озургети и Ципнагвари, то, наверно, двенадцать раз прошли бы насквозь матушку-землю! — Гудули задумался. — Не получилось. — Он грустно усмехнулся. — Выходит, все эти годы мы на одном месте топтались… А так много исходили. Да, немалые узоры наплели! Я не пеняю, и за то спасибо, что сто лет без устали носили меня с дороги на дорогу, со двора во двор, спасибо вам, помощники мои, большое спасибо] — громко произнес Гудули и снова погладил свои иссохшие колени.
В восемь часов утра двадцать восьмого ноября 1970 года Гудули Бережиани исполнилось сто лет. Вспомнил об этом Гудули, и сердце его забилось, словно птичка, накрытая в гнезде. Обомлел и испугался Гудули. Только в юности случалось такое сердцебиение — перед началом скачек, когда он садился в седло на краю сельской площади, когда выходил бороться с близнецами Зосиме Кердакзе да еще когда навстречу попадалась их сестра Талико. Испугался Гудули, как бы не оборвалось сердце, и схватился рукой за грудь. С полминуты колотилось сердце. За эти полминуты вся молодость пронеслась перед глазами Гудули, а сердце словно выскользнуло вдруг из-под ладони, выпрыгнуло: Гудули задохнулся, и холодный пот покрыл лоб. Легче пушинки показалось сердце, взвилось оно, растворилось в воздухе, сгинуло и так же внезапно вернулось, словно птичка в свое гнездо; вернулось, оправило перышки и принялось за свой повседневный, незаметный, размеренный труд. Спазм отпустил, легкие наполнились чистым воздухом, Гудули вытер рукавом холодный пот, перевел дыхание.
Час назад исполнилось Гудули те сто лет, которыми оделял бог каждого из Бережиани, и сейчас с привычной расторопностью старик вступил в свой сто первый год.
Гудули спустился во двор, прошел по тропинке вдоль водостока мимо убранных грядок и уселся в тени груши — своей ровесницы. Уча не отставал от него.
— А он не делает больно этой груше, дедушка Гудули? — спросил Уча и выдернул всаженный в ствол цалди[11].
«Началось, — подумал Гудули, — теперь до вечера миллион вопросов выпалит».
— Если бы дерево чувствовало, сынок, гиблое было бы наше дело, зря старался бы тогда человек замолить грехи свои. — Гудули ждал новых вопросов, но Уча осторожно прикоснулся большим пальцем к блестящему лезвию и сам ответил себе:
— Чувствует! Как не чувствует?! — и пристроился рядом со стариком. Гудули задумчиво положил руку на рыжую, как огонь, голову мальчика.
— Уча, нынче утром твоему деду Гудули исполнилось сто лет.
Уча взглянул на него и засмеялся.
— Чему ты смеешься, поросенок?
— Тебе и в прошлом и в позапрошлом годах было сто.
— Как это так? — даже обиделся Гудули.
— А сколько же?
— В прошлом — девяносто девять, а до того — девяносто восемь. Вот сегодня исполнилось сто.
— Ты все время одинаковый, — снова рассмеялся Уча.
— Не скаль зубы, как юродивый, пусть твой отец будет всегда одинаковым, если тебе так нравится!
— Мама говорит, что твои лета не прибавляются и не убывают; этот проклятый, сказала она, остановил время.
Гудули взглянул мальчику в глаза и увидел в них свое проказливое детство, потом посмотрел вдаль и спросил между прочим:
— Никак не умирает, говорит?
— Угу.
— Время, говорит, остановил?
— Остановил, говорит.
— Время, сынок, не только мне, но и ста парам буйволов остановить не под силу, — с горечью покачал головой Гудули.
— А кто может остановить время? — заинтересовался Уча.
— Придет пора, и, надо думать, само собой остановится, — и Гудули улыбнулся собственным словам. Уча откинулся на траву.
— Погляди, дедушка Гудули, на небе сразу и солнце, и луна.
— Я уже видел, сынок.
— Как же так, на небе день и ночь сразу?
«С ума сведет меня этот пострел», — подумал Гудули и ничего не ответил.
— Как же это? — не отставал Уча.
— Небо — это глаз божий, в нем все вместилось: и день, и ночь, — объяснил Гудули.
— Какой глаз?
— Ну и горазд ты, балаболка!
— Какой глаз? — не отставал Уча.
Гудули стало жарко, он расстегнул ворот.
— У тебя есть глаза?
— А это что, по-твоему? — Уча дотронулся до своего глаза указательным пальцем.
— Закрой!
Уча моментально зажмурился.
— Что ты видишь?
— Темно.
— Теперь открой. — Уча широко раскрыл глаза. — А теперь?
— Светло.
— Вот такой и глаз бога, — с облегчением вздохнул Гудули.
— Разве я и бог — это одно и то же?
— А как же, сынок, конечно, одно! Весь этот мир твой, и что в нем есть краше тебя?! — одарив мальчика всем миром, Гудули прижал к себе его словно охваченную огнем голову. Уча снова навострился спросить что-то, но Гудули зажал ладонью его открывшийся было рот и пригрозил: — Больше ни о чем не спрашивай, не то и тебя убью, и на себя руки наложу!
— Только один разок и больше не буду! — взмолился Уча.
— Договорились, но не больше! — предупредил Гудули.
— Утром мама сказала, что мой отец абрек, бандит, скотина и сукин сын. Это правда?
У Гудули пересохло во рту, и он долго не мог ответить этому маленькому, как щенок, ребенку, голову которого прижал к груди, огненную голову, согревающую его старые кости. Уча не сводил со старика испытующих глаз.
— Правда, сынок, но ты не должен повторять этого, все-таки он твой отец, — еле выдавил Гудули.
— А почему правда?
— Как иначе можно назвать мужчину, который бросает такого младенца и мчится за бабьей юбкой в Ставрополь?
Уча, не спрашивая больше ни о чем, молча высвобождается и идет к воротам.
«Не стоило говорить ему, он представляет себе отца ангелом, откуда ему знать, что тот при случае и Христу, кости переломает», — казнится Гудули и зовет:
— Уча, сынок!
Но Уча не оглядывается.
— Постой, Уча!
Уча останавливается, не оборачиваясь.
— Посмотри на меня, Уча! Не скотина он, твой отец, он Тариел, Фридон и Автандил[12] в одном лице. Ты что, шуток не понимаешь, сукин ты сын? — Уча недоверчиво косится на Гудули, не обманывает ли. Гудули машет ему рукой. — Иди ко мне, сынок, иди!
Уча медленно возвращается, но в этот момент словно кипятком обдает кто-то залихорадившее тело старика. Сначала он не поверил. Но это неведомое раньше ощущение, этот жар завладевает им все сильней, рождает ужас неизвестно перед чем, и Гудули вдруг понимает — начало конца.
— Господи! Не допусти! — взмолился он, но бог был неумолим. Словно ледяной водой обдало ноги Гудули Бережиани. — Уча, сынок, помоги мне! — вырвалось у старика, и, прежде чем успел подбежать мальчик, он сполз на колени, словно молиться собрался, и зарыдал.
Прошло около часа. Дар речи снова вернулся к Гудули.
— Иди, сынок, иди, оставь меня!
— Я побегу позову маму, она подбирает остатки кукурузы на поле.
— Не зови, сынок, мне уже лучше.
— Пойду скажу.
— Да ничего у меня не болит!
— А почему ты плакал, если не болит?
— Обманывал тебя, хотел испытать, любишь ли дедушку.
— Что-то все ты обманываешь меня сегодня.
— Свихнулся на старости лет, вот и дурю. Ступай, оставь меня одного, отдохну малость.
Уча пошел, но у ворот обернулся.
— Иди, сынок, иди! — властно говорит Гудули, и Уча покидает двор.
Старик стоит неподвижно, прислонясь к дереву, бессмысленно уставясь в землю. Разум его угас совершенно. Все вокруг — село, скотина, растения, небо и земля — пребывало в безмолвии. Гудули видел, как сорвалось с дерева несколько груш и беззвучно разбилось о землю; видел, как бежала по стоку вода и не журчала; видел, как ветер трепал лист кукурузного початка, но не слышал шелеста; видел, как корова топталась у ворот и, вытянув шею, звала его, но мычания не слышал. Видел, как суматошно затряс крыльями взлетевший на плетень петух Лонгиноз, как, выпучив глаза, разевал он клюв, но ни звука не доносилось до старика. Все и вся были мертвы. И только одно ожидание, ужасное, нескончаемое, завладевшее всем его существом, переполняло Гудули. Он прислонился спиной к стволу груши, окаменевший, уронивший руки, и сам смахивал на дерево, на старое, с оплывшим стволом, дуплистое и трухлявое дерево, которое уже целую вечность ждет своего дровосека.
«Э-хе-хе, Гудули Бережиани, э-хе-хе!»
Гудули не помнил, долго ли длилось забытье. Он пришел в себя, когда в это охватившее его ожидание просочилась капля надежды. Капнула надежда, и снова застучало сердце. Бог весть откуда принесло ее, эту надежду, только сердце снова шевельнулось в своем гнезде. Сначала Гудули уловил стук собственного сердца, потом до его слуха донесся шелест початков, затем мычание коровы, журчание воды, и мгновение спустя ударил в уши звонкий крик петуха Лонгиноза.
— Вот так, родимые! — прошептал Гудули и робко сделал первый шаг к дому. Ничего не произошло. Он взглянул на солнце, светило заметно клонилось к западу. Ничего не произошло, не повторилось недавнее, наверное, оно накатило случайно, а может, и вообще ничего не было.
Гудули поднялся на ступеньку, на вторую, третью, четвертую, пятую… И вдруг снова замерло все окрест…
«Время остановил этот проклятый!» — вспомнились Гудули слова матери Учи, и холодная испарина покрыла тело.
Снова липкая влага разлилась по ногам, и он сполз на каменную лестницу.
— Здравствуйте, батоно[13] Гудули!
Старик очнулся.
— Что случилось, Ксения? — в эту минуту, когда ему так хотелось быть одному, совсем некстати заявилась мать Учи.
— Уча сказал, что вам плохо.
— Пустяки, Ксения, сердце пошаливало, да теперь прошло.
— Может быть, помощь нужна, батоно Гудули, я сбегаю за врачом?
— Обойдется, Ксения. — «Сейчас завертится — доктор, фельдшер, больница», — мелькнуло в голове.
— Может, валерьянки накапать?
— Не надо, Ксения. — «Кончилась жизнь, если ее надо валерьянкой поддерживать».
— Валидолу?
— И валидол ни к чему.
— Чем же помочь вам?
«Эта первая забеспокоилась, теперь все кругом засуетятся, и враг, и близкий», — подумал Гудули и сказал:
— Иди, Ксения, занимайся своими делами, ничего страшного со мной нет.
— Он что-то наплел, будто я говорила о смерти, вы только скажите, я ему язык вырву, чтоб он не вырос!
«Что ж я раньше не замечал, как болтлива эта женщина?»
— Узнать бы, от кого он только слышал подобные слова, я бы землей забила тот рот!
«Себя пожалей, несчастная, знаю я, чьи это слова, Уча врать не станет!»
— Хватит причитать, — нахмурился Гудули, — ступай лучше за домом присмотри!
— Вам, оказывается, сто лет сегодня исполнилось, батоно Гудули, желаю вам еще сто лет жить и здравствовать так же, как сейчас!
— Спасибо, Ксения! — сердце Гудули сжалось.
— Ваши не съедутся, батоно Гудули? Сто лет не шутка, мыслимо ли пропустить такую дату?!
— Приедут, Ксения, приедут. — «Месяца два-три, а там… Больной человек всем в тягость».
— Вы можете гордиться сыновьями, батоно Гудули, один в Батуми, другой в Поти, третий в Кутаиси, четвертый в Тбилиси, все красавцы, образованные… Сколько их всех-то?
— В этом году с внуками стало двадцать три, да что толку, рядом со мной никого нет.
— Все-таки счастливый вы, батоно Гудули!
— Да, счастливый. — «Господи, да кончит ли она когда-нибудь!»
— Ну я побегу, сейчас пришлю к вам Учу.
— Не беспокойся, Ксения, вот отдохну немного и сам загляну к вам.
— Если понадобится, не стесняйтесь, как к дочери обращайтесь.
— Я тебя не стесняюсь, Ксения.
— Счастливо оставаться!
Ксения ушла. Гудули взглядом проводил ее. Она уходила бодрая, сбитая, ядреная, словно переполненное плодами дерево. А Гудули притулился к перилам каменной лестницы, высохший от старости, и лучи склонявшегося к западу солнца обдавали его последним живительным теплом.
Вот незадача! Стоит старику увидеть чью-то молодость, как он вспоминает сразу о собственной старости и болячках. В обществе сверстников, немощных и глядящих в могилу, он исполнен надежды и покоя, а стоит столкнуться с молодыми, душа сжимается от одиночества и боли. А кажется, что должно быть наоборот. Но сегодня, когда Гудули прижимал к сердцу Учу, он сто раз пожелал тайком: «Господи, сделай меня таким и возьми за это полной мерой!» И сейчас, провожая глазами Ксению, снова невольно прошептал:
— Господи, дай мне годы этой женщины и можешь отнять все!
Прошептал и тут же почувствовал, как загорелись от стыда щеки, совестно стало Гудули, что никогда не зачел он господу этих ста прожитых лет, совестно стало, но не отказался он от своего желания.
До захода солнца трижды обдавало пугающей влагой ноги Гудули. И вот поднялся он, повернулся к солнцу и смотрел на него до той поры, пока не скатилось оно к горизонту, не стало похожим на только что вылепленный из сырой глины жбан. Тогда низко поклонился ему Гудули и преклонил колени.
— Прощай, солнышко, вечное тебе спасибо!
— За что? — удивилось солнце.
— За все, милостивое, хотя бы за то, что все сто лет после каждой ночи наступал для меня рассвет!
— Шло бы тебе впрок! — радушно ответило солнце и зашло.
Гудули отворил ворота и загнал корову в хлев. Корова вошла в стойло. Гудули подумал, бросил на пол веревку, погладил корову по хребту, пучком кукурузных листьев обтер слизь с ноздрей, почесал ей лоб. Корова взглянула на него и приготовилась отдать молоко:
— Сегодня не буду тебя доить, ложись отдыхай. И без того благодарен тебе, кормилица!
— За что? — удивилась корова.
— Хотя бы за то, что каждое утро одним стаканом молока, да наделяла меня!
— Шло бы тебе впрок! — ответила корова и легла.
Гудули обогнул дом и прежде, чем затворить курятник, потянул за гребень петуха Лонгиноза, нахохлившегося на насесте. Лонгиноз заморгал огромными, величиной с пятаки, глазами и заиграл гребнем.
— Завтра кукарекай, когда хочешь. Счастливо тебе оставаться! Большое спасибо!
— За что? — удивился петух Лонгиноз.
— Хотя бы за то, что каждое утро исправно будил меня!
— На здоровье! — молвил Лонгиноз и задремал.
Гудули поставил коптилку на камень. Тщательно срезал глиняную пробку с чури[14], аккуратно сгреб в сторону комья земли и отставил тяпку. Встал на коленки и осторожно приподнял деревянную крышку. Мощно втянул воздух тридцатипудового чури, и крепкий дух шипящего цоликаури[15] обдал лицо. Гудули вдохнул дурманящий воздух и заглянул в темный зев. Соблазняюще подмигнул снизу чури. Гудули взял черпак и трясущейся рукой зачерпнул вино.
— Будьте благословенны твое вино, твое лоно, твоя крышка и твоя животворящая лоза! Спасибо тебе, большое спасибо! — крикнул в чури Гудули и поднес к губам черпак.
— За что? — из-под земли отозвался удивленный чури.
— За то, что сто лет с честью бывал при всех застольях и лечил все горести!
— На здоровье! — пожелал чури и глубоко вздохнул.
За низким столом сидит Гудули, дрожит в руке кружка с вином, свет коптилки, висящей на столбе веранды, зыбким ореолом кружится над головой. Из потухших глаз катятся слезы и, слившись под подбородком, капают на серую, испеченную в золе лепешку, на небольшой — с одного надоя — комок сыра. Плачет Гудули Бережиани.
Всю свою усадьбу обошел он за час. Осмотрел плуг — износился железный пахарь. Поднял топор — до обуха сточился тот. Увидел серп — наполовину утончилось лезвие. Потрогал лопату — словно обмылок, истерлась она. Лежащий на столе нож попался на глаза Гудули — тоньше и прозрачней бумажной полоски стал он. Горе тебе, Гудули, железо и то износилось, а что должно статься с человеком?!
Благодатью этого вина клянется Гудули, что не жаль ему жизни, жаль только времени, которое растрачивает в мыслях о смерти. Никакой хвори нет у него. Просто износился, вот и вся недолга. Износился, как тот плуг, сточился до обуха, как тот старый топор, истончился, как лезвие серпа, стерся, как лопата, стал прозрачным и хрупким, как лезвие ножа.
С небом и землей, с многоцветьем и светом, с деревьями и травой, с собакой и свиньей — со всеми простился сегодня Гудули. Дольше всех прощался он со своей ровесницей грушей.
— Прощай, старина! — говорил Гудули, гладя корявый ствол. — Ты самое совершенное на земле, и нет совершенней тебя, дерево! Корень твой достигает сердцевины земли, небо покоится на твоих плечах, тысячу раз подрезали тебя, и тысячу раз ты пускало новые ветви. Трем нашим поколениям давало ты тень, и кто знает, сколько еще насладятся ею?! Сколько лет плодоносишь ты, и червь еще не тронул твоей древесины. На целых полсела ты одна — дом и храм для пернатых и певчих. Ты сердце и легкие моего двора, спасибо тебе, огромное спасибо!
Дерево не спросило, за что, оно знало себе цену, отозвалось просто:
— На здоровье! — и смежило ветви.
«Слава тебе, природа! — думал Гудули. — Какое счастье, что все остается на земле, а не погибает вместе с человеком!»
Сейчас он благословил свое сердце, десницу, глаза, уши и разум.
— Спасибо вам, большое спасибо!
— За что? — спросило за всех удивленное сердце.
— Как это за что? — поразился Гудули. — Сто лет не гасли мои глаза, не слабел слух, не отнимались руки, не терялся разум, ты само ни на миг не изменяло мне, разве это не стоит благодарности?!
— Шло бы тебе на пользу! — отозвалось безмерно усталое сердце и приготовилось к отдыху.
Сейчас встанет Гудули и простится с мальчиком и его матерью. Но что это? Гудули забыл имя ребенка. Господи, помоги вспомнить, напомни, как зовут мать этого малыша. Господи, не взыщи с Гудули Бережиани, дай вспомнить их имена!
Но бог был неумолим.
Тогда поднялся Гудули из-за стола, расстегнул на груди рубаху, подошел к перилам веранды и закричал:
— Соседка!
— Да, батоно Гудули!
— Кто, кто это говорит?
— Это я, Ксения, не узнали меня?
«Ксения, Ксения, Ксения, ну, конечно, Ксения!»
— Сынишка дома?
— Про Учу спрашиваете, батоно Гудули?
«Уча, Уча, какое счастье! Уча зовут этого пострела, Уча!»
— Ксения, сейчас в моем доме что-то случится, смотри, чтобы мальчик не напугался!
— Что такое, батоно Гудули?
— Поклянись, что не пустишь ко мне ребенка, не покажешь, покуда не соберутся мужики!
— Что вы задумали, батоно Гудули? Первый раз слышу от вас такие шутки!
— Прощай, Ксения! Всем вам нижайше я благодарен!
— Батоно Гудули!
Гудули вошел в дом и затворил за собою дверь.
— Гудули, батоно Гудули!
В доме Бережиани грохнул выстрел… Звук этот был настолько силен, что во всех домах задребезжали окна.
Множество народу стеклось на похороны Гудули Бережиани. И родственников собралось несть числа, но никто особенно не убивался. «Не убивался» — не те слова. Дмитрий, старший сын Гудули, вместо того чтоб находиться у гроба, стоял под грушей, сложив руки на груди, на манер Наполеона, проигравшего Ватерлоо, и принимал соболезнования.
— Разделяю вашу глубокую скорбь, уважаемый Дмитрий! — И я протянул ему руку.
— Не говорите, уважаемый Нодар, не говорите, так осрамил нас этот неблагодарный. С какими глазами я вернусь в Тбилиси?! Как объясню эту историю?! Сам ведь не пожелал он жить с нами. Дескать, не могу оставить могилу вашей матери… И корову, и кур… А что бы стало с этой лядащей коровой, с этим колченогим петухом, с этой развалюхой?.. И Учу не могу покинуть, так заявил он мне в прошлом году…
— Кто такой Уча? — спросил я из вежливости.
— Откуда я знаю?! Соседский пащенок. Родной отец его до рождения бросил, а этот в родственники записал! Да таких Учей Мелимонадзе по миру, как собак нерезаных, у меня у самого в доме таких восьмеро душ…
— Да, тяжелая ситуация! — согласился я, собираясь уйти.
— А чего ему, спрашивается, недоставало? — не отпускал меня Дмитрий. — Нынешним летом моя супруга привезла ему новое нижнее белье, из одежды у него все было, и так… Кто удостаивался таких похорон в этой деревне?.. Всю жизнь был он неблагодарным, так и закончил свои дни.
— Не знаю, как вас утешить, уважаемый Дмитрий!
— Нет, уважаемый, утешить меня нельзя, но я безмерно вам благодарен, что не сочли за труд и проявили беспокойство…
— Не стоит благодарить! Всего вам доброго!
— Ни в коем случае, пожалуйте к столу, не обижайте нас! Митуша, поухаживай за гостем! — и он поручил меня хмельному парню, разносящему вино.
Уважаемому Дмитрию приходилось все время напрягать голос, потому что репродуктор, привязанный в ветвях груши, оглушительно изрыгал моцартовский реквием, чем очень мешал людям, пришедшим на похороны Гудули Бережиани.
Наконец я сумел выскользнуть из рук пьяненького Митуши и незаметно направился к воротам. Около них я увидел мальчика лет семи. Сидя у плетня, он громко всхлипывал, уткнувшись головой в колени.
— Как тебя зовут? — спросил я и положил руку на его голову.
— Уча Мелимонадзе. — Он посмотрел на меня и снова, рыдая, уткнул в колени веснушчатую рожицу. Ком застрял у меня в горле, и я с трудом проглотил его вместе со слезами.
— Расти большой! — пожелал я и вышел за ворота.
Оглянувшись напоследок, я увидел, как Дмитрий что-то горячо втолковывает соседям, но репродуктор на груше так яростно ревел, что я не расслышал ни одного его слова.
Перевод с грузинского В. Федорова-Циклаури
Алесь Жук Снег под солнцем
Наступила пора высокого неба, сияющих дней — слезу выжимал искрящийся снег в полях! В такую пору темно кажется в хате, когда войдешь домой со двора, и снова хочется под это щедрое солнце, ласковое небо, тревожащее душу слабым предчувствием весны; она еще далеко, придет не скоро, еще начало февраля, еще будут бесконечно гудеть густые, злые ветры, метели потащат мутное небо на страшное своей пустотой поле; бесприютно и одиноко там человеку и жутко от могильной тишины, нагоняющей непонятную тревогу, особенно, если нарушилось счастливое душевное равновесие; даже приветный и теплый огонек крайней деревенской хаты, заметенной снежной пылью, и приветное тепло ее стен все равно не успокоят тебя…
Но сейчас светло и добро. Так бывает редко и запоминается надолго, и через много времени вдруг вспомнится среди непокоя, и ты удивишься: неужели и вправду было так? Словно сидишь в полутемной хате возле горящей печки, дверца открыта, от пламени ходят по полу и по стекам красные блики, и не удержишься — протянешь навстречу теплу руки.
В один из таких дней праздничной чистоты и полноты души, поскрипывая морозным снегом — я, кажется, нутром чувствую этот сухой скрип, — к окну с улицы подошел мой дядька, стукнул в раму, расплылся красным от мороза лицом в улыбке, кивнул — идешь, мол? — и торопливо зашагал в своих катанках, ватных штанах, в шапке с хромовым, уже потертым верхом, уши которой были завязаны на затылке.
И покуда я одевался, брал из-за шкафа ружье и бежал через двор, он уже шел далеко по улице, держа на сыромятном поводке большую, с черной спиной и поджарыми боками гончую, которая нетерпеливо повизгивала — мерещился ей свежий, такой пахучий и дурманный след зверя.
— Успеем поднять до темноты?
— Должны бы. Я одного присмотрел, заскочил с поля в ельник. Пойдем глянем. Чует мое сердце, сегодня пустые не будем!
В поле холоднее, чем днем, приметно густеет голубизна неба и не так больно слепит глаза снег, но он все же не такой, как вечером, когда скроется за окоемом натужно-красное солнце и там, где оно зашло, повиснет узкая морозно-серая полоска, а над ней багрец, а потом светлая прозрачность, которая держится долго-долго, даже после того, как потухнут деревенские окна и высветит вовсю лупоглазая луна.
В лесу тихо, как и в поле, только изредка тенькнет синица и, кажется, слышно, как с веток, по которым прыгает беспокойная птица, осыпается легонькая снежная пыль. Застывшие, напряженно вытянутые сосны будто прислушиваются и вглядываются в высокое небо — разбуженные нежданной лаской солнца, боятся обмана; подует ветер — закивают верхушками, зашумят — знавали, мол, мы такие времена! — и будут пошевеливать широкими плечами, сваливать липкий, тяжкий снег, пока не выбьются из сил, не покорятся пригнетенные снегом лапы; и будут невесело стоять сосны, измученные и тихие, и уже потом, позже, когда пригреет по-настоящему, по-весеннему, соскользнет по хвое снег, медленно распрямят они ветки и будут слушать, как, тяжело пыхтя, рушится наледь — и словно по всему лесу пронесется вздох облегчения.
Собака, сразу же исчезнувшая в лесу, коротко, как от удара, визгнула совсем рядом — под самым ее носом прочертил снег широкими «лаптями» заяц, давно насторожившийся, — и пошла горячо и часто взлаивать, и далеко, из конца в конец загудело раскатистое эхо, и по узенькой тропке под гору, навстречу нам замельтешил испуганный комочек, полный жизни, в которой и солнце, и свежий морозный снег, и такие тонкие сочные стволы молодых яблонь в деревенском саду, а на лугу, на бывшем колхозном огороде, в кучах заметенной снегом ботвы — замерзший листок свеклы, или даже сама свеколка, случайно забытая людьми! И столько надежды, силы, ловкости, только чтобы вырваться, убежать от этого злобного, страшного лая, и еще долго, счастливо мчаться перелеском, полем, а потом присесть, послушать, как колотится сердце!
Но что-то сильное, тяжелое ударило навстречу…
И уже непривычно лежа на боку, видел он, как бежит к нему человек, чувствовал, как крепко схвачен за передние лапы, еще дернулся всем тельцем — вырваться! — и тяжко повис длинными, недавно еще такими легкими и быстрыми ногами. Медленно выкатились и застыли желтые, словно орехи, глаза…
Ему уже было все равно, что человек набросил петлю на его лапы, притянул их к шее, закинул за спину послушно, мягко изогнутое тельце, и только по длинному желобку уха потекла и ярко капнула на снег капелька крови.
— Готов! Ты гляди, какой хорошун! Ах, Туз, молодец, Туз!
Пес равнодушно посмотрел на хозяина и спокойно, недовольно пошел вперед — ему не интересно и не нужно было это мягкое, податливое и мертвое тело зверька, ему надо было задыхаться в азарте, мчать по горячему пахнущему следу, разматывать «петли», отыскивать заячьи «скидки», гнать, гнать, гнать!..
— Может, пойдем и туда, в молодой лесок? До вечера еще далеко!..
— Пойдем. А почему здесь только островок старого леса, а дальше один молодняк?
— Старого-то всего каких-нибудь четыреста гектаров. В войну немца тут убили. Ну, они тогда и распорядились — рубить! Кругом-то одни поля. Накинулись на лес, в пояс пни оставляли! А этот вот, что возле деревни, наши мужики не дали, караулить ходили… Ты не слыхал, каких это полицаев выловили, не из Борок ли?
— Какого-то Акуловича, а второго не помню. Говорили, из Сибири к брату приехал.
— Акуловича знаю! Изувер! После войны в лесу отсиживался. Перед весной по вырубкам с подручными пробрался в Горку. Тогда еще Харивончик — ты его помнишь, из Дубеек? — председателем сельпо был. Изловили они его у пекарни, затащили в амбарчик, где железом двери обиты, пытали, как хотели, пальцы дверью раздробили, а потом и вовсе прикончили. Жена везла в санях, так вся дорога до Дубеек была в крови, пока не растаяло. Хоронить привезли в Горку, митинг говорили. А теперь, значит, Акуловича этого прижали!.. Стой! Бей!
…Тетерева захлопали крыльями один за другим вдоль квартальной просеки — с распущенными хвостами, тяжелые и черные, будто сковороды. Хорошо, что ни одному из них не лежать на снегу, беспомощно раскинув черные, с белыми оконцами, крылья, не глядеть удивленно-застывшими глазами из-под бархатно-кровавых серпиков бровей!
И снова звучно отозвался пес и дядька трусцой побежал по просеке с ружьишком наизготовку, прижался к сосенке и напряженно вглядывался то туда, то сюда, а вдруг и выскочит русак на плотный, утоптанный снег, чтобы «скинуться» за можжевеловый куст и запутать след. Любит он такие штуки!
Откуда ему знать, что эти хитрости давно разгаданы!.. И все тайное его для человека, как на ладони, и кажется смешным и наивным, словно детские домики из песка, которые легко смоет пока еще далекая волна большого и уверенного в себе моря.
Все ближе и ближе голос гончака, совсем рядом, невидные в ельнике, проскакивают русак, а за ним и пес, и уже кружат далеко, разгоряченные и азартные, а мне трудно разогнуться — затекли ноги, болит спина и задубели от холода руки.
И закурить хочется.
Свечерело. Небо тугое и темное, и на верхушке молодой елочки — крупно, зелено! — светится ранняя одинокая звезда; воздух по-весеннему влажный, его хочется вдыхать полной грудью, в нем неуловимый запах подтаявшего у древесных стволов снега, и хвои, и березовых веток; вершины берез еще освещены солнцем и белая кора мягко, ласково розовеет, а снег, такой бело-колючий днем, отсвечивает тугой, глубокой синевой неба.
На узкой лесной тропинке темно и затаенно-глухо, и от этой глуши, как-то не по себе среди разлапых елей, под согнутыми, словно арки, березками, за которые цепляется ствол ружья; и в душе шевелится тайное желание вернуться назад, на просеку, идти быстро, чтобы похрустывало под ногами, и потихоньку насвистывать…
— Ай-яй-яй! Ту-у-з! Ту-у-з! — Разнесся по лесу дядькин голос. Он стоит, прислушивается, оглядывается на шорох моих шагов.
— А, это ты! Хорошо, что подошел: давай прямиком на Горецкую дорогу. Черт его дозовется! В поле пошел — не дождешься. Сплоховали мы, не выбежали на другую тропку! Был бы и этот заяц наш!
Почуяв еле слышный отголосок гона, дядька вздыхает. Ему хорошо от мороза, свежести, он смеется и опять горланит:
— Ай-яй-яй!
И слушает, как гулко и молодо блуждает по лесу его зов, срывает с плеча ружье и стреляет вверх.
— Пошли. Захочет — догонит! Но пока не натешится, не бросит. Лапы только порежет — к ночи обнастило. Такая зараза!
Взошла луна, и от молодого, посаженного рядами ельника, на бледном снегу — бледные тени. На дороге, по одну сторону которой поле, а по другую лес, тихо и пустынно, только где-то далеко пофыркивает лошадь, поскрипывают гужи и алюминиево отблескивают скользкие следы полозьев. Вовсю светит луна, звезды яркие и буйные: поле под луной не такое просторное, как днем, ниже кажется небо и ближе горизонт.
Снег светится одинокими крупинками, в лунном грустном сиянии каждый снежный бугорочек, мягко оттененный, заметен издали…
И в деревне тишина, только ясно и спокойно горят окна.
— Ну, доброй ночи, племянничек.
Дядька постоял, будто хотел услышать из-за леса голос гончей, зашагал, далеко поскрипывал под его ногами снег, потом стукнула дверь — и снова стало тихо.
…Только по жестяной кровле с глухим шумом скользнул вниз пласт снега, по-весеннему подтаявшего за день.
Перевод с белорусского И. Сергеевой
Рустам Ибрагимбеков День рождения
Десятого сентября 1969 года сыну Багадура Маниева исполнялось пять лет. Время было неудобное, срочно надо было закончить квартиру клиенту, ремонтом которой Багадур, кроме субботы и воскресенья, мог заниматься только по вечерам (на работе тоже был аврал, уже на месяц задержали сдачу новой школы в Баладжарах), но Багадуру очень хотелось как следует отпраздновать день рождения сына. «Все-таки пятилетие бывает один раз в пять лет, — объяснил он жене. — Надо все сделать так, чтобы было не хуже, чем у людей. Позову приятелей со старого двора, пусть посмотрят, как мы живем, а то сколько лет, как я уже получил квартиру, и никто из ребят ее не видел. А сейчас как раз удобный случай. На свадьбу не получилось, соберу их в день рождения Рафика. Деньги будут, я уже договорился с клиентом…»
Жена к затее Багадура отнеслась с прохладцей. Во-первых, она не очень верила в то, что друзья детства Багадура придут на день рождения их сына — на свадьбу не пришли, а уж на день рождения и подавно их не соберешь, во-вторых, она имела свои виды на деньги, которые Багадур собирался попросить у клиента. Ей казалось неправильным тратить их на никому не нужный день рождения, в то время как тому же ребенку надо было купить на зиму пальто, теплые ботинки и много других мелочей — за лето малыш так вытянулся, что почти ничего из одежды на него не лезло. Но деньгами в доме распоряжался Багадур, и поэтому она лишь однажды высказала ему свои возражения, а потом только недовольно молчала.
Багадур по утрам перед уходом на работу и поздно вечером, возвращаясь из квартиры клиента, пересчитывал гостей, которых, по его мнению, необходимо было пригласить — получалось не менее двадцати человек, — и прикидывал, сколько на это уйдет денег, — около двухсот рублей.
Родителей, живущих с ними в третьей, маленькой, комнате, он в свои планы не посвящал. Только раз намекнул матери, что, может быть, скоро соберет у себя ребят с их старого двора, и мать очень этому обрадовалась. Она скучала по дому, в котором прожила всю жизнь до переезда на новую квартиру.
Квартиру Багадур получил за полгода до того, как его забрали в армию. Вернее, получил ее отец; начиная с пятьдесят четвертого года, когда Багадуру по метрикам было тринадцать лет (а на самом деле шестнадцать), он писал во все инстанции заявления с подробным описанием тяжелых жилищных условий своей многодетной семьи (кроме Багадура, у него были еще три дочери: Соня от первой жены и две — Сева и Сима — от второй, матери Багадура) и в конце концов своего добился. Но шло время, отец постарел и давно не работал. Багадур вырос, бросил школу, поменял несколько мест работы, начал неплохо зарабатывать и к моменту получения квартиры стал по праву главным человеком в семье. И считалось, что квартиру получил он, хотя по ордеру квартиросъемщиком числился отец.
С отцом Багадур не ладил. Неизвестно, каким отец был др войны. Багадур этого помнить не мог, поскольку был тридцать восьмого года рождения (по паспорту сорок первого), но из плена в сорок пятом году отец вернулся с очень вредным характером и по специальности больше никогда не работал.
По рассказам матери, отец до войны был прокурором в Казахе, и в Баку они перебрались перед самой войной.
Мать как пошла санитаркой в роддом вскоре после начала войны, так там и работала. Отец к ней часто придирался, шипел, вытаращив глаза, трясся от злости и поколачивал. Она тихо плакала и скрывала все от детей. Сначала их было двое: Багадур и сводная его сестра Сонька, тридцать седьмого года рождения.
С ней он дружил. Она была нежадной. Со стороны своей покойной матери она приходилась родственницей знаменитому писателю, которого, все в городе знали. В неделю раз она ходила туда, к родной тетке своей матери, та ее кормила и еще с собой давала подарки. Кое-что перепадало и Багадуру, Сонька совсем не была жадной.
Войну Багадур помнил смутно, помнил длинные очереди за хлебом и керосином, вкусные засохшие полоски хлеба на остро заточенном ноже, случай с дождевыми червями, которых они ели все вместе, всем двором, а отравился только он один, помнил красные флажки на карте у Спиваков, соседей со второго этажа, сын которых — Мося — лежал в то время в госпитале после ранения, а потом всю жизнь носил железный негнущийся жилет, похожий на панцирь, как у немецких рыцарей в кинокартине «Александр Невский». Флажки обозначали города, занятые нашими войсками, и за каждый новый город тетя Рива Спивак давала Багадуру ложку варенья. И еще Багадур помнил день Победы. На балкончике перед дверью сапожника Зарифьяна, которая выходила прямо на улицу, постелили ковер и говорили речи, а Зарифьяну велели, чтобы он пока ходил к себе через двор. Все кричали «ура» и плакали от радости. Багадур тогда учился в первом классе.
С учебой у него и у Соньки не получилось. Он, пару раз оставшись на второй год, бросил школу с шестого класса. Сонька кончила восемь и даже поступила потом в нефтяной техникум, но тоже бросила. (В пятьдесят седьмом она совсем ушла из дому, родила ребенка и устроилась учетчицей в портовой таможне.)
Нельзя сказать, что Багадур не доучился из-за плохих условий жизни. На старой квартире (по рассказам матери, их поселили туда временно, пока в райисполкоме подыскивали им другую жилплощадь, более подходящую для должности отца), у них было две комнаты в общем коридоре, обе без окон, поэтому целый день к доме горела лампа. На этой стороне двора вообще ни у кого не было окон, некоторым в комнаты немного света попадало из застекленного коридора, но все равно надо было жечь электричество. Детей во дворе было много. На первом этаже Фаик и Исмет с сестрами, на втором два брата, Рамиз и Эльдар. На противоположном балконе второго этажа жили Спиваки, Борис Гришин и толстый Гасан. У Спиваков, кроме Моей, детей не было, а Борис Гришин вырос вместе с Багадуром и всеми остальными. Целые дни проводили вместе, даже в школу одну и ту же ходили, сто семьдесят первую. Борис, Рамиз и Фаик были двумя классами старше, а толстый Гасан, Исмет и Эльдар пошли в школу в один год с Багадуром. И все выучились, получили высшее образование: Борис (он тоже плохо учился, еле кончил) поступил в физкультурный, сейчас работает тренером по бегу в детской спортивной школе (он и в детстве хорошо бегал), остальные все инженеры.
В шестьдесят третьем, когда Багадур вернулся из армии, Эльдар уже стал кандидатом наук, Исмет — главным инженером треста по сельскому строительству, Фаик — аспирантом. Кроме Рамиза, который женился и получил квартиру в Сумгаите, они еще жили в старом дворе.
Дела у всех шли хорошо. Только толстый Гасан бросил работу по специальности и работал на посудном складе в центральном универмаге. Он сильно пил. Прежде, лет в семнадцать-восемнадцать, они частенько выпивали. Толстый в рот не брал спиртного — боялся отца, строго придерживающегося шариата, а потом вдруг, уже взрослым, попробовал где-то водки и запил. Пару раз его лечили, но помогало ненадолго. Кончилось все тем (мать написала об этом Багадуру в армию), что, будучи в гостях, он упал с балкона третьего этажа на улицу. Получил сильное сотрясение мозга и несколько переломов, но не умер, спасло то, что был пьяный…
Первое время после получения квартиры Багадур все время пропадал в старом дворе. Сразу после работы переодевался, отмывал руки бензином (он работал тогда маляром в больнице нефтяников) и ехал туда. Часам к шести все собирались во дворе, садились играть в нарды или шли гулять в город.
Потом начались хлопоты, надо было привести в порядок новую квартиру. (Повестки из военкомата приходили одна за другой, и отец боялся, что он опоздает с ремонтом.) Пришлось сократить встречи с друзьями, и постепенно Багадур начал отдаляться от них. Была и другая причина. Раньше, когда он жил с ними в одном дворе, все было просто: шли они куда-нибудь, так и его брали с собой, не шли — так он дома оставался, хоть поспать можно было. А теперь приедет он после работы, а их никого нет. Посидит во дворе час-другой, побеседует с какой-нибудь соседкой, и надо ехать к себе, на другой конец города. Или же дома они, но заняты своими делами, походит он от одного к другому, и опять надо ехать — не сидеть же до ночи у людей.
А после армии он вообще стал редко с ними видеться. Так, иногда на улице кого-нибудь встретит или позвонит скуки ради, когда телефон под руку попадется. Он продолжал работать маляром, зарабатывал неплохо. В конторе к нему относились с уважением, бригадиром сделали.
Мать долго уговаривала его жениться. Не хотелось, да и подходящей невесты не было. Все-таки трудно таким, как он, хоть образования нет, но кое-что в жизни понимаешь и хочется, чтобы все было не хуже, чем у людей. А ничего не получается. И не в деньгах дело, в конце концов, зарабатывал он не меньше инженера. Но, как ни старался, девушкам, которые были ему по вкусу, он не нравился, их интересовали образованные, начитанные ребята. Сколько раз бывало, когда он еще в старом дворе жил, соберутся они с девушками, студентками какими-нибудь, потанцуют вволю, все нормально, а когда начинают расходиться — все парами, а он один. Иногда он врал, что тоже студент, но ему не верили, он даже костюм сшил себе в той же мастерской, где и ребята, на углу Ази Асланова и Воронцовской, не помогло. Говорил он, наверное, не так, как они. Читал мало, поэтому.
А кино зато он любил. Старался в первый же день посмотреть новую картину. Особенно в детстве. В понедельник на первый сеанс в девять тридцать утра вместо, школы. «Двенадцатую ночь» всю наизусть запомнил стихами говорил, шпарил так, что ребята от смеха умирали. «Вся жизнь ее — пустой листок, мой герцог, она ни слова о своей любви не проронила, тайну охраняя…» или: «Нет, спрячьте кошелек, — я не слуга, не мне, а герцогу нужна награда».
И еще у него привычка была названия кинофильмов составлять. Любое слово кто-нибудь скажет, а он добавит еще одно или два, и получится название кинокартины. Само собой получается. Очень уж много фильмов он посмотрел.
Одно время он думал, что с девушками ему не везет потому, что краской от него пахнет, и вообще, честно говоря, малярное дело ему не нравилось. Из-за грязи. Грязная работа. Он даже года на два бросил ее из-за этого. Устроился в часовую мастерскую. Сперва учеником, потом свою точку открыл на Шемахинке, недалеко от старого дома. Хорошо было, ребята к нему приходили, чай пили, в нарды играли. Но девушкам-студенткам часовщики нравились не больше маляров, а клиентов у него было маловато, еле-еле рублей сто в месяц выколачивал; пришлось бросить и вернуться к прежнему делу…
Характер у Багадура был покладистый, с друзьями он никогда не ссорился. Только Борис Гришин однажды на него обиделся. Летом шестьдесят шестого года он нашел Багадура и попросил покрасить в квартире окна, двери и потолок. Когда Багадур жил еще в старом дворе, он всегда делал для ребят все, что просили: кому покрасит, кому обои наклеит или кафель положит. По соседству жили, как-то незаметно это получалось, само собой. Да и молодые все были, еще не знали, кто кем станет. А сейчас, после того как столько лет он уже там не живет, приходит иногда в черном костюме, пьет чай, рассказывает соседям, что дела у него идут хорошо, женился, ребенка имеет, получил трехкомнатную квартиру, купил румынскую мебель, — после всего этого надеть на себя рваные, измазанные краской брюки, рубашку, дырявую соломенную шляпу и лезть у всех на глазах на стремянку было как-то неудобно. Когда он работает у посторонних — это одно дело, а когда в своем дворе, в квартире своего товарища, который вместе с ним вырос, а теперь надо на него малярничать на глазах всего двора — это совсем другое.
Он сказал об этом Борису. Тот ничего не понял: «Ты же работаешь у других людей, все равно всем это известно».
Багадур снова объяснил ему, что у людей — одно, а у старого друга — другое. Борис опять ничего не понял и обиделся.
Мать Багадура часто вспоминала старый двор. Трудно им жилось, но все же лучшие ее годы там прошли, двадцать лет ей было, когда они из Казаха туда переехали.
Багадур тоже любил вспоминать про их жизнь в старом дворе. Интересно жил он тогда, никогда нельзя было угадать, чем день кончится. И если даже ничего не случалось, все равно каждое утро просыпался с настроением, что вот сегодня уж точно ребята придумают что-нибудь интересное!
А сейчас что? Уже давно Багадур знает, что ничего неожиданного в его жизни произойти не может (кроме несчастья, конечно, от этого никто не застрахован), и нет у него того приятного чувства по утрам, когда просыпаешься и знаешь, что впереди целый день, а потом еще вечер…
Жене нравятся его рассказы про старый двор, про ребят, про их веселую молодую жизнь. Она образованная, кончила педучилище, поэтому все, что Багадур рассказывает, ей понятно и интересно. Всех товарищей Багадура она знает наперечет, хотя видела только Эльдара и толстого Гасана.
Багадур несколько раз приглашал друзей, хотел познакомить с женой, посидеть, выпить, вспомнить старое. Ему очень хотелось, чтобы они пришли к нему в дом. Все-таки условия у него хорошие, не стыдно людей принять, жена гостеприимная, воспитанная, готовит изумительно, зарабатывает он неплохо, в доме все есть: телевизор, холодильник, мебель красивая, приятно, чтобы старые друзья провели время в хороших условиях. И жене было бы интересно. Столько она слышала о них, даже неудобно как-то, что до сих пор не знакомы. Он даже обиделся на них однажды. Уже договорились окончательно, что придут. Но потом вдруг Эльдар в Москву улетел по делам, а остальные говорят, что без Эльдара нехорошо, давайте так соберемся, чтобы все до единого были. А он дома шум поднял, перестановку сделали — старую кушетку вынесли в третью комнату, к отцу с матерью, полы натерли, осетрину купили…
Мать тоже огорчилась, но мать ничего, свой человек, а вот перед женой неудобно. Теп ерь-то он уже ее не стеснялся, сблизились за шесть лет семейной жизни, узнали друг друга, притерлись, как говорится. А тогда неудобно было, вроде получилось, что товарищи его избегают.
Женой Багадур доволен. Даже с отцом она ладит, а с ним общий язык найти только ангел может. В школе работает, русский язык преподает. Школа недалеко, часа два-три в день работает, на полставки, так что за ребенком последить и хозяйством заняться тоже успевает. По национальности армянка. Через ее братьев Багадур с ней познакомился. Тоже маляры, близнецы, тридцать шестого года рождения, Альберт и Гамлет. Видится с ними часто, каждую субботу или воскресенье, летом на пляж вместе ездят. Хорошие ребята, с удовольствием их у себя принимает и к ним ходит, любят поесть, выпить, поют хорошо. Но тоже маляры, а что маляр интересного сказать может? Для кого-нибудь другого вроде и интересно, а маляр от маляра ничего нового услышать не может. Один и тот же разговор: колер, клиент, клеевая, масляная, Метревели, Банишевский. А сестра их Аня, жена Багадура, не похожа на них. Как будто от другой матери: тонкая, нежная, образованная. Этим Багадуру и понравилась. Сразу решил на ней жениться. Сыну именно такая мать нужна, чтобы хоть он человеком вырос. Школа школой, а мать для ребенка это все, особенно в детстве. Правильный выбор сделал Багадур, не жалеет. По сыну это особенно заметно, изумительный ребенок. Скоро вот пять лет исполнится.
За два дня до праздника Багадур получил с клиента сто пятьдесят рублей, еще двадцать пять у него было на сберкнижке. По всем расчетам, этих денег должно было хватить. Клиенту он сказал, что два дня работать не будет: надо срочно сдать государственной комиссии объект, а на стройке объяснил все как есть. Прораб поворчал немного, но потом пожелал сыну много лет жизни и посоветовал заглянуть на вокзал — там есть водка ростовского розлива.
По дороге домой Багадур заехал на вокзал и взял шесть бутылок. День начинался удачно, оказалось, что она даже не ростовская, а орджоникидзевская. Багадур хотел еще пару бутылок взять на будущее, но потом, узнав, что ею будут торговать еще пять-шесть дней, решил повременить, могло не хватить денег.
В сумке поместилось еще четыре бутылки коньяку, три сухого вина и две шампанского. Этого было достаточно.
Теперь предстояло достать килограммов восемь-десять мяса, остальное уже проще. Хорошо бы, конечно, сделать шашлык из осетрины, но не сезон, жарко еще, лучше из кур что-нибудь приготовить. Кур можно взять и магазинных (если будут, конечно), а мясо только на базаре.
Багадур заехал на базар и договорился, чтобы ему завтра утром оставили килограммов десять баранины. Объяснил, какое ему мясо нужно — ребра и верхняя часть ляжки, — и они с мясником сошлись на пяти рублях за килограмм. Зато свежее, завтра утром зарежут барана.
Теперь можно было спокойно заниматься всеми остальными делами. Завтрашний день уйдет на приглашение гостей. С утра надо начать, чтобы успеть предупредить всех. Десятого он уже никуда пойти не сможет, весь день будет занят дома. Значит, сегодня надо достать кур или… все же осетрину: хоть и жара, она очень украсит стол.
В магазине кур не было. Давали говядину. Кто-то из очереди сказал Багадуру, что вчера в микрорайоне видел французских кур в целлофановых мешочках. «Французский костюм хорошая вещь, а вот французские куры, да еще в мешочке, — неизвестно», — подумал Багадур.
В микрорайон он не поехал. Взял на базаре двух кур (по восемь рублей) и решил достать осетрины. На базаре ее не продавали. Если даже рыбаки и привозили ее сегодня, то она уже вся разошлась. Можно, конечно, попытаться завтра рано утром, все равно за мясом придется ехать, но это рискованно, а вдруг ее не будет, тогда уж и на море не успеешь съездить, ведь завтрашнего дня только и хватит на приглашение гостей.
Багадур отвез домой сумку с покупками и предупредил жену, что едет в Бильгя за осетриной.
Она только пришла с работы и кормила Рафика жареными баклажанами. Мальчик, как и Багадур, очень их любил, и вообще ему нравилось все жареное: мясо, помидоры, яичница, чтобы масла было побольше и можно было бы хлеб в него макать. И аппетит хороший у него, других детей из-под палки заставляют есть, а он сам просит. Поэтому толстенький. Внешне совсем на Багадура не похож, кожа беленькая, щеки розовые, губки нежные, как у девочки. В мать пошел.
— Побрейся хоть, неудобно в таком виде ходить, — сказала жена Багадуру, когда он выложил бутылки и кур на стол. А про покупки ничего не сказала, дала понять, что все еще не согласна с его решением отпраздновать день рождения сына так пышно.
Багадур снял рубашку, умылся, вымыл шею и начал бриться. Да, совсем не похож на него Рафик. И глаза другие, и кожа, и волосы. Только зубы такие же: верхние чуть внутрь загибаются, под нижние. Но зубы еще меняться будут. Волосы у него не кудрявые, а у Багадура все в колечках, никакая прическа не держится, и начинаются почти от самых бровей. Поэтому кажется, что лоб маленький. А в самом деле лоб нормальный. Просто по глупости Багадур несколько раз сбрил их над бровями — мелкие они там были, почти пушок. А сейчас выросли такие же, как и везде. И на щеках, под глазами, он тоже сбрил пушок, теперь приходится брить все время. Поэтому жена права, чаще бриться надо, совсем другой вид получается. Молодеет он сразу.
Пока Багадур брился, жена убрала все, что он принес, в холодильник, отправила Рафика поиграть во двор и начала готовить обед.
— Я думаю, к семи часам вернусь, — сказал ей Багадур, чтобы завязать разговор.
Жена промолчала.
Из своей комнаты вышел отец.
— Что нового в газетах? — спросил Багадур и подумал, что послезавтра надо будет заставить отца поменять рубашку. Воротник этой совсем обтрепался и потемнел от времени.
Отец оставил вопрос Багадура без внимания, открыл холодильник и вытащил из него два баклажана. Он любил их печь на газовой плите: клал на раскаленную железку из-под чайника и время от времени переворачивал, чтобы не подгорели. Нашел время. Аня отошла от плиты.
— Разве без осетрины нельзя обойтись? — спросила она, когда Багадур надел рубашку.
Вопрос жены обрадовал Багадура, это означало, что она постепенно соглашается с его решением отпраздновать день рождения. Все же молодец Аня, никогда не доводит дело до того, чтобы прикрикнули на нее. Конечно, и то, что отец сейчас вышел из своей комнаты, тоже сыграло свою роль — они как-то лучше начинают относиться друг к другу в его присутствии, будто объединяются против чего-то чужого.
— Можно, конечно, — сказал Багадур, — тем более, жарко еще, рыба быстро портится… Но ведь ничем ее не заменишь на столе. Немного отварим, а остальное на шашлык пойдет.
— Не понимаю, зачем это нужно? — сказала Аня, но Багадур знал, что она уже на все согласна, а говорит просто, чтобы прошел холодок, который возник между ними в последние дни.
— В чем дело? — вдруг спросил отец.
— Багадур за осетриной хочет съездить в Бильгя, — сказала Аня.
— Ты мне лезвие обещал, — повернулся отец к Багадуру, он всегда делал вид, что не слышит, что ему говорит Аня, даже если сам ее о чем-то спрашивал. — Зачем тебе осетрина?
— Рафику пять лет исполняется десятого, — сказал Багадур, — хочу гостей пригласить.
— Ребенку это не нужно, — сказала Аня, — придут только взрослые люди… Если придут…
Она не посмотрела на Багадура, когда произнесла эти слова, и сказала их как-то незаметно, не желая его обидеть. И он не обиделся, но вдруг подумал, что, пожалуй, слишком поторопился накупить, выпивки, ведь может так получиться, что ребята опять не найдут времени прийти, будут заняты делом или вообще их нет в городе. Это вполне возможно: еще только начало сентября, многие не вернулись из отпусков.
— Лучше купить ребенку подарок, — продолжала Аня, — и созвать в гости его товарищей со двора, это ему гораздо больше понравится.
— Неправильно говоришь! — вмешался в разговор отец, резко отодвинув баклажаны. — Есть малая политика государства, есть высшая: тактика и стратегия, — он гордо посмотрел на Багадура.
…Конечно же, надо было сперва выяснить, в городе ли ребята, есть ли у них время, а потом уже тратить деньги на водку и коньяк, ругал себя Багадур, опять он может попасть в глупое положение из-за своей торопливости…
— Думаешь, государству нужны праздники? — сказал отец, он так и не повернулся к Ане, хотя говорил для нее. — Нет! Эти деньги можно потратить на тысячу других вещей. А с точки зрения высшей политики — это необходимо! Багадур прав, пусть придут гости, надо чаще устраивать праздники… А помощь слаборазвитым странам? Это тоже высшая политика! О ней нельзя забывать! Ты думаешь, это все просто, раз-два и все? Как бы не так, поэтому вы совершаете ошибки на каждом шагу. Русский язык преподавать легко, а есть вещи посложнее, политически надо развиваться! — Отец с сожалением посмотрел на Багадура: мол, твоя жена как хочет вертит тобой, необразованным дураком, но есть люди в этом доме, которые все видят и понимают, и пусть она не думает, что умнее всех.
— Ладно, ладно, — скривил лицо Багадур, — не выходи из себя, высшая политика… Рафику пальто нужно купить, какая уж тут высшая политика? — Он уже давно не придавал значения «умным» разговорам отца, с тех пор как одно его заявление попало к матери Эльдара, тете Лейле, и выяснилось, что отец малограмотный человек, хоть и работал когда-то прокурором.
— Вы что, хотите, чтобы я не доел эти баклажаны? — и, делая вид, что они обжигают ему руку, отец побежал в свою комнату.
Аня тихонько, чтобы не слышно было в комнате, рассмеялась. Багадуру было не до смеха.
— На обращай на него внимания, — сказала Аня, — в конце концов, не придут — не надо. Пригласим родственников.
— Почему не придут?! — вдруг закричал Багадур. — Кто сказал, что не придут?! Замолчи! Везде нос свой суешь! Вари свой обед, остальное не твое дело…
Когда он все это кричал и видел при этом, как морщится от обиды лицо жены и на глазах ее появляются слезы, он понимал, что делает не то, и удивлялся даже, что орет такие глупые и несправедливые слова, надув жилы на шее, как буйвол, но остановиться не мог, а, наоборот, разозлился еще больше, но уже на себя, и, хлопнув дверью, поехал в Бильгя за осетриной…
На вокзале он долго читал расписание электрички, потом автобуса и никак не мог понять, на чем доедет быстрее: автобус уходил позже, но по более короткой дороге.
Поехал на электричке. В Загульбе понял, что совершил ошибку, потому что из Загульбы в Бильгя электричка ходит только раз в два часа, а на автобусе он попал бы туда сразу.
Пришлось ловить попутную машину. Спросил у шофера, где можно взять осетрины. Тот назвал ему место, которое он и сам знал, у магазинчика на краю дачного поселка, рядом с переездом через железнодорожные пути.
— А еще где? — спросил Багадур.
— Трудно сейчас с осетриной, — сказал шофер, — три дня норд дул, рыбаки в море не выходили. Только у кого бассейн во дворе есть, у того, может быть, осталась рыба.
Он дал Багадуру адрес, где, по его мнению, осетрина всегда бывает.
У магазинчика осетриной не торговали. Старик продавец, сидевший в тени на ящике из-под лимонада, слово в слово повторил то, что сказал шофер, и назвал дом того же человека.
Багадур пошел в поселок. Пришлось снять туфли, в них набивался песок. Через пять минут, мокрый от пота, он весь покрылся пылью, на зубах хрустела земля.
Время от времени дорога раздваивалась, каким-то чутьем Багадур выбирал то правую, то левую, и в конце концов оказалось — правильно. Дорога вывела его на маленькую площадь с несколькими домами, окруженными каменными заборами. Дома были двухэтажные, с застекленными верандами. У одних ворот стояла «Волга», у других — молодой ишачок. Багадур подумал, что браконьер, у которого всегда есть осетрина, должен жить в доме, где стоит «Волга».
Он перешел площадь и постучался в голубые железные ворота. На стук выглянула девочка лет двенадцати. Багадур объяснил ей, что приехал из города за осетриной.
— Папы нету, — сказала девочка, — завтра будет.
— А рыба есть?
— Не знаю.
Тут подошла еще одна девочка чуть постарше, а потом две женщины. Все они сказали одно и то же. Кямиля нет, а есть или нет в доме рыба, они не знают. Но завтра Кямиль будет целый день, и они передадут ему просьбу Багадура, чтобы он оставил до вечера одну рыбину килограммов на восемь…
В город Багадур вернулся на автобусе. Жара и пыль утомили его, но он был рад, что рыбы не оказалось. Водка, коньяк, вино — вещи не портящиеся, пусть лежат дома, не пропадут. Куры тоже вещь неплохая, пригодятся… А высшая политика его не интересует. Аня права: лучше Рафику пальто купить, чем выкинуть столько денег на никому не нужный день рождения.
Домой идти не хотелось. Багадур встал в очередь, взял себе две кружки пива, купил в табачном ларьке два кулька гороха (старик татарин торговал им из-под полы) и спокойно, ни о чем не думая, выпил, закусывая горохом. И только потом пошел домой.
Мать уже вернулась с работы. Хорошо хоть сестер нет: одна на практике, другая отдыхает, тихо дома. Аня все еще была в кухне. Багадур прошел в комнату и, не снимая кепки, сел на стул.
— Устал, сынок? — ласково сказала мать и принесла Багадуру шлепанцы.
Она никогда не надоедала ему с вопросами. Вот сейчас очень хочется ей узнать, чем кончилась поездка в Бильгя, но молчит, надеется, что он сам скажет. Жалко ее, совсем постарела.
— Нет рыбы, — сказал Багадур.
Мать начала успокаивать его:
— И без рыбы прекрасно можно обойтись. Если купить еще пару кур, то сделаем прекрасный плов. С кишмишем. Рис, слава богу, в магазинах есть, а из мяса, кроме шашлыка, долму со свежими виноградными листьями можно сделать, так что гости останутся довольны.
Багадур почти ничего не слышал из того, что говорила мать, но сам ее голос успокаивал. А когда он выпил несколько стаканов чаю, который она ему принесла, раздражение и усталость почти покинули его, хотя он и отяжелел от большого количества выпитой жидкости.
— Я почему хочу устроить этот день рождения, — сказал он матери громко, чтобы слышала на кухне жена, — чтобы люди наконец к нам в дом попали, увидели, как мы живем. Сколько лет, как мы получили квартиру, а кроме родственников, никто у нас не был. Стыдно перед товарищами. Встречаю их где-нибудь, спрашивают: «Ну, как ты живешь? Как мама твоя, как ребенок? Ребенка твоего ведь мы ни разу еще не видели». А я не знаю, что ответить… Пять лет уже Рафику, а мои товарищи его не видели. Живем, как совы. Разве я не могу один раз за пять лет дома угощение устроить? Чтобы товарищи, с которыми я вырос в одном дворе, пришли в мой дом и погуляли как их душе угодно! Зачем тогда жить, если даже таких вещей человек себе позволить не может? Для чего я вкалываю, как ишак? Правильно я говорю, мама?
— Правильно, сынок, правильно, — соглашалась мать. — Люди должны ходить друг к другу в гости.
— Пальто тоже купим, — продолжал Багадур, ему нравилось, как он говорит сегодня, — слава богу, я еще не умер, еще десять пальто Рафику купим, что я, единственному сыну пальто не куплю? За кого вы меня принимаете? Но, кроме пальто, я и о других вещах должен думать. Хорошо, вырастет мой сын, спросит: а как прожил свою жизнь мой отец? Где его друзья? Почему никого у него нет в целом свете? Может, он плохой человек или подлец какой-нибудь, почему к нам в дом никто не приходил? Что я скажу своему сыну? Если бы у меня были плохие товарищи, пьяницы или хулиганы, я еще мог бы сказать: да, правильно, не надо устраивать для них день рождения, они этого не стоят. Но я не могу этого сказать. Не могу. И никто не может. У кого еще есть такие товарищи? Один лучше другого… Умные, образованные, воспитанные. Мое детство с ними прошло. Я с ними вырос. Почему я не могу потратить для них сто пятьдесят — двести рублей? Неужели я такой крохобор? В детстве они меня угощали, а теперь неужели я один раз в жизни не могу отплатить им тем же? Что я, не человек, что ли? Они, наверное, думают, как был Багадур нищим, так и остался, образования не получил, еле на хлеб себе зарабатывает. А я хочу, чтобы они пришли и убедились, хорошо живет Багадур, и увидели мой дом, мою семью, моего ребенка, порадовались за меня, выпили вместе со мной. Правильно я говорю, мама?
— Правильно, сынок, правильно.
— Я не хочу отрываться от своих товарищей! — Тут Багадур обратил внимание, что говорит очень громко, почти кричит, а окна во двор открыты, и соседи могут подумать, что у них скандал.
— Никто тебе не говорит, чтобы ты отрывался от товарищей, — тихо сказала из кухни Аня, — я давно с тобой согласилась. А ты сам раскричался и ушел…
Багадур встал.
— А почему я раскричался? — спросил он и пошел в кухню. — Я же не железный…
Кончилось все хорошо. Решили, что он сегодня же вечером поедет приглашать гостей, завтра утром возьмет мясо, а остальное не его дело, все сделают женщины. Но он все-таки сказал, что, если времени хватит, он и за осетриной съездит. И шашлык будет делать сам, никому его доверить не может.
В старом дворе у всех были телефоны. У Эльдара с Рамизом он стоял с довоенных времен, остальным поставили, когда заработала АТС-2. Поэтому, прежде чем поехать туда, Багадур решил позвонить родителям Эльдара, предупредить, что собирается к ним.
Трубку взяла тетя Лейла, мать Эльдара, обрадовалась Багадуру, поругала за то, что он исчез, не звонит, не приходит. Багадур сказал, что через полчаса приедет, и попросил передать Эльдару, чтобы никуда не уходил после работы, есть важное дело…
На Шемахинке, прямо на улице, продавали свежую рыбу — довольно крупных сазанов. Очередь была маленькая, а свежая рыба не часто бывает, поэтому Багадур решил взять несколько штук, чтобы поесть со стариками Эльдара. Чистить и жарить ее он умеет, почему бы не угостить стариков свежей рыбкой?
Дядя Гамид лежал на диване и, сдвинув очки на лоб, читал книгу.
— А-а-а, — обрадовался он, увидев Багадура, — беглец вернулся в родные края. — Спустил очки на нос и, покряхтывая, поднялся. У него была грыжа.
Тетя Лейла гадала на картах, она перестала красить волосы, стала совсем белой и поправилась еще больше. На стенах как были много лет назад наклеены обои в мелкую полоску, так и остались.
— Надо обои поменять, — сказал Багадур, — неудобно даже.
— Э-э, — махнула рукой тетя Лейла, — кто этим будет заниматься? Нам не до обоев, старые уже, а Эльдару сколько ни говори, бесполезно… — У нее сразу испортилось настроение, видимо, опять была недовольна Эльдаром, и вообще она была вспыльчивая женщина.
— Не в обоях счастье, — подмигнул Багадуру дядя Гамид. Он во всем уступал тете Лейле, но нет-нет и позволял себе шутки, которые выводили ее из себя.
— Не говори глупостей, прошу тебя, — сказала она мужу, — проходи, Багадур, садись.
— Дядя Гамид правильно говорит, — сказал Багадур, положив завернутую в газету рыбу на подоконник, — но все же приятно, когда в квартире порядок.
Каждый раз, когда Багадур приходил к Эльдару, ему становилось обидно, что тот, имея хорошие возможности — все-таки кандидат наук, — совсем запустил жилье, обои облезают, окна, двери давно не крашены, обивка на мебели порвалась. По сравнению с этой квартира Багадура была просто конфетка — все блестит, все покрашено, недавно опять небольшой ремонт сделал. Конечно, и от женщины, хозяйничающей в доме, многое зависит. Тетя Лейла не очень аккуратный человек.
— Рыбы я принес свежей, — сказал Багадур, — на Шемахинке продавали.
Дядя Гамид оживился.
— Молодец, — он потер руки, — а у меня как раз бутылочка есть.
— Спасибо, — сказала тетя Лейла, она опять принялась за карты, — с рыбой возни много, чистить ее надо.
— Я почищу, — успокоил ее Багадур, — только сковородку дайте.
— Пойдем, — сказал дядя Гамид, — я тебе покажу, где что лежит.
Но Багадур и сам все знал: в этой квартире ничего не изменилось с тех пор, как он уехал отсюда, даже мебель не переставили. Только в углу коридора стояч ли длинные никелированные трубы.
— Это зачем? — спросил Багадур, но уже и сам понял, что они для занавесей.
— Все никак мастера не можем найти, чтобы прибил.
— Я сделаю, — сказал Багадур.
Вместе с дядей Гасаном они почистили и начали жарить рыбу.
— Эльдар звонил, — сообщил дядя Гамид. Они каждый со своим ножом стояли у газовой плиты.
— Когда? — удивился Багадур и даже встревожился немного.
— Пока ты ехал к нам.
— Вы передали мою просьбу?
— Все передал. Обещал скоро быть.
Багадур успокоился.
— Знаете что, — сказал он, — вы пока пожарьте без меня, а я сейчас вернусь.
— Никуда не надо идти, — заволновался дядя Гамид. — Дома все есть.
— Я не в магазин, — уверил его Багадур, — на минутку к Фаику зайду и вернусь.
— Позови его тоже. Он любит жареную рыбу.
Багадур вытер руки и спустился во двор по старой деревянной лестнице, на которой они в детстве устраивали соревнования, кто прыгнет с более высокой ступеньки.
Двор наполнился пристройками. Соседи расширялись — строили себе кухни, душевые, туалеты, крытые балконы. А раньше даже в волейбол можно было играть во дворе — столько было места.
Фаик спал. Исмет еще не пришел с работы. Багадур вернулся наверх к Эльдару, по дороге ответил на тысячу вопросов, которые задали ему Лятифа, тетя Оня и тетя Салима, и дал слово в самое ближайшее время привезти к ним в гости свою мать…
Эльдар все не приходил. Они съели рыбу, выпили немного (тетя Лейла, конечно, не пила), потом Багадур пробил в стене дырки шлямбуром, который сам много лет назад подарил тете Лейле, укрепил карнизы для занавесей и обещал в следующее воскресенье замазать дырки алебастром.
Эльдара все не было. Дядя Гамид успокаивал Багадура: наверное, случилось что-нибудь непредвиденное, иначе бы Эльдар давно приехал, он ведь так обрадовался, что Багадур у них…
Багадур соглашался. А что он мог сказать? Смешно было бы доказывать старику, что друзья так не поступают, уже три часа он ждет Эльдара, а ведь, может быть, у него такое к нему дело, что каждая минута дорога, он же не сказал, зачем ему нужен Эльдар, просто просил передать, что важное дело, может быть, даже вопрос жизни и смерти. Целый год он не звонил Эльдару. Неужели один раз в год, если твой друг попал в трудное положение и звонит тебе, нельзя приехать домой вовремя. Или Фаик? Спит он, видите ли. Разве не разбудила бы мать Багадура, если бы кто-нибудь из друзей пришел к нему в гости. Даже если он десять суток до этого не спал, разбудила бы. А мать Фаика предложила ему чай, спросила про маму, про ребенка, но Фаика не разбудила. Не тот гость! Может и подождать…
Дядя Гамид продолжал уверять Багадура, что ребята его любят и часто вспоминают о нем, пусть он не вздыхает и выкинет из головы всякие глупые мысли. Сейчас они выпьют еще вина и все будет в порядке. А Эльдар придет с минуты на минуту, уже, наверное, рядом где-нибудь, к воротам уже подходит или даже по лестнице поднимается…
Фаик позвонил раньше, чем пришел Эльдар. К телефону подошел дядя Гамид.
— Да, он здесь, — сказал он и посмотрел на Багадура. — Нет, не пришел еще… Хорошо, скажу. А может, ты поднимешься? Понятно… — дядя Гамид повесил трубку и развел руками. — Сказал, чтобы ты спустился к нему. Что-то там случилось. Эльдар придет, скажу, что ты внизу…
— Пусть позвонит.
— Обязательно. Он или спустится к тебе, или позвонит. Обещаю.
Фаик сидел в пижаме на кровати в проходной комнате, а напротив на стуле сидел огорченный чем-то Исмет. По его виду и тону Фаика Багадур сразу понял, что произошло что-то серьезное, и ему стало легче. Значит, Фаик долго не звонил не потому, что спал, а из-за какого-то, видимо, важного дела.
— Как дела, Багадур? — спросил Исмет, вытаскивая из кармана сигареты. Он сказал это негромко, сдержанно, так, как расспрашивают друг друга о делах родственники или знакомые, встретившись на чьих-то похоронах: задавая вопросы и отвечая на них, они лицом и голосом дают понять окружающим, что дела, которыми они интересуются, конечно, ничто по сравнению с тем, что произошло с покойником, и интересуются они ими только из вежливости.
— Ничего, спасибо, — ответил Багадур. Вопрос Исмета окончательно убедил его в том, что он присутствует при важном разговоре.
— Ты должен еще раз поговорить с ним, — продолжал Фаик, обращаясь к Исмету, потирая опухшее ото сна лицо, — в конце концов, всему есть предел.
— Ее жалко, — сказал Исмет.
Постепенно из разговора Багадур понял, что речь идет о средней сестре Исмета, которая уже три года встречается с врачом из своей поликлиники. А у того, как выяснил Исмет, есть невеста в деревне. Сегодня он имел разговор с ним, часа полтора, как они расстались, и опять тот ничего определенного Исмету не сказал. То, что у него есть невеста, подтвердил, то, что любит сестру Исмета, тоже подтвердил, а чем все это кончится, сказать не смог. А девушке двадцать пять лет, ей надо судьбу свою решать, сколько может продолжаться эта волынка…
Фаик был за решительные меры, а Исмету было жалко сестру, она плачет ночи напролет, нажмешь на парня, сбежит, бросит бедную.
— А не нажмешь, — сказал Фаик, — погуляет с ней еще и все равно бросит. Иначе зачем он тянет. Давно бы женился, если бы не хитрил.
— Квартиры у него нет, — сказал Исмет, — деревенский же он, ждет, когда квартиру дадут.
— Пусть снимет. Другие же снимают, — настаивал Фанк, — за тридцать — сорок рублей можно снять приличную комнату. Или кооператив пусть построит, у родителей в деревне и сад есть, наверное, и скотина, фруктами небось торгуют. Сейчас у деревенских полно денег. Приезжают в город с набитыми карманами.
— Он не из таких, — сказал Исмет, — нет у него денег, на зарплате сидит.
— Ну, как знаешь, — поднялся с кровати Фаик, — сейчас все зависит от твоего поведения. Если он почувствует, что за ее спиной стоит крепкий брат, то вынужден будет жениться.
Разговор был действительно серьезный, продолжался он долго, и Багадуру, конечно, неудобно было влезать в него со своим днем рождения. Надо было подождать, когда разговор кончится сам собой. И он уже иссякал, но пришел Эльдар, и все началось сначала…
Эльдар пришел в начале двенадцатого, и до двенадцати они говорили только о сестре Исмета. Наконец Исмет пошел к себе переодеться и предупредить мать, что вернулся, и тогда только Эльдар спросил у Багадура, что у него за дело к нему. Он обнял Багадура, извинился за то, что приехал не сразу, но как назло, вылезло одно непредвиденное обстоятельство, а вообще-то все это чепуха, и главное, как он, Багадур? И куда он исчез? Почему его так долго не было видно?
Тут Багадур не выдержал.
— Хорошо, — сказал он им обоим, Эльдару и Фанку, — предположим, меня долго не было, но неужели никто из вас не мог поинтересоваться за это время, где Багадур? Что с ним? Почему он не приходит? А может, я умер? Разве настоящие друзья так себя ведут? А если бы я вообще сюда не пришел? Так бы никто обо мне и не вспомнил?.. Хоть раз вы открыли мою дверь, сказали: «Багадур, вот решили тебя навестить, посмотреть, как ты живешь. Женился ты, ребенок у тебя родился и вырос, уже большой мальчик стал, а мы его еще не видели»? Хоть раз вы сделали это? А еще друзья, называется. Мне же неудобно перед своими. Хорошо, говорят, ты все твердишь: друзья, друзья, а где они, твои друзья? Почему они тобой не интересуются? И я не знаю, что им ответить, Ну, скажите, что я могу им сказать? Сквозь землю я готов провалиться… — Багадур почувствовал, что голос его вдруг задрожал, и умолк. На ребят он не смотрел, не мог, взял со стула сигареты и закурил.
Они начали оправдываться: конечно, он прав, нехорошо, что они до сих пор у него не были, и вообще надо чаще встречаться, но жизнь такая пошла, все дела, дела, они и друг друга почти не видят, а живут в одном дворе. Но это, конечно, не оправдание, что за разговоры! Обязательно в самые ближайшие дни надо всем вместе собраться, тряхнуть стариной, в конце концов, что в жизни есть важнее дружбы? Дураки они, не ценят этого, а люди мечтают иметь друзей, но не так-то просто их заиметь, это как счастье, или оно бывает или не бывает, и потому обязательно, прямо на днях, надо собраться всем вместе и выпить.
— Десятого день рождения моего сына, — сказал Багадур.
— Дай бог ему здоровья, — сказал Фаик и посмотрел на Эльдара, — сколько ему?
— Пять.
— По-моему, — сказал Фаик Эльдару, — тут двух мнений быть не может, десятого мы у Багадура.
— Конечно, о чем речь? — охотно согласился Эльдар.
— Надо Октая и Тофика тоже пригласить, — сказал Багадур, — я сегодня не успел, базаром занимался, вас ждал…
— Это я беру на себя, — сказал Фаик. — И Октая, и Тофика, и всех остальных, — он имел в виду Бориса. — Все будут. Ты занимайся базаром.
— Кстати, я могу помочь, — предложил Эльдар, — ты же знаешь, я люблю ходить на рынок.
— Все уже готово, — уверил их Багадур. — Мясо заказал, кур купил, осетрину обещали завтра… Как вы думаете, шесть бутылок водки и четыре коньяку хватит?
— Ты что, угробить нас хочешь? — улыбнулся Фаик.
— Еще вино будет и шампанское. — Багадур тоже улыбнулся. — Пятилетие все же один раз в жизни бывает.
— Да, крупный поддавон намечается, — точно так же, как отец, потер руки Эльдар. — Я могу привести одну знакомую?
— Конечно, что за разговоры? Приводите кого хотите.
— Только я тебя прошу, не забывай о том, что ты в семейный дом идешь, — предупредил Фаик Эльдара.
— За кого ты меня принимаешь? — улыбнулся Эльдар, — прекрасная, чистая девушка, в хоре русской православной церкви поет…
Он любил такие шутки, а может, и правду сказал, от него и его старшего брата Рамиза всего можно ожидать…
Багадур приехал домой в третьем часу ночи. Тихонько разделся, лег. Даже ночью было душно, и Аня спала, прикрыв простыней только живот. Не просыпаясь, обняла его. И опять, в который уже раз, Багадур с удовольствием подумал, что она совсем не такая хрупкая, как кажется в одежде… Тело у нее крепкое и упитанное, просто она тонкокостая.
Сон у нее очень крепкий, он всегда раньше просыпается от шума. Когда Рафик был маленький, по ночам он больше с ним возился, чем она, жалко было ее будить. И вообще, она как ребенок. Есть вещи, которых даже он стесняется, когда они наедине, а она нет. Его иногда сердило это, он не говорил ей, конечно, но настроение у него часто портилось из-за ее бесстыдства, не подходящего совсем ее внешности и воспитанности. Потом только понял, что не бесстыдство это, а, наоборот, чистота, как у ребенка, который не знает еще, чего надо стесняться, а чего нет. И пахнет от нее, как от ребенка: молоком и травой какой-то. А может, кажется это ему, нанюхается за день краски, а потом думает, что все молоком пахнет и травой. Багадур улыбнулся и осторожно просунул руку под теплую и мягкую спину жены.
Она не проснулась еще, но, участив дыхание, уже жмурилась, как маленькая девочка, хотя глаза приоткрывались сами собой и блестели сквозь узкие щелочки, как черное стекло.
— Ребята придут, — уже совсем засыпая, сказал ей Багадур, — опозоримся, если завтра мяса не будет.
— Будильник поставил?
Он покачал головой. Она перелезла через него и завела будильник. Опять легла. И вспомнила, что не заштопала ему брюки от черного костюма. Решила заняться ими завтра перед работой. Полежала минуту с открытыми глазами. Спросила у Багадура, много ли денег у него осталось, но он ничего не ответил. Даже не услышал вопроса. Уже спал. Она тоже вскоре уснула…
Следующий день ушел на мясо, осетрину (пришлось проторчать в Бильгя несколько часов) и прокат посуды. С посудой была сильная нервотрепка. Паспорт Ани оказался просроченным. Багадур был со своим в Бильгя (взял, чтобы снять на обратном пути деньги со сберкнижки), паспорт мамы найти не удалось, хотя Аня перерыла весь дом, отец свой дать наотрез отказался. А без паспорта посуду напрокат не давали. Багадур все не возвращался из Бильгя и не возвращался, пришлось обратиться за помощью к соседям. И только с третьего раза Ане удалось наконец получить двадцать больших тарелок для плова и шашлыка, двадцать маленьких для рыбы, вилки и ножи. Графинов не было.
Вечером они резали мясо и рыбу, мариновали их с луком и гранатом. Мама чистила зелень (травы купили много, ее все любили, и гости, и хозяева). Уже совсем поздно переставляли мебель: диван и кровать Симы, сестры Багадура, перенесли в спальню, чтобы в столовой освободилось место для второго стола, взятого у соседей.
Перед сном Багадур позвонил Фаику и проверил, успел ли тот всех оповестить о его приглашении. Фаик успокоил его и сказал, что остался один Рамиз, но на завтра на утро он заказал междугородный разговор с Сумгаитом, и Рамиз тоже будет предупрежден. В крайнем случае, кто-нибудь из ребят съездит за ним на машине — сорок минут туда, сорок обратно.
Из-за суеты в доме Рафик долго капризничал, прежде чем уснул, и Аня забеспокоилась даже, не заболел ли он — во дворе был коклюш. Они все по очереди пощупали мальчику лоб — температуры не было… Утром он проснулся как ни в чем не бывало и разбудил родителей раньше будильника…
Багадур сразу же поехал за углем. Его продавали только в одном месте, недалеко от старого дома, рядом с маленьким базаром на Второй Параллельной.
За углем очереди не было. Угольщик предупредил, что товар сыроват и поэтому разгорается долго. Багадур взял семь килограммов — оказалось больше половины мешка — и поехал домой.
В шесть часов все было готово, стол накрыт к приему гостей, мясо частью нанизано на шампуры, частью ждало своей очереди в белом эмалированном тазу, наперченные и посоленные куски осетрины лежали в большой алюминиевой кастрюле, зелень уже была разложена по тарелкам, сыр, брынза нарезаны, любительская и краковская колбасы тоже, консервы открыты, рис для плова варился на медленном огне, угли аккуратными горками возвышались в обоих мангалах, свои ем и соседском, четыре бутылки водки, три коньяку, две шампанского и вино расставлены шеренгой на столе, минеральная вода занимала весь угол балкона…
Багадур еще раз осмотрел стол и убедился, что все готово. Гости обещали приехать в семь.
Багадур умылся, надел белую нейлоновую рубашку, брюки от черного костюма, походил по комнате и сел на стул, потому что почувствовал вдруг, что у него дрожат ноги в коленях. Это его удивило. Не так уж много он поработал из-за этого дня рождения, на стройке бывали и похуже авралы, не в работе дело — поволновался он сильно и с приглашением ребят, и с мясом, и с осетриной, и всем остальным. С непривычки, наверное…
Он был дома один. Аня пошла к соседке прострочить какой-то шов на платье. Рафик играл во дворе, отец ушел куда-то с утра (отказался от чистой рубашки, сколько его ни уговаривали), а мать пошла купить хлеба. О хлебе, как всегда, вспомнили в последнюю очередь. Хорошо, хоть вспомнили. А то однажды, много лет назад, когда они с ребятами справляли какой-то праздник, хватились, когда сели за стол.
Багадур посмотрел на часы. До семи оставалось сорок минут. Пора было позвать со двора Рафика, чтобы умыть его и переодеть, а то к приходу гостей не успеешь.
Багадур хотел крикнуть Аню, чтобы она этим занялась, но потом подумал, что если бы она могла, то сделала бы все и без его крика, наверное, какая-то задержка с платьем, без нужды в такой день она у соседки не сидела бы.
Рафик катался во дворе на чьем-то велосипеде. «Хорошо, если кто-нибудь из гостей ему подарит велосипед, — подумал Багадур, вставая, — тогда он запомнит этот день рождения надолго. Давно просит купить, а их, во-первых, нет в продаже, а когда появляются, как назло, денег в доме в обрез».
Багадур уже собирался позвать Рафика, но увидел во дворе мать с сеткой, набитой хлебом, и вспомнил вдруг, что в доме нет наршараба. Даже в пот бросило, вот был бы номер, если бы он не вспомнил. Какая же осетрина без наршараба?! Его разозлило то, что женщины — ни мать, ни жена — не купили приправу заранее, не вспомнили даже о ней, а это уже чисто женское дело, всякие мелочи не он должен покупать, он достал главное — мясо, осетрину, кур, а за остальное они отвечают.
Сказав об этом на ходу матери, Багадур побежал за наршарабом. Обычно его полно было во всех магазинах: как коньяк в послевоенные годы, он всегда занимал несколько полок, чтобы не пустовали, а сегодня пришлось поехать за ним к Черногородскому мосту.
Домой он вернулся одновременно с первыми гостями. Поднимаясь по лестнице, услышал их голоса наверху и голос Ани: «Проходите, проходите, пожалуйста», — ускорил шаг и успел как раз к вопросу Фаика: а где Багадур?
— Здесь я, — радостно крикнул он им сзади, — за наршарабом бегал!
Все удивились неожиданности его появления и рассмеялись.
Пришли Фаик, толстый Гасан, Борис и Исмет. Борис был с женой. Все поцеловали Рафика (он был в новом костюмчике с короткими штанишками) и поздравили с днем рождения. Он смутился, не хотел назвать своего имени, но Аня прикрикнула на него, и он назвался. Подарки он относил в спальню.
Квартира всем очень понравилась. Пока Багадур показывал ее, пришли Октай и Тофик и принесли какую-то машину с колесами.
— Картинг называется, — объяснил Октай Рафику, — гоночная машина.
Багадура огорчило то, что они пришли без жен: хотел познакомить их с Аней, кроме того, за столом останутся пустые места. Зато Эльдар и Рамиз привели вместо одной знакомой девушки трех. («Одна для Фаика, наверное», — подумал Багадур.)
Вновь пришедшие гости присоединились к первым, и осмотр квартиры продолжался. Особенно всем понравились кухня, ванная и деревянные шкафчики, которые Багадур сделал в передней для лишних вещей.
Багадур объяснил, что кухня сейчас не так смотрится, потому что беспорядок (Аня и мама готовили плов), а когда чисто, совсем другой вид. Но все в один голос заявили, что и так здорово. Действительно, кухня была красивой, вся в кафеле, на полу пластик, двойная эмалированная мойка, белая чешская газовая плита. (Все-таки специальность Багадура имела и свои хорошие стороны: все это он собирал по одной вещи, то на стройке, то у клиентов.)
Аня подала Багадуру знак, что надо садиться за стол, и он повел всех в столовую. Пока рассаживались, он спросил у Фаика, делать ли шашлык сразу или чуть попозже, после того, как кончится закуска.
— Подожди, — сказал Фаик, — сперва надо выпить за самое главное, а потом уже можешь начать. А при первых тостах ты обязательно должен быть за столом. Позови жену.
Багадур пошел за Аней. Мать предложила пока разжечь угли в мангалах, но Багадур сказал ей, что шашлыком будет заниматься сам, пусть она ничего не трогает.
Тамадой был Фаик. Первый тост подняли за виновника торжества. Позвали из спальни Рафика. Он опять смущался, покраснел весь, смотрел в землю. Аня шепнула ему что-то, он упрямо замотал головой, даже слезы появились у него на глазах. Аня пощупала его лоб.
— Что ты ему лоб щупаешь каждую минуту? — тихо спросил ее Багадур, пока Фаик продолжал говорить первый тост. — Он совсем вести себя не умеет на людях, распустила мальчишку!
— Боюсь, как бы не заболел, — шепотом ответила Аня, — целый день сегодня потный бегал во дворе, времени не было вытереть его.
— Причем тут болезнь, — Багадур старался, чтобы по выражению лица непонятно было, о чем он говорит, — воспитывать надо ребенка.
Наконец Рафика отпустили.
Фанк говорил о том, что сегодня праздник для всех присутствующих, потому что сын Багадура — это сын каждого из них. Аня знает, наверное, не может быть, чтобы Багадур не рассказывал ей, как они росли одной большой семьей, делили и радости и горе и, вопреки всем трудностям, поднялись на ноги, и каждый чего-то добился в жизни или (тут он имел в виду себя, свою аспирантуру) добьется со временем, не в этом дело, а важно то, что для него лично тот, может быть, самый тяжелый кусок их жизни, когда они были маленькими к шла война, все же самое лучшее, самое счастливое время, потому что это сейчас люди забились в свои квартиры и даже имени соседа не знают, а тогда всем до всех было дело: их двор жил одной семьей, каждый стоял за всех, все за одного, и тогда у него, хоть он и рос один у матери, было шестеро братьев. (Все стали кричать: «А сейчас? А сейчас?»)…И сейчас тоже, конечно, продолжал Фаик, но надо смотреть правде в глаза. Они все больше и больше отдаляются друг от друга, и это непростительно, потому что он, например, ничего в жизни такого, что можно было бы сравнить с дружбой, о какой он говорит, не имеет, хотя идет время и, казалось бы, каждый день приносит им что-то новое. И поэтому, когда он сейчас предлагает выпить за здоровье маленького Рафика, он не хочет, конечно, чтобы опять была война и все остальное, но он желает, чтобы и маленькому Рафику, несмотря ни на что: ни на родителей, которые его любят, ни на хорошие условия жизни, ни на эту прекрасную квартиру — несмотря ни на что, жизнь дала бы верных друзей, таких, какими были они, и ничего большего, чем это, он ему сегодня пожелать не может.
Багадуру понравился тост Фаика, честный был тост, ответ на то, что он, Багадур, высказал им позавчера. Молодец Фаик.
Все выпили. Багадур пил водку.
Потом выпили за Багадура и за Аню, потом за всех родителей в лице родителей Багадура. Отец так и не пришел, и Багадур привел из кухни мать.
Она прослезилась и долго желала всем счастья, здоровья и много таких дней, как сегодняшний.
Потом она вернулась в кухню. Багадур пошел за ней. Обнял ее, поцеловал и сказал, что ему сегодня очень хорошо. Давно ему не было так хорошо. А в том, что ребята придут все как один, он и не сомневался, какой мог быть разговор? Это же братья его.
Мать сказала, что тоже верила в то, что они придут, и вытащила из-под стола табурет, чтобы Багадур сел. Но он отказался: надо идти к гостям, они ждут его, он просто еще несколько слов скажет матери и сразу пойдет туда, а то неудобно, гости там, а хозяин здесь.
Багадур улыбнулся и опустился на табурет. Он хотел еще многое сказать матери, но вдруг почувствовал, что язык не слушается его. Это было смешно, он выпил всего три рюмки водки, а язык вдруг начал заплетаться, и именно из-за этого Багадур улыбался. А мать, бедная, не могла понять, почему он улыбается.
За ним пришла Аня и повела его обратно в комнату.
— Куда ты меня ведешь, — удивился он, — я угли должен разжечь.
— Уже разожгли.
— Кто? — Багадур остановился.
— Исмет и Гасан.
— Понятно… — сказал Багадур. — Ну, как тебе нравится день рождения? А ты говорила, что не придут. — Он прислонился к стене и продолжал улыбаться.
— Неудобно, — сказала Аня, — тебя ждут.
— А где Рафик?
— В спальне.
— Я сейчас приду, — сказал Багадур, — ты пойди и скажи всем, что я сейчас приду, а я приду.
Он хотел посмотреть подарки и спросить у Рафика, как они ему нравятся.
Аня пошла с ним. Она поддерживала его.
Рафик сидел на коврике у своей кровати, вокруг лежали подарки — он уже распаковал все свертки.
— Нравятся? — спросил Багадур.
— А это что? — спросил Рафик и показал белую коробочку, похожую на радио.
— Дверной звонок, — объяснила Аня мальчику, продолжая обнимать Багадура за талию: он и сам чувствовал, что сильно шатается.
— Рюмки большие, — сказал он.
— Устал ты, поэтому… Может, полежишь немного?
— Нет, что ты, — наотрез отказался Багадур, но Аня отпустила его, и он сел на кровать, — неудобно, гости ждут.
— Ничего, полежи, полежи немного, быстрее пройдет. — Аня сняла с него туфли, уложила и вышла из комнаты.
Рафик продолжал послушно сидеть на полу.
— Видишь, какой день рождения устроили? — сказал Багадур. — Нравится тебе?
Рафик не ответил.
— Ты чего молчишь? — обиделся Багадур. — Я же с тобой говорю.
— Не знаю, — сказал Рафик. Он сидел к Багадуру боком, опустив голову на грудь.
«Устал, наверное, — подумал Багадур, — за день набегался. Поэтому не радуется. Или температура поднялась. Ничего, утром все будет хорошо».
Багадур опустил ноги на пол, и сразу же в комнату заглянула Аня. Как она услыхала, непонятно.
— Ты чего? — спросила она.
— Я сейчас, — сказал Багадур, он очень хотел пойти и сказать ребятам, что обиделся бы на них навсегда, если бы они не пришли сегодня.
— Лежи, лежи, — сказала Аня и опять положила его ноги на кровать.
— Я правильно сделал, что устроил… этот день рождения? — спросил Багадур.
— Конечно, правильно.
— А ты говорила…
Аня ушла.
Багадур уже не пытался встать, лежать было приятно. Нет, все-таки хорошо, что он устроил этот день рождения, думал он, отец правильно сказал, надо устраивать праздники. И ребятам квартира понравилась, и пальто Рафику он купит, что за разговоры. Глупость какая-то. Что он, единственному сыну пальто не купит, что ли? Одно другому не мешает, если надо будет, он ему сто пальто купит, какие могут быть разговоры. Не умер же он, чтобы родному сыну пальто не купить…
Потом Багадур уснул и крепко спал до утра.
Фазиль Искандер Колчерукий
Я уже писал, что однажды в детстве, ночью, пробираясь к дому одного нашего родственника, попал в могильную яму, где провел несколько часов в обществе приблудного козла, пока меня оттуда не извлек, вместе с козлом, один проезжий крестьянин. Дело происходило во время войны.
Через некоторое время после моего ночного приключения с козлом в могильной яме мы, то есть мама, сестра и я, стали жить в этой деревне. Сначала мы жили у маминой сестры, а потом наняли комнату в одном доме и переехали туда.
В этом доме до войны жили три брата. Теперь все они были в армии. Один из них успел жениться, и на весь дом оставалась его юная, цветущая и не слишком скучающая жена. Вспоминая ее, я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и называется соломенной, что воспламеняется легко, как солома.
При нас один из братьев вернулся, и именно тот, что был женат. Он как-то слишком бесшумно вернулся. Однажды утром мы его увидели на кухне. Он сидел перед горящим очагом и жарил на вертеле кукурузный початок, словно сам себе напоминал довоенное детство. Было похоже, что лучше бы ему пока не возвращаться.
А может быть, лучше бы ему было подождать с женитьбой, потому что, мне кажется, он скучал по жене, и это ускорило его возвращение.
С какой-то обреченной жадностью с недельку он возился в саду, а потом его взяли, и немного позже мы узнали, что он был дезертиром. Его взяли так же бесшумно, как он пришел.
Постепенно мы освоились на новом месте. Сестра устроилась работать в колхозе учетчицей, нам выделили участок земли, на котором мы выращивали дыни и кукурузу. Тыквы тоже выращивали. Кроме того, мы выращивали огурцы и помидоры. Мы всё тогда выращивали. Оказывается, недалеко от нас жил тот самый человек, в чью могильную яму я тогда угодил. Кстати, про эту могильную яму в деревне говорили, что в нее попадают все, кроме того, кому она предназначалась. История ее оказалась сложной и запутанной. Будущий владелец ямы, если можно так сказать, старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, лежал, говорят, в городской больнице не то с аппендицитом, не то с грыжей (хотя по-русски правильней было бы сказать Сухорукий, но Колчерукий точнее соответствует духу, а следовательно, и смыслу прозвища). Так вот, Колчерукому сделали операцию, и он спокойно выздоравливал, когда неожиданно позвонили из больницы в сельсовет и сказали, что больной умер и его надо срочно забрать домой, потому что он уже второй день лежит мертвый.
В это время в больнице никого из родственников не было, потому что он сам вот-вот должен был выписаться. Правда, в эти дни в городе был односельчанин Мустафа, который поехал туда по своим надобностям, и ему, кстати, поручили заглянуть в больницу и узнать, чего не возвращается и не решил ли Колчерукий заодно с грыжей или аппендицитом избавиться от своей колчерукости. И вдруг такая неожиданная весть.
Родственники, по нашим обычаям, разослали в соседние деревни горевестников, натянули во дворе укрытие из плащ-палатки, где собирались устроить тризну, и даже вырыли на кладбище эту самую яму.
Колхоз выделил свою единственную машину, чтобы привезти покойника, потому что в те времена, в связи с войной, сделать это частным путем было трудно. Одним словом, все честь по чести, как у людей. Все, как у людей, кроме самого покойника Шаабана Ларба, который и при жизни никому, говорят, покою не давал, а после смерти и вовсе распоясался.
На следующий день после печального известия приехала машина с покойником, который оказался живым.
Говорят, Колчерукий, слегка придерживаемый Мустафой, громко ругаясь, вошел в свой двор. Его возмутила не весть о его смерти и приготовления к похоронам, а то, что он сразу заметил, взглянув на укрытие из плащ-палатки. Из-за этого укрытия пришлось у двух яблонь срезать ветки. Колчерукий, ругаясь, тут же показал, как надо было протягивать брезент, чтобы не трогать деревьев.
Потом он, говорят, обошел гостей, здороваясь с каждым и пытливо вглядываясь в глаза, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела весть о его смерти, а заодно и неожиданное воскресение.
После этого он, говорят, поставив над глазами свою усыхающую, но так и не усохшую за двадцать лет руку, стал нахально оглядывать плакальщиц, как бы не понимая, зачем они здесь.
— Вам чего? — громко спросил он.
— Мы ничего, — ответили они, смутившись, — мы приехали тебя оплакивать.
— Ну, так начинайте, — говорят, сказал Колчерукий и приставил ладонь к уху, чтобы внимательно слушать свое оплакивание. Но тут кто-то вмешался и отвел плакальщиц от него.
Увидев приношения родственников, говорят, Колчерукий призадумался. Дело в том, что у нас всякого рода поминки устраивают так широко, что, если бы все это делалось за счет семьи умершего, живым ничего бы не оставалось, как ложиться и помирать.
Поэтому в таких случаях все родственники и соседи помогают. Кто принесет вино, кто жареных кур, кто хачапури, а тот, глядишь, и телку пригонит. И как раз один из родственников из соседнего села пригнал хорошую телку, которая Колчерукому особенно понравилась. Кстати, говорят, по размерам этого родственника и вырыли могильную яму, потому что он был примерно такого же роста, как и Колчерукий. Говорят, когда один из парней, которому поручили копать яму, подошел к нему со шпагатом, чтобы измерить его, он проявил недовольство, стал утверждать, что есть люди более подходящие, что он, пожалуй, повыше Колчерукого, а Колчерукий покоренастей.
При этом он пытался отстраниться от шпагата, но парень отстраниться ему не дал. Как и все могильщики, склонный к шутке, он сказал, что теперь коренастость Колчерукому ни к чему, что вообще, в крайнем случае, если Колчерукий не подойдет, они его будут держать на примете.
Родственник, говорят, усмехнулся на эти шутки, но, — видно, обиделся, потому что отошел к своим односельчанам и стоял среди них, хмуро поглядывая на свою телку, привязанную к забору.
Увидев все эти приношенья, Колчерукий объявил, что радоваться рано, что он и чувствует себя плохо, да и выписали его, чтобы он не помер в больнице, потому что врачей за это штрафуют, как колхозников за брак. Он тут же лег в постель и дал распоряжение могильную яму не засыпать, а держать наготове. Родственники, говорят, неохотно разъехались. Особенно был недоволен тот, что приволок телку. Но Колчерукий его успокоил, уверив, что ждать теперь недолго, так что телка его навряд ли слишком похудеет, если даже ее не выпускать со двора.
Колчерукий с неделю пролежал в постели. Через пару дней после приезда его стали одолевать любопытные, потому что к этому времени разнесся слух, что Колчерукий, умерший в городской больнице, по дороге ожил и приехал на собственные похороны. Другие говорили, что он не умер, а уснул вечным сном и доктора его никак не могли разбудить, но по дороге домой его так растрясло, что он проснулся.
Первое время Колчерукий принимал посетителей, особенно пока они приносили ему всякие гостинцы, как бывшему умершему и еще не окончательно ожившему. Но потом они ему надоели, да и председатель приказал выходить на работу. Так что он, говорят, заслышав скрип ворот, выбегал на веранду и кричал своим громким голосом: «Назад! Дармоеды! Собаку спущу!»
Кстати, слухи о его воскресении как-то сами по себе жили и развивались. Уже через год я слышал, как в одной из соседних деревень говорили, что Колчерукий ожил не по дороге из больницы домой, а в самой могиле через несколько дней после того, как его похоронили. А услышал его какой-то мальчик, который вечером искал на кладбище свою козу. Так что пришлось его откопать. Не будь, говорят, у него такого громкого голоса, умер бы от голода или даже от жажды, потому что место ему выбрали сухое, хорошее.
Вот так и оказалось, что Колчерукий пережил или предотвратил свои похороны, правда, оставив за собой могилу в полной готовности.
Увидев живого Колчерукого, сначала в деревне решили, что это секретарь сельсовета подшутил над ними, потому что это он сообщил, что говорил с больницей или с тем, кто выдавал себя за больницу. Но секретарь сельсовета сказал:
— Как я мог так пошутить, когда сейчас военное время.
И все ему поверили, потому что так шутить в военное время даже для секретаря сельсовета слишком глупо. В конце концов решили, что в больнице что-то спутали, что умер какой-то другой старик, может быть, даже однофамилец Колчерукого, потому что Ларбовцев у нас в Абхазии великое множество.
С первых же дней, как мы стали жить в доме соломенной вдовушки, я уже слышал голос Колчерукого, хотя самого еще не видел в глаза.
Ровно в полдень, возвращаясь с колхозной работы домой на обед, он метров за триста от своего дома начинал окликать старуху, проклиная ее и яростно справляясь, готова ли мамалыга к обеду.
На его крики старуха отвечала таким же яростным криком, и голоса их, не теряя ни силы, ни отчетливости, постепенно сближались, потом перехлестывались и, наконец, замолкали. Через некоторое время голос старухи победно выныривал из тишины, но Колчерукий молчал. Позже, когда я стал бывать у них, я понял, что старик молчит по той простой причине, что рот его занят едой, причем ел он с такой же яростью, так что ругаться одновременно он никак не мог.
Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же голосом справлялся насчет своей лошади, скотины или своего внука Яшки и опять насчет той же мамалыги к ужину.
Потом я познакомился и подружился с этим Яшкой, таким же громогласным, как его дед, но, в отличие от него, добродушным ротозеем. Обычно Колчерукий возил его в школу верхом на своей лошади. Всю дорогу он ругался, что приходится возить его в школу и тратить драгоценное время на этого лоботряса. Яшка молча сидел за дедом, держась за его пояс, и, смущенно улыбаясь, глядел по сторонам.
Если же дед бывал в отъезде, в школу его возила бабка на этой же лошади, и он так же сидел за нею и только не позволял ей подъезжать к самой школе, чтобы мальчишки над ним не смеялись. Мы с ним учились в разные смены. Возвращаясь из школы, я их встречал где-нибудь на полпути в школу, и Яшка, вывернув голову, долго-долго, тоскливо смотрел мне вслед, что служило поводом для дополнительной ярости Колчерукого. Яшку приходилось возить в школу, потому что она была в трех километрах от дома, а Яшка был так рассеян, что иногда забывал, куда идет, и сворачивал в сторону.
В первое время, увидев меня на улице, Колчерукий ставил ладонь козырьком над глазами и спрашивал:
— Ты чей будешь?
— Я сын такой-то, — учтиво отвечал я ему и называл маму, которую он хорошо знал еще с давних пор.
— А кто она такая? — спрашивал он громогласно и еще пристальней смотрел на меня из-под своей колчерукой ладони.
— Она сестра жены дяди Мексута, — объяснял я, хотя и понимал, что он притворяется.
— Так вы те самые городские дармоеды? — кивал он в сторону нашего дома.
— Да, — уклончиво подтверждал я, что это мы здесь живем, одновременно как бы отчасти признавая и наше дармоедство.
Он стоял передо мной, удивленно вглядываясь в меня буравчиками глаз, небольшого роста, коренастый, с широкой, по-петушиному красной шеей. Стоял, удивленно вглядываясь в меня, словно осмысливая меня целиком, одновременно прислушиваясь к чему-то постороннему, к тому, что происходило за забором в кукурузе его приусадебного участка, словно по шорохам, по возне, по каким-то им одним уловимым звукам точно определял все, что делается у него на усадьбе, во дворе и, может быть, в самом доме.
— Так это ты провалился в мою могилу? — спрашивал он неожиданно, продолжая прислушиваться к тому, что делается у него на усадьбе, и уже улавливая там какие-то ненормальности и недовольно похмыкивая по этому поводу.
— Да, — отвечал я, с тайной опаской наблюдая за ним, потому что чувствовал, что он начинен какой-то взрывчатой силой.
— Ну и как тебе там показалось? — спрашивал он, продолжая прислушиваться и постепенно начиная раздражаться, уже бормоча вполголоса: — Вымерла, что ли, эта старуха… Чтоб она ослепла… Разорит меня, старая дура…
— Хорошо, — отвечал я, стараясь проявить благодарность за гостеприимство. Все-таки это была его могильная яма.
— Место хорошее, сухое, — соглашался он, уже поскуливая от возмущения тем, что происходило у него на усадьбе, и внезапно срывался и кричал своей старухе, с места, без разгону, взяв самую высокую ноту: — Эй ты, что-то там хрупает на огороде, хрупает! Чтоб твои уши полопали — свиньи, свиньи!
— Чтоб я их с тобой в твою могилу уложила, вечно тебе мерещатся свиньи! — сразу же отзывалась старуха.
— Я же слышу — чавкают и хрупают, чавкают и хрупают! — кричал он, уже забыв про меня, и голоса их схлестывались, и он, словно ухватившись за конец ее крика, подтягивался на нем и быстро двигался в сторону дома, одновременно перебрасывая ей свой клокочущий голос.
Постепенно мы привыкли к его голосу и уже не обращали на него внимания, и даже, когда он куда-нибудь уезжал на несколько дней и вдруг все замолкало, становилось как-то странно, словно чего-то не хватало, словно какой-то пустой звон в ушах раздавался.
Жена его, высокая, выше его, невероятно худая старуха, иногда, когда его не было дома, приходила к нам поговорить с мамой. Бывало, приносила с собой круг сыру, или миску кукурузной муки, или кусок пахучего, сушенного над костром мяса. Смущенно посмеиваясь, она просила спрятать то, что принесла, и, ради бога, никаких благодарностей, только чтобы этот крикун ее ничего не знал.
Они часами о чем-то говорили с мамой, а жена Колчерукого все курила, скручивая цигарку за цигаркой. Внезапно раздавался голос Колчерукого. Он кричал ей что-нибудь в сторону дома, а она, прислушиваясь к его голосу, тряслась от затаенного смеха, словно боялась, что он услышит ее смех, и в то же время ее забавляло, что он кричит не в ту сторону.
— Ну чего тебе, я здесь! — отвечала она наконец.
— Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхоз вас обеих! В кумхоз! — выкрикивал он после мгновенной паузы, словно онемев от возмущения ее вероломством.
Однажды он подъехал к воротам нашего дома и крикнул мне, чтобы я ему вынес мешок. Громко ругаясь на то, что этим дармоедам только жуй и в рот клади, он высыпал мне полмешка муки, и, продолжая возмущаться тем, что дает свою кукурузу, да еще на мельницу возит ее на своей же лошади, он приторочил свой мешок к седлу и уехал. Отъезжая, он еще крикнул, чтобы этой ничего не говорить насчет муки, потому что и так ему нет никакого житья от ее крику.
Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка; чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин. В конце концов он прислал человека к Колчерукому, чтобы тот намекнул насчет телки. Так, мол, и так, слава богу, что он остался жив, но телку следовало бы прислать назад, потому что он ее не дарил Колчерукому, а пригнал на похороны, как хороший родственник.
— Принес яйцо, а хочет взять курицу, — говорят, сказал Колчерукий, выслушав намек. Потом он, говорят, подумал и добавил: — Скажи ему, что, если я скоро умру, можно будет ему приходить без приношенья, а если он умрет, я приду в его дом, как хороший родственник, и пригоню телку от его телки.
Родственник Колчерукого, узнав о его условиях, говорят, обиделся и велел передать Колчерукому уже без всяких намеков, что ему не надо никакой телки от его телки, тем более после смерти, что он хочет при жизни получить собственную телку, которую он ему пригнал на похороны, как хороший родственник. А раз Колчерукий до сих пор не умер, значит, надо возвратить телку хозяину. При этом он дал слово, что, несмотря на то что в доме Колчерукого его, измерив шпагатом, унизили, если Колчерукий и в самом деле умрет, он снова пригонит ее.
— Этот человек заставит меня лечь в могилу из-за своей телки, — говорят, сказал Колчерукий, услышав новые разъяснения. — Передайте ему, — добавил он, — что теперь недолго ждать, так что не стоит мучить несчастное животное.
Через несколько дней после этого разговора Колчерукий пересадил из своего огорода на свою могилу пару персиковых саженцев. Возможно, он это сделал, чтобы освежить представление о своей обреченности. Мы с Яшкой помогали ему. Но, видимо, двух персиковых саженцев ему показалось мало. Через несколько дней он ночью вырыл на плантации тунговое деревце и посадил его между этими персиковыми саженцами. Вскоре об этом все узнали. Колхозники, посмеиваясь, говорили, что Колчерукий собирается травить покойников тунговыми плодами. Никто не придал значения этой пересадке, потому что тунговые деревья никто ни до него, ни после него в деревнях не крал, потому что они крестьянам ни к чему, а плоды тунга смертельно ядовиты, так что, значит, в какой-то мере даже опасны.
Бывший хозяин телки тоже замолк. То ли поверил в обреченность Колчерукого, после того как он пересадил на свою могилу тунговое дерево, то ли, боясь его языка, не менее ядовитого, чем тунговые плоды, решил оставить его в покое.
Кстати, рассказывают, что Колчерукий через свой язык в молодости и стал Колчеруким. Дело было так.
Говорят, после какой-то пирушки местный князь в окружении многочисленных гостей сидел во дворе хозяина дома. Князь ел персики, состругивая с них кожуру перочинным ножичком с серебряной цепочкой. Хотя перочинный ножичек с серебряной цепочкой никакого отношения к последующим событиям не имеет, все рассказчики упоминали про этот ножичек, неизменно добавляя, что он был с серебряной цепочкой. Пересказывая этот случай, я хотел избежать перочинного ножичка с серебряной цепочкой, но чувствую, что почему-то должен его упомянуть, что в нем есть какая-то правда, без которой что-то пропадает, а что, я и сам не знаю.
Одним словом, князь ел персики и, благодушествуя, вспоминал свои любимые радости. В конце концов он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув:
— Если б всех моих женщин собрать, пожалуй, не вместились бы в этот двор.
Но Колчерукий, говорят, уже тогда никому благодушествовать не давал, несмотря на свою молодость. Говорят, он высунулся неизвестно откуда и сказал:
— Интересно, сколько бы коз заблеяло в этом дворе?
Этот довольно пожилой князь, говорят, был большой ценитель женской красоты, но, кроме того, его подозревали в древнегреческом грехе, разумеется, если этому греху положили начало именно древние греки. Я лично думаю, что этому греху мог положить начало любой народ, занимающийся скотоводством. А так как все народы в свое время прошли скотоводческую стадию развития, а некоторые ее все еще проходят, как человек, воспитанный в презрении к национальным предрассудкам, считаю, что все они независимо друг от друга могли положить начало этому греху.
Но вернемся к нашему престарелому феодалу. Говорят, в местных кругах князь скромно гордился умением так состругивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. Умение это не изменяло ему даже после бессонной ночи и длительной попойки. Сколько, говорят, за ним ни следили, сколько ни пытались его отвлечь, он так и не ошибся ни разу. Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говорят, рассмотрев его со всех сторон, тут же доставал свой ножичек с серебряной цепочкой и безошибочно пускал его по единственно правильному пути.
Обычно, срезав вьющуюся спиралькой кожуру, он приподымал ее и показывал окружающим. А если среди них была красивая девушка, он подзывал ее и подвешивал эту фруктовую ленточку ей за ушко.
Мне кажется, Колчерукого раздражало это искусство князя. Я думаю, что он издавна следил за ним и был уверен, что рано или поздно ленточка должна оборваться. Возможно, Колчерукий в тот раз возлагал особенно большие надежды на какой-то из этих персиков, но князь его вполне удачно обработал, да еще стал хвастаться своими женщинами, хотя, по слухам, оказывал знаки внимания и хорошеньким козочкам. Согласитесь, что тут было от чего взорваться Колчерукому, да еще молодому.
Говорят, после его неожиданных слов князь побагровел и, потеряв дар речи, глядел на Колчерукого выпученными глазами. При этом он продолжал держать в правой руке уже очищенный сочащийся персик, а в левой все тот же перочинный ножичек с серебряной цепочкой.
От ужаса все вокруг замолкли, а князь, не моргая, продолжал смотреть на Колчерукого, и рука его с персиком беспокойно двигалась по воздуху, словно чувствуя неуместность в такую минуту этого сентиментального персика, не говоря уж о том, что невозможно выхватить пистолет из кобуры, одновременно держа в ладони персик, да еще очищенный. Говорят, рука его даже склонилась к земле, чтобы наконец освободиться от этого персика, но в последнее мгновение как-то не решилась, ведь персик-то был оструган, и она, хорошо воспитанная княжеская рука, чувствовала, что очищенный персик никак нельзя положить на землю.
И вот она снова поднялась, эта рука, и мучительное мгновение шарила по воздуху в поисках невидимой тарелки, чувствуя, что кто-то должен подсунуть ей тарелку, но все оцепенели от страха, и никто не догадался помочь ему освободиться от этого, теперь уже непристойно оголенного персика. И тут, говорят, к нему на помощь пришел сам Колчерукий.
— Да сунь ты его в рот! — говорят, подсказал он ему.
Не успели гости очнуться от новой дерзости, как стали свидетелями необъяснимого самоунижения князя, который, говорят, с какой-то позорной поспешностью стал заталкивать в рот мокрый, сочащийся персик, продолжая смотреть на Колчерукого ненавидящими глазами. Наконец, кое-как справившись с персиком, он полез за пистолетом. Все еще глядя на Колчерукого выпученными ненавидящими глазами, он молча рылся, у пояса, но от сильного волнения или, как уточняют, другие, оттого, что у него были скользкие после персика руки, он никак не мог расстегнуть кобуру.
Может быть, еще кто-нибудь и опомнился бы, может быть, успел бы схватить князя за руку или, в крайнем случае, пинком отбросить Колчерукого в сторону, так что стрелять в него стало бы невозможно и даже опасно для других, но тут, говорят, в тишине в последний раз раздался голос Шаабана. Не в том смысле, что после этого его голос не раздавался, скорее напротив, он стал еще громче и насмешливей, а в том смысле, что после этой фразы он уже перестал быть просто Шаабаном, а стал Шаабаном-Колчеруким.
— Там-то он, наверное, быстрее расстегивает, — говорят, сказал он, — потому как козы ждать не любят…
Говорят, он это сказал как-то задумчиво, вроде бы размышляя вслух. Но тут старый князь наконец справился со своей кобурой — раздался выстрел, женщины подняли крик, и, когда рассеялся дым, Колчерукий уже был самим собой, то есть Колчеруким. Потом у него спрашивали, почему он после первого оскорбления продолжал дразнить князя.
— Уже не мог остановиться, — отвечал Колчерукий.
Позже, когда князь ушел с меньшевиками, а у нас окончательно и бесповоротно установилась советская власть, Колчерукий стал утверждать, что у него с князем были свои, чуть ли не партизанские счеты, что разговор этот был только поводом или следствием других, более важных вещей.
Одним словом, несмотря на княжескую пулю, Колчерукий продолжал над всеми подшучивать, и шутки его, кажется, не становились безобидней.
Слоняясь по деревне, я его часто видел на табачной или чайной плантации или на прополке кукурузы. Если у него бывало хорошее настроение, он просто дурачился, и тогда все кругом покатывались со смеху.
Он умел подражать голосам знакомых людей и животных, особенно у него получался петушиный крик.
Бывало, в поле бросит мотыгу, разогнется, посмотрит по сторонам и зальется петухом. Почти сразу же откликаются петухи из соседних домов. Все вокруг смеются, ближайший петух продолжает звать его, а он берется за свою мотыгу и приговаривает: «Много ты понимаешь, дурак».
У нас, как, вероятно, у всех, принято считать, что петухи поют со значением, чуть ли не провидят судьбы своих хозяев. Колчерукий, можно сказать, разоблачал петухов, этих сельских провидцев. Надо сказать, что Колчерукий, несмотря на свою полувысохшую руку, работал как черт. Правда, иногда, когда проносился слух, что начинается подписка на заем или мобилизуют оставшихся мужчин на лесозаготовку, он вдевал свою левую руку в чистую красную повязку и ходил в таком виде, пока считал нужным. Думаю, что эта красная повязка ему мало чем помогала, особенно в подписке на заем она ему никак не могла помешать, но все же, видимо, давала лишнюю возможность поспорить, поязвить, понасмехаться.
Я думаю, что и красную повязку он себе завел, чтобы придать пострадавшей руке военно-партизанский вид. Из бдительности он после каждого вызова в правление вдевал свою руку в повязку, садился на лошадь и ехал. В накинутой бурке, с рукой в красной повязке, верхом на лошади, он и в самом деле имел довольно бравый военно-партизанский вид.
Все было хорошо, но вдруг стало известно, что председатель сельсовета получил анонимное письмо против Колчерукого. В нем говорилось, что в посадке тунгового дерева на могилу скрывается насмешка над новой технической культурой, намек на ее бесполезность для живых колхозников, как бы указание на то, что ей настоящее место на деревенском кладбище.
Председатель сельсовета показал это письмо председателю колхоза, и тот, говорят, не на шутку перепугался, потому что могли подумать, что он, председатель, подучил Колчерукого пересадить тунговое дерево к себе на могилу.
Я тогда никак не мог понять, почему все обернулось так грозно, когда и до этой бумаги все знали, что он пересадил деревце тунга на свою могилу. Я тогда не знал, что письмо — это документ, а документ потребовать могут, за него надо отвечать.
Правда, еще говорили, что председатель сельсовета мог бы не давать ему ходу, но он, говорят, имел зуб на Колчерукого и потому показал письмо председателю колхоза.
Одним словом, письму был дан ход, и однажды по этому поводу из райцентра прибыл какой-то человек, чтобы выяснить истину. Колчерукий пробовал отшучиваться, но, видно, все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с таким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему, да и окружающим, только и остается, что остерегаться осколков.
— Ну, все, — говорил старый лошадник Мустафа, друг и вечный соперник Колчерукого, — теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то тебя в Сибир отправят.
— Сибир не боюсь, боюсь, ты мою могилу займешь, — отвечал Колчерукий.
— В Сибир, говорят, на собаках ездят, — пугал его Мустафа, — так что забери с собой уздечку, может, объездишь себе какого пса. Будет тебе и лаять и возить.
Надо сказать, что между Колчеруким и Мустафой было давнее соперничество в лошадином деле. У каждого из них были свои подвиги и неудачи. Колчерукий покрыл себя когда-то немеркнущей славой тем, что в Мингрелии во время скачек на глазах у многотысячной толпы (положим, толпа была не такой уж многотысячной) увел какого-то знаменитого жеребца. Говорят, сам Колчерукий сидел на такой замордованной кляче и выглядел так потешно, что, когда он попросил у хозяина жеребца испробовать его ход, тот для смеха разрешил ему, уверенный, что через минуту жеребец его сбросит на землю и от этого станет еще более знаменитым.
Колчерукий, говорят, на пузе слез со своей клячонки и, передавая повод хозяину жеребца, сказал:
— Считай, что мы обменялись.
— Хорошо, — со смехом ответил хозяин, беря у него поводья.
— Главное, в первый раз не дай ей себя сбросить, а то затопчет, — предупредил Колчерукий и подошел к жеребцу.
— ! Постараюсь, — говорят, со смехом отвечал хозяин и, как только Колчерукий взобрался на жеребца, дал знак какому-то парню, стоявшему сзади, и тот изо всех сил хрястнул жеребца камчой.
Жеребец взвился и помчался в сторону Ингури. Говорят, Колчерукий сначала держался, как пьяный мулла на скачущем ослике.
Все ждали, что он вот-вот сорвется, а он все шел и шел вперед, и у хозяина начала отваливаться челюсть, когда Колчерукий доскакал до конца поляны, но не свернул по кругу естественного ипподрома, а летел все дальше и дальше в сторону реки. Еще несколько минут ждали, думали, что просто лошадь отняла у него поводья, что он ее не смог завернуть, но потом поняли, что это неслыханный по своей дерзости угон.
Минут через пятнадцать за ним мчалась дюжина всадников, но уже ничего не могли сделать.
Колчерукий с ходу с обрыва бросился в реку, и, когда погоня добралась до обрыва, он уже выходил на том берегу, мокрым крупом коня на мгновенье просверкнув в прибрежном ольшанике. Пули, посланные вслед, не достигли цели, а прыгать с обрыва никто не осмелился. С тек пор, говорят, это место названо Обрывом Колчерукого. Колчерукий при мне сам никогда не рассказывал эту историю, зато давал ее пересказать другим, с удовольствием слушая и внося некоторые уточнения. При этом он всячески подмигивал в сторону Мустафы, если тот был рядом. Мустафа делал вид, что не слушает, но в конце концов не выдерживал и пытался как-нибудь унизить или высмеять его подвиг.
Мустафа говорил, что человек, которому уже прострелили одну руку, можно сказать, порченый человек, и поэтому, пускаясь на дерзость, он не слишком многим рискует. А если он и спрыгнул с обрыва, то, во-первых, спрыгнул от страха, а потом ему ничего другого не оставалось делать, потому что, достигни его погоня, все равно бы пристрелили.
Одним словом, у них было давнее соперничество, и если раньше они его разрешали на скачках, то теперь, по старости, хотя и продолжали держать лошадей, споры свои разрешали теоретически, отчего они у них часто заходили в дебри зловещих головоломок.
— Если в тебя человек стреляет с этой стороны, а ты, скажем, едешь вон по той тропе, куда ты поворачиваешь лошадь при звуке выстрела, и притом вокруг ни одного дерева? — спрашивал один из них.
— Скажем, ты скачешь в гору, а за тобой гонятся люди. Впереди — справа мелколесье, а слева — овраг. Куда ты свернешь лошадь? — допытывался другой.
Эти споры велись двумя людьми, изможденными долгим трудовым днем, возвращавшимися домой с мотыгами или с топором на плечах. Споры эти длились многие годы, хотя вокруг уже давно никто не стрелял, тем более в них никто не стрелял, потому что люди научились мстить за обиды более безопасным способом. К одному из этих способов, а именно анонимному письму, кстати, пора возвратиться.
Приехавший из райцентра добивался, чтобы старик рассказал об истинной цели пересадки тунгового дерева, а главное, раскрыл, кто его подучил это сделать. Колчерукий отвечал, что его никто не подучивал, что он сам захотел после смерти иметь тунговое дерево над своим изголовьем, потому что ему давно приглянулась эта невиданная в наших краях культура. Приехавший не поверил.
Тогда Колчерукий признался, что надеялся на ядовитые свойства не только плодов, но и корней тунга, он надеялся, что корни этого дерева убьют всех могильных червей и он будет лежать в чистоте и в спокойствии, потому что от блох ему и на этом свете спокойствия не было.
Тогда, говорят, приезжий спросил, что он подразумевает под блохами. Колчерукий ответил, что под блохами он подразумевает именно собачьих блох, которых не следует путать с куриными вшами, которые его, Колчерукого, нисколько не беспокоят, так же как и буйволиные клещи. А если его что беспокоит, так это лошадиные мухи, и если он в жару подбросит под хвост лошади пару пригоршней суперфосфату, то колхозу от этого не убудет, а лошади отдых от мух. Приехавший понял, что его с этой стороны не подкусишь, и снова вернулся к тунгу.
Одним словом, как ни изворачивался Колчерукий, дело его принимало опасный оборот. На следующий день его уже не вызывали к товарищу из райцентра. Готовый ко всему, он сидел во дворе правления под тенью шелковицы и, не вынимая руки из красной повязки, курил в ожидании своей участи. Тут, говорят, прямо в правление, где совещались между собой председатель колхоза, председатель сельсовета и приехавший из райцентра, прошел Мустафа. Проходя мимо Колчерукого, он, говорят, посмотрел на него и сказал:
— Я что-то придумал. Если не поможет, тихонько, как есть, вместе со своей повязкой, ложись в могилу, а тунговых яблок я тебе натрушу.
На эти слова Колчерукий ему ничего не ответил, а только горестно взглянул на свою руку в том смысле, что он-то готов принять на себя любые страдания, но она-то за что будет страдать, и без того пострадавшая от меньшевистской пули?
Надо сказать, что Мустафа у местного начальства пользовался большим уважением, как умнейший мужик и самый богатый человек в колхозе. Дом у него был самый большой и красивый в деревне, так что если приезжало большое начальство, его прямо отправляли в хлебосольный дом Мустафы.
То, что придумал Мустафа, было замечательно простым. Прибывший из райцентра был абхазцем, а если человек абхазец, то, будь он приехавшим из самой Эфиопии, у него найдутся родственники в Абхазии.
Оказывается, ночью Мустафа тайно собрал у себя местных стариков, угостил, а потом с их помощью тщательно исследовал родословную товарища из райцентра. Тщательный и всесторонний анализ ясно показал, что товарищ из райцентра через свою двоюродную бабку, бывшую городскую девушку, ныне проживающую в селе Мерхеулы, состоит в кровном родстве с дядей Мексутом. Мустафа остался вполне доволен результатом анализа.
С этим козырем в кармане он прошагал мимо Колчерукого в правление. Говорят, когда Мустафа сообщил об этом товарищу из райцентра, тот побледнел и стал отрицать свое родство с бабкой из Мерхеул, и в особенности с дядей Мексутом. Но капкан уже захлопнулся. Мустафа только усмехнулся на это и сказал:
— Если не родственник, зачем побледнел?
Больше он не стал говорить, а спокойно вышел из помещения.
— Как быть? — спросил Колчерукий, увидев Мустафу.
— Потерпи до вечера, — сказал Мустафа.
— Решайте скорей, — ответил Колчерукий, — а то у меня рука совсем высохнет от этой повязки.
— До вечера, — повторил Мустафа и ушел.
В сущности, товарищ из райцентра, не признав родства с дядей Мексутом, нанес ему смертельное оскорбление. Но дядя Мексут сдержался. Он ничего никому не сказал, а только поймал свою лошадь и уехал в Мерхеулы.
К вечеру он вернулся на мокрой лошади, остановился у правления и дал поводья все еще ждущему своей участи Колчерукому. Председатель стоял на веранде и курил, глядя на Колчерукого и окружающую природу.
— Взойди, — сказал председатель, увидев дядю Мексута.
— Сейчас, — ответил дядя Мексут и, прежде чем войти, сорвал с руки Колчерукого красную повязку и молча запихнул ему в карман. Говорят, Колчерукий так и остался с рукой на весу, как бы все еще сомневаясь и не принимая смысла этого символического жеста.
Дядя Мексут положил перед товарищем из райцентра желтое и готовое рассыпаться в прах свидетельство о рождении мерхеульской бабки, выданное нотариальной конторой еще дореволюционного Сухумского уезда.
Увидев это свидетельство, товарищ из райцентра, говорят, еще раз побледнел, но отрицать уже ничего не мог.
— Или тебе бабку поперек седла привезти? — спросил дядя Мексут.
— Бабку не надо, — тихо ответил товарищ из райцентра.
— Портфель с собой возьмешь или поставишь в несгораемый шкаф? — еще раз спросил дядя Мексут.
— Возьму с собой, — ответил товарищ из райцентра.
— Тогда пошли, — сказал дядя Мексут, и они покинули помещение.
В этот вечер в доме дяди Мексута устроили хлеб-соль и все обмозговали. На следующее утро в доме дяди Мексута, после длительного обсуждения, мне лично была продиктована справка на русско-кавказско-канцелярском языке.
— Наконец-то и этот дармоед пригодился, — сказал Колчерукий, когда я придвинул к себе чернильницу и замер в ожидании диктовки.
Справка обсуждалась руководителями колхоза с товарищем из райцентра. Колчерукий внимательно слушал и требовал перевести на абхазский язык каждую фразу. Причем он несколько раз уточнял формулировки в сторону завышения своих, как я теперь понимаю, социальных и деловых достоинств.
Особенно бурные споры вызвало место, где объяснялась его колчерукость. Колчерукий стал требовать, чтобы записали, что он пострадал от пули меньшевистского наймита, ссылаясь на то, что ранивший его князек впоследствии удрал с меньшевиками. Товарищ из райцентра хватался за голову и умолял быть точным, потому что он тоже отвечает перед своим начальством, хотя и уважает своих родственников. В конце концов подобрали такую формулировку, которой остались довольны все.
Справка сочинялась так долго, что, покамест я ее писал своим колеблющимся почерком, выучил наизусть. Составители попросили меня громко зачитать ее, что я и сделал выразительным голосом. После этого они дали ее переписать секретарю сельсовета. Вот что было сказано в справке:
«Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, которое он получил еще до революции вместе с княжеской пулей, впоследствии оказавшейся меньшевистской, с первых же дней организации колхоза активно работает в артели, несмотря на частично высохшую руку (левая).
Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, имеет сына, который в настоящее время сражается на фронтах Отечественной войны и имеет правительственные награды (в скобках указывался адрес полевой почты).
Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, несмотря на преклонный возраст, в это трудное время не покладая рук трудится на колхозных полях, не давая отдыха своей пострадавшей вышеуказанной руке. Ежегодно он вырабатывает не менее четырехсот трудодней.
Правление колхоза, вместе с председателем сельсовета, заверяет, что тунговое дерево он пересадил на свою фиктивную могилу по ошибке, как дореволюционный малограмотный старик, за что будет оштрафован согласно уставу сельхозартели. Правление колхоза заверяет, что случаи пересадки тунговых деревьев с колхозных плантаций на общественное кладбище и тем более на личные приусадебные участки никогда не носили массового характера, а носят характер единичной несознательности.
Правление колхоза заверяет, что старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, никогда не насмехался над колхозными делами, а, согласно веселому и острому, как абхазский перец, характеру, насмехался над отдельными личностями, среди которых немало паразитов колхозных полей, которые являются героями в кавычках и передовиками без кавычек на своих собственных приусадебных участках. Но таких героев и таких передовиков мы изживали и будем изживать согласно уставу сельхозартели вплоть до изгнания из колхоза и изъятия приусадебных участков.
Старик Шаабан Ларба благодаря своему народному таланту передразнивает местных петухов, чем разоблачает наиболее вредные мусульманские обычаи старины, а также развлекает колхозников, не прерывая полевых работ».
Справка была заверена печатью и подписана председателем колхоза и председателем сельсовета.
Закончив дело, гости вышли на веранду, где были выпиты прощальные стаканы «изабеллы», и товарищ из райцентра через одного из членов правления дал намек, что не прочь послушать, как Колчерукий передразнивает петухов. Колчерукий не заставил себя упрашивать, а тут же поднес свою бессмертную руку ко рту и дал такого ку-ка-ре-ку, что все окрестные петухи сорвались, как цепные собаки. Только хозяйский петух, на глазах которого произошел весь этот обман, сначала обомлел от негодования, а потом так раскудахтался, что его вынуждены были прогнать со двора в огород, потому что он оскорблял слух товарища из райцентра и мешал ему говорить.
— Воздействует на всех петухов или только на местных? — спросил товарищ из райцентра, подождав, пока прогонят петуха.
— На всех, — с готовностью пояснил Колчерукий, — где хотите попробуйте.
— Действительно народный талант, — сказал тот, и они все ушли, попрощавшись с дядей Мексутом, который проводил их до ворот и немного дальше.
Председатель колхоза точно выполнил обещанное в справке. Он оштрафовал Колчерукого на двадцать трудодней. Кроме того, приказал пересадить назад тунговое деревце и навсегда засыпать могильную яму во избежание несчастных случаев со скотом. Колчерукий вновь откопал тунговое деревце и пересадил его на плантацию, но оно, не выдержав всех этих мучений, долгое время находилось в полувысохшем состоянии.
— Как моя рука, — говорил Колчерукий. Могилу свою он сумел отстоять, огородив ее довольно красивым штакетником с воротцами на щеколде.
После того как затихла история с анонимным письмом, родственник Колчерукого снова через одного человека осторожно напомнил ему насчет телки.
Колчерукий отвечал, что теперь ему не до телки, потому что его опозорили и оклеветали, что он теперь и днём и ночью ищет клеветника и даже на работу ходит с ружьем. Что он не успокоится до тех пор, пока не вгонит его в землю, что он не пожалеет даже собственную могилу на этого человека, если этот человек своими размерами ее не слишком превосходит. Напоследок он передал, чтобы его родственник прислушивался и присматривался к окружающим, с тем чтобы при первом же подозрении дал ему, Колчерукому, сигнал, а за Колчеруким дело не станет. Что только после выполнения своего Мужского Долга он, Колчерукий, утрясет с телкой и другими мелкими недоразумениями, вполне естественными в родственных делах близких людей.
Говорят, после этого родственник окончательно примолк и больше про телку не напоминал и старался не встречаться с Колчеруким.
Все-таки на одном пиршестве они встретились. Уже изрядно выпивший, ночью, во время пения застольной песни, допускающей легкие импровизации, Колчерукий несколько раз повторял одно и то же:
О, райда, сиуа райда, эй, За телку продавший родственника…Пел он, не глядя в его сторону, отчего тот, говорят, постепенно трезвел и, в конце концов, не выдержав, спросил у Колчерукого через стол:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего, — говорят, ответил Колчерукий и оглядел его, как бы снимая с него мерку, — просто пою.
— Да, но как-то странно поешь, — сказал родственник.
— У нас в деревне, — объяснил ему Колчерукий, — все сейчас так поют, кроме одного человека…
— Какого человека? — спросил родственник.
— Догадайся, — предложил Колчерукий.
— Даже не хочу догадываться, — отмахнулся родственник.
— Тогда я сам скажу, — пригрозил Колчерукий.
— Скажи! — осмелился родственник.
— Председатель сельсовета, — промолвил Колчерукий.
— Почему не поет? — пошел напролом родственник.
— Не имеет права давать намек, — разъяснил Колчерукий, — как получающий государственную зарплату.
— Можешь доказать? — спросил родственник.
— Доказать не могу, поэтому пока пою, — сказал Колчерукий и снова оглядел родственника, как бы снимая с него мерку.
На них уже начал обращать внимание встревоженный хозяин, боявшийся, что ему испортят пиршество, которое он затеял по случаю награждения сына орденом Красного Знамени.
Снова грянула песня, и все пели, и Колчерукий пел вместе с другими, ничем особенным не выделяясь, потому что он чувствовал, что хозяин следит за ним. Но потом, когда хозяин успокоился, Колчерукий, улучив мгновение, снова подсочинил:
О, райда, сиуа райда, эй, Оградил ее, родимую, штакетником… —спел он. Но хозяин его все-таки услышал и говорят, наполнив рог вином, подошел к ним.
— Колчерукий! — крикнул он. — Клянитесь нашими мальчиками, которые кровь проливают, защищая страну, что вы навсегда помиритесь за этим столом.
— Я про телку забыл, — сказал родственник.
— Что давно пора, — поправил ею Колчерукий и обратился к хозяину: — Ради наших детей я землю грызть готов, пусть будет по-твоему, аминь!
И он, запрокинув голову, выпил литровый рог, не отнимая его ото рта, все дальше и дальше запрокидываясь, под общее, хоровое, помогающее пить: «Уро, уро, уро, у-ро-о…»
А потом грянул застольную, а родственник, говорят, настороженно ждал, как он пройдет то место, где можно импровизировать. И когда Колчерукий спел:
О, райда, сиуа райда, эй, О героях, идущих в огонь…—родственник несколько мгновений стоял, со всех сторон осмысливая сказанное, и, наконец, уяснив, что он никак не похож на героя, идущего в огонь, окончательно успокоился и сам присоединился к поющим.
Осенью мы сняли богатый урожай со своего участка и вернулись в город с кукурузой, тыквами, орехами и несметным количеством сухофруктов. Кроме того, мы заготовили около двадцати бутылок бекмеза, фруктового меда, в данном случае яблочного.
Дело в том, что по договоренности с бригадиром мы должны были собрать яблоки с одной старой яблони, с тем чтобы половину урожая отдать колхозу, а половину себе.
В колхозе не хватало рабочих рук, просто некому было собирать яблоки, потому что все работали на основных культурах — чай, табак, тунг.
Получив разрешение на сбор яблок, мама, в свою очередь, договорилась с тремя бойцами рабочего батальона, стоявшего недалеко от деревни, что они нам помогут собрать, перетолочь и выварить из яблок бекмез, за что они получали половину половины нашего урожая.
Через неделю операция была блестяще завершена, мы получили двадцать бутылок тяжелого золотистого бекмеза (чистый доход), заменившего нам сахар на всю следующую зиму.
Таким образом, дав великолепный урок коммерческой изворотливости, мы покинули колхоз, и голос Колчерукого остался далеко позади.
И вот уже много лет спустя, проездом на охоту, я снова очутился в этой деревне.
В ожидании попутной машины я стоял у правления колхоза под тенью все той же шелковицы. Был жаркий августовский день. Я смотрел на здание пустующей школы, на дворик, покрытый сочной травой, словно это была трава забвения, на эвкалиптовые деревья, которые мы когда-то сажали, на старый турничок, к которому, мы бежали каждую перемену, и с традиционной грустью вдыхал аромат тех далеких лет.
Редкие прохожие, по деревенскому обычаю всех краев, здоровались со мной, но ни они меня, ни я их не узнавал. Какая-то девушка вышла из правления колхоза с двумя графинами, подошла к колодцу и, лениво раскрутив ворот, набрала воды, медленно вытянула ведро и стала набирать воду в графины, поставленные на деревянную колоду. Она набирала воду сразу в оба графина, одновременно поливая их водой, как бы любуясь избытком прохлады. Выплеснула на траву остаток воды и, взяв мокрые графины, лениво пошла в сторону правления.
Когда она поднялась по ступенькам и вошла в дверь, я услышал, как оттуда навстречу ей выплеснулись голоса людей, и снова все замолкло. Мне показалось, что все это уже когда-то было.
Какой-то парень на ржаво-скрипящем велосипеде проехал мимо меня, но потом, развернувшись с тугой раздумчивостью, подъехал ко мне и попросил закурить.
К багажнику велосипеда были приторочены две буханки хлеба. Я дал ему закурить и спросил у него, не знает ли он Яшку, внука Колчерукого.
— (А как же, — ответил Яшка-почтальон. Стой здесь, он скоро должен проехать на мотоцикле…
Парень крепко, как пахарь за плуг, взявшись за руль, оттолкнулся и, обильно дымя сигаретой, повел дальше свой упирающийся, жалобно скрежещущий велосипед. Казалось, и жаркая погода, и этот несмазанный велосипед, и даже две буханки хлеба, притороченные к багажнику, входили в условие какого-то неведомого пари, которое он собирался во что бы то ни стало выиграть.
Я стал всматриваться в дорогу. В самом деле, вскоре я услышал треск мотоцикла. Конечно, я узнал его только потому, что ожидал. На своем легком мотоцикле он выглядел, как Гулливер на детском велосипеде.
— Яшка! — крикнул я.
Он посмотрел в мою сторону, и мотоцикл испуганно остановился. В следующее мгновение он его, по-моему, слегка придавил к земле, и мотоцикл вовсе заглох.
Яшка выкатил его из-под себя, мы свернули с улицы и минут через пятнадцать лежали в тенистых зарослях папоротника.
Большой, дородный, с ленивой улыбкой на лице, он лежал рядом со мной, все еще похожий на того Яшку, который сидел на лошади за дедом и рассеянно смотрел по сторонам. До недавнего времени, оказывается, он был бригадиром, но в чем-то провинился, и его теперь назначили почтальоном. Он мне об этом рассказал все с той же улыбкой. Еще в школьные годы было видно, что тщеславие не его слабость.
Кажется, дед его все запасы родовой ярости истратил сам, так что на Яшку ничего не осталось, а может, он и истратил их на себя, чтобы Яшке просто незачем было приходить в ярость. Какая разница — бригадир так бригадир, почтальон так почтальон. Только, пожалуй, голос его такой же густой и сильный, как у деда, правда, без тех клокочущих переливов. Я, конечно, спросил его про деда.
— Как, ты ничего не слыхал? — удивился Яшка и посмотрел на меня своими большими круглыми глазами.
— А что? — спросил я.
— Все знают его историю, а где ты был?
— Я был в Москве, — сказал я.
— А, значит, до Москвы не дошло, — протянул Яшка с уважением к самому расстоянию от Абхазии до Москвы: раз уж такая история туда еще не дошла, значит, до Москвы ехать и ехать.
Яшка огреб и подмял под себя свежие кусты папоротника, поудобней подложил под голову сумку и рассказал мне последнее приключение своего неугомонного деда. Потом я эту историю слышал еще несколько раз от других, но в первый раз я ее услышал от Яшки.
Я еще мысленно любовался последним могучим всплеском фантазии Колчерукого, когда вдруг:
— Жужуна, Жужуна! — закричал он без всякого перехода, даже не приподнявшись.
— Ты чего? — отозвался откуда-то девичий голос.
Я приподнялся и посмотрел по сторонам. За зарослями папоротника виднелась небольшая буковая рощица. В просветах между деревьями угадывалась изгородь и за нею кукуруза. Голос шел откуда-то оттуда.
— Письмо, Жужуна, письмо! — снова крикнул Яшка и подмигнул мне.
— Нарочно? — спросил я.
Яшка радостно кивнул головой и стал прислушиваться. Примолкшие было кузнечики стали осторожно перетикиваться.
— Абманчи-ик! — наконец раздался голос девушки, и я почувствовал, что манок почтальона уже поднял олененка.
— Быстрей, Жужуна, уеду, Жужуна! — восторженно откликнулся Яшка, пьянея не то от собственного голоса, не то от имени девушки.
Я понял, что мне пора уходить, и стал с ним прощаться. Продолжая прислушиваться, Яшка уговаривал меня остаться на ночь, но я отказался. И потому, что спешил, и потому, что оскорбил бы этим наших, к которым я так и не зашел. Я знал, что, если остаться здесь на ночь, никакой охоты не получится, потому что придется еще два дня приходить в себя.
Выбираясь по тропинке на улицу, я еще раз услышал голос девушки, теперь он мне показался отчетливей.
…— От кого, тогда приду-у! — кричала она.
…— Приходи, тогда скажу, Жужуна, Жужуна! — призывно зазвучало в жарком августовском воздухе в последний раз, и я с какой-то смутной тоской, в просторечии именуемой завистью, выбрался на пустынную проселочную улицу.
По крайней мере, подумал я, все-таки традиции Колчерукого не умирают. Через полчаса я уехал дальше и с тех пор там не бывал. Все-таки я надеюсь как-нибудь выбраться к нашим, хотя бы для того, чтобы узнать, до чего Яшка докричался там со своей Жужуной.
Перескажу последнее приключение Колчерукого так, как оно у меня улеглось в голове. Колчерукий, говорят, благополучно дождался конца войны, дождался сына и прекрасно жил до последнего времени. Но с год назад пришел и ему срок умирать, и уже по-настоящему.
В тот день, говорят, он, как обычно, лежал на веранде своего дома и смотрел во двор, где паслась его лошадь. В это время приехал к нему на лошади Мустафа. Он спешился и взошел на веранду. Ему вынесли стул, и он уселся рядом с Колчеруким. Как обычно, они вспоминали о прошлом. Колчерукий мгновеньями не то впадал в забытье, не то засыпал, но каждый раз, приходя в себя, он говорил с того места, на котором остановился.
— Так ты в самом деле покидаешь нас? — говорят, спросил Мустафа, зорко вглядываясь в своего друга и соперника.
— В самом деле, — ответил Колчерукий, — теперь мне тамошних лошадей купать в тамошних реках…
— Все там будем, — вежливо вздохнул Мустафа, — да не думал, что ты первый…
— Ты, бывало, и на скачках не думал, что я буду первым, — отчетливо произнес Колчерукий, так, что родственники, дежурившие возле него, все слышали и даже слегка засмеялись, придерживая свой смех ладонями, потому что смех возле умирающего, даже если этот умирающий Колчерукий, не слишком уместен.
Обидно стало Мустафе, да спорить неприлично, потому что человек умирает. Но если умирающий смеется над живущим, это как-то особенно обидно, потому что, раз умирающий над тобой смеется, значит, ты как бы оказался в еще более бедственном или жалком положении, чем он, а уж куда хуже. Спорить, конечно, неприлично, а рассказать кое-что можно. И он рассказал.
— Раз уж ты уходишь в такую дорогу, я тебе должен кое-что сказать, — промолвил Мустафа, наклоняясь над Колчеруким.
— Если должен, скажи, — ответил Колчерукий, не глядя на него, потому что смотрел во двор, где паслась его лошадь. Оставшееся время ему было интересней всего смотреть на свою лошадь.
— Не взыщи, Колчерукий, но тогда это я позвонил в колхоз, что ты умер, — сказал Мустафа, как бы скорбя, что обстоятельства не позволяют и теперь пустить этот ложный слух и что он, Мустафа, жалеет об этом, как истинный друг.
— Как же ты, когда говорили по-русски? — удивился Колчерукий и посмотрел на него. Мустафа русского языка не знал и был, несмотря на свой великий хозяйственный ум, до того безграмотный, что вынужден был изобрести свой алфавит или во всяком случае ввести в личное употребление своеобразные иероглифы, при помощи которых он отмечал всех своих должников, а также хозяйственные счета, основанные на сложных, многоступенчатых обменных операциях. Вот почему Колчерукий удивился, что он говорил по телефону, да еще по-русски.
— Через городского племянника, сам я рядом стоял, — объяснил Мустафа.
— Раз тебя вылечили, я решил пошутить, да и машину без этого кто бы прислал, — добавил Мустафа, напоминая о трудностях того далекого времени.
Говорят, Колчерукий закрыл глаза и долго молчал. Но потом он медленно открыл их и сказал, не глядя на Мустафу:
— Теперь я вижу, что ты лучший лошадник, чем я.
— Так получается, — скромно признался Мустафа и оглядел всех, кто дежурил возле умирающего.
Но тут близкие не выдержали и стали всхлипывать, потому что Колчерукий первый раз в жизни признал себя побежденным, и это было больше похоже на его смерть, чем сама предстоящая смерть.
Колчерукий заставил их замолкнуть и, кивнув в сторону лошадей, сказал:
— Напоите, лошади пить хотят.
Одна из девушек взяла ведра и пошла за водой. Девушка принесла родниковой воды и поставила ведра посреди двора. Лошадь Колчерукого подошла к ведру и стала пить, а лошадь Мустафы повернула голову и потянула уздечку. Девушка отвязала ее и, держа за уздечку, стояла рядом, пока она пила воду. Лошади, вытянув шеи, тихо пили воду, и Колчерукий с удовольствием следил за ними, и кадык на его горле двигался так, словно он сам пил воду.
— Мустафа, — сказал он наконец, обернувшись к другу, — теперь я признаю, что ты был лучшим лошадником, но ты знаешь, что и я любил лошадей и кое-что в них понимал?
— А как же, кто этого не знает! — великодушно воскликнул Мустафа и оглядел всех, кто был на веранде.
— На днях я умру, — продолжал Колчерукий, — гроб мой будет стоять там, где стоят пустые ведра. После того, как меня оплачут, я прошу тебя, сделай одно…
— Что сделать? — спросил Мустафа и, цыкнув на близких, потому что они снова пытались всплакнуть, наклонился к нему. Было похоже, что Колчерукий передает ему свою последнюю волю.
— Я прошу тебя трижды перепрыгнуть верхом через мой гроб. Перед тем, как закроют крышку, я хочу услышать над собой лошадиный дух. Ты это сделаешь?
— Сделаю, если наши обычаи не видят в этом греха, — обещал Мустафа.
— Думаю, не видят, — сказал Колчерукий, помедлив, и закрыл глаза — то ли уснул, то ли впал в забытье. Мустафа встал и тихо спустился с веранды. Он уехал, раздумывая над последней волей умирающего.
Вечером по этому поводу Мустафа собрал старейшин села и, угостив их, рассказал о просьбе Колчерукого. Старейшины посоветовались между собой и решили:
— Прыгай, если покойник так хочет, потому что ты лучший лошадник.
— Он сам это признал, — вставил Мустафа.
— А греха в этом нет, потому что лошадь мяса не ест, — у нее чистое дыхание, — заключили они.
В эту же ночь Колчерукий узнал о решении старейшин и, говорят, остался доволен. А через два дня он умер.
Снова послали горевестников по соседним селам, как когда-то во время войны. Некоторые весть о его смерти встретили с недоверием, а родственник, что приволок когда-то телку, даже сказал, что, мол, не мешало бы его проткнуть хотя бы наконечником — посоха, чтобы убедиться, окончательно он умер или опять морочит голову.
— Проткнуть не надо, — терпеливо отвечал горевестник, — потому что через него будет прыгать лошадник Мустафа. Так покойник захотел, когда был жив.
— Ну, тогда можно ехать, — успокоился родственник, — потому что живой Колчерукий не даст через себя прыгать.
На похороны, говорят, собралось народу даже больше, чем в тот раз, когда никто не сомневался, что он умер. Многих привлекла возможность посмотреть на эти скачки через гроб или похороны с препятствием. Все знали о великом соперничестве друзей. Говорили, что Колчерукий хоть он и мертвый, но дела так не оставит.
Потом некоторые утверждали, что сами видели, как Мустафа тренировался у себя во дворе, прыгая на своей лошади через корыто, поставленное на стулья. Но Мустафа с яростью, достойной самого Колчерукого, отрицал, что он прыгал через корыто, поставленное на стулья. Он говорил, что лошадь его свободно перемахивает через ворота, так что Колчерукий его не достал бы, даже если б во время прыжка высунул свою знаменитую руку.
И вот на четвертый день после смерти, когда все окончательно попрощались со своим родственником и односельчанином, Мустафа встал у гроба, дожидаясь своего часа, скорбный и вместе с тем нетерпеливый.
Дождавшись, он произнес короткую речь, полную траурного величия. Он изложил героическую жизнь Шаабана Ларбы, по прозвищу Колчерукий, от лошади к лошади, вплоть до последней воли. Вкратце для сведения молодежи, как он сказал, Мустафа напомнил подвиг с уводом жеребца, когда Колчерукий не побоялся прыгать с обрыва, мимоходом дав знать, что, если б побоялся, было бы еще хуже. Он сказал, что снова напоминает об этом не для того, чтобы упростить подвиг Колчерукого, а для того, чтобы молодежь лишний раз убедилась в преимуществе смелых решений.
И тут, согласно желанию покойника, а также своему желанию, он вновь громогласно обратился к присутствующим старцам и снова спросил, нет ли в прыганье через гроб греха.
— Греха нет, — ответили старцы, — потому что лошадь мяса не ест, у нее чистое дыхание.
После этого Мустафа отошел к коновязи, отвязал свою лошадь, вскочил на нее и, взмахнув камчой, ринулся сквозь коридор толпы к гробу.
Пока он отходил к коновязи, с той стороны гроба убрали все лишнее и отодвинули людей, чтобы лошадь на них не наскочила. Кто-то предложил прикрыть покойника плащ-палаткой, чтобы земля из-под копыт не сыпалась на него. Но один из старцев сказал, что в этом тоже греха нет, потому что покойник и так будет лежать в земле.
И вот, говорят, лошадь Мустафы доскакала до гроба и вдруг остановилась как вкопанная. Мустафа вскрикнул и огрел ее с обеих сторон камчой. Лошадь только крутила головой, скалилась, но прыгать никак не хотела.
Тогда Мустафа повернул ее на месте, галопом проскакал назад, слез, почему-то проверил подпруги и снова, как ястреб, ринулся на гроб. Но лошадь опять остановилась, и, сколько ни хлестал ее Мустафа, она так и не прыгнула, хотя и вставала на дыбы.
С минуту в напряженной тишине раздавалось только щелканье камчи и усердное сопенье Мустафы.
И тут, говорят, кто-то из старцев промолвил:
— Сдается мне, что лошадь через покойника не прыгает.
— Ну да, — вспомнил другой старец, — подобно тому, как хорошая собака не укусит хозяина, хорошая лошадь через покойника не прыгнет.
— Слезай, Мустафа, — крикнул кто-то из колхозников, — Колчерукий доказал тебе, что он лучше знает лошадей.
Тут, говорят, Мустафа повернул свою лошадь и, расталкивая толпу, молча выехал со двора. И тогда среди провожающих раздался такой взрыв хохота, какого не то что на похоронах, на свадьбе не услышишь.
Хохот был такой, что секретарь сельсовета, услышав его в сельсовете, говорят, выронил печать и воскликнул:
— Провалиться мне на месте, если Колчерукий в последний момент не выскочил из гроба!
Весело хоронили Колчерукого. Его загробная шутка на следующий день стала достоянием чуть ли не всей Абхазии. Вечером Мустафу все же уговорили прийти на поминальный ужин, потому что хотя прыгать через покойника не грех, но таить на покойника обиду все-таки считается грехом.
Когда умирает старый человек, в наших краях поминки проходят оживленно. Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории. Обычай не разрешает только напиваться до непристойности и петь песни. Хотя по ошибке кто-нибудь иногда и затянет застольную, но его останавливают, и он смущенно замолкает.
Когда умирает старый человек, мне кажется, вполне уместны и веселые поминки, и пышный обряд. Человек завершил свой человеческий путь, и, если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой.
А пышный обряд, если его не доводить до глупости, тоже возник не на пустом месте. Он говорит: свершилось нечто громадное — умер человек, и если он был хорошим человеком, это отметят и запомнят многие. И кто же достоин человеческой памяти, если не Колчерукий, который всю жизнь украшал землю весельем и трудом, а в последние десять лет, можно сказать, добрался и до своей могилы и ее заставил плодоносить, собирая с нее, как говорят, неплохой урожай персиков.
Согласитесь, что далеко не всякому удается собрать урожай персиков с собственной могилы, хотя многие и пытаются, но для этого им не хватает ни широты, ни отваги Колчерукого.
И да будет пухом ему земля, что, вероятно, вполне возможно, учитывая, что место ему выбрали хорошее, сухое, о чем он сам любил поговорить при жизни.
Юрий Казаков Адам и Ева
Художник Агеев жил в гостинице в северном городе, приехал сюда писать рыбаков. Город был широк. Широки были его площади, улицы, бульвары, и от этого казался он пустым.
Стояла осень. Над городом, над сизо-бурыми заволоченными изморосью лесами неслись с запада низкие, свисающие лохмотьями облака, по десять раз на день начинало дождить, и озеро поднималось над городом свинцовой стеной. Утром Агеев подолгу лежал, курил натощак, смотрел в окно. Струились исполосованные дождем стекла, крыши домов внизу сумрачно блестели, отражая небо. В номере тяжело пахло табаком и еще чем-то гостиничным. Голова у Агеева болела, в ушах не проходил звон, и сердце покалывало…
С детства был Агеев талантлив, и теперь, в двадцать пять лет, презрительно было его лицо, презрительны, тяжелы набрякшие коричневые веки и нижняя губа, ленив и высокомерен был взгляд темных глаз. Носил он бархатную куртку и берет, ходил сутулясь, руки в карманы, на встречных смотрел мельком, как бы не замечая их, так же взглядывал на все вообще, что попадалось ему на глаза, но запоминал все с такой неистребимой яркостью, что даже в груди ломило.
Делать ему в городе было нечего, и он то присаживался к столу в номере и держался за голову, то опять ложился, дожидаясь двенадцати часов, когда внизу открывался буфет. А дождавшись, нетвердой походкой спускался по лестнице, каждый раз с ненавистью глядя на картину в холле. Картина изображала местное озеро, фиорды, неестественно лиловые скалы с неестественно оранжевой порослью низких березок на уступах. На картине тоже была осень.
В буфете Агеев брал коньяку и, сведя глаза к переносью, боясь пролить, медленно выпивал. Выпивал — и, закурив, оглядывал случившихся в буфете, нетерпеливо ждал первого горячего толчка. Знал, что тут же станет ему хорошо и он будет все любить. Жизнь, людей, город и даже дождь.
Потом выходил на улицу и бродил по городу, раздумывая, куда бы ему поехать с Викой, и что вообще делать, и как дальше жить. Часа через два он приходил в гостиницу, и уже ему хотелось спать, он ложился и засыпал. А проснувшись, снова спускался вниз, в ресторан.
День уже кончался, за окном меркло, наступал вечер, в ресторане начинал играть джаз. Приходили крашеные девочки, садились парами за столики, жадно ели воскообразные отбивные, пили вермут, пахнувший горелой пробкой, танцевали, когда приглашал кто-нибудь, и на лицах их было написано счастье и упоения роскошной жизнью. Агеев с тоской оглядывал знакомый и чадный зал. Он ненавидел этих девочек, и пижонов, и скверных музыкантов, которые пронзительно дудели и стучали по барабану, и скверную еду, и здешнюю водку-сучок, которую буфетчица всегда не доливала.
В двенадцать ресторан закрывался, Агеев еле взбирался к себе на третий этаж, сопел, не попадая ключом в замочную скважину, раздевался, мычал, скрипел зубами и проваливался в черноту до следующего дня.
Так провел Агеев и этот день и на другой, к двум часам, пошел на вокзал встречать Вику. Он пришел раньше, чем надо, глянул мельком на перрон, на пассажиров с чемоданами и пошел в буфет. А ведь когда-то у него начинались бродяжья тоска и сердцебиение от одного вида перрона и рельсов.
Водку в буфете принесла ему высокая рыжая официантка.
— Гениальная баба! — пробормотал Агеев, восхищенно и жадно провожая ее взглядом. А когда она опять подошла, он сказал: — Хелло, старуха! Вы как раз то, что я искал всю жизнь.
Официантка равнодушно улыбалась. Это говорили ей почти все. Заходили в буфет на полчаса, бормотали что-то, по обыкновению пошлое, и уходили, чтобы никогда уже больше не увидеть ни этой станции, ни рыжей официантки.
— Я должен вас писать, — сказал Агеев, пьянея. — Я художник.
Официантка улыбалась, переставляя рюмки на его столе. Ей было все-таки приятно.
— Слышишь, ты! Я гениальный художник, меня Европа знает, ну?
— Художники нас не рисуют, — немного не по-русски выговорила официантка.
— Откуда ты знаешь? — Агеев посмотрел на ее грудь.
— О! Им надобятся рыбаки. И рабочие, стрел… стрелочники. Или у нас Ярви имеет островок и деревянная церковь. Они все едут туда, еду-ут… Москва и Ленинград. И все вот так, в беретах, да?
— Они идиоты. Так мы еще встретимся, а? — добавил он торопливо, слыша шум подходящего поезда. — Как тебя звать?
— Пожалуйста. Жанна, — сказала официантка.
— Ты что, не русская?
— Нет, я финка. Юонолайнен.
— Ух, черт! — пробормотал Агеев, допивая водку и кашляя.
Расплатившись, помял Жанне плечо. «Какая баба пропадает!» — думал он. И, прищурившись, смотрел на голубой экспресс, мелькавший вагонами уже мимо него. От напряжения, от мелькания вагонов у Агеева закружилась голова, и он отвернулся. «Не надо было пить», — рассеянно подумал он и вдруг испугался, что приезжает Вика, и закурил.
Народ шел уже с поезда на выход, Агеев вздохнул, бросил сигарету и стал искать Вику. Она первая увидала его и окликнула. Он оборотился и стал смотреть, как она подходит в черном ворсистом пальто. Пальто было расстегнуто, и коленки ее, когда она шла, толчками округляли подол платья.
Застенчиво подала она ему руку в сетчатой перчатке. Волосы ее выгорели за лето, были подстрижены, спутаны и падали на лоб. Из-под волос на Агеева испуганно глядели с татарским разрезом глаза, а рот был ал, туг, губы потресканы, сухи и полуоткрыты, как у ребенка.
— Здравствуй! — слегка задыхаясь, сказала она, хотела что-то добавить, может быть, заранее приготовленное, веселое, но запнулась, так и не выговорила ничего.
Агеев поглядел почему-то на прозрачный шарфик вокруг ее шеи, лицо его стало испуганно-мальчишеским, торопливо взял он у нее из рук лакированный чемодан, и они пошли от вокзала по широкой улице.
— Ты опух как-то… Как ты живешь? — спросила она и осмотрелась. — Мне тут нравится.
— А! — горловым неприятным звуком сказал он, как всегда говорил, когда хотел выразить свое презрение к чему-нибудь.
— Ты пьян? — Она сунула руки в карманы и наклонила голову. Волосы свалились ей на лоб.
— А! — опять сказал он и покосился на нее.
Вика была очень хороша, а в одежде ее, в спутанных волосах, в манере говорить было что-то неуловимое, московское, от чего Агеев уж отвык на севере. В Москве они встречались раза два, знакомы как следует, в сущности, не были, и приезд ее и отпуск, который — Агеев знал — нелегко ей достался, ее готовность — это он тоже чувствовал — ко всему самому плохому были как-то неожиданны и странны.
«Везет мне с бабами!» — с грубо-радостным удивлением подумал Агеев и нарочно остановился, будто надеть перчатки, чтобы посмотреть на Вику сзади. Она замедлила шаги, полуобернувшись к нему, посматривая вопросительно на него и в то же время оглядывая рассеянно прохожих и витрины магазинов.
Она была хороша и сзади, и то, что она не пошла вперед, а задержалась, вопросительно взглядывая на него и этим как бы выражая уже свою зависимость, — все это страшно обрадовало Агеева, хоть минуту назад он испытывал стыд и неловкость от того, что она приехала. Он понимал отдаленно, что и выпил только потому, чтобы не было так неловко.
— Я тебе привезла газеты… — сказала Вика, когда Агеев догнал ее. — Тебя ругают, знаешь? На выставке страшный шум, я ходила.
— А! — опять сказал он, испытывая в то же время глубокое удовольствие. — Колхозницу не сняли? — тут же с тревогой спросил он.
— Нет, висит… — Вика засмеялась. — Никто ничего не понимает, кричат, спорят, ребята с бородками, в джинсах, посоловели, кругами ходят…
— Тебе-то понравилась? — спросил Агеев.
Вика неопределенно улыбнулась, а Агеев вдруг разозлился, нахмурился и засопел, нижняя губа его выпятилась, темные глаза запухли, поленивели. «Напьюсь!» — решил он.
И весь день уже, как чужой, ходил с Викой по городу, зевал, на вопросы ее мычал что-то невнятное, ждал на пристани, пока она справлялась о расписании пароходов, а вечером, как ни просила его Вика, снова напился, заперся у себя в номере и, чувствуя с тонкой глубокой болью, что Вика одна у себя, что она расстроена, не знает, что делать, только курил и усмехался, И думал о рыжей Жанне.
Раза два принимался звонить телефон. Агеев знал, что это Вика, и трубку не снимал. «Иди пасись!» — злобно думал он.
На другой день Вика разбудила Агеева рано, заставила умыться и одеться, сама укладывала его рюкзак, вытаскивала из-под кровати этюдник и спиннинг, заглядывала в ящики стола, звенела пустыми бутылками и была решительна и бесстрастна. На Агеева она не обращала внимания.
«Прямо как жена!» — с изумлением думал Агеев, следя за ней. Морщась, он стал думать, как быстро приживаются женщины и как они умеют быть властными и холодными, будто сто лет с ней прожил.
Голова у него болела, он хотел спуститься в буфет, но вспомнил, что буфет закрыт еще, покашлял, покряхтел и закурил натощак. Ему было худо. Вика между тем успела расплатиться внизу и вызвала такси. «Черт с ним! — вяло думал Агеев, выходя на улицу и залезая в машину. — Пускай!» Он сел и закрыл глаза. Начинался утренний дождь, и это значило, что на весь день. Пошел даже снег. Мокрый и тяжелый, он падал быстро и темнел, едва успев коснуться мокрых крыш и тротуаров.
На пристани Агееву стало совсем плохо. Он задремал, изнемогая от тоски, не понимая, куда и зачем ему нужно ехать, слыша сквозь дрему, как свистит, погукивает ветер, шлепает о причал вода, как возникают на высокой ноте, долго трещат и затихают потом моторки. Вика тоже погрустнела и озябла. От недавней ее решительности не осталось и следа, она сидела рядом с Агеевым, беспомощно осматриваясь, — поникшая, в узких коротких брюках, по-прежнему с непокрытой головой. Ветер трепал, сваливал на лоб ей волосы, и было похоже, будто она получила телеграмму и едет на похороны.
«Брючки надела, — желчно думал Агеев и закрывал глаза, стараясь поудобней приладиться у фанерной стены. — Ну куда меня черт несет? Ай-яй-яй, до чего плохо!»
Они еле дождались своего парохода, с нетерпением смотрели, как он подваливает, шипит паром, стукает, скрипит о причал, отдирая от причального бруса белую щепу.
Но и на пароходе Агееву не стало легче. Где-то внизу благодатно клокотало и бурлило, ходили в горячем масле желтые поршни, было тепло, а каюта на носу была мрачна, холодна и застарело пахла. За стеной гудел ветер, волна плескала в борт, стекло нервно звякало, пароход покачивало. За окном смутно, медленно тянулись бурые, уже сквозящие леса, деревни, потемневшие от дождей, бакены и растрепанные вешки. Агеева знобило, и он вышел из каюты.
Побродив по железному рубчатому настилу нижней палубы, он примостился возле машинного отделения, недалеко от буфета. Этот буфет тоже не открылся еще, хотя на камбузе варили уже соленую треску и оттуда вонюче пахло. Агеев забрался с ногами на теплый железный рундук, облокотился на березовые дрова с лоснящейся атласной корой и стал слушать мерные вздохи машин, шум плиц за бортом, нестройный говор пассажиров. Как всегда, те, кого недавно провожали, не затихли еще, не успокоились, горланили, острили, а на корме играли на гармошке, громко топали по железу палубы, вскрикивали: «Эх! Эх!»
У крана с кипятком заваривали чай в кружках и чайниках и пили, отламывая от батонов, сидя прямо на узлах, на чемоданах, в тепле, покойно поглядывая на озеро, по которому ветер гнал беспорядочную темную волну. Женщины разматывали платки, причесывались, ребятишки играли уже, бегали и возились.
Желто засветились лампы в матовых колпаках, и сразу снаружи стало еще темней и холодней. Агеев лениво поводил глазами, оглядывался. Проходы были завалены мешками с картошкой, корзинами, кадками с огурцами, какими-то тюками. И народ был все местный, добирающийся до какой-нибудь Малой Губы. И разговоры были тоже местные: о скотине, о новых постановлениях, о тещах, о рыбодобыче, о леспромхозах и о погоде.
«Ничего! — думал Агеев. — Один только день, а там остров, дом какой-нибудь, тишина, одиночество… Ничего!»
Буфет наконец открылся, и тотчас пробралась и подошла к Агееву Вика. Она печально посмотрела на него и улыбнулась.
— Хочешь выпить, бедный? — спросила она. — Ну, иди выпей!
Агеев пошел, принес четвертинку, хлеба и огурцов. Вика тоже забралась на рундук и встретила его внимательным, тревожным взглядом. Агеев сел рядом, отколупнул пробку, выпил и захрустел огурцом, чувствуя, как отмякает у него на душе, и с некоторым оживлением поглядывая на Вику.
— Ешь! — сказал он невнятно, и Вика тоже стала есть.
— Объясни мне, что с тобой? — спросила она немного погодя.
Агеев еще выпил и подумал. Потом закурил и поглядел на Викину свешенную замшевую туфельку.
— Просто грустно, старуха, — сказал он тихо. — Просто, наверно, я бездарь и дурак. Пишу, пишу, а все говорят: не так, не то… Как это? Незрелость мировоззрения! Шаткая стезя! Чуждое народу!.. Будто за их плечами весь народ стоит, одобрительно головой кивает, а?
— Глупый! — нежно сказала Вика, вдруг засмеялась и положила ему голову на плечо.
От волос ее пахло горько и непонятно. Агеев потерся щекой о ее волосы и зажмурился.
Она вдруг стала ему близка и дорога. Он вспомнил, как в первый раз поцеловал ее в Москве, в коридоре, в гостях у приятеля-художника. Он был тогда выпивши и весел, она как-то удивленна и тиха, и они долго говорили на кухне, вернее, он говорил ей, что он гений, а все подонки, а потом пошли в комнаты, и в коридоре он ее поцеловал и сказал, что страшно любит.
Она не поверила, но задохнулась, покраснела, глаза ее потемнели, губы пошершавели, она заговорила, засмеялась с девчонками, которые там были, а на него больше не посмотрела. Он тоже пристал к ребятам, стал смотреть и говорить о рисунках, и они с Викой сидели в разных комнатах.
Вика говорила, смеялась с подругами, с кем-то, кто входил и выходил, и все время чувствовала, что счастлива, потому что в другой комнате сидел в кресле и тоже говорил с кем-то он. Она после призналась ему в этом.
Да, это хорошо вдруг потом, где-то на севере, вспомнить недавний, но в то же время уже навсегда ушедший вечер. Это значит, что у них есть история. Они еще не любят друг друга по-настоящему, ничем не связаны, еще встречаются с кем-то, кто был у них раньше, еще не знали ночей, не известны друг другу, но у них есть уже прошлое. Это очень хорошо.
— Серьёзно! — сказал Агеев. — Я все думал о своей жизни. Знаешь, паршиво мне было без тебя тут, дождь льет, идти некуда, сидишь в номере или в ресторане пьяный, думаешь… Устал я. Студентом был, думал — все переверну, всех убью картинами, путешествовать стану, жить в скалах. Этакий, знаешь, Рокуэлл Кент. А как до диплома дошло, так и понеслось: и такой и сякой, подлец! Как накинулись учить, собаки, так и не отстают. Чем дальше, тем хуже. Ты и абстракционист, и неореалист, и формалист, и шатания у тебя всякие… Ну-ка, погоди!
Он отодвинулся слегка от Вики и еще выпил. Голова болеть перестала, хотелось говорить, и думать, и сидеть так долго, потому что рядом сидела Вика и слушала.
Агеев сбоку глянул ей в лицо — оно было оживленно и серьезно, глаза под пологом ресниц были длинны и черны. Агеев присмотрелся — они были все-таки черны, а губы шершавы, и у Агеева забилось сердце. А Вика совсем забралась с ногами на рундук, расстегнула пальто, оперлась подбородком на колени и стала снизу смотреть в лицо Агееву.
— Лицо у тебя плохое, — сказала она и потрогала его за подбородок. — Небрит, почернел весь.
— Занюханный я какой-то, — усмехнулся он и загляделся на озеро. — Все думаю о Ван-Гоге и о себе… Неужели же и мне надо подохнуть, чтобы обо мне заговорили серьезно? Неужели мой цвет, мой рисунок, мои люди хуже, чем у этих конъюнктурщиков? Надоело!
— Конъюнктурщики тебя не признают, — быстро, как бы между прочим, сказала Вика.
— Ну?
— Так… Я знаю. Потому что признать тебя — значит признать, что сами они всю жизнь делали не то.
— А! — Агеев помолчал и стал закуривать. Он долго курил, глядя себе под ноги, растирая желтое лицо. Щетина трещала у него под пальцами. — Три года! — сказал он. — Иллюстрации беру, чтоб денег заработать. Три года как кончил институт, и всякие подонки завидуют: ах, слава, ах, Европа знает… Идиоты! Чему завидовать? Что я над каждой картиной… Что у меня мастерской до сих пор нет? Пишешь весну — говорят: не та весна! Биологическая, видишь ли, получается весна. А? На выставку не попадешь, комиссии заедают, а прорвался чем-то не главным — еще хуже. Критики! Кричат о современности, а современность понимают гнусно. И как врут, какая демагогия за верными словами!
— И ни одного верного слова о тебе не было? — задумчиво спросила Вика, отломила березовую щепку и стала грызть.
— Ты! — Агеев побледнел. — Студенточка! Ты еще в стороне, ты с ними не сталкивалась, книжечки, диамат, практика… А они, когда говорят «человек», то непременно с большой буквы. Ихнему проясненному взору представляется непременно весь человек — страна, тысячелетия, космос! Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы. За миллионы прячутся, а мы, те, кто что-то делает, мы для них пижоны… Духовные стиляги — вот кто мы! Геро-оика! — противно произнес Агеев и засмеялся. — Ма-ассы! Вот они массы, — Агеев кивнул на пассажиров. — А я их люблю, мне противно над ними слюни пускать восторженные. Я их во плоти люблю — их руки, их глаза, понятно? Потому что они землю на себе держат. В этом вся штука. Если каждый хорош, тогда и общество хорошо, это я тебе говорю! Я об этом день и ночь думаю. Мне плохо, заказов нет, денег нет, черт с ними, не важно, но я все равно прав, и пусть не учат меня. Меня жизнь учит — и насчет оптимизма и веры в будущее и вот в эти самые массы, я всем критикам сто очков вперед дам!
Агеев засопел, ноздри у него раздувались, глаза помутились.
— Не надо бы тебе пить… — тихо сказала Вика, жалобно глядя на него снизу вверх.
— Погоди! — сипло попросил Агеев. — Что-то у меня… астма, что ли? До конца не вздохнуть никак.
Он раскурил погасший окурок, но, затянувшись, закашлялся, бросил окурок и, спустив ногу, растоптал его. Поглядев на Вику, поморщился.
— Пусти-ка, пойду спать! — Он злобно прищурился, слез с рундука и пошел в каюту.
Пока они говорили, на пароходе включили отопление, в каюте стало тепло, окно запотело. Агеев сел к окну, протер стекло рукавом, левое веко у него стало прыгать. Спасение его было сейчас в Вике, и он знал это. Но что-то в ней приводило его в бешенство. Приехала… Свежая, красивая, влюбленная. Ах, черт! Зачем, зачем обязательно что-то доказывать? И кому? Ей! А у нее небось ноги отнимались, к сердцу подкатывало, когда ехала — думала о первой ночи, о нем, прижаться к нему, хотелось, к черту пьяному. Ай-яй-яй! И было бы, было, если бы сразу согласилась с ним, сказала бы: «Да! Ты прав!» С ума бы сошел, увез бы в фиорды, в избушку, у окошка бы посадил, а сам с холстом. Личико крохотное, глаза длинные, волосы выгоревшие, кулачком подперлась… Может, в жизни бы лучше ничего не написал! Ай-яй-яй!..
Он стал раздеваться, и ему стало до слез жалко себя и одиноко. «Ну ничего! — подумал он. — Ничего! Не впервые!» И даже передергивало всего, когда вспоминал, что наговорил ей. Молчать нужно, дело делать!
Раздевшись, залез на верхнюю полку, отвернулся к стене и долго ерзал по глянцевитой наволочке, стараясь лечь поудобней, но все никак не мог.
К острову пароход подходил вечером. Глухо и отдаленно сгорела кроткая заря, стало смеркаться, пароход шел бесчисленными шхерами. Уже видна была темная многошатровая церковь, и пока пароход подходил к острову, церковь перекатывалась по горизонту то направо, то налево, а однажды оказалась даже сзади.
У Вики было упрямое, обиженное лицо. Агеев посвистывал и безразлично смотрел по сторонам на плоские островки, на деревни и с некоторым интересом рассматривал великолепные, похожие на варяжские ладьи, лодки.
Когда совсем подошли к острову, стала видна ветряная мельница, прекрасная старинная изба, амбарные постройки — все пустое, неподвижное, музейное. Агеев усмехнулся.
— Как раз для меня, — пробормотал он и поглядел на Вику с веселой злостью. — Как раз, так сказать, на передний край семилетки, а?
Вика промолчала. Лицо у нее теперь было обтянутое, и будто она приехала сюда сама по себе, будто все это давно предполагалось и так и должно было быть.
Никто не сошел на этом островке, кроме них двоих. И никого не было на деревянной открытой пристани, одна сторожиха с зажженным фонарем, хоть было еще светло.
— Ну вот. Теперь мы с тобой как Адам и Ева, — опять усмехнулся Агеев, ступая на сырую дощатую пристань.
И опять Вика ничего не сказала в ответ.
На берегу показалась женщина в ватнике и сапогах, она еще издали заулыбалась.
— Только двое? — весело крикнула она и заспешила навстречу, переводя взгляд с Агеева на Вику. А когда подошла, взяла чемодан у Вики и заговорила — показалось, что она давно ждала их. — Вот и славу богу, — быстро и ласково говорила она, поднимаясь вверх по берегу. — А я уж думала, никого в этом году не будет, все кончилось. Зимовать собралась. А вот и вы. Пойдемте в нашу гостиницу.
— В гостиницу? — спросил Агеев неприятным своим голосом.
Хозяйка засмеялась.
— Вот и все удивляются, а я уж второй год тут живу. Мужик был, да помер, одна теперь. Гостиница! Для экскурсантов, художников. Тут их много летом наезжает, живут себе, рисуют.
Агеев вспомнил свою гостиничную тоску, вздохнул, сморщился. Он хотел пожить в избе, в домишке каком-нибудь, где пахло бы коровой, сенями, чердаком.
Но гостиница оказалась уютной. Была печка на кухне, были три комнаты — все пустые, и была еще одна странная комната: резные в древнерусском стиле колонки посредине, поддерживающие потолок, и большие современные окна во всю стену до полу, на три стороны — как бы стеклянный холл.
Во всех комнатах стояли пустые кровати с голыми сетками и голые шершавые тумбочки.
Агеев и Вика поселились в комнате с печкой, окном на юг. На стенах висели акварели в рамках. Агеев глянул и повел губой. Акварели были ученические, старательные, на всех написаны были церковь или мельница.
Хозяйка начала носить в комнату простыни, подушки, наволочки, и хорошо запахло чистым бельем.
— Вот и живите! — с удовольствием говорила она. — Вот и хорошо! Надолго ли приехали? А то скучно. Летом хорошо, художники веселые, а теперь одна, считай, на всем острове.
— А как тут питаться? — спросила Вика.
— Не пропадете! — радостно отозвалась хозяйка откуда-то из коридора. — На другом конце острова у нас деревня, там молока или чего… А то магазин еще на Пог-Острове, на лодке можно. Вы откуда же, из Ленинграда?
— Нет, из Москвы, — сказала Вика.
— Ну и хорошо, а то у нас все ленинградцы. Дрова у меня есть, чурки, обрезки, этим летом церкву реставрировали, так много материалу осталось. И ключи у меня от церкви, когда захотите, скажете, я отомкну.
Хозяйка ушла, а Вика со счастливой усталостью повалилась на кровать.
— Нет, я не могу! — сказала она. — Это гениально!
Милый ты мой Адам, это просто гениально! Ты любишь жареную картошку?
Агеев хмыкнул, повел губой и вышел. Он потихоньку обошел вокруг погоста, окружавшего церковь. Совсем стемнело, и, когда Агеев шел с восточной стороны, церковь великолепным силуэтом возвышалась над ним, светясь промежутками между луковицами куполов и пролетами колокольни. Однообразно, равномерно потрюкивали две птицы в разных местах. Пахло сильно травой и осенним холодом.
«Ну вот и конец света!» — подумал Агеев, пройдя мимо церкви по берегу озера. Потом спустился на пристань, присел на сваю и стал смотреть на запад. Метрах в двухстах от этого был еще остров — низкий, поросший ивовыми кустами и совершенно пустой. А за ним еще остров, а там, видимо, была деревня: сквозь кусты просвечивал далекий случайный огонек. Немного погодя в той стороне возник высокий, напряженный звук моторки, долго не утихал и оборвался внезапно, несколько раз хлопнув.
Агееву было одиноко, но он сидел и сидел, покуривая, привыкая к тишине, к чистому запаху осенней свежести и воды, думая о себе, о своих картинах, о том, что он мессия, великий художник, и что он сидит в одиночестве черт знает где, в то время как разные критики живут в Москве на улице Горького, сидят сейчас с девочками в ресторанах, пьют коньяк, едят цыплят-табака и, вытирая маслянистые рты, говорят разные красивые и высокие слова, и все у них лживо, потому что думают они не о высоком, а как бы поспать с этими девочками. А утром эти критики, перешибая похмелье кофеем и сердечными каплями, пишут про него статьи и опять врут, потому что никто не верит в то, что пишет, а думает только, сколько он за это получит, и никто из них никогда не сидел вот так в одиночестве на сырой свае и не смотрел на пустой темный остров, готовясь к творческому подвигу.
От этих мыслей Агееву становилось горько и приятно, в них была какая-то едкая сладость, и он любил так думать и думал часто.
То он принимался вдруг мысленно напевать неизвестно почему пришедший ему на память романс старухи графини из «Пиковой дамы». И эта мертвенная музыка, как он слышал ее где-то глубоко со всем оркестром, с мрачным тембром кларнетов и фаготов и томительными паузами, — музыка эта начинала ужасать сто, потому что это была смерть.
То ему вдруг остро, до боли, как воздуха, захотелось услышать запах чая — не заваренного, не в стакане, а запах сухого чая. Ему тотчас вспомнилась, пришла из детства и чайница из матового стекла с трогательным пейзажиком вокруг, и как он мечтал пожить в домике с красной крышей, и как открывала и сыпала туда мать с тихим шуршанием чай, как пахло тогда и как опалово-мутная чайница наполнялась темным.
Тотчас вспомнил он и мать, ее к нему любовь, всю жизнь ее как бы в нем, для него. И себя самого — такого быстрого, подвижного, с такими приступами беспричинной радости и живости, что далее не верилось теперь, что он мог быть когда-то таким.
И с запоздалой болью он думал о том, как часто был груб с матерью, невнимателен, нечуток к ней, как часто не хотел слушать ее рассказы о детстве, о каком-то давно прошедшем, исчезнувшем времени, пока можно было слушать. Как часто в ребяческой эгоистичности не мог понять и оценить той постоянной любви, какой уж не ощущал он потом никогда в жизни.
А вспомнив все это, он тотчас усомнился в себе и подумал, что, может быть, и правы все его критики, а он не прав и делает вовсе не то, что нужно. Он думал, что всю жизнь не хватало, наверное, ему какой-то основной идеи — идеи в высшем смысле. Что слишком часто он был равнодушен, вял и высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом. И это в такое-то время!
С бессильным ожесточением вспоминал он все свои споры еще со студенчества — с художниками, с искусствоведами, со всеми, кто не принимал его картин, его рисунка, его цвета. Он думал теперь, что потому не может убедить их, разбить и доказать свое мессианство, что не одухотворен идеей. А какой же пророк без идеи?
Так он долго сидел и слышал, как Вика вышла из дому, прошла немного к берегу по деревянным мосткам, постояла, осматриваясь, тихо позвала его. Он не отозвался и не шевельнулся. А ведь он уже любил ее, у него сердце билось, когда он думал о ней! Он и она, как Адам и Ева, на темном пустом острове, наедине со звездами и водой — и не просто же она приехала, и как, наверно, тосковала одна в номере гостиницы, когда он напился и ушел, бросил ее!
Горькая отчужденность, отрешенность от мира сошли на него, и он не хотел ничего и никого знать. Он вспомнил, что больные звери скрываются, забиваются в недоступную глушь и там лечатся какой-то таинственной травой или умирают. Он пожалел, что теперь осень и холодно, что он в сапогах, в свитере, а то найти бы уголок на этом или на другом острове, где скалы, и песочек, и прозрачная вода, лежать бы целыми днями на солнце и ни о чем не думать. И ходить босиком. И ловить рыбу. И смотреть на закаты.
Он почувствовал, что безмерно устал — устал от себя, от мыслей, от разъедающих душу сомнений, от пьянства — и что совсем болен.
«На юг бы мне, на юг, к морю…» — тоскливо подумал он и встал. Сойдя с пристани, отвернувшись от озера, он опять увидал древнюю большую церковь и маленькую гостиницу, приютившуюся подле. В гостинице хорошо светились окна, тогда как церковь была темна, замкнута и чужда ему. Но что-то в церкви этой было властное, вызывающее мысли о гениальном народе, об истории — еще о покое, уединении.
— Сег-Погост, — вспомнил Агеев название острова и церкви. — Сег-Погост!
Он поднялся к дому, взошел на крыльцо и еще постоял, оглядываясь, стараясь угадать во тьме то, что столько веков жило без него своей жизнью — настоящей жизнью земли, воды и людей. Но ничего не мог разглядеть, кроме тусклого сияния массы воды вокруг, кроме редких космически светящихся клоков неба в разрывах облаков. Тогда он вошел в дом.
Комната была озарена керосиновой лампой. Гудела, трещала печка, пахло жареной картошкой. Раскрасневшаяся Вика хозяйничала, комната приобрела милый, обжитой вид во всем: в кофточках, в платьях, повешенных и брошенных на кровать, в черных перчатках на тумбочке, в пудренице с молнией — во всем чувствовалось присутствие молодой женщины, и пахло духами.
— Где ты был? — протяжно спросила Вика и подрожала бровью. — Я тебя искала.
Агеев промолчал и пошел на кухню мыться. На кухне он некоторое время разглядывал в зеркальце свою щетину, подумал и бриться не стал, умылся только, с удовольствием звякая умывальником, вытерся мохнатым теплым полотенцем, вернулся в комнату, лег на кровать, положил ноги в сапогах на спинку, потянулся и закурил.
— Садись есть, — сказала Вика.
Ели молча. Видно было, что Вике здесь страшно нравится, и только одно было неприятное — Агеев. На печке шумел, посвистывал чайник.
— У тебя большой отпуск? — спросил вдруг Агеев.
— Десять дней, — сказала Вика и вздохнула. — А что?
— Так…
«Три дня уже прошло», — подумал Агеев.
И снова надолго замолчали. Напившись чаю, стали ложиться. Вика горячо покраснела и отчаянно посмотрела на Агеева. Он отвел глаза и нахмурился. Потом встал, закурил и подошел к окну. Он тоже покраснел и рад был, что Вика не видит. Сзади что-то шелестело, шуршало, наконец Вика не выдержала и попросила умоляюще:
— Погаси свет!
Не взглянув на нее, Агеев задул лампу, быстро разделся, лег на кровать и отвернулся к стене. «Попробуй приди!» — думал он. Но Вика не пришла, она легла и замерла, даже дыхания не стало слышно.
Прошло минут двадцать, а они не спали, и оба это знали. В комнате было темно, в окно виднелось черное небо. Стал задувать ветер за стеной. Вдруг занавеска на окне осветилась на короткое мгновение. Агеев подумал было, что кто-то снаружи провел по стене дома, по занавеске лучом фонарика, но еще через три-четыре секунды мягко заворчал гром.
— Гроза! — тихо сказала Вика, села и стала смотреть в темное окно. — Осенняя гроза.
Опять мигнуло и заворчало, потом ветер улегся, и тут же пошел сильный дождь, и в водосточной трубе загудело.
— Дождь, — сказала Вика. — Я люблю дождь. Я люблю думать, когда дождь.
— Ты можешь помолчать? — Агеев закурил и поморгал: глазам было горячо.
— А знаешь что? Я уеду, — сказала Вика, и Агеев почувствовал, как она ненавидит его. — С первым же пароходом уеду. Ты просто эгоист. Я эти два дня все думала: кто же ты? Кто? И что это у тебя? А теперь знаю: эгоист. Говоришь о народе, об искусстве, а думаешь о себе — ни о ком, о себе… Никто тебе не нужен. Противно! Зачем ты меня звал, зачем? Знаю теперь: поддакивать тебе, гладить тебя, да? Ну нет, милый, поищи другую дуру. Мне и сейчас стыдно, как я бегала в деканат, как врала: папа болен…
Вика громко задышала.
— Замолчи, дура! — сказал Агеев с тоской, понимая, что все кончилось. — И пошла вон, и уезжай, катись отсюда!
Агеев поднялся, подсел к окну, уперся локтями в тумбочку. Дождь еще шел, под окном было что-то большое, темное, дрожащее, и Агеев долго вглядывался и соображал, пока не понял, что это лужа. Ему захотелось заплакать, поморгать, вытереть слезы рукавом, как в детстве, но плакать он давно не мог.
Вика легла, уткнулась в подушку, всхлипывала и задыхалась, а Агеев сидел не шевелясь, разминая, кроша в пепельнице окурки и спички. Сначала ему все было омерзительно и безразлично. Его даже ломать начало от дрожи и тоски. Теперь это прошло, он как бы вознесся куда-то, отрешился от всего мелкого, и ему стало всех жалко, он стал тихим и грустным, потому что чувствовал непреоборимость всей людской массы. И все-таки в душе у него, очень глубоко, все кипело, было горячо и больно, и он не мог снисходительно улыбаться или отделаться своим противным «А!» — он должен был сказать что-то.
Но он ничего не сказал, он подумал… Хотя, в сущности, ничего не думал, а просто побыл в тишине, поглядывая за окно на темную дрожащую лужу. В нем трепетало и звенело что-то, как во время болезни, при температуре, он увидел перед собой бесчисленную вереницу зрителей, которые молча шли по залам и на лицах которых было написано что-то загадочное, что-то неуловимое и скорбное. Он еще остановился внутренним взглядом на этом, на скорбности, и подумал: «Почему скорбное, что-то я не так думаю», — но тотчас отвлекся и стал думать о высшем, о самом высшем, о высочайшем, как ему казалось.
Он думал, что все равно будет делать то, что должен делать. И что его никто не остановит. И что это ему потом зачтется.
Он встал, не одеваясь, с набухшими на висках жилами, вышел на крыльцо. На крыльце он стоял и плевался, почему-то был полон рот сладкой слюны, она все собиралась во рту, и он плевался, а в горле стоял комок и душил его.
— Все кончено! — тихо бормотал он. — К чертовой матери! Все кончено!..
Весь следующий день Агеев провалялся, отвернувшись к стене. Он засыпал, просыпался, слышал, как ходила по комнате и вокруг дома Вика. Она звала его завтракать, обедать, но он лежал, злобно сжав зубы и не открывая глаз, пока не засыпал опять в каком-то отупении.
Но к вечеру стало уже невозможно лежать, заныло тело, и он поднялся. Вики не было, и Агеев пошел к хозяйке.
— Дай-ка, тетя, мне ключ от лодки, — попросил он. — В магазин надо сплавать за папиросами…
Хозяйка дала ему ключ, сказала, где взять весла, и показала, куда плыть.
Навстречу Агееву дул ветер, весла были тяжелые, неудобные, тяжелой была и лодка, такая красивая с виду, и Агеев успел стереть себе ладони, пока добрался до другого острова.
Он купил папирос, бутылку водки и закуску и пошел назад к мосткам. Он шел уже влажным лугом, когда догнал его приземистый кривоногий рыбак в зимней шапке, с красным лицом.
— Здорово, браток! — сказал рыбак, поравнявшись и оглядывая Агеева. — Художник? С Сег-Погоста?
Обеими руками рыбак осторожно нес газетные кульки, из карманов телогрейки торчало у него по бутылке водки.
— А мы сегодня гуляем! После бани, — радостно сообщил он, будто давний знакомый. — Выпьем на дорогу?
Рыбак косолапо перешагнул в свою лодку с ярко-зеленой крышкой подвесного мотора, положил там кульки, вынул бутылки, которых у него оказалось четыре — две были в карманах брюк, — две положил осторожно в нос на брезент; одну тут же открыл, нашел, пошарив, баночку, сполоснул ее за бортом и налил Агееву, Агеев тут же выпил и стал закусывать печеньем. Рыбак налил себе и вылез на мостки.
— Будем знакомы! — весело сказал он. — Давно тут?
— Вчера приехал, — сказал Агеев, с наслаждением разглядывая рыбака.
— Церкву рисовать? — спросил рыбак и подмигнул.
— Чего придется.
— А то приезжай к нам в бригаду, — предложил рыбак, быстро хмелея. — Баба у тебя есть? Бабы у нас… — рыбак растопырил руки, — во! Понял? Всех перерисуешь, понял?
Он шагнул опять в лодку, достал недопитую бутылку, снова налил Агееву.
— Допьем?
— Да у меня своя есть, — сказал Агеев и достал тоже бутылку.
— Твою будем пить, когда приедешь, — сказал рыбак. — К нам недалече, ты только скажи, мы за тобой на моторке приедем, мы художников любим, ребята ничего. У нас один профессор ленинградский жил, говорил, в жизни, говорит, таких людей, как у вас, нету! — Рыбак захохотал. — Мы тебя ухой кормить будем. Сиг рыба, знаешь? У нас весело, девки как загогочут, так на всю ночь, весело живем!
— А вы где ловите-то? — спросил Агеев улыбаясь.
— Ловим на Кижме-Острове, да ты не боись, мы за тобой сами придем. А так, коли сам надумаешь, так спроси степановскую бригаду, это я, Степанов-то, понял? Как из салмы выйдешь, налево забирай, мимо маяка, увидишь остров, к нему и правь. А там скажут.
— Обязательно приеду! — радостно сказал Агеев.
— Во-во! Валяй! Ты меня уважаешь? По человечеству! А? Ну и все! И все… Договорились? И все! Прощай покуда, побегу, ребята дожидают…
Он перелез в свою лодку, отвязал ее, оттолкнулся, завел мотор. Мотор тонко зажужжал, рыбак кинулся в нос, но нос все равно задрался: шпагатом, привязанным к румпелю, рыбак выправил лодку на глубокое и полетел, оставляя за собой белопенную дугу на воде.
Посмеиваясь, Агеев сел в свою лодку и тронулся обратно. Теперь он сидел лицом к закату и невольно приостанавливался, отдыхал, рассматривал краски на воде и в небе. На полпути к Сег-Погосту был маленький островок, и, когда Агеев обогнул его, ветер улегся, и вода приняла вид тяжелого неподвижного золота.
В полной тишине, в безветрии Агеев положил весла и оглянулся на церковь. С востока почти черной стеной встала дождевая туча, с запада солнце лило свой последний свет, и все освещенное им — остров, церковь, старинная изба, мельница — казалось, по сравнению с тучей, особенно зловеще красным. Далеко на горизонте, откуда шла туча, темными лохмами повисал дождь, и там траурно светилась огромная радуга.
Агеев поудобнее устроился в лодке, еще выпил и, закусывая, смотрел на церковь. Солнце садилось, туча надвигалась, почти все было закрыто ею, дождь приблизился и шел уже над Сег-Погостом. Лодка едва заметно подвигалась по течению.
Но вокруг Агеева еще было все тихо и неподвижно, а на западе горело небо, широкой полосой туманной красоты раскинувшееся вокруг заходящего солнца.
Агеев рассматривал церковь, и ему хотелось рисовать. Он думал, что, конечно, ей не триста лет, а неизмеримо больше, что она так же стара, как земля, как камни. И еще у него из головы не выходил веселый рыбак, и его тоже хотелось Агееву рисовать.
Когда же он повернулся к западу, солнце уже село. Пошел наконец дождь. Агеев натянул на голову капюшон и взялся за весла. Дождь почему-то принялся теплый, крупный, веселый, и сильно играла рыба, пока Агеев греб.
Подойдя на всем ходу к пристани, Агеев увидал Вику. Она неподвижно стояла под дождем в накинутом прозрачном плаще и смотрела, как Агеев зачаливает и замыкает на замок лодку, как берет весла и сумку с покупками, как сует в карман бутылку.
«Смотри, смотри!» — весело думал Агеев, молча направляясь к гостинице.
Вика осталась на пристани. Она не оглянулась на Агеева, а смотрела на озеро, на закат под дождем.
Войдя в теплую комнату, Агеев увидел, что вещи Вики убраны и у порога стоит чемодан. «А-а!» — сказал Агеев и лег на кровать. По крыше шумел дождь. Агееву было приятно и равнодушно после выпивки, он закрыл глаза и задремал. Очнулся он скоро, еще не стемнело, но дождь кончился, небо очистилось и холодно, высоко сияло.
Агеев позевал и пошел к хозяйке. Взяв у нее ключи от церкви, он вошел за деревянную стену, окружавшую погост, прошел между могилами, отпер дверь колокольни и стал подниматься по темной, узкой, скрипучей лестнице.
Пахло галочьим пометом и сухим деревом, было темно, но чем выше, тем становилось светлее и воздух чище. Наконец Агеев выбрался на площадку колокольни. Сердце его слегка замирало, ноги ослабли от ощущения высоты.
Сперва он увидал небо в пролеты, когда выбирался из люка на площадку, — небо наверху с редкими пушистыми облачками, с первыми крупными звездами, со светом в глубине, с синими лучами давно затаившегося солнца.
Когда же он взглянул вниз, то увидел другое небо, такое же громадное и светлое, как верхнее: неизмеримая масса воды вокруг, до самого горизонта, во все стороны, сияла отраженным светом, и островки на ней были как облака.
Агеев как сел на перила, обхватив рукой столбик, так больше и не шевельнулся до темноты, пока не выступило во всей своей жемчужности созвездие Кассиопеи, а потом, уже спустившись, долго ходил вокруг церкви по дорожке, поглядывая на нее так и сяк, и вздыхал.
Когда он пришел домой, опять трещала печка, Вика готовила ужин, но была тиха и далека уже от него.
— Скоро пароход придет? — спросил Агеев. — Ты узнавала?
— В одиннадцать, кажется, — помолчав, сказала Вика.
У Агеева дрогнуло в душе, сдвинулось, он хотел что-то сказать, спросить, но промолчал, вытащил из-под кровати этюдник и стал раскладывать по подоконнику и по кровати картон, тюбики с красками, бутылочки со скипидаром, стал перебирать кисти, сколачивать подрамники. Вика поглядывала на него с изумлением.
Ужинать сели молча, как в первый раз, посмотрели друг другу в глаза. Агеев увидел Викины сухие губы, лицо ее, вдруг такое дорогое, у него опять дрогнула сердце, и он понял, что пришла пора прощаться.
Он достал из-под кровати водку, налил себе и Вике.;
— Ну что ж… — сказал он хрипло и покашлял. — : Выльем на разлуку!
Вика Не стала пить, поставила стопку на стол, откинулась и так, откинувшись, из-под полуопущенных век посмотрела на Агеева. Лицо ее дрожало, билась какая-то жилка на шее, губы шевелились, Агеев даже не мог смотреть на это. Ему стало жарко. Он встал, открыл окно, выглянул наружу, подышал ночным крепким воздухом.
— Дождя нет, — сказал он, вернувшись к столу, и еще выпил. — Нету дождя.
— Тебе денег не надо? — спросила Вика. — У меня есть лишние. Я ведь много взяла, думала… — Вика покусала губы, жалко улыбнулась.
— Нет, не надо, — сказал Агеев. — Я теперь пить брошу.
— И все-таки ты не прав, — горько сказала Вика. — Ты просто болен. Брось пить, и все станет хорошо.
— Ну? — Агеев усмехнулся. — И сразу персональная выставка, да? Привет! — сказал он и еще выпил. — И конъюнктурщики сразу поймут, что они не художники, да?
— Где ты был вечером? — спросила Вика, помолчав.
— Там… — неопределенно махнул рукой Агеев. — Наверху! У бога.
— Ты не скоро приедешь в Москву? — опять спросила Вика, глядя на разбросанные по комнате краски, кисти и подрамники.
Агеев потянулся, зевнул, лег и закурил. Грудь его дышала свободно, в пальцах покалывало, как всегда, когда ему хотелось работать.
— Да нет, — сказал он, воображая рыбачек, с которыми познакомится, их ноги, их груди. И глаза. И как они работают, как стискивают зубы, когда красными руками тащат сети. — Через месяц, наверно. Или того позже. Попишу тут рыбаков. И воду. — Он помолчал. — И небо. Вот так, старуха!
Вика вышла послушать, не подходит ли пароход.
— Нет, еще рано, — сказала она, вернувшись, и стала смотреться в зеркало. Подумав, она достала из чемодана косынку, покрыла голову и завязала под подбородком. Потом села и сжала руки в коленях. Она сидела и молчала, низко опустив голову, будто на вокзале, будто Агеев был ей незнаком, — мысли ее были где-то далеко. Косыночка ее была прозрачна, сквозь нее золотисто проступали волосы. Агеев лежал, скосив глаза, с любопытством разглядывал ее, нервно покуривал.;
— Нет, не могу больше, — сказала Вика и вздохнула. — Пойду на пристань.
Она встала, еще раз вздохнула, посмотрела несколько секунд пристально, не мигая, на лампу, потом надела пальто. Агеев скинул ноги с постели и сел.
— Ну что ж, — сказал он. — Гуд бай, старуха! Проводить тебя, что ли?..
Вика пошла к хозяйке за паспортом, Агеев торопливо выпил, пофукал, сморщился и стал одеваться, рассматривая вздрагивающие свои руки, слушая, как Вика разговаривает с хозяйкой за стеной. Потом взял чемодан и вышел на крыльцо. Крыльцо, перила, доски, проложенные к пристани, были еще сыры от недавнего дождя. Агеев подождал, пока выйдет Вика, и пошел с крыльца. Вика, постукивая туфельками, шла за ним по мосткам.
Придя на пристань, Агеев поставил чемодан, Вика тотчас присела на него, сжалась в комочек, замерла. Агеев зябко передернулся и поднял воротник. В мертвой неестественной тишине ночи послышался вдруг бодрый высокий звук самолета. Он приближался, рос, усиливался, но в то же время становился все ниже, ниже по тону, все бархатистее, придушенней, как будто кто-то вел беспрерывно смычком по струне контрабаса, постепенно спуская колок, пока наконец не стал, удаляясь, звучать низкий, утробный шорох.
Опять настала немая тишина, Агеев потоптался возле Вики, потом отошел, поднялся на берег. Он постоял, прошел немного к южному концу острова и огляделся.
Горели над головой звезды, и на воде, всюду светились красные и белые огоньки, помаргивали на бакенах, мигалках и створных знаках.
Внезапно по небу промчался как бы вздох — звезды дрогнули, затрепетали. Небо почернело, затем снова дрогнуло и поднялось, наливаясь голубым трепетным светом. Агеев повернулся к северу и сразу увидал источник света. Из-за церкви, из-за немой ее черноты, расходясь лучами, колыхалось, сжималось и распухало слабое голубовато-золотистое северное сияние. И когда оно разгоралось, все начинало светиться: вода, берег, камни, мокрая трава, а церковь проступала твердым силуэтом. Оно гасло — и все сжималось, становилось невнятным и пропадало во тьме.
Земля поворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами — поворачивалась и летела, окруженная сиянием, в страшную бесконечность. И на этой земле, на острове под ночным немым светом был он, и от него уезжала она. От Адама уходила Ева, и это должно было случиться не когда-нибудь, а сейчас. И это было как смерть, к которой можно относиться насмешливо, когда она далеко, и о которой невыносимо даже помыслить, когда она рядом.
Он не мог этого перенести и быстро пошел на пристань, чувствуя, как от мокрой травы намокают сапоги, не видя ничего в темноте, но зная, что они теперь черны и блестят.
Когда Агеев пришел на пристань, на столбике горел уже керосиновый фонарь, внизу на ступеньках стояла и зевала сторожиха, а из-за бугра на севере выставлялся новый луч света, тоже дрожащий, но теплее по тону. Луч этот подвигался, слышен был частый стукоток плит, и вдруг высоко, звонко раскатился гудок парохода и долго отдавался от других островов.
— Ты видел северное сияние? Это оно, да? — быстро вполголоса спросила Вика. Она была возбуждена и не сидела уже на чемодане, а стояла возле перил.
— Видел, — сказал Агеев и покашлял.
Пароход выкатился из-за берега и стал слышнее. На носу его ярко посверкивала звездочка прожектора. Свет его доносило уже до пристани. Заблестела сырость на досках. Пароход застопорил машину и подвигался к пристани по инерции. Сторожиха, прикрыв рукой глаза от яркого света, что-то выглядывала на пароходе. Агеев повернулся к свету спиной и увидел, как луч прожектора дымно дрожит на прекрасной старой музейной избе.
Пароход подваливал, прожектор повернули, пристань залилась ослепительным молочным светом. Вика и Агеев молча смотрели, как пароход причаливает. Матрос на борту бросил сторожихе конец. Сторожиха не торопясь надела петлю на тумбу, матрос нагнулся, стал наматывать канат. Канат натянулся, заскрипел, пристань дрогнула, подалась. Пароход мягко стукнулся кранцами о причал. Матрос сдвинул сходни на пристань, стал смотреть под лампой билет у кого-то, кто сходил. Наконец пропустил того и повернулся к Агееву и Вике.
— Садись, что ли? — неуверенно сказал он.
— Ну, валяй… — сказал Агеев и небрежно потрепал Вику по плечу. — Счастливо!
Губы у Вики задрожали.
— Прощай! — сказала она и, постукивая туфельками, поднялась по трапу на палубу.
Пароход был почти пуст, слабо освещен лампами на нижней палубе, с темными окошками кают. В каютах или никого не было или спали. Между бортом и причалом сипело, поднимался прозрачный парок.
Вика не оглянулась, сразу ушла, скрылась в глубине. Торопливо прокричали один длинный и три коротких гудка, сторожиха скинула петлю с тумбы, сходни убрали, створки на борту захлопнули, и это теплое милое дышащее существо, одно живое в холодной ночи, заполоскав плицами, стало отваливать, круто забирая вправо.
Сторожиха опять зевнула, пробормотала, что рано в этом году заиграли сполохи и что это к холодам, сняла фонарь и пошла на берег, бросая перед собой пятно света, мажа себя желтым светом по сапогам и неся слева от себя неверную большую тень, которая от раскачивающегося фонаря перескакивала с пристани и берега на воду.
Покурив и постояв, пошел в теплую гостиницу и Агеев. Северное сияние еще вспыхивало, но уже слабо, и было одного цвета — белого.
Айвар Калве Рассказ о давней молотьбе
За неделю пиво выбродило, ядреное было, крепкое, так и бросалось в голову. Пена облипала подбородки, по щекам разливался румянец, комнату надышали, стало жарко. В тусклом свете коптилки поблескивали шпигованные пирожки, душисто пахли тминные булочки.
Молотильщики за день умаялись, глаза сами закрывались, руки еле двигали пивные кружки. Горячим свинцом растекался по телу хмель.
Хозяйка внесла миску с тушеной капустой, пар валил под потолок, окутывал лица, бил в носы. Дружно занемели ложки.
— Нынче хороша капуста уродилась…
— Дождливое лето для капусты самый раз…
— Зато пшеница…
— Хлеба по колено. Поглядишь, сердце сжимается.
— Теперь один черт!
— Да чего там, выпьем!
Языки поразвязались, бабы, сдвинув головы, о чем-то перешептывались.
Мужчин было трое. Старый Апшул, целый день запускавший в машину снопы, уснул прямо за столом, подперев руками голову. Его седая голова была похожа на болотную кочку. Особым умом голова эта не отличалась. За долгий век старик ничем не разжился, ничего не приобрел. Только и было, что руки да седая голова. Ни землицы, ни дома. Зато ни одна молотьба без него не обходилась, уж тут его праздник. Начинался он ранней осенью и тянулся до середки зимы. Апшул шел за молотилкой с хутора на хутор, спал на соломе, а когда случалось перепить, валился прямо в мякину, но утром чуть свет уже был на ногах, таскал дрова, носил воду. Словом, был у машиниста на побегушках. Что и говорить, непутевый человек. И всего-то добра, что поношенный пиджак, штаны латаные-перелатанные да голова, похожая на кочку.
Машинист был мужчина, как говорится, в соку. Петерсон любил выпить. И мог себе позволить. Кто ж тут, кроме него, паровик запустит?
Кто ж тут, кроме него… Напившись, Петерсон ёрничал, лез к бабам. Лицо наливалось красное, как кирпич, пальцы сжимались в кулаки, а сам он, большой и грузный, деревенел, точно колода.
Женщины хоть и повизгивали, но не убегали, потому что мужчин было только трое. После войны по всей волости их раз, два — и обчелся. Да и Петерсон чуть живой из болота выбрался. Сплоховал он тогда, не заметил, наступил на мину. А уж как остерегался, как остерегался!
Больше всего на свете Петерсон боялся потерять деревянный протез. Продрав глаза, в омете или в закромах на зерне, он первым делом хватался за протез. Женщины с Петерсоном не залеживались, самих себя было стыдно, а протез, промасленный, колючий, частенько терялся. Машинист ненавидел протез и, напившись, срывал с ноги, швырял куда попало. Петерсон был здоровяк, каких немного, война в нем силы не убавила, любая работа ему по плечу, но работать Петерсон не хотел. Сощурившись, поглядывал, как бабы валили на плечи мешки с обмолоченным зерном и, стиснув зубы, тащили их на весы, потом грузили на подводу. Целый день глазел он на женщин да потягивал пиво. В одном доме пиво знатное, в другом так себе, раз на раз не приходится. Не приходится.
Расставив на столе локти, машинист поглядывал на женщин. Временами бросит сквозь зубы что-нибудь непотребное. Никто не смеялся. Петерсон обозлился, потянулся за пивом, не достал, тихо выругался.
Хозяин, Давид Грикис, владел хутором первый год, и если верить бабам, то быть ему и последним, потому как все, мол, отымут, отдадут колхозу, только кур оставят.
Что Давиду куры? Давиду нужна земля, ради нее он мыкался, ждал смерти родителя, а старик, как назло, держался. Поскрипит, покашляет, на ломоту пожалобится, утром табаку нанюхается, расчихается не приведи господи — и опять хоть бы что. Ох, надоело Давиду ждать, но был он двужильный. Таким работа его сделала. От света и дотемна. Теперь все перешло в его собственность. Все, что своими руками поднял, скосил, вспахал. Он труженик полей — сейчас это так называется.
Давид и ждать перестал, и когда совсем было отчаялся, когда земля потеряла прежнюю ценность… отец пошел весной порубить кустарник на меже, промочил ноги, простудился и помер. Нежданно-негаданно. Хутор перешел к Давиду. Он не растерялся, всю жизнь к тому готовился. Даже не заметил, как мимо дома, постреливая, прошли обе армии. Не до них было.
Давид пахал, сеял, косил.
Стол пришлось накрыть как положено. Кувшин с пивом доверху полон, еще целый бидон в запасе, миска тушеной капусты — ешь сколько влезет, — пирожки со шпиком, с тмином… Но сколько ж можно трескать? Едят вроде чинно, не торопятся, а съедают прорву. Взять того же Апшула… жрал, жрал, и уснул за столом, а ведь утром проснется, жалеть будет, что так рано завалился, не успел как следует брюхо набить.
Давид поймал себя на прежних горьких мыслях. Хоть бы на людях смотреть веселей, улыбаться, что ли, пошутить с соседками. Ох, разговоры эти — с ума нейдут! Молчали бы лучше, а то мелют, мелют… И накличут беду, глазом моргнуть не успеешь. Откуда пошли эти толки про землю?
Давид был немолод. Высох весь, покоробился. В груди что-то хрипело, по ночам не спалось. Сестра варила настой из цветов липы и давала пить горячим, добавляя меду и свежего коровьего навоза. Давид пил всю осень, а лучше не становилось.
Сестра предупредила, чтобы подыскивал себе женщину. Весной ока собралась перебираться в город. Работа, вишь ты, заела ее, живьем в могилу гонит…
Работы Давид не боялся, а вот остаться одному было боязно. С сестрой они ладили, жили в согласии… да и много ли жить-то еще? Совсем пустяки.
Тэкла принесла последнюю тарелку с пирогами и поставила ее перед машинистом. Петерсон обнял Тэклу за талию, усадил рядом с собой и, довольный, постучал протезом по полу.
Давид вздрогнул, мысли разом оборвались, он сказал:
— Тэкла, принесла бы пива!
— Да кувшин-то полон! Не видишь?
— Ну тогда…
— Дай ты посидеть мне спокойно, целый день на ногах, а надо пива, сам сходишь!
Давид выбрался на кухню, засветил закопченный фонарь «летучая мышь», вышел из дому. Небо было темное, под ногами хлюпала грязь. Подмораживало.
«Это хорошо, — подумал Давид, — утром будет легче на проселок машину вытянуть». Размашистым шагом пересек двор, отпер амбар. Подошел к закромам и ткнулся лицом в ворох пшеницы. Давиду показалось, что зерна ожили, зашевелились, стали подниматься, как на дрожжах, пересыпаться через край, заполняя амбар снизу доверху, с головой засыпая самого Давида — только бы сделать его богатым.
Урожая было тут на семена да еще немного лишку.
Тэкла смеялась вызывающе громко. Соседки плотнее сдвинули головы, прикинувшись, что ничего не видят, не слышат. Петерсон колотил протезом по полу и все крепче прижимал к себе Тэклу. Вдвоем они пили пиво стакан за стаканом.
Проснулся старый Апшул, протер глаза, увидал тарелку с пирогами, заулыбался. Набил полный рот, рыгнул, поднялся и побрел к выходу, чтобы, где-нибудь свалившись, дожевать пирог.
Тэкла уже не смеялась. Вцепившись обеими руками в кряжистого машиниста, она волокла его за собой. Петерсон не противился, он уже был хорош. Женщины примолкли и, подняв головы, наблюдали за Тэклой.
Давидова сестра раскраснелась — мужик-то был грузный и пьяный. Она тут хозяйка, молотьба в ее доме, чем она хуже других! Она его только уложит… машинисту тоже нужен отдых, такой же человек, как и все.
Давид вернулся немного погодя. Бабы доедали пироги, к капусте никто не притронулся, ее затянуло пленкой жира.
— Не пора ли, соседки, — сказал Давид. — Благодарствуйте. Не пора ли по домам? Посидели как будто… благодарствуйте.
Женщины поднимались нехотя, дома их никто не ждал, на дворе темень и холод, грязь по колено. Но раз хозяин просит… Поснимали с вешалки платки, полушубки, пропахшие коровником.
Давид отворил дверь в сестрину комнату и споткнулся у порога. Нащупал в темноте протез, подхватил и шваркнул об стену.
Женщины обернулись и, кивнув на прощание, вышли.
Давид стоял посреди комнаты и тупо глядел на фонарь. Вот он и хозяин… А радости нет.
Давид помахал фонарем и поставил его на пол, чтоб в потемках не споткнуться. Подсел к столу. Сало в миске так загустело, что капусты под ним совсем не видать. На дне недопитых стаканов осела муть, верхний слой был светлее.
«Дуреха, ой дуреха, — подумал Давид о сестре. — Никакого расчета в голове. Сколько харчей извела».
Давид подсел к столу, чтобы все доесть и допить подчистую. Пиво было крепкое, он быстро захмелел. Спать не хотелось. Давид вспомнил про урожай: не густо, не густо. Семь потов согнал, а толку чуть. Оттого ль, что лето дождливое, будь оно неладно. Вот и Тэкла уйдет, одному теперь мыкаться. Ну и пусть… все ему останется. Дуреха, и чего ей тут не сидится!
За стеной всхрапнул машинист. Давид заткнул уши, не желал он слышать, не желал знать всего этого…
За окном чернела первая морозная ночь, дороги затвердели, шершавые, грязные, шаг сделался легким, земля не липла к ногам, не мешала ходьбе. Спали хутора среди оголенных яблоневых садов, спали люди, тепло укрывшись одеялами, овчинными тулупами, носами, уткнувшись в пуховые подушки. Ночью ничего не случилось, а под утро по застывшей дороге прогремела повозка. Прогремела повозка.
Давид поднялся, а ноги не слушались, подгибались. Сначала он упал на колени, в глазах померкло, потом повалился ничком. Звякнуло фонарное стекло, керосин растекался по полу, синим язычком под боком полыхнуло пламя. Давид не почувствовал боли.
Тэкла в одной рубашке выбежала на кухню. На полу, распростертый, лежал ее брат, спина и бок у него горели. Тэкла припала к нему голым телом, чтоб загасить огонь. Давид не шелохнулся. Весь облипший мякиной, на пороге появился Апшул, его заспанные глаза не сразу привыкли к свету.
— Беда, Апшул! С хозяином плохо! — крикнула Тэкла.
— А ты дыханьем испробуй. Открой ему рот, дыхни теплым дыхом! Придави грудь, вот так, только кофту расстегни! — поучал Апшул.
Тэкла с трудом раскрыла рот брату, приникла губами к губам и кормила его своим дыханием. Наконец расслышала биение сердца. Поднялась, вздохнула с облегчением. Апшул помог ей раздеть хозяина, смазать салом ожоги, уложить в постель. Давид скрипел зубами, постанывал. Тэкла оделась, принялась убирать со стола.
— Миску-то с капустой погоди уносить, — сказал Апшул. — Маленько закушу да пойду котел растапливать, небось за ночь остыл, дьявол.
— Да, скоро утро…
— А хозяин, так тебе скажу, напрасно мается. Из-за земли-то. Будь что будет, — рассуждал Апшул.
Тэкла молчала, дела брата ее не касались. Тэкла мечтала о городе, мечтала с того самого дня, когда взяла в руки книгу. Далекая Рига… Она въедет в город с закрытыми глазами и будет только слушать затаив дыхание, потом откроет глаза, крутом дома, улицы, всюду светло и чисто. В витринах булки, батоны, колбаса, банки консервные. Все блестит, переливается… А из открытого окна льется музыка — совсем как теплый ручей после дождя, так и манит окунуться. Долгие годы Тэкла тянулась к городу. Постарела, а все-таки тянулась, закусив от обиды губу. Ничего, Давид поправится, до тех пор она присмотрит за хозяйством. Давид ей даст немного денег на разживу.
Тэкла не заметила, как Апшул, наевшись, нахлобучил шапку, взял топор за дверью и вышел. Тэкла вспомнила, что надо нагреть воду, перемыть посуду.
В комнате заворочался машинист. Пьяный угар за ночь выветрился. Сны ему не снились. Его грузное тело было все равно что неприступная крепость: будет питье да жратва — так продержится. Поддерживать сама себя крепость не умела, слишком ленивая кровь текла в ее жилах.
Через час с небольшим вернулся Апшул, потеребил машиниста за плечо.
— Вставай, слышь, вставай! Котелок нагрелся, вставай!
— Апшул, скотина, заткнись! — вопил машинист.
— Не могу, соседи собрались, ждут тебя.
— Ничего, подождут.
— Нынче, говорят, парторг обещался…
— Только этого не хватало! Где протез?
— Не видать что-то.
— А ты протри свои шары! — накинулся на него машинист, заметно встревоженный вестью о парторге. За молотьбу он отвечал парторгу головой.
Наконец протез отыскался, Апшул принес его к кровати.
— Ты скажи, чтоб бабец опохмелиться приготовил!
— Ничегошеньки, Петерсон, не осталось. Последнее хозяин ночью выпил! И сам чуть богу душу не отдал.
— На него, старого хрена, похоже.
Петерсон заковылял к молотилке. Соседки, сбившись в кучу, поджидали его. О чем-то судачили, опершись на рукояти отполированных до блеска вил.
Разговор шел про обгоревшего Давида.
— И чего на этой молотьбе не случается! То руку в барабан запустят… упьются так… Поругались — это что! А то ведь так друг дружку измордуют!
Помню, как увозили старую молотилку. Долго мозолила глаза эта развалина. От дождя и ветра розовая краска обшивки облупилась. Потом доски отодрали, остался ржавый остов. И вот приехали ребята из мастерской, подцепили тросом, сами сели на трактор и поволокли. Трос был длинный, тракторист боялся, как бы эта махина не перевернулась.
Я не стал смотреть, как ее будут распиливать и увозить на переплавку. Не люблю рассказы о молотьбе, даже самые безобидные.
Перевод с латышского С. Цебаковского
Анатолий Ким Невеста Моря
1
Ее городе ее прозвали Невестой Моря. Она была матерью пятерых детей, которых подняла одна — муж угодил в тюрьму еще в сорок восьмом году. Видно, очень любила она своего мужа, потому и дети у нее вышли все хороши собой: четыре дочери-красавицы и единственный сын, Коля, быстроногий футболист, атлет, с шестнадцати лет игравший в городской команде «Шахтер». Чтобы прокормить детей, пока они были малы, а хозяин мыкал горе где-то в далеких краях, женщина много лет собирала съедобные раковины и морскую капусту, и за эту океанскую снедь соседки расплачивались чем могли, делая время от времени ей разные подношения. В любую погоду уходила она с большим рюкзаком за спиной к морю, одетая в старый, сморщенный на плечах пиджак и широкие неуклюжие шаровары.
Помимо этого главного занятия, из-за которого она и получила свое прозвище, женщина варила на дому хмельную брагу, и к ней захаживали в гости соседи, знакомые шахтеры, лесорубы, рыбаки — пили, закусывали мясом ракушек, играли в цветочные карты и оставляли перед уходом деньги. Этим самым они помогали бедной семье человека, которого все хорошо помнили: на шахте, пока не случилась по его вине авария, из-за чего погибли люди, он работал сменным мастером.
Годы шли, их намывали бегущие издали морские волны, ничего не оставляя на берегу после себя, кроме разного плавучего хлама. Где-то жил — не жил там вдалеке ее муж, незаметно подрастали дети. И, оглянувшись порою вокруг, Невеста Моря видела статных сильных дочерей, выше себя ростом. Сын закончил школу, устроился на шахту электрослесарем, поступил в заочный институт во Владивостоке. Дочери одна за другой повыходили замуж, разошлись из дома, и, когда осталась одна младшенькая Ако, мать почувствовала, что свободна и что, кажется, уже прошла через все уготовленные для нее тяготы.
Только жизнь не хотела отпускать на покой. Теперь выставляла она горести детей на ее глаза, столько лет находившие отраду и успокоение лишь на море. Томико, третья дочь Невесты Моря, развелась с мужем и вернулась в дом матери. Ако полюбила несчастного парня Эйти, во всем мире не сумев выбрать другого.
Эйти давно жил без родителей, на руках у него осталась старшая сестра, расслабленная, неразумная калека, она-то и доконала родителей, маленьких, тихих людей, похожих на безвременно состарившихся подростков. После их смерти школа хотела помочь Эйти устроить больную в инвалидный дом, но парень не согласился, бросил учебу и пошел работать на шахту.
Не было на побережье лучшего пловца, чем Эйти, его часто встречали рыбаки в открытом море, и он здоровался с ними за руку через борт лодки. Иногда парень напивался, буянил и лез в драку. Дрался с упоением, с веселым бешенством, порою отмахивался сразу от двоих-троих. Но, одолев противника, убегал прочь, закрыв руками лицо и мучительно рыдая без слез. Про эти его опасные странности люди давно знали и старались его не задевать. Зловещая тень безумной сестры как бы преследовала его, и он одиноко бродил по городу. А на работе в обеденный перерыв мало кто решался подсесть к нему с термоском.
Судьбе было угодно, чтобы его полюбила младшая дочь Невесты Моря, самая красивая из всех ее дочерей-красавиц. А что Эйти ее полюбил, то и вовсе неудивительно. Никто не заметил, как это началось, но стали их встречать вместе где-нибудь за клубом «Шахтер» или на высоком травянистом берегу реки вечером: стоят друг против друга, серьезные и строгие, не замечают даже людей, проходящих мимо. А в это время сестра Эйти тихо стонала в темном домике, окна которого были наглухо занавешены.
Видно, влюбленные обо всем договорились, и вот явился Эйти в дом Невесты Моря одетый в новый костюм, при галстуке. Говорил он не с матерью, а с Колей, потому что в отсутствие отца тот был главою семьи.
— Коля, я хочу жениться на Ако, — сразу же выложил Эйти.
— Я не против того, Эйти, — спокойно ответил Коля. — Только в твоем доме не все благополучно. А сестра моя еще глупа, боюсь, что она не справится. Надо подождать, пока не станет все нормально.
— Вот даешь! — произнес Эйти по-русски. Затем продолжал по-корейски. — Это же моя единоутробная сестра, Коля. Мы с нею сосали одну грудь у матери. Родители велели мне до самой смерти жалеть ее и беречь.
— Ако мне тоже единоутробная сестра, и за нее я тоже в ответе, — с достоинством проговорил Коля.
На этом и закончилось сватовство Эйти. Появилась было перед ними Ако, — вытолкнутая из соседней комнаты чьей-то быстрой тонкой рукой, заикаясь, пробормотала:
— Старший брат, извините… Я… на все согласна. Пусть…
Но Коля заорал на нее, пристукнув кулаком по столу, и прогнал:
— Сиди там! И с этого дня, чтобы твои туфли всегда были на месте, ясно? А иначе не жить тебе на свете.
Теперь влюбленные вовсе не могли видеться. Эйти приходил после дневной смены, прохаживался позади крошечного огорода под окнами и уныло свистел в два пальца. В свист этот он вкладывал все свое одиночество и тоску, терзая себя и других до глубокой ночи. А в дальней комнате Ако крутила ручку радиоприемника, придвигая нос к зеленому глазу индикатора, чтобы никто не видел ее слез, шмыгавших сквозь ресницы, как куропатки сквозь густую траву. Если же она замечала, что близко брат, то ввертывала звук на всю мощность, давая тем знать, что слушает музыку и вовсе не замечает призывных посвистов Эйти.
Прошел год, уже не тягостный для Невесты Моря, но мучительный для двух ее младших дочерей. Ако плакала, Томико дразнила ее. Простушка Ако, такая добродушная и болтливая: тра-та-та-та-та — тысячу слов в минуту, — бедная Ако стала похожа на призрак. Нос ее распух от вечных слез, волосы стали выпадать — по всей квартире валялись эти длинные, как сама тоска, черные волосы. «Эй, Ако! А-а-ко! — взвивалась Томико, теряя терпение. — Ако! Твой соловей снова прилетел, вон свистит, а на улице уже зима. Опять ты плачешь?» — «А что мне еще делать», — отвечала Ако, — «Иди и утопись в проруби, — советовала Томико, — чем реветь целый день». — «Не твое дело, мегера, злишься, что муж бросил, мегера!» — кричала разобиженная Ако, а Томико усмехалась в ответ: «Это я мегера?» — и отходила прочь.
— А-а… Что вы ругаетесь, глупые девчонки, — укоряла их мать, сжавшись на постели под одеялом: зимою она теперь сильно мерзла.
Томико никак не могла забыть своего мужа, хотя и желала ему истлеть где-нибудь под забором. Муж пел баритоном и на слух выучил много оперных арий, за что и ценили его в клубе «Шахтер». Разведясь с Томико, он женился на руководительнице художественной самодеятельности при клубе Рае Самолетовой, полной и приятной женщине. Томико тоже записалась в кружок самодеятельности, но при клубе «Строитель», и на районном смотре взяла первый приз за исполнение народного танца. Таким образом, ей удалось доказать свое: она, танцевавшая на удивление всем еще с детства, всегда была уверена в своем таланте, но никогда не думала выставлять его напоказ.
По случаю торжества Томико устроили гульбу, был приглашен в числе гостей и Эйти — к большому его удивлению. Он пришел на вечеринку позже других, для смелости хватив перед тем вина. Когда он разулся и вошел в комнату, там уже гремела радиола, и гости танцевали, высоко вскидывая ноги в капроновых чулках и пестрых носках — общество разучивало новый полюбившийся танец хали-гали. К Эйти порхнула виновница торжества, благоухающая, в белом гипюре. Томико забрала у него бутылку с шампанским и увела к сдвинутым в угол комнаты низеньким столикам. Усадив Эйти на пол за столик, Томика опустилась рядом и налила ему стакан водки.
— Пей, — сказала она, придвигая палочки для еды и закуску. — Так знай же, что это я тебя пригласила, сегодня я тут хозяйка.
Эйти послушно выпил, но закусывать не стал, лишь скорбно покачал головой. Он мельком увидел Ако, чье испуганное лицо белело в дальнем углу.
— Почему я тебя позвала, угадай, — громко сказала Томико, розовые скулы ее нежно разгорелись от выпитого вина.
— Почему, Томико? — спросил Эйти, не поднимая головы.
— Потому что для любви нет границ, а ты дурак.; Любовь и смерть сильнее всего на свете, а все остальное ерунда, — в наступившей тишине торжественно, с горьким вызовом произнесла хмельная Томико. — Мне жалко вас, и я теперь буду вам помогать. И вот жизнью клянусь, что будете вместе!
И эти ее слова слышали гости. Но вновь загремела музыка, и все кинулись в пляс.
— Не надо, Томка, ничего не надо. Эх, Томка, Томка! — плакал и бормотал по-русски Эйти.
— Любовь ничего не боится, запомни! — кричала Томико, пересиливая звонким голосом шум музыки: ее возмущало, что эти двое, обретя взаимную любовь — золотистого оленя, которого держали за рога с двух сторон, стоят сейчас перед закрытыми воротами судьбы. Стучать, стучать, пока не откроются, — просто разрешала она эту задачу.
Не было бы никакой цены любви, как синей стекляшке на берегу моря, если так легко можно отказаться от нее. И не было предела обиде и мукам, терзавшим Томико в тот званый вечер.
Настали теплые дни раннего лета, земля и деревья оделись нежной плотью зелени. Невеста Моря снова ходила на морской промысел. Давно уже у нее поубавилось забот: с тех пор, как дети стали сами себя кормить, она уже перестала продавать брагу, но море свое не бросила, хотя и в этом никакой нужды больше не было. Как и в прежние годы, в любую погоду уходила она из дому с большим рюкзаком за плечами. В последнее время Невеста Моря обзавелась подругой, с ней вместе они теперь и обшаривали прибрежные отмели, собирая что случай пошлет. Подруга эта была старая девушка Чен, курившая табак, одинокая вековуха с печальной виноватой улыбкой на огромном бледном лице. И в сумерки обе старые охотницы вместе возвращались домой, шаркая тапочками по дощатому тротуару, вытягивая вперед шеи под тяжестью мокрых рюкзаков, набитых твердыми, как камни, морскими раковинами.
В эти дни облетела городок весть: отмучилась наконец больная сестра Эйти. Случилось это, когда он был на работе в вечерней смене.
Пришла смерть к человеку, который уже не мог жить на свете. Сестре суждено было умереть, чтобы брат ее смог получить свое счастье, — это было ясно каждому. Но по городу поползли темные слухи о том, что в это дело вмешалась не только судьба, таящая в себе неумолимые законы.
Прошло три месяца, и Ако стала женой Эйти. А спустя год она родила ему сына.
2
К этому времени вернулся из заключения муж Невесты Моря, высокий человек с длинной прямой спиной, со сверкающей прядью седины через всю голову. Возвращение его совпало со свадьбой сына — Коля тоже обзавелся женой и получил отдельную квартиру в том же барачном доме, где жил всегда. Приехала из Холмска одна из старших дочерей Невесты Моря, поселилась с мужем и детьми пока что у родителей. И получилось так, что с возвращением отца вокруг него сразу же сплотилась большая крепкая семья.
Отец же был сурово молчалив, держался отчужденно, после работы любил уходить в дальнюю комнату и сидеть там в одиночестве, не зажигая света и куря одну папиросу за другой. Накурившись, он тихо укладывался на твердый пол, подложив под голову набитый опилками подушечный валик, и засыпал возле пепельницы. Какая-нибудь из дочерей бесшумно входила в комнату и укрывала спящего отца одеялом.
Возвращение мужа как бы совсем не изменило жизни Невесты Моря: по-прежнему она летом спала в сарае, в чистенькой клетушке, где на коричневой от времени дощатой стене висели мотки вяленой морской капусты и гирлянды сушеной рыбы, как и всегда вставала она на рассвете и уходила на свое соленое море, не заботясь больше о доме. Давно уже она вся высохла, стала легкой и маленькой, как корюшка, и ее взрослые дочери поражались, как может она таскать такие рюкзаки — вдвое тяжелее, чем сама. С мужем она редко виделась. Он устроился дежурным электриком в кочегарку и после работы, когда она приходила с лова, уже спал или сидел в одиночестве на дальней половине квартиры. Он был все еще полон сил и не утратил тяжелой, внушительной красоты. А лицо Невесты Моря, когда-то прелестное, точеное, теперь было иссечено вдоль и поперек глубокими старушечьими морщинами.
Но иногда им приходилось-таки встречаться и перекинуться несколькими словами, а в праздничные дни и посидеть вместе за одним столом. И всегда, если муж обращался к ней, лицо Невесты Моря молодо сияло, она улыбалась сдержанно, радостно, и обычная глубокая поволока печали, сквозь которую смотрели на мир ее длинные черные глаза, на миг исчезала. Та любовь ее к мужу, которая за многие годы потихоньку рассеялась в морском влажном воздухе, перешла в жизненную силу цветущих пятерых детей, утешилась в верной дружбе с вековухой Чен, но вся ее исподволь растраченная любовь как бы воскресала на краткое время, и тогда сквозь морщины, словно сквозь темную решетку времени, на лице ее проступал неровный яркий румянец.
В такие минуты, если рядом находилась Томико, всех поражало сходство матери и дочери — изо всех дочерей Томико единственная пошла в нее ростом и сложением, остальные были женщины крупные и статные, в отца. И ей одной было дано унаследовать от матери ту злую бесславную участь, когда вдовеют при живом муже.
Это сходство с матерью особенно усилилось за последний год, потому что худоба изящной Томико как-то незаметно перешла в унылую худосочность. Лицо ее стало с кулачок, темные глаза все чаще загорались огнем неистовства и гнева. Гнев сотрясал ее, как сотрясает дрожь рассвирепевшую рычащую кошку, и когда Томико ругалась с кем-нибудь во дворе, мать скорее-скорее пробегала мимо. Неистовство, отчаяние и что-то еще тайное глодало Томико, и даже средь застолья, в кругу друзей, когда пела она сильно, красиво, — ни в одном движении, ни в одной ее песне не было радости. Так и застывала она во время пиршества с жалким и беспомощным оскалом веселья на лице, аккуратно стучала вилкой по столу в лад песне. И несмотря на ее красоту, все еще яркую и жгучую, молодежь опасливо обходила Томико стороной.
Не радовала Невесту Моря и младшая Ако. С ребенком на руках, небрежно одетая, она целыми днями торчала в доме матери, не заботясь о своем собственном, и часто оставалась ночевать, когда Эйти у себя напивался и буйствовал. Он снова стал драться с кем попало, днями пропадать на море, уплывая порой на много часов от берега, бросив на песке одежду. Однажды ночью он выгнал Ако из дома и заперся с ребенком, а прибежавшая на помощь Томико барабанила кулаком по окну и кричала:
— Эй, трус, баба! Выходи сюда, зарежь меня ножом! Чего там спрятался? Отдай ребенка, поганец, ребенка надо кормить!
Дурной и беспамятный во хмелю, Эйти почему-то очень боялся маленькой Томико и всегда отступал перед ней. А матери было страшно, что когда-нибудь он опомнится и ударит Томико кулаком в лицо…
Нет, не было ей счастья и успокоения от детей и не понимала она их дел. Старшая дочь, приехавшая из Холмска с мужем-фотографом и детьми, купила здесь дом и забрала у нее все деньги, а отделалась потом пустяками: какой-то шерстяной одежкой, швейной машинкой, на которой нельзя шить.
И она говорила своей подруге, с которой втайне от всех обменялась клятвою, что они будут вечными сестрами:
— Скажите, сестра Чен, для чего нам небо дает детей?
Никогда не имевшая ни мужа, ни детей, Чен отвечала на то, жалобно улыбаясь:
— Для божественной радости, полагаю, сестрица.
— Нет, вы ошибаетесь, хотя слова ваши высоки, как снежные горы, — возражала Невеста Моря, покачивая головой. — Для того дети, чтобы мы еще крепче запутывались в сетях судьбы.
— Я не могу судить верно о таких вещах, уж вы простите меня, глупую, — смиренно оправдывалась старая Чен и поскорее закуривала папиросу.
— Вы видели, наверное, как поросята сосут мать. Они всю высосут ее, пока лежит, а потом рассердятся и изгрызут ей живот. Так ради чего мы проливаем материнскую кровь и слезы?
— Ради того, наверное, чтобы любовь блаженствовала на земле, — чуть дыша от робости отвечала Чен и сплевывала на землю горькую табачную слюну.
— Любовь!.. Что-то позабыла о ней. Давненько. Любовь, сестра Чен, скорее силки, куда мы попадаем, чтобы от нас произошли дети. — И тут Невеста Моря прищелкнула пальцами. — Любовь разулась, вот как мы с вами, и на сопку убежала, вот где теперь наша любовь, сестрица.
И, закончив на этом разговор, женщины скинули широкие шаровары, подоткнули юбки под резинки на ногах и босиком полезли в теплую воду отмели. У каждой висел на шее маленький мешочек на веревочной лямке, чтобы можно было свободно шарить по дну руками.
Вечером они неторопливо возвращались домой, минуя все шумные места города, — брели мимо клуба, мимо открытых еще магазинов и пивных, где толпился народ, — две маленькие темные фигурки с большими мокрыми рюкзаками, пригнетавшими их к самой земле, — а потом выходили к мосту, но не переходили через него, а шли тропинкой по-над рекой. Едва ли замечали они вокруг себя смуглую позолоту вечернего света, длинные неподвижные нити на плакучих березах, замерших на берегу реки, бездонной, как само небо, отраженное в ней.
Ночью в своей каморке, ворочаясь и кашляя на жесткой неудобной постели, Невеста Моря все еще додумывала свой разговор с названной сестрою. На земле так прозрачно, так далеко видно, и людям легко найти друг друга, увидеть и полюбить. Но прозрачность эта обманчива. На дне моря всегда темно, хотя морская вода тоже прозрачна, потому что туда не проходит яркий свет дневного неба. Любовь насылается на людей властью этого неба, а расплачивается за нее сам человек — тревогами, болью и смертью. Что ж, это достаточная цена за любовь, так пусть она свершится за эту цену. И придя к такой мысли, старая женщина успокоилась, зевнула и спокойно заснула до утра.
А вскоре подошел к ней на улице немой человек, прозванный Высоким Немым за свой рост, и протянул бумажку, на которой что-то было написано.
Этот человек был привезен родственниками из Кореи после войны, которая произошла там. Родственники рассказывали, что на войне человек получил тяжелую травму, от которой и онемел. От контузии разум человека помутился. С тех пор он лепетал, разучившись говорить, а в поведении допускал всякие причуды. Так, он всегда носил при себе бумажки и, выбрав кого-нибудь из встречных, подходил и совал тому под нос записку. На ней бывало написано рукою что-нибудь всегда бессмысленное и вздорное: «внутри уха» — «на клич всех вождей» — «треска пополам»… Непонятно было, чего же Высокий Немой хотел добиться этим: то ли похвастать своим почерком, говорили, что он когда-то был отменный каллиграф, то ли просто показать, что тоже человек вполне образованный и непростой. Глядел он при этом на читающего его бумажку пронзительным, требовательным взглядом, сведя в узкую полоску губы.
На бумажке, поданной им Невесте Моря, было ровными буквами выведено два слова: «ТОМИКО УБИЛА».
— Нелепый человек! Странный человек! — воскликнула Невеста Моря, отталкивая руку с запиской. — Зачем ты мне показываешь такие вещи? Прочь от меня, нелепый человек.
Видимо, все еще метался по городу темный слушок, проникая в узкие дворы перед старыми бараками, в чуланчики сарайных пристроек, куда проведены лампочки на голых патронах. Видимо, со временем не ослабевал жесткий шелест молвы. Она дошла и до отца: что Томико погубила сестру Эйти — тайно проникла в дом и опоила больную маковым отваром…
Однажды муж вошел в сарай, когда Невеста Моря уже легла в постель, Дети тоже давно улеглись, угомонились, молодые ушли в кино, было тихо в доме.
— Если вы уснули, то проснитесь, нужно поговорить, — глухо произнес муж, возвышаясь в дверях, подпирая головою притолоку.
— Нет, я не сплю, — отозвалась Невеста Моря и привстала.
Седая прядь в волосах мужа красиво серебрилась в полутьме. Старая женщина замерла, глядя на эту светящуюся прядь.
— Скажите мне, правда ли то немыслимое, что говорят люди о наших детях? — спросил муж, и в суровом голосе его слышались растерянность и боль.
— Правда ли? О чем вы? — тихо произнесла жена. Но она уже поняла, о чем он: безъязыкий дурак один в городе, а злых людей гораздо больше.
— Если это правда, то нет ничего страшнее на свете, чем наши дети… Лучше бы мне вовсе не возвращаться из тюрьмы, а вам не надо было рожать их на свет.
И с этим он вышел, оставил ее одну, и Невеста Моря поняла, что отныне не о чем им будет говорить друг с другом. Она не верила, что Томико совершила страшное дело, но знала, что женское сердце, в котором, как в могиле, похоронена убитая любовь, всегда пребывает вблизи ожесточения и тьмы.
Всю ночь она не спала; слышала, как вернулись дети из кино; смеялся тонким голосом Коля, и что-то притворно-сердитое говорила ему жена; резко и коротко рассмеялась несчастная Томико… Затем, далеко уже за полночь, чего-то испугалась и долго заливалась дворовая собака, трусливо потявкивала и грозно, подбадривая сама себя, ворчала. Невеста Моря вставала пить воду, хотела похлебать супа из кастрюли, да не нашла спичек, чтобы разжечь керосинку. На рассвете она чуть было задремала, но тут же и проснулась. Поднявшись с постели, она прихватила с лавки рюкзак и пошла по густой прохладной сиреневой рани к дому вековухи Чен.
В этот день она говорила странные вещи своей подруге и названной сестре:
— Если признаться, сестра моя, то многих детей у меня не было бы, если бы я сама не перелезала к мужу под бочок. Любила я греться возле него.
Робкая, как мышь, Чен смущалась и немела от таких слов, и ее широкое, как блюдо, лицо медленно наливалось густой кровью.
— Да, кабы не это… Вспоминается мне, в молодости я не знала удержу… Зажмуривши глаза кидалась, хеке! Муж был дюжий человек, но одолевала-то всегда я. А он смеялся и говорил мне: нет на свете женщины крепче тебя, Харуё…
— О, у вас сегодня хорошее настроение, се… сестрица, — заикаясь и поеживаясь, бормотала Чен. И принималась копаться в ворохе одежды, наваленной возле рюкзаков на чистом песке берега. Найдя в кармане шаровар папиросы и спички, Чен трясущимися руками прикуривала.
— Дайте и мне табачку, сестра моя, попробую-ка и я закурить, — попросила Невеста Моря. — Никак не пойму, что это я не стала курить раньше, ведь горя и мне хватало.
Но, поперхнувшись при первой же затяжке, долго кашляла, высунув язык, и, схватившись за грудь, потом выбросила папиросу.
— Нет, не научилась я. Не было времени даже на это, — сказала она, утирая морщинистым бугорком ладони выступившие на глазах слезы.
— Зачем это вам, сестрица! Доктора русские говорят, что табачный дым помогает от лишнего сала, вот я и надумала курить, — стала объяснять Чен подруге. — Лет десять назад я начала было сильно толстеть.
— Да… мне это теперь ни к чему, — согласилась Невеста Моря.
А когда к вечеру они увязали рюкзаки, собираясь домой, — успев за долгий день и наловить раковин, и наглядеться в морскую синюю даль, и подремать на песке, уронив на плечи друг дружке головы, — Невеста Моря вдруг проговорила, медленно оглядев закатный горизонт:
— Знаете, чего я всю жизнь больше всего боялась?
— Чего же? — спросила Чен, тоже оглядывая тающее в огне заката море. Со стороны пылающего запада летели по небу птицы.
— Моря. Да, моря. Я больше всего боялась, что когда-нибудь утону в море. Недаром же меня прозвали его невестой.
— Ну, этого нам теперь незачем бояться, — успокоила Чен подругу. — На пароходе мы уже никуда не поплывем, на лодку сами не сядем, а купаться в море, как молоденькие, тоже не будем.
— Верно вы сказали, сестра, — согласилась Невеста Моря.
И они, усевшись на песок спиной к рюкзакам, вдели руки в лямки, а затем помогли встать одна другой.
Снова они, как обычно, прошли по главной улице городка, шаркая ногами и сгибаясь под тяжелым грузом, возле моста спустились к реке и пошли берегом к тому месту, где был другой переход за излучиной, намного сокращавший путь к дому.
На этом месте в дно реки были вбиты частые сваи, чтобы не дать бревнам, плывущим сверху, уйти дальше к морю. По ровно обрезанным сваям люди легко переходили реку — двойной ряд широких надводных пней служил надежной опорой для ног.
Старая Чен оказалась впереди. Невеста Моря что-то замешкалась на берегу. И когда Чен, обычно робевшая на переправе, благополучно дошла уже до противоположного берега, сзади нее на самой середине реки что-то сильно всплеснуло, и, оглянувшись, Чен увидела свою подругу, стоявшую на круглом срезе бревна, вытянув перед собою сжатые в кулаки худые руки. Старой Чен подумалось, что подруга ее хочет прыгнуть в воду и утопиться. Вскрикнув пронзительно, отчаянно, рыхлая и нерасторопная Чен бегом кинулась назад по бревнам, не помня себя подбежала к Невесте Моря и схватила ее за плечо.
— Что вы делаете, сестра! Что вы делаете! — крикнула Чен и заплакала.
— Надоело мне все, — хрипло выговорила Невеста Моря вся дрожа. — Не желаю я больше таскать мешки. Эта мутная река пусть отнесет жениху мой подарок.
И только тут заметила Чен, что у подруги ее за спиной нет рюкзака.
— Уеду я отсюда, — бормотала Невеста Моря.
— Куда же вы уедете? — всхлипывая, спрашивала Чен.
— А куда-нибудь. Возьму с собою Томико и уеду. Не боюсь я теперь ничего. Переедем мы с ней на другой берег моря, где нас никто не знает. Поедемте и вы с нами, если хотите.
— Я поеду, обязательно поеду, — соглашалась Чен и потихоньку тянула подругу к берегу. — Как же я останусь без вас, сестрица. А только можно ли вам оставить других детей? — спрашивала она, когда обе ступили на спасительный берег.
— А что, разве я их не выкормила, не выпоила? — сказала Невеста Моря, останавливаясь. — С меня хватит. Буду теперь развлекаться, курить табак. Эх, разве я не заслужила себе покоя, сестра?
— О, конечно, заслужили, — поддакивала Чен, стремясь увести подругу подальше от реки.
— А вон и птички летят из огня. — Со стороны заката летели по небу быстрые бесшумные птицы. — И ведь не сгорели, смотри.
— Так это же обыкновенная красная заря, — тихо заметила Чен, глядя на подругу со вздрагивающей на губах жалобной улыбкой.
— А мы с вами, сестрица, обыкновенные старухи, — печально проговорила Невеста Моря. — И выбросьте-ка вы тоже свои ракушки. Выбросьте! Ох, откуда сегодня столько птиц налетело!
Согнутая в три погибели Чен, послушно развязывавшая рюкзак, чтобы вытряхнуть вон раковины, подняла широкое лицо и, закатив вверх красные от слез глаза, долго смотрела на высокое огнедышащее небо, по которому все еще неслась огромная стая молчаливых птиц.
Анатоль Кудравец Микола вернулся
Слухи росли, как грибы, и брались неизвестно откуда. Пришла, словно с неба свалилась, какая-нибудь новая весть и айда гулять по селу, как подвыпивший дядька — от двора ко двору.; И не просто гуляет, на ходу обрастает новыми выдумками, как собака репьями, перерастает в молву. Идет время, и вдруг словно бы приоткрывается какая-то завеса и все видят, что молва — это не просто бабьи сплетни, а самая что ни на есть чистая правда!
Трудно сказать, кто первый в Глыбочке пустил слух о том, что Марфиного Миколу выпустили, и он возвращается домой, да мало кто поверил этому. Как это возвращается, если ему влепили семь лет, а отбыл он всего пять, и на тебе — домой. Здесь что-то не так… Разве что заболел чем-нибудь таким? Так ведь здоровяк был, шофер, после армии.
Семь лет Микола отхватил за то, что убил отчима. Как оно там все вышло, никто не видел. Сидели, выпивали, видно, хорошенько набрались, отчим, наверно, сказал что-то наперекор. Они и прежде не ладили, с первого дня невзлюбил Микола отчима, ревновал к нему мать, а сам человек горячий, неуступчивый, и вот — бутылкой по голове. А бутылка из-под шампанского, как гиря. Месяца три перед этим отгулял Микола свою свадьбу, с того времени и осталась бутылка. А сколько там нужно было старому…
Ну и загремел Микола… Одни считали, что семь лет много, другие — что маловато, надо бы побольше, все же человека загубил. А теперь говорят, что Микола вот-вот должен вернуться домой. Хотя кто мог сказать? Наверно, мать, Марфа. Ее сердце болело, больше ничье…
Возвращается, ну и пусть возвращается. Отовсюду люди возвращаются, если человек жив-здоров и охота ему вернуться. Только с того света нет возврата, всевышний — господин суровый, несговорчивый, не любит отпускать своих слуг обратно, на землю.
Поговорили люди, обсудили эту новость, да и стали жить дальше, делать каждый свое дело. Лишь Марфа и Люся, жена Миколы, ждали его со дня на день. Да еще, может, маленькая дочь Миколы, которую Люся родила, когда Микола уже отбывал свое, заработанное, хотя что он мог понимать, этот ребенок? И опять же на людях женщины старались не вспоминать Миколу: страшная смерть, виновником которой он был, не давала им права жалеть его открыто. Как только разговор заходил о Миколе, многие сразу вспоминали тот зимний вечер, когда по селу разлетелась весть о гибели старого Лариона, и как никто не хотел верить в то, что вот так, ни с того ни с сего можно было убить человека. Микола же словно рехнулся: он забрался по лестнице на чердак и не хотел оттуда слезать, как его ни уговаривали, а если кто приближался к лестнице, швырял кирпичи. Не хотел спускаться даже и тогда, когда приехал участковый милиционер, пока тот не пригрозил.
Нет горя страшнее, чем то, о котором нельзя никому рассказать. Лишь оставшись наедине, в своей хате, женщины отводили душу: говорили о Миколе, горевали, как ему трудно где-то там одному, без семьи. О себе они молчали.
Прошел год после суда, второй, жизнь шла своим чередом, подрастала дочь Миколы, а вместе с дочерью словно бы росло и право женщин говорить о Миколе, теперь уже как об отце сироты. Марфа даже решилась как-то рассказать бабам о том, что Микола прислал письмо, в котором пишет, будто ему могут уменьшить срок, потому что работает он на какой-то очень тяжелой и опасной работе и слушается начальство. Да и Лариона, отчима, он не хотел, не собирался убивать, так вышло по пьянке, по дурости…
И вот по селу прошел слух, что Микола возвращается домой.
Первым о возвращении Миколы узнал сосед, хромой Костик. Он увидел Миколу в саду с косой. Было раннее утро, солнце еще не взошло, лишь восток плавился, обещая жаркий солнечный день, а Микола уже чиркал бруском по косе. За годы, что его не было дома, вдоль забора в саду буйно и дико разрослись кусты крыжовника, побеги слив и крапива, и Микола махал косой осторожно, не косил, а подсекал молодые побеги, держа косу так, чтоб не зацепить за какой сук или камень.
«Когда он вернулся? Вчера вечером Марфа приходила смотреть телевизор и ничего не сказала, не заикнулась даже. Значит, неожиданно, ночью», — думал Костик, незаметно из-за забора наблюдая за Миколой и раздумывая, как быть: подойти к нему или подождать, пока Микола увидит его и подойдет сам? Решил подождать. Еще не известно, как тот посмотрит на Костика. Может, таит обиду, потому что Костику не раз приходилось рассказывать и на следствии, и на суде о том, как он в те морозные сумерки забежал к Марфе во двор, заглянул в окно, хотел позвать Лариона в баню и увидел, что Ларион лежит на полу, а Микола ползает с тряпкой возле него, кровь вытирает. Не дай бог никому такое увидеть!..
Теперь Костик смотрел на Миколу и удивлялся: тот нисколько не изменился, человек как человек, машет косой так же, как и всякий здоровый мужчина, мускулы буграми. Спокойно себе косит, словно и не было никакой тюрьмы. Костик невольно взглянул на свои худые руки — одни сухожилия…
Дверь Марфиной хаты открылась, вышла сама Марфа, подошла к плетню, сняла одну из висевших на нем крынок.
— Не надо было так рано, успел бы еще выкосить, — сказала сыну громко, во весь голос, а саму, видно же, распирает от радости. Повела глазами по сторонам, не смотрит ли кто, вернулась в хату. За нею выскочила Люся с ведрами — набрать воды. Микола смотрел, как она вытаскивала ведро на веревке — стрела еще в прошлом году хрястнула пополам и лежала здесь же в траве, — подошел, взял у нее из рук веревку, зачерпнул второе ведро, вытащил, легонько хлопнул жену ладонью по крутому месту пониже поясницы. Она незлобно замахнулась на него локтем.
— Вот сейчас схлопочешь! — но Микола даже не шелохнулся, бесстыже смотрел ей в лицо, подзадоривая взглядом, словно на что-то намекая, и она вскинула голову, шутливо оттолкнула его. — Иди коси.
И он пошел упругой кошачьей походкой. Снова взял косу, долго и старательно чиркал по ней бруском, широко расставив ноги, и на лице его были спокойствие и удовлетворенность. И это больше всего не понравилось Костику, показалось каким-то неестественным, ложным. Костик был уверен, что так не должно быть. Ведь если посмотреть, кто не знает, так будто не в тюрьме сидел человек, а был где-то, может, служил в армии да вот возвратился домой или уезжал в далекую командировку.
«Чик-чик, чик-чик!» — прошелся Микола бруском по косе от пятки до носка, воткнув косовище в землю и крепко держа левой рукой за рубчик, как норовистого коня за храп, и, прежде чем положить брусок в задний карман спортивных брюк, застыл, вспомнив что-то. Из-за плетня брызнули первые лучи солнца, легли на лицо Миколы, он улыбнулся чему-то, и эта улыбка прямо потрясла Костика. Он уже хотел было идти поздороваться с Миколой: что поделаешь, всякое в жизни бывает, случилось несчастье, никто не хотел этого, человек много пережил, передумал, Лариона все равно с того света не вернешь, а этому надо жить, растить дочь. Но вот эта улыбка… Неужели можно вот так улыбаться после всего того, что было? Неужели можно забыть обо всем?.. Пускай это было и пять лет назад, но ведь это такое, о чем нельзя вспоминать без ужаса. А тут улыбка, как у святого, как у невинного ребенка… И эта игра с женой… Костик постоял, подождал, пока Микола снова не начнет косить, и пошел в хату, забыв о том, зачем выходил во двор… А выходил с ведром, воды набрать.
— Что это ты бегаешь, словно тебе углей за пазуху насыпали? — встретила Гелька, жена. — Или не за водой я тебя посылала, а?
— Воды? Так вот зараз, значится, и принесу, — пробормотал Костик и повернул назад во двор. Принес полное ведро, поставил возле печи. — Микола вернулся… — сказал пустым, как бы безразличным голосом. Гелька словно не слышала, возилась с чугунками. Костик повернулся к жене: — Говорю, Марфин Микола из тюрьмы пришел, косит в огороде. — Костик смотрел в печь, на огонь, виновато моргая глазами, словно огонь мешал смотреть спокойно.
— То и добре, что пришел, — Гелька распрямилась, подперев ухватом подбородок. — Марфа так еще в прошлом месяце ждала его, должны были отпустить. Хоть на жинку да на дочку наглядится, а то не успел жениться — и на тебе…
— Раскудахталась, — раздраженно перебил жену Костик. — Поглядел и погладил уже, ха-ха! — Костик вспомнил только что увиденное у колодца.
— Вот-вот, а я что говорила. Ты вот все собираешься овсяницу скосить, и клевер весь полег, да все времени не выберешь, а если человек работящий, так сразу… И спать ему некогда. Учись, как жить надо…
— Учись! Скажет, как свяжет. Учись… Человека бутылкой по голове… Учись…
— Что ты вспоминаешь прошлогодний снег? Разве он его убил? Водка убила. Да и отбыл же свое. И еще раз говорю: ты выберешься косить, когда овсяница вся сгниет…
— Выберусь, не бойся. Его просить не пойду.
— У тебя всегда одна песня: лишь бы не сегодня…
— Хорошую песню не грех и лишний раз послушать…
— А то как же… Наслушалась уже за свой век, слава богу.
Костик вышел во двор, яростно хлопнув дверью. Достал из-под стрехи косу, выкатил во двор колоду с наковальней, уселся на приступке у повети, начал отбивать косу. Тюкал молотком, и приятный уху звук заполнял двор. Время от времени Костик проверял на глаз, ровно ли отбивается коса, трогал пальцем лезвие, а ухо невольно ловило сухое шуршание косы за соседским плетнем, спокойное, размеренное в силе я ритме. И Костика бесили это шуршание, эта сила, и он снова брал в руки молоток.
Костик вышел косить, когда шуршание за плетнем утихло — Миколу позвали завтракать.
Вначале Костик обкосил телевизионную антенну. Воткнул косовище в землю, покачал туда-сюда антенну. Что-то случилось с телевизором, плохо показывает вторую программу: изображение мелькает на экране, сеется, как сквозь решето.
«Жик-жик! Жик-жик!» — пела его коса на мягкой овсянице, и следы ложились вокруг антенны, все дальше и дальше от нее.
Микола подошел неожиданно, Костик аж вздрогнул, когда тот поздоровался.
— Ну, брат, и пугливый ты стал, — довольно рассмеялся Микола, заметив, испуг Костика. Снисходительно успокоил: — Не бойся, дядя маленьких не бьет, а больших и сам боится, — и протянул широкую пятерню. Костик ткнул навстречу свою ладонь, и она скрылась в руке Миколы.
— Да вот решил покосить немного, а то, холера на нее, полегла вся и преть уже начала снизу. Да и жинка все нутро изгрызла, — начал оправдываться Костик, указав рукой на овсяницу и боясь поднять глаза, чтоб не встретиться взглядом с Миколой. Ему казалось, что тому будет неловко после всего того, что было. Но долго ли можно стоять рядом, разговаривать и не смотреть друг на друга? И Костик осмелился, блеснул Миколе в лицо, напоролся на его глаза. И удивился: Микола смотрел спокойно и прямо, а в глубине его черных озорных глаз еще вроде бы и смешинка поблескивала. Правда, несколько морщин залегло на лбу, два упрямых ручейка протекли ото рта вниз, а в остальном никаких изменений. А он-то, дурак, думал… Думал, где-то поседел человек от мыслей, от переживаний. — Так это, как ты?.. — уже смелее посмотрел Костик на Миколу. «Не-ет, брат, что ни говори, а тюрьма — не дом отдыха. Досталось и тебе, горемычному. Потемнел с лица, зачерствел».
— Как видишь, вернулся… А тут, сам знаешь, работы непочатый край. Запустили бабы все, будто и не жили здесь. Да и какой с них спрос, бабы есть бабы. Ворота осели, двери перекосились, стрела на колодце сгнила, сломалась, хорошо еще, что никого не угробила. Новую надо ставить. В саду крапива все заглушила, сливы пустили отростки вровень с забором. У тебя-то лучше, чище, но тоже не бог весть что. — Микола смотрел на Костика, кривил губы в ухмылке. Словно намекал на его нерасторопность. И тогда, до суда, любил насмешничать… Гляди ты, не отучился…
— Насовсем пришел? — спросил Костик.
— Ну ты и даешь. «Насовсем»… А то как же? Оттуда на побывку не пускают. Насовсем… Правда, судимость еще не сняли.
— Я тоже думаю, что там нет того, чтоб, погулять пускали. Это же не просто людей собрали на работу или по призыву… Ага, не просто так…
— По своей охоте туда никто не просится, — Микола достал пачку папирос. — Закуришь?
— Не-а, отвыкаю. Кашель душить начал, — Костик потер грудь. — Так, говоришь, не по своей воле? Это мы знаем. Об этом никому не рассказывай. Какая там воля. Ну, и много там таких?
— Каких таких?
— Ну; таких, как ты… Ну, которые убили кого или, не доведи господь, зарезали, может… Таких…
— Всякие есть… И за хулиганство, и за ножик. Чудаков на свете хватает…
— Ишь ты их как — чудаки! И слово же нашел какое… Нелюди… Пускай война была, стреляли друг друга. Ну так на то она и война. Это серьезно, здесь принцип, здесь враги. Здесь каждый знает, на что идет, за что борется. А сейчас? Или тебе мало места на земле, или тебе тесно? Живи, работай, плоди детей, корми. Так нет, мало ему…
— А ты что думал? Только и жизнь, что тут вот, в Глыбочке твоей… Я насмотрелся, повозили. Это ты примерз тут, прирос, как трут к пню. А молодому хочется все поглядеть, своими руками пощупать, попробовать…
— Так гляди, ядри твою корень, разве кто запрещает… Так нет же… Он ножик в руки и сердце человеку щекотать… А потом его за шкирку… да за проволоку, за решетку, — Костик сложил накрест пальцы рук, поднес к лицу, — во-во-от сюда, за окошко: я тебя вижу, а ты меня нет. Вот так!
— Всяко бывает, — вздохнул Микола.
— Не всяко, а как раз этим и кончается… Скажи, Микола, а тебе не страшно там было?..
— А чего мне бояться? Что я, маленький?
— Конечно, не маленький… Да все равно после всего того… Как ни крути… Говорят, покойники после такого часто снятся. Не снился Ларион?
Микола помолчал, пожевал папиросу.
— Не снился… Да там и не до этого было…
— Как не до этого? Все-таки семь годков…
— Семь по суду, а по правде пять.
— Хотя что это я говорю — семь, — спохватился, поправился Костик, с каким-то детским любопытством глядя на Миколу. Казалось, только теперь он по-настоящему понял, что перед ним Марфин Микола, тот самый Микола, который в тюрьме, и только теперь Костик по-настоящему заинтересовался им. Он словно не замечал, что это его любопытство не по нутру Миколе.
— Ты видел когда-нибудь горы? Настоящие каменные горы? Не курганы наши… Нет! И смотрел когда-нибудь с сорокаметровой опоры на землю? Смотрел? — Микола выплюнул окурок под ноги, потряс головой. — Нет? То-то же. И не работал никогда на такой высоте. Человек с такой вышки — что муравей.
— Так разве заставляют лезть на эти опоры?
— Никто никого не заставляет, не гонит. Добровольно просятся. Хочешь поскорее увидеть семью, сам попросишься. Или грудь в крестах, или голова в кустах… А то, думаешь, так бы выпустили Миколу раньше времени? Дураков нет, — Микола сорвал травинку, начал нервно кусать ее, кусал и сплевывал. Лицо его стало сухим, злым, голос далеким. — Там, брат, начинаешь хорошо разбираться, что такое жизнь. Как подумаешь, что тебе уже двадцать пять, а ты еще ничего на свете не увидел, ничего не попробовал — ни сладкого, ни соленого, ни ты не любил, ни тебя не любили, — как подумаешь обо всем этом, то не только на опору, на стену полезешь.
— Всякое живое существо жить хочет…
— А-а, что ты смыслишь во всем этом! Побыл бы на моем месте…
— И то правда. От одних переживаний умер бы… Убить человека…
— Я не об этом, — поморщился, словно от зубной боли, Микола, — я о тюрьме говорю, о той жизни… Да ладно, что вспоминать, — улыбнулся он. — Теперь о другом думать надо. В мастерскую вот собрался: болты подобрать к петлям, топор наточить… С этим и вышел во двор, да тебя увидел… Думаю, зайду, поздороваюсь. Давно не виделись.
— Ага, живой о живом думает… У меня так с телевизором что-то стряслось, вторая программа плохо идет, никак настроить не могу. Мелькает экран, и все тут… А в мастерской ты вряд ли чего добьешься, только напрасно сходишь. Там-то теперь все будут — и Рыгор, и механик, и Алесь. Жатва, суматоха, то одно сломается, то другое, колхозной работы невпроворот, а тут еще каждый со своим лезет. Вчера пошел крепило на косовище наладить, так не взялись — некогда.
— А я все же схожу…
— Разве я не пускаю тебя, иди. И мне махать надо, вон еще сколько осталось. Ишь, как припекает, а ведь и невысоко поднялось, — Костик взглянул на солнце и поспешно зачиркал бруском по косе.
Микола пошел в свой двор, оттуда на улицу. В мастерской он не задержался, спустя каких-то полчаса уже был дома. «А я что говорил, теперь не до тебя, нож наточить не подступишься», — подумал Костик, увидев его. Но присмотрелся, Микола возвращался не с пустыми руками, на петлях позванивали болты и гайки, и на топоре выше острия виднелась широкая желтая полоска — налет от мягкого точила. На этом точиле Рыгор разрешал точить только ножи и долота. «Вот и раскуси его, Рыгора этого, — подумал Костик о кузнеце. — Меня вчера так с косой шуганул, а этому черту лохматому нашел время и болты с гайками подобрать, и топор наточить…»
Сам «черт лохматый» был хмурый и сразу принялся за работу.
«Мне крепило на косовище сварить времени нет, если хочешь, сам покопайся среди лома, может, найдешь какое старое, а когда станет посвободнее, придумаем что получше, а этому так все нашлось…» — растравлял себя Костик, вспоминая слова Рыгора. Он сердито махал косой, подбирая полеглую овсяницу.
Докосил в саду, вышел за хлев, на клевер. Здесь было труднее: клевер высокий, густой, пудов пятьдесят наберется, не меньше, но лежал он пластом, сбитый, перепутанный ветром и дождем, неизвестно, с какой стороны к нему подступиться. И все же к обеду Костик скосил ладный кусок.
Немного полежал в прохладных сенях, выждал, когда солнце покатится вниз и спадет жара. Снова вышел на клевер. Но скошенный кусок увеличивался медленно: косу все чаще надо было подправлять бруском, то и дело хотелось пить и он ходил в сени, где стоял хлебный квас.
Микола что-то мастерил на своем дворе. Под вечер, когда солнце опустилось к лесу, пришел на сотки Костика.
— Кончай дурную работу, пойдем к нам.
— Нет, не пойду, вы уж сами там как-нибудь управляйтесь, — начал слабо отговариваться Костик, поглядывая на свой двор. Ему и хотелось пойти — надоело косить, — и знал, что Гелька не похвалит за такое.
— Да не гляди ты, Гельки нет, вместе с моей на току. Попозже и они придут, выпьют по чарке. Думаешь, у них души нет, им не хочется? Пошли, там уже все готово.
— Ну, разве что так, разве что вместе с бабами, — согласился Костик и пошел вслед за Миколой.
Пока Костик косил, Микола успел подкопать и выпрямить столбы в воротах, навесил новые петли, далее крюки смазал тавотом, чтоб легче ходили. «Черт лохматый, ну и хватка. Где ни повернется, всюду горит», — подумал с завистью Костик, прикинув, какую уйму работы переделал Микола за полдня. Костику хватило бы дня на три.
Дверь в сенях тоже висела на новых петлях. «А это уже зря, на новые петли да старую дверь. Надо было б и дверь сменить», — посоветовал мысленно Костик. На двери были видны глубокие вмятины, они остались с той ночи, когда Микола сидел на чердаке и бросался кирпичами — отпугивал людей. И Костику стало как-то не по себе, как и в ту ночь, когда и участковый, и люди уговаривали Миколу слезть с чердака, а тот молча швырял из темноты вниз кирпичи.
С той поры минуло пять лет, а в хате этой Костик был раза два, и то так, мимоходом, и теперь, как только переступил порог, взгляд как-то сам собой уперся в пол — в то место, где тогда лежала голова старого Лариона. В том месте в половице чернел большой сук, а возле него тогда натекла лужа крови. И сегодня Костик сразу увидел этот сук, и ему показалось, что и сейчас вокруг него все еще что-то ржавеет.
Взгляд Костика заметили Микола и Марфа — она стояла возле окна, ожидала их, — Микола поморщился, а Марфа закудахтала, словно курица возле цыплят:
— Давайте, мужчинки, сюда, за стол. Работу никогда не переробишь. Или, может, Костик, руки вымыть хочешь, то давай полью.
— А оно, наверно, надо б и ополоснуть, — согласился Костик, поворачивая назад, во двор. Он вымыл руки, вытер ручником, который Марфа держала на плече, пошел в хату.
Их, по всему было видно, давно уже ждали. На столе стояло все что нужно в такую минуту. Кроме тарелок и бутылки с водкой стояла — Костика аж передернуло — темная бутылка из-под шампанского… «Неужели та самая? Неужели не выбросили?»
— Ты не бойся, Костик, в ней не водка, — по-своему поняла взгляд Костика Марфа. — Там яблочный сок, может, кто захочет запить. Еще осенью с Люсей заготовили, так литров с десять и теперь стоит.
Костик махнул рукой, сок так сок, примерился глазом к небольшой полной рюмке: куда ты денешься, жить в соседстве и смотреть волком друг на друга…
— Давай, Костик, давайте, мужчинки, выпейте, и я с вами подниму чарку. Это же такая радость в нашей хате, такой праздник. Пускай оно утонет, то горе, — Марфа заморгала, заплакала, но тут же утерла глаза уголком платка, и, словно не было слез, глаза засветились радостью. — Давайте, мужчинки, — и первой выпила, подзадоривая их.
— А-а-а, где наше не пропадало, — поднял рюмку и Костик.
Марфа посидела немного за столом и убежала по своим делам, мало ли их у хозяйки летним вечером. Мужчины остались одни. Выпивка двигалась не очень споро, особенного желания пить не было ни у Костика, ни у Миколы, по-видимому, виной тому была еще и духота на дворе, она чувствовалась и тут, в хате. Микола раза два подбавлял в рюмки, сам аккуратно выливал до дна, Костик — наполовину. Микола был злой, грустный, хотя и пытался улыбаться, и подгонял Костика с выпивкой. Костик сопел, оглядывался по углам, словно впервые был здесь, а глаза нет-нет да и натыкались то на темную бутылку на столе, то на половицу с черным суком.
— Холера его знает, с этим телевизором, — заговорил он, и казалось, что только телевизор и занимает его теперь. — Первая программа идет хорошо, чисто, а со второй что-то стряслось. Включишь, и начинает мелькать, то полоски какие-то, то словно снег идет где-то и весь экран заслоняет. Думал, может, антенна виновата, вертел ее и так и этак, все едино. Бывает, хорошую картину передают или так, программа какая, концерт, ничего нельзя разобрать, голос хорошо слышен, а изображения не разобрать.
— Телевизоры — не моя специальность. Если б у тебя с электричеством что-нибудь такое, тут я могу… А это… не моя область.
— Не хочется, ой как не хочется, а, наверно, придется везти в район к мастеру, чтоб поглядел. Там, может, и ремонта того раз плюнуть, может, лампу заменить, да куда ты денешься. С моими граблями в телевизор не полезешь. Еще стукнет так, что копыта откинешь, молодую вдову оставишь — ха-ха! Я перечитывал инструкцию, знаешь, там остаточные токи ходят, да еще и какие токи. Лучше их не трогать…
— Тут ты прав, если не петришь, не лезь. Лучше позови человека, который разбирается. Это проще и дешевле… Ну, поехали… Как ты говоришь, где наше не пропадало. Все же встретились через столько лет, соседи, что ни говори, хотя и показывают на суде друг на друга.
— Ага, показывают, — согласился Костик.
— Даже и тогда, когда их никто не принуждает, не просит…
Рука Костика с рюмкой шла ко рту и вдруг застыла на полдороге. Он цепко, с обостренным вниманием посмотрел на Миколу.
— Ага, и принуждать никто не принуждал, и просить никто не просил…
Микола кисло ухмыльнулся.
— Ну, чего натопырился? Не переживай, я злости на тебя не ношу… Пей…
— А что, и выпью, — снова согласился Костик и выпил. Он был совсем трезвый, а теперь как будто и повеселел, и Микола тоже не был пьян, разве что, может, немного осовел. Закусывали молча, в каком-то тяжелом, гнетущем молчании. Микола откусил кусочек мяса, положил вилку на стол, прижал кулаком, поднял тяжелые глаза на Костика.
Знаешь, обидно… Свои люди…
— Что обидно?
— Ничего. Это не о тебе… — Микола помолчал. — Пошел я в мастерскую. Ну, ты же видел, болты нужно было подобрать, топор наточить, тут им, наверно, гвозди секли… Возле кузницы Ленька Зубатый, Витька, еще один, не знаю, кто такой, черный, коротконогий с узенькими, будто прорезанными осокой глазками…
— Новый инженер, недавно приехал.
— Оно и видно, что начальник, потому что хлопцы с ним на «вы». Ленька и Витька, наверное, прямо с поля, от комбайна. Мотовило побили, цепь порвали, приехали подменить, из старого новое лепили. «Га-га-га, га-га-га», — где работа, где смех. Смеха больше, чем работы. И тут подошел я со своими петлями… — Микола пожевал мясо, проглотил, наклонился через стол к Костику. — Подошел я… Подошел, так у них будто языки отнялись. Будто отсекло. Бросили работу и смотрят на меня, словно я с неба свалился. Ну, пусть инженер, он человек чужой, не знает меня, а эти, и Ленька, и Витька, ровесники, можно сказать, баранку вместе крутили. Да и сам Рыгор… Во всяких переплетах доводилось мне бывать, но чтоб такое… Чтоб свои хлопцы и так не рады были… Руку боятся подать… А этот, черный, инженер, смотрит на нас, на комедию эту, и ничегошеньки не понимает. Щелочками своими то на меня, то на них зыркает: что такое? Наконец Витька разнял челюсти: «Рыгор, это, наверно, к тебе…» «Наверно, к тебе»! Словно меня там нет, словно я сам не знаю, к кому мне надо! А Рыгор хвостом завертел: «Ничего не будет, мотовило надо кончать». — «Мы тут без тебя управимся», — снова закомандовал Витька. Начальник какой. Закомандовал, а сам смотрит на черного, согласия его требует. И тот кивнул головой, разрешил — все расступились, пропустили меня в кузницу.
— Значит, уважили, — хихикнул Костик. — Ишь, не поглядели, что жатва, что горячка… А я вчера ходил кольцо на косовище сварить, так отправил… сам Рыгор отправил. Некогда, говорит. А тебя, вишь, уважили.
— Уважили… Я нутром чую их уважение, поперек горла засело это уважение… Чтоб побыстрее отделаться от меня, чтоб глаз не мозолил… — Микола налил себе и, не ожидая Костика, выпил — жадно, одним махом, как воду. Заметил, что Костик не взял рюмку. — А ты почему не пьешь? Пей, не стесняйся. Я зла на тебя не ношу.
— Это хорошо, что не носишь, — Костик засмеялся, но сразу же притих, подался к Миколе. — Слушай, Микола, вот тогда, на суде и до суда еще, и теперь я все никак не могу дойти, из-за чего это все у вас вышло? Тому, что ты на суде говорил, будто не помнишь ничего, что это просто, как его, аффект, кажись, такой был, я ни граммулечки не верю. Так не бывает. Ты злой был на него, только в злости можно так…
— Злой, говоришь?.. Конечно, злой. Он мне не нравился. Да что не нравился, я не любил его, я его переваривать не мог. С самого первого дня, как мать привела его в хату. И чем дальше — больше…
— Самого не переваривал, а хлеб его ел. Он же учиться тебе помогал и заботился, чтоб ты и одет и обут был, и все такое. И к тому же отчим, отец твой, пусть не родной, а отец, муж твоей матери.
— Отчим… В том-то, может, и беда, что отчим… А может, и не в том… Отчим — не отец, хотя и спит на той кровати, где спал отец. Хлипкий он был, слабой породы. И очень любил поговорить, поучать любил… Праведник. То не так, это не так. Там неправильно ступил, там не так сделал. Я давно собирался проучить его. Но разве я знал, что он такой слабак… А тут еще водка, и он под злость сказанул что-то… Не помню уже что. Ну, я и треснул… бутылкой… — Микола кивнул на бутылку с яблочным соком, она, нетронутая, так и стояла на столе. — А потом словно провал какой-то… Помню только, что вы обложили меня на чердаке, как волка… Хотя нет… Еще помню, как мелькнуло чье-то лицо под окном… Тогда я не узнал тебя, потом, уже на суде, выяснилось, что это был ты… Хотя какая разница… Не ты выдал бы, так кто-то другой. Правда, обидно было, особенно там, на суде. Знаешь, была даже такая мысль: «Ну, погоди, Костик, разве что не доведется мне вернуться, а то припомню тебе, выпрямлю твою загогулину, чтоб не лазил под окнами, погоди только…» — Микола улыбнулся, словно вспомнил что-то хорошее, давнее, не видел, как каменеет, напрягается лицо Костика, как у него начал судорожно дрожать подбородок.
— Слушай, так у тебя была на меня обида? И даже злость? — прошептал Костик побелевшими губами.
— Была, признаюсь. Кто людей собрал? Ты, Костик. Кто просил тебя лезть под мое окно, а? Кто?
— Так я же хотел… в баню позвать… Старика хотел, тебя…
— Черт с ней, с баней… Когда свинью режут, ей не до поросят…
— А если б… а если б это не Ларион, а ты… лежал пластом?.. И тогда надо было бы молчать?..
— Ну, сравнил! Ларион — это Ларион, а я — это я…
— Так это что? Выходит, я виноват?
— Ну, как тебе сказать… Ежели по суду, то нет, а ежели по-соседски…
— Так… А может, теперь ты все же… простишь мне мою вину, а? Хоть теперь простишь… мою… вину? — каким-то неестественно высоким голосом взвизгнул Костик.
— Ну чего ты раскричался? Я же говорю, что злости на тебя не ношу. Что было, то сплыло, и кто старое помянет… Возьми лучше выпей, и я с тобой за компанию, — Микола снова налил себе. — Конечно, прощаю. А иначе, как же жить в соседстве… Только скажу честно, если, не дай бог, еще что-нибудь такое… Тогда гляди, тогда помни…
— Что ты сказал?.. — Костик почувствовал, будто щелкнула какая-то пружинка внутри, соскочила задвижка с души, томная легкость стукнула в голову, и перед глазами поплыл туман. Рука сама пошла по столу, наткнулась на что-то круглое и толстое, у этого круглого и толстого был тонкий конец, пальцы крепко сжались на нем… Плохо понимая, что делает, Костик размахнулся и саданул круглым и толстым по наклоненной голове Миколы. Микола поднял голову, удивленно, широко раскрытыми воловьими глазами посмотрел на Костика, словно пытался что-то понять, но, по-видимому, очень мало времени было отпущено ему на это, глаза закатились, и он грохнулся на пол. Костик вскочил с места, опустился на колени возле Миколы, припал ухом к груди, долго прислушивался. Услышал стук сердца, оно билось где-то далеко и глухо.
В это время открылась дверь и на пороге показалась Марфа. Увидела Миколу, Костика, бросилась к ним.
— А боже, что это такое?
— Ничего. Разговорились тут за чаркой. Я ненароком стукнул его. Думал, он здоровяк, молодой, ан нет, хлипкий какой-то, слабак. Совсем слабак…
— Убил! Убил, черт хромоногий! А боже мой! — заголосила Марфа.
— Живой он, не голоси. Лучше помоги поднять да положить на кровать. Пускай отдышится… Да воды принеси.
Они перетащили Миколу на кровать. Костик расстегнул у него на груди рубашку, взял кружку с водой у Марфы, брызнул Миколе в лицо. Микола шевельнул веками, потом тяжело раскрыл мутные глаза, долго смотрел в потолок. Понемногу глаза начали проясняться, что-то живое, осмысленное появилось в них, он перевел взгляд на Марфу, на Костика, дернул губами, словно хотел улыбнуться, и снова закрыл глаза.
— Убил, убил сыночка, насмерть убил, — снова запричитала Марфа. — Помирает дитятко мое. Треба людей звать, участковому заявить…
— Перестань, не поднимай шума, — послышался глухой голос Миколы. — Дай полежать спокойно.
— Полежи, сынок, полежи, дорогой… А божечка мой… Мне сдалось, что он убил тебя, совсем убил, насмерть убил…
— Не убил… Еще не убил, — Микола скривил губы в жалостной улыбке, перевел глаза на Костика. — А ты хорошо меня… по темю… Правильно… Так мне и надо.
— А что же это деется?.. Как же это дальше жить будем? — голосила Марфа.
— Как все люди, — сказал Костик и вышел из хаты.
Назавтра с самого утра Костик махал косой за хлевом — докашивал клевер. Когда коса начинала тупиться, доставал брусок, точил ее, морщился — вспоминал вчерашнее — и снова продолжал косить, сердито хмурясь.
Перед завтраком на сотки вышел и Микола, зашел спереди, по некошеному, поздоровался. Костик буркнул себе что-то под нос.
— Никогда б не подумал, что ты такой горячий. Заводишься с пол-оборота, — Микола стоял и, прищурясь, внимательно смотрел на Костика, пытаясь улыбаться, но улыбка получалась какая-то вымученная. Костик не поднимал головы, словно не видел его, махал и махал косой. — Да ты не переживай, Костик, — проглотил комок Микола. — Я на тебя зла не ношу… хотя ты на меня и руку поднял… — Микола говорил, а губы будто окаменели, не слушались.
— Отстань… и не стой впереди, — рассердился Костик, он докосил до самых ног Миколы. — Не стой, что я, тебя обкашивать буду?
Улыбка медленно поползла с лица Миколы, поползла и перекосила лицо. Микола повернулся и пошел в свой двор, ссутулясь, втянув голову в плечи.
И теперь, может, впервые за все время Костику стало жаль его. «Не-е-ет, брат, что ни говори, жизнь — как хорошая жена, она правду любит, ой, любит».
Перевод с белорусского В. Щедриной
Грант Матевосян Твой род
Не нравишься ты мне, жалкий ты, не нравишься, сын мой, кровь моя, первенец мой, моя надежда, плохой ты, злости в тебе никакой. Твой дед, а мой отец Ишхан — у него лошаденка была, небольшая, чистых кровей, на вид невзрачная, неказистая, для армии и то не взяли, забраковали, так, говорят, от злости лопалась, когда какая-нибудь другая лошадь опережала ее, летела, как осатанелая, легкие звенели, из ноздрей пламя рвалось, так вся и разрывалась, кроха этакая, от злости. У Ишхана все злым должно было быть: и собака на цепи, и дети, и крапива у изгороди, и змея в палисаднике. А ты нехороший. Кого ни спрошу, хвалят тебя и смеются — мол, и добрый ты, и совестливый, да-а-а… И этот смех ихний меня ножом по сердцу, ранит меня, сын мой, сын мой. Мой отец и твой дед премудростей всяких не изрекал, у него и времени-то не было думать, он человеком дела был, земля под его ногами так и горела, но однажды он вполголоса бросил через плечо моей мачехе, и это было похоже на то, как если б он деньги ей на хлеб швырнул, и я повторяю вслед за ним теперь: человек не должен быть таким сладким, чтобы его живьем заглотали, и человек не должен быть таким горьким, чтобы тут же хотелось выплюнуть. Тебя заглотали живьем, сын мой тебя только и делают, что заглатывают. Говоришь, совесть, но совесть, знаешь, когда хороша — когда она у зверя. А у тебя не совесть — жалкий ты, вот в чем дело. Весь Ванкер был благодарен Ишхану за что, думаешь? Он мог навредить всем. Мог ведь, сам знаешь, страх перед ним как смерч висел, тянулся от Ванкера до Борчалу, от Борчалу до Касаха и каждую минуту мог обернуться молнией и разорваться над любым. И для всех было великой милостью со стороны Ишхана, что молния эта не разрывалась, а то иной милости, иного прока от него никому никогда не было. Добро всем делал другой твой дед, мой свекор Аветик. Чужим — и пчела, и сад, и топорище для топора, и все что угодно, и в армию вместо женатого брата, и заложником вместо осужденного племянника. Он божьей милостью был для всего села, а что сказал про него его младший брат Гикор: «Это как же, он за Саркиса и в заложники пойдет, а для меня одной разнесчастной телеги не может сообразить» (лесник с Гикора за один срубленный дуб целую телегу запросил, знал, с кого спрашивает, чей род, чья порода перед ним). Твой дед и мой свекор Аветик, он только такого к себе отношения заслуживал, ты не думай, что его поведение как-нибудь иначе могло расцениваться. Кто-нибудь сказал спасибо его кобыле? Никто. Поклажу снимали и прутом по животу — пошла-а-а! Груз — нам, взмыленная кобыла — хозяину. Совесть, на совести еще совесть, одна сплошная совесть, внутри совесть, снаружи — совесть, это совесть или тряпичный заяц, сын мой, моя забота, мое несчастье, мое беспокойство, мой груз пожизненный, горе мое. Девушку увидите, останавливаетесь и — слезы на глазах, парня увидите — разинув рот смотрите, из-за больного ягненка — плачете, из-за малого теленка — плачете. У вас в груди мужское сердце или же ашут — с сазом в руках сидит? Твой дед Аветик медленный, сонный, и как знать, добрый или же трусливый? И как это вышло, что та маленькая толика ихней жиденькой крови, водицы, скажем, будет правильнее, как сумела встать поперек Ишхановой яростной, бурлящей крови, этой отчаянной, этой лживой, льстивой, бессонной, живой и мстительной, разбойничьей крови арнаута, как могла перебить такую кровь та жалкая капля Аветиковой крови? Или же настолько это приятно сидеть, подогнув под себя ноги, улыбаться сквозь дрему и верить и надеяться, что мир добрый. Козел для вас — куст, волк — козел. Козел ты или же куст, волк или козел — кто? Или — или. А вы сидите и ждете своего рая. Вам чтобы колокола звенели в вечернем воздухе, чтобы пел в тиши монастырский родник и чтобы среди усталых сумерек вас, навьюченных, привели, чтобы сняли с вас груз посреди этого христова вечера и чтоб чужое спасибо задушило вас, встало вам поперек горла. «Спасибо, лошадь, из Борчалу на зиму хлеба для детей принесла, премного тебе обязаны, лошадь, ступай, до свидания, ступай к себе теперь».
Человек и животное отличаются друг от друга памятью, между человеком и скотиной стоит память, знаешь — нет? Память в тебе, значит, горишь ты, значит, человек со своими счетами, со своим беспокойством, а нет в тебе памяти — вот в поле корова пасется, она беспамятная. Телка ее вчера зарезали, но она беспамятная. Вон дерево стоит — если у него есть память, то и у дорогих твоих родичей она есть. Твоих режут, под корень срубают, обделяют, насмехаются над ними — твои бегут от такой памяти, твои сбегут, все забудут и опять обделенными будут, и опять у них не будет памяти, потому что они боятся против насмешки с кулаком пойти и на лишения еще пущим лишением ответить… Говорите — любовь, говорите — любим, любите. А что вам еще делать, любите, потому что мужества в вас нет, чтобы кусаться, бить, обделять. Чтоб ненавидеть. Вы боитесь ненавидеть, вы вашу любовь платком сделали, завязали ею глаза, потому что вы боитесь взглянуть в упор и возненавидеть — вдруг увидят, что ненавидите, возьмут и пристукнут. Убьют. Не бойтесь, умереть не так-то уж легко, и захотите — не умрете, пускай-ка разок с вашей головой и у них кулак поболит, посмотрим, в другой раз сунутся? Встаньте разочек, как мужчины, пусть сгибают вас, пусть всю силу свою на вас испытают, а вы не сгибайтесь, пусть всю, какая есть, силу, положат, посмотрим, в другой раз полезут ли гнуть, посмеют ли приблизиться. Моему отцу хоть пламя в глаза суй, мой отец и не моргнул бы. Мой отец смотрел бы в упор, мой отец смотрел бы и высмотрел и запомнил бы. Мой отец ничего не забывал, никому не спускал. Как золото, как золото, которое он прятал-перепрятывал, так и память моего отца, то являлась на свет божий, то пряталась в тайник, но никогда не терялась, никогда. В маленьком его, с горстку, теле она где-нибудь пряталась, надежно схоронившись, и, когда приходило время, мой отец вытаскивал свои старые счета, и они сверкали и блестели, как начищенная сабля. Такой был мой отец. Вот тебе одни твои родичи, вот другие. Из которых ты, отвечай?
А что болтают про моего отца разную там ерунду, будто бы, ну, знаешь, в общем, так это от великого страха, это они гладят его, почесывают, чтоб не лягнул ненароком. Это они довольны, это рады, что он не у них украл, не из них кого-нибудь убил, не их шуганул. Ну, ты знаешь все это, будто бы он привязал кошку за веревку, закинул ее на верхний этаж, кошка вцепилась в ковер, и так он упер-утянул этот ковер. Или же будто бы: «Ребятки, ребятки, ловите курицу, курицу, курицу… Убежала, проклятая!» — и чужую курицу на чужой улице чужих ребятишек заставил поймать и домой принес, как ни в чем не бывало. Корову свою будто бы здесь потерял. Здесь будто бы потерял, а в Марнеуле, в Грузии, схватил за шиворот кого-то: «Вон она, моя корова, вон она, нашел!» Ну, да все это было, ковер этот до сих пор в доме моего брата висит, а корова та потом пропала с нашего двора, потому что ее ты стерег, потому что ты из породы Аветика, а не Ишхана. — Ты читал книжку, и корова пропала. «Только что здесь была». — «Только что — когда?» — «Только что». — «Только что» — утром, в обед или же вечером? Потому что время для тебя и для твоих не существует, время для вас вообще отсутствует. Время было создано для него, для отца моего, для Ишхана, он от времени, как от бешеной собаки, бежал, время за ним не поспевало. Все быстро-быстро, разом-разом, как ласточка гнездо себе лепит, яйца кладет, птенцов высиживает, спит вполглаза, свесившись из гнезда, — все мигом-мигом, быстро-быстро, прохладно стало, выстроилась вместе с птенцами, готова к перелету. Ишхан был в Андраниковом войске. Андраник ушел, войско следом за ним, а кто не ушел, здесь остался. «Ах, Андраник, Андраник». Эти «Андраник», а твой дед уже перегоняет стадо из Кошакара в Товуз, из Товуза в Кошакар. А между делом продает ворованную скотину. Да, бывшие андраниковцы еще «Ах, Андраник» тянули, андраниковских уже стали забирать, за бандитов принялись, — а твой дед уже вступил в кооператив, на своих волах кооперативный камень перевозил — ни андраниковцем, ни тем более бандитом — качагом он никогда не был и не будет, он в кооперативе, вот как. Одного вола он, перегоняя чужие стада, взял и оставил себе, другой наш старый вол был, еще со времен моего деда Беглара был у нас, еще до меня и моего брата. Третий вол — он сам. С волами наравне тащил на себе кооперативный камень. Иван Арзуманов положил руку на его худое плечо, свинцовым своим взглядом уперся ему в лоб и: «Как, тебя еще не повесили, Ишхан?» У моего отца заиграли брови, мой отец был невысокий, даже, можно сказать, маленький был, но кто видел это? Мой отец был жилистым и худым, но того, что он был маленьким, этого никто не замечал: где бы он ни был, где бы ни находился, он все заполнял собой. Разъяренный, мой отец кое-как сдерживается, пристраивается поудобнее под рукой Арзуманова, а тот: «Тебя еще не повесили?» А мой отец: «За что же, парень, что я, сушеная груша, чтоб меня вешать?» Арзуманов: «Я про виселицу толкую, Ишхан, про виселицу». Сын мой, сын мой… тебя бы и за Андраника взяли, и в Кошакаре бы за угнанное стадо пристукнули, и в Товузе бы убили за то же самое, а уж Иван Арзуманов непременно бы тебя настиг. Ты бы ударил Арзуманова по руке, отбросил бы его руку, и Арзуманов бы тебя не простил. Народ приумолк, ждет, что дальше будет, пот выступил на лбу у твоего деда. «Нет, Ваня, исполком насчет меня особое решение вынес», — и дед будто бы лезет за пазуху, будто бы достает это решение. Но Ваня Арзуманов говорит: «Ты что же, наган достаешь или решение исполкома?» — «Да ты что, парень, я разве против тебя наган вытащу, решение, конечно, решение. — И твой дед смеется. — Исполком постановил особое решение вынести насчет меня, — смеется твой дед, — чтобы сохранить, так сказать, в качестве наглядного пособия, чтобы школьникам показывать, глядите, мол, какие люди были до иванарзумановской революции», — и твой дед впивается в Арзуманова глазами: что тебе от меня надо, мол, был Андраник — я в андраниковцах ходил, сейчас кооператив — я ваш, арзумановский, в кооперативе я. И Арзуманов своей рукой, той самой, которой за плечо деда держал, той самой рукой хлопает по тому самому плечу, будто бы пыль с него отряхивает, и смеется, будто бы над пылью: «Ты у нас, как пыльный мешок, прямо Пыльный Дед». И народ тоже смеется, и настоящий Пыльный Дед — Асо, несчастный Асканаз, смеется вместе со всеми. Да, и он смеется. У моего отца золота зарыто было столько, сколько у Пыльного Асо мусора перед дверью валялось, но Пыльный Асо вместе со всеми смеется над Ишханом, поскольку у него на Ишхана зуб давно имеется, а сейчас Ишхана прижали, как видно, пришло время пристукнуть Ишхана. Сталь, она трудно ломается, но все же ломается, а ведь медь умеет согнуться и не сломаться. Ты бы свое гордое плечо высвободил из-под руки Арзуманова, и непреклонный Арзуманов тех молодых его лет непременно бы тебя вздрючил. А мой отец и твой дед Ишхан — нет, он подставляет свое кооперативное пыльное плечо, чтобы по нему похлопали, чтоб якобы пыль столбом поднялась, чтобы чихнуть и пройти. Иван Арзуманов смеется — и народ тоже смеется вместе с ним — и говорит: «Ну, Ишхан, отделался на этот раз». Иван смеется не так чтобы от души, в полный рот, а слегка только — не то смех это, не то знак, что Ишхана, сколько бы тот ни крутил, все равно повесят. Своими желудевого цвета глазами он спокойно смотрел кругом, но если эти глаза встречались с твоими… А твой нервный дед сдерживался под его рукой: «Да ты что, у меня особое решение есть исполкома». К ровесникам своего отца и дядьев Ваня Арзуманов обращался «молодой человек». Куда деться, что делать деду твоему? Сын мой, сын мой. А твой дед стоит, плечо подставил, холодный пот со лба каплет, и дед хочет все в шутку обратить: решение исполкома. А тот шутку не принимает: ты что, наган достаешь?
Моя мачеха рассказывает, он потом пришел домой, закрыл за собой дверь и, как зарезанная скотина, стал биться на полу, на земле. Я этого не видела, люди тоже не видели, люди одно только знали: «Что я, груша, что ли, чтоб меня вешать?» Или же: «Исполком решил подержать меня немного, использовать меня и моих волов, а потом уж ликвидировать». Или же про украденный ковер люди знали, ну, тот ковер с кошкой, или про чужую курицу, про корову, про тысячу подобных вещей, и все это было, ну да, было, а в то же время, почем я знаю, было или не было. Но вот что перед целым народом, перед всеми соседними деревнями — ванкеровцами, акнеровцами, ахпатцами — этого сильного, как гора, человека, скрутило, этого никто не видал и никто про такое не слышал. Только про чужую курицу и тому подобное. Да, и вот мачеха рассказывает: пришел домой и забился на земле, как скотина, которая не кричит, потому что сухожилия перерезаны, но бьется по земле, все бьется, потому что хребет еще не сломлен, Ваня Арзуманов зачем, скажи, приехал — бандитизм ликвидировать. Приехал, дело свое сделал, ну и покрутился день-другой в селе — в городе. Сердце у человека готово лопнуть от такой несправедливости божьей почему это господь одного змеиным умом наделяет, другого, как дерево создает, бестолкового, нерасторопного? Вот слушай: до начальника милиции слух доходит, что бандитов — качагов в кошакарских горах видели. Начальник милиции снаряжает своих милиционеров, из сел тоже — умеющих ружье держать с собой забирает и с этаким войском-отрядом направляется в Кошакар. Качаги, мол, в Кошакаре. Начальник милиции смотрит в бинокль и видит: открытая равнина, качаг сидит рядом с чабаном, закусывает, кругом отара рассыпалась, пасется. Открытая равнина — что может быть лучше, и милиция на той же равнине, и бандит сидит возле овец, смотрит на облаву, и бежать ему некуда. Жара, овцы сгрудились, бандит, отложив ружье, обедает. Начальник милиции опускает бинокль, снимает с плеча винтовку и целится в хлеб, что у качага в руке. Ребята ему говорят: не стреляй. А начальник милиции: почему это не стреляй. Ребята ему: не знаем, но ты лучше не стреляй, спугнешь. А начальник милиции: вы не знаете, зато я знаю, куда им в открытом поле деться, двум людям против такого вооруженного множества. Ребята ему опять: не стреляй. Начальник милиции — трах-тарарах и в крик: сдавайтесь, мол, куда вам против нас… А бандит шасть к овцам, пробирается среди овец, пробирается посреди этого открытого поля, на виду у этих разинь в тяжелых сапогах, этих несчастных тугодумов… Говорят, попустительство было — не могли двое от пятидесяти человек уйти… И жалоба за жалобой, жалоба за жалобой — в Москву, в Ереван, в Тифлис, в Ростов Арзуманову. А ты, сын мой, сын мой, ты бы, конечно, сказал: а если пуля в овцу попадет, а если у теленка нога заболит, а если я за чабана спрячусь, а пуля в чабана попадет?.. Э, да что тут говорить, а вот мой отец находчивости и смелости качага завидовал.
Арзуманов приехал, все выяснил. Никакого предательства-попустительства, конечно, не было, а были открытое поле, растяпство и несообразительность — с одной стороны и смекалка и быстрый ум — с другой. Качаг мигом сообразил, что овцы удобно для него стоят. А теперь про Арзуманова. Как он приехал, как сменил одежду и затесался к бандитам, никто не знал. И сколько он оставался среди них и что они там вместе делали… Но однажды ночью который из качагов к оружию потянулся, того на месте уложил; который за оружие взялся, на месте остался, а кто сам сдался, тех привел в манацкую тюрьму — расправился с бандитами подчистую. И вот перед тем как уехать обратно в Москву, решил погулять день-другой в родных краях. Голос слабый, еле слыхать, от чахотки будто, говорят, но не чахоточный был, нет, просто голоса не повышал. Кому-нибудь другому на его месте наши сельчане непременно бы сказали: «Говори так, чтобы слышно было, ты что, язык проглотил?» Но ведь то Арзуманов, он только бровью поведет, и все затихают. Он говорит что-то моему отцу, мой отец прекрасно слышит что, у моего отца спина делается мокрой от пота, но мой отец переспрашивает «что?», и Арзуманов снова повторяет: «Вздернуть тебя, Ишхан, вздернуть».
А ты погромче, погромче скажи, пусть народ услышит, обрадуется. Говорит Ишхан и смеется, а у самого куда-то сердце ухнуло. Моя мачеха рассказывает: пришел, повалился на землю и бился, бился. Твоя неродная бабушка и моя мачеха неумная была женщина, но житейски очень даже умная и уж тем более очень хитрая. Я не люблю ее, потому не люблю, что она меня в лишениях растила, но о женщине по одному этому судить нельзя. Моя мачеха тут же идет и прячет ружье в другое место, достает из тайника, из балки вытаскивает и прячет в хлеве. Мой отец, рассказывает она, вышел на балкон, поискал, не нашел ружья и спустился во двор. Шаг, рассказывает, неслышный, как лунатик идет, не идет — крадется, а глаза — словно слепой, ничего не видит. На тропинке между домом и хлевом встал, огляделся, рассказывает, темная пасть хлева (дверь-то раскрытая была) притягивает моего отца, притягивает. Лошадь, значит, захрапела, задрожала и затаилась. Мачеха стоит, не шелохнется в тени и одно только думает: засыпала она ружье соломой или нет? Мой отец выходит из хлева, останавливается на тропинке между хлевом и домом, смотрит по сторонам и никого не видит. Ружья нет. И моя мачеха смерть близкую чует, и в ушах у моей мачехи звенит, уши у нее прямо болят от звона. Притягивала, рассказывает, ох, как тянула моего отца темная эта пасть хлева. Моя мачеха прикусила палец, и, можно сказать, ее не стало, лошадь в хлеву затаилась. А мой отец все еще стоит на тропинке между домом и хлевом, а ружья в балке нет, ружье в хлеву спрятано и притягивает, так и тянет моего отца, который стоит в ночной тишине и ничего не слышит и ничего не видит. Амазасп таким и увидел во сне моего отца. Амазасп своему брату сон по-другому наутро рассказал, переврал, но моего отца это ахпатское отродье таким во сне и увидело. Будто бы их покойный отец — мельник выходит из тени, отделяется от дерева, берет Амазаспа за руку и тянет за собой, пошли, мол, вместе хлеба откушаем, идем… И Амазасп знает, что это сон и отец мертв, но тот цепляется за него и тянет в тень, а он не идет, не хочет идти, в сердцах отпихивает отца, злится, не хочет идти, но мельник тянет его и мой отец Ишхан подталкивает Амаза: иди, мол, отец ведь, не кто-нибудь тебя зовет, иди, ступай. Мельник вцепился в сына, тащит его, а мой отец со своей стороны подталкивает его, тихо сопит и подталкивает. Но почему, скажи, ахпатец Амазасп должен был увидеть такой сон про моего отца? При чем тут мой отец, что у него общего с мельником? Ничего. Мельника ведь не мой отец, не он убил, чтобы потом сына толкать — иди к отцу, иди, мол. Ведь выяснилось же, что мельника сыновья Рицонца убили и что Рицонца Аршака мельниковский Амаз прикончил, не сам, правда, кого-то еще на это дело подбил. Все это старая история. И вот на тебе, теперь мой отец. Между моим отцом и ахпатцами была, правда, одна история, замешанная на крови, но десяти-пятнадцатилетней давности, там все счеты были сведены, закрыты, там все было чисто. Ни моя тетка не помнила уже своего мужа, ни мой отец своего зятя, хоть и друзьями были. Замаливая грехи, отдавая долги, каждый своего оплакивая, жили, но мельник, мельник, ты особенно не любил платить, и плату за кровь нашего зятя правительство с другого взяло, угнало подальше, такая тут произошла расплата, и вот теперь ты из своей собственной могилы встаешь и своего сына Амазаспа в ту же могилу тянешь и себе в помощники арнаута Ишхана берешь, молча посапываете вдвоем и тянете с открытой залитой солнцем поляны в тень, во мрак. В холодном поту просыпается Амазасп и рассказывает про сон брату, но надо было ему видеть моего отца, когда тот стоял на тропинке между хлевом и домом — красная лошаденка дрожит в хлеву, у плетня притаилась моя мачеха, закусив руку, а мой отец молча, как коршун, стоит на тропинке и воочию видит спрятанное в хлеву ружье. Мой отец покачнулся, и тут моя мачеха не выдержала, закричала. Говорят, как лунатик просыпается, так и мой отец пришел в чувство. «Что такое, ахчи? — и, стоя рядом с мачехой, бок о бок, только тут ее заметил. — Что с лошадью, дарпасовка, — мачеха-то родом из Дарпаса была, — отчего мокрая, что случилось?»
И вот тут-то, переговариваясь, пересмеиваясь, малость разгоряченные, показались арзумановские парни, с ног до головы во все кожаное одеты, шуршат-потрескивают кожанками. Проходят рядом с нашим домом, замечают моего отца и останавливаются. Арзуманов останавливается, и друзья его, обступили его, тоже останавливаются. А за ними чуть поодаль зять наших родичей — шут, всехний шут, стоит не так, чтобы очень близко, на расстоянии, муж нашей Вардуи Асканаз, Асо. И Ваня Арзуманов: Ишхан, значит, исполком особое решение насчет тебя вынес, что ты не груша, чтоб подвешивать тебя, так? И друзья его, совсем как он сам, вполсилы смеются, и муж нашей Вардуи Асканаз тоже жалконько так смеется: хи-хи. С хлебом в руках, с кнутом под мышкой, откусывая хлеб, мой отец говорит: «Я с кооперативной работы пришел, Ваня, и на кооперативную работу иду». И арзумановские друзья, все смеются, и наш Асо смеется, а моя мачеха знаками дает понять Асо: ты-то, мол, что смеешься, горемыка несчастный, сейчас как дадут тебе. И моя мачеха дает понять тем из арзумановцев, кто посметливее, мол, идите своей дорогой подобру-поздорову да уведите этого дурня. Где там. «А то кооператив не может без твоей помощи, развалится», — говорит Арзуманов, и арзумановцы смеются. С хлебом во рту отец мой отводит глаза: «Хлеб ем, Ваня, дай поесть».
Я этого не видела, я маленькой девочкой тогда, как твоя Нанар, была, я стояла в одном худеньком платьице перед волами. Это мне моя мачеха потом все рассказала. В черную кожу одетые, потрескивая-шурша кожанками, смеясь и переговариваясь, они пошли, посадили Ваню Арзуманова на поезд то ли в Ростов, то ли в Москву, и мой отец в стеганой телогрейке вышел со двора и плюнул им вслед и с кнутом под мышкой пошел к своим волам, я про это не знаю, мне потом про это моя мачеха рассказывала, и моя мачеха очень раскаивалась, что поменяла место ружью.
Всучив мне прут, мой отец оставил меня перед телегой, волы паслись, он им по пучку травы бросил, некрасивая, безобразная тогда осень стояла. Я была, как твоя Нанар, маленькая, по ущелью шел поезд, я знала, что уехал Ваня Арзуманов, и думала про себя, хоть бы Ваня Арзуманов увез меня с собой в далекую Москву. Его жена как-то увидела меня, приласкала: «Смотри, какая славная девочка, Ваня, сиротка…» Его жена бесплодная была, детей у них не было. Моя бабушка обвязала всю меня своей шалью, так, знаешь, голову закутала, концы под руками продела и завязала на спине — меня эта шаль спасала. Всем меня, сироту, жалко. Один только Ишхан ослеп и не видит, что я босая, раздетая и коленки мои в этой мерзкой осени стынут. Работает он, весь в деле, где ему такое увидеть. Брата моего отдал в ученики к плотнику, меня поставил перед телегой и грузит, и грузит, каменюги здоровущие из земли выворачивает, тащит к телеге. Волы отощали, подыхают уже. Это потом, в тюрьме, он разглядел, что я босая, и заплакал, когда я ему еду в тюрьму приносила, тогда и разглядел, что по снегу я босиком иду, и прослезился: ах ты!.. До тюрьмы у него несколько золотых монет припасено было — из-под балок сарая выкапывал, под деревом закапывал, из-под дерева выкапывал, в печке, в бухаре, прятал. Золото? Какое золото? Это золото не его, хозяйское — товузовского владельца овец и кошакарского владельца коров, их золото, им принадлежало всегда и теперь принадлежит, а у Ишхана одна стеганая телогрейка, две руки и вонючий рот. Грузит камень и ругается, и ругается. Ну, думаю, сейчас лопнет. Их родню, их живых и мертвых, арзумановских, всех перемешал и кроет на чем свет стоит. И работает. Твои, твои тутошние — твой отец, твой дед, твои дядья, — они не ругаются, но разве они что-нибудь смыслят в работе, чтоб ругаться. Хоть бы разозлились, хоть бы камень с земли подняли, пусть бы даже не замахнулись, пусть бы только подняли, будто бы замахнуться хотели, так нет же: хочешь их резать — режь, рубить — руби. Твои — деревья, вот кто они такие, твои-то.
В тот тяжкий год, в ту холодную осень, когда каждый человек, если он человек, а не дерево или скотина, когда каждый человек должен был грабить, чтобы войти в зиму обеспеченным, твоего отца сделали пастухом, ему тогда лет двенадцать было, но ведь он не пастух и не двенадцатилетний мальчик, он — дерево. И, как дерево, стоит и хлопает глазами — ни тебе напасть первому, ни тебе заплакать, ни даже унести ноги прочь, убежать, словом, никакого тебе ропота, — как дерево, стоит и хлопает глазами, смотрит, как уволакивают скотину из-под носа. А кто уволакивает, кто угоняет, знаешь? Мой отец в башлыке, чтобы не узнали. А этот — дерево, куст, камень, божий раб. Мой отец видит, что нет же, не дерево, не куст — человек перед ним, и говорит твоему отцу: «Большой парень такой, ты чего встали стоишь, помогай давай…» Но твой отец стоит и только смотрит. И молчит себе, молчит, помалкивает. Это страх или же совесть? Как все кончилось, знаешь — мой отец признал в стаде буйвола своей сестры Манишак. И остановился и плюнул в сердцах — взрослый ты или ребенок-несмышленыш, да разве можно, чтобы человек такой жалкий был, тьфу! «Ты чей дурак будешь, парень, чей сын?» А того сын, кто десять лет отслужил вместо брата, кто леснику телегу обещал смастерить вместо племянника, кто за убитого турка оставлен был Ованесом Туманяном в Касахе под заклад и, возвращаясь, узнал про смерть своего брата Акопа, мужа Ишхановской сестры, и забота о сиротах и вдове мигом прилетела, села ему на закорки и больше не слезала, потому что забота, она подходящую спину ищет… И еще забота о том, как бы пристроить, вывести в люди сыновей брата Осепа, и еще… и еще сколько, сколько всякого разного, и потому он поздно женился, потому что жил не для себя, сам себе не принадлежал, другим принадлежал, да и женился-то напрасно, потому что ну чем мог быть его сын, кого он мог породить: ягненка для жертвы, дерево одинокое, чучело огородное — разве что птиц напугает, а так никто больше не испугается. Ребятишки если унесли шапку, значит, унесли, ежели не унесли, значит, на голове еще. Моя тетка по отцу в замужестве, я сказала, несчастливая была — одного ахпатские нелюди убили, другого на гумне лошадь задавила, но Ишхан с одной стороны пекся о несчастной сестре, Аветик, тутошний твой дед, здесь нес заботу о жене погибшего брата и всю работу в поле за нее проделывал, а Аветиков сын, твой отец, значит, пас стадо в этот тяжкий год и смотрел, как уводят скотину из-под носа. «Ты чей дурень такой? А?.. Хороший дурень, честное слово, ну чисто телок, была бы дочка, отдал бы за тебя… Тьфу!» Но дочка-то была, была я, как твоя Нанар, маленькая, моя бабушка обвязала меня шалью, концы продела под руками и завязала на спине — в этой безобразной осени меня эта шаль спасала. Мой отец грузил камень на телегу возле старого хачеровского кладбища, а я стояла перед телегой, в ущелье красивый поезд шел, шел в город Москву, в город Ереван, в город Тифлис, и моя ненаглядная мать покоилась здесь, на этом же кладбище.
Моя мачеха была из совиной породы, как забухает среди ночи, как завоет — значит, где-то кровь пролилась. Привалившись к садовой калитке, она спросила у меня: «Где отец?» Было холодно, и по ночам лужицы затягивало льдом, мой отец отправил меня домой, сказал: «Ты иди», — а сам пошел с волами к ущелью, чтобы волы в теплом овраге заночевали. Мачеха сказала: «Что-то лошадь наша сдурела». Лошадь вдруг сорвалась, метнулась со двора и затерялась в тумане. Мачеха сказала: «Ты что же отца одного оставила, отца ведь убить хотят». Арзумановские друзья-товарищи подвыпившие шли по дороге, увидели мою мачеху, узнали и засмеялись: «Даруем тебе пока жизнь мужа, дарпасовка, пользуйся на здоровье». Моя мачеха безразлично так, будто и не спрашивала, спросила: проводили, мол, Ваню? А они выпили в буфете, пока ждали поезд, они ей, смеясь, в ответ: «Проводили, уехал до следующего своего приезда». Моя мачеха мне тогда сказала: «Неправду сказали, Ваня с ними был». Моя мачеха сказала: «Ваня здесь, в селе Ваня». Сказала: «Отца твоего убьют». Но мой отец пришел, бесшумно возник в темноте, разочек кашлянул — кхы, — и моя мачеха отправила меня по воду, шепнув мне: «Отцу про лошадь не говори». Но я в саду еще была, услышала его голос: «Где лошадь, дарпасовка? Тебя спрашивают, где лошадь? — и, наверное, она ответила, что отдала кому-то, потому что: — Врешь, бессовестная, кому отдала?»
Я ждала, когда кувшин мой наполнится, а неподалеку мальчишки толпились, возня среди них какая-то шла, что-то друг у друга отбирали, а я не понимала, что они там делают, и мне было страшно… Босая сирота, вместо платья бабкина шаль на мне… И вдруг кошка вырвалась оттуда и помчалась, горящая. Керосином, значит, ее облили и подожгли. Подожгли и сами разбежались, попрятались в дома, и на этой холодной темной улице я одна да эта кошка — туда бросается, сюда шарахается, сама от себя убежать хочет, кинулась к кладбищу, запропала на секунду и вдруг снова, полыхая огнем, с детским плачем пробежала рядом. В чей стог забралась, куда делась, где погасла? Стою оглохшая. Думаю, погасла, наверное, и сейчас, как привидение, как злой дух, явится — и на меня. Стою, шелохнуться не могу, затаилась себе, жду, пока чья-нибудь дверь откроется. И открылась дверь моей бабки, и мой сводный брат вышел оттуда. Ну, подумала я, слава богу, вместе домой пойдем, но этот мальчик только дошел до родника, завизжал и с воплем обратно, словно его оборотень схватил. Ничего не случилось, просто пугливый ребенок был, если на улице никого нет, домой с криком бежит… худющий, желтый, глаза вытаращенные… Спрашиваю его: «Ты чего испугался, мыши?» У него душа в пятки, он на тахту и ноги под себя. Моя мачеха говорила про него: «Все понимает, оттого и боится», — но он ничего не понимал. И боялся. А как еще могла оправдать дарпасовка ребенка, которого с собой привела, как ей было еще защитить его. «Понимает, вот и боится, а ты и твой брат не понимаете, вот и не боитесь». Я и мой брат не боимся, у нас нет права бояться — мы сироты, нас никто не утешит, к потрескавшимся нашим губам никто воды не поднесет, и та, в чье мягкое плечо могли уткнуться мы своей сиротской головой, та, единственная, на кладбище, оставила нас голодными, холодными, и сама ушла. Моя мачеха сделала яичницу с помидорами своему ребенку, а я ребенком не была, меня она доброй вестью угостила: «Отец пошел искать лошадь, ушел на погибель свою. Уж хоть бы твой брат явился поскорее, пошел бы отца домой привел, отца твоего убить хотят». Мой брат тогда был в Манаце, учеником у плотника был. Конечно, мой брат вернется не усталый до смерти, не голодный, как вол, и призрак горящей кошки не коснется его, ведь он непонимающий. «Придет, отправлю отца искать». Но есть на небе бог — и ее понятливый ребенок скорчил рожу и его вырвало. Бог кинул в его яичницу червяка, потому что увидел, какое мачеха делает различие между падчерицей и своим желтым заморышем. Мой брат вернулся и, как мокрый куль извести, тяжело осел. Глаза от усталости слипаются. «Ты чего плачешь, ахчи?» А я плачу оттого, что стою босыми ногами на холодной земле, оттого, что мой сводный брат пугливый и желтый, оттого, что мой злой отец мечется бог знает где в этой ночи, и оттого, что мой родной брат ест эту яичницу, моя мачеха поставила ее перед ним, моя мачеха яд перед ним поставила, а наш сводный брат глаза вытаращил и вот-вот опять вырвет. Но в желудке у него пусто и нечем рвать, одно трепещущее сердечко да испуганные глаза… А ведь рядом со мной в этой страшной ночи, ведь рядом сидит тяжелый, как из глины, мой верный брат — чего же я плачу? На улице смертная дрожь меня пробрала, но там я была одна и даже вскрикнуть не смела, а теперь мой брат сидит рядом и я могу дать волю слезам, вот почему я плачу.
И вдруг моя мачеха как ударит по коленям, как хлопнет и сникла вся: «Кровь, кровь, кровь». Да еще на своем дарпасовском наречии: «Крав, крав, крав». «Кровь, кровь, кровь», — и сникла вся. Как подстреленная птица, неслышно разевает рот, но я слышу отчетливо: «Ишхана убили, убили Ишхана». До чего ж бессердечная была. И мой брат припугнул моего сводного брата… И почему я этого несчастного зову сводным братом? Мой брат припугнул моего брата. Они были одного возраста, но один — сжавшаяся в комочек душа, другой — тяжелая, мокрая глина. И этот, который глина, сказал: «Дьявол забрался в твою мать». Но тот именно так все и видел в этом ночном доме — вон и пламя дьявол качнул… молча скользнул дьявол и по углам, по углам… в дарпасовку. В эту минуту, если б еще крикнуть «бах!», так бы и испустил дух бедный ребенок, потому и бог есть на свете и этот бог приставил мать к этому ребенку, ему-то она была матерью, это мне она была мачехой, а за ним она ходила, его страхи отводила, она ему еще и девушку должна была выбрать и сосватать, а потом еще за косы должна была свою невестку оттаскать, сделать ее покорной женой сыну… А мне и бабушкиной шали достаточно, и того даже много, потому что сиротская кожа, она толстая. Так, закутанная в эту шаль, и стою я возле волов перед телегой.
И вдруг Ишхан:
«Давай-давай-давай-давай, Асо, давай, черт тебя возьми, давай».
Это уже на следующий день. На следующий день или же в один из этих дней. Лошадь он отыскал, привел, привязал во дворе, брат мой ушел к своему плотнику, сводный брат дрожал в саду от страха, но боялся Ишхана и не шел к матери — уцепиться за ее подол, а мачеха опять стала у садовой калитки: «Ишхана убить должны, убьют Ишхана». А я стою перед волами и дрожу, мой отец грузит камни на телегу. Грузит! Горит весь — Арзуманов его поддел, да так и оставил. И вдруг с камнем в руках, еще не разогнувшись:
«Давай, давай, давай, Асо, давай, черт тебя возьми, давай!»
И вдруг я смотрю, между двумя хачкарами дуло ружья просунулось, дрожит, и не дрожит даже, а вихляет. Ежели ястреб слетит с ветки, как та ветка будет трястись, так то ружье между двумя хачкарами и трясется. Кто бы там ни был, а сердце наверняка покинуло его и руки ружья не держат… Смотрим, а это Пыльный Дед, Асканаз, муж нашей Вардуи.
«Давай, давай, давай!» — и так, не разгибаясь, пошел к нему мой отец.
«Хорошенькое место приискал, молодец Асо, бей же, бей, так и так твою мать, бей!»
Асо встал во весь рост, и ружье у него в руках так и прыгает.
«Бей, бей, не бойся, бей давай!»
«Так и так того, кто тебя послал, кто на тебя понадеялся, говорят тебе, бей!.. Бей, Асо-джан!»
Он взялся за дуло и так за дуло и вывел его из-за хачкаров и прикладом, как дубинкой, ударил, свалил этого верзилу, вдвое выше его ростом, и прикладом — ногой, прикладом — ногой, прикладом — ногой, а заодно и бранью, бранью, бранью… и матом. «Что, Ишхан умер уже? Настолько уж нет Ишхана?» — и матом, и матом, и к селу. Дарпасовке он кинул сквозь зубы: «Поди скажи им, пусть придут, падаль свою заберут домой, а то сдохнет здесь, жалко, Ванкер без шута останется».
Я этого не слышала. Я стояла возле волов перед телегой, этот бедняга Асканаз мычал, как больная скотина, Ишхан под колеса камень подложил, волы сдвинули его, и нет больше камня под колесами, сейчас телега покатится и волов задавит, и меня вместе с моей черной судьбой. А я оцепенела, замерла перед волами. А по ущелью из города, эх, с вольным свистом своим шел поезд в город Москву, и мое сердце говорило мне, что Арзуманову нет никакого дела до Ишхана и этого несчастного Асо не он подослал. И мое сердце говорило мне: хоть бы Арзуманов увез меня к своей доброй жене в город Москву, чтоб я не торчала сейчас перед этой телегой. Потом уже, когда я жила своим домом и моя мачеха видела, что я не зарюсь и не надеюсь на их припрятанное золото, тогда-то она мне все и рассказала. В тот день мой отец покрутился-покрутился в доме и заснул. Мачеха рассказывает:
«На минутку только и сомкнул глаза».
Рассказывает:
«Сказал: «Нашли кому ружье доверить — он одной рукой за штаны держится, чтобы не упали, другой…» — и на минуточку закрыл глаза».
Нет, это он потом Асканазовой матери, матушке Воски, сказал, доброй обездоленной женщине. Это она во всем селе видела мои опухшие ноги, мое сиротство, но что она могла сделать, сама каждый божий день у того, у другого одалживала хлеб, иной раз и мне от этого хлеба перепадало, а большей частью никто ей не давал, потому что она взаймы просила, а это почти на попрошайничество смахивало, потому что, если бы и вернула, кто бы стал есть их хлеб. Походя мой отец сказал в сторону их сарая: «На хачеровском кладбище валяется, идите своего вояку заберите, одной рукой ружье держит, другой — штаны подбирает». Моя мачеха рассказывает: «Голову на одну секундочку к подушке приложил, секунду спал или не спал и вдруг вскочил, будто змея ужалила: «Ух ты, Отшельников скит!»
Моя мачеха выскочила за дверь и к моей бабке:
«Наны-джан, сказал — Отшельников скит. Вуй, наны-джан, не к добру сказал…»
В Отшельниковом скиту еще до того, как мы с братом родились, большое было кровопролитие, и народ боится говорить об этом, кто говорил об этом, убитым оказывался, кто говорил, от какого-нибудь несчастного случая, от чего-нибудь неожиданного погибал. Но моя бабка сказал моей мачехе:
«Ружье не прячь, врага своего нашел мой сын, не вздумай ему мешать».
Мой отец на минутку сомкнул веки и как во сне увидел — на камне сидит ахпатец и прислушивается, когда раздастся выстрел Асо и кончится жизнь Ишхана. Прислушивается из своего Ахпата — поверх Акнера и Ванкера, через все замершее манацкое ущелье, это он вложил в руки Пыльному Асканазу ружье и сидит теперь в своем Ахпате, пошел к Отшельникову скиту, сел на камень и ждет, когда раздастся выстрел. Безобразная осень. Деревья голые, черный ворон летает, в горах выпал снег, овраги и ущелья стоят притихшие — в Ванкере если орех зубами разгрызешь, в Ахпате будет слышно.
А про это уже мне бабушка рассказала. Когда все уже забылось, отошло и мое знание не принесло бы новой напасти на мою сиротскую голову, расчесывая мои волосы, заплетая их в косу, плача, моя бабушка про все это мне рассказала. Мой дед был священником, и, значит, моя бабка была попадьей, в доме у них святая книга имелась. После того как моя тетка, бабкина дочка Манишак, овдовела в Ахпате и мой дед умер, моя бабка оделась во все черное, забралась в дом и молча ждала, когда смерть придет за ней, но прожила долго и про все здешние дела была хорошо осведомлена — кто кого притесняет, кто чьей женой завладел, кто где в засаде притаился, чью скотину хотят прирезать и из какой безвестности и на кого пуля выскочит. Ахпатовский наш зять, муж моей тетки Манишак, имени его уже не вспомню, это еще до меня и моего брата и нашей мачехи было, даже до прихода в наш дом моей пресветлой матери было… ахпатского нашего зятя мельник и его сын Амазасп убили. Имя Амазаспа не вру, правильно говорю. Через весь Ванкер, потом через Акнер, по черной пашне, что возле Большого камня, мой отец бежал и кричал в сторону Ахпата:
«Амазасп, Амазасп… Амзо… Амазасп… Амаз…»
Я стояла перед телегой возле волов. В руках слабый прутик детский. Под колесами камня нет, груженная Ишханом телега давит на волов, вот-вот задавит — и волов задавит, и меня. Ну, думаю, Ишхан меня убьет. Думаю, уйду в город, вот спущусь сейчас и пойду, спрашивая, спрашивая, найду, где мой брат в учениках сидит, найду брата, возьмемся за руки и уйдем, скроемся навсегда от этого Ишхана, от этого Ванкера, от этой мачехи. Тот бедняга Асканаз все стонал и стонал и вдруг, смотрю, хочет подняться, как весенняя тощая скотина, задницу от земли оторвал, а встать на ноги не может, повалился снова. Под конец сел. Сел и смотрит. Смотрит, смотрит… ничего не видит, говорит «вот», сам себе говорит «вот»… потом заметил меня.
«Доченька?..»
Потом расплакался, как ребенок, захлебывался.
«Видела, что твой отец со мной сделал?»
А что ему оставалось, моему отцу?
«Ни стыда у него, ни страха…» — И плачет, и хочет встать, но больно ему, и он снова плачет.
Сказал мне: подложи под колеса камень. Я подложила, но ты представь, как может подложить камень твоя Нанар. Сидя, как ребенок, подполз-подполз, подтянулся и сам подложил камень. И некрасиво так плачет. И еще ему волов развязывать, еще ему мучиться, развязывая сидючи туго стянутые Ишханом узлы и так и не развязать их, еще ему горько плакать, и еще вол должен наступить ему на ногу, и он еще должен взвыть, потому и говорю, что совесть в животном хороша, а в человеке, который к тому же тряпка, жалость и совесть — это одни сопли.
И, словно на выстрел, весь Ванкер высыпал на улицу и побежал, словно на черных пашнях целая воронья стая поднялась.
«Амазасп, Амазасп, Амазасп», — припав к лошадиной морде, никого кругом не видя, Ишхан перекрыл пашни и поскакал дальше, стегая лошадь плеткой, плеткой. Смерть слепая бывает и видит только отмеченного своей печатью, как слепой камень катится, через голову одного перекатывается и бац в другого.
Ишхан только Отшельников скит перед собой видел и в скиту на камне Амазаспа сидящего.
«Амазасп, Амазасп, Амазасп… скажите Амзо, чтоб бежал… Амаз…»
Как вспугнутое стадо, народ бежит по пашням. Люди устали от воровства, от предательства, от убийств — Амазасп. Голос от Акнера катится, доходит до Ахпата:
«Амзо скажите, пусть бежит, пусть бежит… Амазасп, Амазасп…»
И я тоже хочу бежать, кричать, я тоже хочу в Отшельников скит… А что даст мне Отшельников скит, что мне, сироте, там достанется?.. Да, а этот несчастный мучается тут и плачет, мучается, дрожит под волами и плачет… А Ишхан его и не заметил даже, посмотрел, как на пустое место, проехал дальше. Народ — за Ишханом: «Амазаспу скажите… Амазу…» Амазу сказали. Ему и отец сказал во сне, и сам он себе сказал еще раньше, что Ишхан придет в один прекрасный день. Они оба, Ишхан и Амазасп, работали на строительстве железной дороги, потом вместе воевали у Андраника, смутные были времена, еще где-то вместе дрались. И все это время приглядывались друг к другу. Мой отец раскусил его, и он тоже все про моего отца сообразил. Выбежав за Акнер, не добежав до Ахпата, люди останавливаются на холме как вкопанные, ну, как будто воде дорогу перекрыли — Амаз из Отшельникова скита стреляет, убивает лошадь под моим отцом и кричит, размахивая ружьем: «Не подходи, Ишхан, не пощажу». Мой отец, говорят, молча, камнем канул в овраг, и, как если бы вы сквозь сон слышали топот смерти и голос ночной совы, вот точно так топоча выбрался он к Отшельникову скиту. Амазасп, говорят, замычал и побежал через холмы.
Амазасп, значит, кидается в сторону Ахпата. А священник заперся в монастыре. Там над дверью и сейчас еще есть след от пули моего отца. Да, Амазасп — к церкви, а священник изнутри Амазаспу: «Ованес Туманян в Дсехе ежели спасет тебя, так и спасет, а больше никто не может». Мой отец в это время оборачивается и еще одну пулю выпускает в сторону Мельникова дома. Брат Амаза обмирает у себя в доме, этот амазовский брат безответный, безобидный, потому что, ежели господь одного из братьев наделяет смутной злобой, то другого оставляет невинным агнцем. Про все эти вещи бабка хорошо знала, попадьей ведь была, в доме святая книга имелась. Моя бабка сказала моей мачехе: «Отшельников скит? Ишхан мой врага нашего нашел, не вздумай мешать моему сыну».
Моя тетка по отцу Манишак была в Ахпате невесткой, шестнадцати-семнадцатилетняя девочка-невестка, рядом первенец лежит, спит. Имени мужа ее не помню, на уме одно хорошее, поступь легкая, открытый ворот. Ранним утром спустился он к орешинам возле мельницы орехов натрясти, ранним утром спустился орехов набрать, а жена после придет с ребенком на руках, ребенок станет играть с орехами, и они соберут-подберут весь рассыпавшийся в траве орех. И приходит жена и что видит — муж лежит под деревом, окровавленный, мертвый уже. В замужестве очень несчастливой была моя тетка Манишак, и здешнего ее мужа Акопа, брата твоего деда, лошадь убила в тот далекий праздничный день, на сентябрьском палящем солнце, на гумне. Всему миру радость — нам черное горе.
А что было-то, как дело было? Взобрался на дерево, сидит на ветке, сейчас начнет трясти ее, сухой орех посыплется на землю, сухо постукивая, шурша в траве. По всему скиту яркая, рыжая осень стоит. Сам, говорят, безобидный, наивный, волос легкий, синеглазый парень такой, шутки шутить любит и трусливый немного. Те, кто в шутку все обращают, они все трусливые, боятся, не дай бог, серьезными показаться, или же грустными, или, еще хуже, тяжелыми, боятся не понравиться и шуточки шутят, все шуточки шутят. Вот он уже собрался по дереву ударить и вдруг смотрит и что же видит? Казаки тихонечко обступают Отшельников скит. На дороге возле мельницы стоит фургон, рядом со штыком наперевес казак стоит, а пониже пещеры мельник и его сын Амазасп. А казачье войско от куста к кусту, от камня к камню — оцепляют весь скит. Ну, там книги какие-то нашли, и что там еще было, неизвестно. Казак сидел в своей России, почем ему знать, что у нас в Отшельниковом ските делается. Мельник и его сын Амазасп привели и место указали, а сами в сторонку стали и смотрят с тропинки. Ребята из скита стреляют или же не стреляют, не знаю, но офицер на всякий случай гранату туда бросает. И еще одну следом. Потом заходят внутрь, свечку зажигают, и в свете той свечи кто стонет, кто притаился, кто кровью весь истекает. Потом офицер приказывает и солдаты выволакивают всех и в фургон. И уехали. И остался молчаливый овраг, словно сон дурной приснился. Мельник с Амазаспом поворачиваются, чтобы идти, и видят — на дереве, замерев от страха, смотрит на них кто-то. Подходят, обманом спускают с дерева, и о чем там они говорят, не знаю, но потом — раз — головой его об камень. И все, и кончено. Этот пестрый осенний овраг, и под орешиной, окровавленный, мертвый уже, наш зять лежит.
«Ты кто это, ахчи, это кто там с дерева свалился, ай-яй-яй?» — из оврага от дверей мельницы спрашивает Амазасп, будто не знает, кого он только что убил и кто сейчас онемеет от горя, с ребенком на руках. «Ежели парень наш забрался на это дерево, где же натрушенный им орех, а ежели он на дерево не поднимался, почему он под ним лежит?» — это уже Ишхан сам себя спрашивает, это уже потом. Спрашивает себя и смотрит: вот скит, вот мельница, а вон и тропинка, где стоял казачий фургон.
Моя бабка сказала тогда моей мачехе:
«Амазасп понял, что мельника Ишхан убил, поди, невестка, вынь из тайника ружье».
Мой отец в этом селе арнаутов, в Ахпате этом, как повернется да по дому мельника — брат Амаза забирается в доме под тахту. Трусливый, слабый, сердце, как у кролика, зашлось от страха… Ишхана боится и своего брата Амаза боится… Забился под тахту, и не выманишь его оттуда… Моя бабка заплетала мне косу и плакала, жалела того несчастного, который ничего такого, заслуживающего смерти не сделал, его вина в том только и была, что он случайно на дереве оказался и увидел, на какое преступление пошли мельник и его Амаз и что те ребята, мушские, тифлисские, карабахские, словом, армянские те ребята, лежали потом там в селе вповалку и некому было оплакать их и некому было похоронить. И бабка моя плакала и рассказывала, как тот несчастный Амаз словно редиски наелся, так его рвало, он убегал от Ишхана и уже чуть не легкие выплевывал, и по всему каменистому склону Чатин-дага не нашлось ни одного камня, чтобы за ним спрятаться, и земля не разверзлась под его ногами и не забрала его к себе, чтоб он крепко зажмурился, заткнул себе уши и не слышал Ишхановых шагов… рассказывала, как лошадь Ишхана, подстреленная, три дня и три ночи исходила кровью, стонала и металась среди шакалов и диких кошек, а люди из страха перед Ишханом не могли прикончить несчастную скотину, облегчить эти муки тяжкие… И как мать Амаза пришла, взмолилась: «Ишхан-джан, эти три дня Амаз твой был, что ж теперь не отдашь мне моего ребенка, оплакать его, в глаза мертвые поглядеть, сейчас-то уж отдай его мне». И вдруг она вцепилась в лицо моего отца — кровопийца!.. Про то еще рассказала, как наши волы ждали возле кладбища, пока их запрягут, день ждали, другой, третий, потом кошакарский уведенный наш вол уговорил нашего настоящего старого вола: мол, что с ними, с людьми, связываться, давай плюнем на них, давай я тебя отведу в хорошее, лучше не придумаешь, местечко. И увел-повел его по горам, по овражкам в свой старый Кошакар, пришли люди и увидели — сидят в теплом овражке, мирно жвачку свою жуют, увидели хозяев, спокойно повернули головы, с достоинством поглядели. Вот из-за такого множества всякой всячины плакала моя бабка, плакала и рассказывала мне про все это напевом, расчесывая мне волосы. И сказала, будто в святой книжке прочла: «Сын мой нашел нашего врага, не вздумай мешать моему сыну».
Пуля моего отца ударяется о притолоку церковной двери, и священник говорит оттуда, запершись, Амазаспу говорит: «Ежели Ованес Туманян в Дсехе спасет тебя, так и спасет, а больше никто не может». Ах ты, ворона этакая, подохнуть тебе, твоей черной голове, что, Ованес Туманян тебе хачкар, что ли, вечное дерево, чтобы вы от нечего делать предательства совершали и всякие прочие преступления, а когда вам дуло ко лбу, так и сразу бежать прятаться за Ованеса Туманяна. Что он вам, Ованес Туманян? Церковь? Ованес Туманян — поэт. Да, Ованес Туманян исстрадался, изболелся весь за вас, плохих, Ованес Туманян, от него одна горстка, кожа да кости остались, вон он в России богу душу отдает, под тонким одеялом лежит, русские, говорят, наших одеял не имеют, их одеяла, говорят, тонкие-претонкие, еще они военной шинелью прикрываются. Туманян в далекой России умирает от всего зла вашего, изболевшийся душой, а твои тут живут, живут, не умирают, твои — твой дед и мой свекор Аветик, его брат Есаи, брат Арутюн, Акопа лошадь задавила, Осей в поле простыл, пришел домой, помер. Есаи потом утонул, Аветика старость в могилу унесла. У ваших ни одной героической, ни одной красной, настоящей человеческой, такой, чтоб любо-дорого было, такой смерти у ваших ни одной не было… И над всеми этими остолопами — их отец, ста, не знаю с чем, лет. Как деревья стоят, на корню гниют. Ни зла в этом мире не понимают, ни добра — дерево, куст, что тебе сказать, ну что-то вроде тяглового, вроде сорной травы, а боль этого мира не их, к ним не относится, чье бы ярмо ни было, тут же шею подставят, да, да, есть хотите — кушайте нас, волы нужны — запрягайте, топор у вас в руках — рубите, мы деревья.
Как затравленный зверь, Амаз бросается к вашим, в овраг. В Дарпасе братья моей мачехи устраивают пальбу. Отовсюду свистят и кричат. Этот бросается к вашим, в овраг. Дсеховский священник будто бы сказал ему: «Спрячься в кошакарском лесу, ежели волк тебя не сожрет, спасешь голову».
«Дремучий лес, там только и спрячешься… а ежели и лес не спасет, кидайся в Аветикову отару». Не потому, что у Аветика много овец, спрячешься, затеряешься среди них, а сами они, аветиковская порода, сами они — овцы, ступай к ним. С сиротками, ухватившимися за подол, моя тетка Манишак выйдет брату навстречу: «Что было, то было, Ишхан-джан, я уж всем простила, ты тоже зла не помни». С жалкой улыбкой на лице выйдет к моему отцу твой дед Аветик, но, чтоб что-нибудь сказать, попросить, на это ему языка не хватит, поскольку круглый год с пчелой, с деревом, с тесаком — где ему было человеческому языку выучиться! Да впридачу твой дед Есаи. В придачу твой дед Арутюн. И, будто всего этого мало, их отец, слепой-слепой, слепой-слепой, постукивая палкой, придет, встанет перед Ишханом; «Что там случилось, Аветик? Плохо сегодня вижу!» И тут же куст кустом — твой отец, вот тебе и отара овец, попробуй-ка ты среди этих чучел ружье поднять.
Да почему, в чем дело, что случилось… Столько прощать, прощать, прощать, прощать, забывать — во имя чего? Столько зла кругом, и все прощать? Столько прощать, прощать, прощать. Прощать, прощать, забывать, прощать, прощать, и столько зла. А кто виноват? Ты, сын мой, ты, моя надежда, мое страдание, моя забота, виноват ты.
«Чтоб тебя…» Мой отец бежит, перекрывает Амазу дорогу в лес и сам по лесу, по лесу, по порожку поднимается с ним вместе. А этот — по открытому склону по земле ползком, ползком… После дарпасовских родников овраг ведь узкий делается, помнишь? И тут отец мой и он приближаются друг к другу, и мой отец стреляет поверх садов и поворачивает этого от Двойного родника. Мой отец хочет повернуть, привести его в Отшельников скит, но Чобаненц свинопас стреляет в Амаза и убивает. Наповал убивает возле дарпасовских мельниц. Мой отец, говорят, убивать не думал. Мой отец будто бы хотел загонять его. Знаешь, когда скотина отравится, когда змея человека ужалит, гоняют, заставляют бежать так, чтоб дух из тела вон, чтоб семь потов сошло, но вместе с потом и яд тоже выходит, и человек делается легким, свободным, словно во сне летает… Но свинопас наших родичей стреляет в Амаза, и тот падает мертвым возле дарпасовских мельниц. И синеглазые сыновья Чобаненц смеются и говорят моему отцу: «Да ведь и жалко было, сколько же он мог прожить так, со страхом в душе?»
Так-то.
И потом, когда мой отец нагнулся и сделался приступочкой, холмиком… приступочкой, холмиком, камнем, пнем, плетнем под ногой арзумановского Рубена и сказал: «Становись, становись, прыгай». А он тяжелый был мужчина, лошадь под ним прогибалась, какой он тебе прыгун, но твой дед согнулся в три погибели, сделался камнем, чтобы тот встал на него и, взявшись за уздцы, чтобы возился, не мог сесть на лошадь, все стоя на спине твоего деда, поскольку встать на колено Ишхану, чтобы так подняться, он не мог. Про это уже ты мне рассказал. Ты этого Ишхана видел, сын мой, сын мой… Но то ведь мой отец. Мой отец, да, мог склониться, мог стать камнем и сказать: «Давай, давай, давай… давай ногу, парень, прыгай». На то и жизнь, сын мой. На то и жизнь. Я своего отца не защищаю, я от него никакой пользы не видела, он и после того, как увидел меня в тюрьме босую и заплакал, и после этого он мне обуви не купил, его пользой мне должна была быть твоя звенящая и мстительная кровь, но и того не получилось, нет, не получилось… Но я говорю: «А хорошо ли, что твои, твои здешние, они не склоняются и не выпрямляются, и не живут, сонные, добрые, ленивые, произрастают себе, ежели ты срубил их, значит, срубил, ежели не срубил, значит, живые еще, шапку с головы у них ежели унесли, значит, унесли, ежели не унесли, на голове еще, значит».
Перевод с армянского А. Баян Дур
Джордже Менюк Последний вагон
Я вслушиваюсь в громыхание трамвая, ловлю отрывки песни, которая несется из громкоговорителя, а в окна шепчет душистый майский ветер. Трамвай торопится вниз по Армянской, лязгая старыми суставами. Ночь раскрыла свои звездные крылья. Последний вагон отправляется в депо. Уже поздно, трамвай идет полупустой. Улицы то озарятся голубоватым полусветом, то погрузятся в темноту. Вагоновожатый колдует над рукоятками, приостанавливает или торопит ход вагона. Вагоновожатому, небольшого роста молодому человеку в желтом берете набекрень, весело, он мурлычет себе под нос игривую песенку о Чилите. Это его последний маршрут на допотопном транспорте, и он откровенно рад, он горит нетерпением поскорее отвести вагон в депо, избавиться от него (с завтрашнего дня трамвай в нашем городе исчезнет; с завтрашнего дня на суетливых улицах будет циркулировать современный и элегантный троллейбус).
Трамвай скрежещет всеми суставами. Он идет в свой последний рейс — в депо. В углу сидит усталая кондукторша. Женщина средних лет с сухощавым смуглым лицом. Она пересчитывает деньги, складывает пакетиками и прячет их в сумку, которая висит у нее спереди на сыромятном ремешке. Трамвай движется, делая короткие остановки. Уже поздно, пассажиров нет. Трамвай оповещает город о своем ночном рейсе дребезжанием звонка, грохотом колес и визгом тормозов, когда он в последний раз поворачивает на Скулянской рогатке.
Улицы провожают трамвай; вслед за ним бегут, как свадебные шафера на беспокойных лошадях, цветущие акации; яркие окна домов передают друг другу прощальную эстафету. Трамвай делает короткую остановку. В вагон входит высокий, несколько сутулый старик, он опирается на трость с никелированным набалдашником. Вагон пуст, но старик долго выбирает себе место, придирчиво оглядывая деревянные изгрызенные временем скамейки, наконец, усаживается напротив меня и вздыхает.
— Вот и последний вагон провожаю. Раньше я мог хоть на трамвае прокатиться, теперь и этой радости мне не останется. Все стало другим, весь город стал другим.
Кондукторша возразила ему;
— Теперь будете ездить в троллейбусе. Троллейбус удобнее…
— В девяносто лет трудновато привыкать к переменам, — грустно ответил старик, ветеран трамвая.
Трамвай что-то невнятно бормочет, его хилые суставы трясутся как в лихорадке. Я уже собираюсь вступить в разговор старика с кондукторшей, мнё тоже хочется сказать что-либо о привычках, но в вагон вваливается шумная ватага молодежи. Трое парней и две девушки, а шуму и смеху — на весь вагон.
— Ну и развалина, братцы, ну и развалина! — горланит один из них и театрально поводит рукой.
Парень в новом сером костюме, он не решается сесть на старые ободранные скамейки, так и стоит посредине вагона. А через открытые окна трамвая несется аромат цветущей акации, заглядывают огоньки фонарей. Парень в черном костюме держит на коленях магнитофон. Он поддакивает парню в сером, по его мнению, трамвай — в «жанре Рабле», похож на гигантскую кобылу, на которой ездил Гаргантюа. Парень в сером находит сравнение трамвая с кобылой Гаргантюа блестящим и долго хохочет.
— Эй, малыш, — кричит ему белокурая девушка. — ? Что это тебя так рассмешило?
И смеется сама.
Молча сидели только двое: парень в синей курточке и девушка с двумя гвоздиками в руке. Их не могли рассмешить даже шутки парня в черном костюме.
И вдруг старый пассажир возмущенно застучал о пол своей тростью.
— Грех смеяться над старостью, — строго сказал он в наступившей тишине. — Вагон выполнил свой долг, Он постарел на работе…
Старик обвел всех укоряющим взглядом, увидел смущенные и пристыжённые лица и смягчился.
— Я вот помню, когда появилась первая конка… Еще до революции. Вагон тянули четыре лошади, и все равно это считалось дивом. Людей сбежалось как на ярмарку. А уж когда вышел электрический, все решили, что его толкает нечистая сила. Казалось великим чудом, что вагон может двигаться по рельсам сам, без лошадей. И вот прошло пятьдесят лет, всего только пятьдесят лет… — Старик оглянулся на кондукторшу, взглянул на меня. Он, видимо, искал кого-то, кто мог подтвердить, что пятьдесят лет — не такой уж большой срок.
— Поверьте мне, — тихо продолжал старик, — это совсем, небольшой срок — пятьдесят лет. Они так быстро проходят — годы…
И он умолкает.
Между девушками и парнями возникает приглушенный спор. После вспышки старика они говорят вполголоса. Из разговора я догадываюсь, что девушка с гвоздиками выходит замуж за геолога и уезжает с ним на Амур. Ее подружка горячится, доказывая, что девушка поступает правильно. Я слышу, как она настойчиво повторяет: «Ну и что из того, что они мало знакомы? Что из того? Раз они так решили, значит, у них любовь. Правда, Марта?» Марта краснеет, а у парня, сидящего рядом с ней, начинают дрожать руки, лицо у него становится несчастным. «Любовь! — громко и зло вступает в беседу парень с магнитофоном. — Спешит замуж, вот что это. Просто подвернулся счастливый случай…» «Бессовестный!» — возмущается подружка Марты. Тот не сдается: «Пусть скажет Влад, что он думает. Марта же ему натянула нос!» Парень в синей курточке бледнеет, но отвечает с достоинством: «Мы с Мартой друзья». На это парень с магнитофоном только саркастически передергивает плечами.
Кто знает, чем закончился бы этот спор молодежи, если бы с натугой не заскрипели тормоза трамвая. Он дергается раз-другой и останавливается. Веселый вагоновожатый объявляет:
— Незапланированная остановка!
Загораживая почти всю проезжую часть улицы, стоит громадина рефрижератор.
Молодежь высыпает из трамвая.
— Пошли пешком!
— Да уж лучше пешком, чем на этой развалине!
— Ой, как пахнет акация!
Старый пассажир грустно качает головой, неохотно поднимается со скамьи.
— Пора и мне выходить. Я почти приехал…
Он выходит, и мы опять остаемся вдвоем с кондукторшей. Кондукторша провожает старика взглядом, затем снова принимается считать деньги, отмечая карандашом на бумаге какие-то цифры.
Каждому из нас предстоят расставания с родными краями, с близкими людьми, с привычными обжитыми вещами, только всяк расстается по-своему. Разлуки неизбежны, и, как говорится, «хочешь не хочешь, а быков погоняй». Молодым разлуки даются легче: впереди их ждет новое, неизведанное, их зовут открытия. Уезжает из родного города девушка с гвоздиками. Но ее ждет любовь, она спешит на ее зов и потому без труда разорвет тонкие нити былых привязанностей. Старый пассажир, казалось бы, расстается только с привычным транспортом, но для него это — прощание с полувековым отрезком жизни. В девяносто лет не легко даются перемены. Прошлое, как правило, не возвращается, а если и возвращается — то для других. Каждому предстоят разлуки, каждый из нас оставляет чистые родники, каждому предстоят вокзалы, дороги, но только каждый разлучается по-своему.
Трамвай снова пускается в путь по Скулянской рогатке. Пьянящий воздух проникает в вагон, тревожит мою душу. И вдруг я узнаю знакомый переулок. Да, да, здесь я бегал в школу, распугивая по пути воробьев из рогатки. Еще осталась булыжная мостовая.
Переулок тянется наискось от самой окраины, пока не наталкивается на трамвайную линию. Здесь я каждый день поджидал свою маму, чтобы хоть мель, ком увидеть ее. Она в то далекое время работала кондукторшей на трамвае. На этой остановке я каждый день ждал ее с тоскливым нетерпением. Показывался красный вагон, бормотал сонный колокольчик. И я слышал, как откуда-то сверху, из-за облаков, мама громко звала меня по имени. Я едва успевал заметить в беге трамвая тонкую мамину руку, махавшую мне, затем мелькало ее милое лицо, оно улыбалось. В воздух летели яблоки — желтые, красные, белые — как дождь, окаймленные радугой. Яблоки, подпрыгивая, катились по булыжной мостовой. Пока я их собирал, вагон, приглушенно потренькивая, уже был далеко. Лишь слабая рука прощально махала мне с задней площадки трамвая. Булыжник на мостовой остался, а яблоки…
Теперь и последний вагон уходит в депо. Вполне возможно, что именно с площадки этого вагона махала мне материнская рука. И я не могу ответить, не могу ее догнать, даже если бы бежал за трамваем десятки и сотни лет, целую вечность. А булыжная мостовая кажется мне стальным клинком, выставленным в зале музея.
Сон земли охраняют небесные лампады. Электрические фонари на улицах роняют слабый дрожащий свет. Этажи зданий теряются в выси. Вагон идет толчками, словно корабль без людей. А иногда он напоминает мне балдахин, который влекут невиданные лошади, и кто-то, тоже невидимый, несет факел. Медный колокольчик изредка нехотя позвякивает. Балдахин движется не спеша, как похоронные дроги. Акации в белых одеждах стоят на его пути, — так описывает легенда похороны чабана. А за углами, за киосками, в безмолвных проездах прячутся угрюмые тени с черными клобуками на головах. Балдахин тихо пробирается сквозь толпы ночных светил. Он уходит в последний путь. И гаснут светильники…
Я схожу около депо. Вагон входит в трамвайный парк. Мне не остается ничего другого, как уйти домой. По меня удерживает смутный внутренний голос.
Когда-то в этом трамвайном депо я был свидетелем необычного происшествия. Мальчишеская непоседливость толкала меня на бродяжничество. Однажды я забрался в депо и крутился среди открытых, без окон, летних прицепов. Дело было в июне, самом жарком месяце лета, — недаром его называют в народе месяцем печки, — солнце жгло неумолимо. Но в депо я чувствовал себя прекрасно. Я мог разглядывать старые демонтированные моторы, мог отвинчивать гайки — и мне никто ничего не говорил, мог, наконец, спрятаться под крышу прицепа и вообразить, что я капитан судна, которое отправилось в кругосветное путешествие. Я облюбовал себе прицеп, находившийся в самом тупике, и встал на «капитанский мостик». На скамье, в другом конце моего корабля-прицепа, чирикал маленький воробышек. Он был совсем заморыш, серенький, взъерошенный, но корабль должен иметь на борту помимо капитана еще и команду. Я зачислил воробья в матросы. Хорошо помню, как сквозь заднее стекло прицепа на воробышка падал сноп света, и, хотя солнце жгло немилосердно, воробью это, видимо, доставляло удовольствие. Он без умолку чирикал.
Так и осталось у меня в памяти: голубое, как шелковое покрывало, небо, огненный поток света и чириканье воробья. И вдруг откуда-то сверху сорвался и стремительно полетел какой-то темный предмет, разбил стекло прицепа и грохнулся об пол. Я перепуганно вскочил. На полу лежал большой и красивый ястреб. Он был мертв.
Что могло случиться с ястребом? Полный недоумения, я разглядывал птицу, пока не пришла разгадка: ястреб разбился о стекло. Откуда-то с высоты он увидел и подстерег маленького беспечного воробья, который купался в солнечном потоке. Хищник не подозревал, что между ним и добычей стоит препятствие — толстое стекло. Это стекло, просвеченное солнцем, было для него невидимым. И вот надменный, самоуверенный ястреб валялся на полу грудой тряпья.
Воробей, парализованный страхом, застыл на месте. А когда оцепенение прошло, он, выкрикнув птичье ругательство, стремительно вспорхнул и улепетнул что было сил.
Я посмотрел вслед воробью и только тут увидел в стекле совершенно круглую дырку. Подошли рабочие, с удивлением стали рассматривать словно вырезанное искусным стекольщиком отверстие. Ястреб вызвал меньше толков, чем эта круглая дыра в стекле…
Из проходной депо выходит кондукторша. Она замечает меня, оглядывается, потом подходит ближе и спрашивает, отчего я тут стою, может, что-то потерял в трамвае?
Я говорю:
— Нет, нет, все в порядке.
— Может, забыли что-то ценное? Так я могу сообщить в контору.
— Да нет, я ничего не забыл. Не беспокойтесь.
Женщина смотрит на меня испытующим взглядом и настаивает:
— Вы не стесняйтесь. Может, все-таки что-то потеряли? Какую-нибудь безделушку?
— Не терял и не забывал, — говорю я и развожу руками: дескать, мне нечего терять и нечего забывать.
— Значит, кого-то ждете? — улыбается женщина, оглядывая меня с головы до ног. — Уже поздно, все разошлись. Если вы кого-то ждете…
— Да, уже поздно, — тихо соглашаюсь я.
Некоторое время мы молча идем рядом.
— Случается, потеряешь пустяк, а сожалеешь всю жизнь, — задумчиво говорит женщина.
Я вздрагиваю от ее слов, неловко спотыкаюсь о камень.
— Пожалуй… Вы правы.
— Чувствуете, какой воздух? — спрашивает женщина. — Цветет акация…
Мне не хочется отвечать. Я закуриваю сигарету.
Над моим родным городом стелется огромное звездное небо. И каждая звезда — загадка. Некоторые звезды давно угасли, но их свет все еще продолжает пробиваться к нам из глубин вселенной.
А не сохраняют ли свой след среди людей и наши разлуки?..
Перевод с молдавского Л. Мищенко
Борис Можаев Петька Барин
Как-то поздней осенью заехал я в Тиханово, зайцев погонять по первой пороше. У Семена Семеновича Бородина, моего дальнего родственника, был отличный гонец костромской породы, а у Гладких, второго секретаря райкома, русская гончая — пегий кобель, рослый, как телок. Собаки давно спарились в работе и вдвоем куда хочешь выгоняли и зайца и лису.
Володя Гладких был моим приятелем, и я запросто зашел к нему в кабинет под вечер, чтобы поговорить насчет завтрашней охоты. В приемной застал я директора Мещерского совхоза, с которым был едва знаком. Мы поздоровались. Это был сухой погибистый человек средних лет с темным сумрачным лицом и белыми залысинами, отчего выглядел каким-то болезненным.
— Что, очередь? — спросил я.
Он замешкался, потянул со стола к себе под мышку желтую кожаную папку и сказал уклончиво:
— У меня тут дело такое, что не к спеху… Так что давай проходи, — и как-то жалко улыбнулся.
— Я тоже вроде не тороплюсь.
— Нет, проходи ты, — настойчивее сказал директор.
Я прошел. В кабинете секретаря застал я какого-то тощего старого просителя в аргунском зеленом пиджаке и в резиновых сапогах. Он держал в руках рыжую телячью шапку и упорно глядел на Гладких красными слезящимися глазками:
— Дак пензию дадите мне али как?
Гладких сидел за столом, скрестив руки на груди, с тем выражением безнадежного отчаяния, которое вызывает разве что затяжная зубная боль.
— Ну, милый мой! Я ж тебе десять раз говорил: не имею права. Не занимаюсь я начислением пенсий. На то райсобес имеется.
— Райсобес отказался.
— Я ж тебе пояснил, почему… При тебе звонил туда. Говорят, что бумаг у тебя нет. Справок, которые подтверждают трудовой стаж. Понял?
— Дак бумаги Федька не дает.
— Не Федька, а Федор Иванович. А он говорит, что ты мало в колхозе работал.
— А колько позовут, столь и работал.
— Но откуда ж я знаю? Я-то не состоял в вашем колхозе.
— Ну да… Я вот состоял, а пензию не дают.
— Тьфу ты! Опять двадцать пять, — Володя громыхнул стулом и повернулся ко мне: — Вот, поговори с ним.
Старик тоже поглядел на меня, часто заморгал, зашмыгал носом и заплакал:
— Бог с ними… Дадут — дадут, а не дадут — и не надо, — он утер шапкой лицо и горестно вздохнул.
— Вы откуда будете? — спросил я его.
— Из Петуховки я… Самохвалов.
— Кто ж поступил с вами несправедливо? На что вы жалуетесь?
— Мне не то обидно, что не работал, а то, что бумаг, говорят, нету.
— Так ведь только бумага подтверждает, что вы работали, — сказал Гладких.
— Небось, когда работал, бумаги не требовали. Ступай на работу и все… Я, бывало, и на бакчи еду и в лес за дровами. Мне говорят — иди в кавхоз, лошадь дадим.
— А вы что, безлошадником были? — спросил я.
— Когда лошади не было, я на крахмальном заводе работал.
— А в колхозе по доверенности работали или как? — спросил Гладких.
— Нет, я на труддень. Сани починю, тырлы… Казхозник я.
— Да у тебя даже книжки колхозной нет, — сказал Гладких. — Ты и в райтопе работал, и в лесничестве, и на кирпичном.
— Куда пошлют, там и работал. Получал колько дадут. Мне больно обидно, что все получают пензию, а я нет. А еще больно грубо сказал секретарь Федька: от меня, мол, все зависит. Хочу дам бумагу, хочу нет. А я без работы не могу. Болею я от этого. Охо-хо-хо! Мало работал? Да я, брат родной, сидеть не могу. На быке шкуры возил в войну. А мосты через Петравку развалились. Это, как сказать? Телега без наклесток… Не телега — дроги. Шкуры с нее плывут… а я по река их ловить. По брюхо в воде плавал. Бумаг, говорит, нету. Это не доказывает. У меня свидетели есть. Кто хочешь подпишет, что дядя Васька работал. Эхе-хе-хе! Как вы мне поясните сделать-то? Что я в кавхозе работал.
— Надо такую бумагу, чтоб свидетели подписали… Хотя бы два человека. Понял? — пояснил Гладких. — Голошеин так сказал.
— Голошеин… Какой Голошеин? Федька, что ли? Дак он не хочет подписывать.
— Да что тебе дался Федька! — взорвался Гладких. — Пусть подпишут свидетели, которые знают, что ты работал.
— Ну да… Подпишут — подпишут, а не подпишут — и не надо. Мне больно то обидно, что бумаги, говорит, нет. Когда работать надо — бумаги не просят… а пензию — дай бумагу. Охо-хо-хо… — Он натянул глубоко, по самые брови, шапку, расправил уши и пошел.
— Наконец-то, — с облегчением сказал Гладких и, дождавшись, пока тот вышел, спросил: — Как думаешь, бестолочь или придуривается? Если придуривается, то неплохо играет.
— Небось есть захочешь — заиграешь.
— Нет, ты чудной! Что у нас тут богадельня, что ли? Кто ему велел бегать с места на место. Порастерял все… А теперь и штанов не соберет.
Володя был еще молодым человеком — чуть за тридцать перевалило, — судил обо всем строго. Я только пожал плечами и вздохнул, как давешний проситель…
— Тебя там директор ждет, из Мещерского совхоза, — перевел я разговор.
Он вдруг рассмеялся с каким-то предвкушением потехи и даже руки потер:
— Пусть посидит.
— Да неудобно. Может, позвать?
— Он не войдет… При тебе — ни за что не войдет!
— Что у вас за секрет?
Володя достал из ящика письменного стола сколотую булавкой машинописную рукопись и кинул передо мной на стол:
— Читай!
Я прочитал заглавие: «Письмо директору совхоза «Мещерский» Петру Емельяновичу Проскурякову»…
— Личное письмо? — спросил я, отодвигая рукопись.
— Да ну, личное! Вроде вызова послал директору, как раньше на дуэль вызывали. Самым честным поступком вашим, говорит, было бы сейчас же написать заявление об уходе. Не ваше это дело — быть директором, — Володя рассмеялся. — А, каково выдал?
— Кто этот судья?
— Да есть у нас один строптивый… Рабочий совхоза… тракторист.
— Простой рабочий?
— Ну, не совсем простой. Наш изобретатель Ступин. Слыхал?
— Это что в газетах пишет?
— Он. Съездил бы к нему. Интересный мужик…
— А что у него с директором?
— Как тебе сказать… Тут нашла коса на камень. Шерстит он директора и на собрании и в печати. А тот прижал Ступина на горючем. Приказал за пережог дизельного топлива удержать со ступинского звена. Ну и высчитали по тонне с каждого. Ступин ему письмо: за что? Что у нас, трактора не исправны? Топливо течет? Или на свои нужды гоняем трактора? По чьей вине пережог? Да по вашей. Летом солому возим на санях, а зимой на телегах. Возле фермы непроходимые болота — за уши трактора таскаем… Мы и так мало зарабатываем по вашей милости, а вы с нас за пережог еще берете? Ну и пошла писать губерния… Другой бы получил такое письмо — в сейф его запрятал. А этот в райком прислал: примите меры, говорит, подрывают мой руководящий авторитет.
— Кто же из них виноват?
— Виноват тот, кто поставил бывшего коновала директором совхоза, — с обычной своей резкостью заметил Володя. — Был плохой ветеринар в районной ветлечебнице. Куда его девать? А пошлем-ка зоотехником в совхоз. Там единица… Послали… Проходит года два, умирает директор. Кого на место директора? А там же есть зоотехник… в заместителях ходит. Вот и пускай старается. Он с дипломом. Совхоз-то животноводческий. Ему и карты в руки… Да что там говорить… — Гладких поглядел на письмо, полистал страницы. — И ведь вот хитрец, этот Ступин. Чует слабую струну и сечет прямо под самый корень. Вот послушай, что пишет: «Личное командование без совета и знания дела в наше время выглядит, как уродливое шарлатанство и обыкновенная наглость…» — Гладких поглядел на меня с вызовом: — Каково? — стал пояснять: — Этот машину конструировал по разбрасыванию удобрений. А директор запретил: «Нам не нужна такая машина!» А Ступин ему: «Кому это вам? Инженеру и агроному нужна. Мне, механизатору, тоже. Кому же вам? Очевидно, следует понимать — мне, директору. Мне так показалось, мне, директору, так захотелось; мне, директору, нет дела до того, что думают другие. Вот это и есть, говорит, волюнтаризм, то есть хулиганство». Ха-ха-ха! Так и написал… вот, смотри! — он ткнул пальцем в строчку и прочел: «Хулиганство».
— Ну, и что ж ты скажешь директору?
— Что ему скажешь… Хочешь послушать? — он озорно повел глазами и занес палец над кнопкой на торце стола. — Сейчас позову.
Я вспомнил, как директор при моем появлении поспешно взял со стола желтую папку (видно, там был второй экземпляр этого письма), с какой готовностью уступил мне очередь в кабинет, как услужливо кланялся, улыбался виновато: «Проходи, мол, ради бога… только не со мной…» И не мог пересилить себя.
— Неловко, — ответил я. — Лучше съезжу к Ступину.
— Ну, как знаешь.
Поездка моя в совхоз «Мещерский» случилась неожиданно скоро. На другой день с утра поднялась такая метель, что не видать было домов на том порядке улицы. За двое суток немыслимой круговерти намело-насугробило столько снегу, что мой Семен Семенович забастовал: «Куда в такую непогодь на охоту? В снегу вымокнешь по самую ширинку». У Гладких открылся какой-то семинар, и ему не до охоты. Я было загрустил совсем.
— Ты, кажется, к Ступину хотел съездить? — спросил меня Гладких. — У нас подвода туда идет. Секретарь застрял в лесничестве. Поезжай.
И я поехал. Совхоз «Мещерский» лежит в лесной полосе километров за двадцать от Тиханово. Туда и в обычную пору проехать было нелегко, а уж в распутье да в зимние заносы на автомобиле и не суйся.
Не доезжая до Еремеева, мы встретили странную подводу. Гусеничный трактор тянул грубо сколоченные сани, на которых стояли две железные бочки, валялись толстые оцинкованные тросы, лопаты, и в самом задке прижались две бабы, закутанные в клетчатые шали, да мужик в тулупе.
— Куда они снарядились? — спросил я своего возницу.
— В Пугасово, за горючкой.
— За пятьдесят верст на тракторе? — удивился я.
— А на чем же еще? Грузовики не ходят: то ростепель, то заносы. Лошадей нет.
— Но они же и за сутки не обернутся?!
— По два дня ездят. С ночевой.
— Какой смысл гонять трактора в такую даль?
— Нужда… Горючка необходима для тракторов.
— Они что, снег пашут?
— За кормами ходят.
— Куда?
— На луга… километров за сорок. Как только путь установится, по пороше, то есть.
— Батюшки мои!
Возницу нисколько не трогало мое удивление. Он дергал вожжами, похлопывал шубными рукавицами, покрикивал на лошадь и, как бы между делом, пояснял мне, зачем нужна горючка к тракторам в такую пору, пояснял обстоятельно, терпеливо, как это делают неразумным детям.
— Поскольку совхоз откормочный, без сена никак нельзя.
— А трактора в разнос пускать можно?
— На то они и есть трактора. Не на себе ж таскать сено-то.
— Трактора в пять раз дороже сена!
— Мало ли что. В ином деле себя не бережешь. А то трактора. — Мой возница был неуязвим, сидел бочком, вполоборота и смотрел куда-то в сторону.
Эта странная отрешенность, уклонение от существа дела озадачили меня и в разговоре с директором Проскуряковым. Он также глядел куда-то в сторону, морщил лоб и сводил брови с тем выражением, которое передается вопросом: «Что вы, собственно, от меня хотите?»
— Как же это, в лесной глухомани, вдали от лугов создали откормочный совхоз? — спрашивал я директора.
— Очень просто. Был колхоз, перевели его в совхоз.
— Зачем же?
— Потому что слабый был колхоз… нерентабельный.
— А совхоз крепкий?
— И совхоз слабый.
— Чего же добились? Неужели вы считаете разумным гонять трактора в эдакую даль за сеном?
— А ближе нет его, сена-то.
Логическая фигура замыкалась, и выйти из этого заколдованного круга не было никакой возможности.
Мы сидели в бухгалтерии. На столе у бухгалтера лежал список. Трактористы и возчики, одетые в полушубки, ватные брюки, входили по очереди, расписывались, потом шумно дули на руки — с мороза пришли — и получали по три рубля на ночевку, для сугреву.
— На сколько же хватает горючки, привезенной из Пугасово? — спросил я директора.
— На один рейс.
— А потом?
— Все повторяем… Те идут за сеном, этот в Пугасово.
— Весело живете. А Ступин ездит за сеном?
— Сейчас — нет… — ответил директор, помолчав.
— Почему?
Директор провел ладонью по лбу и поморщился:
— Он свою долю привез летом.
Я вышел на улицу, отпустил возницу в лесничество, а сам пошел искать Ступина. Возле колодца с журавлем я спросил старуху:
— Скажите, где Ступин живет?
— Какой Ступин? У нас, в Еремееве, полсела Ступиных.
— Который машины изобретает… Петр Александрович.
— А-а, Петька Барин! Ступай в конец села. Там стоит на отшибе новый дом под зеленой крышей. Увидишь. А нет — спросишь, где, мол, Барин живет.
Я сразу угадал дом Петьки Барина, — он стоял на высоком берегу Петравки, в окружении старых лип и заломанной чахлой сирени, чуть вынесенный из общего порядка улицы. Дом большой, обшитый свежим тесом, на замшелом фундаменте из дикого камня. И крыша зеленая, и вертлюги на крыше.
Хозяин встретил меня на улице; он обносил забором эти раскоряченные липы, да выщербленную сирень, да кое-где уцелевшие изуродованные яблони — жалкие остатки от большого сада. Хозяин был видный мужчина, широкоплечий, рослый, с лицом народного артиста, полный собственного достоинства. На нем была черная стеганка, открывавшая его мощную кирпичного цвета шею, высокие, за колено, валенки и серая армейская шапка. Мы поздоровались. Я назвал себя, сказал, что приехал из газеты, что наслышан о нем и хотел бы написать… Словом, обычное приставание газетчика, когда хочешь понравиться человеку и выудить из него нужный «материал». Ступин вел себя не то чтобы просто, а величаво: протянул свою необъятную железную ладонь, чуть прикрыл большие сонные глаза и представился:
— Петр Александрович.
— Давно здесь поселились?
Он вскинул веки, повел крючковатым носом, как пробудившийся орел, и застыл в ожидании. «Чего ради спрашиваете?» — было написано на его крупном суровом лице.
— Поместье старое, а дом новый, — сказал я, кивая на черные липы.
Он поджал губы и насупился, видимо, уловил намек на его прозвище — Барин.
— Здесь жили братья Потаповы, мельницу на Петравке держали. Вон там. Видите, железо торчит из камня? Была плотина. А под берегом… вон, где лозняк! Питомник держали. Фруктовые деревья разводили… Торговали.
— А где же они?
— Сослали в тридцатом году.
Он пошел к изгороди, неторопливо сложил в деревянный ящик свой нехитрый инструмент и сказал кротко:
— Проходите в избу.
В доме нас встретила хозяйка, удивительно похожая на самого Ступина, такая же степенная, рослая, с большим и строгим лицом.
— Проходите в залу, — сказала она.
В чистом и светлом доме было четыре комнаты, отгороженные дощатыми перегородками. В дверных проемах висели шторы из красного бархата, в комнаты вели широкие ковровые дорожки. Мы разделись и прошли в просторную залу. Петр Александрович сел за свой письменный двухтумбовый стол, а меня усадил на широкую тахту под узбекским ковром. За стенкой гомонили потревоженные моим приходом дети: мальчик и девочка, лет по десять — двенадцать. Они сидели за столом, готовили уроки.
— Внуки? — спросил я, кивая на ту комнату.
— Дети, — ответил Петр Александрович.
Я с удивлением посмотрел на его седую голову:
— Сколько же вам лет?
— Сорок четыре.
— А я думал… — Я запнулся.
— Что я старше? — сказал Петр Александрович и улыбнулся. — Не стесняйтесь. Мне многие дают больше моих лет. Я еще в армии поседел… на сверхсрочной.
— И давно ушли из армии?
— На тридцатом году.
— И все здесь, в совхозе?
— Сперва в колхозе, а потом совхозом объявили нас.
— Чай, дорого стала вам постройка? — спросил я, оглядывая высокие потолки и чистого оструга сосновые стены.
— Нет… Я ведь все своими руками сделал.
— Как? И отопление?! — я указал на крашеные радиаторы, висевшие под окнами.
— И отопление. И разводку, и опрессовку — все сам делал.
— А котел?
— Котла нет. Змеевик сварил. Он в печке опрессован. Вон, хозяйка обед варит, и система работает.
На чертежной доске, лежавшей поверх книжного шкафа, был наколот большой лист ватмана с чертежным наброском.
— Это что за конструкция? — спросил я Ступина, указывая на ватман.
— Это пока в карандаше… Наброски, — нехотя ответил он.
— А что набрасываете? Простите, может быть, это секрет?
— Да ну. Какие у нас секреты! Хочу машину сделать для разливки аммиачной воды. Заводские машины очень неудобны. Пока на ней поработаешь, сам весь провоняешь. Громоздкие и для здоровья вредные.
— А что ваш разбрасыватель удобрения? Тот, против которого директор возражал?
— Вы, должно быть, письмо мое читали? На имя директора?
Мне стало так неловко под его пристальным взглядом, будто я запустил руку в чужой карман.
— Да как вам сказать… Специально не читал. Но мне суть пересказали.
— Там никаких секретов нет, — ободрил он меня. — А с разбрасывателем все в порядке.
Он достал из ящика письменного стола информационный листок с синим клише научно-исследовательского института технической информации:
— Вот, институт рекомендует его в серийное производство. И авторское свидетельство выдали.
Я развернул информационный листок; на развороте был фотоснимок трактора с навешанным на раме огромным ковшом разбрасывателя. А внизу два чертежа — тот же ковш в разрезе.
— А скажите, в чем разница вашей машины с известными заводскими образцами?
Ответил скромненько:
— Заводские разбрасыватели надо загружать либо экскаватором, либо вручную. А мой сам черпает удобрения. И производительность у моего вдвое выше.
— Где ж вы научились всем этим премудростям?
— Да какое у меня учение? Так, приблизительно. У отца в кузнице баловался.
Хозяйка принесла нам квашеную капусту, длинно и мелко порезанную, с изюмом, соленые помидоры и грибы.
— Вы что любите выпить? Покрепче или винца?
— Как вы желаете.
— Тогда вот этой помаленьку, — он достал граненый графин со светлой жидкостью, налил в стопки.
Мы выпили. Водка не водка и спиртом не назовешь. Крепкая, и пахнет приятно, и чуть сладимая.
— Что это? — спросил я.
— Кальвадос, — сказал он, довольно ухмыляясь. — По-нашему сказать — яблочная водка. В книжке прочел про это и вот — сообразил.
— А вдруг аппарат у вас заметят? Не боитесь?!
— Мой аппарат — вон кастрюля с тарелкой, да еще конфорка от самовара.
После выпивки он оживился, поглядывал веселей:
— А что? Поди, директор жаловался на меня? От рук, мол, отбился. Так, приблизительно?
— Говорит, что вы отказались сено возить.
— А я свою долю перевез.
— Когда?
— Летом, на тележках. Мы звеном работаем, вчетвером. За нами и луга закреплены. Скосили, согребли. Езжайте, мол, пары парить. Ребята, говорю своим, пристегивай телеги! Ну, пристегнули… Весь свой пай навили да на скотные дворы отвезли. Попутно. За два рейса. А зимой гонять трактора отказался. Дураков, говорю, нет.
— А почему же другие так не сделали?
— Другие? А кто эти другие? Работают скопом, кого куда пошлют. Они и тележки поломали да порастеряли. А кто заботится? Кому надо? Директора вы знаете. Он заботится только о собственной персоне, кабы его не обидели. Заведующий ремонтными мастерскими? Есть такой пост. А человек на посту, как чурка на мосту. Полдня может проваляться на полу в цехе, пока его кто-нибудь ногой не зацепит, не споткнется. Вот о ком написать надо. Хотите расскажу?
Мы выпили еще по стопочке.
— У нас эти журналисты бегают по людям, передовиков ищут. Подойдет к тебе — расскажи, как жнешь, как пашешь? Метод ему открой… Так, приблизительно, а он передаст. Кому, зачем? Да разве по газете мастерству научишься? Ты вон гляди — одни пашут, а другие руками машут. Вот о чем писать надо… Так вот, есть у нас Сенька Горюнов, заведующий мастерскими. Когда-то мы вместе с ним начинали в эмтээсе. Еще на комбайнах С-6 работали. Заснет, бывало, возле комбайна, подгоняй трактор, цепляй комбайн, гони куда хочешь — не проснется. Каждый день либо пьяный, либо с похмелья. А объяви любую кампанию — он тут как тут, передом лезет, хоть на четвереньках, но впереди. На трибуну не пустят — с места кричит. Мы, говорит, за все отвечаем, потому как на переднем краю стоим. Всем он в зубах навяз, как горькая редька. А тут из совхоза «Память Ильича» просят: дайте заведующего в мастерские. Поактивнее кого. Ну, кто даст хорошего работника? Возьми, боже, что нам не гоже. Вот и дали Сеньку на память… Смеялись еще. А он и там не пропал. Смотрю, через десять лет к нам в совхоз переводят. Заведующим. И пошел шуровать. Тут кампания развернулась — металлолом сдавали. Так он все дворы очистил. Ему благодарность вынесли в приказе. И только потом узнали, что он под шумок вместе с ломом отправил исправную коробку передач, дизельный двигатель, бетономешалку и риджерный снегопах… единственный в совхозе. И других же обвинил: не на месте лежали, говорит. Бесхозяйственность! Поглядишь на него — рожа не мыта, не чесана, глаза блестят, как надраенные медные пуговицы, и такая собачья готовность ко всему, что скажи ему: полай, — забрешет! И все ему с рук сходит. Напьется где — приползет ночью до гаража, заведет любую автомашину и домой угонит. Он в Сосновке живет. Да и бросит ее где-нибудь в лесу. И вот что удивительно: так — на ногах не стоит, языком не ворочает, а за баранку сядет — куда хочешь уедет. Я, говорит, трезвею за рулем. Знаний никаких. Но апломба!.. Например, может глядеть вам в глаза и нагло доказывать, что балансиры кареток ДТ-75 чугунные, а не стальные. А то начнет всасывающие окна искать на выхлопном коллекторе… Теперь вы меня спросите: а почему же, за что его держат? А я вам отвечу — запчасти умеет доставать. О! Тут десятерых отставь, а его приставь. Он знает, где взять и кому дать. Тому стакан, этому бутылку, а иному и бобину сунет. Потом спишет… в металлолом. Иначе откуда деньги взять? Ведь он из каждой поездки возвращается пьяным. Да что там говорить! И ведь понимают, что он за работник. Не все, конечно. Директор, к примеру, собой занят. А главный инженер у нас толковый. Иван Тихонович, говорю, сколько ж мы Сеньку Горюнова терпеть будем? А что, говорит, делать? Знаю, что хлюст, да запчасти доставать умеет. Кого поставишь вместо него? Некого. А совхоз без запчастей, что телега без колес, с места не стронешься.
Ступин говорил без гнева, не повышая голоса и не подсмеиваясь, с той покойной ровностью, похожей на деловую обстоятельность, с которой он только что пояснял мне выгоды своей машины. И руки держал покойно, на коленях — широкие обветренные запястья, узловатые пальцы в сбоях и темных отметинах металла.
— И вот что замечательно: на работе он шалопай, а домой к нему заглянешь — полный порядок. И постройка хорошая, и скотина накормлена. Значит, может работать, да не хочет. И он ведь не один такой залетный. Вон, бригадир животноводов, Родька Павлов. На скотном дворе — горлохват: я кормлю! я даю! я плачу! Хотя за всю свою руководящую планиду охапки сена не принес коровам. Скотников материт, к дояркам пристает, за мягкие места хватает. А дома вокруг жены вьюном ходит: Маша, Маша, ты посиди, я сбегаю, напою коровку… Дровец наколю… Или вон, возьми управляющего вторым отделением, Федора Шмыгаткина. Технику от агротехники, как говорится, отличить не может. Помню, еще в эмтээсе тянули его, тянули… комсорг! А он выше заправщика тракторов, да и то на конной повозке, так и не поднялся. И на шофера посылали учиться, и на комбайнера — не вытянул. Над ним смеялись — Федька, шкворень от какого трактора? — От колесного. — Дурак, от четырехногого. Так шкворнем и прозвали его. Эмтээс ликвидировали, а его куда? Ведь штатная единица! Послали в колхоз бригадиром. Пошел. Отчего не идти? Оклад выше прежнего, и горючее возить не надо. Ходи по избам, агитируй насчет работы. Это он умеет. И теперь на одной агитации держится. Зато дома у него и свиньи, и овцы, и утки, и канки… И одной лихоманки только нет. И дрова ему пилят, и баню топят, и зерно везут. Оплата? По нарядам из совхозной кассы.
— Но, простите… Есть же, наверное, среди этих бригадиров и управляющих и толковые работники?
— Отчего же нет? Есть, конечно. Тот же главный инженер… Энтот шкворень с шатуном не перепутает. И агроном толковый. Но тут есть один вопрос-закорюка… Насчет техники, да агротехники мы сообразили, что без науки нельзя к ним подходить. А насчет людей? А?! Тут у нас не наука впереди, а штатное расписание. Я извиняюсь, конечно, это не везде, а только у нас в совхозе. Вот почему мы и гоняем трактора по сугробам.
У дверной занавески неслышно выросла хозяйка:
— Петр Александрович, яишенка поспела.
— Очень приятно, — ласково отозвался хозяин. — Ставь ее на стол. Извините, закуска у нас простая. — Это ко мне. — Вы чай любите или кофий?
— Как вам лучше.
— Леля, свари кофий. Мы тут балуемся кофейком.
За яичницей да за «кофеем» Петр Александрович перевел разговор по научной части, и я с удивлением замечал, как он все более оживлялся, глаза его заблестели, руки беспокойно заметались по столу, и все туманнее, велеречивее становилась его речь, хотя мы ни капли больше не выпили спиртного и были совершенно трезвыми.
— Что вы думаете насчет интеллектуальной перегрузки, о которой писала «Известия» в статье Владилена Золотухина?
— Я, знаете, не помню такой статьи.
— Ну как же? Это писатель известный. Говорит, что много появилось различных предположений, гипотез, теорий и так далее. А системы не хватает, то есть противоречия и непоследовательность налицо. Даже могущественный диалектический материализм в затруднении. Как быть?
Я еще не уловил, куда он клонит, и спросил:
— Что же вы предлагаете?
— Я предлагаю — для правильного формирования стабильно-стойкого научного мировоззрения новых поколений рабочего класса и всего народа приблизить все достижения естественных наук к нашему основному закону.
— Простите, какому основному закону?
— Ну как же, основному закону общественного развития. То есть, не загромождать все эти гипотезы бесконечными математическими вычислениями и формулами, эдак немножечко упростить, сделать понятными для широкой народной массы и выпустить в виде популярной увлекательной серии научных брошюр, наподобие Перельмана. Чтобы весь народ мог участвовать в объяснении и открытии новых гипотез. Кто знает, может быть, наиболее пытливый ум окажется не там, где его ждут, а в другом месте. Может быть, тот, кто не отвлечен рождением пар частиц и античастиц, тот, кто вооружен только основами познания, то есть закономерностями общественного развития — точно нам известными истинами, отталкиваясь только от них, окажется ближе к истине необъяснимых гипотез.
Вон ты куда метишь, братец мой, подумал я. Ну, что ж, знакомая замашка, знакомая. Видимо, уж так устроен русский человек, что мало ему кузнечного звона на все Еремеево, надо еще и науку по-нашенски причесать, по-еремеевски. Один писатель восторгался, глядя на русского мужика, что Петр Первый был натурой типично русской, потому что не прочь был себя поломать. Но Петр Первый и лики все стриг под одну гребенку. Сбрей бороду! Я ж не ношу бороды. Одевайся по-моему, молись по-моему, думай, как я. Буде ж у кого различие приключится, бить оного кнутом до бесчувствия. Увы, и эта черта единообрядности и единомыслия не чужда русскому мужику.
— А с чем же вы не согласны? Вернее, с кем?
— Да как вам сказать… Великий Эйнштейн был прав, конечно, что все в мире относительно. Хотя надо признаться, — есть и абсолютное. Допустим, что свет обогнать нельзя, что скорость света не зависит от его источника… Это все возможно. Но объяснять тяготение, то есть гравитацию, искривлением пространства — это уж извините.
— А что, не допускаете?
— Никогда! Ну, сами посудите, искривиться может что-то материальное. А пространство есть пустота, ничтожность то есть. Как же пустота может искривиться? Чепуха. Гравитация, видимо, имеет волновую природу. То есть все частицы вселенной имеют стабильный и мощный ритм колебаний. Всякое удаление частиц друг от друга вызывает нарушения ритма, чему частицы сопротивляются. Например, как сопротивляется гироскоп попытке вывести его из плоскости вращения. Вот это объяснение понятно всем, а главное, имеет основу, почерпнутую из диалектического материализма. И таким манером можно объяснить многие загадки вселенной…
Я просидел до позднего вечера у Ступина. Хозяин мне и погреб показывал, и гараж с мотоциклом «Урал», и сад молодой фруктовый, рассаженный им на склоне горы. А вот с хозяйкой так и не познакомил. Она появлялась всегда в нужную минуту, ставила что-нибудь на стол и исчезала совершенно, словно растворялась. И детей я больше не видел и не слышал.
— Петр Александрович, какие у вас дети тихие, — говорю. — Ни стукнут, ни грохнут…
— Обувь у нас снимают на веранде, — ответствовал он. — Домой входят только в тапочках. Подошвы валеные, оттого и стуку нет.
— Ну, дети есть дети. Играют, возятся…
— А для игрищ улица существует, — строго заметил Петр Александрович.
Когда я с ним прощался, он достал из письменного стола машинописную рукопись в четверть авторского листа и подал мне, слегка смущаясь:
— Может, у вас в газете напечатают… Тут мои главные мысли насчет учености… То есть, чтобы наука не перегружала кругозора и не отводила в сторону.
Про свои машины он и не заикнулся и про совхозные порядки тоже — не это главное.
Шерхан Муртазаев Песня цикады
О цикада, не плачь!
Нет любви без разлуки
даже для звезд в небесах.
Кобаяси ИссаХадиша наслаждалась. Струи горячего пота обильно орошали ее разрумянившееся лицо, шею, спину. «Может, хватит? — нерешительно подумала она, поднимая крышку чайника. — Не до смерти же, в самом деле, кипяток хлебать!» Жаркий, ароматный пар обжег ей глаза, и Хадиша увидела на дне чайника красный, чудесный настой. «Чай не масло. Тошнить от него не будет», — решила она и наполнила пиалу. Миловидное лицо женщины стало сонным и добрым. Она достала огромный, как скатерть, белый платок и вытерла лицо. В открытую дверь передней впорхнул какой-то неслышный зов, заставивший Хадишу выглянуть на улицу. Вдоль арыка вился змеей вьюнок, придавленный зноем. Ржавой жестью с острыми рваными краями громоздился чертополох. Листья яблонь были припорошены пылью. Ее вдруг охватило желание выйти в сад с влажной тряпкой и вытереть каждый листочек. С солнечной стороны яблоки уже начали румяниться. Шелковые султаны выбросили кукурузные початки. Опустили вниз широкие лица тонкошеие подсолнухи. Они кажутся измученными каторжанами, уснувшими стоя. Нахальные куры расклевывают оранжевые помидоры.
— О проклятая птица! — в сердцах сказала Хадиша. — Нет на вас погибели.
В этом году был богатый урожай помидоров. А много ли ей нужно одной? Она сказала было детям своего кайны Шалабая, чтобы они собрали созревшие овощи, но те отмахнулись.
— Зачем нам? Своего девать некуда!
— Сытость, — вздохнула Хадиша. — Дети разучились ценить хлеб…
Показалась улица незнакомой, чужой и странной. Ни души не видать. Рыжий кобель лежит в тени овчарни, высунув язык, и дышит, тяжело поводя боками. Даже неугомонные птицы, которые обычно наполняли воздух переливчатыми трелями и звонким щебетаньем, сейчас примолкли и сидят на ветвях деревьев безмолвные и неподвижные, словно нераспустившиеся почки, большие и сказочные. И только цикада трещит неумолчно из зарослей муравьиных джунглей, откуда-то из лопухов и полыни. Полдень еще не настал. Улица забылась, обессиленная зноем. Веки Хадиши отяжелели, обещая необычные сновидения. Тут же, рядом с дастарханом, прилегла Хадиша, подложив под голову бешмет, и сладко вздохнула. И вдруг в комнату снова ворвался зов. Она чуть приподняла голову и прислушалась.
— Фото! Фото! Сурет! — донеслось с улицы. И на дремавшую улицу аула высыпали из домов люди. Аул лежал в стороне от районного центра, и каждый новый человек здесь вызывал интерес и жгучее любопытство. Как тут вытерпишь?!
— Провались ты со своими суретами! — с досадой проговорила Хадиша и снова опустила голову на сложенный бешмет, но тут же вспомнила, что в прошлый раз разъездной фотограф увеличил старую фотокарточку соседки Акшай, снятую еще в молодости.
«Совсем из ума выжила чертова баба! — заругалась про себя Хадиша. — Нынешней молодежи подражает и свой портрет рядом с карточкой старого Куракбаса на стенку повесила. Срам! Да еще вышитые полотенца набросила на рамки. Тоже мне, модница нашлась!» Сколько бы ни ругала Хадиша соседскую старуху Акшай, но все же встала с уютного ложа, не переставая, правда, вздыхать при этом. У ней и у самой было дело к бродячему фотографу, который все голосил на улице. Продолжая ворчать на старуху Акшай, Хадиша стала собираться. Она давно хотела увеличить старую карточку Максута, снятого в военной форме. Единственная фотография. А потом Максут пропал без вести. Ей все не удавалось вырваться в районный центр. Приезд «бродячего» фотографа, как она называла работника быткомбината по старой памяти, оказался кстати. Где уж ей бегать, как юной девчонке, когда скрипят и ноют колени и каждый шаг причиняет боль! А как ломит поясницу, кто бы знал! Говорят, это сказывается то время, когда обожженными ступнями мерила раскаленную землю, когда посиневшими ногами месила холодную глину, когда этими же многострадальными ногами стояла часами в ледяной воде, чтобы только напоить всходы свеклы. То время сказывается, военное… А вода была горная, студеная. А свекла была, как дитя, и заботы ждала от женщин.
«И чего я разворчалась, — подумала Хадиша. — Ищущему попадается спрашивающий. Лежу себе, посапываю, а он-то сам и явился».
Она откинула крышку старенького сундука и достала со дна его картонку с наклеенной фотокарточкой Максута. Единственная эта карточка была завернута в чистую тряпицу. Аккуратно развернув ее, она, щурясь, посмотрела на мужа. И показалось ей, безумной, что муж в этот миг переступил порог ее дома. Губы женщины побелели серым налетом, стали пепельными. А перед ее глазами стоял смуглый, плечистый джигит с открытым и высоким лбом, спокойными и умными глазами.
Это была еще довоенная карточка. Максут участвовал в боях под Халхин-Голом, был кавалеристом. Когда он вернулся в аул, то приводил в восхищение односельчан искусством джигитовки. Люди прицокивали языками, видя, как он летит под брюхом лошади вниз головой, делает стойку в седле на полном скаку, танцует на крупе лошади. Слава о парне полетела по аулам. Тогда-то и встретилась с ним Хадиша…
— О жизнь! — вздохнула Хадиша, бережно вытирая рукавом фотокарточку. Завидев хозяйку, вскочил на ноги Майлаяк, гремя цепью. Язык пса свисал чуть ли не до земли, а бока ходуном ходили. Виляя хвостом, он жалобно заскулил, вымогая подачку. Но, увидев в руках Хадиши не съестное, а какую-то бумажку, пес потерял к ней всякий интерес, зевнул и принялся ловить зубами собственный хвост. Пес закрутился волчком, ловя какую-то надоедливую муху. Он щелкал зубами впустую, обнажая клыки.
Фотограф долго смотрел на фотокарточку и наконец спросил:
— Сынок твой, а, мать?
— В своем ли ты уме? — возмутилась Хадиша. — Это мужик мой.
— А-а, я-то подумал, твой сынишка, — смутился фотограф.
— А ты не думай. Это Вредно для твоих мозгов на такой жаре. Тоже мне, мыслитель! — резко, как щелчок капкана, выстрелила Хадиша. — Увеличить требуется. Сделай хорошо, понял? Да смотри, не потеряй!
Хадиша не была грубой, особенно с людьми незнакомыми, но тут она не сдержалась. Ее задело, что она уже стала старухой, и Максута принимают за ее сына. Не зря говорят казахи, что седеть надо вместе супругам. А Максут остался молодым. Даже в ее памяти.
Фотограф сначала обиделся было, да потом вдруг понял, что вечно открытую рану разбередил у этой старой женщины. Он с легкой улыбкой посмотрел на Хадишу и сказал:
— А есть у тебя карточка, где вы с хозяином вместе снимались?
Но и этот вопрос пришелся женщине не по душе, чем-то кольнул ее.
— Ох и болтун же ты, я вижу! Бог знает о чем спрашиваешь! Нету! Нету такой карточки у меня! Все собирались съездить сфотографироваться. Дособирались, что война началась. В наше время молодые не фотографировались в обнимку да не рассылали снимки родным, как билет на коллективную пьянку, что свадьбой стала считаться. Это сейчас хорошо. Судьбы свои навечно и впервые на карточке связывают.
Фотографу почему-то стало жаль Хадишу. Он еще раз посмотрел на фотокарточку молодого мужчины в Военной форме и спросил:
— А у тебя в доме есть карточка, где ты совсем молодая?
Молодухи с детьми, старушонки, окружившие фотографа, смотрели на него с удивлением: «Зачем ему девичья карточка Хадиши?»
Хадиша молча протянула руку за фотокарточкой Максута. Подождала.
— Зачем тебе понадобилась моя девичья карточка? Не фотографировалась я отдельно. В сундуке валялась одна, где мы с подружкой сняты еще в девках. Кто знает, может, до сих пор и лежит. Кому она нужна? — вздохнула Хадиша.
— А ты принеси-ка мне ее, — попросил фотограф.
— Вот пристал! Да зачем она тебе? — удивилась старуха, не замечая, что все еще стоит с протянутой рукой.
— А ты принеси сначала. Потом посмотришь.
— Далась я тебе, дураку! — в сердцах сказала Хадиша. — Ты уж лучше эту увеличь!
Но фотограф заупрямился:
— Принеси свою сурету!
— Эх, сразу видно, что упрямый. Как вобьет себе в башку что-нибудь, так и не отступится, пока своего не добьется, — засмеялась Хадиша и пошла домой, послушная, как девчонка. Вскоре она уже вернулась с карточкой.
Фотограф оценивающе посмотрел на улыбающихся юных подруг, затем на молодого Максута, почесал затылок и коротко кивнул. Посмотрев на Хадишу, он покачал головой.
— Что? Не похожа? — встревожилась вдруг Хадиша. — Или не веришь? Вот, смотри, это — я, а рядом — подруга моя Улбосын. Вместе росли. За одной партой сидели. В одном ауле жили, да только она раньше меня вышла замуж. Незадолго до ее свадьбы сфотографировались. Видишь, смеемся. Не знали еще, что нас ждет, какие великие испытания. Не могу сказать, что Улбосын счастлива. Ушел и ее муж на войну, а обернулся «похоронкой». Сын остался единственный. Вырос парень, джигитом стал, кормильцем и опорой матери. Что ж, и это счастье! Место отца заступил, не дал погаснуть огню в его очаге.
Фотограф смотрел на стоявшую перед ним старуху, с изрытым морщинками лицом и старался найти в ней сходство с веселой девчушкой, что была на снимке. Только живые искрометные глаза были, казалось, те же…
Через неделю крошечный «Запорожец» фотографа снова пропылил по аулу и остановился на старом месте. Он уже успел принять вид бывалого путешественника. Фотограф выполнил все заказы колхозников. К великой радости людей, он тут же роздал их на руки.
— Ой-бой! Да ты здесь просто городской щеголь! — восторгалась одна.
— Да и ты красавица писаная! — хохотал тот в ответ.
Фотограф был лакировщиком действительности. Людей, изображенных на старых фотокарточках, он, невзирая на лица, наряжал в моднейшие куртки и респектабельные смокинги. Если ты раньше фотографировался в бешмете, чапане или чекмене, то теперь перед глазами односельчан представал чернофрачным дипломатом, правда, стриженным под полубокс, или элегантной светской леди в косынке.
С трудом передвигая изувеченные ревматизмом ноги, пришла сюда и Хадиша. Фотограф молча вручил ей большую фотографию, наклеенную на картон. Хадиша сначала не узнала. Она вытерла платком пот с лица и снова взглянула на фотокарточку, держа ее на расстоянии. Бровь ее удивленно поползла вверх. Она растерянно моргнула и впилась глазами в это чудо. «Ах, господи! Да что это такое?» — шептала она про себя. Люди столпились вокруг и молчали растерянно.
— Ха! Ты ли это, Хадиша? — вскричала, наконец, ехидная Акшай. — Что же это муженек твой на тебя и не смотрит? Поссорились вы, что ли, перед тем, как идти к фотографу?
Именно эти слова хотела сказать фотографу Хадиша, но теперь сдержалась.
— Карош! Карашо!
Фотограф, который боялся, что старуха учинит скандал, сразу успокоился и вздохнул облегченно. На фотографии был изображен Максут, демобилизованный властью районного фотографа. Был он одет в моднейшую черную пару. Грудь его украшал великолепный галстук и белоснежная рубашка. Но фуражку рыцарь штатива и объектива не тронул. Мастерство его было не столь высоким, чтобы заниматься чужими головами. Максут стоял, хмуря брови, словно стесняясь себя, не по своей воле напялившего на плечи костюм моды семидесятых годов, когда ему гораздо привычней было носить фуражку образца сорокового года. По всей видимости, фотографа мучил творческий зуд. Он вырезал бедную Улбосын и на ее место вклеил Максута, переснял и увеличил. Его тянуло наряжать людей в новые костюмы, объединять их своей волей, придавать им нелепую, чуждую красоту. Не будем смеяться. Ему хотелось, чтобы люди всегда были нарядны и веселы. Ему хотелось, чтобы молодые, разлученные войной, снова были вместе. Разве это так уж смешно?
Были на старой фотографии две улыбающиеся девушки, склонившие головы друг другу на плечо. Теперь одна из них все склонялась на другое уже, широкое мужское плечо, а джигит строго смотрел вперед, не зная, что ищет его поддержки юная девичья головка. Он этого не знал…
— Ох, несчастная! Когда это вы успели сфотографироваться? — подбоченилась Акшай.
Хадиша села у весело журчащего арыка, прислонившись к тонкому деревцу.
— А ты уже и не помнишь, Акшай? — сказала она наконец. — Мы же сразу после свадьбы ездили специально в район. Ты же раньше не раз видела эту карточку, и вдруг память отшибло, гляди-ка! Мы с Максутом не будем висеть на разных гвоздях, как вы с Куракбасом. Мы всегда были вместе! Всю жизнь!
Гордо сказала она эти слова. И голос был необычайно молодым и звонким. А старая Акшай съежилась на глазах, стала маленькой и жалкой.
— Вот, дала увеличить, — продолжала Хадиша, бережно вытирая рукавом поверхность портрета. — На самом почетном месте будет висеть. Слава аллаху, вместе мы, вместе, всегда… Эй, фотограф! — крикнула она вдруг. — Сделай мне еще одну такую же! Я хочу послать ее дочери в Тюлькубас. Карашо, да?
Акшай молчала. Отворачиваясь, она презрительно выпятила губу. Люди медленно разошлись по домам.
И почему-то не переставая плакала цикада… там… в горькой… траве.
Перевод с казахского Бахытжана Момыш-улы
Фазлиддин Мухамадиев Похороны усто Акила
«А господи, ну и бессердечные стали нынче люди!.. Даже закон спустя определенный срок прощает несчастного, совершившего какой-либо проступок, правительство время от времени объявляет амнистию, но человек, нет, никогда не простит! Если ты по глупости насыпал соль в чью-нибудь кашу, хоть сто лет пройдет, кости твои истлеют в могиле, но люди все равно будут тыкать в твоего правнука пальцем и говорить: «Взгляните, в кашу дедушки такого-то насыпал соль прадед вот этого мальчишки…»
Дядюшка Абдурауф сердито отряхнул полу халата, поднялся с места, несколько раз громко повторил: «О господи, прости нас, грешных», — и, выйдя со двора, посмотрел в оба конца улочки, удостоверяясь, не идет ли еще кто.
Нет, никто не шел. Сеял мелкий нудный дождь. Больше, наверное, никто не придет, пора начинать заупокойную молитву.
Видимо, кто-то в свое время проклял усто[16] Акила, раз в день его похорон идет дождь. Вот уже третьи сутки не переставая льет он и льет с неба. Оступись, сойди на шаг с тропки и по щиколотку увязнешь в грязи.
Вчера к вечеру начало было снежить, но как-то незаметно снег опять сменился дождем. Куда как лучше, если бы снег шел подольше и покрыл землю, словно одеялом. Ведь, чтобы донести по такой грязи до нагорного кладбища тяжелый гроб, нужно по меньшей мере два десятка здоровенных парней. А народу собралось всего-то человек двадцать, да больше половины таких, как дядюшка Абдурауф, — людей в годах. Хорошо еще, если они сами себя дотащат до места погребения.
Сказать по правде, не дождь причина того, что на похоронах так мало народу. Зачем скрывать?.. Время сейчас мирное, хорошее, жизнь дешевая, поэтому на свадьбу люди могут и не прийти, но на похороны являются обязательно. Пусть вместо дождя хоть камни сыплются с неба — на похороны поспешат. Значит, все дело в самом покойнике. Пусть аллах простит его на том свете, руки у него были золотые, но мастерство свое он уносит с собой в могилу. Некрасиво, даже ученика после себя не оставил…
Первое время, когда речь заходила об усто Акиле, односельчане отзывались о нем с оттенком упрека, затем стали говорить резче, а в конце его жизни уже прямо в лицо бросали колкие и обидные слова. Укоры людей были небеспричинны. Когда возраст мастера перевалил за шестой десяток, а о человеке, который бы его заместил, и слыхом не было слыхать, односельчане совсем охладели к усто. Даже то уважение, которое они питали к его искусству, постепенно начало угасать и забываться. Вот и сейчас, человек умер, а в него все еще швыряют палки…
В начале зимы случилось такое, что отношение людей к усто Акилу вконец испортилось.
Однажды по колхозному радиоузлу объявили, что из центра приехал какой-то ученый и прочтет лекцию о морали, о новых и старых традициях народа. Желающие, мол, пусть поспешат в клуб. Дядюшка Абдурауф не внял этим уговорам. Он уже не раз слышал скучные, нагоняющие сон лекции, и одно упоминание 6 лекции вызывало в нем раздражение. И впрямь, оставляешь теплую комнату, с надеждой в душе тащиться по грязи и слякоти в клуб, и на тебе! Заведут рассказ о пятнах на солнце или о лечении болезней, о которых никто и не слыхивал, или о чем-нибудь другом ничего общего не имеющим с сегодняшней жизнью, наболтают с три короба, и все — аминь, аллах велик, спасибо за внимание, приходите еще…
Дядюшка Абдурауф в клуб не пошел. Но его сын Нодирджон, вернувшись оттуда поздним вечером, очень расхваливал лектора.
Во-первых, сообщил он, приезжий рассказал много нового и интересного, а во-вторых, окончив лекцию, спустился в зал и, сев среди людей, сказал:
«А теперь давайте побеседуем, и если у кого-нибудь имеются вопросы — спрашивайте». Один задал вопрос о браке и разводе, второй, защищая какой-то старинный обычай, завел с гостем целую дискуссию. Но самый интересный номер выкинул, конечно, Кучкарбай.
Есть в кишлаке Хисорак один такой всезнайка. Неплохой человек, но уж слишком рубит сплеча. Вот этот самый Кучкарбай встал с места и сказал, что мораль и старинные традиции нашего народа осуждают того мастера, который не подготавливает себе наследника. В старину таких людей просто изгоняли из общины.
— А как новые правила смотрят на такого человека? — спросил Кучкарбай и сел.
Гость ответил, что новая мораль и традиции осуждают такого ремесленника еще пуще, привел несколько примеров и фактов, говорил о долге каждого человека перед обществом, подчеркнул, что такой проступок перед народом является большим грехом.
Усто Акил тоже присутствовал на лекции. Нодирджон рассказал, что, как только наступил этот момент, он с грохотом отодвинул стул и быстро вышел из клуба.
Доброе сердце всегда болит за других, говорится в народе. Недостойный проступок совершил усто Акил, а дядюшка Абдурауф вот уже второй день переживает из-за этого. Он то обвиняет людей в бессердечии, и тогда его сосед усто Акил кажется ему человеком неправедно обиженным; то вновь вспомнит, что отношение людей к усто Акилу не лишено справедливости. Конечно, тяжело, когда в таком большом колхозе, объединяющем больше десятка разбросанных далеко друг от друга кишлаков, нет своего столяра. В городе все было бы просто. Нет мастера в одном квартале или, к примеру, есть, но набивает себе цену, можно сразу побежать в соседний квартал. Как говорится, если ты не полюбишь, другие найдутся… Иное дело в колхозе. Правда, колхозные строения теперь большие-пребольшие, один мастер не справится. Правление подписывает договор с какой-нибудь строительной городской или районной организацией, и, глядишь, назавтра оттуда уже тянется вереница машин с мастерами, подмастерьями и учениками, и работа закипает. Не проходит и полугода, и уже готов, к примеру, распрекрасный коровник. Да такой, что, если пешком пройти его из конца в конец, из сил выбьешься…
— Отец, идите сюда, вас зовут!
Голос Нодирджона оборвал нить рассуждений и воспоминаний дядюшки Абдурауфа. Прежде чем вернуться в дом, старик еще раз оглядел улицу, полную луж и раскисшей глины.
Да, видно, уж никто не придет. Дольше ждать нельзя…
Прочли заупокойную молитву.
Подняли гроб с телом и вышли за ворота. Женщины, которые до сих пор находились в комнатах, с воплями и причитаниями высыпали во двор.
— На кого вы меня оставляете, одинокую, хозяин мой?! Ох, кто же теперь будет разделять со мной горести и радости, господин моей судьбы?! — причитала вдова усто Акила.
Вытерев тыльной стороной две-три слезинки, скатившиеся по морщинистому лицу, дядюшка Абдурауф прибавил шаг. Он не однажды руководил траурными процессиями. И сейчас ему хотелось выйти вперед и, как всегда, поторопить молодых людей, несущих гроб: «А ну, молодцы, давайте-ка поднажмем хорошенько!» По какому-то неписаному закону считается благостным делом провожать мусульманина в последний путь как можно быстрее, чуть ли не бегом. Но, увидев, как тяжело ступают по вязкой, словно тесто, земле люди, несущие гроб, дядюшка Абдурауф ничего не сказал.
Бедный усто Акил, бог обидел его детьми: был у него всего один сын, да и тот не смог поспеть к похоронам. Правда, отец с сыном не пылали нежностью друг к другу. В свое время сын закончил институт и взял себе в жены девушку из города. С тех пор отец не разговаривал с ним. Только в последние два года у них восстановились родственные отношения. Сын работает инженером на каком-то далеком руднике, пять-шесть раз в год у ворот усто Акила появляется грузовик, крытый брезентом, и соседи узнают, что в гости к усто приехал его сын.
Хорошо, что Нодирджон не отправился вчера на свою ферму. Утром жена усто с воплями и рыданиями вынесла новый халат и поясной платок, протянула Нодирджону, попросила его надеть и, как водится, вместо своего друга, сына усто Акила, возглавить похоронную процессию.
— Хорошо, тетушка, так или иначе я пойду впереди гроба дяди, — ответил Нодирджон, — но халат унесите домой, у меня есть все, что нужно.
— О сыночек мой, не перечь мне в такой черный день, не прибавляй мне еще больше страданий, — громко рыдала вдова.
И вот Нодирджон, выбирая дорогу, где поменьше грязи, шел впереди гроба, открывая путь к кладбищу.
Что такое, что случилось?
Будь проклят этот дождь, словно небо вовсе прохудилось! Один из людей, несущих гроб, поскользнулся и упал, а остальные, потеряв равновесие, вынуждены были опустить гроб на землю. Прости, господи! В день похорон Раиса-в-ремнях тоже пришлось поставить носилки с гробом на землю, но он, туда ему и дорога, был очень плохой человек. Два первых года войны он был председателем колхоза, — он издевался над людьми, и люди ненавидели его. Но думали о войне, о братьях и отцах, ушедших на фронт, и поэтому мирились с тем, каков у них председатель. Черт с ним, говорили люди, пусть делает что ему взбредет в голову, лишь бы взрастить урожай. Лишь бы наши победили и враг был разгромлен; остальное можно стерпеть; и без того терпим немалые мучения и невзгоды.
Правда, колхозники пограмотнее писали в район и сообщали о проделках раиса, но тогдашнее начальство, или оттого, что слишком много было забот, или по равнодушию, оставляло эти заявления без внимания.
В те годы дядюшка Абдурауф был на фронте, но по письмам понимал, что губительное дыхание дороговизны и лишений докатилось и до кишлаков.
В одну из ночей второй военной зимы молодая колхозница по имени Фотима пришла в дом раиса, услышав оттуда звуки дойры и громкий смех сытых и беззаботных гостей. Убитая горем женщина, которая всего лишь несколько недель назад получила похоронную на мужа и все, что у нее было, израсходовала на поминки, вошла в тот вечер с больным ребенком на руках и с глиняной касой в ворота богатого соседа, чтобы одолжить горсть муки или лепешку.
Жена председателя, выслушав просьбу Фотимы, взяла у нее касу и пошла в амбар. Из просторной гостиной раиса слышалось пение. На колонне, подпирающей айван, висело полтуши недавно освежеванного барана, а в сторонке, в большом котле, жарился кебаб. Вдруг из дома вышел председатель и увидел Фотиму.
— Эй, зачем пожаловала?
— Хочу попросить взаймы полкасы муки…
— Муки? — нетвердо держась на ногах, переспросил раис. — Я не хороший, а моя мука хорошая, да? А вот это дам тебе — не согласишься ли съесть?
Последовал жест, от которого у молодой женщины потемнело в глазах. Из последних сил она осторожно опустила плачущего ребенка на землю и в то же мгновение без памяти рухнула возле него.
Когда собаке суждено умереть, она лезет в мечеть помочиться на михраб, говорят в народе. На другое утро, еще солнце не показалось из-за гор, жители кишлака собрались у дома председателя. Один вышел вперед и принялся барабанить в ворота. Прошло много времени, пока появился раис. Создает же господь таких типов! Этот человек, не нюхавший фронта, не знавший даже в мирное время обыкновенной военной службы, почему-то всегда ходил в военных галифе и гимнастерке, перепоясанный вдоль и поперек множеством новеньких хрустящих ремней.
Собравшаяся толпа смотрела в покрасневшие хмельные глазки раиса, а раис смотрел на толпу. Будто ничего особенного не произошло, и он, поигрывая камчой, которую держал в руке, хотел было начать очередную речь, как несколько молодых людей, вернувшихся с войны инвалидами, решительно вышли вперед, не говоря ни слова, повалили раиса на землю, его же скрипучими ремнями стянули ему руки и ноги, бросили в бричку и повезли в район…
Раис-в-ремнях вернулся в кишлак только через восемь лет. Лицо у него стало желтым, как шафран, а в глазах не осталось и следа от былого самодовольства. Вернулся он больным, на людях не показывался, больше лежал в постели и, наконец, умер. На его погребение никто не явился. Ходим кишлака, организатор всех церемоний, пиров и похорон, домулло-имам и глашатай с утра до вечера бегали по домам, но ничего не могли поделать. На похороны, не дай господь такой чести никому, добровольно не пришел ни один сын человеческого рода.
Поздно вечером накануне парторг колхоза собрал в здании правления всех членов партии и комсомольцев и мрачным голосом сказал:
— Вот уже три года, как вы избираете меня руководителем партийной организации. Опираясь на ваше уважение и доверие, поручаю вам завтра до обеда предать земле тело того человека. (Парторг даже не назвал Раиса-в-ремнях по имени.) Такова моя просьба и, если хотите, поручение парторга тоже, — это все, что я хотел сказать…
«Прости, господи, и помилуй меня, грешного», — вполголоса произнес дядюшка Абдурауф и, остановившись, взялся за ворот халата, прося прощения у бога за свои неуместные мысли. Почему в час похорон своего ближайшего соседа он вдруг вспомнил постыдную историю с Раисом-в-ремнях? Что общего между подонком, на которого обрушился справедливый гнев народа, и покойным усто Акилом?.. Только час назад дядюшка Абдурауф обвинял людей в бессердечии, а теперь, выходит, сравнивает усто Акила с тем, погрязшим в грехах. «Друг мой, сосед мой, дорогой усто Акил, прости меня, — шептал он. — Прости… Я не хотел обидеть твою память, прости меня, ради всего святого…»
…Началась труднейшая часть пути на кладбище — узкая и извилистая тропинка круто ползла в гору. Никто не торопил молодых людей, несших гроб. По четверо с каждой стороны, они ступали очень медленно, едва передвигая ноги, словно считали шаги. Те, что шли пониже, с левой стороны, над обрывом, держали носилки с гробом на поднятых руках.
— Будьте осторожны, когда меняетесь местами, — время от времени подавал совет кто-нибудь из стариков, плетущихся следом.
Дядюшка Абдурауф нес в руках свои галоши, которые несколько раз вязли в размокшей и липкой, как смола, глине, и теперь шагал по грязи в одних ичигах. Несколько стариков брели далеко позади. Тяжело дыша, они карабкались в гору, помогая руками своим обессилевшим ногам.
Почему же дядюшке Абдурауфу вспомнился в такой час именно Раис-в-ремнях?
Видимо, следы обиды, нанесенной человеку, хоть и стираются из памяти, но в каком-то уголке сердца остаются навсегда. Выходит, еще живет в стариковском сердце осадок от того случая, который произошел одиннадцать лет назад…
Усто Акил хотел передать свое искусство в наследство сыну. Хоть он и не заставлял мальчика много трудиться, но, надеясь привить ему любовь к своему ремеслу, стремился, чтобы он по возможности больше времени проводил в мастерской, глядя на то, что делает отец. Но, как говорится, мать думает о ребенке, а ребенок — о дальних странах. Как только выдавалась возможность, сын усто стремглав бежал к колхозным машинам и тракторам. Не раз случалось, что соседи видели любопытного мальчишку в заброшенном здании колхозной ГРЭС. Он проникал туда через разбитые окна и долго-долго расхаживал среди запыленных и поржавевших динамо-машин, между оборванных ремней трансмиссий, карабкался на огромное колесо маховика, с головы до ног пачкаясь черным мазутом.
Нодирджон, напротив, был влюблен в ремесло усто Акила. Если его посылали за чем-нибудь к соседям, он исчезал надолго. Пока мать не подойдет к дувалу, разделявшему их дворы, и не начнет громко звать его, Нодирджон не отойдет от своего дядюшки усто… Мало того, он откуда-то натаскал в дом прорву всяких старых столярных инструментов: рубанков, топоров, теш, пил, долот разных размеров… Для своих младших братишек и соседских ребят Нодирджон с удовольствием мастерил разные стульчики, коньки и ходунки на колесах.
Однажды дядюшка Абдурауф велел нарвать в саду полный поднос душистой майской черешни и отправился к усто Акилу. Во время беседы он высказал свою давнишнюю мечту о том, чтобы сосед взял Нодирджона в обучение.
— Мальчишка просто влюблен в ваше ремесло, Мне кажется, он и во сне орудует столярными инструментами, — произнес дядюшка Абдурауф просительным тоном.
Усто Акил ответил не сразу. Он долго размышлял, теребя черную густую бороду. Наконец, почесав нос и растерев морщинки на лбу, сказал:
— Ладно, только не торопись. Пусть начнутся каникулы, потом посмотрим.
Летом Нодирджон с месяц был в обучении у усто Акила.
Однажды вечером, вернувшись домой и не застав сына, дядюшка Абдурауф спросил о нем у жены.
— Он у моего брата. Наверное, скоро придет, — отвернувшись, ответила она.
— Что значит «наверное»? Почему это ты насупила брови? — вскипел дядюшка Абдурауф.
Тогда жена рассказала, что случилось в тот день. Оказывается, усто Акил наказал Нодирджону отнести в соседний кишлак узелок с двумя десятками яиц и обменять их у одного человека на яйца другой, более крупной породы кур. Усто хотел подложить их своей наседке, которая в это время как раз высиживала цыплят.
Нодирджон благополучно вернулся, обменяв двадцать яиц на пятнадцать яиц кур кулангской породы, а на дворе — случится же такое! — споткнулся и упал. Хваленые яйца разбились все до единого. «Ох, растяпа! Ох, неудачливый мальчишка!» — принялась было корить Нодирджона жена усто Акила, но, увидев его растерянное лицо, пожалела мальчонку и стала его утешать. Тут появился усто Акил, изругал своего ученика последними словами и прогнал.
— Вон! Шалопай несчастный! Чтоб больше я не видел твоей мерзкой рожи! — в гневе кричал усто Акил.
Дядюшка Абдурауф, хоть и прожил до этого дня на белом свете без малого пятьдесят лет, до сих пор не знал, чем отличается обыкновенное яйцо от кулангского. Он вообще не интересовался курами и их разведением. Считал, что в усадьбе, где живет хоть одна курица, не найдешь и пяди чистой земли. «Совершенно невозможно что-нибудь посеять и растить там, где есть эта мерзкая птица», — говорил он, кривя губы.
Но все же он раздобыл корзинку свежих яиц, пошел в какой-то дальний кишлак и вернулся, обменяв их на яйца крупной породы.
В то лето во дворе усто Акила кишмя кишели цыплята кулангской породы, но Нодирджон не ходил больше к своему дядюшке усто.
…Молодые люди, несущие гроб, выбились из сил и едва передвигали ноги.
— Ну, сынки мои, ну, молодцы, еще одно усилие! — подбадривал их дядюшка Абдурауф.
До кладбища оставалась всего четвертая часть пути. Дядюшка Абдурауф посмотрел вниз на кишлак. За тонкой сетью, которую ткал надоедливый мелкий дождь, кишлак показался ему каким-то невзрачным и скучным…
«Нет, — сам себе возразил дядюшка Абдурауф, — во всей округе нет кишлака краше нашего. Это сейчас мне так кажется, потому что погода тоскливая да еще похороны…»
«Но ведь почти все красивые здания в кишлаке построил именно он, покойник, мой сосед… — опять вернулся он к своим думам. — Мастер с такими золотыми руками рождается раз в сто лет! Взгляните на здание кишлачного Совета, или на колхозную библиотеку, или на дом, где живет Абдурахман-ака, или на айван самого покойного усто, или другие здания, выстроенные им, — вы просто рот разинете от удивления. Хоть он и был малограмотным, но науку пропорций, науку красоты постиг более чем в совершенстве…»
Когда в колхоз приезжал какой-нибудь гость, его сразу же вели показывать библиотеку. Это здание, застекленное со всех четырех сторон, с рассвета и до сумерек, даже в самую облачную погоду полно света и сияния. Посмотрите на резьбу по дереву, на узоры и удивительный орнамент потолка, полок, окон и подоконников, и вы будете поражены. Зайдите в читальный зал, и вы позабудете о книгах, целиком поддавшись очарованию этого чудесного помещения. Председатель колхоза даже пошутил как-то, что библиотеку следует перевести в другое место, так как красота его отделки отвлекает посетителей от чтения книг.
Или пройдите к зданию правления и посмотрите на арку, где выведено название колхоза. Усто Акил соорудил ее из небольших местных елок, потому что для такой высокой арки отыскать цельный ствол с твердой древесиной невозможно. Вот уже двенадцать лет, как стоит эта арка под дождем и снегом, под ветром и палящими лучами солнца. Но и сейчас вы не отыщете на ней ни единого стыка, разве что через лупу.
Дядюшка Абдурауф еще до войны был как-то в Бухаре. Его друзья показали ему город, а потом повели к мавзолею Исмаила Саманида. Мавзолей был очень прост и не отличался пышностью отделки. Он был выстроен из простого жженого кирпича, но ходите вокруг него хоть целый день, все равно не насытитесь его красотой. Арка усто Акила обладала такой же притягательной силой…
— Черт побери, могила до сих пор не готова!
Выбрав место поровнее, осторожно опустили гроб на землю. От усталости всем хотелось присесть, но вокруг не было ни единого сухого клочка земли.
Дождь сеял все так же нудно. Более предусмотрительные люди захватили с собой мешки и платки и теперь стояли, накрывшись ими. А домулло-имам, присев на корточки, держал над головой цветастый летний зонтик. Его дочь работает учительницей в кишлаке Хисорак. Наверное, это ее зонтик. Прости, господи! Находятся же люди, которые могут рассмешить даже в час похорон…
Дядюшка Абдурауф приблизился к могиле — взглянуть, скоро ли будет закончена работа.
— Да ведь могильщик работает в одиночку! — обращаясь к глашатаю кишлака, воскликнул дядюшка Абдурауф. — Поэтому и могила еще не готова.
Потом, будто ища кого-то, он принялся оглядывать окружающих и наконец остановил взор на сыне.
— Нодирджон, давай, сынок, спускайся и выбрасывай наверх землю, чтобы побыстрее покончить со всем этим.
Нодирджон скинул халат, снял пиджак и отдал его отцу, снова надел халат и, туго подпоясавшись платком, спрыгнул в могилу.
Наверное, могильщик не смог найти себе помощника, подумал дядюшка Абдурауф… Покойный у сто Акил сам сознательно избегал помощников. Он прибегал к чужой помощи только при строительстве больших и простых зданий, но там, где требовалось высокое искусство создать узоры и орнамент, работал один. Часто он велел везти нужные пиломатериалы, доски и бревна к нему домой. Там он мастерил оконные рамы, двери, вытесывал опорную балку и колонны айвана, украшал все это удивительным резным орнаментом и затем, после того как все было готово, перетаскивал на место строительства и монтировал.
Да, характер у покойного был тяжелый… Если подрядчик выражал недовольство тем, что работа затягивается или вопреки уговору усто Акил вдруг повышал плату за свой труд, а подрядчик не соглашался, то всё — усто гневался, бушевал и уходил. Пусть подрядчик потом хоть целует ему ноги и превозносит до небес его заслуги, усто ни за что не возвращался.
«Ищите, кто работает быстро, а уж я таков, каков есть», — говорил усто Акил, пусть ему земля будет пухом.
Чего только не выдумывал он для того, чтобы обойтись без учеников и помощников! Создавал хитроумные приспособления, подобные колодезному журавлю, и ухитрялся в одиночку поднять на крышу двенадцати-тринадцатиметровые балки весом в двадцать пудов! Несколько лет назад один корреспондент расхвалил его в газете, назвав новатором и рационализатор ром… О господи, помилуй меня…
Ну, что хорошего принес покойнику его характер? Если какой-нибудь мастер не подготовит себе на смену ученика, разве исчезнет с лица земли племя мастеров? Из всякого положения всегда находится выход. Вот в городах открыты десятки ремесленных училищ. Проучат два года и разом выпускают сто, а то и двести толковых работников — токарей, слесарей, маляров, каменщиков, столяров, монтеров, механизаторов… Нодирджон говорит, что теперь можно стать мастером, даже не будучи ни у кого в обучении, а только читая книги. Говорит, теперь много таких книг. Там все написано, что и как делать. Даже, говорит, все инструменты нарисованы, и внизу подписано, каким из них когда и в каких случаях пользоваться.
М-да, характер человека соответствует его сердцу. Если сердце у тебя большое и доброе, то и взгляд у тебя открытый и руки щедрые. И никаких у тебя нет секретов. Чем больше отдаешь ты народу, тем больше остается тебе. Однако есть люди, которые не верят этой мудрости: им это кажется бессмыслицей.
И впрямь, чтобы понять мудрые мысли, ум нужен не простой, а данный богом…
Холм над могилой разровняли и на него положили камень. Все присели на корточки, лицом к кибле[17]. Имам принялся за коран. Он читал тоненьким бесцветным голоском, сплошь и рядом коверкая слова. «Черт бы побрал такого служителя божьего дома», — в сердцах выругался про себя дядюшка Абдурауф. Кучкарбай иногда веселит компанию приятелей, распевая таджикские песни на русский мотив или, наоборот, русские песни поет на таджикский лад. Чтение корана домулло-имамом, чтобы плешь съела его бороду, напоминает проделки Кучкарбая.
После того как все провели руками по лицу и произнесли «аминь», глашатай, полуприподнявшись, громко вопросил:
— Каким был усто Акил человеком?
Это был традиционный вопрос, обычно задаваемый, пока люди еще не удалились от свежей могилы. По обычаю, один из присутствующих отвечал: «Такой-то был хорошим человеком» — и все остальные подтверждали: «Да, был хорошим человеком, благословит его господь… Пусть его место будет в раю…»
Сейчас все поднялись, но никто не произнес ни слова. Сердце дядюшки Абдурауфа екнуло. Неужели ничего не скажут, так и уйдут?! Когда хоронили Раиса-в-ремнях, глашатай не успел раскрыть рта для традиционного вопроса, как кто-то произнес:
— Нет надобности задавать вопросы и отвечать. Пошли.
И все встали и ушли.
Речь, конечно, идет не о благословении. Если бы благословение имело силу, на земле давно был бы рай, если бы проклятие было действенно, то отпала бы надобность в тюрьмах, в прокурорах, в милиции и в других подобных учреждениях.
Традиционный вопрос и ответ как бы подытоживали всю жизнь покойного. Это была последняя оценка человека.
— Люди, — сдерживая гнев, взволнованно проговорил дядюшка Абдурауф, — нас спрашивают, каким человеком был усто Акил. Ведь надо же что-то сказать!
Он мог бы сам произнести ответ, но ему очень хотелось услышать его от других.
Минута прошла в глубоком молчании. Люди, которые находились вблизи тропинки, ничего не сказав, пустились в обратный путь.
— Хороший был мастер усто Акил, — произнес человек, стоявший позади дядюшки Абдурауфа.
— Ну и дождь! Нитки сухой не оставил! — буркнул другой себе под нос.
— Да, Акил был мастером! — подтвердил третий.
Больше никто ничего не сказал. Один за другим люди стали спускаться в кишлак.
Авторизованный перевод с таджикского Ю. Смирнова
Аскад Мухтар Девятая палата
Жизнь человека мерят не годами, а делами.
Новая больница в городе строителей была расположена очень удачно — на солнечной стороне, у подножия гор. Роща тополей отделяла больницу от больших дорог. В летние дни потоки горного воздуха вливались в широко открытые, окна.
Сосед Бахрамова по палате, Хаджа-бува, несмотря на тяжелое состояние, был болтлив и назойлив. Покрякивая и постанывая, он непрерывно говорил:
— Да, уважаемый, слабы нынешние. До шестидесяти лет не доживут, а уже стонут: «Сердце, ох сердце…» А вам, дорогой, сколько лет?
— Шестьдесят семь, — ответил Бахрамов.
— Вот видите… А нам в этом году, когда созрел тутовник, исполнилось без двух восемьдесят… И ничего, слава богу, на сердце на жалуемся…
«Храбришься», — подумал Бахрамов. Он-то видел, что дела у старика плохи. Вчера, когда приходил парикмахер, он даже не смог подняться. Бахрамов выглядел бодрее и лучше, хотя и лежал на спине и ему не разрешали шевелиться.
Вошла сестра — рослая смуглая девушка с продолговатым лицом. Звали ее Мамура.
— Надо лежать неподвижно. Не забыли? — спросила она, поправляя подушку. — Вот так, и голову не очень-то поворачивайте.
— Знаю, доченька, знаю. Тысячу раз это слышу. Но сколько еще так лежать? Никто не говорит…
— Скажем, когда придет время.
По ее глазам Бахрамов видел, что она и сама не знает, сколько ему еще лежать — то ли неделю, то ли месяц. Но на то она я сестра, чтобы успокаивать больных. Правда, за эту палату Мамура не очень беспокоилась: степенные, повидавшие жизнь старики лежат себе, ни на что особенно не жалуясь.
Сестра дала обоим лекарства и вышла. Бахрамов тут же повернул голову. Зеленый склон, поросший травой, подступал к стене под окном. Крупная хохлатка вела по лугу выводок цыплят. Желтые пушистые шарики катились вниз по склону, путаясь в траве, спотыкаясь и падая. У Бахрамова даже повлажнели глаза — такими беспомощными казались ему эти живые существа, доверчиво и радостно бегущие на материнский зов. Бахрамов поднял глаза к небу — он боялся увидеть в нем коршуна или ястреба, но небо было ясное и чистое, просто невозможно предположить, что в этой спокойной синеве может таиться зло.
Вот уже три недели, как Бахрамов неподвижно лежит на спине. Сначала болели поясница и плечи, а теперь тело стало как камень. Бахрамову все давно надоело: и эта светлая палата, и его сосед, и собственная плоть, за которой ухаживали чужие руки, — и он, стыдясь своей беспомощности, покорно подчинялся санитаркам и сестрам. А за окном была жизнь. Он изучил ее до мельчайших подробностей. Это было нетрудно, потому что все ограничивалось видимым в окно пространством. Только небо было безбрежным. Порою, когда он, погруженный в думы, неподвижно лежал, забыв о времени, устремив глаза в прозрачную высь, болтливость соседа становилась особенно невыносимой. В такие минуты Бахрамов старался не слушать его.
— Вот еще один день прошел, — сказал старик, будто радуясь тому, как быстро летит время. — Вон наш благочестивый сосед уже молится… Глядите!..
А чего смотреть? Бахрамов, не глядя, знал, что на краю луга стоит двор с тенистым садом, окруженный колючей изгородью. Хозяин двора, в белых штанах, похожих на аккуратно подрезанные кальсоны, в белой рубашке до колен, с вырезом вокруг шеи, пять раз в день возносил молитвы богу в восточном углу сада.
Бахрамову нравилось, что Хаджа-бува откровенно посмеивался над богобоязненным человеком. Старик, которому было под восемьдесят, меньше всего думал о боге и с удовольствием нарушал запрет корана, уплетая без разбора все больничные блюда.
— Много надежд возлагает на тот мир, если так исправно молится. Мне бы хотелось подольше задержаться на этом, — продолжал Хаджа-бува.
Бахрамов улыбнулся. Жизнелюбие соседа было неиссякаемым.
— Да, надежда, — сказал Бахрамов, продолжая глядеть в небо. — Чего только не делает человек ради этой надежды!.. Я читал в одной книге, что в Индии старики мечтают умереть на берегу Ганга. Отойти в тот мир возле священной реки — значит прямехонько попасть в рай. Больные и голодные, они неделями лежат возле воды, день и ночь моля бога послать им смерть… Вот какой может быть надежда, Хаджа-бува. Одна, окрыляя, помогает жить, другая гонит навстречу смерти.
— Я не признаю никаких надежд. Миска жирного плова или шашлык из молодого барашка лучше всякой надежды. Я хочу жить, дорогой. И если уж судьба даровала мне столько лет жизни, что ей стоит продлить их еще?
Бахрамов снова улыбнулся.
— Кем вы работали? — спросил он.
— Какая нынче работа, дорогой? — уклончиво ответил старик. — Мы были на многих работах, чем только не занимались… Теперь пришло время пожить. На это и надеюсь. — Бахрамов молчал, и старик, переждав, спросил. — А на что вы надеетесь, уважаемый? Похоже, что вы со мной не согласны?
— Почему? Я не против жизни. Что может быть лучше? Но человек не вечен, и, когда наступает предел, на что же надеяться?
Старик даже приподнялся. Он огладил бороду и с удивлением уставился на соседа.
— По-вашему, вон тот прав? — Старик показал высохшим пальцем в окно.
— Нет. — Бахрамов улыбнулся, прикрыв глаза. — Моя надежда — в будущем… Не в том, а в этом мире. Умру я, останутся другие.
Старик опустился на подушку, покряхтел и, когда боль утихла, сказал:
— Как-то все у вас по-чудному получается: вы умрете, а надежда на будущее останется? В будущем нас с вами не будет, что же там делать нашим надеждам? Это самообман, дорогой.
Улыбка медленно сошла с лица Бахрамова.
— У вас есть дети, Хаджа-бува? — спросил он.
— Эге-е… Вон вы о чем. Есть, конечно. А у вас?
Бахрамов тяжело поднял ослабевшую руку, показал два пальца.
— Были… двое, — сказал Бахрамов. — Война… Жена тоже умерла. И сам вот…
Хаджа-бува устроился поудобней. Взяв с тумбочки мухобойку, долго караулил надоедливо жужжащую муху и, только убив ее, снова заговорил:
— Моих сыновей война пощадила. Все они отделились, живут сами по себе, своими надеждами. При мне остался внук. Да и он, скажу я вам, отрезанный ломоть — упрямый и непутевый…
— Как же так получилось?
— Держал мальчишку при себе, думал, будет опора в старости. Эргашем его зовут. Хотел сделать из него человека, отправил учиться. Не вышло! Пыхтел, кряхтел в городе, провалился на экзамене и вернулся. Пошел работать на плотину. Говорит, поработаю годик, потом снова поеду учиться. Куда там! Если попал на стройку и хорошо работаешь, разве отпустят? Закрутят, завертят. Гнет там спину со своими дружками, а толку?
— Сами говорите — хорошо работает, какой же еще нужен толк?
— А мне от этого какая польза? Нет у меня на него никакой надежды. Потерял Эргаша. — Старик помолчал, что-то соображая, потом сказал: — Нет, не понимаю, дорогой. Детей у вас нет, а думаете о будущем?
Бахрамов не ответил. Он уже некоторое время прислушивался к пронзительному женскому голосу за окном.
— Алишер! Алишер! — звала женщина.
Бахрамов, улыбаясь, поглядывал в окно, ожидая появления Алишера. Он знал, что обычно в это время молодая женщина, невестка богобоязненного человека, разыскивает сына. Ее резвый карапуз без штанов, в красных ботиночках вечно гонялся за всякой живностью, будь то цыпленок, воробей или бабочка. При этом его качало на слабых еще ножках. Он спотыкался в высокой траве, падал, но тут же вскакивал и снова бежал.
— Вы мне не ответили, дорогой, — напомнил Хаджа-бува.
— Не ответил? А что же отвечать? Если у меня не осталось детей, то они есть у вас, у других.
На лугу показался Алишер. На этот раз он гнался за отбившимся цыпленком, растопырив ручонки, а наперерез непокорному сыну бежала молодая женщина. Алишер увидел ее и пустился наутек, как шар, катясь по траве. Женщина подхватила его на руки, и тут же все вокруг огласилось протестующим плачем.
— Пока такой чертенок вырастет, мать прежде времени состарится. Вот и все ее будущее, — проворчал Хаджа-бува.
Бахрамов до самых сумерек не отрывал глаз от окна. Он не отвечал соседу — просто не хотелось разговаривать. Голова была ясная, он лежал, наслаждаясь покоем, впервые за много дней не испытывая тяжести в груди.
Незаметно для себя Бахрамов заснул, даже не выпив снотворного. Ночная сестра постояла над ним, прислушиваясь к его спокойному дыханию, и тихо вышла из палаты.
Проснувшись утром, Бахрамов подумал, что давно уже его сон не был таким освежающе легким и что, пожалуй, есть надежда на выздоровление. Врач на обходе подтвердил, что если и дальше так пойдет, то через несколько дней ему разрешат поворачиваться на бок.
В этот же день состояние Хаджи-бувы ухудшилось. К вечеру он уже не разговаривал, а лежал с обострившимся лицо и стонал, изредка повторяя:
— Умираю, сосед, умираю…
Мамура привела дежурного врача. Он осмотрел старика и велел сделать укол. Хаджа-бува даже не дрогнул. Доктор подождал действия укола, снова выслушал старика и распорядился сделать внутривенное вливание глюкозы. Когда врач ушел, санитарка, помогавшая Мамуре, сказала:
— Зачем мучить человека? Дали бы умереть спокойно…
— Не то говорите, — сказал Бахрамов.
— Это почему же не то? Мучают зря человека. А! зачем? Все равно… — Санитарка махнула рукой.
Снова пришли врачи. Теперь их было двое. Бахрамову дали снотворное, и он в полудреме слышал, как всю ночь хлопотали вокруг старика. На рассвете Хаджа-бува попросил:
— Вызовите моих… Хочу проститься.
Больше Бахрамов ничего не слышал, забывшись тяжелым сном.
Утром, открыв глаза, Бахрамов увидел у кровати соседа молодого парня. Он догадался, что это Эргаш. У парня были загорелое лицо, широкие плечи и сильные руки. Он поправил на старике одеяло; заметив, что Бахрамов проснулся, сказал:
— Здравствуйте… Вот ведь беда… Такой здоровый был старик, никогда не болел…
— Спит? — спросил Бахрамов.
— Вроде заснул, — ответил парень.
— Отпросились с работы?
— Ночью не у кого было отпрашиваться. Товарищи сообщат прорабу.
Старик открыл глаза, и обрадованный парень стал выкладывать на тумбочку кульки черешни, алычи.
— Вот, товарищи с рынка принесли, свежие… что ж ты, дед, так оплошал… — сказал парень, ласково поглаживая желтую морщинистую руку деда.
Старик ощупал пальцами черешню, но есть не стал, лежал молча, прикрыв глаза.
Эргаш стал приходить рано утром перед работой. Кормил старика домашними завтраками — где их доставал холостой парень, живущий в общежитии, старик не спрашивал. После работы Эргаш тоже приходил и просиживал до позднего вечера, пока дед не засыпал. Часто, когда Хаджа-бува дремал, Эргаш доставал из кармана куртки клеенчатую тетрадь и решал какие-то уравнения.
Так прошла неделя. Старик быстро поправлялся. Он заметно пополнел. Ему разрешили вставать, и он подолгу бродил в коридорах больницы, но к приходу внука обязательно укладывался в постель. Старик очень много ел. Быстро управившись с больничными блюдами, он брался за лепешки, курицу, колбасу, которые приносил Эргаш.
Однажды, когда Эргаш задержался на работе, Хаджа-бува сказал:
— Где его носит, стервеца? Одни девчонки на уме…
— Вы напрасно его ругаете, сосед. У вас очень хороший внук. Заботливый, умный.
Теперь Бахрамов острее чувствовал свое одиночество. Старик заходил в палату только поесть. Все его рассуждения о жизни свелись к тому, сколько денег он потребует от каждого из сыновей на свое содержание.
— Еще поживем, дорогой, — говорил он и отправлялся бродить по больнице.
Бахрамов радовался, когда сосед уходил. Он мог без помех предаваться воспоминаниям о давно погибших сыновьях и недавно умершей жене, о своей жизни, пролетевшей так быстро.
К вечеру небо заволокло тучами, но дождя не было, я в палате стало душно, как бывает перед грозой. Дежурная сестра закрывала окно, и ветер рвал из рук рамы. Деревья шумели, точно морские волны, где-то в коридоре хлопали створки еще не закрытых окон, послышался звон разбитого стекла.
Бахрамов не спал, чувствуя тяжесть в груди от недостатка воздуха.
Наконец настало утро, и, когда Мамура открыла окно, палата мгновенно наполнилась свежим запахом недавно прошедшего дождя. Небо снова было чистым, там и сям валялись на лугу поваленные бурей деревья. Все казалось умытым теплым дождем. Грудь Бахрамова наполнилась целительным запахом влажных трав, сверкавших под теплым утренним солнцем. Он с улыбкой следил за Алишером, который с радостным смехом бегал по мокрому лугу. Бахрамов подумал, что, если бы ему удалось коснуться босыми ногами нагретой солнцем земли, почувствовать щекотное прикосновение мокрых трав, — его худосочное тело мигом наполнилось бы жизнью и силой, исходившей от всей этой земной благодати. Он вытер повлажневшие глаза и снова стал смотреть в окно.
Алишер остановился как зачарованный. Бахрамов проследил направление его взгляда и увидел оголенный провод, оборванный ветром и прикрытый сломанной веткой урюка с зелеными плодами.
— Хаджа-бува! Хаджа-бува! Посмотрите, скорее! — крикнул Бахрамов.
Сосед ел дыню, смачно втягивая сочную мякоть.
— Куда смотреть, зачем?
— Мальчик идет к проводу! Уходи! Вернись, Алишер! Сосед, смотрите, погибнет ребенок… Уходи! Алишер, мама зовет, вернись!
Алишер делал вид, что ничего не слышит. Осторожно переступая толстыми ножками, он подкрадывался к ветке урюка.
— Сосед, Хаджа-бува, дорогой, бегите, вылезьте в окно! Мальчик коснется провода! Эй, кто тут есть?! Спасите ребенка! — напрягая голос, кричал Бахрамов. Хаджа-бува подошел к окну.
— Не трогай урючины! Остановись, слышишь?
Мальчик остановился, соображая, чего от него хочет этот незнакомый старик. Хаджа-бува погрозил ему пальцем, после чего вернулся на кровать, а мальчик, вновь подкрадываясь к урючине, с опаской поглядывал на окно.
— Хаджа-бува! Алишер! Уходи! Не смей подходить! — снова закричал Бахрамов, страдая от собственного бессилия. Жилы на его шее вздулись.
Хаджа-бува, обзывая мальчика отребьем, маму его блудницей, а деда благочестивой собакой, уселся на кровать и стал обматывать ногу портянкой.
— Хаджа-бува! Скорее, скорее же!
Продолжая сыпать проклятья, Хаджа-бува вынул из шкафа сапоги и, обуваясь, начал счищать прилипшую к подошве старую грязь. Бахрамов отшвырнул одеяло. Опущенные с кровати ноги налились кровью, и, когда он шатаясь добрался до окна, пальцы босых ног кололо, словно иглами.
Хаджа-бува оглянулся, услышав голос Бахрамова уже за окном.
— Алишер! Стой! Стой, говорю! — Бахрамов, босой, в кальсонах, как-то странно бежал по лугу, точно по раскаленным углям, наперерез ребенку.
— Эй, сосед, что вы делаете? Вам же нельзя подниматься! — закричал Хаджа-бува.
Бахрамов перехватил Алишера у самого провода. Мальчик плакал и вырывался, и Бахрамов чувствовал, что у него не хватает сил его удержать. По лугу бежала мать Алишера. Что было дальше, Бахрамов помнил смутно: бешено колотилось сердце, он стоял, опираясь локтями на подоконник, не в силах влезть в палату. Мать Алишера уносила плачущего сына. Хаджа-бува говорил:
— Захватите ветку с урюком, сосед. Зачем добру пропадать?..
Бахрамов пришел в себя, лежа на кровати. Влезть в окно ему помог Хаджа-бува.
— Где вы, сосед? — позвал Бахрамов. Перед его глазами плыли темные крути. — Дайте мне нитроглицерин… Стеклянную трубочку… Откройте…
Бахрамов положил под язык крохотную таблетку. Через мгновение он почувствовал привычную ломоту в висках. Сжимающая тяжесть в груди ослабела. Он глубоко вздохнул, и тут же вернулась давящая боль. Он снова положил под язык таблетку.
Хаджа-бува с любопытством поглядывал на соседа.
— Вам не разрешали шевелиться, а вы прыгнули в окно. Нехорошо, дорогой.
— Теперь ничего не изменишь. Прошу вас никому не говорить… Обещайте…
— Ладно, не скажу… Но не надо делать того, что не велел врач. Посмотрите на себя…
В палату, разнося лекарства, вошла Мамура. Пока принимали лекарства, Хаджа-бува молчал. Но как только Мамура собралась уходить, он сказал:
— Доченька, не уходи… Побудь немного с нами…
Удивленная Мамура посмотрела сначала на него, потом на Бахрамова и только теперь заметила необычайную бледность его лица.
Бахрамов лежал с закрытыми глазами, но по наступившему молчанию понял: Мамура что-то заподозрила. И сказал:
— В самом деле, доченька, побудь с нами, стариками. Молодые подождут. Да в какие здесь молодые? Всем нам одна кличка — «больные». — Бахрамов говорил не только для того, чтобы усыпить бдительность Мамуры. У него неожиданно появилась потребность высказаться. — Человек, доченька, порой очень легкомысленно тратит отпущенные ему годы. Прожив свое, старимся, теряем силы, но, к сожалению, не становимся мудрее. А потом наступает миг, когда вдруг постигаешь смысл всего сущего; прожитые страсти, горе и радость, желания и разочарования сливаются воедино. И тогда ищешь поступка, который помог бы излить собранное в тебе за долгие годы, в последнем усилии ощутить радость избавления от всех ошибок, от всех несуразностей прожитой жизни. И уже нет тебя, а есть вся вселенная, и нечто чернее ночи и ярче солнца застилает взор, и из глаз льются благодатные слезы… Если бы человек мог заранее знать о неотвратимости прозрения! Понимаешь, доченька, человек бы понимал: все, что дает ему жизнь, — непреходяще, все остается, и нет мелочей, которые бы не составляли единого целого с настоящим, прошлым и будущим. Жизнь каждого человека стала бы такой же безграничной, как вселенная.
Бахрамов замолчал, чувствуя, что говорить уже нет сил. Мамура смотрела на него и не узнавала. Она видела просветлевшее лицо, порозовевшие губы с легкой синевой в уголках, и поразилась красоте этого лица, и не могла понять, как это не замечала ее раньше? Неожиданно ее испугала мысль: «Почему он так говорит?»
— Теперь иди, доченька, я посплю.
— Вы себя плохо чувствуете? — спросила Мамура.
— Все хорошо, доченька, все хорошо…
Взволнованная Мамура побежала за врачом.
В коридоре она увидела молодую женщину с мальчиком. Женщина держала в руках букет цветов.
— Наверное, здесь, — сказала она, подходя к двери.
— Что вам надо? — строго спросила Мамура.
— Одного человека. Он спас моего сына, — женщина боялась, что сестра не пустит ее в палату, и открыла дверь. — Ну да, вот он! — указала она на Бахрамова.
Мамура вошла с ней в палату.
— Бахрамов-ака, вы еще не спите? Вам принесли цветы.
— От Алишера, — тихо подсказала женщина. Мамура подошла к кровати и вдруг, закрыв лицо руками, отшатнулась, выбежала из палаты. В коридоре слышен был ее крик:
— Доктор, скорее в девятую палату!.. — Хаджа-бува взял руку соседа, сказал: — Кажется, опоздали… Он мертв…
К вечеру по лугу, как всегда, шла хохлатка, ведя домой цыплят. Алишер, спотыкаясь в траве, старался поймать отставшего цыпленка.
Перевод с узбекского Б. Балтера
Павел Нилин Дурь
Говорят, да я и сам где-то читал, что в человеке чуть ли не каждые семь лет вся кровь меняется. Но интересно как, при каких обстоятельствах? И надо ли человеку самому принимать какие-то меры, чтобы вроде того что обновиться?
Вот, например, я могу рассказать, как со мной получилось.
1
Жениться мне, откровенно говоря, сперва вовсе не хотелось. Женатый, я считал, ведь все равно, что связанный. Но на женитьбу меня подталкивала в первую, очередь моя мамаша.
— Смотри, избегаешься, Николай, — все время вроде того что предупреждала она меня. — Тем более, — говорила, — ты шофер, и женщины поэтому непрерывно тобой интересуются: подвези да прокати и так далее. Избалуешься ты, боюсь. И если женишься потом, жену не сможешь как следует уважать, поскольку тебе и сейчас такой повсеместный почет от баб…
Словом, мамаша стремилась, как обыкновенно, поставить меня на правильную точку. И пилила таким способом, наверно, минимум с полгода. А я, еще совсем молодой был, лопушок.
Наконец я решил жениться. И не на ком-нибудь, а на Танюшке Фешевой. Она и тогда работала в кафе на пристани. У нее были, вы представить себе не можете, какие богатые, ну совершенно русые волосы, вот так, по последней моде, раскиданные по плечам. Одним словом, я раньше даже не мечтал на ней жениться — до того она вроде казалась неприступная, что ли. А вот случилось…
Поженились мы, прожили почти что годик, и она, пожалуйста, — родила девочку. Неплохо? Вот именно.
Протекло после того еще года полтора. Тут вызывает меня в военкомат. И знакомый военком прямо говорит, вроде того, что собирайся, Касаткин, поскольку данная тебе отсрочка по случаю твоих травм на лыжных соревнованиях кончилась. И Родина вроде того что желает увидеть тебя, как положено, на посту. Пора, мол, Касаткин, послужить Родине.
Пора так пора. И разговора никакого быть не может. Не я первый в таком деле и не я последний.
Посадили меня в эшелон, как водится, с такими же, как я, новобранцами и повезли аж до самой реки Амур.
Конечно, сперва я тосковал, как тоскует, может быть, всякий, тем более женатый человек. Вспоминал, как провожали меня родственники, в том числе и в первую очередь Танюшка и моя мамаша. Но в конце концов на людях я постепенно развеялся и вроде того что втянулся в эту для меня-то новую, а вообще-то обыкновенную солдатскую жизнь.
Служба, просто скажу, почти что понравилась мне, потому что я с детства любил аккуратность и чтобы все было как следует. В питании я не очень привередливый. Ну, словом, я вскоре же ко всему привык.
Не хочу, однако, ничего сверх нормы преувеличивать. Мне было, конечно, много легче, чем другим солдатам, поскольку я состоял как шофер при начпродхозе и возил его повсюду на четырехместном «бобике».
По тревоге, по ночам — опять же прибавлять ничего не хочу — мне вскакивать не приходилось, как другим. Ведь в солдатах по-разному бывает. Сегодня вечером, например, играли в своем клубе, пели, танцевали или показывали спектакль. Спать легли веселые и чуток попозже. Уснули как убитые. Вдруг среди ночи: «Тревога!»…
Учебная она или условная, а бежать солдатам надо по команде в любую погоду — в дождь ли, в ветер ли, в метель ли. И хоть камни-кирпичи с неба будут падать, а бежать все равно надо, куда укажут по команде.
Мне этого, конечно, не приходилось. Мне жилось много более спокойно — по сравнению с другими. И дорого было то, что я все время был в разъездах и мог оглядеть — ну, правда, не во всей красоте, но хотя бы частично этот необъятный Дальний Восток. Это действительно, я должен сказать, красотища!
И вот я стал мечтать, что, когда окончится моя военная служба, я тут же обязательно переведусь на Дальний Восток на гражданскую работу. И, Понятно, перевезу с собой жену Танюшку и дочь Эльвиру.
Вот какая у меня была мечта. Мечта-идея. Пусть, думал я, приедут поглядят и мои родные, какой он есть в Натуре этот Великий, или Тихий, океан, какие тут реки и леса!
Реки на Дальнем Востоке, просто, к слову сказать, удивительные, хотя не все их тут хвалят. Одним словом, не все ими довольны. Особенно кто занимается сельским хозяйством. Ведь везде, заметьте, реки разливаются обязательно весной, когда сходят льды и снега. А здесь, на Дальнем Востоке, они другой раз дают разлив аж к осени. И могут такое натворить-наделать, что весь труд человеческий, то есть крестьянский — урожай и все прочее, — подвергается смыву. Надо же! Но уже имеются в настоящее время проекты, нам объяснили, как укрощать эти реки.
И, конечно, не это меня лично заботило, когда я мечтал переехать туда с моей семьей. Я и мамашу свою хотел пригласить с нами, поскольку она так же, как я, обожает ходить по грибы. А грибов там и ягод на Дальнем Востоке, одним словом, грубо сказать — пруд пруди. И кто, как вот я, любитель рыбной ловли или охоты, тому там немыслимое раздолье и благодать.
И, откровенно говоря, я приглядел уже совхоз, где мог бы устроиться после моей военной службы и даже сколотить в лесу свой собственный домик, как давно мечтала моя мамаша.
Но вдруг именно от нее, от мамаши моей, приходит письмо. Не ею, конечно, персонально написанное, но, по всей видимости, соседским мальчиком, учеником Витей, под ее, понятно, диктовку. Так, мол, и так, дорогой сынок, живем небесполезно, смотрим телевизор, слушаем радио, все здоровы, слава богу, на своих местах и в тепле, но Танюшка, имей в виду, Николай, вроде того, что тихонько погуливает и как бы она тебе без твоего спроса и ведома вторую малютку не преподнесла, как сюрприз, к твоему возвращению. И, главное, некрасиво, диктует мамаша, что дочь твоя крошка Эльвира, которая уже во всем разбирается, присутствует тут же при своей матери и может свободно наблюдать совсем не тот пример, какой ей, девочке, будет впоследствии нужен. И ведь все это можно было предвидеть — вроде того что злорадствует и упрекает мамаша. Ведь, мол, говорено было тебе в свое время, что из кафе или из столовой невесту надо брать с особой осторожностью и вниманием. Одним словом, мол, где пьют, там и льют. А позор вроде того что может распространиться на все наше ни в чем никогда не замеченное семейство.
Ну, думаю про Танюшку, — приеду, убью ее, тихую дурочку, поскольку, как видно из письма, она, выходит, не мать своему ребенку и не жена своему мужу. Убью, и все. Другого вроде того что выхода не вижу. Не миновать мне, одним словом, думаю, тюрьмы.
И тут старшина вручает мне новое письмо — уже от нее от самой, от Танюшки. Пишет она в том смысле, что, мол, скучаю по тебе невероятно, вижу тебя сквозь все ночи во сне и жду не дождусь, когда же ты обнимешь меня, мой дорогой Коленька. Ведь и пожили-то мы, пишет, с тобой всего ничего из всей нашей молодой жизни. А сейчас я вся извелась, тоскуя по тебе. До каких же, отпиши мне, пор должна продолжаться твоя военная служба? Или, может, ты уже нашел себе кого?
На такие слова я, понятно, не мог ответить грубо. Написал ей, что служба, мол, не мной придумана и не я один ее несу. Придется, мол, тебе, моя дорогая супруга, потерпеть сколько надо, а там, мол, видно будет. Никого, ни в коем случае, я не подыскивал тут, как ты намекаешь в своем письме, и не собираюсь в данный момент делать подобных глупостей. Береги, пишу, себя и нашу дочь, воспитывай ее в духе, прививай ей и так далее, как положено в настоящее время.
А сам притом думаю: ах, погорячилась моя мамаша, дала до такой степени ошибочную информацию. И ведь могла, думаю, по своей женской неосторожности, грубо говоря, торопыгости вроде того что разрушить нашу семейную жизнь. И еще думаю: ну, хорошо, ну, даже если бы Танюшка и позволила бы себе что-нибудь такое, все равно горячиться родственникам ни к чему, поскольку одинокая женщина, уже привыкшая к семейной жизни, не может не тосковать. И надо войти в ее положение, а не стучать направо и налево. И не просить малолетнего мальчика-ученика писать в армию огорчительные и тем более непроверенные письма. Пустяки, думаю, все обойдется. Ничего страшного.
Но тут я получаю сразу два письма — от брата Костика и от сестры Манюни. Манюня особенно авторитетно пишет — поскольку она на профсоюзной работе, — что, мол, твоя семейная жизнь, имей в виду, Николай, находится под угрозой срыва, что Танюшка вроде того что в открытую приводит домой с пристани подвыпивших мужчин и что не дай бог, если об этом узнает мама. А что мама уже все целиком и полностью сообщила мне — ни Манюня, ни Костик не знали.
Ну, ладно, думаю, придется, видно, поступить с этой женщиной, то есть с Танюшкой, по всей строгости, вроде того что вплоть до расторжения брака. Жалко, конечно, Эльвиру-дочку оставить без отца, но другого выхода я уже действительно не вижу.
И тут я прошу моего подполковника-начпродхоза:
— Нельзя ли мне взять срочно отпуск хотя бы на несколько дней?
— А что такое? — очень недовольно пошевелил он усами.
— Так и так, — говорю, — товарищ подполковник, хотел даже с вами посоветоваться, поскольку знаю, как вы хорошо подкованный по всем вопросам.
И объясняю ему все начистоту. Он послушал-послушал меня, потом опять пошевелил усами, как он всегда делал, когда его что-нибудь сердило или затрудняло, и говорит:
— Дело это, товарищ Касаткин, чисто бытовое и его вот этак с ходу нам с тобой не выяснить и не решить. Ездить в отпуск тебе сейчас, я считаю, не надо, поскольку ты здесь нужен до крайности. И скоро, к тому же, кончается назначенный тебе законом срок службы.
А что касается твоей супруги, то могу сказать, что подобные факты, конечно, к сожалению, еще встречаются и имеют место. Девочку-то как зовут, Эльвира? Хорошо зовут. А жену? Татьяна? Тоже ведь не плохо. Не советую, говорит, я тебе, товарищ Касаткин, разводиться. Не этично это — разрушать семью. Не наш, говорит, не советский это стиль…
И представьте себе, подполковник этот оказался в конце концов вроде того что прав. Хотя тогда я даже рассердился на него. Про себя, конечно, рассердился, не очень заметно.
От Танюшки я вскоре опять получил почти что печальное письмо. Сил моих женских нет, писала она, жить без тебя. И не могу я понять в данное время, как считаться мне все-таки — замужней женщиной или просто, как все, свободной гражданкой? Даже Эльвира спрашивает:
— Да где же наш папа?
И опять растаял я от этого письма, опять закипела во мне любовь, а не злоба.
И в этот момент в нашем Доме офицера приезжий лектор читал всех заинтересовавшую ну, я не знаю как, лекцию «О любви и дружбе и семейной жизни». Исключительно для офицеров. Правда, потом обещано было повторить для солдат.
Был очень сильный мороз. Поэтому лекцию я лично слушал с пятого на десятое, с большими перерывами, потому что все время приходилось выбегать к подъезду — прогревать мотор нашего «бобика». Чтобы не прихватило морозом радиатор. Хотя он и с антифризом, но все-таки надо думать. И кроме того, эту лекцию я слушал из самых задних рядов, поскольку находился в Доме офицера вроде того что неофициально, только как шофер начпродхоза.
Зато после лекции, когда приезжая поэтесса Шепетухина или Щеголихина читала свои собственные стихи тоже на тему о любви и дружбе, мне выпала, я считал, большая удача: замполит приказал отвезти лектора почти что за десять километров на взморье — в дом отдыха.
Седенький был лектор, на взгляд — еле живой. Хотя из самой Москвы. Все время задремывал, даже всхрапывал, пока я его вез. Но все-таки я решил посоветоваться с ним по моему вопросу. И он, похоже, слушал меня, даже переспрашивал:
— А Эльвире сколько лет? А Татьяне?
Будто в годах дело. Потом сказал, когда я уже довез его:
— Почитай, дружок, записки писателя Достоевского. Он хорошо входил во все такие тонкости психологии человеческой души. И, в частности, женской души. Или можно даже Льва Толстого почитать, тоже неплохо освещал семейную жизнь.
Достоевского книг я достать не смог, хотя спрашивал в двух библиотеках. Книги писателя на похожую фамилию имеются, даже сколько угодно. А книги самого Достоевского, к сожалению, на руках. Многие, наверно, как и я, хотят разобраться в своей семейной жизни.
— Да зачем тебе Достоевский? — даже обиделась одна молоденькая библиотекарша. — Это все, говорит, уже отошло или вроде того что отходит. Ты, говорит, возьми что-нибудь из современной жизни. Про лосей вон хорошо пишет один писатель, правда, переводной. Или вот про жизнь в Африке возьми, если тебя шпионы, ты говоришь, не интересуют.
Но меня уже ничего не интересовало, кроме моих домашних дел.
Домой я ехал, когда окончился срок моей службы, как волк в клетке: все ходил по вагону взад-вперед, вроде того чтобы ускорить движение поезда.
2
Приехал я, возвратился в родной свой город. И, конечно, первым делом на автобусе — к себе на квартиру. А Танюшки, оказывается, дома нет. И Эльвира — в детском саду. Я — на пристань, в кафе. И вот, верите — нет, я порог переступить не успел, женщина невозможной красоты кидается мне навстречу и чуть не сбивает меня с ног. Целует и плачет:
— Коленька, цветик-шестицветик мой.
Я гляжу и не узнаю. Волосы свои богатые, с этаким золотым отливом, Танюшка уже не раскидывала теперь по плечам, — все-таки не девушка уже, а заматывала вокруг головы. По уже самой последней моде. И от этого будто выше становилась, еще осанистее.
Посетители тут в кафе, больше матросы-речники, хорошо поглядывали на нас и улыбались.
А мне отчего-то неловко становилось. И даже вроде того что слегка знобило меня.
Боже мой, да я бы, кажется, все отдал теперь, чтобы еще хоть раз вот так растерянно постоять возле нее. И чтобы вот так же светились ее большие глаза и пахло парным молоком и березовым соком и еще чем-то милым от ее ушей, и губ, и волос.
— Ну, пойдем, пойдем, — говорила она, почти что задыхаясь, И вела меня по какому-то коридору, где пахло щами, как травами. И всем встречным объясняла с улыбкой!
— Это вот мой муж — Коля. Познакомьтесь. Только что с военной службы, из армии прибыл, возвратился. О, смотрите, у него и медаль какая-то! С ленточкой…
А какая уж там медаль, смешно сказать. Не медаль, а значок. Но она и его осторожно вот так погладила, отчего, казалось мне, и латунный значок должен был просиять.
— За Эльвирой давай сразу поедем, — предложил я, отчего-то слегка сконфуженный, когда заведующая с этакой улыбкой отпустила Танюшку домой до завтра.
— Нет, — сказала Танюшка, — сперва ты будешь мой, а потом уж, может быть, я передам тебя Эльвире и всей родне твоей прекрасной…
Дома она мигом разобрала все, как на ночь.
А часа три спустя после нашей встречи, я гляжу, она уже успела не только накрыть на стол, но и полностью приготовиться к приему гостей.
— Как же, как же, — говорила она, — у нас такой большой семейный праздник. Возвращение главы семейства. Сейчас всю родню нашу соберем. И всех знакомых. А за Эльвирой я потом тут мальчика одного пошлю, Витю. Он ее мигом доставит. А ты, Коленька, надень вот эти брюки. И башмаки. И вот этот свитерок. Все это я тебе купила в комиссионке по памяти на твой размер. Думаю, придется…
И действительно — все пришлось, будто я сам примерял в магазинах.
Вышел я уже под вечер в таком виде нарядном к моей родне. Пригласил всех к столу. И внимательно глядел на каждого — и на мать, и на брата, и на сестру, словом, на всех, кто уселся за стол — поздравить меня со встречей. Ну, думаю, как говорится, друзья, у кого теперь повернется язык что-нибудь такое сбрехнуть про мою супругу или навести на нее какую-нибудь тем более нежелательную мораль.
Из посторонних Танюшка пригласила на тот ужин двух своих подруг-официанток из кафе, Ирину и Фриду, шеф-повара Ивана Игнатьича и еще одного старичка-бухгалтера Костюкова Аркадия Емельяновича С пристани, который, как она объяснила мне, учит ее особо играть на гитаре в струнном кружке при клубе водников. И что вроде того что неудобно было бы его не пригласить. И правда, он явился с гитарой, каких я еще не видывал — большой, блестящей, будто обшитой пуговицами, а сам — весь какой-то коричневый, с крашеными, как у женщины, волосами и слегка плешивый. Заметно притом, что и плешь он закрашивает чем-то, чтобы она не бликовала.
— Я, — сказал он, — сыграю вам сюиту…
Мне эта сюита, откровенно говоря, была ни к чему, но поскольку Танюшке она, может быть, была интересна, я, конечно, не мог возражать. Хотя старичок этот мне сразу не понравился.
Потом пришла сестричка моя Манюня. И с ней был вроде ее жених, некий Журченко Юрий Ермолаич, невысокого роста, очень полный, даже рыхлый блондин, с выпуклой такой спиной. Он тоже мне не сильно понравился: у всякого человека, в первую очередь, грудь должна быть выпуклая, а у него спина. Но Манюня, наверно, заметив мой взгляд, намекнула шепотом, что он — большой человек, что он какой-то почти что главный руководитель в каком-то управлении. И что, имей в виду, — нашептала мне Манюня в ухо, — он куда хочешь тебя устроит.
А у меня и заботы не было особо хорошо устраиваться. В тот момент я мечтал только об одном: поработать где-нибудь хоть с годик, наколотить деньжаток и уехать с семейством на Дальний Восток. Вот только это я держал в голове.
— Ой, мне, наверно, ничего этого нельзя. У меня — сердце и печень, — говорил Журченко, разглядывая закуски. — Словом, это как в том анекдоте, — смеялся он. — Купил один гражданин по случаю живого тигра, а клетки для этого дела в магазине не было. Ну как быть?.. Ой, да это, кажется, у вас осетрина? — вдруг закричал Журченко. И сию минуту присел к столу.
— Вот и ошиблись, — засмеялась Таня.
— Я сам, на что уж называюсь шеф-повар, тоже ошибся, — засмеялся и Иван Игнатьич. — Я тоже принял треску за осетрину. Молодец ты, Татьяна, — поглядел он на нее и на меня. — Мировая тебе супруга попалась, Николай. Цени это. И помни…
— Я ценю, — сказал я. Но про себя подумал: «А ваше-то какое дело вмешиваться в мою семейную жизнь и даже вроде того что объяснять, чего мне надо ценить. Будто я все еще маленький и сам не разберусь».
Но все наши гости, как сговорились заранее, каждый по-своему выхваляли Танюшку, будто старались внушить мне в тот вечер, какая у меня хорошая жена. Или так казалось, что они стараются. И от этого мне было не очень приятно.
Потом шеф-повар Иван Игнатьич потрогал Журченко за плечо и спросил:
— Ну, а как дальше-то было с тем тигром?
— С каким это тигром? — удивился Журченко, занятый треской, которую принял за осетрину.
— Ну вы же сейчас рассказывали.
— Ах, с этим? Из анекдота? Сию минуту доскажу, — пообещал с набитым ртом Журченко.
Но так и недосказал. Привели из детского сада Эльвиру.
И Эльвире Танюшка, — ведь, подумайте, заранее все сообразила, большого ватного зайца преподнесла, говоря:
— Это тебе от твоего папы. Вот он сидит. Поскорее подойди, поцелуй его.
Эльвира, конечно, поцеловала меня и охотно пошла ко мне на колени.
А потом вдруг спрыгнула с колен, — увидела у кровати мои сапоги и гимнастерку, — и закричала:
— А дядя Шурик где? Это же его сапожки. И ремень. Разве он приехал опять?.
Танюшка и мать моя, как в испуге, притихли. У матери, я заметил, будто разом почернело лицо.
— Какой, дядя Шурик, Бирочка? — спросил я.
— Какой, какой, — передразнила она. — Будто не знаешь. Какой у нас всегда ночует, когда приезжает…
— Не болтай, девочка, — остановила Эльвиру моя мать. Но Эльвира продолжала еще что-то рассказывать, когда все притихли, когда наступила, как говорится, мертвая тишина. И слышно было только, как Журченко колет яичную скорлупу.
Иван Игнатьич, шеф-повар, может быть, для того чтобы разрядить эту мертвую тишину, спросил, глядя на меня:
— А правда ли, я слыхал недавно по радио, что тигры только лишь и сохранились разве что у нас на Дальнем Востоке?
— Правда, — сказал я, но каким-то уж очень тихим голосом, как по секрету.
А повар еще спросил:
— А для чего они, собственно говоря, нам нужны, тигры? Ихнее мясо ведь, по-моему, нигде не едят…
— Ну неужели непонятно? — вдруг отозвался Журченко, наконец-то оторвавшись от еды. — Это ж из учебников известно, что тигров ценят исключительно из-за шкуры. — И поглядел на ручные часики. — Ну, я пошел. Мне еще на просмотр надо попасть. Про тигров — в следующий раз, — помахал он нам всем своей пухлой ручкой.
И что это завелся у нас тогда этот глупый разговор, про тигров? И на тиграх как-то неловко закончился вечер, хотя сперва намеревались спеть все вместе «Подмосковные вечера». Но так и не спели, разошлись. И Аркадий Емельянович ушел со своей красивой с пуговицами гитарой.
Осталась только моя мать.
А Танюшка молча убирала со стола, относила грязную посуду на кухню.
Мать сметала со стола крошки и смотрела на меня выжидающе, но не прямо, а как-то сбоку. Ну, вот так-то, мол, сынок, тебе решать, ты — хозяин. Но теперь-то, мол, хоть ты понимаешь, что я не плела ерунду в письмах. А ведь дважды, кажется, я тебе писала. И все это, к сожалению, ты теперь не один знаешь. Даже эта крошка Эльвира, ты гляди, уже много чего лишнего соображает. Ну решай же, решай.
Так смотрела на меня моя мамаша. Такое я, одним словом, читал в ее глазах. И я все сразу решил под ее взглядом. И тут же ей высказал, когда она, как монашка, со скорбным таким видом повязывала под подбородком свой черный платок:
— Что было, мамаша, то было. Того поменять мы уже не можем. И не смеем. А жизнь тем более дальше идет.
— Ну, смотри, тебе жить, — сказала она. И, как сейчас, помню, крикнула уже из сеней: — Татьяна, я ушла. Привет тебе.
Мать у нас, конечно, уж очень даже чрезвычайно нервная, одним словом — сердечно-сосудистая. И неграмотная до сих пор, но очень гордая. Всю жизнь она проработала поденщицей у разных людей — стирка, глажка, полы. Но нам, детям своим, все-таки дала кое-какое воспитание. И каждый из нас получил специальность. У чужих столов мы, одним словом, никогда не стояли с открытым ртом.
Этот Журченко Юрий Ермолаич — Манюнин жених, или просто вроде того что кавалер — уже на третий день по моем возвращении, как я получил обратно паспорт, предложил мне на выбор пять должностей, в том числе две очень видных — завхозом в театре или администратором во Дворце культуры. Но опять же мамаша прямо замахала руками.
— Не делай, — говорит, — этого, Николай. Не ударяйся в какую-то высь. Есть у тебя дело, которому ты обучен, держись за него. Не старайся быть похожим на ту ворону с сыром.
И я опять устроился шофером же в свой старый автопарк. Хотя Танюшка меня все время упрашивала отдохнуть месяцок и говорила, что даже через ихний нарпит можно получить путевку в дом отдыха недели на две.
— Если ты не возражаешь, я завтра же зайду к Потапову. Он как-нибудь, надеюсь, не откажет.
— Да я дома лучше всего отдохну, — говорил я. — Тем более я и устал не очень.
И действительно, я устроился в автопарке на ночную работу — возил через сутки с молококомбината в магазины молочные продукты. Целые сутки у меня получались полностью свободные. Я много чего мастерил по дому — починил всем обувь, сделал полки на кухне, да мало ли.
И теперь уж была моя забота — через день отводить Эльвиру в детский сад и забирать обратно.
В детском саду были ею очень довольны. Даже считали, — да, наверно, и сейчас считают, — что у нее большой талант к рисованию, к пению и к стихам, которые она прямо с ходу запоминает.
Мне, как отцу, это было, конечно, очень приятно. Хотя, скажу вам откровенно, с Эльвирой у меня вроде того что не налаживались нормальные отношения. Ну, например, я зайду за ней в детский садик к вечеру, а она:
— Лучше бы мама пришла. Ты же мне сзади все пуговицы перепутываешь…
Уж чего я не делал для нее, а она все этаким зверьком ко мне. А девочка, между прочим, — все считают, — вылитый я. Даже моя мамаша так считает. Даже уши у Эльвиры, заметно, мои, вот тоже слегка оттопыренные. Отчего я избегаю короткой стрижки.
Но больше всего мне было неприятно, что Эльвира нет-нет да и вспомнит какого-то дядю Шурика, как он во дворе на детской площадке ходил на руках.
— А ты так, — спрашивает, — можешь?
Один раз вечером Танюшки не было дома, я привел Эльвиру из садика, налил ей чаю с топленым молоком, как она любит, и тут же, чтобы развеселить ее, показал вроде фокуса, как будто из уха достаю тульский пряник.
— А из этого уха можешь?
— Могу. Я, Бирочка, — говорю, — все могу. Я же, — ты пойми это хорошо, — бывший солдат.
— А дядя Шурик — сержант.
«Ну, ладно, пес с ним, с этим дядей Шуриком. Не надо сердиться», — приказываю я себе. И спросил не своим, а каким-то подхалимским голосом:
— А кого ты любишь больше, Бирочка, скажи откровенно: меня, своего папу, или этого, как ты выражаешься, дядю Шурика?
— Потапова, — говорит она.
— Какого, — спрашиваю, — Потапова?
— Какого, какого. Потапова не знаешь? Он всегда духи и конфеты приносит. И катает меня на машине…
Я прямо весь закипаю от таких детских слов. Но все-таки упорно сдерживаю себя.
— А ты, — вдруг спрашивает она меня, — жить теперь у нас будешь? Всегда-всегда?
— Ну, конечно, дурочка ты такая, — объясняю я ей без всякой злобы. — Ты пойми, я прошу тебя, и хорошо запомни: я же есть твой родной папочка. Ну, кто же может быть лучше родного отца?
— Дяди лучше, — говорит она, как будто специально добывает во мне огонь. — Дяди все время чего-нибудь хорошее дарят. А ты всего-всего только зайца подарил. Да и то я его давно знаю. Он, — говорит, — давно тут в комоде лежал, завернутый, этот заяц…
Хорошо, что мне надо было в этот день ехать в ночь на работу. Я не знал бы, куда девать себя, — такая на меня не то что злость, а какая-то злая тоска напала. Я, наверно, напился бы в этот день до потери сознания, если б мне не на работу.
Но утром опять все повторяется по-хорошему.
Танюшка, как всегда после моей ночной смены, весёлая, какая-то душистая, в пестреньком легком халатике встречает меня у дверей. Ей же на работу, в кафе, чаще всего с двенадцати, Уже затопила колонку, чтобы я мог помыться, и щебечет, щебечет вокруг меня:
— Яишенку тебе или картошечки пожарю? — И кладет мне руки вот этак на плечи. — Устал, замаялся? — спрашивает.
Ну как тут будешь сердиться? Это же кем надо быть, чтобы сердиться?
Больше того, я вам скажу, мне даже стыдно бывало в такой момент, что я сердился только что. Ну, словом, тот лозунг, что я вколотил себе в башку и первый раз объявил своей матери, я все время не забывал: что было, мол, то было, того поминать мы теперь не можем, а — жизнь дальше идет.
С Эльвирой я больше не заводил посторонних разговоров — про Шурика или про какого-то Потапова, старался, чтобы она их поскорее забыла. Приносил ей игрушки, сладости, ну, что ребенку надо. Играл с ней. Даже на руках два раза перед ней прошелся, — невесть какая хитрая штука. Но сердце к Эльвире — хотя она и вылитая я — у меня, откровенно скажу, не лежало. Говорил я себе, что это, мол, дочь твоя, что ты обязан и все такое, а сердце все равно не лежало. Но это уж, наверно, особый разговор.
Делал я все для моего семейства, одним словом, нормально. Как все делают. Как все вроде того что должны-обязаны делать. И не упускал в то же время мою давнюю, уже вбитую мне в память мечту-идею переехать со всем семейством на Дальний Восток. Даже три письма к верным людям, с которыми познакомился там, я отправил еще летом. Мне, например, интересно было узнать у одного знакомого начальника совхозной автобазы, расширилось ли ихнее дело, как намечалось, требуются ли им шофера и не изменились ли богатые условия, которые он мне сулил, когда я еще был солдатом, — насчет квартиры и потом приобретения, то есть постройки в лесу своего домика с огородом и с садом.
Словом, я, как говорится, заболел этим Дальним Востоком. И болезнь моя и теперь не проходила. Ну, скажем, не болезнь, а вот именно — мечта. Хотя живем мы тут почти что под Москвой в общем-то совсем не плохо. Жаловаться, одним словом, не на что. И лес тут у нас кое-какой есть, даже очень густой попадается, в котором иной раз и ягоду и грибы, несмотря на большое многолюдство, можно собрать. Но разве сравнишь эти ягоды и грибы или, скажем, рыбу с тем, что в любое время можно встретить на Дальнем Востоке? Даже в солдатском моем положении я мог добывать там все, что хотелось мне в смысле живности или, как говорится, растительного мира — в виде, например, грибов. А надо сказать — зверь, рыба, грибы и всякое такое — для моего характера, — это, можно сказать, все.
Но главное, что мне хотелось теперь, чтобы на новом месте, на Дальнем Востоке, и Эльвира забыла разных дядей Шуриков и чтобы Танюшка вступила, как это говорится, в самостоятельную действительно семейную жизнь, и чтобы никаких посторонних намерений не было.
И Танюшка, вроде того что тоже загорелась, когда я рассказывал ей о реке Амур и о Тихом океане, где я был почти что мельком.
Танюшка, вообще надо сказать, шла мне во всем навстречу, помогала то есть, чем могла.
Вдруг приносит теплую такую куртку на ватине и вроде того что с кожаным верхом.
— Надевай, — говорит. — У одной спекулянтки сию минуту купила. Если не придется, успею еще вернуть.
Но я надел ее и как родился в ней.
— Ну, а теперь, — говорит, — пойдем в кино. Только что взяла билеты как раз на час тридцать. «Жестокая любовь», французский фильм…
В кинотеатре перед началом фильма все, как обыкновенно, разглядывали на стенах портреты артистов. А Танюшке казалось, что многие поглядывают и на нас. И больше всего, как она считала, — на меня.
— Ну, это, наверно, из-за куртки, — говорю я. — Куртка действительно богатая. Американская.
— Да при чем тут куртка? — говорит Танюшка. — Ты просто, я не знаю, какой красивый, Коля! И все лучше делаешься. Я когда с тобой иду, всегда радуюсь, что у меня такой муж. Плечи какие! И глаза. У Эльвиры же твои глаза.
— Ну, ладно, давай без культа, — уже немножко сержусь я.
— Да при чем тут культ? — тоже немножко как бы обижается она на мои слова.
И мы входим в зрительный зал какие-то по-новому очень близкие друг другу.
А картина была на редкость печальная. И из семейной жизни. Про то, как муж бросил свою жену.
Танюшка так плакала, что лицо у нее после сеанса сделалось даже черным, поскольку потекла эта тушь, которой она, как все женщины, слегка подводит глаза.
— Мне, — говорит, — жалко было эту Мадлену, как она умирала. И ведь она, как можно было понять, даже моложе меня. А ты сидел, я даже удивляюсь, как каменный. Неужели, — спрашивает, — тебе было не жалко ее?
— Жалко, — говорю, — но не очень, поскольку она сама была виновата. Живешь, живи. И думай, что делаешь. А она, как женщина, начала вертеться. Это, — говорю, — хуже всего.
— Но нельзя же, Коля, так рассуждать, — не соглашалась со мной Танюшка. — Я сейчас смотрела кино, а думала все время о себе. Ведь это всегда так бывает: читаешь или смотришь в театре про кого-то, а думаешь про свою жизнь. И волнуешься от этого еще больше. Я, Например, всегда волнуюсь…
Это она говорила, когда мы после киносеанса уже обедали дома.
И если б я знал тогда, что это наш последний с ней обед.
Потом она, как обыкновенно, собирала меня в ночную смену. Укладывала в кожаную сумку бутерброды и наливала в термос зеленый чай, как я люблю.
И уж, когда я уходил, уже в дверях остановила меня, говоря:
— А я тебе забыла рассказать, какой вчера кошмарный сон я видела: как будто я тебя вот так же, как сейчас, провожаю, но уже на аэродроме. Как будто ты уже садишься в самолет, а я плачу. А ты мне говоришь: «Ведь улетаю совсем ненадолго. Всего на годик». И показываешь вот так палец: всего, мол, на один год. А я реву и не могу остановиться. Прямо вся изревелась. Я всегда за тебя волнуюсь…
— А чего волноваться-то, — смеялся я. — Я ж не летчик, не космонавт.
— Ну все-таки, — говорит Таня. — Для меня ты — космонавт. И я прошу тебя, надень новую куртку…
— Что ты, — говорю, — на работе трепать такую вещь.
— Ну, надень, — говорит, — прошу. Эта вещь, — говорит, — все-таки не дороже нас. А на улице вон какая сырость…
Явился я в парк, в этой новой куртке. И тут же объявили мне, что посылают меня на двое суток в Москву. Пришлось готовить машину в дальнюю поездку. То да се. Прокрутился я так в автобазе почти что до двух часов ночи и тут только трекнулся, что книжка-то моя с шоферскими правами осталась в старом пиджаке, да и надо было Танюшку предупредить, что я не вернусь утром.
В третьем часу ночи, таким образом, заезжаю я к себе домой — и что же я застаю? Я застаю жену — вы не поверите и ни за что не угадаете, с кем — с этим самым Костюковым, Аркадием Емельяновичем, с этим, вроде того что пожилым, крашеным дьяволом, шестидесяти, можно сказать, лет. Картина? Вот именно. И этот уже совершенно старый черт, приводя себя, как говорится, в порядок, этак усмехаясь от своего же конфуза и снимая со стены гитару, на которой опять, должно быть, играл тут свою сюиту, говорит мне:
— Извини, — говорит, — если можешь, Николай Степаныч, но я, — говорит, — не мог не уступить дамскому капризу. Такая, — говорит, — получилась у нас эмоция.
И тут же за занавеской, представьте себе, — кроватка Эльвиры.
Ну, что бы вы в таком случае сделали?
А я снял новую дареную куртку, надел старый пиджак, проверил, в нем ли мои шоферские права, сказал: «Счастливо вам всем оставаться» — и ушел, в чем был.
По возвращении из Москвы я, конечно, поселился уже у матери и сразу заявил о разводе.
3
В коридоре народного суда я издали увидел Танюшку и не узнал. Так изменилась она за какие-нибудь несколько недель, — исхудала, пожелтела как-то. Но заметив меня, опять просияла вся и пошла ко мне, этак весело протянув вперед руки. Будто опять хотела положить их мне на плечи и, по привычке своей, до милой духоты сдавить мне горло, говоря:
— Ну, иди, ну, иди, ну, иди ко мне.
Ничего этого она, конечно, теперь не говорила. Только спросила:
— Отчего, Коля, ты-то как будто веселый? Тебе, правда, весело? Или ты просто гордишься собой?.. Не гордись, Коленька, — тут же как посоветовала она. — И не сердись. Не расстраивай свою нервную систему. Ну что же теперь делать, если так получилось жестоко?.. Много горя я тебе, наверно, причинила? Но все ведь не со зла, наверно. Наверно, не со зла. И хотя я, наверно, кругом виновата перед тобой, но имей в виду, я любила все время только тебя одного. И никого другого, наверно, уж никогда не полюблю. Наверно, никогда…
— Для чего ты все время говоришь одно сорочье слово — «наверно»? — только и спросил я ее. Хотя хотелось мне спросить другое — для чего ж она ночью позвала к себе этого крашеного козла Костюкова, что у нее за интерес, кроме его гитары, был в нем? И как надо понимать это слово — эмоция? Но ничего больше я не спросил, потому что боялся, что не смогу сдержать себя и рассвирепею так, что начну ее душить тут же, в коридоре, или, напротив, вдруг заплачу навзрыд, как женщина.
И она вдруг смахнула слезу.
— Наверно? — переспросила она. И, смахнув слезу, опять просияла так, как умела делать только она и больше никто на свете. — Тебе удивительно, Коленька, что я говорю — наверно? А я так говорю, оттого что не уверена. Я многое еще не совсем понимаю. Ни вокруг себя, ни в себе. А врать, как другие, далее самой себе не хочу. Уверена я только, что с сегодняшнего дня ты уже не будешь нужен мне. И алименты твои, не волнуйся, не нужны. Ни мне, ни Эльвире. Эльвиру я уж как-нибудь сама подниму и поставлю на ноги…
— Или кто-нибудь тебе поможет из твоих друзей, — не стерпел я сказать. — Мало ли разных на твое удовольствие дядей Шуриков, Потаповых, Костюковых…
— Не сердись, Коленька. Не расстраивай себя, — опять сказала она. — И Костюкова не затрагивай. Все это ни тебе, ни мне не понять. Он человек необыкновенный…
— Подумаешь, — сказал я. — Гитарист плешивый, да я бы…
Но в это время зазвонил звонок. Это звали всех в судебный зал.
Я зашел туда и первый сел на первую перед судейским столом скамью, поскольку во всем теперь была моя инициатива. Малость погодя и Танюшка присела рядом со мной.
А судьи еще не выходили.
— Вот и разведут нас сейчас с тобой в разные стороны. И, наверно, уж навсегда.
Это сказала она, чуть наклонившись ко мне.
— Так будет лучше всего, — это сказал я.
— И все-таки не могу я понять, весело сейчас тебе или ты только напускаешь на себя? — опять заговорила она, помолчав. — Мне-то хорошо понятно, что такого мужа, каким был ты еще недавно для меня, я уже не встречу никогда. Но ведь и ты, Коленька, — поимей в виду, — бабы такой, как я, беспутной, но честной и чистенькой, не сыщешь тоже. Никогда не сыщешь, хоть и станешь тосковать…
— Это ты-то честная и чистенькая? — взглянул я на нее. И весь было затрясся от ярости.
— А ты еще не понимаешь это? — будто удивилась она. — До сих пор не понимаешь? Ну ничего, потом, может, когда-нибудь поймешь. Желаю тебе…
И отошла, как-то особо аккуратно подобрав юбку, — пересела на другую скамью.
После суда я еще хотел заговорить с ней, договориться насчет Эльвиры. Но она уже, как глухонемая, смотрела на меня, и глаза ее, большие, светлые, будто потухли.
В тот же день к вечеру я зашел на работу к Манюне, где сидел этот вечный ее жених Журченко. И он с ходу начал хвалить меня, что я развелся:
— Ну вот, мол, и правильно. Надо, мол, когда-то было разрубить этот узел. Я даже, — говорит, — удивлялся и раньше, что ты, такой видный мужчина, терпел такой позор с такой женщиной. Не такая, — он говорит, — теперь эпоха, чтобы нам, мужчинам, унижаться перед женщинами…
А уж какой он сам мужчина, — это и выразить невозможно. Будто кожаный мешок, набитый салом. Слушать его мне было противно. И я даже хотел ему тогда кое-что сказать в том смысле, что это, мол, не ваше дело. Но Манюня остерегла меня глазами: воздержись, мол, Николай. И повела немедленно в их служебный буфет на шестом этаже. Ну, конечно, потому она и повела, что боялась, что я обязательно что-то такое брякну ее жениху. Я же не люблю, когда меня учат или наставляют.
В буфете сидела очень приятная, гладко причесанная девушка. Мне даже понравилось, как она по-особенному деликатно пьет чай.
— Это Наташа, познакомьтесь, — сказала мне Манюня. И девушка эта Наташа привстала, чтобы поздороваться со мной.
Не помню теперь, как это получилось, что после буфета примерно через час я снова увидел ее уже на улице. Она шла к автобусу. Я почти что проводил ее до автобуса. Потом Манюня мне сказала:
— Ты понравился Наташе. Она говорит, что ты человек, должно быть, добрый и, видать, еще не нашедший счастья. И что ей было очень интересно, что ты рассказывал о Дальнем Востоке…
Вот на этой Наташе я и женился вскоре.
Все совпало будто очень хорошо. Дом, который строили лет пять, наконец, достроили. И этот Журченко, Манюнин жених, все сделал так, что мне совершенно неожиданно дали в этом доме однокомнатную, маленькую, но со всеми, как положено теперь, удобствами квартирку.
Свадьбу я закатил такую, что все просто ахнули. Всю посуду и закуски брали, не поверите, из ресторана «Памир». Четыре новые «Волги»-такси везли нас с гостями сперва на регистрацию, потом — на квартиру. Два гармониста и гитарист, может, не хуже того плешивого, — вот как сейчас их вижу — играли весь ужин, без перерыва, до двух часов ночи.
И, главное, я скажу, всех просто поразила красотой своей невеста моя. Все так и говорили:
— Ну, Коленька Касаткин и выхватил себе жену. Молодая. Образованная. Учительница. Куда там Танюшке Фешевой.
И Журченко на свадьбе мне сказал:
— Вот это действительно супруга. Это не какая-нибудь «подай-унеси».
А Танюшка, — уже дней через несколько мне рассказывали, — всю нашу свадьбу — вернее весь ужин наш с музыкой — простояла напротив нашего дома и как будто ждала кого-то под дождем. И даже плакала — добавляли женщины.
И вот после этого разговора точно что-то случилось со мной, будто испортили меня, как говорилось в старину.
Ведь и свадьбу такую я устраивал как бы из мести, как бы желая всем показать — и в первую очередь бывшей моей жене, — что я не последний какой-нибудь навозный жук, что я в силе и средствах взять и красавицу невесту и отпраздновать свадьбу всем на зависть и на удивление.
И все будто так и должно было быть. Но я вдруг сон потерял и интерес к моим занятиям, к моей, словом, работе. Хотя меня перевели на дневную смену. Но я что днем, что ночью — как сонная муха.
А у меня молодая жена. Моложе прежней, можно сказать, почти что на четыре года.
И так получилось, что и мамаша моя и вся родня просто прикипели к Наташе. Насколько они не ценили и даже осуждали Танюшку, настолько они теперь превозносили Наташу. И хороша собой. И хозяйка замечательная. И о муже печется. И родню уважает. Ну, что еще, кажется, надо?
А я в расстройстве. Даже не знаю, как объяснить. С работы иду и вдруг замечаю, что вроде не туда иду. То есть не на новую свою квартиру, не к новой своей жене, а туда, где раньше жил, с Танюшкой, с Эльвирой, где они и сейчас живут. И, может, даже Танюшка кого-нибудь в этот момент принимает, когда я в ее сторону иду. Может, опять там этот старый крашеный дьявол Костюков. А мне вроде того что все равно. И в то же время как будто обиднее даже, чем раньше.
Поставили мы себе на новую квартиру телефон. И Наташа завела порядок — звонить мне, если я дома, когда она кончает работу, и спрашивать, не пообедать ли нам вместе, не пойти ли вместе в кино. Ну, словом, как это заведено у всех остальных, как вроде того что положено.
Только после я понял, что получаюсь, похоже, как под контролем.
А мне пришла, например, фантазия зайти к Танюшке навестить мою дочь Эльвиру. Значит, что же, надо докладывать об этом Наташе? А я не хотел докладывать. И врать не хотел.
Просто вечером, никому ничего не говоря, вышел из дому и поехал на автобусе на улицу партизана Зотова, где я раньше жил. В это время Эльвира уже должна была быть доставлена из детского сада. И Танюшка чаще всего в эти часы была дома.
Приезжаю, нету их. Туда-сюда. Спросить не у кого. Выхожу на улицу, идет наша бывшая соседка. И в отдалении вижу, появляется сию минуту моя жена Наташа. Меня это как-то нехорошо кольнуло. Но я все-таки поздоровался с соседкой.
— Татьяна? Так она уж давно, с неделю, наверно, в больнице, — говорит соседка. — А Эльвиру вторая бабушка в деревню забрала.
— Где, в какой больнице? — надо бы мне расспросить о моей бывшей жене.
А Наташа, вот она, уже подошла к нам. И я при ней постеснялся спросить у соседки адрес больницы. И соседка провала. А я сам себе стал противен за свою робость. Чего ведь особенного? Это же не секрет, что я тут жил и что живет тут моя бывшая жена. И тем более — дочь моя.
— А я хватилась тебя, — говорит Наташа. — И почему-то подумала, что ты, наверно, поехал сюда, на партизана Зотова. А мне тут к фотографу было надо. — И расстегивает сумочку и показывает конверт с фотографиями. Значит, правильно, ей надо было к фотографу. А я уж думал, не шпионит ли она за мной. — Ну что ты, — спрашивает, — был у них?
И так хорошо она это спрашивает, будто они тоже ее родные или знакомые и она просто интересуется их жизнью.
— Нету, — говорю, — их дома. И где они — неизвестно. Бывшая моя жена вроде того что в больнице…
— В больнице? — как бы испугалась Наташа. — В какой? Не знаешь? Что ж ты не узнал у соседей? Пойди спроси…
В больнице вместо Танюшки я увидел почти что старую женщину с серым лицом. И только по табличке на кровати с моей фамилией можно было определить, что это бывшая моя жена — Касаткина-Фешева Татьяна Гавриловна. Волосы у нее были теперь как наклеенные и на висках даже слиплись.
— Что с тобой? — спрашиваю.
— Ты что, разве сам не знаешь, что бывает с женщинами? — говорит она вроде с улыбкой, но глаза уже как потухшие лампочки. Как потухли они тогда в народном суде, так и остались в таком состоянии. — Спасибо, — говорит, — что пришел, но умоляю тебя: не приходи больше. Не могу, не хочу тебя видеть. Ты противен мне. И этот виноград из твоих рук мне противен…
Уж, кажется, лучше не скажешь. Правда? Уж, кажется, все сказала. Повернуться бы мне и уйти. Тем более женщины с других коек все это слышали и смотрели на меня. (Ведь женщинам до всего есть дело, даже до того, что их вовсе не касается.)
А я говорю:
— Танюшка, неужели ты все, положительно все позабыла?
— Нет, — говорит, — я ничего как раз не забыла. Уйди, умоляю тебя. Будь человеком.
— Ну, как хочешь, — говорю. И чувствую, как зло закипает во мне, как тогда, когда я увидел ее с Костюковым. Пусть Костюков и ходит к ней сюда в больницу.
Наташа сперва ни о чем не расспрашивала меня. Только дней пять спустя говорит:
— Надо бы тебе, пожалуй, опять пойти к Татьяне. Или уже выписали ее?
— Не знаю, — говорю. — И не интересуюсь.
— Странно, — говорит Наташа.
— Ничего странного, — говорю, — не вижу. Ну чего я буду к ней ходить? У меня же есть жена…
— Странно, — опять говорит Наташа. И вроде того что еще что-то хочет сказать, но, похоже, стесняется, что ли.
4
В этот вечер я впервые сильно напился и сидя уснул, даже смешно подумать, на площадке у застекленной стены этого самого кафе на пристани, где работает Танюшка. Как уж я попал сюда? — не могу понять.
Разбудили меня под утро дружинники. То да се. Восемь рублей за купанье в казенной ванне в вытрезвителе. Но главное, что я опоздал на смену.
И, кроме того, в автобазу через несколько дней пришло письмо от начальника милиции с укором нашему начальству, что, мол, не ведете должной воспитательной работы среди водительского и прочего состава.
Милицию ведь тоже надо понять. С нее же, как положено, тоже строго спрашивают, что пьяных многовато развелось и что она, милиция, их вроде того что несвоевременно забирает. А что она может сделать? Она же не может каждому влезть в душу. И не в силах разобраться, кто от чего пьет, кто, скажем, от любви, а кто — от глупости, кто от особой чувствительности или, напротив, от недостатка чувств, когда, кроме вина, выходит, нечем занять душу. А с милиции, понятно, спрашивают порядок. Вот она и пишет на предприятия, что, мол, примите меры, усильте, мол, воспитание.
Я и сам еще недавно и неоднократно разбирал такие письма из милиции, когда одно время был профоргом. И никогда не думал, что такое может случиться и со мной.
Вообще я всегда смеялся над этими алкоголиками, которые скидываются по рублю у продуктовых магазинов. И вот, представьте — сам почти что дошел до этого.
Вечером выпью и как будто забудусь, как будто убегу от самого себя. А утром опять еще с большей силой разламывает башку от стыда и тоски. И весь свет не мил.
Больше того вам скажу. В прежнее время я все к чему-то стремился. Хотел чего-то достичь. Например, добивался сдать испытания на шофера первого класса. Хотел, мечтал, как я уже рассказывал, переехать на Дальний Восток. Получил оттуда даже два хороших предложения. А ничего не получилось. Все пошло побоку.
А теперь, если услышу, что какой-то мой знакомый или приятель где-то курсы какие-то закончил, получил какую-то премию или новую должность занял, злоба меня охватывает на такого человека, будто он меня обокрал. Будто все предо мной виноваты, и я всех хочу поскорее и построже наказать.
Иногда теперь я сам пугаюсь этой своей злобы, которая точит исподволь мое сердце. Но освободиться от нее, от этой злобы, уже не могу, как не могу уйти, убежать, уехать от себя лично ни на Дальний Восток, ни куда-либо. Не могу никуда спрятаться от самого себя, вот от такого, с тяжелым свинцового цвета лицом, которое смотрит на меня по утрам из зеркала.
— У тебя нервы расстроены, — сказала Наташа, видя, как я не сплю по всем ночам, как портится у меня характер. И повезла меня в Москву. И не просто в поликлинику, а к частному и, говорят, очень знаменитому врачу-невропатологу, надеясь, что частник уж просмотрит меня со всех сторон и определит окончательно, что делать со мной.
Врач этот оказался женщиной. Угрюмая такая старушка, лет этак хорошо за семьдесят, на длинных, как деревянные, ногах. Она потрогала меня за нос, почертила что-то такое у меня на груди, постучала молоточком по моим коленкам, велела пройтись с закрытыми глазами, потом поглядеть искоса на ее мизинец.
— Ничего, — говорит, — особенного я у вас не нахожу. На бюллетень рассчитывать, по-моему, вы не можете…
— Да не нужен нам никакой бюллетень, — прямо с болью говорит Наташа. — Нам спокойствие только ну ясно в нашей семейной жизни. А его нет…
5
В довершение всего вызывают меня на днях прямо к самому Татаринцеву — после уже трех прогулов.
Поднимаюсь я к нему на шестой этаж. И в лифте вот так нос к носу сталкиваюсь с этим, вроде моим благодетелем, Юрием Ермолаевичем Журченко. И он прямо с ходу начинает мне вроде того что выговаривать в том смысле, что я неправильно живу. И даже указывает на то, что у меня вид помятый, Моя сестра Манюня будто бы плакала, рассказывая ему, до чего я докатился.
— И ведь все из-за бабы, — говорит. — Из-за какой-то, извини меня, официантки. Теряешь даже облик человеческий…
Тут меня немножко взорвало. Думаю, это еще надо поспорить, у кого облик человеческий — у меня или у вас, Юрий Ермолаевич. И я хотел ему тут же это высказать. Но мы уже поднялись на шестой этаж, — и вот он против лифта, вход в приемную и в кабинет с табличкой «Г. В. Татаринцев».
Все-таки Журченко берет меня, как ребенка, за руку, отводит в сторону к окну и продолжает выговаривать уже в том смысле, что я своим поведением навожу некоторую тень и на него, поскольку он связан с нашим семейством. И намекает на свои отношения с моей сестрой Марией Степановной, как он ее называет.
— Подумай, Николай, — говорит он, — женщины, поверь мне, не стоят того, чтобы из-за них доходить до такого состояния. Я, — говорит, — даже не представляю себе…
А я смотрю на стенные часы в коридоре, уже без пятнадцати одиннадцать, а я вызван на десять тридцать. А Журченко все говорит, говорит. И можно подумать, что он правильно говорит. Но мне от этого ни жарко, ни холодно. И даже усиливается моя тоска.
Наконец, не дослушав его, я, ни жив ни мертв, захожу в приемную к Татаринцеву. Ну, думаю, вот он сейчас вытряхнет из меня душу. А Татаринцев, когда секретарша пропускает меня к нему, вылезает из-за стола и так просто говорит:
— Садись, Касаткин, здравствуй. Что это, говорит, я теперь только одно плохое про тебя слышу? Ты ведь был, кажется, на хорошем счету у нас. Намечался даже на Доску почета. Что случилось-то? Рассказывай…
Это же золотой человек и весьма любезный Татаринцев Григорий Валерьянович. Ну я, конечно, запираться не стал. И вот, как вам сейчас, все по порядку изложил ему.
Слушал он меня, не перебивал. Очень, похоже, внимательно слушал. Потом говорит:
— Значит, в армии ты был, а на войне не был? По возрасту, значит, не успел? На снегу, значит, под пулями не лежал? В весеннюю распутицу по грязи не ползал? И бомбежке тоже не подвергался? Нет? Сухари, значит, в снеговых лужах после пожара не размачивал? Нет? Ага, ну ладно. Живешь-то где — в подвале, в сырости? Ах, нет. В отдельной, значит, квартире? Уборная-то где, на улице? Ах, тоже в квартире?
К чему это, думаю, он гнет? При чем тут уборная? А он все расспрашивает, какая жена, чем занимается, хороша ли собой?
Потом говорит:
— Ну, все понятно. Ты дурью мучаешься, Касаткин, с жиру, так сказать, бесишься. Выбрось все это из головы напрочь и займись делом. А то смотри, Касаткин, как бы худо не было. Иди…
Вот так он закруглил нашу беседу. И, может, правильно закруглил. Может, в самом деле все это дурь, что случилось со мной? Ведь и Журченко так думает.
Но непонятно все-таки, почему меня все сильнее, прямо неудержимо тянет на пристань, где с приступок в застекленную стену мне хорошо видно, как Танюшка, уже не очень молодая и теперь отчего-то совсем некрасивая, будто нехотя разносит по столам еду и выпивку?
Я смотрю на нее и жду, долго жду, чтобы она оглянулась на меня. Но она не оглядывается.
А зайти в кафе, даже пьяному, мне не позволяет вроде того что самолюбие.
Однако все равно и все чаще меня тянет сюда.
И даже не сюда, а куда-то назад, в прошлое, в эту мою прошлую вроде того что несчастную и, кто знает, может быть, очень счастливую жизнь.
6
Моя родня во главе с моей мамашей, конечно, считают, что во всем виновата Танюшка, что это она, как они выражаются, змея подколодная, испортила меня. Но это же неверно. И даже обидно мне: выходит, что же — что я слабее слабого? И, может, мне в таком случае уже не выбраться из моего вроде того что безвыходного положения, что я так и завяну на дне бутылки? Но если правда, что в человеке вся кровь меняется, значит, и я обязан на что-то надеяться. И тут же я думаю, что кровь ведь, пожалуй, тоже не сама собой меняется.
И кто знает, может, я еще и поеду на Дальний Восток.
Евгений Носов Красное вино Победы
Весна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.
Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.
После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах, — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.
Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешение снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы; белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки… Белое, белое, белое… Какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель…
Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате был густ и тяжел, и, чтобы хоть как-то его освежить, мы поливали гипсы одеколоном.
Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей, мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасали тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.
— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая госпитальная нянька тетя Зина. — Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!
От этих; каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте…
С тех пор койки их пустовали.
В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны, Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, раненые, — со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.
После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.
Было видно, что теперь все кончится без нас.
В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой, унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт, Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю меня уже тащили в тыл на носилках…
Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, лежавших у медсанбата на подстилках из соснового лапника.
Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с небольшими интервалами. Это была внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.
Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его кострец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.
Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползался незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал извлеченный осколок или пулю в цинковый тазик к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.
Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки, Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.
Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа… Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было, и не было условий, чтобы щадить нас милосердием.
Обработанный солдат какие-то минуты еще остается в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:
— Солдат, а солдат… Солдат, а солдат…
Она произносила это с механической однотонностью, как, наверное, уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежат за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везут сюда, и многим другим, которые в этот час находятся к западу от сосновой рощи, еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю…
— Солдат, а солдат…
Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:
— Унести!
Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.
— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони…
Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посредине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.
Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь, — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.
В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?!», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим! — И, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: — Самосадик я садила, сама вышла прода-а-ва-ать…»
Но все это было еще в январе.
Теперь же наступила весна, мы находились в глубоком тылу, вдалеке от войны.
— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска и зависть.
Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался споро том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло…
— На войне как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — Е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.
Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.
К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.
— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.
— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед, Бородухов.
— Да как-то ни то ни се… Шел-шел и никуда не дошел… Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.
— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать… Под самый конец.
Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала как веревочный гамак.
Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.
Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило, и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств… От ран моих попахивало собственным тленным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание… Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое… Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняло изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще все ликовало, быть может, в это самое мгновение я все еще хохотал над удиравшими танкистами — и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями…
— А ты не балуй на войне, — резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.
Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом».
Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия — гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.
— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.
— Дак какие медали… — слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. — За езду рази дают…
— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?
— Как не видел. За четыре-то года… Повида-а-ал…
— Стрелять-то хоть доводилось?
— Дак и стрелял… А то как же. В окруженье однова попали… Вот как насел немец-то, вот как обложил… Дак и стрелял, куда денешься.
— Убил кого?
— А шут его разберет. Нетто там поймешь… Темень, пальба отовсюдова…
— Небось перепугался?
— Дак и страшно… А то как же.
— Это где ж тебя так разделало?
— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда. Поехали за старшим… Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что… Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было… А тут вот и получилось нескладно…
В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то жизнь.
— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гинуть-то.
Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.
— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях. — Дак где ж ее взять… Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.
Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадочной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.
— Из дому? — спросил Бородухов.
Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.
— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?
Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.
— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.
Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.
— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.
— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — Своими-то глазами лучше.
Косячок развернули и вставили ему в руки.
Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал… Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, написанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».
Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон, на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны.
Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.
Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко остриженный под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.
Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.
— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся… Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.
Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.
В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.
— Чего ему? — поднял голову Бородухов.
Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.
— Спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.
— Солнце вижу… Поле вижу… — не оборачиваясь, ответил Михай.
— Далеко, спрашивает, — переводил я шепот Копешкина.
— Поле? А там… За рекой.
— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?
— Зеленое. Хлеб будет.
Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены, — очистившемуся, синему, высокому — чувствовалось, как там теперь привольно.
— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.
— Дома, люди…
— Девчата ходят?
— Ходят.
— Красивые? — допытывался Самоходка.
Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.
— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?
— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.
— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.
— Эх, братья славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Доскандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!
Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливчиков — Саенко и Бугаев почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонничков, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.
Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.
А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.
Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:
— Нэ надо… Что тебе стоит?
— Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?
— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай… Птица поет. — Михай культей обнимал Таню за плечо и подводил к подоконнику. — Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка!
Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.
Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.
Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов… Но все-таки не верилось, что это и есть конец.
И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого… Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.
От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно — и слух, и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник, Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.
Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер.
А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.
— Спишь?
— Да нет…
— Кажется, Дед приехал.
— Похоже — он.
— Чего бы ему ночью…
По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых случаях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду и благодаря этому получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в общежитие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста. «Чтобы носить эту Звезду, — сказал он ему, — одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.
И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены.
— …выдать все чистое — постель, белье.
— Мы ж тилки змэнилы.
— Все равно сменить, сменить.
— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.
— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.
— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба…
— Потом вот что… Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?
— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.
— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то… День! День-то какой, голубчик вы мой!
— Та яснэ ж дило…
Шаги и голоса отдалились. «Бу-бу-бу-бу…»
Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи… Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время… Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.
Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.
— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.
Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, потерся глазами о правый обрубок руки.
— Михай, победа! — ликовал Саенко.
Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.
— Сашка, проснись!
Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:
— Дубина ты бесчувственная. Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался. Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?
— Это у меня… нога привязана… — сопел Самоходка. — Я бы тебе… вставил, куда надо…
— Бросьте вы, дьяволы! — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.
— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:
Эх, милка моя, Юбка лыковая…Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубном, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.
У меня теперь нога Тоже липовая…За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.
— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!
Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.
Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.
— Это что еще такое? Сейчас же по местам!
Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченного пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили.
— Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети… Бугаев! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.
Таня подсела к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.
— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!
Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он не властен.
Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.
Город тоже не спал.
Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок…
Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежку — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье, — повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.
— Что там, Михай?
— А-ай-ай… — качал головой молдаванин.
— Что?
— Цветы несут… Обнимаются, вижу… Целуются, вижу…
Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.
— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, разглядевшая Михая. — Ох да страдальцы горемычныи-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а…
— Мам, не надо… — долетел взволнованно-тревожный детский голос.
— Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а…
— Ну, не плачь, мам… Мамочка!
— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что…
— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и…
И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой…Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна…Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:
Идет война народна-йя-яя…От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас…
Оркестр смолк, и сразу же, без роздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблуки.
Эх, Гитлер-фашист, Куда топаешь?! До Москвы не дойдешь — Пулю слопаешь!Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.
И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:
Я по карточкам жила Четыре годочка — Ненаглядного ждала Своего дружочка! Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их…Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко звучный, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался.
Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.
Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.
— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.
— Разрешите?..
В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и с каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.
— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?
— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.
— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас… Доверьтесь старому мастеру.
Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестьем по красному верху.
— Это все в наших руках. Пара пустяков… Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящеватом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.
Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.
— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку… Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?
— Как — «чину»? — не понял Михай.
— Сержант? Старшина?
— Нэ-э… — замотал головой Михай.
— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.
— Это ничего… Если правильно рассудить — дело не в чине.
Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким плечам Михая.
— Желаете с орденами?
— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на хранение.
— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?
— Нэ надо… — покраснел Михай, у которого, как мы знали, имелась одна-единственная медаль «За боевые заслуги». — Чужих нэ надо.
— Какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.
— Нет, нэ хочу.
— Скромность тоже украшает. Так… Одну секундочку. Смотреть прошу сюда… Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!
После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.
— «Отечественная», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.
— Пожалуйста, пожалуйста.
— И «Славу» повесь.
— Можно и «Славу». Можно и полного Кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, что Саша все обращает в шутку.
— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка, — как же меня с такой ногой? Койка будет видна.
— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.
Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.
— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.
— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?
— Этого не держим, — улыбнулся старичок.
На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.
Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивается и устраивает перекур.
— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.
— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.
— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?
— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имею благодарности.
— Тоже «в боевой обстановке»?
— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.
На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.
— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.
Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:
— Обойдусь, Скоро сам домой приеду.
— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть прикидывая, какие можно к нему применить декорации и реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.
— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.
— Но, может быть, он желает?
— Ничего он не желает. Не видишь, что ли?
— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его… Что-нибудь придумали б… У меня, знаете, были очень трудные случаи…
— Давай, кончай…
— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много работы. Тула… Владимир… Это все моя зона. Что поделаешь. Нету хороших мастеров, нету… Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец…
Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.
— Трупоед… — сплюнул Бородухов.
Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце.
Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.
Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом, зареванная по случаю праздника, с распухшим носом, тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.
— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие, — концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый… Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои… Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какого супостата одолели, какую юдолю вытерпели. Как вспомню, как вспомню…
Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.
— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтеся на здоровье, уж теперь недолго осталося…
Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.
— Погодьте, погодьте исты!
На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.
— 3 победою вас, товаришчи! — поздравил он усталым, по-детски тонким голоском. — Скильки вас у палата?
— Семеро осталось.
— Ага, точно… Тут вам вид имени администрации… Саенко, распорядысь.
— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.
— Ни, хлопци. Нема часу. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як…
Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности, Видно, это вино досталось ему нелегко.
— Так вы давайте… А то суп охолонет.
— Спасибо.
— Було б за що.
Он ушел.
Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди.
Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, обещали какое-то таинство.
Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.
— Ну что, солдаты… Что задумались? Давайте колыхнем, что ли… — предложил Саенко.
— Да давайте.
— Пусть сперва Михай, — сказал Бородухов.
— Верно, пусть он сперва. А то как же ему…
— Это само собой. — Бугаев взял Михаев стакан. — Ты давай присядь, а то не дотянусь.
Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.
— Ну, браток… за Победу!
— Ага.
— Жаль, нельзя с тобой чокнуться…
По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.
— Ну ничего… поехали.
Мы посмотрели, как Бугаев, наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.
— Во, парень, — удовлетворенно сказал Бугаев. — Это дело. Ничего, наловчишься… — Он вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. — Я одного такого знал, как ты, так он приспособился: зубами брал стакан за край и высасывал все до донышка!..
— Вино пить можно. А как его теперь делать будешь? — Михай тряхнул узлами рукавов. — Вину руки нужны.
— Ничего, браток! Не падай духом. Жинка поможет.
— А-ай-ай… — Михай покачал головой.
— Ну, будет, будет про это… — прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем… Как она дальше пойдет… Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.
Мы выпили.
Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки.
Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.
— Ты ему винца вплесни, — посоветовал Саенко.
— Вы что, смеетесь?
— А что? Пусть солдат разговеется.
— Ему же нельзя.
— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.
— Не говорите глупостей.
— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.
— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным тоном сказал Саша Самоходка.
Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.
— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!
— По дороге потеряешь, — засмеялась Таня.
— Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно охмелел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим… Эх, и хорошо у нас, братцы!
Деревня высоко-высоко, а внизу Волга… Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароход идут, гудки, бакены по вечерам… Михай, поехали?
— Нэ-э, я домой.
— Что у тебя там? Успеешь.
— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори!
— Нет, брат. — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.
— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Нэ пил.
— Квас, знаю.
— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую, — он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду нэ пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?
— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон. — Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами…
— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.
— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.
— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени… А пиво я люблю чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил задумчиво: — Оно, поди, теперь не из чего варить…
Таня кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла.
Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее…
Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири.
Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бутаев — коренной енисейский чалдон.
«Сколько разных мест на земле», — думал я, слушая разговоры.
Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой… Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника.
Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю…
— Тише, ребята… — Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?
Мы насторожились.
— Пить?
Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.
— Утку?
Копешкин поморщился.
Припрыгал Саенко, наклонился над ним.
— Ты чего, друг?
Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.
— Так, так… Ага, понял… — Саенко закивал и перевел нам. — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас… Это где ж такое? А-а, ясно… Пензяк ты. Ну, и что там у вас?
— Хорошо тоже… — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.
— Заладил: хорошо да хорошо… А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?
Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.
Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.
В палате воцарилась тишина.
Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые… И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Где-то там, в неведомом краю, стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина она — центр мироздания.
Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов. Вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде…
Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок.
Потом прошептал:
— Домок, прибавь… У меня домок тут… На дереве…
Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.
Копешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.
Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхал между песнями и надолго задумывался.
Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.
Но Копешкина уже не было…
Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни.
А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.
В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов…
Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили в носилки, накрыли простыней и унесли.
Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.
Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную, праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто… Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился…
Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие… Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт.
— Ох ты, — проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копешкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином.
Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, — такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает… Она теперь тоже знает о Победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется…
Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них…
Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.
— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж… Давайте помянем. Не повезло парню… Как хоть его звали?
— Иваном, — сказал Саша.
— Ну… прости-прощай, брат Иван. — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку. — Вечная тебе память…
Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.
В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.
Альгирдас Поцюс Двое молодых и три старика
Сначала был только один молодой и три старика. Молодой сидел за письменным столом, играл голубым карандашом и, моргая одним глазом, слушал, что ему говорил глухой мельник Друктянис. Мельник был пожилой мужик, на которого господь бог не пожалел глины. У него был большой нос, большие оттопыренные усы, опущенные плечи, а руки — словно почерневшие топоры пудового веса. Говорить с ним было трудно, потому что нужно было кричать во все горло или припасть к самому его левому уху.
— Ты — представитель власти, ты и заботься, — густым, словно из бочки идущим голосом говорил Друктянис. — Отобрали мельницу, а присмотреть за нею не умеете. Скоро будете ручные жернова искать.
Молодой мужик, который совсем недавно после выборов сел на стул председателя сельсовета, перегнулся через стол и выкрикнул:
— Завтра поеду проверять! Не беспокойся, мельница не обрушится!
— Работал бы я, сто лет стояла бы мельница, а сейчас куда ни ткнешь пальцем — там и дыра, — раздраженно пробормотал Друктянис.
Тут в разговор включился другой старик, который сидел подальше от всех, у стены, недалеко от двери.
Это был отец молодого председателя Руткус. Он зашел сюда просто так, без всякого дела, хотел посмотреть на сына, который приступил к исполнению служебного долга. Старик гордился тем, что его отпрыск стал самым важным человеком в округе.
— Чушь порешь, сосед! — сказал старый Руткус. — Какую мельницу ты оставил, такая и стоит. Неужто она могла за этот год сгнить?
Видимо, Друктянис что-то услыхал, потому что он повернулся в его сторону. Мельник не понял смысла слов, но по глазам старика прочитал, что тот сказал что-то недоброжелательное. Друктянис еще больше нахмурился.
— А еще называют себя заступниками бедных и обиженных! — забормотал он. — Вот когда всех превратите в нищих, тогда и будет настоящая власть бедных. Уже видно, что к этому идет.
— Кто ел пирог, тот может и черный хлеб пожевать, — отозвался третий старик, щуплый человечек со взъерошенными усами, — это был почтальон, который принес в Совет округа кучу бумаг и остался здесь послушать разговоры людей.
В этот момент открылась дверь, и в комнату ворвался молодой мужчина в зеленой клетчатой рубашке, с винтовкой в руках. Голубыми испуганными глазами он обвел стариков и остановился на молодом Руткусе. Теперь в комнате были уже все: двое молодых и три старика.
Тому, что у мужчины в зеленой рубашке была винтовка, никто не удивился, потому что в те послевоенные годы многие представители, приезжающие из города, носили с собой оружие. Даже его испуганно бегающие глаза и бледное лицо не вызвали подозрения. Не мудрено, что, проезжая через лес, человек мог испугаться.
— Кто здесь председатель сельсовета? — спросил он вежливо, не спуская глаз с молодого Руткуса.
— Что вам нужно? — спокойно спросил сидящий за столом.
Старики молча смотрели на зеленорубашечника, еще не понимая, что ему нужно.
— Мне нужен новый председатель.
— Я председатель, — ответил молодой Руткус.
Мужчина поднял винтовку.
— За преступную службу коммунистам ты приговорен к смерти.
Никто не успел понять, что происходит, как раздался выстрел, и вся комната запахла порохом. В ушах двух стариков зазвенело, а третий больше по запаху, чем по звуку, понял, что винтовка выстрелила.
Старый Руткус, придя в себя, взглянул на стол и увидел, что голова сына поникла, а на белых бумагах, на которых лежали его руки, начали растекаться кроваво-красные чернила.
— Убийца! — нечеловеческим голосом закричал Руткус и, вскочив, схватил винтовку у мужчины в зеленой рубашке. Парень уже держался одной рукой за ручку двери и хотел бежать. Дернутая им дверь открылась, но он остался в комнате, потому что еще ему нужно было вернуть винтовку, которую старик вырвал из его рук. Сумасшедший старик! И откуда у него взялось столько сил! Своими жилистыми руками, как клещами, он вцепился в винтовку и рвал ее с такой яростью, что молодой мгновенно вспотел. Стиснув зубы, они со стоном кружились по комнате, словно кто-то привязал их друг к другу. Вот старик зацепил стул, споткнулся, но все же успел встать. Впившись глазами в лицо убийцы, белые зубы которого обнажились до самых красных десен, Руткус боролся, как сумасшедший. О себе он совсем не думал, только хотел отомстить за такую бессмысленную и жестокую смерть сына. Конечно, он был намного старше этого парня в зеленой рубашке и, наверно, сил у него было меньше, но выносливостью с ним мало кто мог сравниться. Когда всю жизнь с утра до вечера не выпускаешь из рук плуга, вил или какого-нибудь другого сельскохозяйственного орудия, твои мышцы превращаются в твердый ремень, который не перегрызть и собакам.
В какое-то мгновение молодой почувствовал, что у него больше сил, что нужно только поднапрячься, и старик сдастся. Вот старик споткнулся, его ноги заплелись, а грудь заходила, словно кузнечные мехи. Еще одно мгновение и…
Но того последнего решающего усилия мужчина в зеленой рубашке уже не мог из себя выдавить, ему мешали взгляды двух других стариков, которые, обмерев, торчали в разных углах комнаты. Даст кто-нибудь по голове — и конец. Или еще, чего доброго, появятся новые люди из города. Неуверенность парализовала силы молодого, заставляла его вздрагивать из-за каждого звука.
Почтальон сначала хотел броситься вон, но потом подумал, что во дворе наверняка мужика в клетчатой рубашке поджидают дружки и лучше сидеть здесь в углу и ожидать, чем это все кончится, Руткуса ему было жалко. Хороший он, незлой человек и сосед хороший. Ему надо было бы помочь. Если бы они оба вцепились в винтовку, то мужчина в зеленой рубашке не выдержал бы. Но что будет после этого? Ночью придут лесные и застрелят всех, как куропаток. Перед его глазами возникли лежащие на скользком от крови полу жена и дети. Нет, он не мог соваться в это дело. Если поможет бог, то Руткус и сам справится.
Мельник Друктянис вместе со своим стулом подвинулся ближе к стене. На поединок он смотрел спокойно и без опаски, словно перед ним в шутку сошлись бороться двое парней. Старику Руткусу он не хотел помогать, потому что ненавидел тех, кто был на стороне красных. Если все они найдут свой конец, может, Друктянис снова станет хозяином мельницы. И зеленорубашечнику тоже не стоит помогать. Там, в другом углу, наделав полные штаны, глазеет почтальон… Да, может, еще кто-нибудь из деревенских зайдет да властям сообщит. «Спешить некуда, посмотрю, чем все это кончится!»
Дверь во двор была открыта, были видны освещенная летним солнцем трава и угол развалившегося забора. Зеленорубашечнику казалось, что во дворе ему будет легче бороться, там он быстро вырвет у старика винтовку и удерет в лес. Возвращаться без оружия было позором перед всем отрядом. Кто бы мог подумать, что какой-то старик начнет драться? Этого не предвидел и Перкунас, который послал новичка на выполнение первого серьезного задания. Да еще сказал, что это будет легкая прогулка.
Молодой, вцепившись в винтовку, начал тянуть Руткуса во двор. Старик сначала сопротивлялся, но потом сдался. Ему тоже казалось, что во дворе будет легче вырвать оружие. Ступив на твердую землю, человек чувствует себя увереннее.
Сцепившись, они оба упали на дорожку и дрались еще более яростно. Не выпуская оружия, которое связало их смертельной петлей, они дрались коленками и локтями. Зеленорубашечнику было труднее, потому что он не чувствовал той ярости, которая переполняла старика. Никогда этот человек не встречался на его пути.
Вряд ли он даже когда-нибудь видел это обросшее седой щетиной лицо. Парень уже жалел, что хвастался в отряде, что, мол, один может прийти в деревню и справиться с новым председателем сельсовета. Правда, тогда он был выпивши, и Перкунас должен был пропустить его болтовню мимо ушей. Мало что болтают пьяные! Но Перкунас нарочно поймал его на слове. «Это будет твоим боевым крещением», — сказал он, выпуская его из бункера.
Драться со стариком — вот так испытание!.. Где-то начала лаять собака. Страх охватил его. Наконец зеленорубашечник не выдержал, выпустил винтовку и пустился бежать. Ноги его подкашивались, подгибались в коленях, задевали за каждый бугорок земли. Скорее бы в лес! А старик Руткус еще не понял, что он победил. Он тяжело поднялся с земли. У него кружилась голова, бешено колотилось сердце. Словно сквозь туман он видел, как зеленорубашечник, втянув голову в плечи и спотыкаясь, бежит через загон. Старик поднял винтовку и в прицел посмотрел на спину бегущего. Потом спустил курок. Парень взмахнул руками, пробежал еще несколько шагов и упал лицом в траву. Некоторое время Руткус смотрел на него, лежащего среди цветущего поля картошки. Он все ждал, может быть, подстреленный встанет, потом бросил винтовку и, рыдая, упал у забора.
Во двор сельсовета несмело выползли почтальон и мельник. Они оба остановились около плачущего соседа и молча смотрели, как трясется его седая голова и вздрагивают вспотевшие, намокшие плечи. Молодых уже не было, остались только они — трое стариков.
Перевод с литовского Е. Ветровой
Валентин Распутин Уроки французского
Анастасии Прокопьевне Копыловой
Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что стало с нами после.
Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.
Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.
Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.
И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:
— Башковитый у тебя парень растет. Ты это… давай учи его. Грамота зря не пропадет.
И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.
Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.
С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую.
Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, — я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.
— Собирайся, — потребовала она, когда я подошел. — Хватит, отучился, поедем домой.
Я опомнился и убежал.
Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне посылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется много, хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.
Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.
Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:
— Ты в «чику» играть не боишься?
— В какую «чику»? — не понял я.
— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.
— Нету.
— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.
Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.
— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.
— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.
— Играть будешь? — спросил меня Вадик.
— Денег нету.
— Гляди, не вякни кому, что мы здесь.
— Вот еще! — обиделся я.
Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея, в основном, за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.
Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важней всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.
Вадик хитрил. Он шел к валуну, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.
Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.
Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письма по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять пол-литровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.
Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.
В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.
И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.
Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогодья слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей полянке, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.
Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг как снег на голову свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.
Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — все равно тянет. Вызовут молчит.
— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.
Он шлепал своими глазенками:
— Я помнил, а пока вставал, забыл.
Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.
Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.
А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.
Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.
Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:
— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.
— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.
— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.
А Птаха подпел:
— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?
Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.
Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.
— Не в склад! — объявил Вадик.
Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он и не стал бы ее закрывать.
— Ты перевернул ее, — сказал я. — Она была на орле, я видел.
Он сунул мне под нос кулак.
— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.
Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно; если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.
Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет, — решил я. — Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.
За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:
— Чего-о ты?
— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он. — Приснилось, что ли?
— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?
— Давай сюда! — потребовал Вадик.
— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я видел, что перевернул. Видел.
— Ну-ка повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.
— Ты перевернул ее, — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.
Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же:
— Перевернул! Перевернул! Перевернул!
Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.
— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. — Быстро!
Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим носом, поплелся в гору.
— Только вякни кому — убьем! — пообещал мне вслед Вадик.
Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь поселок:
— Переверну-у-ул!
За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.
Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.
Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.
Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.
— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.
Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.
— И что случилось? — спросила она.
— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.
— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?
— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.
— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.
Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность — нечего сказать.
— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. — Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.
Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил — разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» — «Что меня побудило?» — «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».
Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.
Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.
А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу… Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.
После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.
— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:
— Правда.
— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?
Я замялся, не зная, что лучше.
— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?
— Вы… выигрываю.
— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?
В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.
— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?
— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.
— И больше не играешь?
— Нет.
— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?
— Покупаю молоко.
— Молоко?
Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?
Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обутку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.
— И все-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?
Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:
— Можно.
Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.
Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карманы и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.
В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.
В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.
Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навыпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.
Первым встретил меня Птаха.
— Чего пришел? Давно не били?
— Играть пришел, — как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.
— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?
— Никто.
— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?
— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик. — Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?
— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться трусом, сказал я.
— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.
— Дать ему, Вадик?
— Не надо, пусть играет. — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.
Теперь я был ученый и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться, рядом с ним Птаха.
Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать — тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.
Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.
— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.
Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «beaucoup» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали, что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.
Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.
Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, что она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.
Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное, чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.
Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем; по голосу, по походке — мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.
Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, — настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.
Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки, к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.
Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, — какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!
Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.
Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.
И вдруг я поперхнулся. Макароны… Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.
Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.
Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:
— Что это? Что такое ты принес? Зачем?
— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.
— Что я сделала? О чем ты?
— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.
Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.
— Почему ты решил, что это я?
— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.
— Как! Совсем не бывает?! — она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.
— Совсем не бывает. Знать надо было.
Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.
— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?
— Горох бывает. Редька бывает.
— Горох… редька… А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. — Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. — Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми…
— Не возьму, — перебил я ее.
— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь, А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной… Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.
— Я совсем не голодаю.
— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Столько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.
Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.
Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.
— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей — обязательно.
О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, — я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь и шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.
Она сделала еще попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.
Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне… Я бы сам, сам…
Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:
— Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонку да поигрываете?
— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.
— А что это была за игра? В чем она заключается?
— Зачем вам? — насторожился я.
— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.
— Чего мне бояться?!
Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.
— Нет, — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?
— Нет.
— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монетку в руку, — бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь, — значит, выиграл. Бей.
Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.
— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?
— Чего тут непонятного?
— Сыграем?
Я не поверил своим ушам:
— Как же я с вами буду играть?
— А что такое?
— Вы же учительница!
— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя. — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. — Иной раз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому. — Она встряхнулась и сразу повеселела. — А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».
— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.
— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.
Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.
— Ну, что — попробуем? Не понравится — бросим.
— Давайте, — нерешительно согласился я.
— Начинай.
Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену — ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы мы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.
— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.
— Но тогда это будет игра на деньги, — несмело напомнил я.
— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.
Я молчал, не зная, что делать и как быть.
— Неужели боишься? — подзадорила меня Лидия Михайловна.
— Вот еще! Ничего я не боюсь.
У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что — не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.
Мне пришлось принять одно условие: поскольку, рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.
Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, — вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой на нее прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор, позор и стыд на всю жизнь.
И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, — там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотянулся без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.
— Нет, — заявил я, — так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.
— Но я действительно не могу их достать, — стала отказываться она. — У меня пальцы какие-то деревянные.
— Можете.
— Хорошо, хорошо, я буду стараться.
Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.
— Что вы делаете? — возмутился я.
— Я? А что я делаю?
— Зачем вы ее подвинули?
— Да нет же, она тут и лежала, — самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.
Вот это да! Учительница называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.
В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех ее секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.
И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба.
Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.
Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказаться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня.
Знать бы нам, чем это все кончится…
…Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.
— Пойми ты, голова садовая, — наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».
— «Чика» не считово.
— Почему это не считово?
— У вас тоже была «чика».
Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:
— Лидия Михайловна!
Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.
— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?
Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:
— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.
— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? — объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор…
— Играем в «пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.
— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником?! Я правильно вас понял?
— Правильно…
— Ну, знаете… — Директор задыхался, ему не хватало воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Совращение. И еще, еще… Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое…
И он воздел над головой руки.
Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.
— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись, — она потрепала меня по голове и ушла.
И больше я ее никогда не видел.
Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.
Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.
Александр Рекемчук Старое русло Клязьмы
1
С тех пор как до Хрюнина пошла электричка, и у воды, у леса нагородили фанерных щитов со словами «зона отдыха», а на том берегу водохранилища выстроили пансионат, — стало это место очень людным и модным.
И хотя Порфирьевы накинули к прежнему тридцатку за сезон, все равно им от дачников не было отбоя. Но пустили они опять прежних, тех, что жили и в прошлое лето и в запрошлые лета. Как-то привыкли к ним, и обижать людей не хотелось — ведь и те, в свою очередь, никогда и ничем не обижали хозяев.
Две семьи.
Первая — Зинченки, семеро, из них трое детей, две бабки, жена-врачиха, а сам работает в министерстве, и, похоже, не последний он там человек, потому что каждое утро за ним приезжает в деревню служебная машина, а вечером привозит обратно, туда-сюда шестьдесят километров. Мужчина, однако, не гордый. Под выходные надевает обноски, резиновые сапоги, нароет червей на помойке, схватит удочки — и на берег. Сутками сидит, глядит на свои поплавки. Ничего, конечно, не поймает, ну, разве дурачок-окунишка прицепится или же ерш сопливый, про которого в шутку говорят, что из него одного семь ведер ухи сварить можно. И все равно, как идет рыбак домой — лицо довольное, прямо-таки расплывается от блаженства, отдохнул человек, подышал свежим воздухом. А ведь когда намедни прикатил из Москвы — весь был серый, и глаза, как у волка, злы.
Детвора с утра до ночи не вылезает из воды, купается. Бабки — одна мужнина мать, другая женина — малость погрызутся на кухне, потому что одна у них портативная газовая плитка на двоих, да вместе и потопают в лес по грибы: грибов в лесу много, хотя теперь там и зона отдыха, играют оркестры, торгуют буфеты, и натоптано там, и намусорено, и нагажено, а грибов пропасть — особенно шампиньонов, ведь они даже любят, где мусорно.
Врачиха — той не видно и не слышно: все спит. Знает, что полезно.
Еще с ними собачонка Джина, такса кривоногая.
Словом, большая семья. Занимают две комнаты и левую веранду.
В третьей комнате, куда вход через правую веранду — там другая семья. Он да она, муж с женой, пожилые уже. Фамилия трудная — четвертый год здесь живут, а никто не может ни запомнить, ни выговорить — звать же Григорий Аронович и Мира Львовна. Где работают — тоже никто не знает. Она едет электричкой в восемь десять, а он и того раньше, в шесть пятьдесят. Причем по дороге на станцию он, этот Григорий Аронович, делает зарядку: на ходу подопрет бока и запрыгает, потом пробежит три шага да присядет, замашет руками, как мельница. Он ведь при этом думает, что его не видят — в такую рань еще никто из дачников в Москву не ездит. Но все хрюнинские бабы, которые к этой поре давно повыгоняли в стадо коров, они про это уже знают и, что ни утро, стоят за своими заборами и подыхают со смеху, глядя на эти прыжки да на присядки. А и правда, чего бывает смешнее: идет человек по дороге — и в годах уже, и в шляпе — и вдруг заскачет, затанцует, руки в бока.
Рыбу он, Григорий Аронович, не ловит, по грибы не ходит. Только вечером сядет на берегу, откуда хорошо видно, как заходит солнце, и смотрит-смотрит…
Самим же хозяевам — всего их пятеро — пришлось, конечно, потесниться.
В доме осталась несданной одна лишь комната, боковушка, в которой жила баба Нюра, вдовствующая с тридцатого года. Она к себе в боковушку и своих-то не больно пускает, не то, что чужих. Там у нее опрятно и чисто, лежат на полу самой же плетенные половики, а весь красный угол увешан иконами в бумажных цветках, горит лампада. Баба Нюра всерьез богомольная, каждое воскресенье ездит в Троице-Сергиеву лавру.
Она, баба Нюра, приходится не матерью, а тещей хозяину, Матвеичу. И он сам не Порфирьев, а Родькин. И жена его, Кланя, бабы Нюры дочка, с тех пор, как в войну она расписалась с Матвеичем, тоже стала Родькина. Но никто в деревне этой фамилии не признает, зовут по-старому — по двору, по усадьбе, по бабкиному покойному мужу — Порфирьевы. Прилепилось. И Матвеича запросто кличут в деревне Порфирьевым. Только на работе, на заводе, он опять Родькин. Матвеич на это, впрочем, не обижается, потому что он — примак, влазень, вошел женитьбой в чужой дом, в чужую деревню.
Годов им с Кланей поровну, по сорок семь. Летом, когда въехали дачники, они перебрались на чердак.
Матвеич с Кланей тоже родили дочку, Раису, одну-единственную, как и сама Кланя у бабы Нюры. Раисе девятнадцать, она уже год как замужем за Витькой Баландиным, из Тетерина, что на том берегу водохранилища, невдали. Витька тоже пошел примаком в большое порфирьевское хозяйство. Раиса теперь беременная, на седьмом месяце. Они с Витькой вселились на лето в неотапливаемый флигелек.
Короче говоря, каждый нашел свое место, свою крышу, никому не было худа — ни хозяевам, ни постояльцам.
Так бы и осталось до конца августа, когда съезжают дачники, если бы не одна непредвиденность.
Теплым вечером в Хрюнино прикатил красный «Запорожец», новой модели, очень потешный в своем стремлении походить на взаправдашний богатый автомобиль.
За рулем сидела барышня, рядом с ней другая, обе в легких сарафанчиках. Одна беленькая, другая черненькая — да, видно, обе крашеные.
Они вылезли из машины и пошли по дворам. Ходили-ходили. Добрались до Порфирьевской калитки.
— Здравствуйте, — напали они, когда Матвеич и Кланя вышли им навстречу. — Можно видеть хозяев?
— Мы будем хозяева, — ответил Матвеич.
— Здравствуйте, — еще раз приветливо сказала черненькая, та, что сидела за рулем. — Мы насчет дачи.
— Поздненько хватились. Некуда.
Видно, и в других дворах был им от ворот поворот. Везде полный комплект.
— Нет-нет, — поспешила вмешаться беленькая. — Нам комнаты не нужно. Мы только хотим поставить палатку.
— И-и, забота, — рассмеялся Матвеич и указал на берег водохранилища. — Кто мешает? Вон, ставьте и живите. Там все палатки ставят, с машинами тоже…
Черненькая досадливо махнула рукой:
— Ну, это мы могли бы сделать и без вашего совета. Поймите, нам нужно, чтобы палатка была под присмотром. Ведь мы ездим на работу. Мы инженеры. Отпуска у нас только осенью, а лето пропадает — жалко ведь… Хочется пожить на природе.
— Это конечно, — согласился Матвеич. — Места тут хорошие.
— Чудесные, — от сердца похвалила беленькая.
Вот, значит, как: инженеры. А поглядеть — вертихвостки. Может, врут? Так нет — машина своя, документ вроде.
Матвеич переглянулся с женой.
Те этот взгляд перехватили и, не будь дуры, сразу быка за рога:
— Мы будем платить по двадцать рублей в месяц, — сказала черненькая. Чуть помявшись, добавила: — И по литру спирта.
От этих последних слов у Матвеича приятно защекотало в животе, хотя он тут же смикитил, что спирт будет ворованный, из какой-нибудь лаборатории. Однако и это было косвенным подтверждением, что девки не врут — инженеры, с производства.
Литр спирта — стало быть, это четыре поллитры водки. Двенадцать рублей. Да еще двадцать — тридцать два. Тридцать два на три… девяносто шесть. Чуть меньше ста. Деньги.
Отчего же соседи не пустили? Сапрыкины, Чижова Манька… Или меньше давали?
— Да вы не думайте — думать вредно, — настаивала беленькая. — Ну, что, вам места во дворе жалко?
Нахальные, все же, девки.
Места Матвеичу не было жалко. Во дворе еще хватало места. Хоть и не голо там: картошка посажена, огурцы, лук высеян. А что не занято огородом, то — сад. Всего тридцать соток.
Однако этой весной Матвеич предпринял нехитрую операцию, какую уже проделывал не первый раз. За одну ночь они с Витькой сняли задний, выходящий к берегу, забор, вырыли новые ямы и перенесли этот забор сажени на две. С боков тогда же, ночью, заделали. Никто ничего не заметил. А землицы, между тем, прибыло, если прикинуть по всей длине забора. И туда Матвеич намеревался осенью передвинуть сарай, чтобы освободить другой угол двора, где в будущем он наметил строить зимний дом для молодых, для Раисы с Витькой и для их приплода.
Так что место было. И много ли надо места, чтобы поставить палатку?
Его иное смущало сейчас.
Он подумал, как посмотрят на это прибавление старые дачники — Зинченки и Григорий Аронович с Мирой Львовной. Не обидятся ли? Может, им такое соседство окажется не по нраву: вот эти лахудры крашеные. Начнут к себе мужиков возить на машине, а тут, понимаешь, дети…
И с уборной выйдет затруднение. Днем-то скворешня эта стоит пуста, а вот утром, когда все — и дачники, и хозяева — все спешат на работу, к поездам, тут порой случается заминка.
Ну, да ничего: двумя больше, двумя меньше… У других вон, у Серёни да Маньки Чижовых, еще больше напихано дачников — целых три семьи. И не ропщут.
— Все колеблетесь? — весело рассмеялась беленькая. — Повальный гамлетизм.
Матвеич посмотрел на жену. Она-то как? Но Кланя стояла рядом в полном безразличии, полагаясь на мужнино решение. Она у него была безмолвная.
А деньги на земле не валяются, от денег отказываться грех. К тому же в душе Матвеича зародилось вдруг некое тщеславие: две машины будут подъезжать к его воротам. Та, что Зинченку возит, и еще эта — красный «Запорожец». Ни в каком дворе Хрюнина еще не бывало, чтобы сразу две машины.
— Ладно, — сказал он, почесав затылок. — Ставьте палатку. Деньги за месяц вперед.
2
Витька Баландин поспел на четыре пятнадцать. И слава богу, потому что вслед за этим пойдут уже прямые московские поезда, куда и не всунешься — пятница. Так и будут до самой ночи одна за другой катить электрички на Хрюнино, битком набитые праздной публикой: туристы с непосильными рюкзаками, рыболовы в полном снаряжении и с надеждой на лицах, дачники с авоськами и просто чепуховые ребята с гитарами на шнурах…
А сейчас вагоны еще полупусты. Едут из Мытищей, садятся по дороге отработавшие смену люди. Ударники производства. Вроде него, Витьки.
Он ведь и на самом деле ударник производства, Витька Баландин. Работает на заводе, а на каком — нельзя, молчок. Специальность — тоже не ваше дело. Он на этом заводе начал работать еще до армии, дальше призвали на действительную, отслужил, а где — нельзя, молчок. А потом опять на тот же завод. Разряд четвертый, сто двадцать в месяц, год рождения сорок пятый, женатый — это вам, пожалуйста, полная анкета, скрывать тут нечего, подписки не давал.
На Витьке брюки-клеш, нейлоновая белая рубашка, мокасины «Цебо». И черные очки. Ростом он вышел, плечами культурист, нос, рот — все на месте.
И ты там, слева, на скамейке, — не косись, не косись, девочка, фабричная девчонка. Не надо. Давно уж это замечено. И что ты всякий раз норовишь в тот же вагон сесть — тоже известно. Только зря все это. И не жди, что подойду, мол, сколько времени, где живете, как звать. Потому что был уже один такой случай, тоже с девчонкой фабричной: косилась-косилась, а там и он с хорошего настроения покосился, подошел, сколько времени, как звать, где живете, не желаете ли вечером на танцы — и вот уж он, Витька, не до Тетерина ездит, а до Хрюнина, и стал он вдруг, по мнению деревни, не Баландин, а Порфирьев, а та, что косилась, тоненькая такая, нынче с пузом — во, И всего-то он, Витька, выгадал, что от завода до Хрюнина ездить электричкой пятнадцать минут, а до Тетерина — еще двадцать речным трамваем.
Так что не косись, попутчица. Окольцованный уже.
Не косись. Слезай, приехали. Хрюнино.
На платформе Витька столкнулся с Чижовым Серёней. Оказывается, Серёня ехал в соседнем вагоне. Он садился в электричку остановкой позже. На другом заводе работает. Тоже хрюнинский житель, Серёня, соседний дом.
— С получкой? — спросил Серёня.
— С получкой.
А самого Серёню насчет получки Витька и спрашивать не стал. Потому что сразу видно: с получкой Серёня. И видно, и по запаху слышно. Когда успел?
— Зайдем, — предложил Серёня.
— Ну, зайдем, — согласился Витька.
Вообще-то ему не хотелось заходить: день выдался уж очень жаркий. Вся рубаха мокрая. Лучше бы искупаться сперва. И получку верней бы сперва отдать Раисе, а потом из той получки выпросить.
Однако нельзя отказываться, если товарищ приглашает, друг-приятель, сосед через забор. К тому же с получки — святое дело.
У платформы ларек. Хитрый домик. Целый день закрыт, а как люди на работу едут и с работы — открывается, милости просим. Стоит очередь: желающие — при деньгах, и сочувствующие — без денег. Ванька Ядрин, хрюнинский пастух, прибежал запыханный, три версты отмахал, стадо в лесу бросил — его пустили без очереди, потому что Ваньке еще и обратно бежать три версты.
Серёня и Витька выпили по сто, закусили плавленым сырком. А еще бутылку взяли с собой.
И потопали к деревне.
Я люблю тебя, жи-и-изнь, Что само по себе… —дорогой запел Серёня, была у него такая слабость: петь, когда выпьет. И громко поет, вся деревня знает, когда Серёня выпивши. Но голос, между прочим, у него хороший, смолоду, когда еще на Маньке не женился, в самодеятельности выступал.
Вот и о-окна зажглись, Я ш-шагаю с работы…Перво-наперво была услышана эта песня во двора Нюшки Крайней. В Хрюнине Нюрок да Нюшек — полдеревни, потому их различают по прозвищам. И вот эта Нюшка звалась Нюшкой Крайней, потому что дом ее самый крайний, когда идешь от станции. И, само собой, пение Серёни было тут услышано раньше всего.
Услыхал его Тимофей Акимович, Нюшки Крайней муж, который с прошлого года жил по инвалидности: ему на лесопилке оттяпало три пальца циркулярной пилой. И он теперь получал пенсию, маленькую, однако, за три пальца большой не схлопочешь. С тех пор Нюшка Крайняя взяла над ним строгую власть, пить не давала нисколько, на питье зарабатывать надо, а он не зарабатывал, нещадно эксплуатировала его по хозяйству. У них корова была, очень породистая высокоудойная корова, едва ли не половина всех хрюнинских дачников питалась парным молоком от этой коровы. И Нюшка с Тимофеем изо всех сил трудились на эту корову. Вечерами Тимофей Акимович тщательно окашивал зону отдыха, и вдоль берега, и на горке, где стояли деревянные, ярко раскрашенные грибки, и на лесных опушках, и в самом лесу. Когда совсем стемнеет, привозил траву домой на тележке. Тут же и сушили.
А в данный момент сено складывали под крышу. Сама Нюшка Крайняя стояла на чердаке, а Тимофей Акимович подавал ей на вилах. Чердак был высоко, и ему еще приходилось взбираться ступеньки на две по лесенке, прислоненной к стене.
— Чего там? — закричала мужу Нюшка Крайняя, ожидая новой подачи.
Но Тимофей Акимович, услыхав знакомое Серёнино пение, прекратил подачу и смотрел сквозь решетчатую ограду на приближающихся. Он знал, что у них Сегодня получка. Догадался, с чем идут ребята.
А веселый Серёня, для пущего куража, вытащил из кармана поллитру и стал ею приветственно крутить в воздухе.
Тимофей Акимович замер, как лягавая на стойке.
— Ну, чего там?.. — сердилась наверху Нюшка.
— Составляй компанию, Акимыч! — заглянув через забор, предложил Серёня.
Он был добрый, Серёня, любил компанию. И жалел Акимыча, который теперь сидел на пенсии. И еще, по правде сказать, Серёне не хотелось идти домой. Он еще не настолько был пьян, чтобы не бояться своей Маньки. И еще не такой он был пьяный, чтобы Манька сама его забоялась. Поэтому он правильно сообразил, что лучше всего раздавить эту поллитру в крайнем дворе, во дворе Нюшки Крайней, с Акимычем.
— Вы что там, а?.. — почуяв недоброе, высунулась с чердака Нюшка.
Но было уже поздно.
Тимофей Акимович быстро убрал деревянную лестницу, положил ее наземь.
Теперь хозяйке было не слезть.
— Я сейчас, ребятки, — засуетился он. — Я сейчас. Стаканчики…
И скрылся в доме.
— Тимофей! Немедля поставь лестницу… — приказала Нюшка, не видя, что он исчез.
— Здравствуйте, Анна Степановна, — поклонился ей в пояс Серёня. — Как поживаете? На зиму сенцем уже обеспечены?
Нюшка Крайняя нагнулась, стала шарить, искать, чем бы запустить. Да не нашла.
— А вам оттудова, Анна Степановна, Москву не видать? Телебашню хотя бы?
— Ух, гад… — остервенела Нюшка.
А из дому на рысях выбежал Тимофей Акимович.
— Вот, ребятки. Стаканчики… Погодите, я сейчас.
И кинулся к ближней грядке. Зашуровал куцепалой рукой в ботве. Вернулся, держа горстку крохотных огурцов, колючих, с еще не отсохшими желтыми цветочками на рыльцах.
— Вот, закусочка, — сказал он, избегая смотреть на чердак.
Серёня сдернул печать и торжественно налил в три стакана.
Нюшка разразилась сверху страшным для ушей, замысловатым, отборным, тягучим, как надгробное причитание, коренным хрюнинским матом.
— За ваше здоровье, Анна Степановна! — сказал Серёня. — Будьте здоровы.
Они все трое чокнулись стаканами.
— Тимофей, а Тимофей… — вдруг ласково и тихо позвала Нюшка. — Поставь лестницу. Я вам яичек принесу, у меня сварены…
Они выпили.
Я люблю тебя, жизнь, Что само по себе…—снова затянул Серёня.
— Б-р-р-р… — замотал головой Акимыч, вслушиваясь в себя, — хорошо пошла!
Хорошо тут было, в тенечке, под яблоней с уже осыпанной завязями ветками.
— А тебе, Витька, будет дома, — мстительно сообщила Нюшка. — Скандал будет.
— Какой еще скандал?
— А такой. Ты у бабы Нюры икону своровал? Образ… Своровал. Уже с утра было крику. И зачем — тоже известно: дачнице своей поднес, что в палатке живет… Ластишься к ней? Ну, погоди. Райка уж про это знает.
Серёня ободряюще подмигнул Витьке. Не боись, мол. Ну, попадет маленько. Так и мне того не миновать. А уж Тимофею — ему будет полная кара.
— И на кой бы ей, прости господи, лярве эдакой, образ божий? — не унималась под крышей Нюшка.
— Вы, тетя Нюша, не очень-то… — обиделся и вспыхнул Витька. — Язык не распускайте.
— А ты мне как смеешь указывать? Я на своем дворе или на твоем? На своем дворе, в своем доме. Что хочу — то и скажу!
— Ты пока не в доме, а на крыше сидишь, Анна Степановна, — уточнил Серёня. — Вроде как птица. Ну, покаркай…
— Тимофей! — заорала Нюшка. — Ставь лестницу — я вас всех сейчас…
— Давайте, ребятки, давайте. Скоренько… — заторопил обреченный хозяин.
Они разлили все, что осталось, выпили.
— Осрамил святую икону, грех-то какой взял, — заметив, что водке конец и теперь воевать уже не из-за чего, укорила напоследок Витьку Нюшка Крайняя. — Будет тебе от бога наказание.
Витька отмахнулся лениво.
— Ладно вам… Все это, тетя Нюша, вранье. Пережитки у вас.
— А ты не скажи, — заступился вдруг за жену Тимофей Акимович. Он тоже уяснил для себя, что водке конец, и к нему вернулась некоторая степенность, рассудительность. — Не скажи, Витек… Вот случилась со мной такая история.
У Витьки и Серёни сразу сделались скучные лица. Потому что они эту историю знали наизусть, сто раз слыхивали, если не двести. За всеми пьяными хрюнинскими столами Тимофей Акимович обязательно излагал эту историю. Всей деревне надоело. Им тоже…
Но, разомлев от жары и водки, они оба разнежились тут, в тени, под яблоней, и встать на ноги, уйти — просто не было сил. Оставалось слушать.
— Вот какая была история… Воевал я в сорок пятом около Берлина. Уж под самый конец войны. Взяли мы там городишко — Франкфурт-на-Одере. Маленький городишко, но красивый. Кирка там была одна очень красивая — церковь. Захожу я туда, просто так, взглянуть… Поднял голову — ахнул: купол до того высокий, что даже страшно. До самого неба. А под куполом голуби порхают, вертятся…
Тимофей Акимович прервал свой рассказ, оглянулся. Его напугала зловещая тишина — там, под крышей дома. Но в чердачном проеме, вместо злого лица Нюшки, теперь был виден ее же мирный зад. Нюшка, намаявшись работой да накричавшись, заснула в мягком сене. Она эту историю, поди, тоже слыхала раз тысячу.
— Да, — продолжил успокоенно Тимофей Акимович. — Голуби… И дернуло же меня что под руку. Вскинул я автомат, прицелился туда, вверх, выстрелил — в птицу хотел попасть. И на кой она мне была?.. Просто побаловаться захотелось, ведь парнишкой совсем воевал, девятнадцати лет… Не попал я в голубя, в купол попал. Засмеялся сам над собой и ушел. А на другой день…
Он значительно поднял палец: вот тут-то, мол, и будет самое главное.
— На другой день потерял я автомат. Хрен его знает, как потерял: был под рукой — и нету… Спер кто? А зачем — у каждого свой был. Немцы украли? Так ведь знали уже, что капут, присмирели… Только нету моего автомата. Ну, доложил начальству. Посадили меня на губу. Потом трибунал: за утерю оружия. Лишение всех наград и — срок. Прямо из Франкфурта повезли в Воркуту. А теперь смекай, Витя, с чего началось это: захожу я в кирку…
Витька испугался, что сейчас Тимофей Акимович начнет историю опять сначала. Как про белого бычка. И заметил, отчего рассказчик обращался теперь к нему лично, к Витьке.
Оказывается, Серёня уже спал, блаженно раскинув руки.
— Так что ты не скажи, Витя… — вернул свою притчу к первопричине Тимофей Акимович.
Но тут же сам не совладал с зевком, обмяк, припал на травку.
А Витька с трудом поднялся на ноги, отворил калитку и поплелся домой.
На крыльце Порфирьевского дома околачивалась баба Нюра. Она еще издали пронзила Витьку недобрым глазом и скрылась в своей боковушке.
Раиса сидела во флигелечке, на топчане. С надутым пузом. И лицо у нее было надутое.
Он ей протянул получку. Раиса взяла, перемусолила все трояки да пятерки, спрятала в стол. Ничего ему не сказала. Витька повалился спать.
3
Проспал он до самого вечера. Уже садилось солнце — туда, за водохранилище, за лес, прямо на Шереметьевский аэродром. А ведь в эту летнюю пору оно очень поздно садилось. Он ополоснул голову под умывальником, пошел со двора. Проходя мимо большой веранды, услыхал: «…четырнадцать… двадцать семь… дедушка…» — это бабки Зинченки да теща Кланя и, должно быть, Раиса с ними рубились в лото. Каждый вечер одно и то же.
И на улице была обычная картина. Мальчишки гоняли футбол: хрюнинские против московских. Вдоль заборов на скамейках сидели дачники — дышали воздухом. Чуть поодаль, где свалены бревна (Серёня завез, флигель ставить), — там собрались девчонки, завели батарейный магнитофон и пляшут твист: кто во что горазд, руками сучат, ногами дрыгают, приседают, изгибаются, а одна залезла на бревна, на самый верх, и там вертит тощей попкой — изображает «Кавказскую пленницу», — сама в шортах, и добро бы хоть постарше, а то всего девять лет, и ладно бы дачница — так нет, ведь, своя, деревенская, Сапрыкиных дочка.
Отец Сапрыкин невдали был, но не обращал на это никакого внимания. Он у колодца снимал ведро с цепи, как обычно делали по пятницам, чтобы проходящие мимо туристы, рыболовы и прочая шушера не пили из ведра, не лазили в колодец — их тут столько под конец недели ходит, что и всю воду могут запросто выхлебать.
А больше никого из хрюнинских мужиков на улице видно не было. То ли отсыпались, как он сам, то ли уже снова взялись за дело.
Витька поторчал у калитки, искурил «Дымок» и пошел обратно, мимо веранды, мимо флигелька, в задний двор, к задней калитке, туда, где стояла оранжевая палатка — именно туда невзначай повели его ноги.
Однако лаз оранжевой палатки был прикрыт, «Запорожца» тоже не оказалось на месте. Он уж предположил, что дачницы уехали в Москву, и подосадовал в душе на это, как вдруг по ту сторону забора увидел ее.
Алену, ту, которая беленькая.
Она сидела на берегу, на травке, поджав загорелые босые ноги. Но не одна.
С ней рядом сидел Григорий Аронович, дачник, муж Миры Львовны. Хрыч старый.
Витька задышал сердито: еще чего?..
Он распахнул эту заднюю калитку и независимой походкой зашагал к берегу.
Алена первой обернулась на его шаги. Улыбнулась:
— Здравствуйте, Витя.
— Привет, — сказал он.
Старый хрыч тоже обернулся, тоже поздоровался. Но довольно сдержанно.
Так.
— Садитесь, Витя, — пригласила Алена, ладонью похлопав по муравке, с собою рядом. — У нас тут идет экспертиза.
Какая еще экспертиза?
Однако он все же сел. И тут только заметил, что на коленях у старого хрыча, Григория Ароновича, была дареная икона — та, которую он вчера спер у бабы Нюры и подарил дачнице.
— Начнем сначала. С учетом новой аудитории… — сказал Григорий Аронович. — Семнадцатый век. Сюжет довольно распространенный — Сретение Господне. Лики письма изначального. Одежды перемалеваны позже, и весьма неудачно — вот…
Витька покосился на пальцы дачника, блуждающие по иконе, — не касаясь ее, однако.
А чего тут объяснять да рассуждать? Икона как икона. Коричневая вся, охряная. Нарисованы люди какие-то длинные да тощие несуразно. На одном синяя роба, на другой красная… Ну, перемалевано так перемалевано. Велика забота.
Дело-то как было? Третьего дня Витька беседовал с дачницами из палатки — вот тут же, на бережку. Насчет автомобилей был разговор, насчет погоды, то да се, ля-ля в общем. И тогда Надя, черненькая дачница — не эта, Алена, а другая, Надя, — именно она говорит: «Послушайте, Виктор, нет ли тут у вас, в деревне, старых икон?» — «Навалом», — отвечает Витька. — «А вы нам достаньте», — говорит Надя. Витька, по правде говоря, удивился такой блажи. «А на кой вам?» — спрашивает. — «Надо», — отвечает черненькая. — «Навряд… — пожал он плечами. — Обещать не могу». — «Достаньте, Витя», — попросила беленькая, Алена. И улыбнулась ему. Как вот только что.
А это уж иной разговор. Тут Витька не стал отнекиваться. Он просто-напросто выждал, покуда баба Нюра отлучится из своей боковушки — собаку кормить, — зашел, снял со стены первую попавшуюся под руку икону, сунул ее за пазуху и понес в палатку. И там вручил ее Алене. «Ого!» — сказала Надя. Позавидовала.
Вот как было. Всего и делов. И надо же, чтобы из-за такого пустяка на всю деревню шум.
А тут еще этот, старый хрыч, разводит турусы на колесах. Экспертиза. Знаем мы эти экспертизы…
— Скажу вам откровенно, Елена Владимировна, — продолжал дачник. — Если так, ради моды — что ж, можете хвастаться перед знакомыми: да, семнадцатый век. А если всерьез, то никакой художественной ценности эта доска не имеет. Грошовая икона, серийная продукция для бедных. Ширпотреб существовал и в семнадцатом веке…
— А вы почем знаете? — обиделся Витька.
— Знаю, — коротко ответил дачник. — А вам, молодой человек, считаю своим долгом дать и другую справку…
Он вдруг перевернул икону. Тыльная сторона доски была черна, как сажа, и густо изъедена шашелем.
— Видите?
— Чего…
Тот указал пальцем. Какие-то буквы были нацарапаны на доске. Довольно странные буквы, не такие, как теперь. Однако разобрать можно…
— Пор… Порф…
— Порфирью, — не утерпев, дочитал Григорий Аронович. — Здесь дарственная надпись: «Порфирью».
— Ну, и что?
— А то, что эта икона подарена человеку, который был основателем вашего рода. Его звали Порфирий — от него пошли Порфирьевы, Ясно?
— Ну, и что?
— Как — что?.. — теперь уже дачник не скрывал своего негодования. — Эта икона — фамильная драгоценность. На вашем месте я держал бы ее под стеклом. И детям наказал бы беречь, и внукам.
Витька озлился:
— А я, между прочим, никакой не Порфирьев, а Баландин. Баландин я. И мне на вашего Порфирия…
— Извините, — сказал дачник, поднимаясь с травы. — Елена Владимировна, вы просили совета…
Он пошел к дому, шаркая сандалиями.
— Зачем же так? — укорила Алена.
— Да ну его…
— Не надо. За подарок спасибо, Витя, но придется икону вернуть бабушке.
— Еще чего?
— Придется вернуть, — повторила Алена. — Ладно?
И легкой рукой пригладила его взъерошенные волосы.
Солнце ушло.
А на широкой, замершей в безветрии глади водохранилища не унималась обычная для этих дней суетная кипень. Круто разворачивались, припадая парусами к самой воде, нарядные яхты. Юркие скутера носились взад-вперед, оглушая все окрест своим занудным комариным воем. От досаафовской базы, что в заливе, вылетела на плес, набирая скорость, моторка, за ней, уродски раскорячась, мчался на водных лыжах парень в резиновой надутой рубахе. Сразу видно — новичок.
Витька в злорадном предвкушении следил за ним. Вот сейчас дадут маневр… И точно. Моторка вильнула в сторону, лыжи споткнулись о пенный гребень, взлетели вверх, а парень плюхнулся в воду…
Витька расхохотался.
— Скучно, — сказала Алена.
— А Надя где?
— Завтра вернется. Поехала…
И, перемолчав миг, с неожиданной злостью закончила!
— …к своему.
— А-а, — деликатно отозвался Витька. Сам же подумал: «А твой где?»
К слову сказать, все деревенские догадки о том, что две девки, разбившие палатку в Порфирьевском дворе, станут, что ни день, возить к себе мужиков, — все эти единодушные предположения не оправдались, к некоторому, добавим, разочарованию хрюнинских жителей. Ни разу не было замечено, чтобы кто-то приезжал. Правда, черненькая, которую звали Надей, порой исчезала на денек-другой, уезжала на своем «Запорожце». И тогда беленькая, Алена, коротала время в одиночестве, вязала, читала книжки, а на работу в эти дни ездила, как и все, электричкой.
— У Нади вашей откуда машина? — спросил Витька.
Его уже давно интересовал этот вопрос. Откуда взяться собственной машине, хотя бы и микролитражке, у такой совсем еще молодой женщины, как Надя. Хоть она и инженерша, с высшим образованием, но ведь любому известно, что такие вот инженеры, которые недавно из института, получают меньше, чем средней руки рабочий. Вроде него, Витьки.
— Выиграла, что ли?
— Выиграла, — торжествующе подтвердила Алена. — На счастливый билет. Как в газете — за тридцать копеек…
— Ну? — подивился Витька. Хотя он о подобных случаях тоже читал в газетах.
Она взглянула на него с откровенной насмешкой. И снова, как маленького, погладила по голове.
— Просто повезло Надьке. Вышла замуж за одного карася, а он машину — на ее имя, квартиру — на ее имя… А потом развод. Без дележки. Гордый оказался мужчина.
Алена поежилась. Уже совсем стемнело, потянуло прохладой. Она же так и сидела — в сарафанчике, босая.
— В общем, стерва она, Витенька. Понимаешь? Зато умная. И красивая.
На этот раз Витька удивился втройне. Из-за того, что она так нехорошо высказалась про свою закадычную подругу. И потому, что лично он, Витька, считал Алену куда более красивой, нежели эта, черная как воронок, Надя. И еще он поразился тому, как легко и свободно сказала она ему «понимаешь» и назвала его «Витенька»…
Он достал сигарету.
— Дай и мне, — попросила Алена.
Он дал.
— Я не курю, — объяснила она. — Иногда только. От злости.
На том берегу взвилась в небо дурашливая ракета.
За полуторакилометровой полосой воды, оловянной в темноте и теперь уже совсем обезлюдевшей, горели окна корпусов пансионата, вились разноцветными змейками неоновые вывески кинотеатра, кафе, ресторана. Оттуда же, беспрепятственно минуя расстояние, доносились трескотня барабана, клекот саксофонов, хрип засурдиненных труб…
Витька незаметно ощупал потайной карманчик брюк, где в старину носили часы, а теперь держат заначку.
— Махнем?
— Куда?
— Туда.
— Поздно уже.
— И-и… — беспечно махнул рукой Витька, хотя и сам понимал, что поздно. Что не надо.
— Хорошо, — согласилась Алена. — Только накину что-нибудь. И туфли.
Она вскочила. Нагнулась снова. Подняла с земли икону.
— А с этим как же?.. Я пока к себе отнесу.
И побежала к палатке.
А Витька — к берегу. Отвязывать лодку.
4
Он греб неторопливо, едва касаясь веслами воды.
Вот когда они плыли туда, в пансионат, чтобы поспеть до того, как швейцары замкнут все двери и вывесят неумолимые таблички, — вот тогда Витька выдал класс. Он закидывал весла назад, будто птица, намеревающаяся взлететь, и отталкивался такими же сильными птичьими махами. И все полтора километра пути лодка неслась, задрав нос, что твой полуглиссер…
Зато поспели. В ресторане «Дубки» посидели на высоких табуретках у бара, выпили по рюмке коньяку. Потом станцевали твист: Витька умел. Взяли по фужеру красного, что сосут через соломинку. Джаз ударил шейк. А этого Витька не умел. И тут уж, конечно, к ней подкатился какой-то хмырь болотный, расшаркался, уволок Алену. Что поделаешь — Витька не умел шейк. Потом они заказали еще по рюмахе коньяку. А оркестр заиграл танго «Букет моей бабушки». Хмырь болотный снова, было, навострил когти, но Витька сам повел Алену. Затем пососали еще красного, а джаз напоследок рванул «Летку-Енку». Тут все встали в очередь, будто за квасом, Алена оказалась в очереди между Витькой и хмырем: Витька держал ее за поясницу, а она хмыря. И когда отпрыгали это дело, Витька заметил, как хмырь сунул в руку Алене бумажку. «Дайка», — сказал он ей, вернувшись за стойку. «Что?» — изумилась она. Витька, однако, силой разжал ладошку, отобрал. Заглянул: «181–95…» Интересно, служебный или домашний? Хорошо бы домашний. Звякнуть, а там — мамаша. «Здравствуйте, гражданка. Из милиции. Тут человека задавило, нашли записную книжечку…» Но можно и на службу: «Алло, из вытрезвителя говорят…» У Витьки дома, в деревне, был собственный телефон, один кореш подарил: трубка, на трубке циферблат, проводок. Залезаешь на телефонный столб, контачишь проводок, набираешь номер…
Но на улице Витька бумажку изорвал и выбросил.
Обратно они плыли не спеша.
Алена, перегнувшись за корму, рукой бороздила черную воду, глядела на белую дорожку. Спросила:
— Понравилось?
— Ничего… Уж веселей Хрюнина.
— А зачем ты живешь в этом Хрюнине?
Витька совсем отпустил весла.
— Не знаю, — сказал он задумчиво. — Мне ведь от завода квартиру давали. А Раиса отказалась. Мать ее настроила, конечно. Либо отец… Им без нас тут не управиться: и дом, и огород, сад…
Алена выпрямилась на скамье, присмотрелась к нему зорко — в темноте.
— Витя, а ты себя кем считаешь: крестьянин ты или рабочий?
— Рабочий я, — твердо сказал Витька.
— Нет, — покачала она головой. И рассмеялась: — Ты, знаешь, кто? Ты… люмпен-крестьянин. Понял?
Витька промолчал. Не хотел признаваться, что не понял. Он не знал, как это — обидно или нет: люмпен. Слово-то красивое.
Лодка ткнулась в берег. Он замотал цепь, навесил замок.
Подал Алене руку — сойти.
Но она, вместо этого, скинула туфли и стала тащить через голову платье. Под платьем был купальник.
— Ты чего это надумала?
— А я люблю — ночью.
И сиганула с кормы.
Витька встревожился. Пила ведь она.
Но Алена уверенным кролем — только маленькие, сильно работающие ступни наружу, только взлетают локти — шла от берега. Плавала она хорошо — это он давно заметил.
Азарт подстегнул Витьку. Он живо поскидал с себя все — и рубаху, и клеши, — разбежался, прыгнул, нырнул.
И как ни отменно плавала она, а он ее все же догнал. Поднырнул, вслепую зашарил в воде, поймал ногу. Нога оттолкнула его, выскользнула…
Когда Витька вынырнул, отдуваясь и смаргивая капли, она уже была далеко. И плыла сейчас ленивым брассом, не погружая головы.
Он засек взглядом то место, где она сейчас была, сделал в уме поправку на движение цели, набрал полную грудь воздуха и тихо ушел под воду.
Теперь он поймал ее всю целиком. Обхватил крепко, перевернул навзничь, а сам оказался сверху. Тело ее было теплым, как эта ночная вода.
— Не смей, — сказала она и, отстранив его, на спине поплыла к берегу.
Он зашлепал следом.
Алена отжала мокрые волосы, взяла из лодки свое барахлишко и, осторожно ступая, направилась вверх по тропинке.
Витька догнал ее, обнял снова. Но теперь ее тело было так же холодно, как холоден был ночной воздух.
— Н-не смей… — Зубы ее выбили дрожь. — С-слы-шишь?
Он отпустил.
Она скрылась в палатке.
Витька подобрал с земли штаны, нашел в кармане «Дымок», вытащил сигарету — она сразу размякла в его влажных пальцах. Стал чиркать спичкой по коробку, тоже враз отсыревшему.
Совсем было тихо. Лишь где-то на задворках, у Нюшки Крайней, переругивались собаки.
— Алена…
— Что? — отозвалась она из палатки.
— А как же с этим… икона бабкина… Взять?
Он замер. Даже озноб унялся вдруг, когда Витька понял, что это — последняя надежда.
Палатка тоже затаилась.
Потом он услышал:
— Возьми.
5
И все это — своими глазами, своими ушами — видела и слышала баба Нюра. За полночь пришла к ней Раиса, сообщила, что Витька ночевать не пришел. Поревела и заснула тут же, в боковушке.
Баба Нюра тихонько прокралась по двору к палатке, но там вроде никого не было: застегнуто снаружи. Тогда она отправилась на берег и обнаружила, что лодки на месте нету. Сопоставив все, смекнув, что и как, баба Нюра заняла наблюдательный пост в скворешне, в дверце которой был зрачок, и этот зрачок смотрел прямо на палатку. Сидеть там бабе Нюре было неудобно, и ее одолевал сон, но старушечье любопытство, подстегнутое мстительным чувством, поддерживало ее в этом бдении.
Зато дождалась. И все увидела, все услышала — своими глазами, своими ушами.
Рано утром баба Нюра сделала полный доклад Матвеичу и Клане, они поимели совет, и первым же рейсом «Ракеты» бабка поехала в Тетерино.
Вскоре и вернулась.
А к обеду в Порфирьевский дом пожаловали гости: Степан да Егор, старшие Витькины братья.
Не больно часто они вот так сродственно встречались, хотя от Хрюнина до Тетерина рукой подать. Но потому лишь, что все были занятые люди. Служили. Ведь тетеринский колхоз, как и хрюнинский, с некоторых пор приказал долго жить: землю взял пансионат, а лес отошел к зоне отдыха. Ну, что ж, погоревали, покручинились исправные трудолюбы, тетеринские колхозники, получили паспорта и стали устраиваться, кто где сумел. Степан Баландин заведовал лодочной станцией и еще числился ночным сторожем при сельпо. Егор в пансионате работал, на поливочной машине, а также имел полставки в спасательной службе при лодочной станции. Оба женатые, детей куча, мать в параличе, а домишко тесный. По этой причине Баландины не сильно скорбели, когда Витька, младший брат, после женитьбы перебрался в Хрюнино.
— Здравствуйте, здравствуйте, — ласково встретил родню Матвеич и повел гостей во флигелек. — Давно не видались.
— С прошлого лета. Ровный год, — подтвердил Степан. — Вот и надумали навестить. А может, и порыбачим вместе — на лодке мы, удочки с собой. Тут у вас все же потише, не так еще распутали рыбу…
— Это с удовольствием, — согласился Матвеич. — Побалуемся. Лещ нынче брать должен.
Во флигельке хлопотали баба Нюра с Кланей, выставляли на стол угощение: селедку, сало, редисочку, лук зеленый.
Витька тут же был — только что глаза продрал, еще неумытый сидел на топчане.
— Здорово, брат, — сказал ему Степан. — Ну, как жизнь?
— Нормально… — ответил Витька.
Он сразу почуял неладное в этом неожиданном появлении братьев. Однако еще не мог уловить причины.
— Сядем, — пригласил Матвеич.
Все были в сборе. Только Раиса отсутствовала: так ведь ей нельзя, седьмой месяц.
— И ты садись, Витя, — отдельно позвал его тесть.
Ужас, до чего Витьке неохота было садиться. С утра пораньше. Впрочем, какое утро — день. И нельзя было, кроме того, отказаться.
Он сел.
Матвеич разлил в граненые лафитники из четвертной бутыли. Витька по запаху догадался: спирт разведенный, которым доплачивали за постой дачницы.
— Ну, будем здоровы! Дорогим гостям…
— Хозяевам тоже.
Все выпили, кроме бабы Нюры. Она не терпела хмельного зелья. Тверда была в своих богомольных правилах.
Между прочим, всю Витькину родню она тоже не терпела, как и самого Витьку. И больше того: ко всем тетеринским баба Нюра относилась брезгливо. Потому что тетеринские были столоверы. Не староверы, нет. Староверы — это старообрядцы, что двумя перстами крестятся. А тетеринские — столоверы. Баба Нюра в точности не знала, какой у них там обычай, но слыхала, что ездят они в Москву. И там за столами сидят. Не молодежь, конечно: молодежь теперь везде одинакова — ни бога не признает, ни черта. А вот старики тетеринские — они и есть самая пакость. И воздается им по заслугам: отец этих Баландиных ушел, семью бросил, а мать который год лежит колодой…
Однако сегодня баба Нюра проявила снисхождение:
— Сальца берите, свое, хорошее, этой зимой резали. — И спросила: — Корову-то продали?
— Продали, — сказал Степан. И вдруг захохотал.
А за ним Егор закатился смехом.
— Ох, история была! — начал рассказывать Степан. — Продали мы Зорьку в Пушкино. Отвели… А на другой день обратно пришла. Своим ходом. Ей, право.
— По Ярославскому шоссе, — добавил Егор. — А там ведь какое движение! На Мамонтовском переезде, люди видели, под шлагбаум — шасть… И прямо к дому заявилась. Нашла дорогу. Ну как собака.
— Скажи-и… — покачала головой Кланя. — Как собака.
— Точно. Пришлось вести снова. Теперь на веревке держат.
Матвеич обнес по второму кругу.
— А правда, что в пансанате жена мужа утюгом убила? — спросила баба Нюра.
— Правда, — подтвердил Егор. — Он туда в отпуск приехал, а по второй путевке — краля его. А со службы жене письмецо подкинули. Она туда и заявилась, утюг в кошелке. И подстерегла…
За столом примолкли. Вроде бы находясь под большим впечатлением от этого страшного случая. Хотя случай этот всем был давно известен, поскольку жена мужа убила в пансионате еще прошлый год.
— А ты что же, Витя, не пьешь? — спросил Матвеич.
Витька молча выпил.
— Хорошо вам посидеть, — пожелала баба Нюра, встала и, поклонясь гостям, ушла.
— Пойду и я. По хозяйству надо, — сказала Кланя, тоже поднимаясь с места.
Остались одни мужчины.
— Ну, как работа идет? — осведомился Матвеич. Он сегодня очень вежливый был, знал, что людям интересно про свое рассказывать, а не про чужое слушать. — Выходной сегодня у вас?
— Другая смена дежурит, — ответил Степан. — А работа идет, ничего… Только нынешний сезон тонут очень. В неделю то двоих вытащим, то троих — это я считаю, которых не откачали. Мертвяков… Много.
— А эти, с Голубой бухты, что делают, паразиты? — встрял в беседу Егор. — В позапрошлое воскресенье один утонул у них — ныряли, ныряли, не нашли… Потом сам всплыл. Так они его ночью отбуксировали в наш залив, подкинули нам…
— Вот-вот, — загорелся от возмущения Степан. — Чтобы, значит, у них статистика меньше была. А мне самому не надо статистики? Меня, как заведующего, начальство за эту статистику не драконит? Тут своих не поспеваешь таскать, а тебе чужих подкидывают…
Он вздохнул сокрушенно.
— Сей год особенно тонут, — пояснил Егор. — Выходных-то два стало… Больше — пьяные. Качаешь, а у него из нутра — пьяный дух…
— Да, — согласился Матвеич. — Пьют много.
И, накренив бутыль, снова стал разливать.
Они посидели еще с часок. Вели разговор. Только Витька помалкивал.
А потом хозяин сказал:
— Отлучусь маленько. Надо мне с дачниками одно дельце уладить.
И вышел.
Степан переглянулся с Егором. Обратился к Витьке:
— Ну, как, братенник, у инженерш-то? Как у всех или поперек?
Витька обмер.
— А? Отвечай, зараза…
Степан тяжело поднялся с табуретки, засопел, но тут же снова сел на место, взял бутыль и налил три лафитника вкрай.
— Пей, — приказал он Витьке.
— Не хочу я…
— Пей, говорю! Мы тебя сейчас бить будем. Так чтобы нам веселей — и тебе боли меньше… Пей.
— Не хочу, — повторил хрипло Витька.
— Как знаешь.
Степан и Егор осушили залпом. Встали.
Витька метнулся из-за стола. Но они уже надвигались на него с обеих сторон, отрезав путь к двери. А позади Витьки был топчан. И больше некуда было деться, очень тесен был этот летний флигелек.
— Сейчас мы тебя поучим. — Степан приблизился вплотную. — Поучим, чтобы знал…
Витька, уже смирившись с неизбежным, стоял перед ними открытый. Они его не раз уже били, Степан да Егор, на правах старших братьев. Били сызмальства, и потом, когда подрос, а они совсем стали взрослыми. Но с тех пор как Витька покинул Тетерино, этого уже не случалось — редко виделись.
Он стоял покорно, дожидаясь первого удара. Он и не думал защищаться, зная из прошлого опыта, что чем безответней он будет, тем скорее иссякнет у них злость. Пропадет охота.
Но когда Степан, отнеся за плечо кулак, ринулся вперед, будто влекомый этим страшным кулаком, Витька слегка отклонился вбок, неосознанно даже, потому лишь, что в армии он маленько занимался боксом, и это уклончивое движение, уход от удара, где-то само собой угнездилось в его мышцах, — и Степан, налетев на топчан, со всего размаху втемяшился башкой в стену…
— У-у, — взвыл он от боли, от ярости, и ловко, будто кошка, извернувшись назад, опять кинулся на Витьку.
И снова Витька, нехотя, повинуясь только инстинкту самосохранения и той боксерской жилке, что осталась в нем, отскочил.
Но Егор сзади резанул ему сапогом под колени, и он упал как срубленный.
Братья навалились. Удары заставляли Витьку то складываться пополам, то выгибаться дугой под тяжестью двух тел. Звездануло в глазах…
— По морде не бей! — услыхал он команду Степана. — Морду оставь… Ему же на работу в понедельник.
Тупо, будто комлем бревна, садануло в грудь, сломило дыхание. Он провалился в черноту…
6
И было все так же черно, когда он открыл глаза.
— Вить, а Вить… Вставай.
Его тормошил Матвеич.
— А?
Витька не мог понять, отчего вокруг такая темень. И что с ним было такое — спал, что ли? На полу…
— Ну, вставай, Витек, пора…
Голос тестя был благостен и усмешлив.
— Куда?
— На рыбалку, сговаривались ведь. Степан и Егор пошли уже.
Витька ворохнулся — встать, но тут же со стоном повалился набок.
— Ничего, ничего, — приподнял его за подмышки Матвеич. — Это враз пройдет… Вот, телогреечку надень.
Витька закашлялся.
— На, попей, — сунул ему ковшик.
Они вышли.
Небо было сплошь в ярких звездах.
А берега — и тот, и этот — точно так же сверкали сплошь рыбацкими кострами.
— Вон сколько их нынче… рыбы хватит ли? — засмеялся Матвеич.
Витька остановился.
— Что ты?
— Снасть…
— Да все уже взято, в лодке.
Когда Витькины глаза привыкли к темноте, он различил, что по всему берегу идет копошенье. Будто не ночь, а день. Свистели в воздухе удилища. Позвякивали колокольца донок. Один за другим отваливали челны. Но все это было пока лишь приготовленьем.
Витька и Матвеич подошли к своей лодке. А рядом, в другой лодке, сидели Степан с Егором.
— Привет, — сказал Степан.
Витька не ответил.
Он толкнул лодку, настиг ее в движении, залез на скамью. Матвеич погреб.
Вода неслышно огибала борта.
Они отдалились от берега метров на восемьдесят. Матвеич, притабанив весла, вытянул шею, вгляделся в горящие на берегу костры — измерил расстояние…
— Кидай, — сказал он.
Витька перевалил за борт тяжелый камень, повязанный крест-накрест. Шершавый канат заскользил в ладонях. Плюхнуло и у носа лодки — Матвеич бросил второй якорь.
— Тута? — спросил из темноты Егор.
— Тут, чуток левее возьми… — распорядился Матвеич.
Они стали аккурат над старым руслом Клязьмы.
А между тем никто из них, из четверых, никогда не видал этого старого русла. Потому что реку перекрыли плотиной еще в тридцатых годах. Близ Хрюнина остались глубокие карьеры, откуда заключенные, разбойнички, носили грунт на дамбу: теперь и сами эти карьеры заводнились — в них купаются, рыбу ловят. И еще несколько лет после того, как замкнули створ, окрестная пойма постепенно заполнялась водой, достигая проектной отметки.
Тридцать лет назад. Степана, Егора и Витьки в ту пору еще не было ни в помине, ни в зачине. А Матвеич хотя и был, но он появился в этих местах, когда Клязьминское водохранилище уже вошло в свои берега. Он застал его в готовом виде.
Однако любой самый малый пацан из Хрюнина, Тетерина мог и сейчас безошибочно указать старое русло Клязьмы. С отцовских, а те с дедовских слов дотошно знали каждую излучину, каждый перекат этой давно исчезнувшей, потонувшей реки. И не только со слов: там, где раньше текла Клязьма, были самые глубины, ямины.
И рыба — хотя она теперь и гуляла по всей ширине, совалась во все концы, метала икру в новых бухтах — она, рыба, предпочитала держаться старого русла.
Витька размотал с мотовильца одиннадцать метров лесы, покуда груз пал на дно. Выбрал лесу обратно — наживить крючок. Матвеич подал ему завернутый в тряпицу колобок крутой манной каши — каша была еще горяча, от нее шел дразнящий запах: Матвеич добавил туда пару капель анисового масла. Лещ — он такой запашок уважает, издали чует.
Забросили.
Белые поплавки, вырезанные из пенопласта, были хорошо видны в темноте.
— Кури, — Матвеич протянул сигарету.
— Свои…
Витька достал из кармана «Дымок». Пачка была смята, искорежена. Но он нашел целую сигарету.
Клева покамест не было.
— …ну, один и говорит: «Что с ним, ершишкой-то, делать? Назад кину…» — А другой говорит: «Погоди, давай водкой его напоим…»
Как обычно, когда не клюет, рыбаки пробавлялись анекдотами. Там, на берегу. Но при такой тишине и водной глади любое слово за версту слышно.
— …ну, они ему и плеснули в рот. Кинули обратно в воду. Ершишка нырнул, да вдруг снова выпрыгивает: «Эх, — говорит, — щучкой бы закусить!»
— Аха-ха-ха… — прокатилось от костра к костру. Хотя про ершишку этого все давно знали.
Витька оглянулся на восток. Там едва-едва, узкой полосой забрезжило. Сделалось холодней. — к утру. И над черной водой потянулись тонкие космочки пара.
Но поплавки не шевелились.
— Когда я здесь в сорок первом стоял, при зенитках, — ох, и рыбы мы тут покушали, — заговорил Матвеич. — Ее немецкими бомбами глушило. Прямо центнерами плавала…
Витька нарочно повернулся спиной, доказать Матвеичу, что не слушает и не желает слушать.
Но тот притворился, что вовсе и не ему рассказывает, а Степану с Егором, которые были в двух шагах.
— Через все водохранилище сеть стояла, чтобы, если мины сбросят, не подпустить к плотине… Они ведь, немцы, что хотели: плотину взорвать и всю воду на Москву пустить. Да не вышло… А мы на них под Яхромой сами пустили зимой уже, хо-лод-ную! Искупали фрицев…
Теперь оставалось ждать, что Матвеич расскажет, как он познакомился со своей Кланькой, когда он тут, в Хрюнине, стоял при зенитках.
Однако ему не довелось продолжить разглагольствования.
Рядом появилась лодка и едва ли не борт в борт остановилась подле ихней. На лодке можно было прочесть базовые буквы «Рыболов-спортсмен», и того, кто сидел в лодке, тоже можно было опознать по фигуре.
— А ну, генерал, вали дальше… — зарычал Матвеич.
Тот, не обращая никакого внимания, стал выбрасывать якорь.
— Кому говорю — отойди!
— А ты не командуй, не командуй. Что — закупил место? На берегу, вон, совсем впритирку стоят.
— Тьфу, — в сердцах сплюнул Матвеич.
Надоел уже этот сосед непрошеный. Всякий раз становился рядом. Мест не знал, зато ихнюю лодку приметил, и усек также, что, где эта лодка стоит, — там и рыба. Прилип как лист банный. Не стесняется даже, хоть и генерал… Он, само собой, не в полной генеральской форме выезжал на рыбалку, лишь при жаре снимал жакетку, а под ней оказывалась серая рубашка с петельками на плечах, но все знали, что генерал. Рыбак заядлый, ни одного выходного не пропустит — фанатик…
— Ну, гляди, лесу мою зацепишь — из лодки выкину, — пообещал Матвеич.
— Ладно, — отмахнулся тот.
Как-то сразу вдруг посветлело. Посветлела вода. Посветлело небо.
Витька глянул на берег. Берег тоже высветился. И тогда он увидел…
Он еще в армии узнал, что самый яркий, самый броский, самый сильный цвет среди всех — оранжевый. Его замечает глаз прежде всех остальных цветов. Потому, скажем, в полярной авиации самолеты красят оранжевым. Потому ремонтники на железнодорожных путях надевают оранжевые жилетки: чтобы издали их заметно было.
И Витька, взглянув на берег, туда, повыше, где был их забор, их двор — он сразу и прежде всего заметил, что там уже не было оранжевой палатки…
— Й-есть! — прозвучал рядом сладострастный шепот.
Генерал, высоко подтянув леску, загреб в воде сачком. Рыба тяжело ворочалась, трепыхалась.
— Лещ, — сообщил генерал.
— Ле-ещ… — передразнил Матвеич, а у самого лицо скосилось от злости. — Не лещ, а подлещик.
— Лещ, — горделиво повторил тот, отправляя добычу в садок. — Граммов на восемьсот.
— Ну и вот: подлещик, значит. Лещ — начиная с килограмма.
— Ерунда! — рассердился генерал. — Прежде считалось: до фунта подлещик, от фунта — лещ. Так, по-вашему, если изменилась мера весов…
— Витька!
Поплавок плашмя лежал на воде.
Это значило, что там, на глубине, широкий, как лопата, лещ, которому пузо не позволяет прямо подойти к насадке, встал на попа, хвостом вверх, взял насадку, выпрямился, поднял грузило…
Поплавок канул.
Витька сильно подсек и почувствовал, как тяжело затрепетало там — на конце лесы.
— Давай подсачек… — тихо сказал он Матвеичу.
Матвеич перенял леща, метнувшегося было под лодку…
Витькины пальцы подрагивали, когда он лепил на крючок новую облатку каши. И, закидывая, увидел, что Степан тоже тащит.
— Ы-эх… — рыдающий, отчаянный звук исторгло генеральское горло. Он держал в пальцах ослабшую лесу и дикими очами смотрел в глубь воды, куда уходила сорвавшаяся с крючка рыба.
На берегу утихли. Там не было слышно звона колоколец, унялись и шутки. Неподвижные рыболовы завистливо и угрюмо смотрели, как нагибаются, как вскакивают, как забрасывают, как вытаскивают на лодках.
У берега не брало. Брало только на старом русле.
Всходило солнце. Туман отрывался от воды, заволакивал плес пеленой.
И когда появилась «Ракета», идущая первым рейсом, вдруг почудилось, что корабль на подводных крыльях несется не по воде, а по розовым облакам.
Там, за спящими корпусами пансионата, за сосновым бором послышался рокочущий гул. Вальяжный «Боинг» взмыл над Шереметьевым и лег на курс.
— Витек, давай… — простонал Матвеич.
Откинув короткое удилище, он обеими руками вцепился в лесу и стал тянуть ее, сгорбись от натуги, закусив губу. Было слышно, как звенит струной эта надежная, ноль-четыре, капроновая леса, и было видно, как режет сна пальцы, выбирающие вершок за вершком…
Витька нагнулся, держа подсачек наизготове.
Глубоко-глубоко, там, внизу, где было еще по-ночному темно, непроглядно, глухо — вертанулось, блеснуло золотое зеркало. Это солнечный луч, косо пронзив воду, ударил в чешую.
Рейн Салури Память
I. ОН,
чье имя не упоминается, не потому, что к НЕМУ относятся с бесцеремонностью стороннего наблюдателя, а потому, что он действительно недостоин быть выделенным по имени.
Расплывчатое серое пятно в потоке яркого света, падавшего в помещение откуда-то сверху и сзади НЕГО, оказалось стулом, обыкновенным, несколько даже топорным стулом о четырех ножках, на который была брошена чья-то одежда, — там был желтоватый, приглушенно-зеленый цвет и полосками примешивался красный. Некоторое время назад, когда ОН только еще проснулся и со спокойным любопытством повел вокруг глазами, они не различили ничего, кроме расплывчатого серого покачивания, затем в потоке света, — теперь ОН уже знал, что свет падает из окна над ЕГО изголовьем, — смутно обозначились стул с небрежно брошенной на него одеждой, половицы, усеянные искрящимися пылинкам, тускло поблескивающая дверная ручка, туфля со стоптанным каблуком. Его одежда: зеленые брюки, желтая рубашка, галстук в красную полоску — знакомые, сто раз виденные вещи, и ОН словно бы с самого начала сознавал подспудно, какая у НЕГО одежда и что окно находится именно в изголовье. ОН пошевелил пальцами, провел ладонью по простыне, теплой от его тела, — она была смята, но от нее исходил запах свежести, будто ее только что принесли с улицы, с ветра и солнца. А может быть, под окном растут деревья и между ними натянуты веревки, где сохнут большие белые простыни?
ОН запрокинул голову и попытался что-нибудь разглядеть, но увидел лишь кусочек неба с крестом оконного переплета. ОН встал с постели, взглянул на сверкающие в воздухе пылинки, почесал грудь и направился к двери, открыл ее, надавив на холодную дверную ручку, прикрыл за собою. Несколько секунд ОН стоял под запыленной электролампочкой и, прищурившись, смотрел на чуть заметно покачивающийся шнур, затем распахнул еще одну дверь и пустил воду из крана. Журчание воды было первым звуком в том мешке тишины, в котором ОН до сих пор пребывал, словно в утробе матери. Он пропустил бившую из крана струю между пальцами, подивился пришедшему в голову сравнению, набрал пригоршню воды, слегка ополоснул лицо, вернулся назад в комнату, распахнул окно и, навалившись на подоконник, прислушался к доносившемуся снизу шуму. Там сновали люди, двигались машины, мимо прогрохотал трамвай. ОН высунулся из окна, чтобы посмотреть вслед трамваю, и почувствовал, что лицо высохло.
Щетина уколола ЕМУ ладонь, ОН натянул брюки, разгладил рукой смятую штанину. В углу комнаты, в стороне от светового потока, стоял коричневый шкаф, чья-то небрежная рука оставила на полке ломтик сыра, который стал уже сухим, слишком сухим. Лучше, если бы сыр был покрыт частыми капельками влаги, словно капельками пота. ОН знал, такой сыр пришелся бы ЕМУ больше по вкусу. От сыра только тогда и получаешь настоящее удовольствие, а можно сделать и еще вкуснее, если посыпать его солью. ОН прикрыл на мгновенье глаза, в голове зашумело, затем попытался открыть глаза, словно кукла, словно пластмассовая кукла, веки которой в определенном положении, щелкнув, сами собою заваливаются под брови. С чего ЕМУ вспомнилась эта кукла, может быть, у НЕГО когда-нибудь была такая, может быть, она умела не только открывать и закрывать глаза, но еще и подавать голос, — пропищать, когда ее наклоняли, слово «мама»? ОН отогнал назойливые сравнения и порадовался своему чувству юмора, которое все что угодно делает несущественным и малозначимым. ОН громко сглотнул, ОН был готов к выходу из дому: надо было лишь шагнуть за дверь, сбежать вниз по лестнице, свернуть налево, еще раз налево и, скользнув взглядом по клочкам бумаги и нацарапанным на стенах каракулям, миновать вестибюль и распахнуть парадные двери…
II. ДРУГ,
который все знает как о прошлом, так и о настоящем, но все же не может в одиночку предопределить дальнейший ход событий.
Потому-то я к НЕМУ и пошел. В конце концов надо все ЕМУ рассказать, все, что я знаю. Я ткну ЕГО носом в реальность, словно нашкодившего котенка. Что это ОН сидит сложа руки, не проявляет ни малейшего желания действовать? Конечно, действие может прийтись ЕМУ не по душе, может даже навлечь на НЕГО, как на отдельно взятую личность, неприятности, и все же это — движение, шаг вперед. Да и что ЕМУ терять? Узнает ОН, а вместе с ним узнаю я и все остальные. Я бы мог оставить ЕГО вне игры, мог бы и без НЕГО докопаться до сути событий. Но я в таком случае рискую без всего остаться, ибо обе стороны, — как ОН, который только прикидывается незнающим, а сам наверняка кое-что знает, так и тот, другой, о котором я собираюсь ЕМУ рассказать, — оба они боятся последствий. Они уютно устроились, каждый соответственно своему идеалу спокойной и тихой жизни, и не хотят оглядываться назад. Почему это я один должен брать на себя всю черную работу? ОН сам мог бы сделать последний шаг, пусть соблаговолит проехаться о одного конца города на другой и сказать: «Вот я». Или: «Я пришел». Тот, другой, сразу поймет.
Но я должен начать осторожно, издалека, должен ввести ЕГО в заблуждение своей участливостью, должен сыграть роль сочувствующего. Словно и я тоже — лишь обыватель, бездеятельный и ничего не помнящий. Возможно, в этом и состоит различие (или сходство?) между нами: ОН не хочет прояснить прошлое, потому что боится его, мне же — неясно будущее. ЕМУ и таким, как ОН, незачем беспокоиться о будущем, им хватает работы по сохранению мира, которого они достигли.
Я запросто, как друг, войду в ЕГО комнату, положу руку ЕМУ на плечо и посмотрю в глаза, — ты напрасно стыдишься своей одежды и жилища и, глядя на меня, пребываешь в уверенности, будто мои дела идут блестяще. На мне костюм из добротной ткани, от меня исходит аромат хорошей сигареты и дорогого одеколона. Нет, нет, я вовсе не сожалею о том, что не все идет, как мне хотелось бы. Единственно, что меня огорчает — но не подумай, будто я пеняю на жестокую судьбу или уповаю на счастливый случай, — это необходимость все время быть первым, такое положение надоедает. Все, что отпущено мне природой — задатки, потенциалы и прочее, — никогда не мешало осуществлению моих планов и желаний. Стоит мне чем-нибудь заняться, и я вырываюсь вперед, другие же стоят далеко позади и наблюдают, как я один продвигаюсь к своей цели. Они не устраивают мне препятствий на пути к ее достижению, но мне становится страшно одному — или скучно, — и я сворачиваю с дороги, чтобы найти какое-нибудь дело, где много ушедших далеко вперед, я устремляюсь следом за ними, но с самого начала боюсь момента, когда оставлю их позади. И в то же время я уже слишком стар, чтобы изменить свои привычки, я должен всегда бежать впереди всех и чувствовать, как остальные пыхтят за моей спиной, стараясь не отставать.
И лишь когда ОН будет тронут моей неожиданной (ОН ведь не знает, что тоже притворной) искренностью и подумает: «Вот видишь, у каждого свои трудности», — лишь тогда я заговорю о другом. ОН уже будет расположен принять меня и поверить мне, и выслушает все до конца:
«Мне помнится, стояла сухая солнечная осень, такую пору года можно назвать истинной радостью землепашца. Я укрылся в глухой деревеньке — настоящий медвежий угол — и надеялся отсидеться там в безопасности. Никто меня не знал, и я наслаждался очарованием осени, бродил по лесам и наблюдал, как птицы сбиваются в стаи, — это был единственный признак того, что скоро конец осеннему великолепию, что не за горами распутица и заморозки. Я наивно рассчитывал выскользнуть из-под колес истории: возможно, мне и впрямь удалось бы отсидеться в моем укрытии, не случись ужасного несчастья в семье приютивших меня людей, несомненно прекрасных, с которыми у меня с первых же мгновений установились хорошие отношения. Все началось с того, что на соседнем хуторе пропала собака. Обыкновенная пастушья собачонка со свалявшейся шерстью и презлющая. Не знаю, хорошо ли она управлялась со стадом, но владелец собаки был к ней необычайно привязан и в ее исчезновении обвинил нашего хозяина, хотя тот в эти смутные дни почти не жил дома, он избегал контактов с временными властями, и все хозяйство было оставлено на жену. Мне и поныне неизвестно, кто виновен в смерти собаки, я вообще не склонен был считать это за большой грех, во всяком случае, в то время, потому что она и меня тоже раз-другой цапнула за икру. С семейством соседей я никаких дел не имел, и это впоследствии вызвало во мне некое чувство самоуверенности, словно бы я уже тогда знал наперед, что не всегда надо придерживаться обычных правил приличия и общаться в малознакомом месте с каждым встречным и поперечным, пусть далее ради того, чтобы не чувствовать себя чужаком. Итак, при неизвестных обстоятельствах исчез пес, к которому сосед был очень привязан, а некоторое время спустя в нашей семье, — заметь, я называю эту семью своей и тем самым еще раз подтверждаю, что я чувствовал себя там как дома, — пропал трехлетний мальчик. Его не удалось найти, как ни старались, — прочесали все окрестные леса, обыскали каждую речку, каждый пруд — мальчик бесследно исчез. И хотя я по мере сил помогал поискам, я вскоре почувствовал себя там не в своей тарелке, у меня пропало всякое желание жить в доме, где воцарилось похоронное настроение да еще — по вполне понятным причинам — и надолго. Я уехал в город и, наверное, через несколько лет просто-напросто забыл бы это печальное событие, а упрекни меня кто-нибудь в этом, я скорее всего даже оскорбился бы, — в те времена так много людей пропало без вести, что не было возможности оплакивать их годами. Но мне некоторое время спустя стали известны подробности этой ужасной истории. Владелец пропавшей собаки — кстати, я слышал, будто он нашел ее с простреленной шеей возле ворот своего загона для скота, — поймал на соседском дворе сынишку своего предполагаемого врага так, что никто не заметил, и спрятал у себя в подвале. Он посадил мальчика на цепь и кормил его из собачьей миски. И до того запугал, что мальчик при нем не смел слова вымолвить. Время от времени, когда мучитель бывал в настроении, он обучал ребенка служить по-собачьи и выпрашивать пивцу. Когда же злодей в конце концов был вместе с женою арестован и ждал решения суда, его жена просила для себя облегчения наказания, дескать, она, когда муж отлучался из дому, тайком носила мальчику еду со своего стола и разговаривала с ним. Но с той поры немало воды утекло, теперь уже никто ничего не помнит об этих людях, да и история эта сама по себе такая жуткая, что многие и не верили в ее подлинность.
Но это было так. И этот мальчик — это был ты!»
III. ОН
чье имя не упоминается, испуган. Нельзя сказать, чтобы ОН поверил всему услышанному или что-нибудь знал, и все же ОН пытается защититься.
ОН продолжал сидеть на краю постели, освободился от тела, увидел дворец мандарина, во дворе которого по грудам трупов шныряли крысы, увидел львов и людей на огромной арене цирка, увидел костры с оседающими в пламя людскими телами, услышал предсмертный хрип солдата. ОН чувствовал, ОН знал, что было нечто определяющее, нечто решающее в его предыдущей жизни, какое-то самое существенное событие, заставлявшее ЕГО бояться прошлого, проскальзывать не только мимо этого основного события, но и мимо всяких приятных и неприятных мелочей, больших и маленьких удач и неудач, — ко всему ОН относился с боязливой неприязнью. Собачья будка или что-либо иное — у НЕГО не было времени рассуждать дольше, ОН сидел на электрическом стуле в никелированном железном ошейнике, озабоченный и серьезный друг протянул руку к кнопке включения тока, чтобы от НЕГО осталась лишь горстка пепла; ОН ухватился за представившуюся ЕМУ возможность, поднял руку и попросил разрешения говорить, попросил последнего слова.
— Да, я помню, там были цветы, а вдоль шоссе — живая изгородь из сирени. Однажды я нашел в саду мертвую птицу и зарыл ее в цветочной клумбе. Я помню комнатушку на чердаке, забитую старыми сундуками и мебелью. Там я видел книгу, такую большую и тяжелую, что у меня не хватило силы вытащить ее наружу, и я долго листал ее, сидя на чердаке. Массивная обложка была обтянута коричневой кожей, иллюстрации — на плотной блестящей бумаге. Перед каждой иллюстрацией — тонкая шелковистая прокладка, она шелестела и липла к пальцам. На всех картинках были цветы, но такие, каких я в саду не видел, да и вообще нигде. Они были огромные, гроздьями свисали с ветвей деревьев, поднимались от земли и благоухали, хотя в мансардной комнате стоял застарелый запах мышиного помета и пыли. Я спрятал голову между страницами книги и в то же время боялся: вдруг обложка захлопнется, и я останусь один среди этого сладкого цветочного аромата, — больше всего он походил на запах дешевой карамели, шоколада и еще чего-то необъяснимо волнующего. Я блуждал в темном цветочном лесу и на следующий день едва дождался полудня, когда солнце освещает и мансардную комнату, — лишь тогда я вновь решился туда подняться, чтобы наугад раскрыть книгу, отстранить пелену папиросной бумаги и обонять запахи. Это было так прекрасно…
IV. ДРУГ,
который все знает, не дает и теперь сбить себя с толку.
Я не знал, то ли ОН хотел обмануть меня этим рассказом, то ли просто насочинял всякой лирики, — какие-то сентиментальные истории о детстве (какого времени? Я говорил о трехлетием ребенке, ОН же — о мальчике постарше. Скольких лет? Зачем?), к тому же истории эти настолько общи, что ОН мог их просто-напросто где-нибудь вычитать и запомнить. Всегда-то стараемся мы приукрасить свое прошлое, хотя бы и при помощи затхлого чердака. Романтики, Робин Гуды! Как бы то ни было, я должен был подтолкнуть ЕГО вперед — сейчас было бы ошибкой разыгрывать сочувствие и всепонимание, — я вытащил из кармана клочок бумаги, который так дорого мне обошелся, который даже мне удалось раздобыть не так-то просто, и положил перед НИМ на стол.
— Этот сосед, этот человек — в нашем городе. Он работает в книжном магазине, вот его адрес.
И я сразу ушел, но я должен был проследить за НИМ до конца.
V. ПРОДАВЕЦ КНИГ,
который помнит и о том, как закончилась для него последняя война, хотя сам никогда не заговаривает о событиях, описанных ниже.
Кто бы мог подумать, что туман опустится так быстро. Во всяком случае, я не припомню, чтобы такое случалось тут прежде. Всякую погоду довелось повидать, и заморозки, и туман; бывало, дрожишь за зеленя, а на полях, что пониже, порой и крепкое словцо скажешь, точно оно может помочь. Но что туман такой стеной станет, никогда бы не поверил. Еще несколько минут назад казалось — вот-вот взойдет солнце, тогда здесь, под соснами, было бы куда как светло и красиво, сейчас и то за полкилометра слышен треск веток да хруст мха под ногами. Эти, что позади, топают, словно стадо кабанов, туман даже и кстати. Чем гуще туман, тем ближе удастся подойти. Главное — шагать по прямой, здесь это несложно: заберешь лишку влево или вправо, окажешься на скате гребня и сразу это почувствуешь, — нужно следить, чтобы под ногой все время было ровно. Правда, на пути могут и ложбинки попасться, и попадаются, но их тоже надо пересекать напрямую, вот и выйдешь снова на гребень холма. А коли порядком в сторону занесет, заметишь и по лесу, — на холме-то сосны прямые да сухие, звенят, если по стволу стукнуть. Сейчас, правда, не время стук разводить, те, что впереди, тоже начеку, и без того топот шайки услышат. Начнут палить, а надо бы попытаться без стрельбы. Еще полчаса — и всему конец. Напоследок два-три крепких словца ввернешь, и дело в шляпе. Только бы туман не стал еще гуще, и без того не знаешь, куда ногу ставить. Когда это видано, чтобы здесь, в бору, и такой туман. Тем это тоже на руку, садись где стоишь да моли бога, чтобы никто на тебя случайно не наступил. Пронесет — стало быть, ты на сей раз спасен. Только ведь потом опять не кого-нибудь, а меня поставят впереди шайки, чтобы я ее куда надо привел. Но если сегодня кто и уцелеет, назад не вернется. Забьется в чащобу и станет отсиживаться, словно волк. Сюда, в этот светлый бор, больше не сунется, проклянет день и час, когда посмел из зарослей вылезти. Те, что впереди, наверно уже парятся, только бы не удрали до восхода солнца. Да нет, понадеются на туман.
Надо бы прибавить шагу. Прижимайте свои ружьишки поплотнее, такой грохот на том свете услышать можно.
Нога зацепилась за какой-то сук, он мягко, без треска, сломался, и я опустил ногу, которая повисла было в воздухе, как бывает на охоте, когда на пути не вовремя и не к месту попадется хворост. Но на этот раз сук даже не хрустнул. Я опустился на четвереньки, пошарил рукой по земле. Сухого мха не было и в помине, пальцы ткнулись в намокшую гнилушку, я раздавил ее, вытер руку о куртку. Ко мне шагнула высокая серая фигура, дохнула в лицо запахом тонкого табака, — казалось, ее отделяло от меня заиндевелое стекло. Проклятый туман!
Я пощипал бородавку на правой щеке, ничего, дескать, не случилось, надо взять чуть левее, гребень холма местами узковат и низковат, да и туман вот. Откуда, черт побери, знать мне дорогу во всех подробностях, что за нужда мне была в этой глухомани околачиваться! Спокойно, скоро услышим реку, а возле нее и банька стоит. Все будет в порядке, волноваться не с чего.
Ну и погодка, кто бы мог подумать! Пора бы уже быть сухому месту. По лицу хлестнули ветки ольхи, в бороде застрял мокрый листик. Откуда взялась тут эта дрянь, прямо зло берет, не хватало еще заблудиться. Но — спокойствие, браток, спокойствие, парни, что идут за тобой, не станут шутки шутить, если к тому времени, когда ты их к реке выведешь, в бане уже ни души не будет, только теплая каменка да грязные обноски — кому охота таскать их за собою. Но могут и сжечь, — если какая-нибудь старушенция принесла им в лес чистые рубахи, наверняка сожгут, с них, бестий, станется. Дать бы лохмотья овчаркам понюхать, сразу бы след взяли.
Правая нога куда-то мягко проваливается, быстро отдергиваю ее назад, словно наступил босиком на змею. Хоть бы собака была при мне, у тех, что идут позади, недостало времени прихватить овчарку, а может, у них вообще и нет ни одной. Теперь небось получит свое и тот молодец, который мою собаку прикончил, мне плевать, что мы с ним лет двадцать друг на друга через забор любовались. Я бы пристукнул его на месте, когда на своего пса наткнулся. Разве тварь божья виновата, что ты и тебе подобные околачиваетесь в округе, недовольны тем, что есть, и надеетесь на что-то, чего никогда больше не будет. Ну и подался бы, как другие, за Чудское озеро, пока время было, так нет, ты, муравей, восстаешь против великой силы и убиваешь мою собаку. Когда я ее зарывал, у меня ком стоял в горле, так и подмывало пойти стащить твоего младшего с постели, заставить его хоронить пса. Или затолкать в подвал, привязать к стене собачьей цепью, швырнуть под нос миску — и сгноить его там, чтобы ни на двух ногах ходить, ни двух слов сказать вовеки не сумел бы. Черт побери, чего только не взбредет в голову, — пока тут плутаешь, умом рехнешься. Пусть себе перебьют в лесу всю эту вшивую команду, но на ребенка у меня рука не поднимется, чего доброго, жалко станет, когда папашу в землю втопчут.
От вас ведь не избавишься, пока не втопчешь в землю, а у самого сил не хватит, можно позвать на подмогу власть. Власть всегда на месте. Что с того, что одна уходит, другая приходит, — я остаюсь у себя дома и живу своей жизнью. И у меня всегда находилась кость для моего пса, который стоял за меня и получал за это свою долю. А я получу свою — не все ли мне равно, из чьих рук.
Чертов туман! Где же гребень холма?! Ни одной сосны не видно. Да и как увидишь, если не понять, где право, где лево. Вы-то не тревожьтесь. Выйдем, куда следует, ваша работенка от вас не уйдет, самому-то мне ничего не надо, кроме одного человека, и лучше, если уже лежачего. Так оно и выйдет: поставят их на колени, а руки прикажут заложить на затылок, — самое время пинком отбить почки, чтобы он ткнулся носом в землю и не поднялся.
Да спокойнее вы, растяните ваших молодцов на две стороны, кто первым налетит на сосну, пусть передаст об этом тихонько по цепочке, вот мы и выберемся на гребень. Никуда они по такой погоде не денутся. Думают, верно, что бог и природа на их стороне, нипочем не уйдут, пока не отмоют коросту, наращивали-то ее долгонько. Что ты, серый, в этом понимаешь, твой немецкий дух любая дворняга учуяла бы с другого конца деревни, примчалась бы, оскалив зубы. Кабы я в ту ночь подоспел вовремя, — у твоей же изгороди кончают твою же собаку, и ты должен хоронить ее своими руками…
«Сосна!»
Черт возьми, еще и дрожь в коленях, здесь и покрепче меня мужик размяк бы. Ага, вот и речка, совсем рядом, внизу. Эй вы, там, сзади, теперь молчок, добрались. Ах, идите себе, дальше идите своим ходом, точно свора гончих, которых на след навели, — теперь и слепой добежит до цели. И туман поредел, как по заказу, чего вы ждете, валяйте вперед, я свое дело сделал, я к ним не выйду, пока не будет все кончено.
Банька приткнулась у самого берега, старая и осевшая, дверь только что в воду не падает. До реки несколько шагов, когда-то там уложили два бревна, чтобы выходить на берег, не пачкая ног. Возле бревен в воде кто-то плескался, затем встал во весь рост, тело белое, как береста, только шея, лицо и руки словно у негра — черные. Человек смахнул ладонью водяные капли с бороды — и замер, увидев выходящую из лесу шеренгу. Хотел еще словно бы заткнуть себе рот рукой, но крик все же вырвался и тут же смолк, коротко отразившись от противоположного берега. Парень получил свою порцию свинца и сполз в мелкую воду, хватаясь рукой за бревно.
Кто-то распахнул дверь бани пинком ноги, оттуда выскочили двое, один в серых портках, второй в белой полотняной рубахе. На другой стороне бани, выбитые прикладом винтовки, зазвенели оконные стекла. Те двое остались лежать на пороге. Несколько белых силуэтов метнулось из-за угла к реке, шеренга в этом месте сомкнулась. Из окна раздались ответные выстрелы, но вскоре наружу вышли последние мужчины с поднятыми вверх руками, в рубахах нараспашку.
Нет, я тут больше не указчик, я свое дело сделал, уже рассвело, я и один доберусь до дому, я ничего об этом деле не знаю, да и кто может что-нибудь знать.
VI. ДРУГ,
который все знает, теперь волей-неволей должен оправдаться, что он, не отдавая себе в этом отчета, делал уже и прежде.
ОН сошел с трамвая. И зашагал в нужном направлении, в сторону ратуши. Я двинулся следом за НИМ, между нами было метров пятьдесят, но я не чувствовал ни радости победы, ни чего-либо подобного. А ведь мне удалось стронуть с места еще одно колесико, завести еще одни ржавые часы. ОН шел в пятидесяти метрах впереди меня, волоча ноги по асфальту, словно лунатик среди суетной толпы. Конечно, Они могли бы ржаветь и дальше, вообще все часы могли бы окончательно остановиться. Теперь уже поздно сомневаться, но я не мог избавиться от смутного страха, не предложил ли я ЕМУ слишком сырую рабочую гипотезу, некий малоправдоподобный вариант ЕГО прошлого, который, вероятно, и нет путей проверить. Люди рассказывают всякие ужасы, потерявшие за давностью достоверность, до того обобщенно-выдуманные, что их почти невозможно связать с какой-нибудь конкретной личностью. Действительно ли этот продавец книг затолкал ЕГО в собачью конуру или имеет на своей совести какое-нибудь иное преступление? Откуда мне знать, если не хочет знать сам пострадавший? Да и вообще — пострадавший ли ОН? Может быть, только я и страдаю?
Но ОН идет вперед, ОН идет куда надо, и я чувствую, как мои старые добрые провожатые — потребность действия и жажда познания — вновь являются мне на помощь, и я прибавлю шагу, чтобы не потерять ЕГО из виду в толпе.
Только не подумайте, будто я делаю все это просто так, ради забавы, у меня найдется занятие и поумнее, чем сводить двух «не-тронь-меня-дам-жить-тебе», но у меня это в крови, это желание продвигаться. Все вперед, все дальше, пока я не узнаю все, — так могу ли я и теперь хотя бы на мгновение усомниться! Дескать, вдруг и те, кого я увлекаю за собою, тоже чего-нибудь добьются?
Куда же ОН подевался?
VII. ОН,
чье имя не упоминается, встречается с ПРОДАВЦОМ КНИГ, который все помнит, но тем не менее история остается незаконченной.
Улицы становились всё уже, людей было много, ОН шел по булыжной мостовой, затем толпа вытеснила ЕГО с одной, особенно узкой улочки, — словно пробку от бутылки, выперли ЕГО на большую, залитую солнцем площадь. Скопища туристов липли к историческим фасадам древних зданий. Щелкали фотоаппараты, над площадью в порыве ветра кружились голубиные перья. ОН опустил голову и вновь ступил в сумрак одной из улиц, — площадь, словно лучи, отбрасывала их в разные стороны. Здесь было меньше людей. ОН оглядел стены с полосами в местах водостока и остановился под массивной аркой. Выцарапанная из-под серого слоя штукатурки фигура бородача протягивала навстречу входящим рулон бумаги. У старика было немощное лицо святого, фигура извинялась, словно просила милостыню у спешащих прохожих.
В дверях лавки на НЕГО пахнуло заплесневелой бумагой и пылью, слева от входа сидела женщина неопределенного возраста и что-то вязала. Она бросила на вошедшего равнодушный взгляд поверх очков. Вдоль длинных стен от потолка до пола тянулись книжные полки, ОН взглянул на вяжущую женщину и подошел к полкам. На корешках старых книг виднелись непонятные ЕМУ надписи, ОН снял с полки одну книгу, взвесил ее на руке и осторожно поставил обратно на место. Дальше лежали кипы пестрых иллюстрированных журналов, с обложек на НЕГО смотрели раскрашенные манекены и причесанные пудели, ОН приподнял стопку журналов, изданных на блестящей меловой бумаге, и вытащил самый нижний.
«Хороший обед — словно увлекательное приключение» — значилось под огненно-красным куском мяса. Зеленые листья салата, кружки моркови, редис, нашинкованный лук; бутерброды с майонезом, бутерброды с маслинами, бутерброды с куриным жарким, индюк на электроплите цвета синего моря, осколки разбитой тарелки на персидском ковре, торт ко дню рождения с надписью «Наши тарелки не бьются!», янтарно-желтая ванна, янтарно-желтая кухонная раковина, янтарно-желтые полотенца, туалетная бумага в цветочках, «С нашей кровати поутру встанете без болей в пояснице!», двухэтажный дом светлого дерева под золотисто-желтыми липами, над входом распростерший крылья орел держит табличку: «Вы застраховали?..», камин из грубого камня, пивные кружки зеленого стекла, обитые шелком кресла, медвежьи шкуры перед камином, перламутр в волосах, перламутр на губах, зеленые комнаты, синие комнаты, красные комнаты, «Быстро! Удобно! Практично!», мороженое со взбитыми сливками и дольками апельсина.
ОН взял с полки другой журнал.
Дорожка из плитняка поднимается к веранде, уставленной плетеными креслами. Возле дорожки — цветы. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты. На газоне живописно лежит кем-то забытый пестрый мяч.
— Интересуетесь домоводством?
Голос за спиной прозвучал так неожиданно, что ОН вздрогнул и положил журнал назад на полку. Словно ЕГО застали за недозволенным делом, словно книги на этих полках не всем были доступны и разрешены. Женщина возле дверей отложила вязанье и смотрела на НЕГО с подозрением. Человек, задавший вопрос, появился из двери между полками, словно бы вышел из книг, и стоял теперь перед ним, пощипывая волосатую бородавку на правой щеке.
Человек улыбнулся заученной улыбкой продавца и вновь спросил:
— Вас интересует домоводство?
— Я бы с удовольствием посмотрел что-нибудь о цветах.
Продавец провел ладонью по блестящим журналам.
— Здесь вы тоже могли бы кое-что найти, но — вразброс, материал о цветах и садоводстве есть лишь в некоторых номерах. Здесь основное внимание уделяется внешнему оформлению. Понимаете, краски, красивые иллюстрации. Но пройдемте дальше, пройдемте дальше.
ОН следом за продавцом прошел между полками в другое помещение, поменьше и потемнее, стеллажи стояли там один подле другого в ряд, в каждом проходе — тусклая электролампочка.
— Здесь наши основные запасы, — сказал продавец. — Осторожно, тут доска отошла! В первом помещении товар поновее. За счет него в основном и производится ежедневная продажа. Обычно в заднюю комнату никто и не заходит, думают, что тут складское помещение. Но у меня и здесь припасено немало ценных изданий. Подождите, я принесу вам лестницу.
ОН остался стоять между двумя стеллажами, на книгах лежал толстый слой пыли, ОН наобум открыл первую попавшуюся и прочел: «…я одурманю его камер-юнкеров вином и пряностями, и страж их мозга — память станет словно дым, и вместилище их разума — словно дымящийся котел колдуна. В скотский сон погрузятся они, как мертвые».
— Что такое? — пробормотал ОН себе под нос.
Продавец вернулся, под мышкой он держал длинную лестницу и осторожно лавировал с нею между стеллажами.
— Так, установим ее здесь. Там, наверху, на двух верхних полках — прошу, загляните туда.
ОН нерешительно ступил на первую перекладину, лестница заскрипела под ногами, и стеллаж слегка качнулся.
— Не беда, ничего не случится, не бойтесь, — подбодрил продавец.
ОН взобрался наверх, за спиной ЕГО раскачивалась задетая плечом запыленная электролампочка, Она слегка потрескивала.
— Я оставлю вас одного, — донеслось снизу.
ОН почувствовал себя здесь, наверху, неуютно. Словно уже бывал тут прежде, в этом пыльном и затхлом помещении, где старые квит ожидали нового хозяина, взбирался по этой скрипучей лестнице.
ОН взял толстый тяжелый том в кожаном переплете, присел на перекладину лестницы и подозрительно потянул носом. В помещении вдруг запахло чем-то новым. Больше всего это походило на запах дешевой карамели, шоколада и еще чего-то необъяснимо волнующего. ОН раскрыл книгу посередине и осторожно отстранил тонкую шелковистую прокладку. На матово поблескивающей бумаге цвели цветы, огромные яркие гроздья свисали с деревьев на фоне сумрачной чащи, пестрые птицы подхватывали капающий с венчиков нектар, цветы с шелестом тянулись от земли вверх, к свету. ОН вдыхал их приторный аромат, перелистывал страницы, долго и внимательно разглядывал каждую иллюстрацию, пока не прикрыл последнюю из них прозрачной папиросной бумагой. Краски померкли, аромат исчез.
ОН поставил книгу на полку и медленно спустился вниз.
Продавец стоял тут же, в тени стеллажа. ЕМУ подумалось, что этот человек все время следил за НИМ и, в случае, если бы ОН пожелал сбросить вниз какую-нибудь книгу или тайком сунуть себе в карман, выдернул бы лестницу у НЕГО из-под ног и накинулся бы на НЕГО с кулаками. По-видимому, когда-то это был крепкий и сильный мужчина, даже и теперь с ним было бы не так-то легко справиться. Продавец пощипал бородавку на щеке и спросил:
— Нашли что-нибудь?
ОН вытер пыльные руки о штанину.
— Нет, к сожалению.
Продавец покачал головой.
— Жаль, жаль, мне казалось, я смогу вам помочь, Я выращивал цветы и знаю, какое это приятное занятие. У меня был красивый дом и сад с цветами. Боже, как давно это было! Ах, если бы и здесь жить среди цветов! Чтобы они ярко пестрели, а вокруг резвились бы животные. Здесь все животные в клетках, я частенько бываю в зоологическом саду, сочувствую им. Вам известно, что животные редко кому позволяют смотреть им в глаза?
ОН в упор взглянул на продавца, — старческие, в красных прожилках глаза забегали.
Продавец шел следом за НИМ и бормотал извинения, что не смог ничего предложить покупателю, все продолжал извиняться даже тогда, когда ОН дошел до наружной двери и вновь вытер руки от пыли. Женщина с вязаньем поднялась со стула, закрыла за НИМ двери и повесила на стекле табличку «Магазин закрыт». ОН остановился на крыльце, прислушался к доносившемуся с площади шуму и почувствовал, что все еще голоден.
ОН стоял, пока на плечо ЕМУ не опустилась чья-то рука, и ОН услышал за своей спиной голос Друга.
— Вернемся назад, — требовал Друг, — мы должны вернуться назад.
Перевод с эстонского Н. Яворской
Георгий Семенов «Посияйте, посияйте…»
Река настелила на мокром берегу извилистую гряду весеннего мусора, а сама скатилась в русло. Ледяная, мутная и тяжелая, ворочалась она в своем беспокойном еще беге, лохматилась хмуро и мрачно, под весенним ветром, дующим ей в угон.
В небе набухали облака, скрывая солнце, но мусор — изломанные ледоходом стебли летошней тресты, спутанные водоросли, ракушки — успел уже просохнуть, побелеть и даже поддался гниению.
Пряное зловоние исходило от него, мешаясь с рыбным, холодным запахом полой воды.
Одурманенный, шел я вдоль этой гниющей грязи, уходя все дальше от городского шума. За мной тянулись по берегу глубокие черные следы. Ярко начищенные ботинки и отглаженные брюки были забрызганы теперь жижей, но, впервые попав после долгой зимы на берег былинной реки, я не замечал чавкающей земли под ногами, чувствуя весеннюю слабость в теле и какую-то сладкую освобожденность души.
Берег был безлюден. Весенний субботний день, четвертый по счету в старинном городе, в котором я раньше не бывал никогда, принес мне наконец-то бездельное это и праздное время, о котором я тайно мечтал, когда ехал сюда. Времени было так много, так огромны и неповоротливы были минуты и часы, составляющие его, таким заманчивым казался день, а потом и вечер, одинокий и оглушающе шумный в большом гостиничном ресторане, где гремел неважнецкий джазовый оркестрик, что я чувствовал себя в эти минуты самым счастливым человеком. Человеком, у которого даже есть собственная собака…
Эта собака глинистого цвета бежала издалека навстречу мне, бежала понуро вдоль светлеющей гряды, как на рыскале, и чуть не наткнулась на меня.
Но вдруг увидела, метнулась испуганно, остановилась и слезливо вперилась, разглядывая человека, который тоже, как и она, шел в задумчивости вдоль недавней границы полой воды и тверди.
На мою улыбку она робко вильнула хвостом и, уступив дорогу, заискивающе сощурилась.
Я не звал ее, но она пошла следом, пошла неторопливо и так спокойно, словно только затем и бежала издалека, чтобы пристроиться к человеку.
Она тоже теперь печатала свои когтистые следы на мягком берегу, шла чуть впереди меня, как поводырь, и мне было хорошо с ней. Теперь я словно бы знал, куда мне идти, что делать и как убить властвующее надо мной время.
Было всего лишь одиннадцать часов, но мне уже чудилось, будто прошла целая вечность с той минуты, как я, позавтракав, вышел из гостиницы.
Я вышел из гостиницы, нырнув в весеннее утро, как в холодную и прозрачную голубую воду, увидел мельком рабочих в брезентовых робах на бульварчике, увидел, как один из них, приподняв бетонный серый брус, достал из-под него слежавшиеся за ночь холодные рукавицы и постучал деревянно ими друг о дружку, готовясь к субботней работе. Шел, праздный, мимо этих занятых людей, мимо кучи цемента, прикрытой грязным толем, взбежал на вздрагивающий и гулкий мост — и закружилась на миг голова, когда я подумал о бесконечной праздности в великом и древнем городе, в котором только теперь распускались почки берез. А в Москве уже все было зелено. Получилось так, что я опять вернулся в пору прозрачной зелени, продлив себе весну или, вернее, впервые увидев ее так близко в этом напряженном и трудном для меня году.
В каком-то пьяном безрассудстве шел я теперь по чавкающей земле и посвистывал своей собаке.
Мириады крохотных мошек, облепивших мусор, звенели при каждом моем шаге. Белые куры копошились в гряде, косо постреливая взглядами. Петух возмущенно закококал, увидев собаку, и, длинноногий, голенастый, неохотно и как-то боком оттанцевал в сторонку. Студенистый гребень вздрагивал злобно и негодующе, словно бы в белокрылый его гарем вторгся соперник.
А собака моя с заметной робостью прошла мимо воинственного петуха, даже не посмотрев на него.
Это была очень вежливая, но забитая, а потому и недоверчивая собака. В глазах ее, даже когда она виляла от радости хвостом, слезилось извечное несчастье и какое-то рабское сознание своей так и непонятой вины перед человеком, без которого она, увы, не могла прожить. Я, видимо, был на ее пути одним из тех, кому она пыталась внушить добрые чувства к себе, бездомной и бродячей собаке, пережившей голодную зиму, и она радовалась даже тому, что ее не прогнали.
Если я останавливался, оглядываясь по сторонам, она тоже замедляла шаг и, струясь лохматеньким своим тельцем, отходила от меня чуточку вверх по берегу, на не тронутую половодьем взгорбленную черную землю, которая сплошь уже светилась зеленой травкой.
И когда я остановился под древней стеной детинца, она как-то уж очень по-домашнему свернулась калачиком на обрывке старой, пожелтевшей газеты и, нежась в лучах солнца, зажмурилась в полудреме.
Умилительная эта поза на клочке просохшей бумаги, та расторопность, с какой улеглась моя собака на солнцепеке, ее, точно тушью обведенные, блаженно сомкнутые глазки и чмокающие, предсонные звуки, которые она издавала, — все это словно бы подсказывало, что мы наконец-то пришли туда, куда мне нужно было прийти, и собака заслужила теперь право на маленькую передышку.
«Тут все останавливаются, — говорила мне моя собака. — Постой и ты. А я тем временем подремлю».
Ей было хорошо теперь, потому что рядом стоял человек, не прогнавший ее, светило горячее солнце, а стена загораживала от ветра.
Тысячелетний детинец мощно вздымался над берегом, над прозрачной зеленью травы и, грузно врастая в эту обнаженную, влажную еще и мягкую землю, казался угрюмым и древним старцем; так близко и так грозно вознесся он надо мною, что все мои чувства смешались в душе, сбились в болезненный ком, и острая до мурашек тоска пронизала вдруг мое сердце. Я почувствовал себя так, будто в самом деле пришел туда, куда судьбою начертано было прийти.
Я, как бездомная собака, слезно смотрел на могучие стены, на узкие бойницы и словно бы тоже, как и она, пытался внушить этому мрачному старцу добрые чувства к себе.
С языческим раболепием оглядывал я древние камни, изъязвленные временем, чувствуя нежданную и непонятную вину перед теми, которые ушли, оставив мне, живущему, незаслуженное, может быть, право смотреть на эти камни, пропитанные побуревшей кровью безвестных предков.
Я стоял под отвесной стеной в нейлоновых своих, шуршащих одеждах, яркий, как древний князь, и бесславный, как последний холоп, и слышал за спиной гул беспокойной еще реки, отдававшийся эхом в крепостной стене, вознесшейся надо мною.
Той ли цепи я звено? Имею ли право прикоснуться?
Все помрачнело вдруг, когда я услышал в себе эти вопросы, и откуда-то прорвался холодный ветер, зашелестел пересохшими бурыми листьями, ударил по голым сучьям деревьев, и раздался стук…
Собака подняла голову и вопрошающе посмотрела на меня.
«Ты кто?»
Стена, только что освещенная солнцем, погасла, подернулась холодным пеплом. Собачьи глаза опять слезливо о чем-то молили, внушали жалость к себе. Глинисто-грязная морда выражала юродство и страх.
И я сказал ей охрипшим вдруг голосом:
— Ну что? Куда нам теперь? Веди.
И странно мне было услышать свой голос рядом с померкшей стеной.
Ветер усилился, и река опять потемнела, взъерошилась, подернувшись сизыми пятнами. Белый кораблик, стоящий вдали у причала, холодно и снежно засветился в помрачневшем мире. Засветились тоже и древние храмы на том берегу. Маленькие рядом с большими домами, они показались вдруг выше этих безликих жилищ.
Моя собака всячески старалась услужить мне и даже облаяла мальчишек, которые шли по берегу с березовыми удочками. Облаяв, вернулась, ожидая похвалы.
И я похвалил ее, уходя от тревоги своей и от слишком мудреных вопросов, которые застали меня врасплох. Какой цепи? Какого права?
— Ты самая храбрая собака на свете, — сказал я ей.
Прошло с той поры не так уж много лет, но я как сон вспоминаю странный весенний день — один из самых бессмысленных дней в моей жизни, но и самый загадочный в то же время, самый туманный и тревожный.
Не помню теперь, как купил я билет и пришел на причал к белому кораблику, который поманил меня издалека. Ах, да — собака! Она остановилась на берегу перед деревянным причалом и смотрела на меня снизу вверх. Она очень волновалась, понимая, видимо, что я сейчас умчусь от нее на легкой «Ракете» и мы никогда уж больше не увидимся. Она все время ждала от меня чего-то и, возбужденная, торопливо и загнанно дышала. Глаза выражали страдание и тоску.
Но что же я мог поделать! Она, конечно же, заработала себе кусок хлеба с каким-нибудь сыром, а то и жареный пирожок. Съедобное что-нибудь. Хотя бы сухарь! Но когда привела меня к пристани, я с досадой увидел пыльные окна летнего кафе, заставленные изнутри фанерными щитами, и ржавый замок на дверях. А я бы и сам не прочь был выпить сейчас хотя бы стаканчик горячего чаю.
Вот тогда-то, наверное, я и купил билет на «Ракету», на первый в этом сезоне субботний прогулочный рейс по озеру.
«Куда она денется! — подумал я о собаке. — Вернусь через час — увидимся и придумаем что-нибудь вместе. Мне и самому хочется есть. Потерпим».
На пристани было так же пустынно, как и на берегу реки. Только два речника, приплюснутые огромными, с широкими и лихими тульями, фуражками, торжественно поглядывали на меня, на первого пассажира, о чем-то переговариваясь меж собой.
Было похоже, что они меня одного собирались прокатить по озеру, и чувствовал я себя неловко. Не будь меня, они бы, конечно, отменили рейс.
Но минут за десять до срока спустился сверху застенчивый солдатик, а следом за ним молодая парочка, продрогшая от поцелуев и любовного озноба. Парень не спускал с девушки взгляда, и она тоже, часто моргая, смотрела на него серенькими, зябкими, густо подведенными глазами, не замечая никого вокруг. Губы их, носы и подбородки лоснились, как у детей, нализавшихся сосулек.
Перед отплытием подошли две женщины — старая и юная, неуловимо похожие друг на друга, хотя я и понял сразу, что не дочка с мамой решили прогуляться ветреным днем по холодному еще, неприветному озеру. Понять это было нетрудно: у нас давно уже дочери не смотрят с такой нежной почтительностью и уважением на своих матерей. Видимо, старая женщина имела какую-то иную власть над своей молоденькой и довольно милой черноглазой спутницей, похожей на обрусевшую татарку.
У татарок, по-моему, очень выразительные брови! А черно-вишневые глаза их даже в веселье кажутся окутанными дымкой усталости и печали.
У моей незнакомки, которая легонько поддерживала за локоток старую женщину, тоже был в глазах этот сбой, это противоречие, эта несовместимость двух понятий, двух чувств, — была, как говорится, загадочность во взгляде.
Черт бы меня побрал совсем! Я посмотрел на нее и тут же напрочь забыл о несчастной собаке.
Прогулка по озеру, которая представлялась мне бессмысленной затеей, приобрела вдруг свое особое значение, лили, только женщины взошли на борт корабля.
Младшая из них словно бы исполняла роль галантного кавалера, подавая руку седой своей патронессе, когда та, подслеповато щурясь, осторожно ступала на зыбкую палубу. Ступала так, будто входила в воду, нащупывая носочком уходящее вниз колючее, каменистое донышко. А на лице ее поигрывала в эти мгновения робкая и вместе с тем какая-то надменная, презрительная усмешка.
Было ей под семьдесят, но на плечах ладно сидела модная, иссиня-черная каракулевая шубка, а на ногах были замшевые сапожки, тоже черные и тоже очень изящные.
И мне показалось, когда я внимательно разглядел худое и умное, бледное, как у васнецовской боярыни, лицо, что женщина эта никогда не была юной, или, во всяком случае, никогда беззаботная улыбка не освещала ее провалившихся, не по-женски пронзительных и задумчивых глаз. Я подумал еще, что она и сама отлично понимает силу своей власти над молодой, которая сопровождала ее, над моей прекрасной Заремой, как я мысленно успел окрестить татарочку. Но, понимая, воспринимает это как должное, как само собою разумеющееся.
Сам же я никогда не мог терпеть подобных людей, не мог понять то удовлетворение, которое они получали от своей власти над ближними, а потому они были мне чужды.
И все-таки! Обе они были прекрасны на белой палубе — седовласая и юная, начало и конец, две молчаливые противоположности, облокотившиеся в задумчивости на поручень кораблика.
Зарема рядом с ней была так молода и так потрясающе красива, так светилась она ожиданием, стараясь при этом скрыть волнующие ее чувства преклонения перед своей спутницей, казаться независимой, что я, как зачарованный, не спускал глаз, любуясь ее великолепным смущением и зная, что она даже не успела заметить меня.
Она пыталась что-то рассказывать надменной старухе, печалясь в смущенной улыбке, но всякий раз наталкивалась на холодный и как бы обрывающий кивок седой головы. И умолкала, томясь в ожидании вопроса или просто какого-нибудь движения. Глаза ее в эти минуты вишнево поблескивали, на скулах проступал румянец, и пересыхали губы, которые она старалась облизнуть незаметно: мне казалось, что они имели густой, коричневый оттенок, как будто запеклись, опаленные внутренним жаром.
Впрочем, возможно, оттого это так мне казалось, что она порой склоняла голову, чтобы незаметно облизнуть свои сухие губы, всякий раз погружая подбородок в ярко-коричневый, поблескивающий каждой остью драгоценный мех воротничка. И коричневые блики окрашивали ее губы.
Я не знал, была ли она красива на самом деле, но здесь, на пустой палубе холодного кораблика, со мной происходило что-то непонятное. Каждая минута была пронизана одним безумным чувством восторга, будто бы ее восхищение своею спутницей волшебным каким-то образом переселилось и в меня, переполнив душу скоротечной и бурной влюбленностью… Я не узнавал себя.
Во всех тех редких случаях, когда мне приходилось плыть куда-либо, минута отплытия, первые покачивания лодки над глубиной, медленное движение отчаливающего судна увлекали меня настолько, что я этим жил, наблюдая, как отдаляется берег, слыша, как дрожит под ногами палуба, как шумит вода за бортом, как пахнет теплым машинным маслом и паром.
Но на этот раз я не заметил отплытия, и только отчаянный и тоскливый лай, прорвавшийся сквозь рокот моторов, заставил посмотреть на берег.
Моя собака, уже далекая и неразличимая, ожившим глиняным комом бежала по берегу у самой кромки воды, пытаясь догнать меня, и визгливо взлаивала.
А корабль, на борту которого я стоял, уже затрясся весь, ожил, зашелся подводным бубнящим гулом и вдруг помчался, привстав на своих крыльях. И потекла, заскользила, закружилась за бортом серая речная рябь, ударил ветер в лицо, и все умолкло в реве движения.
И я уже не видел собаки, которая будто бы споткнулась в своем безнадежно тихом беге, замерла возле далекой уже пристани, на ускользающем и отдаляющемся от меня берегу.
А мы на крыльях вылетели в мрачное озеро и понеслись над его волнами, оставляя за собой белый шлейф кипящей воды, которая лениво и вяло опадала вдалеке, таяла, как тает инверсионный след высотного самолета в ясном небе.
Глаза слезились на ветру и холоде, но я не отходил от бортового поручня, потому что мои попутчицы тоже стояли на этом пронзительном ветру, прижавшись друг к дружке.
Ветер трепал их волосы, белые и черные, как гривы скачущих коней. Зарема громко кричала, так громко, что даже я слышал:
— Посияйте, посияйте, — выкрикивала она, как заклинание, — юрьевские главушки! — Лицо ее наконец-то обрело бесшабашное и ликующее выражение. — Полюбила бы монаха, да боюсь ославушки!
А старая, не расслышав, наклонилась к ней, придерживая волосы рукой, и Зарема повторила еще громче и еще озорнее: «Посияйте, посияйте…».
Я увидел улыбку, неожиданно молодую и игривую, на лице седовласой женщины.
— Ах, «ославушки». Понятно. Хорошо! — громко выкрикнула она.
Тут уж Зарема сама просияла от счастья, что угодила-таки, и с улыбкой смотрела на чернеющий прибрежный монастырь, мимо которого мы мчались.
Как я хотел бы в эти минуты быть на месте ожившей старушки! Как мне хотелось, чтобы Зарема оглянулась и посмотрела на меня, увидела мое мучительное сопереживание, соучастие в ее радости… Я радовался, видя ее рядом с собой, всего в каких-то двух или трех метрах от себя… И я был с ней один в эти минуты, один среди серых и мутных волн, над которыми мы пролетали.
Я стоял за ее спиной и, заледенев от ветра, выламывал на своем озябшем и непослушном лице улыбку. И было такое ощущение, будто бы я превращался в собаку, заискивающую перед человеком, внушающую ему добрые чувства к себе. И если бы моя Зарема в минуты этого превращения посмотрела на меня хоть мельком, как на вещь, как на какую-нибудь металлическую перекладину, у меня, наверное, отрос бы хвост, и я с великим удовольствием завилял бы этим хвостом.
Взгляд Заремы иногда скользил по мне, но я невидимкою был для нее. Казалось, и старушка тоже не увидела меня, хотя тоже смотрела в мою сторону, когда корабль, развернувшись, мчался обратно к речной пристани.
Я первым сошел на дощатый причал и, потирая ладонями заколевшее лицо, в упор смотрел на Зарему, которая шла мне навстречу рядом с надменной старухой.
Странно, но мне показалось, что обе они прошли сквозь меня и, не заметив этого, медленно стали подниматься по деревянной крутой лестнице.
Следом прошла влюбленная парочка, отогревшаяся на мягких креслах пустого салона, нацеловавшись в тепле и желанном одиночестве. И эти скользнули, как тени, увлеченные лишь собою.
Подновленный за зиму кораблик, зябко осевший в воде, прижался к причалу и стал похож на лебедя, спрятавшего голову под крыло.
Когда я оглянулся, на лестнице никого уже не было. Над крутым косогором ветвились неясные макушки деревьев, в которых чернели грачиные гнезда. Грачи разносили на всю округу хриплые и торжествующие несмолкаемые звуки своих разговоров.
«Посияйте, посияйте, — сложились знакомые строки, — юрьевские главушки…»
Ноги мои невесомо и неощутимо понесли меня куда-то…
…За дымкой лет я, конечно, смутно помню последовательность всего, что со мной происходило в тот странный субботний день. Зато отчетливо помню тугой сверток в кармане куртки: несколько ломтей хлеба и кусок жареного, завернутого в обрывки бумажной салфетки жесткого мяса. Я стоял над хмурой рекой, над грядкой гниющего мусора и свистом звал свою собаку.
Но собака не приходила.
Я спрашивал у прохожих людей, не встречал ли кто-нибудь из них лохматую собачку глинистого цвета, но люди молча проплывали мимо, даже не посмотрев в мою сторону. На лицах у них иногда играли расплывчатые и непонятные улыбки.
Я все время не мог избавиться от неприятного ощущения, что меня никто не видит и не слышит.
«Ах, Зарема, — с горькой усмешкой думал я в отчаянии. — Разве ж так можно шутить над человеком?! Что ж ты со мной сделала, Зарема? Где ты теперь?»
Я тихо твердил вслух это загадочное имя, уверовав давно, что мою незнакомку зовут Заремой.
Однажды мне самому вдруг почудилось, что я тоже, как и люди, не слышу и не вижу себя.
В ушах у меня неумолчно хрипел торжествующий грачиный грай. Передо мной пучилась серая река. Я стоял, привалившись спиной к холодной стене детинца, и мне, безумному, хотелось увидеть самого себя. Но я не знал, как это сделать, и готов был заплакать от сладкой, ни с чем не сравнимой обиды, хотя и умилен был своим необычным ощущением, своей невидимостью.
И все время мне чудилось, будто перед глазами у меня летали черные грачи с костяными клювами.
Я жалел себя, большого и доброго человека, которого никто не видит теперь и не слышит. Я порывался приблизиться к людям, кричал им, устав от бесплотного и пугающего одиночества, но люди не замечали меня и проходили мимо, перечеркнутые тенями черных летающих хлопьев, похожих на грачей.
«Что такое? — подумалось в паническом каком-то ужасе. — Что это летает там такое?»
Я пытался свистом позвать свою верную собаку, которую так постыдно бросил, променяв на красавицу Зарему, но никакого свиста не слышал, хотя мне казалось, что очень громко и зычно свищу.
«Ах, Зарема, Зарема! Что же ты натворила? Как же ты могла не увидеть меня? Кто ты такая? Откуда взялась? Ославушки испугалась? «Посияйте, посияйте…» Что такое?»
Я вдруг увидел перед собой человека и даже услышал его усмешку. Только вот мне показалось, что на голове у него сидел черный грач.
— Эй… что такое? — сказал я бранчливо. — Почему вы все… это… Я тут, а вы не видите? Стою. Что такое? Как это… вообще…
— Ты где живешь? — спросил у меня человек. А грач тем временем тяжело поднялся и улетел.
— Собаку видел? Я тут собаку потерял… А что такое? Зарема ушла куда-то, а я жду. Вот хлеб, вот мясо… А ты видел? Вообще не надо… никакая Зарема… и пусть она чего хочет… Где моя собака? Ты видел или нет?
И вдруг в какое-то неуловимое мгновение я услышал и почувствовал себя, услышал свой бред, и в испуге хотел было отстраниться от стены, но она, как магнит, держала меня каменным холодом.
— Ты извини, друг, — пробормотал я вполне сознательно. — Что-то никак не могу совладать с собой.
— Бывает, — сказал тот добродушно. — Приезжий? Из Москвы, наверно.
— Ага… А почему ты знаешь?
— Вижу, что медовухи в «Детинце» напился.
Ах, да! Медовуха!
Только теперь, когда человек, поддерживая меня под руку, повел по тропинке, — только теперь понял я, откуда, у меня в кармане хлеб и кусок жареного мяса.
Я вспомнил все, и, превозмогая бражный туман, с благодарностью пожал руку доброму человеку.
— Спасибо, — сказал я ему жалобно.
— Да ничего. Как себя чувствуешь? Ноги идут?
— Идут.
— А у нас тут все приезжие на медовухе покупаются. Сами-то мы ее и не пьем. Найдешь дорогу-то? Не заблудишься? Мост-то видишь? Мост-то перейдешь, там и гостиница твоя. А на раскопках-то был? На том берегу? Сходи, интересно.
— Спасибо…
— Мы москвичей-то боимся, — весело сказал он мне и рассмеялся. — Бывай!
Мы расстались.
Он был в нейлоновой стеганой куртке небесно-голубого цвета, а на голове у него тускло отблескивала черная шапочка-финка из кожезаменителя. Добрый мой и веселый человек, узнавший во мне москвича! Почему?
Ах, да — медовуха…
И опять надо мной заветвились деревья над косогорами, оживленные растрепанными гнездами скрипучих грачей, и я заторопился вверх по врубленной в этот косогор крутой деревянной лестнице, приведшей меня к прорану в кремлевской стене, к воротам, в которые когда-то, переехав через реку по старому, давно уже снесенному мосту, въезжал на коне взбешенный и воистину Грозный Иван под колокольный звон розовой Софии. Я даже услышал, как дробно цокали подковы его коня на серой брусчатке детинца.
А меня встречали грачи. Было тихо, тепло и малолюдно на серой площади перед Софией, и только у памятника грудились люди.
Но Заремы не было среди них.
Грязь на моих ботинках и брюках подсохла, я имел, наверное, растрепанный и неряшливый вид, оказавшись опять среди людей.
Впрочем, на меня никто не обращал внимания, и, уже привыкая к этому, я долго еще искал Зарему, надеясь встретить ее и разглядеть еще раз среди людей. Я устал от бесплодных поисков, измучился от сознания, что больше никогда не увижу эту юную женщину, исстрадался душою и, теряя всякую веру в себя, теряя самолюбие и все те добрые качества, которые совсем недавно казались мне святыми, — верность, долг, обязанность перед семьей, — я метался, как брошенная на берегу собака, надеясь на чудо, на счастливый случай, на удачу…
Но все было напрасно. И, грешный, неприкаянный, вышел я вдруг нежданно и негаданно к древней сторожевой башне, в которой, оказывается, был ресторан русской кухни, носивший название «Детинец».
В башне теплился коричневый, деревянный сумрак, пахло медом и свечами. Деревянные стены и деревянные лавки, а на столах — глиняная посуда и хохломские ложки.
Мне принесли медовуху в глиняной, словно бы в печи прокопченной кринке и поставили рядом с ней глиняную чашку. И очень странно было пить это темное, пахнущее медом легкое зелье из темной же чашки. То ли много его там, то ли мало? Трудно понять. Мне показалось, однако, что очень мало, и я решил как следует распробовать древний напиток, легкую и душистую бражку.
Криночка была маленькая, а чашка большая. Официантка в кокошнике и русском платье была так хороша собой, и так уютно было в башне, такие славные люди сидели вокруг меня и так приятно дул ветерок в бойницу, что я забыл про все свои страдания и в блаженном успокоении думал о том, как вкусна и сытна исконно русская еда, запиваемая душистой медовухой.
Но слишком уж мала была криночка! Черненькая, глазурованная изнутри: что-то поблескивает, а что не поймешь, то ли медовуха, то ли глазурь.
— Как вас зовут? — спросил я у официантки.
— Валя.
— Валечка, милая, принесите мне еще одну криночку, а то мне мясо нечем запивать. Уж очень сухое мясо-то.
А Валя сказала мне с улыбкой:
— Вы, наверное, приезжий. Не советую.
— Ну что вы! Валечка! Я же знаю себя!
— Себя-то вы знаете, а медовуху небось ни разу не пили, не знаете, что это такое…
— Вот и знакомлюсь с древностью.
— Честное слово, не советую. Она коварная! Вы лучше квасу с хреном выпейте или клюквенного морсу. А то у нас ведь как? Вот ленинградцы или москвичи ознакомятся, как вы говорите, с этой древностью, а потом плащи, фотоаппараты — все забывают. Правду говорю. Лучше квасу выпить.
Я призадумался с сомнением, но, сохранив еще здравый рассудок, согласился на квас.
— Раз такое дело, — с усмешкой сказал я, — несите квас. Только вы меня, Валечка, тоже не знаете, я крепкий мужик.
— Это хорошо! Очень даже замечательно. Кушайте на здоровье, а я сейчас принесу.
Но я уже был сыт и пьян и, заворачивая в салфетку хлеб и кусок остывшего мяса, сказал милой Вале, которая с удивлением посмотрела на меня:
— Это я, Валечка, собаке. Хорошая такая, лохматенькая собачка.
— Гиду, что ль? Рыженькая?
— Какому Гиду? Просто бездомной какой-то… рыженькой, правда, и с кривым хвостом.
— Это Гид.
— Гид? Кличка такая, что ль?
— Да. Его тут все знают. Хитрющий! На вид-то он плюгавый, а понятливый зато. Как увидит приезжего, так и пойдет с ним, если не прогонят. Ходит, дожидается, вроде бы показывает — вот и прозвали «Гидом», А как же! Люди чего только не придумают. А он вроде бы и хлеб не зря ест — зарабатывает. И ведь главное, со своими-то городскими не пойдет! Чует, что свой. Неинтересно. А как турист или приезжий какой иностранец бывает из Москвы или из Ленинграда, так он тут как тут, улыбается, бежит колобочком впереди.
— А где живет? — спросил я невнятно.
— Кто же его знает! Зимой не видать, а как весна — прибегает откуда-то и подрабатывает. Может, из деревни какой — не знаю. Может, ночевать домой бегает, а утром сюда, к детинцу, на работу. Все может быть. Ведь вот приспособился, и что с ним теперь сделаешь? Скажешь: «Гид, иди ко мне», — а он посмотрит на тебя, прищурится и не идет, ты, мол, своя, чего мне с тобой, какой интерес.
— Значит, Гид, — сказал я, отхлебывая острого кваса с хреном, и тут-то… древняя медовуха сделала свое дело…
Привела меня на реку, примагнитила к стене, и вот только теперь, спасибо доброму человеку, я, кажется, все-таки одолел ее, хотя в голове у меня все еще кричали грачи.
Он появился так же неожиданно, как и утром, выйдя навстречу мне. Он узнал меня и заструился лохматеньким своим тельцем, радостно скаля зубы.
— Гид! — сказал я с восторгом. — Иди ко мне. Ты где пропадал? Я тебя звал, звал, а ты! Вот, видишь, хлеб, мясо. Ну-ка иди сюда. Вот… Иди, не бойся.
И он подполз к моим рукам, а я потрепал его по лохматой холке, выложив перед ним холодное мясо и хлеб, пропахший духовитым мясом.
— Ешь, — сказал я ему. — Ты честно заработал свой хлеб.
А сам с удивлением подумал, что, если бы не эта бродячая собака, я вряд ли бы вышел к пристани и купил билет в кассе, которая была рядом с летним кафе, и, конечно, не увидел бы милую Зарему над серыми и мутными волнами былинного озера, не услышал бы криком сказанные слова старой частушки: «Посияйте, посияйте…»
Ничего бы, конечно, со мной не случилось, и, я, наверное, неплохо бы провел субботний день в старом городе. Но, если бы не он, не этот глинисто-рыжий и хитрый Гид, который у ног моих с достоинством, неторопливо ел теперь мясо и хлеб, разве я увидел бы этот город так близко?!
Опять, как в прошлые дни, сидел бы я вечером в гостиничном ресторане, слушая трескучую музыку плохонького оркестра и затасканные песни о любви, и, по всей вероятности, был бы доволен прожитым днем. Но никто не вдохнул бы в музейный холод жизнь. Я побывал бы в музее, потерявшись в толпе таких же, как я, любопытных.
Милая моя собака! Не знаю, правду ли рассказала о тебе официантка Валя, но если она и придумала все, то как же я благодарен тебе за этот тревожный и странный день в моей жизни! Неужели эти черствые кусочки хлеба и недоеденное мясо — все, чем я могу отблагодарить тебя?!
— Спасибо, Гид! — сказал я ему на прощание. — Я тебя никогда не забуду.
А он остановился на тропке, словно бы понял меня, и вильнул кривым хвостом. Грустно вильнул и задумчиво. И долго смотрел мне вслед: не вернусь ли?
Юхан Смуул Добрый Заступник моряков
Добрый Заступник моряков прибрал твоего отца в Атлантике. Не то чтобы прибрал, а от волны спас. Видит, устал человек, вымок, воюет из последних сил посреди холодной ночной Атлантики. Вот Заступник моряков и сказал твоему отцу:
«Воюй с волной до последнего. А потом я тебя приберу».
Увидела волна, что жертва от нее уходит, и зарычала на Заступника. Старая была волна: шла она промеж Исландии и Гренландии, да и застряла там — одним плечом за Исландию зацепилась, другим — за Гренландию, все бока об ледяные утесы ободрала. В дугу согнулась, на десять метров выросла, до того озлилась, что белая грива у нее выросла. Паршивая ночная волна. Белые космы разлохматила, катится, урча и рыча, в сторону Ледовитого океана. Знай идет себе и идет, широты так и мелькают, и гремит, как и положено греметь такой волне.
Отец же твой, дай ему бог здоровья на том свете, только что вахту у штурвала отстоял. Весь день рыбу солил и без того устал, а во время вахты чуть вконец не свихнулся от этой чертовой боковой качки, едва на ногах стоял. А над палубой леер был натянут, чтобы твой отец держаться за него мог: кубрик-то на самом носу находился. До последней точки твой родитель дошел и думал о тебе, но о матери — больше, потому как маму твою он полюбил раньше, чем тебя, но о тебе, сынок, он тоже думал и думал вот чего:
«Если сын мой всех букв не выучит, и моряк из него не выйдет и вообще никто».
Добрый Заступник моряков (он над Атлантикой взял тысячу небесных десятин для своих подопечных) кричит твоему отцу:
«Берегись, Андрус, волна!»
Но твой отец не услышал, слишком он измотался, а волна ударила сбоку и швырнула корабль, и отец твой не успел схватиться за леер. Маханула волна на палубу и снесла твоего отца за борт.
Понимаешь, сынок, может, и тебя смоет однажды за борт. Мужская дорога такая, что частенько и за борт уводит: главное дело — суметь на свой корабль вернуться. Сам я три раза тонул: в Атлантике, в Баренцевом море и в Немецком, но каждый раз на свой корабль возвращался.
Так вот, значит. Смыло твоего отца волной. Нырнул он в самый гребень, и понесло его. Но сердце у волны было холоднющим, как лед, и холод этот начал донимать твоего отца. Одежда на отце была тяжелая, но поскольку был он человеком большого ума, то стянул с ног сапоги и отдал их морю, стянул с себя бушлат и отдал его морю, снял с себя рубашку и простился с ней. А потом твой отец приустал и попросил Заступника моряков:
«Устал я, старик. Можно мне утонуть?»
Но Заступник приказал отцу:
«Нет, воюй! Воюй до конца!»
А твоему отцу стало уже тошно от холода, и очень он устал, и потому спросил он у Заступника:
«А когда же бывает мужчине конец?»
«Когда бывает конец, это мое дело. Главное, чтобы мужчина воевал так, будто меня и нет. Уж такой у меня закон для всех моряков».
И вот как только Заступник увидел, что отец твой больше не может, он и говорит волне:
«Отдавай Андруса сюда! Отдавай сейчас же!»
Но волна зарычала на Заступника:
«Не подплывай! Палец откушу! Узнаешь у меня!»
И Заступник схлестнулся с волной. Волна была могучая, и злости в ней тоже хватало, и она схватила Заступника за ноги и шарахнула его гребнем по голове. Так они дрались из-за твоего отца на границе Ледовитого океана, словно двое коршунов. Заступник был маленьким и очень юрким коршуном, а волна была черным коршуном с широкими крыльями, и крылья эти пересекала белая полоса пены. К тому времени, когда Заступник выдрал у волны твоего отца, сам он стал таким же мокрым, как и отец, и таким же усталым тоже.
И Добрый Заступник моряков сказал твоему отцу:
«Теперь, Андрус, махнем с тобой на небо. Я арендовал у бога для моряков тысячу десятин неба над Атлантикой. Оба мы, бедняги, устали, туда сейчас и махнем».
Волна внизу все еще рычала. Она даже остановилась от злости, и все остальные волны налетели на нее и всыпали ей по первое число.
Ты спрашиваешь, почему этот участок неба был над Атлантикой? Вот и отец твой спросил о том же у Заступника:
«Что ж ты другого участка не арендовал? Может, подешевле нашлось бы, да и к дому поближе».
И Добрый Заступник моряков ответил:
«Я заплатил богу по рублю за десятину. Совсем даже не дорого. А над островами какой может быть рай? Мухумцы без конца непотребное несут, не говоря уж про хийумцев, а наверху все прекрасно слышно. Что же это за небо?»
И вот Заступник моряков приводит твоего отца на небо. Показывает ему. Расхаживает там народ — одет чисто, в белых кителях, руки за спиной сложены. Посмотрел твой отец, спрашивает:
«Это кто такие?»
Заступник отвечает:
«Ангелы».
«А чего они делают?» — спрашивает твой отец Андрус у Заступника моряков.
«А ничего не делают, — говорит Заступник. — Рай, он не для того, чтоб работать».
«А моряки чем тут занимаются? — спрашивает отец. — Те, кого за борт смыло, кто своих дел на суше и на море не доделал, у кого жена дома осталась и мальчишка, такой маленький, что ему все бы одни сказки слушать, а не буквы заучивать?»
И тут Заступник моряков пригорюнился и признался отцу:
«Знаешь, Андрус, беда мне с этими моряками, сущее наказание. Грех жаловаться, но когда у молодых парней нет никакого занятия, то в конце концов они и в раю начинают буянить и творить всякие бесчинства. В сухом лесу костры разводят. Научились на своих кораблях лазать, вот и взяли манеру залезать на райскую крышу, а потом на них же самих дождь сквозь крышу протекает. Или раздобудут ножницы, понарежут себе кусочков из радуги, сделают из них карты и давай где-нибудь в уголке в подкидного шлепать. Но я тебе и половины не рассказываю, они и почище штуки отмачивают».
И тогда твой отец сказал Заступнику моряков:
«Слушай, старик, это же никуда не годится. Надо поломать эти порядки. Без работы да заботы и самый лучший человек загниет. Ведь они, чего доброго, еще и буфет здесь откроют».
Заступник моряков только вздохнул на это, от всего нутра вздохнул.
«Кто их, шалопаев, знает? Может, уже открыли. Недаром от их «осанны» по вечерам ангелы мои краснеют и куксятся».
Тут твой отец, который не только на море, но и на суше многих стоил, призадумался не на шутку и сказал так:
«Надо поломать эти порядки. Не то здесь ад получится».
И Добрый Заступник моряков пожаловался:
«Уже получился. Но неизменного не изменишь. Так было, так и останется».
Заступник моряков был седой, старый и усталый человек, и потому твой отец не стал бередить его душу. Только спросил:
«А нет ли в твоем раю озера?»
И Заступник ответил:
«Есть. В старину утекло из Эстонии Эму-озеро со всеми рыбами, и я приволок его сюда».
Отец твой сразу обрадовался и спросил:
«И какая же в нем рыба?»
А Заступник ответил:
«Всякая. И щуки есть, и лещи плавают, и язи, такие крупные, что бока уже золотятся, и старый сом усами шевелит, а плотвы столько, что гибель. Всякая рыба водится, да и чего ей там не водиться, раз никто не ловит».
И тогда твой отец Андрус сказал:
«Знаешь, старик, начну-ка я ловить. Закажи мне лодку!»
Заступник во все глаза на него уставился.
«Кто же это тебе позволит: в раю — и вдруг работать? Неплохо бы, конечно, рыбки поесть, а то каждый день все манна да манна. Только нельзя, Андрус, такой здесь порядок».
Положил твой отец кулак на стол и сказал:
«Порядок можно поломать. Закажи мне лодку».
Заступник спрашивает:
«Где же это я лодку тебе закажу?»
А отец говорит:
«В Лейзи есть лодочная фабрика. У них там хороший мастер, Вакрамом зовут. Ему и закажи».
Ухватился Заступник моряков за свою бороду обеими руками, растянул ее в разные стороны и спросил:
«Какую же ты хочешь лодку, Андрус?»
«Весельную, — объяснил отец. — С килем в двадцать один фут. И проверь, чтоб на ходу была легкая и волны не боялась».
Заступник спрашивает:
«А где же мне резолюцию брать на лейзинцев и на Вакрама?»
Такую, дескать, бумагу, без которой ни шиша не получишь.
Отец и говорит:
«В Таллине возьмешь. Скажешь, что для меня: дадут».
И отправился Добрый Заступник моряков в Таллин. Обошел все конторы, все церкви — не дают ему резолюции на лейзинцев. И пошел он просить к партийному секретарю. Тот встал из-за стола, вышел культурненько навстречу, дал пять и спрашивает, по какому, значит, делу, товарищ.
Заступник моряков и говорит:
«А по такому делу, товарищ, что у меня над Атлантикой тысяча десятин матросского неба».
Услышал это секретарь и говорит:
«Ну, если ты из таких, то я тебе не товарищ. Пропуск есть? Как ты сюда попал?»
Заступник моряков признался:
«Пропуска у меня нет. А попал я сюда через форточку».
Тогда секретарь спрашивает:
«Так кто же ты, бог или черт? Что ты за человек?»
И Заступник моряков сказал:
«Нет, я не черт — черти через дымоход входят. И не бог. Я сам от себя на матросском небе хозяйствую, ну, наподобие единоличника или в этом роде. Снял я как-то у бога в аренду тысячу небесных десятин по рублю за десятину, сначала даже выплачивал эту аренду».
«Нечего было выплачивать», — рассердился секретарь.
Заступник согласился:
«Верно. Я больше и не плачу с тех пор, как стал газеты читать и узнал, что его вовсе и нет. Не плачу и горя не знаю».
Запер тут секретарь дверь, чтоб никто не вошел, и начали они толковать, и протолковали два дня. А про что они толковали, ни одна душа не знает. Но кончилось тем, что секретарь дал бумагу на лейзинцев и еще сказал Заступнику:
«Только выйди культурненько в дверь. Меня этими фокусами не запугаешь!»
Но Заступник моряков спросил:
«А если я всего-навсего сказка?»
Секретарь дал ему пять и сказал:
«Все равно входи и выходи в дверь. Зачем над людьми смеяться?»
И теперь вот ловит твой отец рыбу на бывшем Эму-озере. На матросском небе, с Вакрамовой лодки. А рыба там всякая. И щука есть, и окуни плавают — на спине гребень, по бокам красные плавники мотаются, и лещи есть — головы, как у поросят, и даже золотятся, и старый сом следит снизу за лодкой да усами шевелит. Он бы и клюнуть не прочь, но боится, как бы не порвать отцу леску. А плотвы столько, что гибель.
Клади-ка ты, невестка, спать этого парня. Пускай ему сон про матросское небо приснится. С морем да с горем он и без нас успеет познакомиться.
Перевод с эстонского Леона Тоома
Владимир Солоухин «Двадцать пять на двадцать пять»
Герой Советского Союза, доктор юридических наук, заведующий кафедрой в одном из крупнейших учебных заведений страны, Алексей Петрович Воронин был когда-то обыкновенным деревенским подростком.
Небольшого росточка и не имевший еще той профессорской округленности, которая появится впоследствии (и очков в роговой оправе), а обладавший лишь тонкой шеей, торчавшей из широкого воротника великоватой тужурки, в многочисленной поросли (густо было перед войной подрастающих парней в российских деревнях) среди рослых, круглолицых (мордастых — по ничуть не обидному деревенскому выражению) сверстников, он никак не мог считаться заметным парнем, видным парнем, первым парнем на деревне, и вообще — выделяться. Поэтому он мечтал о гармони.
Но тут я, возможно, несправедлив. Не обязательно — выделиться. Гармонь есть гармонь. И разве самые широкоплечие, кучерявые, белозубые, прямоносые, разве они тоже не мечтали все о гармони? Не для того, чтобы стать первее других, а просто так — растянуть мехи, пробежать пальцами по ладам и басам, расплескать залихватский перебор по деревенской улице, по залогам, по полям и лугам, по реке, до соседних деревень, где живут девки, всегда красивее и желаннее своих.
Далеко было слышно гармонь в деревенской тишине.
Ничего не было в окрестном мире громче ржания лошади, петушиного пения, скрипа тележного колеса, звяканья цепи около колодца, звонкого тюканья молотка по наковальне, когда отбивают косу, визжания пилы по дереву… Но разве же это звуки?
Конечно, бывало, ударит колокол или гром, но это редко, по праздникам, во время грозы. А так (кроме грома и колокола) самым голосистым и громким, что можно слышать в деревенских окрестностях, была гармонь. Не просто гармонь, не гармонь сама по себе, но все знали, что заиграл, выйдя на крыльцо, Васька Кочетков. В Прокшихе играют, а на Броду, в Останихе, в Негодяихе, у нас в Олепине слушают. Вот что означала тогда гармонь. Но только ли это означала она?
В то время не было в деревне побочных шумов, но не было и никакой посторонней музыки. Теперь, когда телевизоры, транзисторы, проигрыватели и портативные магнитофоны с кассетами, нельзя и представить себе тот музыкальный вакуум, который царил в ту пору. Но все же не вакуум. Песни, песни и песни. В сенокос, когда возвращаются бабы с граблями от реки в село, в зимние посиделки, на свадьбах, в престольные праздники за хмельными столами, над колыбелями — негромкие материнские песни.
Если же говорить о музыке, то приходится называть одну гармонь, Пастушьи рожки играли на утренней заре или в лугах, когда найдет на пастуха лирическая минута. Но не пришло бы в голову играть на рожке на гулянье, а также и во время праздничного застолья. Балалайка как-то не ценилась в наших местах, не считалась за порядочную музыку. Оставалась одна гармонь. Значит, от гармониста зависело веселье на гулянье, на праздничной улице, на свадьбе. Про свадьбу и говорить не приходится. Есть даже поговорка. Когда хотят сказать про что-нибудь несуразное, неудачное, говорят: «Это все равно, что свадьба без гармони». То есть нельзя и вообразить.
Свадьба должна быть с гармонью, желательно с двумя, чтобы играли гармонисты попеременно. Но бывало и сразу вдвоем. Помнится, про свадьбу в наших местах, на которую собралось сразу пять гармоней, говорили потом три года.
Пирующие выпили и теперь усиленно закусывают; в тесной избе, где не вздохнуть, не пошевелиться, все делится на «пирующих», то есть на приглашенных на свадьбу, и на просто набившихся посмотреть. Пирующие едят, а зрители смотрят. Наступает момент некоторого затишья в стуке вилок, в звяканье, в чавканье, и вот, уловив этот момент, без предупреждения, гармонист вдруг растянет мехи, и все сразу преображается в избе, за столом, в душах людей. Ликующие волны подхватывают и поднимают всех до восторга, до всеохватной радости, и тотчас этот восторг находит свободу и выход — грянула всеобщая песня.
Гармонного звука хватило бы, говорю, долететь до окрестных деревень, а он вынужден биться в четырех тесных стенах. И он бьется, оглушительно и пронзительно. Теперь вообразим, что же было бы на свадьбе, если бы не гармонь? Что это была бы за свадьба? Невозможно вообразить.
А ведь гармонист между тем мог заломаться, закапризничать и отказаться от приглашения.
Не знаю, с чем и сравнить авторитет гармониста в деревне, его особенное положение, всеобщее почитание, — частью от зависимости (не придет, и будешь гулять без музыки), но главным образом от радости, которую так щедро дарила гармонь в те безмузыкальные, вернее, безмузыкально-инструментальные времена.
Гармонисту — уважение и почет! От порога едва ли не под руки ведут в передний угол, сажают на скамейку, на видное место, расступаются, только что не сдувают пылинки.
Но если выступит пот на лбу, то могут и промакнуть девки собранным в комочек платком.
Теперь представим себе всю гордость девушки, если начала она гулять с гармонистом. Если он, такой выдающийся, такой недосягаемый, такой почти бог среди остальных парней, провожает ее с гулянья, сидит с ней на тихом крылечке. С гордостью и звонкостью выплеснет она при случае лирическую частушку:
Гармониста я любила. Гармониста тешила, Гармонисту на плечо Сама гармошку вешала.Гармонист сидит в переднем углу, девки подходят к нему, заказывают очередной танец:
— Вася, сыграй тустеп.
Вася играет. Опять же, с какой тайной сладостью думает девушка о том, что Вася этот, к которому так почтительно, даже робко обращаются все, что это ее Вася и что старается он, может, в первую очередь для нее.
Хорошо Вася играет, Ударяет по басам. Не сама я завлекала, Завлекал меня он сам.Даже если не свадьба, не вечеринка, а большое гулянье на все село в большой праздник, все равно без гармони не обойтись.
В том селе, где подрастал до парней Алеша Воронин, престольный праздник — преображение — 19 августа по новому стилю.
Погода летняя, сухая. Убрана рожь, поспели яблоки. Над желтыми соломенными полями, над стерней — синее небо да белые облака.
С утра, хотя и чувствуется в воздухе что-то праздничное, еще пусты улицы села. Праздник начинается в домах, за столами. Разве что гости из другой деревни пройдут улицей: женщины в крепдешинах, мужчины в белых рубашках, в пиджаках внакидку. Прошли деревенской зеленой улицей, по плотине мимо пруда, оживили улицу ярким живописным пятном — и снова одни только куры на зеленой траве.
Таких групп пройдет в разные дома не по числу ли домов. У кого же нет родни по ближним деревням, какая же родня не придет в гости в преображение?
Все это потом, напившись и наевшись, высыплет на широкую улицу, образуя гулянье, которое достигает своего пика к четырем, к пяти часам.
Однако главную массу гулянья составляют все же не эти гости, а группы, ватаги, толпы молодых парней, девок и подростков, пришедших из деревень в радиусе десяти километров только для того, чтобы погулять. Те, что гостевались за столом (белые пироги, студень, зеленый лук, яйца, селедка, тушеное мясо), так и остаются чаще всего привязанными к дому, сидят около палисадников, как бы не участники гулянья, а зрители. Но молодежи и без них набирается до нескольких сот человек. Ходят по селу — девки разноцветными длинными шеренгами, взявшись под руки, парни — кучками: прокошинские своей кучкой, топорищевские — своей. Или несколько небольших дружных между собой деревень объединяется и сольется в одну кучку. Оно и предусмотрительно в рассуждении будущей драки с кровопролитием, которая непременно случается в этот день.
Вдруг около церкви, на просторной луговине под липами, заиграла гармонь. Тотчас там, вокруг слышимой объединяющей точки, начинает завихряться и клубиться гулянье, все эти шеренги и ватаги, пока не образуется большой круг, пустой посередине, для танцующих.
Что бы они все делали без гармони? И каково подрастающему пареньку вообразить себя центром внимания уже не просто в избе, где толкутся в тесноте пусть хоть и пятьдесят человек, — но целого гулянья, когда вся нарядная улица слушает твою игру, подчиняется ей и был бы без твоей игры праздник не в праздник.
Я-то совсем не разбираюсь в гармонях, никогда не держал в руках, не извлекал, растягивая мехи, переливчатых, громких звуков, за полным отсутствием музыкального слуха.
Начав писать этот рассказ, я заглянул в одну-другую энциклопедию и кое-что вычитал там о гармонях, но, право не знаю, будет ли это интересно. Во-первых, оказалось, что это — духовой музыкальный инструмент. «Звук гармони образуется от колебания металлических язычков, прилегающих одним концом к планке с прорезями, под действием воздушной струи, направляемой по особым каналам, под действием меха… В России производство гармоней возникло в 30-х годах XIX века. Самым крупным центром производства гармоней была Тула. Гармонь, коренным образом усовершенствованная русскими мастерами, создавшими ряд ее разновидностей (тульская, бологойская, саратовская, сибирская, касимовская, татарская и др.), быстро распространилась в России и стала излюбленным народным инструментом. Русские мастера реконструировали также наиболее распространенный вид гармони, то есть венскую двухрядную, в двухрядную гармонь с «русским строем». Все эти виды и разновидности диатонических гармоней различаются особым положением клавиш и кнопок, количеством их рядов (отсюда названия — однорядка, двухрядка и т. д.), особенностями звукоизвлечения… У венки двухрядной — клавиатура правой руки имеет 23 клавиши, левой — 2…
В советскую эпоху гармонь широко используется для пропаганды музыкального искусства, особенно в колхозах. Она применяется в массовой самодеятельности, в клубных и профессиональных ансамблях и в оркестрах как сольный инструмент и для сопровождения народных песен… Систематически проводящиеся в СССР конкурсы и смотры художественной самодеятельности выявляют большое число талантливых исполнителей на гармонях. Для гармони издается специальная музыкальная литература, непрерывно расширяется производство гармоней».
Вспоминаю, что в разговорах о гармонях употреблялись все эти названия: венка, хромка, двухрядка, тальянка, двадцать пять на двадцать пять. Да если бы и без разговоров — из частушек и стихов и то можно получить основные сведения, о гармонях. Технические данные и термины, дойдя до деревень, до зеленых лужаек и соломенных крыш, до белых косовороток и крепдешиновых платьев, преображались в певучую лирику:
Заиграла где-то веночка В далекой стороне, Заиграло и забилось Сердце девичье во мне. Вот она и заиграла, Двадцать пять на двадцать пять. Я туда-сюда глазами, А залетки не видать. Ты сыграй, сыграй, тальяночка, Не дорого дана: От Петрова до Покрова Все работал на тебя.Теперь понятно, почему хотелось иметь гармонь Алеше Воронину. Два года просил у отца, вымогал и клянчил:
— Папаня, купи гармонь!
Перед каждой ярмаркой, перед каждой поездкой отца в город — в Юрьев-Польский или во Владимир — одна и та же песенка:
— Папаня, купи гармонь!..
Пиликать Алеша немного научился у завзятого гармониста Витьки Огуренкова, приходящегося дальней родней, почему тот и доверял подержать в руках драгоценный предмет и даже показывал, как расставлять пальцы по перламутровым пуговкам-ладам. Что-то похожее на краковяк выговаривала гармонь под непослушными, как бы немыми еще пальцами подростка: «Раз пошла, два пошла, третий раз подумала». Получается, получается! Если бы на недельку эту гармонь! Посидеть бы с ней на крылечке, подобрал бы «Златые горы». А если бы свою, постоянно, навеки…
— Папаня, купи гармонь!
Не думалось о том, что вместе с почетом гармонь несет еще и обязанности. Приятная, музыкальная, но работа. Недаром девки скомканным платочком собирают пот с гармонистова лба. Заиграл на гулянье, собрал народ в большой танцевальный крут — хочешь не хочешь, а играй. Танец, другой, ну пять танцев… Нет, приходится заряжать часа на два. Другие парни гуляют по деревне, не привязанные к месту гармонью, а ты сиди в кругу, потей, глотай пыль из-под танцующих ног. И уйти нельзя. То есть можно уйти, никто не приказывает. Но совестно обездоливать народ. Кроме того, девки уговаривают, а среди них одна, которой и уговаривать не надо. Поглядит — и словно обессилит глазами…
Тому же мечтающему о гармони Алеше Воронину, если бы сказала Райка Братчикова: «Поиграй, Алешенька, я тебе и ремешок поправлю…» — и поправила бы ремень на плече. Тогда ведь играл бы Алеша день и ночь.
Эта Райка на глазах перегоняла мальчишек-сверстников, формировалась из подростка, из угловатой девчонки в девку. Все округлялось у нее, наливалось, распирая девчоночьи платьишки, а в глазах появилась дерзинка, что-то такое вызывающее и приманивающее.
Как бы пройти мимо Райкиного дома с гармонью, чтобы она выглянула из окна (чей, мол, там появился гармонист?), пройти бы мимо, не поведя глазом. Или так. Гулянье собралось, а гармони нету. Все ходят понурые, не гуляется без гармони. В это время зайти с задов, из прогона, будто бы от Прокошихи, и растянуть мехи. Все обрадуются: гармонь идет! Васька Кочетков. Ба! Никакой это не Васька, это Алешка Воронин!
Впрочем, может, вовсе ее из-за Райки и не из тщеславия хотелось ему иметь гармонь, но вполне безотчетно и беспричинно, из побуждений чистого, так сказать, искусства. Может быть, таился в пареньке прирожденный гармонист, с искрой божьей, который стал бы прославленным на все окрестности гармонистом, какого и не бывало до сей поры.
Но отец не хотел покупать гармонь. Баловство, да и дорого. Черта ли в ней, в гармони. Яиц не несет, молока не дает, шерсти тоже с нее не настрижешь. А каждая копеечка на учете. Жадноват был Алешкин отец на нелегкую, впрочем, крестьянскую копейку.
Потосковал, пострадал по гармони Алеша Воронин! Но десятилетка в другом селе, за двадцать верст, где приходилось жить на квартире, отвлекала от неутоленной мечты. Потом началась такая круговерть событий, что опомнился Алеша только уж Алексеем Петровичем — доктором юридических наук и профессором.
Внешняя канва получилась такая. Война, и по призыву — на фронт. Фронтовая работа пулеметчика. Пулемет системы «максим». Одна станина — тридцать три килограмма. За форсирование Дуная на венгерском участке командир пулеметного расчета младший сержант Воронин получил звание Героя Советского Союза. Это и определило его судьбу. Без этого (если б, конечно, уцелел) вернулся бы домой и стал бы работать трактористом. Женился бы, наверное, на Райке Братчиковой.
Золотая Звезда открыла иные возможности, которые, надо прямо сказать, достались в благодарные руки, то есть человеку с достойными личными качествами. Офицерские курсы «Выстрел», Военно-юридическая академия, преподавательская работа в Высшей школе МВД, должность заместителя директора научно-исследовательского института, кафедра в одном солиднейшем учебном заведении страны.
Своим чередом — кандидатская, а потом и докторская диссертации.
Своим чередом — две дочки малышки, две дочки школьницы, две дочки студентки московских вузов.
Своим чередом — жизнь сначала в квартире жены (с тещей, шурином, шумными соседями), потом двухкомнатная квартира на Кутузовском проспекте, потом дача в модном пригороде Москвы.
Своим чередом — заграничные поездки, публикации статей, а затем и двух-трех книг по международному праву.
Своим чередом — седина в черных кудрях, брюшко, некоторая одутловатость в лице, роговые очки.
Своим чередом — болезнь щитовидной железы, операция, ежедневные таблетки, восполняющие те вещества, которые вырабатывала вырезанная доля щитовидки.
Своим чередом все проблемы всех этих лет. Освоение целины, кукуруза, укрупнение колхозов, возникновение совнархозов и ликвидация совнархозов, Братская ГЭС, экономическая реформа, реконструкция Москвы, ближневосточные проблемы, убийства президентов, угоны самолетов, освоение сибирской нефти, урожайные и менее урожайные годы, международная напряженность и борьба за разрядку международной напряженности, полеты спутников, космонавтов, фестивали, конгрессы, визиты в Москву многочисленных премьер-министров, королей, президентов… Мало ли произошло всего за тридцать лет.
Жизнь у Алексея Петровича получилась интересная, насыщенная книгами, учеными советами, выступлениями перед людьми, работой за письменным столом, поездками по стране и за рубеж, воскресными рыбалками (в особенности подледными) и астрономическим количеством банкетов, ибо все эти годы приходилось коловращаться в тех сферах, где выпекаются кандидатские и докторские ученые степени. А сколько защищено диссертаций, столько устроено и традиционных банкетов в «Арагви», в «Праге», в «Узбекистане», в «Пекине», в «Будапеште», в «Баку», в «Берлине»…
Как раз и очнулся-то он после банкета, когда из душного, с низкими потолками, зала «Арарата» вышел на Неглинную улицу. Вышли они «тепленькие», шумные, некоторое время не могли еще расстаться и на тротуаре все еще продолжали форсированными голосами начатый за столом разговор. Конечно, не весь банкетный стол, но пять-шесть наиболее знакомых между собой его участников.
Как будто что толкнуло Алексея Петровича, он остановился и стал разглядывать вывеску на магазине, словно это была какая-нибудь редчайшая вывеска, например: «Торговля индийскими слонами» или: «Продажа индивидуальных океанических кораблей», а и всего-то было написано там: «Музыкальные инструменты». Но надо иметь в виду, что прежде чем поднять глаза на вывеску (потому и поднял), Алексей Петрович увидел прямо перед собой, в метре от себя, за толстым стеклом витрины, полуразвернутую с малиновыми мехами гармонь.
— Ты куда, Алексей? Подожди! Поедем ко мне, продолжим…
Но Алексей Петрович Воронин не слышал уже дружеских голосов. Полированное, перламутровое, сверкающе-металлическое запестрело перед глазами. Подойдя к продавщице и удивляясь самому себе, точно не сам он все это делал, а кто-то действовал за него другой, Алексей Петрович спросил:
— Гармони в продаже есть?
— Пожалуйста.
Друзья, не поняв шутки, тянули профессора от прилавка, потому что было уже поймано такси, в дополнение к темно-вишневой алексеевской «Волге», в которую всем бы не поместиться.
— Пойдем, Алексей Петрович, пойдем, такси ждет.
— Какие у вас гармони?
— Какую вам надо?
— Двадцать пять на двадцать пять есть?
— Есть.
— Во! Дайте мне двадцать пять на двадцать пять.
Друзья все еще думали, что профессор расшутился, но вот и деньги уплачены в кассу, вот и гармонь уложена в футляр под оживленное похохатывание друзей. Алексей Петрович, не обращая внимания на смех, понес гармонь к своей «Волге». «Ты сыграй, сыграй, тальяночка, не дорого дана…»
Уже первые звуки, когда извлек их, оставшись один на даче, всколыхнули все со дна. Те гулянья, те девчонки, те сверстники, сено в лугу, телеги и лошади, лунные вечера, сладкие волнения, когда появлялась на гулянье Райка Братчикова, само состояние его, Алешки Воронина, свойственное тем временам, показалось не только далеким, прошедшим временем, но другой эпохой и как бы даже на другой планете. Но сам-то он был жив и здоров, и показалось теперь, что даже вовсе ни в чем не переменился. Что живет в нем все тот же Алешка Воронин — подросток с тонкой шеей, выглядывающей из великоватой тужурки. Целы и другие внешние приметы: их изба, да и большинство деревенских домов, пруд, плотина, многие люди, даже Райка…
Сладкая мечта вынашивалась теперь Алексеем Петровичем: удивить. Рисовались две основные сцены. Привезти гармонь в деревню, так, чтобы отец, разбирая вещи в машине, не понял, что это гармонь. Незаметно пронести в избу или спрятать в багажнике. Потом, в огороде, например, весело заиграть. Отец выскочит, переполошится, выбегут соседи на улицу: где гармонь? Чья гармонь? Но главное дело — преображение. Именно зайти с прокошинского прогона, выбрав подходящий момент, когда народу соберется много, а гармони нет еще на гулянье…
Для этого тренировался на даче. Пиликал сначала робко, а потом все бойчее. Если удивлять, то надо и сыграть как следует хоть одну вещь. Надо, чтобы гармонь была как гармонь, на уровне хотя бы среднего деревенского гармониста.
Жена Алексея Петровича, некогда красавица, москвичка Мира Евгеньевна, первой вкусила его музыкального искусства. Но сошлись на том, что новоявленный гармонист будет играть как можно тише, а жена со своей стороны проявит снисходительность к «бзику» мужа.
Поездки в деревню каждый раз волновали Алексея Петровича. Он любил свои родные места до мелочей, до запаха крапивы после дождя, до ветлы, наклонившей свой кургузый ствол над прудиком с зеленоватой водой. Хоть и понимал теперь, поездив по белому свету, что бывают места получше. Но все тут с детства вошло, притерлось, соединилось с душой зубчик в зубчик, выемка в выемку, так что при каждой новой встрече происходило полное совпадение и соединение и не надо было ничего лучшего.
Село Преображенское стоит на холме. Холм одной стороной снижается в огромный зеленый овраг, а другой — более полого и отдаленно — к реке. Потом местность опять поднимается за оврагом и рекой, и там стоит лес. Черемуха около реки, холодные омутки, где все-таки можно окунуться и почувствовать неизъяснимое наслаждение, земляника и рыжики (по времени) в близких лесочках. Полевые и луговые цветы во все стороны, тишина да синее небо. Что еще человеку нужно? К тому же — родная изба, где поползано по печке, по горячим ее кирпичам, сеновал с петухом, горланящим на насесте под самым ухом, сад с красной смородиной, родящей почти виноградной крупнины и тяжести кисти… И то правда, дольше, чем на два дня, не мог оторваться от московских обязанностей профессор. Этих двух дней как раз хватало, чтобы лишь вкусить и вдохнуть аромат и пожалеть, уезжая, что маловато оказалось времени. И он увозил в Москву желание вернуться сюда опять при первом возможном случае.
Воронин-старший, Петр Павлович, нигде уже не работал по старости и получал пенсию республиканского значения. Он с самого начала колхозов был активистом и постоянно на должностях. К тому же лучики от Золотой Звезды сына невольно обогревали и старика, так что пенсия республиканского значения никого тут, в деревне, не удивила.
Остальные дети Петра Павловича тоже все выучились, вышли в люди, народили внучек и внуков, которых привозили на лето на приволье и молоко.
Одним словом, благополучие жило в этом деревенском доме с палисадником, наполненным золотыми шарами. В дом, где все благополучно, приятно приезжать на побывку, особенно если сознаешь, что в сотворении благополучия есть и твоя немалая доля.
Он приехал на преображение.
Отец выбежал на крыльцо, мать, Пелагея Ивановна, выбежала, за ними — многочисленная родня, сестры, зятья, уже успевшие, как видно, расположиться за праздничным столом (традиция). Всплескивают руками, суетятся, таскают вещи (и пиво) из багажника в избу. Перебивая друг друга, вернее не слыша друг друга, возбужденно рассказывают каждый свое: зять — колхозный бригадир, сестренка — студентка Плехановского института, мать, отец.
— Я думаю: что-то Ленька мой не едет, обещался, а я уж и пирогов любимых с луком, с яйцами напекла.
— Мы ждем, ждем… По первой выпили, по второй. Спели и «Подмосковные вечера», и «Хотят ли русские войны», и «Я люблю тебя, жизнь».
— Я говорю им: раньше часу не приедет. Пока с дачи стронется, пока в Москве…
Отец в первые же минуты старался рассказать, какие ловятся караси в пруду, какие пескари на Скворенке, и что грибы высыпали в лесу, и что малина в Крутовском буераке, и будут яблоки, и хороший взяток у пчел. И что село теперь присоединяют к совхозу, и что недавно заезжал секретарь райкома…
— А я как раз вершу вынул. Караси хорошие попались, один к одному. Правда, хоть мелкие карасики, но сладкие. Мать их приготовила со сметаной. Уж и доволен же остался Степан Степанович. О тебе спрашивал. Ты бы съездил к нему в район, поддержал связь…
— Некогда, дед. Если хочет, пусть сюда едет.
— А это у тебя что за сверток в багажнике?
— Не тронь, не тронь! Это не мое. Давай-ка я сам внесу.
— Ну, как знаешь.
Разрушенное приездом «главного» сына застолье быстро опять налаживалось. Тем более, что сам стол получил подкрепление в виде постной и сочной ветчины, порезанной еще в столичном магазине, колбасы под названием «сервелат», копченой спинки горбуши, свежих болгарских помидоров. Была и диковинка. Из последней поездки в Венгрию привез баночку испанских оливок, приготовленных оригинальным способом. Косточка хитроумно извлечена, а на ее место внутрь оливки вложен кусочек анчоуса. Все вместе замариновано.
— Нет, вы попробуйте, — настаивал Алексей Петрович, — дед, мама, попробуйте. Из самой Испании.
— Чудят…
— Этошто, этошто! Надо же, из каждой ягоды косточку вынуть. А она сладкая, ягода-то? — сомневалась Пелагея Ивановна, поднося оливку ко рту.
— Это же оливка, маслина. Как же она может быть сладкой!
— Что они внутри-то спрятали?
— Это я не скажу. Сами догадайтесь, по вкусу.
— Ой-ой-ой! Ни кисло, ни солоно.
Пелагея Ивановна, от неожиданности (неизвестно, чего она ожидала от заморской ягоды) выплюнула полуразжеванную оливку на ладонь и побежала на кухню.
Но Петр Павлович внимательно покатал оливку по рту, пожевал и в конце концов проглотил.
— Остренькая. Закусывать хорошо. Только мала очень. Одной ягодой не закусишь.
Пробовали и другие под гоготанье и смех. Видно, и другим ягода показалась мала для закуски, потому что через две стопки на третью зять-бригадир залез в банку столовой ложкой, зачерпнул ее с верхом да целой ложкой и закусил. А уж анчоусы там не анчоусы — разбирать некогда.
Воспользовавшись остановкой в питье и еде, профессор вышел в сени, развернул там свой главный сюрприз и решил, лихо заиграв, войти в переднюю избу, к людям. Там в это время громко, но отнюдь не стройно запели. Сразу подобрать мотив и подключиться к песне (это было бы очень эффектно) Алексей Петрович не мог, значит, надо было ждать, когда пропоют, либо заиграть им наперекор.
«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба!..» — орали подвыпившие мужчины и женщины за столом. Алексей Петрович решился, подошел к порогу и рванул малиновые мехи. Замысловатый и неясный сперва перебор тотчас вышел на прямую мелодию, и оказалось это — «Златые горы».
Тут могло быть только два варианта. Могли все вскочить от удивления и восторга, оборвав песню, и засыпать вопросами: как, откуда, каким образом?! Могли также (более естественный вариант) сразу сменить, бросить эту «Свадьбу» и подхватить под Алексееву гармонь то, что она диктовала и требовала.
Произошло третье: поющие, нисколько не удивившись самому факту появления гармони в руках Алексея Петровича, приняли его игру как вызов и заорали еще громче (впрочем, и разрозненнее) — кто кого пересилит. В конце концов ни гармонь не перешла на песню, подладившись к ней, ни песня не переключилась на гармонный мотив, а все слилось в невообразимом шуме, а потом рассыпалось на мелкие смешки, возгласы, говор.
Музыкальная стычка прекратилась, но ощущение стычки осталось в душе, по крайней мере у Алексея Петровича. И главное — не спросил никто: откуда гармонь, почему гармонь?
Немного обидевшись на такое равнодушие, профессор (тоже ведь стопки три-четыре было уже опрокинуто) начал потихонечку задираться. Может быть, и не сознательно, но такой нашел стих. Как раз бригадир хвалился чем-то в своем колхозе, не то досрочной прополкой, не то досрочным силосованием.
— Вы лучше оглянулись бы вокруг себя, что с землей-то наделали… — довольно резко оборвал бригадира москвич.
— Что наделали? — недоуменно спросил бригадир. Остальные тоже поглядели на спрашивающего с недоумением, не понимая, что же имел в виду Алексей Петрович, что же они такое наделали с землей?
— А вы не видите? Истерзали всю землю, ободрали, исковеркали.
— Как исковеркали? Мы ее пашем!
— Я о другом говорю. Пойдемте, я вам покажу вашу землю. Да нет уж, пойдемте.
Раззадоренные и, как бы выразился сам профессор, заинтригованные, все пошли из избы, остановились около палисадника.
— Глядите! Кто помнит, каким было наше село? Ты-то, дед, помнишь? Здесь наша сторонка, а вон, напротив, другая. До нее, как видите, далеко. И все это пространство было зеленое, чистое. Как стадион. В белых рубашках лежали на траве и не пачкались. Посмотрите теперь…
Посмотрели. Действительно, все пространство между сторонами села было разъезжено тракторами и тяжелыми машинами, так что не осталось тут ни одной травинки, только рытвины, ямы, грязные колеи, вывороченная наизнанку земля. В дождливую погоду машины, очевидно, вязли и буксовали среди села. Из грязи там и сям торчали доски, колья, целые бревна, которые подсовывались под колеса. В нескольких местах валялись в грязи старые автомобильные баллоны, в том числе одна огромная зубчатая покрышка от колесного трактора. Местами в грязь были набросаны кирпичи и поленья, чтобы по ним перебраться в дождь с одной стороны села на другую.
В грязь машины, не надеясь проехать по разжиженной колее, выезжают из нее на сторону и едут рядом, по зеленой траве. Так появляется еще одна колея. Потом и из нее надо выезжать. То же и тракторы. Можно представить, что получается, когда по размытой дождями и схваченной мелкотравным дерном земле проскрежещет, пробуксовывая гусеницами, тяжелый трактор.
Вот и оказалось все село одной сплошной колеей, а вернее, единым месивом, засохшим теперь, в ведреную погоду, застывшим уродливыми комьями и колдобинами.
— Ну, видите теперь, на что это похоже? Раньше — гулянье в этот день по селу. Как же тут гулять, если просто пройти нельзя?
— Что поделаешь — техника, — начал оправдываться бригадир.
— По-вашему, техника должна портить жизнь? Землю? Почему нельзя устроить за селом стоянку машин? Вокруг села устроить объездную дорогу? Трактористов и шоферов заставить по селу ходить пешком. Они же в село «не пахать едут, а обедать, за сигаретами в магазин, путевку отметить в конторе. Неужели они не могут двести шагов пешком пройти? Ведь если на эту грязь каждый день смотреть — заболеть можно.
— Не думает об этом никто, — искренне признался Воронин-старший.
— То-то и оно. Пойдемте, я вам еще покажу.
Алексей Петрович вывел всех за свой огород, за залог, где начинался уже постепенно зеленый, размашистый склон оврага.
— Пейзаж, красота! — воскликнул зять-бригадир. — Какой еловый лесок на той стороне, какие сосны вон, справа.
— Ну и поглядите, что вы сделали с этим пейзажем.
— А что?
— Слепые, что ли? Лес на той стороне видят, а под носом у себя не видят.
Зеленая, ровная, хоть и наклонная, плоскость овражного склона действительно была в трех местах обезображена огромными буграми и ямами. Да и вокруг этих ям земля была ободрана и изрыта. Если бы на теле такие язвы, то была бы это какая-то страшная болезнь, и надо было бы немедленно лечить.
— Это-то? Это прошлогодние картофельные бурты. А левее — траншея, бульдозерами прорыли для силосования грубых кормов.
— Прошлогодние же бурты! Хотя и для них не следовало обдирать хорошо задернованную землю. Но, допустим, что не подумали, ободрали. Выбрали картошку после зимы. Неужели не пришло никому в голову заровнять опять это место, загладить, да и засеять сверх того травой. У вас же — техника! Испортили место и бросили. А в этом году где-нибудь в новом месте эти бурты и траншеи заложите?
— Не думает об этом никто, — еще раз подтвердил отец.
— А что это за ссадина наискось по всему селу?
— Тракторы.
— Кто же разрешил им своими гусеницами разрезать овражный склон? Они ведь только раз и прошли тут, чтобы сократить дорогу на полкилометра. Война, что ли, у вас, что лишние полкилометра проехать некогда? А что получается? Нет, вы уж подойдите, поглядите, что получается.
Подошли к гусеничной колее. Современная техника позволяет пройти тяжелыми машинами по любой почти местности, не разбирая дороги: овраг так овраг, лесная опушка так лесная опушка, цветочная поляна так цветочная поляна. Вот и здесь, по овражьему склону, безжалостно прорезали чудовищную колею гусеничные тракторы. Подойдя к колее, увидели, что дождевая вода уже начала размывать ее, промывая глубокую и широкую красноглинистую рытвину.
— Тяжелое ранение земли. И леском там, на другой стороне, между прочим, не хвалитесь. В него же зайти нельзя. Как говорится, черт ногу сломит. Срубленные засохшие деревья, отпиленные верхушки деревьев, сучья, обрубки, пни — все там перепуталось, сохнет, гниет, разводит короедов и дровосеков, мешает расти подлеску. Удручающее впечатление! И все это ведь не в глухой тайге, а в двухстах километрах от Москвы, в километре от колхозной конторы.
— Ты очень уж напустился на нас. Народу в колхозе мало. На полях ничего не успеваем. Рабочие из города выручают, а тебе бы еще и красоту. С красотой погодить можно. Картошка для нас главнее…
— Ну да, как один деятель говорил…
— Ладно, — оборвали его, — пойдем в избу, ты нам лучше сыграй на своей гармони. Гармонь у тебя замечательная.
Все-таки заметили, значит, гармонь. Но странно, играть Алексею Петровичу уже не хотелось. То он обижался, что не обратили внимания, а теперь, когда оказалось, что обратили, но не показали виду, сделалось почему-то еще обиднее. Обошлись, словно с маленьким. Он им серьезную проблему ставит, а они — на гармошке поиграй!
Вопрос о заходе со стороны прокошинского прогона отпадал сам собой. Конечно, огромные, многолюдные и пестрые гулянья остались в далеком прошлом, это профессор понимал. Но все же традиции долго еще жили. Люди забыли церковную сущность праздника — какое и чье преображение, но нужен был день в году, когда разъехавшиеся по ближайшим городам и поселкам преображенцы (но даже и из Москвы, как профессор) съезжались в свое село — к родне, не к родне, — и всех можно было увидеть: с кем учились, с кем гуляли мальчишками. Это вот как бы съезд землячества. С этим смыслом преображение существовало еще несколько лет; но и это его существование постепенно заглохло. Так что на этот раз в селе не оказалось не только гулянья, но и хотя бы одной группы девушек, которые прошли бы вдоль села в нарядных платьях.
Оставался клуб. В клубе, наверное, все-таки собирается молодежь. Сначала и туда не хотелось идти Алексею Петровичу, но пока смотрели по телевизору футбольный матч между двумя «Динамо» — киевским и тбилисским, одновременно потягивая пиво, привезенное в багажнике из Москвы, настроение переменилось, и Алексей Петрович стал звать всех наведаться в клуб.
Все не пошли, отказался в том числе и Воронин-старший, но зять, бригадир и младший брат Алексея Петровича Шурка (впрочем, тоже уже к сорока) согласились.
— Прихвати гармонь, — попросил Алексей Петрович брата, хоть уже и понимал всю нелепость своего московского замысла — вдруг заиграть и всех удивить.
— На кой она?
— Может, сыграет кто-нибудь.
— Кому там играть? Они под музыку пляшут.
— Возьми, тяжело, что ли? Возьми, я тебя прошу.
Шурка нехотя перекинул гармонь через плечо, и охотники до клубного веселья отправились.
В селе Преображенском так называемый клуб находился в бывшем поповском доме. Последовательно в течение многих лет в нем размещались то сельсовет, то правление колхоза, то медпункт, а теперь вот — клуб. Старая планировка дома — одноэтажного, деревянного, но довольно-таки обширного по сельским масштабам — давно утратилась. Она менялась в зависимости от учреждения при помощи фанерных перегородок, оклеенных обоями, но постепенно приняла современный вид: небольшой коридорчик, куда входят с улицы (густо засыпанный окурками), одно сараеобразное помещение и еще маленькая темная комната, где завклубом, приезжая девушка Люба, держала нехитрый клубный скарб: гитару без струн, домино, шахматную доску (без половины фигур), клей и краски для производства лозунгов, свернутые в трубку готовые болванки для стенгазеты «Колос», четыре десятка книг. Тут же, на отдельном столике, хранился и главный клубный предмет — радиола, здесь Люба ставила пластинки, динамик же, откуда вырываются звуки, был выставлен и нацелен прямо в зал.
В зале висели по всем стенам произведенные Любой лозунги со стрелами от цифры до цифры круто, чуть ли не перпендикулярно вверх. Однако на всех диаграммах были обозначены только два года — текущий и будущий, а прошлых годов не было, так что нельзя было судить о крутизне стрелок в ближайшие прошлые годы.
В обычные дни клуб открывался только вечером, но теперь ради праздника он и днем был открыт.
В помещении клуба (все же сказался праздник) молодежи — битком. Когда наши трое вошли, менялась пластинка, и показалось странным, отчего все эти молодые люди сидят в тесном и душном клубе, а не выйдут на улицу, на вольный воздух. Но тут в уши ударила музыка, голос певца, с нарочитой хрипотцой и как бы давясь почти до рвотной спазмы, заорал из репродуктора, и вся молодежь пришла в движение.
Поездив по заграницам, Алексей Петрович видел несколько раз, что эти самые современные танцы можно, оказывается, танцевать красиво. Но и то, даже где-нибудь в мюнхенском дансинге, находилось лишь две-три пары, из трясущейся массы, на которые хотелось смотреть и даже любоваться. Что же спрашивать с клубной публики в Преображенском? Алексей Петрович поглядел, как неуклюже дергается, вернее пытается дергаться, здоровенный парень с давно не чесанной шевелюрой, и ему сделалось не по себе.
Может, тут бы и развернуть свою гармонь. Но он обжегся уже один раз, когда и в собственном доме за столом не уступили ему. Здесь же это было бы похоже не просто на шутку, но, пожалуй, на хулиганство — заглушать клубную, законную музыку. Добро, если, пересилив джаз, он показал бы настоящую игру на гармони. А то перебить-то перебьешь, а что потом? Вот если на улице, невдалеке от клуба, заиграть… Неужели никто не соблазнится?
Около церковной ограды (где раньше и танцевало преображенское гулянье) он сел на лавочку. Зять-бригадир и брат, сославшись на какую-то необходимость, отпросились домой.
Не смешно ли, что такой-то человек, почти легендарный для этого села, да и начинающий к тому же седеть, сидит около церковной ограды и наигрывает на простой гармони? А! Кому какое дело! Сижу и играю. Алексей Петрович надел поглубже на плечо гармонный ремень, отстегнул пуговку на узком ремешке, сдерживающем мехи, и, утвердив левую басовую часть инструмента на коленке, правую повел змеей сначала немного вниз, а потом уж и кверху.
Тут вспомнился ему отрывок из стихотворения, услышанного на одном литературном вечере и запавшего в память. Речь шла о том, что на войне русская гармонь попала в руки баварцу. Наверное, осталась в блиндаже или просто в окопе. И вот баварец сидит и играет на «военнопленной» гармони.
Играл баварец ладно, худо ли, Но не качал он головой, Не поднимал ее он с удалью, Не опускал ее с тоской.Вспомнив стихотворение, Алексей Петрович поймал себя на том, что играет он именно опустив голову, не то с печалью, не то прислушиваясь к ладам. «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя…» — выговаривала гармонь почти словами все самозабвеннее и, в общем-то, горше. Но никто не вышел из клуба на ее зов.
Очнулся Алексей Петрович от того, что на лавочку рядом с ним кто-то сел. Не переставая играть, гармонист повернул голову и увидел пожилую, очень уже пожилую женщину. Одета она была в выходное, как видно, платье, в синее, мелкими беленькими цветочками, а в сильно загорелых и разработанных (другого слова не подберешь) руках теребила странный для этих рук тонкий батистовый платочек. Глаза у нее синие, но словно бы на одну четверть, а то и больше, разбавлены прозрачной чистой водичкой. Волосы гладко зачесаны и на затылке собраны в узел при помощи черных шпилек.
— Ну, сыграй, гармонист, сыграй. Ни разу не слыхала твоей игры. А я, пожалуй, и подпою.
Вдруг она действительно вскочила перед гармонистом и как-то очень естественно, словно тут был круг народу и весельба и как если бы ее выдернули за руку на круг петь и плясать, пошла, помахивая своим батистовым.
Сколько раз я зарекалась Под гармошку песни петь. Как гармошка заиграет, Разве сердцу утерпеть. У тальянки медны планки, Золоты сбориночки, Я по голосу узнаю Моего кровиночку.После этого ударила дробью, и Алексей Петрович увидел, что ноги у нее крупноваты и тоже «разработанные». А на них, между тем, капрон и довольно-таки модные туфли с широким каблуком.
Ой, подруга, дробью, Дорогая, дробью, Кружи ему голову Горячею любовью. Под высокое окно Подставляла лесенки. Под милашкину гармонь Подпевала песенки.Гармонист не заметил сам, как сразу, как только вышла плясунья, оставил своего «Хаз-Булата» и теперь неистово наяривал «елецкого», и не понять было — то ли женщина подпевала гармони, то ли гармонь подыгрывала ее пению.
Фантастичной показалась бы эта картина стороннему наблюдателю, если бы таковой оказался. Сидит москвич, и не просто москвич, но всем известный Алексей Петрович Воронин, неумело, но до гармонного захлеба рвет мехи, а перед ним пляшет и поет пятидесятилетняя телятница из соседней бригады, Раиса Егоровна Ксенофонтова. Одно и оправдание было бы им, что перебрали ради праздничка, но в том-то и дело, что оба были трезвы. Однако было тут как шапкой ударено о землю — и будь что будет.
Милый мой, поверь, поверь, Я люблю тебя теперь. Смотри на солнце, на луну, Поверь люблю, не обману.Женщина кончила плясать так же неожиданно, как и начала. Она села рядом с гармонистом, обмахиваясь платочком, и была в этом обмахивании заученность жеста, оставшегося еще с девичества, потому что на улице было прохладно и вспотеть плясунья, конечно, не успела. Не такие пляски приходилось выдерживать! Она негромко засмеялась и этим смехом все сразу сделала простым и естественным. Подурачился взрослый человек, ну и подурачился, и ничего тут особенного.
— Чай узнал меня, Алексей Петрович?
— Конечно, узнал. Да и знать не переставал. Разве не помнишь, как позапрошлый год поехали в сельпо в Максимиху, да и застряли около вашего телятника? А ты увидела наше бедствие и пошла в деревню за трактором?
— И то помню.
— Как живете-то?
— Кто? Я лично или мы вообще?
— Вообще я и сам вижу. Неплохо живете. Телевизоров развелось, мотоциклов. Даже магнитофоны.
— Да. И у моего сына мотоцикл. И телевизор у нас в переднем углу. Окно в мир, как пишут в журнале. Включил и, пожалуйста, тебе — Интервидение. Только разница с окном та, что там видишь, что видно, а здесь глядишь, что покажут. Ну… и на столе тоже — не бедствуем. Яйца и мясо — круглый год. — Женщина замолчала, покосилась на профессора, словно прицениваясь, стоило ли говорить ему золотые слова. — Но, пожалуй, скажу тебе: хорошо живем, а не радостно.
— Что же так?
— А с чего? Радоваться мне, например, с чего? Муж у меня — пьяница. Да и не люблю я его. И не любила, можно сказать, никогда. Выскочила тогда по глупости. А вернее сказать, ради того, что хоть бы за этого. Сколько вон баб без мужиков живут, да помоложе, получше меня…
— Село очень разъездили…
— И село, и вокруг телятника моего — ноги не вытянешь.
Разговаривали, а гармонист пилил и пилил потихонечку. Но тут, вывернувшись из прогона (как раз из того прокошинского прогона, через который мечталось в Москве войти в Преображенское с гармонью и удивить), громко застрекотал мотоцикл. Подпрыгивая на колдобинах и пыля, он наддал по короткой прямой и остановился около Раисы и Алексея Петровича.
— Мать, ты домой-то когда? Садись, подвезу.
— Это мой Слава, — пояснила Раиса. — Вячеслав. Ишь какой вымахал. Мотоцикл завел, телевизор, теперь магнитофон просит. И стоит не триста ли рублей. Почти корова. Шесть овец за одну игрушку отдай! Это что? А ты вырасти их, шесть-то овец…
Вдруг неожиданное решение вспыхнуло в сердце Алексея Петровича. Он быстро снял с плеча гармонный ремень, застегнул пуговки на мехах и протянул гармонь парню.
— На, Слава, бери. Дарю на память.
Парень покраснел, опустил голову, ничего не ответил. Даже матери сделалось неловко за него.
— Что же ты, Слава, бери. Дарят тебе от чистого сердца…
— На кой она мне. Если бы магнитофон. «Сони». — И зачастил, словно прорвало: — За наличные деньги, конечно. Только здесь не достанешь ни фига. «Сони». Японская фирма… Правда, Алексей Петрович! В Москве, говорят, в комиссионных магазинах бывает. Японская марка «Сони». А деньги маманя вышлет…
В осенний дождливый день я навестил на даче Алексея Петровича Воронина, моего старого друга и земляка. Пообедали, сыграли три партии в шахматы, я собрался уходить.
— Подожди. Пойдем ко мне в кабинет, чего покажу.
Поднялись по крутой дачной лесенке. Профессорский кабинет. Огромный письменный стол, заваленный учеными книгами и бумагами. Папки, наверное, с диссертациями, присланными на отзыв. Журналы по специальности, газетные вырезки — профессор…
А профессор сел на тахту, и не успел я моргнуть глазом, как у него в руках оказалась гармонь «двадцать пять на двадцать пять».
— Хочешь, поиграю потихонечку? А то жена заругается.
— Господи, да, конечно, хочу. Сто лет не слышал гармони. Но откуда она у тебя, каким образом?
И Алексей Петрович рассказал мне вкратце то, о чем рассказано на предыдущих страницах.
…По подоконнику стучали редкие капли дождя, снизу гремели посудой, а профессор пиликал и пиликал негромко, опустив голову, словно прислушиваясь к ладам. «Ты сыграй, сыграй, тальяночка, не дорого дана…»
Михась Стрельцов Смаление вепря
Наступают уже холода, схватывают землю заморозки — оседают инеем сырые туманы. Черствеет земля, и лоснится, темной холодной зеленью бьет в глаза поределая у дороги трава. Уже взялась коркой зябь, поседели в огородах и высохли до звона голые стебли и стал пустым воздух. Небо днем все ниже припадает, прижимается к земле. Еще гоняют на пастбище коров — подальше от деревни, в лес. Под вечер скотина не хочет возвращаться в хлев, норовит забрести в пропахшее картофельной ботвой и студеным капустным листом поле.
И вечерами, и поутру морозно, хмельно, как первачом, пахнет дымом.
В такую пору в деревнях свежуют кабанов.
Мне хотелось написать один рассказ и назвать его так: «Смаление вепря». Не кабана, а именно вепря…
Теперь я знаю, что, пожалуй, не напишу: боюсь, чтобы то, о чем хотел рассказать, не приглушилось незаметно, а то и вовсе не потерялось бы там, в словесах, а оно — почти несказанное — самое важное для меня. Зачем же я тогда вспоминаю и зачем пишу? Не знаю. Мне просто подумалось, что, может, все же обретет напоследок какую-то логику эта попытка рассказать. Посмотрим.
Я жил тогда в нетронутой части города, когда задумал свой рассказ, в старом районе, застроенном неуклюжими кирпичными, а больше деревянными домишками, утопающими в садах. К тем домишкам нужно было идти от улицы узким и глубоким, как просека, двором; по двору вела тропинка, твердо протоптанная в рыжей чахлой траве, в лопушистых кустиках подорожника, в сухих и разлапистых, как деревья, ромашках. В тени вишни, сирени или жасмина там можно было увидеть наспех сколоченный стол, иногда новый, из тонкого штакетника, или темный от времени, на приземистом толстом столбике: доски стали трухлявыми, раскрошились на закругленных подзорах и повыщербились ямки возле загнутых ржавых гвоздей. Встречались и столики, подновленные свежей доской, и она была непривычной здесь и бросалась в глаза, в точности как царапина на лице человека…
Теперь почти ничего не осталось от того района — одни пятачки, островки, зажатые кварталами безликих зданий с плоскими крышами. Остались возле новых домов, рядом с детскими площадками, то кривая костлявая яблоня, то вишня, которая вымахала в дерево — пышная в кроне и толстая в комле. И еще осталась улица, хотя и старая, но довольно широкая и ровная, потому что когда-то здесь был мощеный тракт. Название его, открещиваясь от старины, поменяли, но не поменяли, забыли, видно, поменять название базара, который расположен возле этой улицы и называется по-прежнему — Конский базар.
Осенью каждое воскресное утро слышно было, как поскрипывают на моей заасфальтированной улице деревенские подводы, как цокают копытами кони и как визжат и хрюкают в телегах подсвинки. Попозже, когда встанешь, стряхнешь с себя сон, позавтракаешь, а потом отправишься за сигаретами в ближайший магазин, не протолкнуться будет к прилавку сквозь толпу негородских людей. Толчея, гомон, и нездешние дядьки у кассы окликают зачем-то теток, стоящих в очереди к прилавку, и жестами что-то объясняют им… А на пустыре за магазином уже стали табором цыгане. Женщины занимаются детьми, и горланят, орут, как в поле, по своему обыкновению лохматые парни. Распряженный конь тащит с телеги сено, раструшивает его и согласно кивает головой, словно: «Ох, браточки, так оно и есть!» — хочет сказать шумной компании подвыпивших мужчин. Как будто конь этот знает, что цыгане есть цыгане, им все можно…
Вот так оно бывало, а может, бывает и теперь на том городском пятачке, где остался Конский базар, в ту пору, когда наступают холода, когда схватывают землю заморозки — опадают инеем сырые туманы.
В ту пору, когда в деревнях свежуют вепрей…
И в рассказе должна была подступать эта пора и должна была воскресать деревня: запах мерзлых щепок в дровянике, тарахтение тракторишки возле фермы, и на шумовом фоне этом — зычные голоса людей, испуганный гогот гуся на торфянике, стылый звон колодезного ведра, и внезапно — упругий выпад налетевшего наискось ветра, а надо всем, а во всем должно было быть каменное, затаенное молчание земли, травы и холодного, шершаво-сизого неба.
Вот что я должен был увести в подтекст, а как увести, я не знал. Нужно было, чтобы чувствовалось, как выходит на крыльцо человек, как звякает за ним, а затем дробно дребезжит щеколда; он слышит это, но и потаенное начинает уже завладевать им, и вот здесь, на самой трещинке внимания, вслед за скулящим порывом ветра сорока из-за пуни метнется ему в глаза тугою своей чернотой, испугается, взмоет вверх, остро сверкнув такою же тугой белизною, и соскользнет, подломив крылья, в огород, и на забор перелетит оттуда, и тревожно зачечекает, закланяется на заборе…
«Почуяла уже…» — вдруг подумает человек и вспомнит нынешнюю свою заботу и нарочито безразличную старательность жены — как она утром ставила в печь ведерные чугуны с водой… Обманывая себя, как будто какую-то другую нашел себе заботу, он задержится на крыльце и лицо подставит ветру, и глаза его тревожно будут вбирать в себя мир, и незримо воплотит перед ним стремительный ветер и тоску полей, и холодный обморок травы, и предзимнюю дрему деревьев…
Так он будет стоять, и у него будут шевелиться брови.
И услышит вдруг, как в пуне хрюкает он…
…Есть ему сегодня дадут попозже, чтобы он, оголодав, легче обминул догадку о том, какой ему выпал нынче день. Но это же, видно, и настораживает его. Он еще и не догадывается ни о чем, одно беспокоит его: почему хозяйка, выходя из сеней во двор, не подает на его хрюканье голос, почему с дурным кудахтаньем, с беспорядочным хлопаньем крыльев послетали с насеста и прежде времени бросились к крыльцу куры? Запах прокисшего хлеба и запарки слышен ему, слышно, как куры, не поделив чего-то, ссорятся и рассерженно квохчут и твердо скребет клювом о крыльцо петух, как надрывно, отчаянным каким-то голосом кричит на кур хозяйка… Но вот стихает все это, и снова нужно ждать и томиться. И наконец то, что не может быть обманом: топот в сенях, знакомое постукиванье мешалки в чугуне и голоса, один растерянный, а другой глуше и спокойнее — это хозяин. И отворяются сени и бухает дверь, предрекая миг хрупкой, исполненной непонятного смысла тишины. В ней и голоса иначе слышны: торопливый и сдавленный — хозяйки и коротко-круглый, темный — хозяина. Тогда снова как бы рушится, обрывается все, проваливается в новую, еще более непонятную тишину. Хозяина не слышно (остался на крыльце?), и все ближе, ближе к пуне хозяйкины шаги…
Он начинает хлебать, судорожно и решительно, словно забегая наперерез тому смутному, что внезапно поселилось уже в нем и гнетет его. И так же решительно, как начал, в какое-то мгновение он перестает есть и, злобно хрюкнув, остро вскидывает рыло и нюхает воздух, но маленькие, слабые глазки его болезненно-тупо-тоскливо глядят в пустоту, и ему уже почему-то невозможно довериться ни осторожной ласке в голосе хозяйки, ни торопливой ее руке, которая, вздрагивая, почесывает его за ухом. Решительно и злобно он захрюкает снова, а потом неожиданно яростно колыхнется в сторону громадно-гладким своим и грозным туловищем и напряжет шею, отступая назад и переставляя под собой несуразно круглые, короткие ноги. Если б умел, мог бы он поразиться тому, как это его хрюканье беспомощно и тоскливо отозвалось в нем, не предвещая ничего, кроме беды, потому что не то что увидит, а учует он, как хозяин неотвратимо приближается к воротцам пуни и темная фигура его застит, заслоняет собою светлый проем… Не будет уже рядом хозяйки, и останется он один на один с хозяином. И будет он метаться по пуне, всхрапывать и тосковать, и неподвижно будет стоять хозяин, понимая, должно быть, что теперь не нужен и бесполезен был бы любой обман, нужно просто набраться терпения и ждать, может, выйти даже отсюда во двор — набраться терпения и ждать. Он так и поступит и уже за воротцами услышит, как враз успокоится, перестанет хрипло хрюкать бедный вепрь, как потом будет он ворочать рылом подстилку, то прислушиваясь, то вновь беспокоясь, как опрокинет он бадейку с кормом и, наконец, решившись, подойдет к порогу. Это будет самая трудная минута, когда нужно спокойно шагнуть наперерез ему, и выставить перед собою дуло ружья, и стараться не слышать, как в груди темно бухает, ширится сердце, и целиться почти в упор в воображаемое пятнышко под бровью, над короткими, белыми жесткими ресницами, и видеть тоскливую, почти по-человечески осознанную покорность в том, как, смирившись с неизбежностью, все почесывает и почесывает он о косяк свою беззащитную выю… Вот и все.
И дальше уже нетрудно будет представить продолжение. Представить справные сани, ну те, и фасон и размер которых человек сознательно и с расчетом приспосабливал к своим возможностям и к своей натуре, чтобы по случаю можно было и добрую вязанку дров по первой пороше привезти из лесу, чтобы и малец мог сладить с ними на ледяной горке, чтобы и дедуню немощного можно было притарабанить по морозцу домой из соседней баньки. Вот и опрокинут набок те самые сани, и взгромоздят на них вепря, и поволокут по реденьким лоскутам раннего снега или по бугристой осенней земле куда-нибудь за пуню в ложок, в затишье ольшаника, и сорока тотчас усмотрит какой-то непорядок в своей округе — застрекочет, зашастает по ольшанику да по заборам.
Вот и все. Вот что, кроме всего прочего, должно было ощущаться, воскресать в том рассказе.
А сам замысел мыслился так: где-то, ну, скажем, в каком-то городе, в большом мире, среди людей живет сын, возможно, женатый, а может, и холостой. В детстве, в деревенском своем детстве, это был очень впечатлительный мальчик — худенький, бледный, широкоротый, порывистый и одновременно застенчивый, упрямый и в то же время не умеющий сдерживать слезы. Можно сказать, что душа его вбирала в себя многое, и можно сказать, что она была наделена способностью желать добра и понимать добро, понимать людей, и это было не то хищное, самоуверенное понимание, сиюминутный инстинкт выгоды, а другое, печальное и чуточку безысходное, без выгоды для себя: оно и скверного человека заставляло жалеть так же, как хорошего, хотя бы потому, что он скверный… Но это потом, в отступлениях. Начинать же нужно было бы с той ранней юности, когда человек весь, как весенняя почка: вот только что взорвала она тугую свою оболочку — о сладостный миг освобождения, опасная ласка солнца в предчувствии далеких дождей!.. Придет и гроза, и судорожно разорвет небо молния — не раз и не два, — и снова сверкнет солнце, и теплый дым опадет над орешиной, и не скажет молния, для какой завязи губителен был ее холодный зеленый луч… Но вот — молодость, и герой наш «и жить торопится, и чувствовать спешит». «Прощайте же, родные пенаты и родная хата, — думает он, — и ты, мать, не гляди так тревожно вслед». И голову еще не жарко припекает утреннее солнце, и в кринице, что укромно живет в тени родных лип, еще так много чистой воды.
Рассказать нужно было о юноше, который безрассудно и отважно ринулся в жизнь и не обкрадывал себя, искренне беря у людей и так же искренне отдавая им свое. Да и что тут было таить или жалеть! Ему казалось, что не может быть на свете человек, который, узнав, не полюбил бы его — ну хотя бы за эту его жажду сочувствия и ласки, не для себя только — для всех!.. Лишь иногда в шумном разгаре его любви к людям и согласия с ними вдруг становился задумчивым его взгляд, и казалось тогда, что тишина, высокая и сторожкая, вырастала за ним, и ощущение было такое, будто кто-то стоит за его спиной. И грянул срок, и разрушилась за спиной тишина, и беда постучалась в дверь, и познал он то, что хоть однажды в жизни познает каждый человек, — и разочарование, и отчаяние и пугливо-виноватые взгляды друзей, и непрочную ласку женского сердца.
И вот сидел он однажды у доброго знакомого в его квартире за накрытым на скорую руку, без женского участия, столом. Разговаривали, молчали, выпивали рюмку и молчали снова. Хозяин, лысоватый, долговязый, тертый жизнью, неглупый человек, никак не мог прикурить сигарету — ломались одна за другой спички. Наконец попалась хорошая спичка, он прикурил и неожиданно с какой-то непонятной горечью усмехнулся сам себе, а потом сказал:
— Знаешь, был я у матери… Зима. Скука. Вечером старуха поставит чугунок с бульбой на камелек… Сидим с нею, глядим на огонь, беседуем или молчим, вот как сейчас мы с тобой… И хорошо как-то, и то беззаботно на душе, то тревожно. Закурю папиросу, а она все гаснет и гаснет. И снова я спичкой чирк да чирк. А мать этак тихонько говорит мне: «Разве ж можно так портить спички, сынок… Прикурил бы от уголька, а?» И смотрит на меня тем жалеюще мудрым взглядом, какой бывает только у матерей, который видит в тебе то, о чем ты и сам позабыл или бессознательно спрятал. И, знаешь, содрогнулся я… Не то чтобы стыдно мне стало перед ней, ведь не спички же она пожалела, а показалось мне, браток… — Он легко, улыбчиво глянул на собеседника и, словно испугавшись этой своей растроганности, засмеялся: — Что скажешь, а?.. Эх, думаю, если б ты только знала, сколько мы, добры молодцы, рублевых спичек по ресторанам да пивным за один вечер расшвыриваем!..
И посмеялись, и помолчали, и взяли еще по рюмке.
Потом встали они из-за стола, и хозяин хотел проводить гостя, но тот отказался извинительно и тихо, и хозяин понял, что, видно, не нужно провожать, — так славно посидели они и помолчали, а в чем пришли к согласию, каждый догадается сам.
А затем гость наш распрощался и не спеша вышел на улицу. Вечерело, солнце низко стояло над городом и лениво, холодно било в окна, в жестяные крыши домов спокойно-багряным, равнодушным светом. Трамвай звенел где-то, и стоял запах остывающего, нагретого за день асфальта, и сильней, чем асфальтом, пахло кирпичной пылью и краской. Пуста была улица, он шел, а долговязая тень ложилась на дорогу и медленно ползла, словно подталкивая себя самое, и вдруг рядом, вроде бы за деревянным заборчиком, в палисаднике коротко и жалобно пискнул птенец. Это было как знамение какое-то, и он остановился и глянул туда. Холодный багрец заливал куст сирени, порыв сквозящего ветра колыхнул листву, и тени от нее затрепетали на желтой стене, и снова тихонько и жалобно пискнул птенец. Тогда он присмотрелся и увидел его. Он видел его совсем близко, этого грустно взъерошенного серого птенца, бесконечно, непостижимо одинокого в этой знакомой ему и, видно, не впервые облюбованной тени предвечернего куста. На стене, на листве, на огромных просторах города умирало солнце, и что чувствовал, кому и на что жаловался он, этот живой маленький комочек, измученный за день какой-то своей заботой, то ли понятной, то ли вовсе не понятной ему?.. Что это было: страх, напряженное ожидание непосильного озарения или чутко, всем существом внезапно осознанная обособленность от всего и разлад со всем? И не так ли тревожит, гнетет непонятным каким-то смыслом и самого человека печальная полоска прочерченной на западе вечерней зари?
Так подумалось ему, и он сжался от другой, нежданной острой мысли, которая пришла вместе с этой, но которая, видно, уже жила в нем, когда он сидел в гостях и слушал славного своего приятеля, и слышал в себе его слова, и себя слушал: как они, эти слова, отзываются в нем. Эта мысль была о матери, она так отчетливо вошла в него, что совсем не случайным, а единственно значительным и важным предстало перед ним то мгновение, когда тени от листвы затрепетали на стене и неожиданно пискнул за забором птенец. В печальном, странно замедленном раздумье шел он домой, и вместе с ним шла мысль о матери, или даже не мысль, а память о какой-то вине перед ней, воспоминание о растраченной понапрасну силе его любви, которая, может статься, никого не согрела. Струилась криница под шатром родных лип, и, козырьком приставив к глазам ладонь, вглядывалась вдаль мать…
С того дня беспокойство и тревога поселились в нем.
Однажды ему приснился сон. Сначала это был добрый сон, это была власть сумерек на границе света, когда все обозначала и проясняла собою не линия — обозначал контур, неуловимо зримый, как образ птицы, которая только что перелетела перед тобой дорогу. Высоким полем, березовым шляхом он ехал в этом сне на велосипеде, облачно тихой и теплой угадывалась впереди даль, и гудели в березах хрущи. И вся распахивалась навстречу неведомому душа, и так было хорошо!.. Куда же, куда, зачем он ехал? Но таким знакомым и в то же время незнакомым было все вокруг, так ласкало глаза умиротворенное небо, что невозможно было не думать: все это уже было с ним когда-то… «Ага, так ведь это же я домой еду, — неожиданно, весело, радостно догадался он, — вон там кончится дорога и покажется деревня». Но дорога все не кончалась, все убегала и убегала вдаль, и то знакомое, все то мучительно знакомое, чем светился, жил и звал к себе окоем, никак не могло определиться ни догадкой, ни смыслом. Оглянуться захотелось ему, он уже и намерился было, но не смог. И тогда порыв ветра упруго ударил ему в спину, ударил и сразу обессилел, и за спиной и вокруг зашелестела, зашуршала, осыпаясь долу, возникшая неведомо откуда листва, каленые, обожженные сивером листья. Стало тихо. Холод и пустоту чувствовал он за собой. Показалось на миг, что он закрыл глаза, ощущая только одно — как изменялось, как все непостижимо менялось вокруг него, а может, и в нем, страх пронзил его сердце. И тогда он увидел… О, тогда он увидел все необыкновенно ясно — и тот краткий миг, когда кто-то, до поры притаившийся в нем, одним толчком боли распахнул ему глаза и грудь! И тогда он увидел стены, которые сразу узнал: пропахшие паутиной, не тронутые фуганком стены, и топчан в углу, и груду старой одежды на нем, и старое корыто поверх этой груды, и скамью у двери, и ведра на ней, и на полу корзины с бульбой, и чугуны, и бадью с запаркой, и узкое, в одно бревнышко прорезанное оконце в стене, и какую-то банку на окне, и стакан с гусиным жиром, поставленный на банку, и единственное замызганное (не теплое ли еще?) куриное яйцо… О, почему, почему так знакомо все вокруг, и почему стоит у скамьи мать, и зачем чугуны у ее ног, зачем она повернула голову к нему — о, какой темный, невидящий, тяжелый, словно плеск воды в ведре, у нее взгляд! Он хотел шагнуть к ней, но она, отстраняясь, повела рукой, и тогда, словно по мановению этой руки, распахнулись стены, и тревожно, глухо зашуршала, озарилась при свете фонаря солома. И это уже было в пуне. Кто-то стоял на коленях спиной к нему, и что-то хрипело, билось на соломе, заслоненное этой спиной, и тускло светилась разбросанная крутом солома, и скреблись на насесте куры… И чугуны стояли в сенях, и бадья с запаркой, и лукошки с бульбой!..
Так он проснулся ночью, а днем ему принесли телеграмму.
У всех у нас была когда-то или есть мать, и, как это ни горько, не всегда хорошие приходят к нам телеграммы…
Вот и все. И опять наступают холода, схватывают землю заморозки — опадают долу инеем сырые туманы. Еще гоняют на пастбище коров — подальше от деревни, в лес. Под вечер скотина не хочет возвращаться в хлев, норовит забрести в пропахшее картофельной ботвой и студеным капустным листом поле. И вечерами, и поутру морозно, хмельно, как первачом, пахнет вокруг дымом.
В эту пору пишу я эпитафию рассказу, который мог бы называться «Смаление вепря». О, конечно, не столь уж много в нем логики, но ведь ее не больше и в тревогах, которые приносят нам лето или весна, зима или осень. Есть, к сожалению, вещи, не совсем подвластные нам, но есть и утешение, есть и надежда. О, наш брат сочинитель ко всему бывает еще и немного суеверным. Наивный, он хочет переспорить реальность, он хочет верить: я уберегся от беды, ибо — сказал!..
Добро и надежда очертили здесь свой круг.
Перевод с белорусского В. Тараса
Богдан Сушинский Шли сеять…
1
— Коли тебе говорят, так должен слухать. Должен слухать меня, будто все наше село стоит перед тобой на коленях и просит… Есть еще место — допиши Ивана Марьяша.
Старый Мазур уставился на мраморную глыбу. И на глаза его набегают слезы. Мелкие, как роса в засуху.
— Или ты оглох, Бронько? — говорит Мазур. — Который раз твержу: выбей ты на этом камне Марьяшево имя!
— Не лезьте ко мне со своим Марьяшем! — багровеет Бронько. — Вот одиннадцать имен погибших. Список утвержден. Чего совать сюда вашего Марьяша?
— Грома на тебя нету! — шепчет Мазур. — На этаком-то камне не найти места для Ивана?
Солнечные блики дрожат на полированном мраморе.
— Для всех, кто загинул в наших краях, горы не хватит, — твердит свое Бронько, старательно выбивая нужную букву. — Говерлу надо исписать от макушки до низу. Да и чем он прославился, ваш Марьяш?
— Хлеб он сеял. Хлеб, чтобы ты знал!..
2
В ту весну не сеял никто.
Таял снег, парила и ждала плуга земля. Но никто не смел бросить в нее ни зернышка.
Каждое утро кому-то из мужиков мерещилось, что сосед ладит плуг. Бросался он к заплаканному окну, выскакивал во двор, смотрел в ту сторону, где сбегало по пологому склону горы изувеченное снарядами поле.
— Надо, хлопцы, сеять, — говорил Марьяш мужикам, оставшимся в селе. — Война не война, надо становиться за плуг. Где это видано, чтобы земля разбухла от весенних дождей и засохла, не выносив ни единого колоска? Кто-то останется на нашей земле, всех не поубивают.
— А в чей амбар зерно повезешь? — спрашивал Степан Цимрюк.
— Народ с голоду пухнет. Пока тепло, лес спасать будет. А осенью почернеешь, как тот камень при дороге, и конец.
— Весь мир почернел, — стоял на своем Степан. — Но зубы сжал, терпит.
Марьяш посмотрел на соседа, будто на лютого врага.
— Слухай, Степан, — ласково так заговорил он: должен был понять сосед его ласковость. — Да ведь наши не за горами. Уже к Днепру подходят, а может, и перешли. К жнивам тут будут. Чем накормишь? Ты не меня, старых людей слухай. Через эту землю столько войн прокатилось… А крестьянин все сеял. Для детей, ежели не для себя.
— Или я тебе помеха? — отступился Степан. — По мне, хоть всю Европу засевай, коли есть чем.
Рот его подергивался, будто не слова из него выходили, а боль. Ревматизм источил Степановы ноги, и он хватался за тын, чтобы не упасть. Сколько его знали в селе, он все чем-то хворал. Но никогда не жаловался на свои болезни.
— А если не помеха, в поле иди! — прикрикнул на него Марьяш. — Сейте, чтоб ваши кости по этой земле не рассеяло! Позабивались по углам и думаете, вас не найдут?
— Да найдут, — с тоской отозвался Степан. — Вчера вон двоих повесили, и сегодня… А ты говоришь…
В сумерках впрягся Марьяш в борону и потащил ее на поле. Даже отец Ивана, в роду Марьяшей самый зажиточный, наскребший каким-то чудом на лошаденку, надела не имел. «Да на той лошаденке я заработаю себе на могилу, — упорствовал отец. — Мне рая не треба, только положите в мою землю…»
Давно помер батька. Иван потерял всякую надежду на землю. Проклял было и ее, и свою долю… Но перед войной объединили их со всей Советской Украиной и Марьяшу нарезали участок, как и каждому в селе. И поныне это поле он считает своим кровным, потому что дало его общество.
А теперь крался Марьяш за плетнями чуть ли не ползком. Хотел добраться до поля незамеченным. Чтобы недобрый глаз не навредил, не испоганил его мечты.
За селом, сразу от Петриковой долины, зарастала травой его земля. Черная, жирная такая — ломтями бы ее резал и клал за пазуху, как житный хлеб.
«Мир кровью изошел, никому в голову не приходит, что надо сеять. Земля одичала без зерна. Птица на нее сесть боится, а человеку скоро придется камни глодать…»
Поле изрыло снарядами. Оно успело слежаться и зарасти, но бороне поддавалось.
Иван боронил.
Лямка впивалась в плечо, врастала в него. Пот катился по спине, прошибал все тело, распаривал его, и боль уходила.
«Я посею, за мной еще кто-то… Посеем сколько кто наскребет, может, хоть мешка два уродит. Иначе с голоду опухнем…»
Он еще не успел проборонить и маленького участка, как под горой показались двое. Один тоже впрягся в борону, другой шел рядом, чтобы сменить, когда первый устанет.
— Слава Иисусу! — сказали по стародавнему обычаю.
— Вовеки слава!
Вышитые сорочки надели — от веку так велось, первый раз выходили в поле как на праздник.
— Ба, и ты, Степан, не удержался? — лукаво спросил Марьяш Цимрюка, который тоже волок свою борону.
— А кто хозяин на этой земле, я или немец? — хрипло ответил тот. — Нету коня — сам по борозде пойду. Но пускай потом фашист почернеет, как эта земля, зернышка не дам.
Село смотрело на них, шагающих по склону горы, и понимало, что земля больше не в силах впитывать кровь.
За сеятелями бежали ребятишки, вытряхивали из карманов пшеницу, протягивали мужикам.
— Просили мама, чтобы посеяли и нашего хоть два зернышка. Больше нету.
— Сами сейте. Вот так, рукой от себя, от сердца… — учил малых извечному жесту сеятеля Марьяш. — Разожмите горсть, и оно развеется по пашне. Где упадет, там ему и прорасти. Каждый должен что-то посеять. На том свет стоит.
Село смотрело на сеятелей голодными глазами. И впервые за всю войну не было в нем ни страха, ни покорности.
3
— А кто это тебя до света в борону впряг, Марьяш? Конь под Ильком гарцевал. И скалил зубы, словно смеялся вместе с хозяином.
— Жизнь впрягла, — ответил Марьяш. — Сойди с дороги!
— Да не сеять ли вы собрались, холопы?!
— Каждый сеет, что может. Кто жито, кто смерть. Пот солил Марьяшу губы. И от этого каждое его слово было горько-соленым.
— Сеять надо, это правда, — недобро усмехнулся Илько. — Но почему без ведома немецких властей? Они бы и поля отмерили, и зерном помогли. Нет такой власти, которая бы хлеба не хотела, а как же!
— Э, — протянул Цимрюк, — на этой земле, пан полицай, чужое никогда не принималось. Что враг в нее ни кинет, все как в могилу.
Илько побледнел. Хлестнул коня и отъехал ко взгорку, в который упиралось поле.
— Геть до села, босота! — крикнул он. — Я еще не покойник! А коли не покойник, революций делать не дам! Убью! С зерном вместе в землю ляжете!
— Перекрестись, нелюдь! — сурово молвил ему Марьяш. — Земля свята. И тот, кто сеет, тоже.
И набрал пригоршню зерна.
Мгновение смотрел он на полицая, словно хотел угадать, что же будет. И… бросил зерно в землю.
И другую горсть зерна, и третью…
Когда взялись за свои торбы Цимрюк и Гарваш, грянул выстрел.
Марьяш даже не охнул. Только, падая, зерно поднес к сухим губам, словно хотел напиться его весенней прохлады.
— За ним пойдешь! — крикнул Илько Цимрюку, но тот потянулся к торбе. И грянул выстрел второй раз.
Рассыпались по полю ребятишки.
Село разом встрепенулось, ахнуло и бросилось на склон горы, где вершилось убийство.
Третий сеятель набрал зерна и замер.
Револьвер уперся в его грудь. Гарваш даже ощутил то место под сердцем, где пуля разорвет его тело.
— Ну? — бешено крикнул Илько, с ужасом следя за толпой, бёгущей по склону. — Сей!
Гарваш силился что-то сказать. Но губы его одеревенели.
— Сей.
Гарваш хотел разжать пальцы. Но их свело судорогой. Только несколько зернышек просочилось и упало на поруганную землю.
Опустился он возле бороны. Две слезы распахали его лицо, как два плуга…
Стоял старый Мазур возле мраморной глыбы и твердил каменотесу:
— Разрази тебя гром, Бронько, если ты, молокосос, не найдешь на этом камне места для Ивана Марьяша…
Перевод с украинского И. Сергеевой
Юрий Трифонов Игры в сумерках
Мы знали их всех по именам, нас же не знал никто. Мы были просто: «Эй, мальчик! Принеси мячик!» Еще мы были: «Спасибо, мальчик», или же: «Вот там, за кустом! Левее, левее!» Они играли с четырех часов до сумерек, а мы сидели на изрезанной ножами скамейке — я и мой друг Савва — и вертели головами направо-налево, направо-налево, направо-налево. У нас болели шеи. Это длилось часами. Ни голод, ни жажда, никакие земные желания не могли отвлечь нас от этого замечательного занятия. Направо-налево, направо-налево мелькал маленький, направо-налево белый, направо-налево теннисный мячик вместе с тугими ударами, которые равномерно направо-налево, направо-налево, направо-налево вколачивались в наши мозги и укачивали, завораживали, усыпляли; мы становились, как пьяные, не могли ни уйти, ни встать, хотя дома нас ждали головомойки, и продолжали одурманенные сидеть, вертя головами направо-налево, направо-налево, направо-налево.
С другой стороны корта — если б кто-нибудь хоть раз взглянул на нас! — мы напоминали двух китайских болванчиков, так неутомимо и плавно двигались наши головы, стриженные под полубокс. И верно, мы были болванчиками. Даже не болванчиками и вовсе не китайскими, а самыми настоящими, подмосковными, дачными, одиннадцатилетними болванами, которые тратили июльские вечера на верчение головами.
Рядом была река, песчаный скат, отмель, плоскодонки — запахи воды и крики купающихся доносились до нас, не проникая в глубь сознания. Это были запахи и шум отдаленного мира, ненужного нам.
В сумерки наступал наш час. Первым сдавался долговязый очкарик, которого мы с Саввой прозвали Дрожащий. Дрожащий очень нервничал на корте, при каждом неудачном ударе вскрикивал: «Ах, черт!» — хватался за голову, рассматривал с изумлением обод своей ракетки и качал головой или же бормотал что-нибудь вроде: «Да в чем же дело? Что со мной?» Но ничего особенного с Дрожащим не происходило. Он всегда играл одинаково. Почти одновременно с Дрожащим прекращал игру Татарников, лучший игрок, аристократ, владелец велосипеда «Эренпрайз» и образец во всем для нас с Саввой. Молчаливый, ироничный, ходивший в элегантных полосатых рубашечках, с гладко зализанными волосами, — такая прическа почему-то называлась «политзачес», — Татарников настолько пренебрежительно относился к партнерам, что мог прекратить игру, когда вздумается, даже в середине гейма при счете «меньше». Неожиданно поднимал ракетку и со словами: «Все, господа! Не дворянское это дело — портить глаза», — уходил с корта. И с ним никто не решался спорить. Все глотали это хамство молча и как бы даже мысленно благодарили Татарникова за то, что он вообще приходит играть. Ведь Татарников однажды играл с самим Анри Коше, и тот сказал про него: «Хороший парень».
Татарников садился на свой «Эренпрайз» и укатывал, и сразу начинала собираться Анчик. То есть не то чтобы она тут же бросала ракетку, но видно было, как все ей становилось неинтересно, она переставала стараться, мазала и пререкалась. Анчик была смуглая, как индианка. Иногда она очень веселилась, хохотала и всех задирала, а иногда делалась мрачной и раздражительной. Бедная Анчик! Я жалел ее. И Савва тоже. Хотя Савва сказал однажды, что ему не нравятся кокетки, я видел, что он лукавит. Я замечал, как он напружинивался и покрывался пятнами, когда Анчик нежным голоском, но совершенно равнодушно обращалась к нему: «Мальчик, если тебе не трудно…» С угрюмой поспешностью он кидался за мячом, гораздо быстрей, чем обычно. Я же, наоборот, сидел молча и неприступно. Как только прекращала игру Анчик, сейчас же уходили с корта Профессор и Гравинский (он был, может быть, Краминский, Кравинский или даже Брабинский, мы точно не знали, потому что имена и фамилии улавливали на слух). Профессор и Гравинский обычно провожали Анчик до ее дачи на 3-й линии.
Дольше других оставался играть маленький темнолицый человечек в квадратных очках, владелец японской ракетки. Мы с Саввой подозревали, что он шпион. Но еще позже «шпиона» торчала на корте одна отвратительная парочка, муж и жена, которым теннис был нужен только затем, чтобы сгонять жиры. Играли они очень плохо, но упорно и долго, до темноты. Я заметил, что чем хуже игроки, тем они жаднее к игре. Мы с Саввой их ненавидели. Они отнимали у нас последние, драгоценные секунды, потому что их, как и нас, настоящие игроки не пускали на корт, но поздним вечером они не пускали нас, нахально пользуясь своей привилегией взрослых: «Ребята, ребята! Вы здесь крутились целый день…» Но наконец убирались и они. Я вынимал из чехла свою динамовскую ракетку в двенадцать унций, а Савва свою немецкую, чудную, со стальными струнами, и мы выбегали на пустынный корт. В эту минуту не было людей счастливее нас.
Корт был цементный, он белел в сумерках, как просторный и чистый луг. Мы очень торопились. В темноте часто промахивались. Нам хотелось ударить посильней. То и дело сильные мячи, по которым мы не попадали, ударялись с барабанным гулом в деревянную стенку. Ни задней линии, ни квадратов уже не было видно. Летящий мяч выносился из темноты так неожиданно, что я подставлял ракетку инстинктивно, для самозащиты. Мы наслаждались минут двадцать, пока не возвращался с купанья хозяин сетки Николай Григорьевич, снимал сетку и уходил. Мы еще некоторое время продолжали кидаться без сетки; собственно, в темноте было уже все равно — что с сеткой, что без сетки.
И потом долго, разговаривая о всякой всячине, брели берегом домой. На другой стороне реки, на лугу, слоями лежал туман. В реке кто-то плавал, а кто-то стоял на берегу и кричал: «Как водичка, а?» И еще кто-то бегал, согреваясь после купанья, по гладкой песчаной полосе вдоль воды, и шлепанье босых ног по сырому песку раздавалось четко и мягко, как удары ладони по голому телу. Было слышно, как этот, шлепающий босыми ногами, говорил: «Бр-бр-бр!» И звездный июльский и ненужный нам мир лежал вокруг нас, среди сосен и за рекой, где на горизонте дрожали сквозь теплый воздух огни Тушина. Давно это было. Еще в те времена, когда Москву-реку переходили вброд, когда в Серебряный бор с Театральной площади ездили на длинном красном автобусе «Лейланд», когда носили чесучовые толстовки, брюки из белого полотна и парусиновые туфли, которые по вечерам натирали зубным порошком, чтобы утром они делались белоснежными, и при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли…
Сейчас трудно сказать, кем были эти люди, сколько им было лег. Они исчезли из моей жизни, а тогда я ничем этим не интересовался. Только про Гравинского знал, что он сын какого-то работника Коминтерна. Дрожащий и Профессор были, кажется, студентами, но, может быть, и нет. Татарников где-то работал, но, возможно, он и нигде не работал, потому что часто приходил на корт днем. Анчик была десятиклассницей, что, впрочем, тоже недостоверно, и вполне вероятно, что она была уже студенткой. Я знал, что ее отец ездил в черном «Роллс-ройсе». Однажды я видел, как черный автомобиль остановился возле дома на 3-й линии — был страшный ливень, и я, посланный на крут за молоком, промок до нитки и плелся по шоссе, никуда не торопясь, — и из машины выпрыгнула Анчик, сняла туфли и, взвизгивая, захлюпала босыми ногами к калитке. Следом за ней вылез человек в черной шляпе. Он вдруг остановился прямо в луже, снял шляпу и стоял несколько секунд в странной задумчивости, глядя в землю, подставив лысую голову дождю.
Анчик была высокая, стройная, с осиной талией, с черными как смоль волосами и с большими глазами, черными и глубокими, как ночь. Она мне очень нравилась. Конечно, не так, как могла бы нравиться девочка, как, например, Марина, моя одноклассница, Анчик нравилась мне платонически, как женщина. Мне нравился ее хриплый голос, нравились ее платья, сарафаны и майки, которые были как будто прошлогодние, немного малы и туго врезались ей в тело. Мне нравилось, как она ходит: размахивая руками и раскачиваясь, как матрос. Нравилась ее привычка над всеми шутить и разговаривать свысока. Нравилось, как она поднимает, не нагибаясь, мячи с корта: ловко и быстро, ободком ракетки и ногой. Я тоже умел поднимать мячи таким способом, но только с помощью левой ноги, а Анчик одинаково легко делала это и левой и правой. Мяч словно прилипал к ее ракетке. И она никогда не роняла мячи на корт. А мы с Саввой роняли часто.
Не знаю, может быть, из-за Анчик мы и притаскивались каждый вечер на корт. Тогда мне это не приходило в голову, но теперь я думаю, что так и было. Из-за Анчик и еще из-за Татарникова, который нам тоже нравился. Ведь мы могли бы приходить днем, в жару, когда никто не играл, но пустой корт и пустые скамейки нас не устраивали — нам хотелось публики, шума, страстей, борьбы, красивых женщин, и чтоб мы смотрели на все это, как в театре.
В середине лета у Саввы умер отец, и мать повезла Савву в Ленинград. Он оставил мне свою ракетку со стальными струнами. Обещал вернуться в конце лета, но не вернулся. Никогда в жизни я больше не встречал Савву и ничего не слышал о нем. И он не видел, как однажды я играл в паре с Дрожащим и что произошло следующим летом, когда открыли канал Москва — Волга: река стала полноводной и по ней начали ходить пароходы. На теннисном корте появились новые игроки, но Татарников оставался чемпионом Серебряного бора и окрестностей. С некоторыми он играл на деньги. Давал фору четыре гейма и выигрывал.
То лето — когда пошли первые пароходы — было очень жаркое вначале, а потом зачастили дожди. Какие-то беглые, мимолетные дожди, они выпадали внезапно и шли недолго. Но полчаса или час приходилось ждать, чтобы корт высох. Теннисисты собирались под навесом, устроенным возле корта, играли в шахматы, в «города» или сидели просто так, рассказывая анекдоты. Я любил сидеть на скамейке между ними и слушать. Как-то сидели все вместе — я, Татарников, Профессор с Гравинским, Анчик и еще кто-то — и пришел один парень, Борис, и сказал, что утонул наш знакомый. Этот Борис появился на корте недавно, играл неплохо, но как-то крикливо и нахально. Спорил из-за каждого мяча. Его отец был директором завода, а раньше они жили в Тбилиси. И вот он пришел и сказал, что утонул наш знакомый. Потом-то оказалось, что никто не утонул, он все наврал, но в первую минуту все, конечно, взволновались. Анчик даже вскрикнула, и тогда этот Борис шагнул к ней — он был коренастый, небольшого роста, ниже Анчик, с очень запоминающимися, круглыми, как коленки, скулами, они двигались, потому что он разговаривал всегда, сжав зубы, — и он сказал, сжав зубы: «Получай, дрянь», — и ударил Анчик наотмашь, ребром ладони в лицо. Тут все зашумели:
— Что такое? В чем дело?
Борис не отвечал, смотрел злобным взглядом на Анчик, а она стояла, закрыв руками лицо. Она не плакала, не двигалась. В том, что Анчик ударили, и в том, как она приняла этот удар, было что-то настолько невероятное, что я остолбенело застыл на скамейке, в то время как все повскакали с мест, толкались и кричали. Профессор или Гравинский, а может быть, оба вместе хватали Бориса за грудь, а тот отмахивался и говорил спокойно:
— Не суйся. Уйди, говорю. Уйди, а то…
— Позвольте, — сказал Татарников. — Но утонул кто-нибудь или нет?
И тут Борис еще раз ударил Анчик по рукам, закрывавшим лицо, но с такой силой, что она вся перекосилась, выгнулась назад, как ветка, и едва не упала. Потом быстро пошла, почти побежала прочь, и Борис пошел с ней рядом. Они шли через сосняк, по кустам, не разбирая дороги, деловито и устремленно, не глядя друг на друга, и каждый был в одиночестве, но их связывало что-то ужасное и простое. Они были как бы один человек, который мелькал среди сосен, уходя от нас.
Корт просох, кто-то вышел играть, но я не мог смотреть на играющих. Не мог видеть бледного лица Татарникова с его «политзачесом». Теннисисты возмущались и, я слышал, договаривались никогда больше не играть с Борисом, с этой скотиной. «Бить женщину! Дойти до такой низости! Жалко, что он ушел, мы бы ему натерли физиономию!» Но я чувствовал, что они возмущаются чем-то другим.
После этого жизнь на корте стала как-то быстро, непоправимо меняться. Одни вообще исчезли, перестали приходить, другие уехали. Приехали новые. Много новых. Говорили, что Анчик с младшей сестрой, братом и бабушкой жила на станции Лось. Но по-прежнему приезжал на своем «Эренпрайзе» Татарников, иногда приходили Дрожащий и тот человек, кого мы с Саввой считали японским шпионом. Рядом с кортом устроили волейбольную площадку, и вечерами там собиралась орава крикунов, человек сорок, играли навылет. Галдеж стоял, как на базаре.
Эта скотина Борис пришел однажды в воскресенье с приятелем как ни в чем не бывало. Оба были в жокейских шапочках. Борис спросил: кто последний? Ему не ответили. На корте было четверо, и еще четверо ждали очереди. Борис и его приятель посидели полчаса, потом стал назревать скандал. Могла быть настоящая драка, если б вдруг не услышали странный шум со стороны реки. Лес трещал под ногами сотен людей. Громадная толпа двигалась в нашу сторону с музыкой, песнями, впереди бежали мальчишки, которые сообщили, что к берегу пристал теплоход, эта толпа оттуда, и сзади идет шумовой оркестр. Теннисисты продолжали невозмутимо играть. Через минуту орда гуляющих окружила корт, некоторые были заметно навеселе, садились прямо на траву, кто-то плясал, кто-то играл в «жучка», звучала гармошка, несколько человек вошли на корт и стали требовать, чтобы теннисисты сняли сетку. Те, разумеется, отказывались это сделать и говорили, что позовут милицию. Дрожащий особенно кипятился и кричал:
— Мы будем жаловаться! Назовите номер вашего предприятия!
Приземистый человек в панаме тоже кричал, размахивая руками:
— А вы хотите вчетвером играть, и чтоб четыре сотни людей на вас смотрели? Да? Так вы хотите?
— Вы нарушаете!
— Нет, вы нарушаете!
— Товарищи, где милиция?..
— У нас договоренность с дачным трестом!..
Пока они спорили, оркестр вышел на корт, расположился у деревянной стены; кто-то уже сдирал сетку, и первые пары зашаркали по цементу, пока еще без музыки. Но вот и вальс грянул: «Крутится, вертится шар голубой». Я видел, как Борис, надув свои желваки, потянул за руку какую-то худую некрасивую женщину, совершенную уродину в платочке, и пошел с ней танцевать. Теннисисты еще кипятились, пытались мешать оркестру, и только Татарников не кипятился: сел на «Эренпрайз» и уехал.
Во время войны деревянную ограду корта разломали на топку. Однажды, через десятки лет, я приехал туда и поднялся на холм, чтобы увидеть то место, где начиналось так много всего, из чего потом составилась моя жизнь. А тогда были только обещания. Но некоторые из них исполнились. На вершине холма я наткнулся на величественный, белеющий толстыми известковыми боками летний кинотеатр. Все, что осталось от корта, была цементная плешка, на которой толклись, разгуливая шеренгами под ручку, дачники и дачницы в ожидании начала сеанса. Впрочем, какие уж дачники! Тут была Москва, и пахло как в Москве: бензином и пыльной зеленью. Я спросил у человека в красивом, наполовину кожаном, наполовину шерстяном пуловере, не знает ли он, откуда здесь цементная площадка.
— Это с войны! — ответил человек уверенно. — Тут находились какие-то укрепления. Немец когда летел Москву бомбить, его как раз тут, над Серебряным бором, расшибали. Это с войны, ага.
Я подошел к реке, сел на скамейку. Река осталась. Сосны тоже скрипели, как раньше. Но сумерки стали какие-то другие: купаться не хотелось. В те времена, когда мне было одиннадцать лет, сумерки были гораздо теплее.
Григор Тютюнник Отдавали Катрю замуж
Поздней осенью, когда листья в садах уже опали и остались только на сирени да на верхушках тополей, к хуторскому завмагу Степану Безверхову приехала из Донбасса младшая из трех дочерей Катря и объявила, что выходит замуж. Катря пробыла в Донбассе что-то около года — работала в шахтерской столовой то ли буфетчицей, то ли официанткой — однако никто на хуторе, где всё и про всех знают, не надеялся, чтобы она так быстро нашла себе пару.
Родителей это известие не очень обрадовало, однако не так уж и опечалило, потому что подходящих женихов среди хуторских хлопцев было негусто, а Катре повернуло уже на третий десяток — как ни жаль, отдавать замуж когда-то нужно. Расспрашивали только, когда и где будет свадьба, кем работает будущий зять и каков он собой. Катря устало отвечала, что свадьбу желательно было бы сыграть здесь, на хуторе, — ей все же веселей будет: как-никак среди своих; что избранник ее работает на шахте инженером-экономистом, а о том, каков он собой, сказала:
— Приедет — ему шахта дает «Волгу» на два дня, — сами увидите. Мне нравится. А вам… Вам ведь с ним не жить.
Спокойно сказала, но с такой недевичьей печалью в глазах, что родители поняли: каким бы там хлопец этот ни был, а отговаривать дочку или затягивать со свадьбой не следует…
Катрю положили спать в светлице на ее еще девичью кровать, с горой подушек, чуть не вровень с рисованным ковром на стене.
На том ковре из старого байкового одеяла заезжий маляр изобразил синее круглое озеро, двух долгошеих лебедей, которые целовались клювами, и все это обсадил большими красными и желтыми цветами — тоже круглыми.
В светлице было чисто и уютно, как бывает только в хатах, где не сыны, а дочки. На стенах, украшенные рушниками, висели портреты всех трех Степановых девчат — тонколицых, кудрявых, с чуть испуганными глазами: видно, что фотографировались впервые в жизни. Они были похожи друг на дружку, как близнецы, может, потому, что фотограф-портретист из Полтавы подрисовал им брови всем одинаково — ровно.
Катя блуждала взглядом от портрета к портрету, мечтательно улыбалась, потом сказала отцу и матери, сидевшим рядышком на лавке против кровати и печально смотревшим на дочку:
— Он ничего. Только строгий и неразговорчивый. Вы, когда он приедет, не очень приставайте к нему с разговорами да расспросами, а то еще что-нибудь не так скажете… Это я прошу.
Степан промолчал, только суетливее, чем обычно, зашарил по карманам, ища папиросы, а Степаниха сказала тихо:
— Да что ж мы, враги своему дитяти? Уж как-нибудь постараемся угодить.
Когда дочь задремала, старики тихо вышли в другую комнату и уселись на теплой лежанке рядышком, так же как сидели в светлице. Долго молчали. Степаниха вздыхала, а Степан курил. Потом сказал:
— Видать, штука!
— Да уж какой попался, — печально ответила Степаниха.
Свет не включали. Степаниха на ощупь постелила постель — себе на железной кровати, которая горела в войну, однако еще держалась, мужу — на лежанке. Степан тем временем пошел в хлев, бросил корове в ясли охапку сена, что-то сердито бормоча, потом ни с того ни с сего ударил корову навильником и сказал:
— Повернись, стерва с-собачья! — И сразу у него отлегло от души, стало жаль и корову, и жену, которая все умела терпеть и никогда не ссорилась, а только вздыхала, и дочку — последнее свое утешение. Думалось, приведет в дом хорошего парня, хозяина молодого, и будут жить на всем готовом, для них же приобретенном, а им с женой будет к кому на старости голову приклонить, потому что старшие дочки, тоже не дождавшись сватов в хату, поехали искать свое счастье — одна в Сибирь, по вербовке, другая на целину. Ехали ненадолго, а остались там навсегда. Повыходили замуж, обзавелись детьми, теперь только письма кое-когда шлют да дописывают после «До свиданья»: «Целуем вас, папа и мама, семья Андреевых». Это старшая. А средняя, характером помягче да поласковей: «Целуем вас, дорогие папочка и мамочка, семья Евтушенковых». Приезжали как-то с детишками и мужьями. Ничего хлопцы. Бойкие, разговорчивые, собой хороши. Внуков и внучек навезли полдвора — щебетунчиков маленьких. «Дедушка, а это как называется?» — «Цеп». — «А что им делают?» — «Молотят». — «Как?» — «А вот так».
«Бабушка, а кому это такой большой чугун картошки?» — «Паци, деточка». — «Паци? А кто это? Поросенок?!» И хлопают в ладошки да подпрыгивают: «Паця-паця, паця-паця!»
Говорил зятьям: «Оставайтесь, хлопцы, тут. Хаты вам всем хутором поставим в одно лето, приусадебные участки колхоз нарежет такие, что сады за два-три года выгонит, как из воды; телочку, поросят дам на развод, на новое хозяйство». А они: «У нас, папаша, там родные, там квартиры, заработки неплохие — чего же еще?»
Правильно, конечно. Кто ж свое родное бросит или от добра добро искать станет.
Теперь и Катря вылетает из родительского гнезда. Оставайтесь, папа-мама, ни с чем, живите, как знаете. «Мы вам на старости все вместе помогать будем, а если захотите — к себе заберем». Спасибо, дети. Вот только кто воды подаст, как захвораем, кто деда дедом назовет и на плечо кто попросится, чтобы повозил, как лошадка, кто бабке дров наколет или попросит сказку рассказать, кто за садом присмотрит, чтоб не захирел, а цвел-разрастался каждую весну, кто отцовскую да материнскую песню запоет зимними вечерами?
«Заберем». Вон Килину Волоховскую забрали было дети. Хата два лета пустой стояла, ребрами светила, стекла радугой переливались, словно их кто дегтем намазал, садик по самые ветви бурьяном зарос. Не двор, а заброшенная могила, только ежи по ночам в бурьяне хрюкали да одичавшие коты глазами светили. Продать бы, но кто ж ее купит, если все в странствия пустились. А этим летом вернулась Килина. «Тут родилась — тут и умру, — сказала дочке и зятю. — Если хотите, чтоб мать дольше прожила, не вывозите меня никуда, не трогайте с места». И снова ожила усадьба, сад стал чистым, хата белыми стенами красуется, а ежи и коты исчезли.
«Заберем»… Эге-ге! Разве что мертвых. Тогда — все равно.
Корова шуршала сеном, похрустывала сухими стебельками и похлестывала Степана хвостом. Степан уже не сердился на нее, отмяк душой. Еще немного постоял посреди двора, прислушиваясь, как набирает силы ветер. Голые деревья в саду не шумели, а сурмили в осенние свои сурмы.
Не спали долго. Решили со старой, что завтра нужно позвать Кузьму Белокобыльского, мастера резать свиней, и заколоть годовалого кабана пораньше, чтобы к вечеру уже и с колбасами управиться — до субботы ведь осталось всего три дня, а холодца можно будет и в четверг наварить; масло подсолнечное решили взять готовым, обменяв на маслобойне на семечки; мука была своя. Степаниха прикидывала, кого позовет стряпать, а Степан рассуждал вслух, сколько нужно будет самогонки, если пригласить на свадьбу всех родственников и хуторян:
— Андрюшка выгнал сегодня две бутыли. Давал пробовать — хороша: в ложке горит и на пол капает — горит. Скажу, чтоб придержал. Завтра Мотря Решетковская собирается коптить, думаю, не пожалеет на такое дело. Да и Федор, брат, без своей не живет. А еще в лавке возьму ящик, ведь сваты тоже, наверно, приедут.
Так за хлопотами забылась и печаль.
— Одним словом, как-нибудь утрясется, — сказал Степан, зевая, и вскоре уснул, а Степаниха еще долго ворочалась, вздыхала, тихонько всхлипывала и задремала уже почти перед первыми петухами.
— Как же, дочка, свадьбу будем играть? — спросил утром Степан, разбирая уже внесенного в хату кабана. — По-старому или по-новому?
Катря одной рукой помогала матери хлопотать у печи, а другой придерживала под грудью концы большого цветастого платка. В этом платке, старинном, еще бабкином, сберегаемом на дне сундука, как самое драгоценное сокровище, которое каждой осенью перекладывали листьями ореха от моли и для запаха, Катря была похожа на хорошенького обиженного ребенка с глазами огромными, полными взрослой печали.
— По-новому, папа. Посидят люди, погуляют и разойдутся.
— А может, и дружек поводила бы да пригласила людей на свадьбу, хотя бы родичей, тех, кто поближе? — несмело спросила Степаниха.
— Какие там дружки, мама, — улыбнулась Катря. — Да и кто тут из моих ровесников остался…
— Ну хоть фату наденешь?
— Надену, если хотите.
— И то слава богу, — обрадовалась Степаниха.
— Теперь такая мода пошла, что по-нашему уже ничего не делают, — подкинул резчик Кузьма Белокобыльский, прищуривая единственный свой глаз. Он резал сало на широкие полосы, потом ровненько делил на куски и, густо посыпая солью, складывал в крепко слаженный немецкий ящик из-под мин. — Теперь так: раз, два — и в дамках! А бывает, сегодня свадьбу отгуляли, а завтра — га-га! — глядишь, молодую уже и в родилку отвезли!
Катря покраснела, низко наклонила голову и вышла в светлицу. А Степаниха сказала сердито:
— А такое же смелет при дитяти, что, господи, прости и помилуй.
— А что, разве не правда? — обиделся Кузьма. Он был добрый человек, подначивать не любил, а всегда говорил простосердечно, как думал, потому и не понял, за что на него рассердились.
— Хватит вам, — вмешался Степан. — Подавай, мать, свежину на стол да будем завтракать.
После доброй чарки Кузьма растрогался и раза три пожелал Катре, чтоб ей с мужем «жилось, как с горы катилось», чтоб детей «навела» побольше да не забывала отца с матерью в «чужом, далеком краю». Кузьме казалось, что Донбасс где-то за морями да горами высокими.
Катря прилегла бочком на подушки, закрыла глаза платком и заплакала, а Степан, побагровев после стакана «домашней», часто заморгал, быстренько завязал в узелок резчику на гостинец кусок грудинки, два куска сала и, поблагодарив за помощь, выпроводил Кузьму за ворота.
— Перестань хныкать! — прикрикнул с порога на жену, заметив на ее щеках красные от печного огня слезы. — Что это тебе: свадьба или похороны?!
Степаниха быстренько утерлась и сказала так, словно и не она только что плакала:
— Без тебя знаю, что свадьба. Ты вон с утра нализался, так тебе и все равно, а матери, может, и поплакать хочется.
Степан смолчал, как всегда, когда бывал навеселе, прошел в светлицу, погладил дочку по голове, как гладил когда-то маленькую, и сказал:
— Не плачь, Катюша, не горюй. Тут, видишь, такое дело: не век же тебе жить при родителях. Достань-ка лучше мне одежду, пойду лавку открою, потому уже и так поздно.
В лавку Степан пришел, как новая копейка: в широких галифе прочного синего сукна, хромовых сапогах и куртке из той же материи, что и галифе. Еще и тонкими дочкиными духами благоухал — Катря попрыскала ему воротник.
Люди, толпившиеся у лавки, встретили Степана вежливенькими приветствиями, а не руганью, как это было всегда, когда завмаг опаздывал, — знали все: у человека хлопоты.
— Хлеба набирайте, чтоб хватило до самого понедельника, — объявил Степан. — Потому, как мне некогда будет, сами понимаете. А еще дочка просила — да и мы со старухой просим, — чтоб приходили в это воскресенье на свадьбу.
Хуторяне почтительно благодарили, расспрашивали, где будет гулянье да кто жених.
— На дворе посидим, если погода будет стоять, чтоб все поместились. А жених — главный инженер на шахте, — приврал Степан, думая, что «Волга», на которой приедет зять, свое дело сделает: кому б еще дали гнать такую машину за четыреста километров, как не главному инженеру…
Люди почтительно кивали головами, те, которые жили ближе к Степану, обещали одолжить столы, стулья и посуду, и все брали хлеба с избытком.
Женщины сразу же расходились, а мужчины терлись у прилавка, и, когда последняя молодица, нагрузив полную корзину с хлебом и ситро, вышла, вроде бы полушутя, с улыбочками да подмигиванием, заегозили возле Степана:
— Может, Кондратович, ради такого случая того… до десяти… — И начали шарить по карманам, доставая мятые рубли, а кое-кто копался за пазухой для вида: мол, чего спешить поперед батьки в пекло, может, завмаг на радостях и свою выставит.
Степан и вправду отмел ладонью кучку денег, сказав: «Заберите, я угощаю», накинул на двери крюк и достал из-под прилавка две бутылки «столичной».
После двух пили еще и третью, закусывая консервами из камбалы, хлебом и пряниками, похваливая всех Степановых дочек за красоту и за то, что вот так ловко сумели «пристроицца» в жизни, пока Петра Малинюковского, знаменитого хуторского певца, не потянуло на песню. Тогда Степан легонько хлопнул ладонью по прилавку и сказал:
— Хватит, хлопцы, у меня еще работы да работы.
Мужчины, кто пошатываясь, кто ступая тверже, чем нужно, разошлись, а Степан запер лавку и отправился в село приглашать брата Федора, музыкантов и председателя колхоза, рассудив, что телевизора молодым он, конечно, не подарит, потому что они не колхозники, а соломы корове на подстилку или дров при случае выписать не откажет.
Из села Степан вернулся навеселе, и так ему стало жаль Катрю и себя с женой, что он заплакал. Однако бодрая мыслишка о том, что выдает дочь не за кого-нибудь, а за главного инженера шахты (повторив свою выдумку брату, председателю колхоза и еще нескольким селянам, Степан и сам поверил в нее), успокоила, он умолк, вытер пьяные слезы и заснул, как был — в сапогах, праздничных галифе и шелковой рубахе.
В воскресенье с самого утра во дворе у Степана уже толклись люди: родственники, соседи, старухи. Ставили в ряд столы от самых ворот до сада, мастерили лавки из желтых, хорошо выструганных досох, а в боковушке и сенях все, даже пол, было заставлено мисками с холодцом, узваром и киселями. В светлице на столе, обставленный свечками из чистого воска и украшенный калиной, красовался каравай; на кровати были разложены новенькое белое, как снег, платье невесты, фата, прозрачно-матовая, как березовая ветка в инее, венок и белые туфельки, еще не вынутые из коробки. Все это привезла Катря.
Свечки тихо горели, пламя на них колебалось, когда кто-нибудь открывал дверь в светлицу, и в хате стоял церковный дух. Катря сидела в красном углу, покрытая уже не по-девичьи, а как замужняя, тем же бабушкиным платком, и не мигая смотрела на свечи. Стряпухи, возившиеся в боковушке, улучив минутку, когда Степаниха выходила за чем-нибудь в погреб или кладовку, перешептывались меж собой:
— А Катря сидит, как с креста снятая.
— Видать, не очень сладкое будет замужество…
— Да и жениха нет, а ему еще вчера пора бы приехать…
На дворе распоряжался Федор, младший брат Степана, высокий, крупный мужчина с такими же, как и у Степана, тугими румяными щеками и острыми карими глазами, правда, более скрытными, чем у старшего брата, — может, потому, что Федор часто прищуривал их, словно целился в кого-то.
— Вон тот большой стол посредине застелите самой лучшей скатертью, там будут сидеть жених с невестой и гости, — командовал женщинами Федор. — А вот те два, что по бокам, можно застелить и теми, что похуже, там посадим родителей и родичей. Дальше — для всех, можно и клеенками» не велики господа!
Голос у Федора был громкий и веселый, парубоцкий голос. Женщины охотно покорялись ему, хихикали и старались быть ближе к Федору, а он не упускал удобного случая одну ущипнуть, другую обнять за плечи и скользнуть пальцами по натянутой грудью кофте или шлепнуть пониже поясницы. Жена Федора, бедовая, нарядная, быстрая в работе, видела все это, однако не сердилась на мужа, а смеялась вместе со всеми и щебетала:
— Федя, ты бы и меня хоть разочек обнял, как вон ту Гальку, что аж дух у молодицы захватило!
— С тобой я и дома наобнимаюсь!
— Э, дома оно не так приятно! А в темненьких сенях — будто чужой!
Пора стояла, как в бабье лето. Из-за сада сквозь голые ветви желто сияло солнце, пахло еще не подгнившей, росяной листвой, холодной после ночи, — она лежала под каждым деревом пышными кучами, а с поля тянуло ароматом вспаханной земли и осенней стерни.
Степан захлопотанно метался по двору: то показывал, где что нужно взять, то высылал мальчишек по очереди бегать за хутор и выглядывать, не видно ли от дороги легковой машины, то ходил вокруг столов и, тыча пальцем да шевеля губами, уже в который раз подсчитывал, сколько людей поместится.
К обеду начали сходиться гости, и у каждого под полой если не бутылка, то две, а то и целая четверть. Пришли и музыканты из села: Иванушка-скрипаль, у которого верхняя челюсть выдавалась вперед, а нижняя немного запала, глаза у Иванушки были большие, серые и глядели на мир с доверчивой добротой; Шурко — баянист и завклубом, белочубый и застенчивый хлопец, который зимними вечерами, если в клубе никого не было, сидел в пустом фойе и сочинял свою музыку; Василь Кривобок мастер играть на сопилке и конюх в больнице, который привез с войны один-единственный трофей — фабричную сопилку отличной работы; четвертым музыкантом был Мишко Мышлык, бубнист и колхозный шофер, который мог выбивать на бубне локтями, коленями, подбородком, головою и выкрикивал под гопак, краснея и вытаращивая глаза: «А давай-давай-давай! Гоп-ца! Га-ца-ца!» Музыканты, потихоньку переговариваясь меж собой, пробовали инструменты, а Иванушка и Шурко настраивали скрипку: Шурко давал ноту, ведя ее долго, а Иванушка побренькивал струнами, то подтягивая их, то отпуская. Потом, для пробы, проиграли одно коленце из белорусской польки, сложили инструменты на скамье возле хаты и закурили: Степан не велел играть, пока не приедет жених.
К двенадцати часам двор был полон народу. Мужчины, видя, что свадьба затягивается, сели за крайние от сада столы и принялись играть в карты. Все они, как один, были в теплых выходных куртках, желтых или черных кожаных шапках, галифе и хромовых сапогах. Женщины цвели цветастыми платками, как маковая грядка, а детвора играла в ладки, шныряя между взрослыми, как воробьи между голубями, за хатой, за хлевом и погребом.
Но вот прибежал запыхавшийся мальчик, посланец Степана, и крикнул:
— Едут, едут!
Мужчины быстро собрали и припрятали карты, поднялись и следом за детворой да женщинами двинулись к воротам. Тут уже стояли четверо хлопцев из тех, которые еще не женаты, пересмеивались и перемигивались, ожидая жениха: они должны были брать магарыч и чувствовали себя немного неловко. Степан вертелся возле них и шептал то одному, то другому:
— Вы ж, хлопцы, глядите, того… делайте дело ладком да мирком, чтоб, не дай бог, драки не затеяли, а если что, я вам своей ведерко выставлю.
— Своей, дяденька, не интересно!
— Ты, Кондратович, не мешай хлопцам. Что ж то за свадьба без магарыча за молодую.
В конце хутора поднялась пыль — ленивая, осенняя, куры, раскинув крылья, метнулись с дороги под плетни, и «Волга» на полной скорости подскочила ко двору. Толпа притихла, подалась вперед так дружно, что ворота затрещали. Из машины вышли трое: два молодых человека, среди которых трудно было опознать жениха, потому что оба они были одеты одинаково хорошо: в белых нейлоновых сорочках с галстуками, сурово-торжественных черных костюмах и новеньких «болоньях». Третьей была женщина, видно, мать жениха, — сильно напудренная и с ярко накрашенными губами.
«Ишь ты какая пани сваха у Безверхих…», «который же из них жених, а который боярин?» — зашептали в толпе, проталкиваясь вперед либо становясь на цыпочки.
Хлопцы-магарычники тоже растерялись: с которого же требовать магарыч?
— Просим дорогих гостей во двор, — поклонился Федор и обеими руками указал на калитку.
«Невеста!» — кинул кто-то в тишине, и все обернулись к хате, там на крыльце стояла Катря — в белом просторном платье, скрывающем талию, калиново-серебряном венке над короной аккуратно причесанных волос и длинной фате, которую, словно волну тумана, держали на руках девочки и молодицы в старинных вышитых рубахах и цветных платках с длинными шелковыми кистями — румяные, улыбающиеся, взволнованно-любопытные, им не терпелось поскорее увидеть жениха: кому навстречу вывели такую красавицу? Катря стояла, опустив руки вдоль тела, от чего ее узенькие плечи стали еще уже, белая тонкая шея, которой словно никогда не касался солнечный луч, стала еще длиннее; голову чуть наклонила и исподлобья смотрела через головы хуторян туда, на улицу. Глаза ее сияли тихой смущенной улыбкой, а губы дрожали от волнения (сроду на нее не смотрело столько людей), она прикрыла их пальцами и не пошла — поплыла к воротам, как пава.
— Гляди, какую красавицу вырастил Степан, — зашептали женщины.
— Дева непорочная — да и только…
— И куда наши хлопцы глядели?..
— А что б она тут делала — за свиньями ходила?..
— Вон, вон жених, гляди: к калитке идет!..
Жених — это был хлопец лет двадцати восьми, с жиденьким чубом, зачесанными наискосок редкой расческой, чуть ли не ниже Катри, однако широкий в плечах, суровый лицом, немного изнеженным в бледным, — чуть улыбнулся Катре и протянул было руку, чтобы открыть калитку. Но тут один из парней заступил ему дорогу, набычил голову и буркнул:
— На магарыч давайте.
— Что? — не понял тот.
— На магарыч, говорю, давайте. Нашу девку берете, нужно выкупать.
— Это, извините, так у нас заведено, — объяснил Федор, щуря на жениха улыбающиеся глаза, — ставить магарыч за дивчину.
— Гм, — гмыкнул жених и высоко поднял одну бровь. — Что ж, пожалуйста. — Достал из кармана кошелек, медленно перебрал деньги и протянул хлопцу новенькие, еще не бывшие в употреблении пятьдесят рублей.
— Вот так! — восторженно выдохнула толпа, а хлопец спрятал хрустящую бумажку и сказал уже милостивее:
— Теперь заходите.
Молодой взял Катрю под руку и повел к хате узеньким коридором, потому что хуторяне не очень расступались: каждому хотелось поглядеть на приезжих вблизи. У порога уже простелили коврик — новое рядно в черную и красную полоску, тканное еще до войны, а за ним стояли Степан с миской зерна и серебряных монет и Степаниха: она немного сгорбившись, а он — навытяжку, как солдат, с двумя орденами и полдюжиной медалей, приколотых негусто, чтобы их казалось больше. Катря трижды поклонилась родителям, а жених лишь голову склонил. Степан посыпал молодых зерном и деньгами, потом сказал как можно торжественнее:
— Живите, дети, в мире и согласии.
Степаниха тоже что-то прошептала, поцеловала Катрю и зятя, который стоял, все так же склонив голову, и закрыла глаза платочком.
Музыканты лихо ударили «Ойру» — и молодые двинулись в хату.
— К чему эта комедия? — недовольно шепнул жених Катре на ухо. — Собрались бы родственники, скромно, тихо…
— Пусть делают, как хотят, — кротко ответила Катря.
Пока родичи толпились в светлице, знакомясь, — приезжая сваха при этом ни с кем целоваться не пожелала, а только подавала руку, называя себя Клавдией Константиновной, — стряпухи быстренько накрывали столы, выставляя пироги и сметану, соленья, вареную капусту, свежую колбасу в кольцах, а девчата и молодицы, которые держали Катре фату, вынесли каравай. Свечки сразу же погасли, зато калина непорочно рдела в солнечном луче, как свадебное знамя. Федор выставлял на столы самогонку в трехлитровых бутылях — сизую, синеватую, чистую, как слеза, — и вскоре над столами словно туман отстоялся — так много было бутылей. А над туманом тем, напротив каравая, где должны были сесть молодые, словно церковки с серебряными куполами, возвышались три бутылки шампанского.
Когда на порог вышли молодые и сваты, музыканты грянули туш, потому что ничего другого подходящего не придумали, а это было знакомое: на торжественных собраниях играли, когда колхозникам вручали премии и грамоты.
Первому, как представителю власти, дали слово председателю колхоза.
— Дорогие товарищи, — сказал председатель, худой мужчина с длинным носом смирного человека и с глубоко запавшими щеками, — это хорошо, что мы выдаем сегодня Катрю Безверхову, но это и плохо. Хорошо, что человек нашел свое счастье, — тут не радоваться нельзя, и плохо, потому что не Катря привела мужа в наш коллектив, а ее от нас забирают. Это — минус. Вот я и говорю: товарищи девчата и молодицы, которые не замужем, принимайте приймаков! — Тут председатель и сам засмеялся вместе со всеми, даже жених передернул губами, словно улыбаясь. — Заманивайте мужчин в наш колхоз! А мы, со своей стороны, будем строить вам хаты и давать лучшие участки. Вон в старом колхозном саду — разве не земля? Да там, как писал наш земляк Николай Васильевич Гоголь, воткни дышло, а вырастет тарантас! Так что милости просим. За это и выпьем!
— Правильно! — загудели мужчины, наливая себе в стаканы прямо из бутылей. — Говорит, как другой по бумаге читает.
— Правильно! — закричали женщины, те, что позадорнее, тянулись рюмками к молодым, к председателю, осторожно, чтобы не залить закуску, а музыканты еще раз проиграли туш.
Потом пили за родителей невесты и жениха, причем кто-то из подвыпивших, верно, еще до свадьбы, задиристо выкрикнул:
— А где ж это сват донбассовский? Или, может, посаженого отца молодому выберем, а?
— Свата нашего дорогого, — поднялся с рюмкой Степан, — срочно вызвали на совещание в Ворошиловград! Так что он отсутствует по государственным делам, и я пью за него заочно!
Степан сказал это так торжественно, а сваха, Клавдия Константиновна, так важно сложила ярко-красные уста свои, что кое-кто из хуторян наклонил голову, пряча улыбку…
Жених поморщился и что-то шепнул Катре, а та умоляюще посмотрела на отца: мол, я же вас просила…
Воспользовавшись тишиной, которая залегла на миг, из-за крайнего от сада стола поднялся Омелькович, грузчик при сельпо и первейший выступало на всех колхозных собраниях. Брат Омельковича работал где-то в Астрахани юристом, летом наезжал в село и консультировал всех обиженных, вот и Омелькович взял моду говорить грамотно и официально.
— Тарщи! — громко и уверенно изрек Омелькович. — Фактицски, юридицски и практицски перед нами уже не жених и невеста, а муж и жена!..
Катря залилась румянцем и спрятала глаза, жених высоко поднял бровь и смотрел на оратора с нескрываемым презрением, а остроязыкая жена Федора быстро-быстро застрекотала:
— Что ты, Омелькович, несешь-то? Ну как скажет, ей-богу, — так словно в пепел дунет!
За столами грянул хохот, а Омелькович придурковато заморгал и сказал:
— Юридицски они уже расписаны, значит — все, возврата к холостой жизни нет, разве только через развод. Вот что я хотел сказать!.. — И победно сел.
Музыканты, хоть и были навеселе (перед их скамьей поставили две табуретки с самогонкой и холодцом), поняли, что речь Омельковича нужно как-то замять, перемигнулись и врезали польку-бабочку, но тут поднялся дед Лавро, знаток и блюститель свадебного обряда, махнул музыкантам, чтоб затихли, и сказал, дождавшись полной тишины:
— Кхи, а почему это ты, Катря, не перевязала жениха платком? Разве ты не хочешь привязать его к своему сердцу?!.
— Верно! — зашумели женщины. — Это как следует!
А за столами, где разместились мужчины (если сядешь рядом с женой, разве выпьешь по-человечески!), загудели:
— Ежели захочет в гречку скакнуть[18], так и на веревке не удержишь, ги-ги-ги!..
— Что-то очень манежится. Такое пфе только газеты читает да телевизор смотрит…
Катря медленно встала, выдернула тоненькими пальцами платочек из-под рукава — новый, шелковый, заглаженный в ровный квадратик, — и ласково улыбнулась нареченному. Тот поднялся, подставил руку, словно для укола. Когда платочек на его рукаве сверкнул шелковым клинышком, свадебная компания, словно сговорившись, дружно крикнула:
— Горь-ко!.. Горь-ко!.. Горь-ко!..
Катря всем телом потянулась к жениху, готовая, казалось, хмелем обвиться вокруг него, закрыть глаза и лететь в поцелуе, как в пропасть… А жених, напрягшись в шее так, что аж воротник врезался, едва дотянулся сжатыми губами до Катриной щеки и коснулся ее — горячей, как огонь.
— Не та-ак! — завопили женщины.
— Так, как впервые, давай!
— Как наедине!
— Горько!
— Покажи, как инженеры целуются!
— Ха-ха-ха!..
— И-и-ги-ги!..
— Язычники, — тихо сказал Катре жених, когда они, поцеловавшись, сели и пригубил из рюмки — она дрожала в его руке, — а Катря выпила свою до дна и ответила мирненько:
— Люди как люди. Ты лучше выпил бы, как все.
Жених сурово взглянул на нее сбоку, однако промолчал и еще крепче сжал губы.
Женщины завели песню, простую, не свадебную, потому что понимали: если «у нашей княгини» еще как-то подходит невесте, то «у нашего князя» уж никак не подходит жениху. Такой напыщенный — и князь?! Нет!
Катря, осмелевшая после двух рюмок шампанского, тоже пристала к песне, сначала потихоньку, словно сама себе напевала, когда же мужчины могучими басами заглушили запевавшую, взяла вдруг первым, звонким и чистым, как фонтанчик на дне криницы, голосом:
Ой, братіку, соколоньку, Ой, братіку, соколоньку, Та візьми ж мене на зимоньку…От песни этой старинной, до краев налитой печалью, песни, с которой выросло не одно поколение хуторян и не одно поколение ушло на тот свет, у женщин дрожали на ресницах слезы, мужчины хмурились, глядели грустно и трезвели, словно и не пили, а Грицко Байрачанский витал своим дрожащим тенором высоко-превысоко, как одинокая птица под облаками. Казалось, не десятки людей пели эту песню, а одна многоголосая душа… Еще вчера Алексей Цурка слонялся возле клуба пьяненький, ища «врага» своего, чтобы отвести душу, а найдя (то был бывший бригадир), подходил к парнишкам и умолял первого попавшегося: «Ванька, пойди затронь бригадира, пусть он тебя ударит, а я ему морду набью…» Еще недавно Параска Жмуркова с пеной на губах грызлась с соседкой Ялосоветой Крамаренчихой за межу, когда пахали на зиму… А сегодня все они плечом к плечу сидели за столами и пели песню, знакомую еще с детства, и были похожи на послушных детей одних отца-матери. Они это были — и не они.
— Вот дают хохлы! — восхищенно сказал жениху парень, приехавший вместе с ним на «Волге». Громко сказал, надеясь, должно быть, что его за песней не услышат. Однако Федор Безверхий, сидевший неподалеку за семейным столом, все-таки услышал, прищурил острые глаза и спросил:
— А вы сами, извините, откуда будете?
— О, я, папаша, издалека, — снисходительно ответил молодой человек. — Я из Винницы. То есть родители оттуда. А я коренной донбассовец.
— А-а, это далеко, — согласился Федор. — Это у вас, в Виннице, говорят, «рабый» вместо «рябый»?..
— Когда-то говорили, а сейчас — нет.
— Ну, тогда давайте выпьем за ваши края, — осклабился Федор. — По полному, чтоб дома не журились, как говорится.
Выпил, утерся платком и крикнул певцам:
— А чего это мы такую грустную завели? Разве веселее нет для такого дня?
— Ну, давайте «з сиром пироги…» Давайте?
Но тут снова поднялся дед Лавро и сказал:
— Кхи, эту песню на моей памяти никто у нас никогда не пел. И не нужно. Потому что, если б казаки бились за девчинонёк и пироги, так мы уже были бы турками. Пусть лучше музыканты играют, а то зачем же их позвали…
— Мне — мою, хлопцы, — выбрался из-за стола Лука Илькович Власенко, бывший кавалерист и ротный повар, а теперь сторож при сельмаге. Всю свою жизнь, и довоенную и послевоенную, Лука Илькович танцевал на гульбищах только «барыню». «Барыней» его и прозвали, а свой рассказ о прошлом он начинал так: «Когда служил я в кавалерии, то шашка у меня была длинная и на колесике…»
— Грей, Мишка, бубен, — распорядился Иванушка-скрипаль.
Мишка-бубнист поджег клочок газеты, немного подержал под пламенем свой самодельный инструмент из собачьей кожи — и бубен загудел, как колокол, Иванушка прижал скрипку подбородком к плечу, поднял смычок, Василь-сопилкар послюнил языком мундштук сопилки. Шурко-баянист взял аккорд, а Лука Илькович стал в свою любимую позицию: положил ладонь правой руки на затылок, левой подбоченился и выставил вперед укороченную раненую ногу. Потом сплюнул сквозь зубы и сказал:
— Ну?!
Иванушка коротко взмахнул смычком — и баянист медленно, чеканя каждый такт, на одних басах заиграл выход. К басам незаметно подкралась скрипка и, сладенько вскрикивая, как лукавая молодица, пошла с ними в паре, за нею ручейком влилась в мелодию и сопилка, только бубен молчал, выжидая удобного случая…
Лука Илькович крадучись пошел по кругу, припадая на левую раненую ногу, а правую выбрасывая перед собой ровно, как аист, — глаза прищурены, короткие седые усы встопорщены, — подпирал верхнюю губу нижней, представляя капризницу-барыню. А Мишка-бубнист, будто насмехаясь над той великой пани, скривил набок большой рот и приговаривал в такт музыке:
Е-е-е ба-ри-ня ла-са, ла-са до лю-бо-вi у-да-ла-ла-ся, ба-ри-ня цяць-ка, ба-ри-ня киць-ка…— Их-их, и-хи-хих, — залились смехом медные погремушки на бубне и сразу умолкли.
Що не вечір, то й новий,—захохотал бубен.
Що не вечір, то й другий!И мгновенно мелодия закружилась, словно вихрь.
Бариня — кицька! Бариня — ласка!— А давай-давай-давай! — не своим голосом завопил Мишка, краснея и выпучивая глаза. — Гоц-ца! Га-ца-ца!..
Лука Илькович и сам что-то выкрикивал, молол ногами пыль, взмахивал руками, как ветряк крыльями на сильном ветру, выгибал тело и туда и сюда и так и сяк, и казалось, не танцует он, а кувырком ходит… Потом цоп — стал как вкопанный, и все, даже те, которые видели старого в танце не раз и не два, подумали: все, устал, конец. А Лука Илькович, выждав нужный такт, пустился вдруг снова, с такой яростью шлепая себя ладонями по икрам, бедрам, груди, по шее и подошвам, что уже и музыки не было слышно, а только одни хлопки. («После каждой «барыни», — жаловался не раз Лука Илькович дядькам, — у меня все тело в синяках, и ладони, и пальцы — чарки не удержишь. Тьфу!»)
— Ну, дают! — выкрикивал сквозь смех «коренной донбассовец» и толкал жениха под бок.
Тот тоже смеялся — уже не скупо, искренне, и оказалось, что смех у него тихий, мягкий, как у восторженного парнишки, а зубы ровные и белые. Он обнимал Катрю за талию, чувствовал под пальцами ее остренький твердый живот, и приятная теплая волна отцовской радости омывала его.
— Выпьем, Катюша? Вдвоем. Выпьем за… — сказал тихо.
Она догадалась, за кого, опустила глаза и снова подняла их на него — грустные, прекрасные, влюбленные до самозабвения, и кивнула:
— Я капельку, мне ведь уже нельзя, а ты все…
Ей хотелось обнять сейчас и дядьку Луку, и музыкантов, и всех гостей за то, что ее любимый снова стал таким ласковым и добрым, как в первые дни их знакомства…
— Молодец, дядько! — закричали гости, когда музыка умолкла и Лука Илькович, покачиваясь от усталости, направился к столу. — Качать танцора!
— Качайте, — согласился Лука Илькович, — только глядите не упустите, а то, если и другую ногу покалечу, тогда конец «барыням»…
Сильные хлопцы-трактористы несколько раз подбросили дядька выше стрехи, под всеобщий хохот хуторян, отнесли к столу и налили полный стакан — как премию. Музыканты тоже уселись вокруг своих табуреток с холодцом и водкой. А за столами, где сидели мужчины, был слышен вкрадчивый голос известного на весь сельсовет трепача Самойла Шкурпела:
— Поньмаш, черт, забегаю я, значить, в Берлин и спрашиваю: «Где тут Гитлер?» Гляжу, трясется один в толпе среди немчуков, усы вот так вот столбиком, чубчик набок и с белым флажком в руках… А сам в штатском… Гляжу: бочком, бочком, за спины прячется. «Хенде хох! — говорю. — Попался, фон гад? — и автомат ему в грудь наставил. — Ком за мною», — говорю.
— Ну и брехло ты, Самойло. Гитлер ведь сгорел!
— Погоди, погоди, — обиделся Самойло, — ты сначала дослушай, а потом обзывай… Вот, привожу в штаб, а там таких, как мой, целая очередь стоит, душ триста. Двойники, поньмаш…
— Так ты сам забежал в Берлин или с войсками?..
— С войсками, но я был в авангарде.
— …А я, когда служил в кавалерии, — уже едва владея языком после «премиальной», молвил Лука Илькович, — то шашка у меня была длинная и на колесике…
— Да-а, — отозвался младший Самойлов брат Семен, — когда я служил в Карелии, вызывает меня как-то раз командир полка и говорит: «Бери, сержант Шкурпела, семьдесят тягачей, сам во главу колонны и аллюром в тундру за лесом, а то нечем солдатам баню топить…»
— …Думаешь, почему тот опишнянский Кольчик так много зайцев в прошлом году набил и всех — с левого дула? Потому что оно у него крестиком золотым прострелено… И перед каждой охотой он себе глаза волчьей желчью мажет — тогда видать ему черт-те куда…
— …Это правильно, что внедряют воспитание молодежи. Потому, что фактицски она забыла, что к чему. Меня, бывало, в сорок шестом Захарко вызовет в сельсовет и говорит: «Собери хлопцёв-допризывников, построй — и марш-бросок под Зинькинскую гору». Так я выстрою да как крикну: «Арш!» — так, брат, бояцца. А практицски бегут. И ты бежишь. Бежишь и чувствуешь за плечами ответственность…
— И никакой этот жених не инженер, а слесарь… — заговорил впервые за все гулянье Данило Шкабура, который никогда никому ни в чем не верил, а говорил всегда: «Все это брехня».
— Как не инженер? — спросили у него.
— А так. Инженеры не такие.
— А какие же?
— Не такие…
Были уже и пьяненькие. Первым отвели в хату и уложили на горелую кровать председателя колхоза, потому что Степан ему, как начальству, подливал крепчайшего первача и до тех пор, пока не свалило человека со стула. Председателю еще до того, как он упал, говорили: «Может, пойдете, Иван Лукич, в хату да отдохнете?» Но он обиделся: «Кто? Я? Нет-нет… Я свой взвод в бою никогда не оставлял — и вас не оставлю!»
Алексей Цурка бродил от стола к столу, упирался чуть ли не в каждого красными, как моченые сливы, глазами и спрашивал: «А где бригадир?» Приставал далее к хозяину: «А-а, Степан Кондратович… Иди сюда, поближе… Не хочешь, боишься… Знаем, как ты торгуешь… Пшено как продавал, а? Три кила пшена — полкила конфет растаявших в нагрузку. А сам брал те к-конфеты, тот солидол? Знаем!..»
Из-за сада, казалось, сразу за ним, поднималась против полуденного солнца огромная, в полнеба, синяя туча, дул холодный ветер, и вскоре пошел густой косой снег, лапчатый и мокрый, первый снег.
Молодые пошли в хату — легко одеты были и замерзли. К тому же пора было собираться в дорогу.
Один за другим, поблагодарив хозяев за хлеб-соль, стали расходиться и хуторяне, в большинстве женщины и дети. Мужчины нее перенесли несколько столов в затишек, шумели, пели охрипшими с перепоя голосами, а кто уже был совсем пьян и тонкий на слезу, тот плакал, вспомнив давние свои обиды или от жалости кто знает к кому…
Наступили сумерки, когда молодые, одетые уже по-дорожному, сваха и товарищ жениха вышли из хаты и направились к воротам, возле которых их уже ждала заведенная «Волга». Катря и Степаниха плакали, то и дело припадая друг к другу, жених морщился, как от боли, а Степан, бывший под доброй чаркой, уже в который раз твердил ему:
— Ты ж, сынок, не обижай Катрю. Она у нас жила, как ласточка в гнездышке, ни горя, ни нужды не знала, так гляди. Женой она тебе будет золотою — верь отцу. А мы вам в любое время и сала, и колбасы домашней, и курицу пришлем. А надо будет, картошки подкинем багажом, сколько захотите… Веришь? Я такой. Для своих — все!
— Верю, папаша, верю, — успокаивал его зять, держа руки в карманах плаща. — Спасибо, не волнуйтесь, все будет хорошо.
— А вы, сваха, — обнимая Клавдию Константиновну и целуя ее в сухие напудренные щеки, ворковал Степан, — глядите ж там. Если что не так будет делать, подскажите, научите, но не обижайте. Она ж у нас… — И махнул рукой. — А мы вам… Пишите, что нужно, — все будет…
Молодые и гости, простившись, сели в машину, хлопнули дверцы, сильнее загудел мотор, и машина, срывая снег, помчала улочкой, оставляя за собой две черные полосы от колес.
— Да моя ж ты деточка дорогая, когда ж я теперь тебя увижу!.. — вскрикнула Степаниха и зарыдала.
Федор с женой подхватили ее под руки и повели в хату, а Степан, сгорбившись, пошел к столам, где гудели мужчины.
Машина выскочила за хутор, подсвечивая фарами чашечки на телеграфных столбах, и помчала к большаку, а Катря все смотрела и смотрела в заднее стекло, за которым уже едва виднелись хаты, укрытые снегом, поблескивал кое-где свет на столбах и в окнах, а когда хутора не стало видно, склонилась мужу на грудь и занемела, только плечи ее мелко дрожали.
Перевод с украинского Н. Дангуловой
Федор Уяр Ореховая скорлупа
И сегодня Тимуш проснулся с таким чувством, будто что-то не так, будто что-то не ладится в его жизни. А проснулся оттого, что услышал, как хлопнула дверь. Это мать пошла в магазин. Сегодня в школу не идти, и Тимушу можно даже поваляться в постели — просто так. Однако… скоро вот вернется мать, и они сядут завтракать. Потом мать примется стирать белье, а Тимуша выгонит на улицу — «для укрепления здоровья». На часок. Потом должен кое-что прочитать. Уроки надо делать.
После обеда опять на улицу — проветриться. Ненадолго. А потом снова за уроки…
Целый день вот так, как мать скажет.
Это в воскресенье такой распорядок. В будни Тимушу живется как-то легче. Мать на заводе. Она рабочий класс. А Тимуш предоставлен самому себе. С утра он идет в школу. После обеда бежит скорее на улицу…
Тимуш встал и быстро убрал постель. К этому он привык давно. Еще маленьким. А теперь ему скоро уже десять лет будет.
Что еще надо сделать? Умыться, одеться. Потом в квартире прибрать, полы протереть. Быстрее, быстрее, а то до возвращения матери он не успеет сделать все это; с другой стороны, зачем же так торопиться? Мать все равно придет еще не скоро. В воскресенье она закупает продукты на целую неделю.
Живут они с ней вдвоем. Отец ходит где-то «на воле». Письма раньше слал одно за другим. Однако мать Тимуша их не читала, тут же рвала в клочки и бросала в мусорное ведро.
Как и все матери на свете, и мать Тимуша хочет воспитать сына так, как она считает нужным, иначе говоря, по своему образу и подобию.
У самой жизнь сложилась неудачно. Отца своего она не знает. Даже фотокарточки нет. Мать в годы войны погибла, угодила под трактор. Улеглась, усталая, в борозду, да так и не проснулась. Сироток — мать Тимуша и ее братишек — приютили дальние родственники. Учиться порядком не пришлось. По-русски стала немного понимать только после того, как переехала в город.
Теперь она сама воспитывает. Дескать, ей жизнь не удалась, пускай она удастся у Тимуша.
«Я осталась дурой, не смогла учиться, пусть хоть сын учится. Я совершила много ошибок, никто не говорил мне, как их избежать. И после всего этого я не выведу сына на верную дорогу? Да может ли такое быть?» — спрашивала она себя.
Заниматься воспитанием ей пришлось одной. Думала, сын будет расти под крылом отца и матери, не получилось. Запил муж.
Тимуш уже сейчас не во всем слушается мать, капризничает. Кто его против настраивает, неизвестно. Чем больше твердит ему мать — учись, учись, — тем больше сын отлынивает. Мать не догадывается, что может быть этому причиной. Например, в десять часов Тимуш не хочет ложиться спать. Когда она предлагает ему пойти на улицу, он хочет сидеть дома. Наверно, Тимушу не нравится, когда ему все время указывают.
Он не любит, когда его водят за руку. Сам до всего хочет дойти. И улыбается он чаще всего, когда делает что-нибудь по дому, мастерит.
Его мать, в свою очередь, никогда не сидит без работы. Днем на заводе. Приходит домой, начинает еду готовить. Моет посуду, протирает окна, косяки, мебель. И эта работа ее больше на игру похожа. Она при этом рассказывает что-нибудь, смеется. Или сядет возле своего распоротого пальто или платья и укорачивает, сужает, расширяет — в зависимости от того, как изменяется мода. Потом перекрашивает… И тогда старая одежда или платья становятся совсем новыми. На заводе считают, что мать Тимуша хорошо одевается.
Тимуш не помнит случая, чтобы мать казалась усталой. Не замечал, чтобы и печалилась особенно. Только однажды ночью вдруг проснулся он и увидел: сидит мать на полу и плачет. В руках держит какое-то письмо. Она, видимо, собиралась пол мыть, рядом лежала мокрая тряпка.
Тимуш тоже чуть не заплакал. Хотел спрыгнуть с постели и обнять маму, но постеснялся.
Еще один случай был. Пошел Тимуш за хлебом и на крыльце неожиданно столкнулся со своим отцом. Отец схватил его, крепко обнял, потом вдруг отпустил и побежал вверх по ступенькам. Для смелости он, видать, выпил: от него разило водкой.
Мальчик не помнит, как он сходил в магазин. То ли был он там, то ли нет, но только в руках у него хлеб оказался. Навстречу ему из двери вылетел раскрасневшийся отец. Взглянул на Тимуша и, ничего не сказав, убежал.
Ждал-ждал Тимуш возле двери — отец не вернулся. А мать молчала. Думала, наверно, что сын ничего не знает.
Нет, слишком сложной жизнью живут взрослые. Никак их невозможно понять.
Больше отец не приходил. Не присылал и писем. Однако Тимушу после этого стало казаться, что он живет где-то неподалеку.
Тимушу очень хотелось, чтобы все жили вместе — отец, мать и он. Мальчик еще не ведал, что в жизни не все мечты сбываются.
На кухне что-то зашипело. Тимуш побежал туда с тряпкой в руке. Оказывается, мать, уходя, поставила вариться суп и вот теперь он закипел, через край льется.
Тимуш убавил газ.
Только было он растянулся под кроватью, чтобы и там протереть, в дверь постучали. Тимуш мокрой рукой крутил-крутил вертушку замка, никак не мог открыть.
— Мама, это ты? — испуганно спросил он.
— Я, твоя мама, — ответил кто-то странным голосом. Было похоже, что там за дверью мужчина, но только почему-то он пытается говорить тоненько. Может, отец? Нет, не он.
— Я не могу открыть, — сказал Тимуш тихо. Конечно, если бы он вытер руки, то открыл бы. Ведь стыдно, как соседка старушка, каждого пришедшего спрашивать, кто там да кто там. В то же время мать незнакомых людей не очень-то велит пускать.
— Мама где? — веселым тоном спросил незнакомец. На этот раз говорил он своим голосом.
— В магазине, — ответил Тимуш, уже собираясь уйти от двери.
— А скоро она придет?
— Сегодня же выходной день.
То ли это означало, что сегодня воскресенье, могут быть большие очереди, мама придет не скоро, или что-нибудь другое, но незнакомец, наверно, задумался над словами мальчика и некоторое время молчал.
— Я твой дядя, — сказал он наконец.
Но Тимуш уже старательно вытирал мокрой тряпкой пол под кроватью. Потом пошел на кухню, вытер пол под столом. Остальное можно протереть и «ленивкой», а это делается быстро…
И полы-то не грязные были, выжмешь один раз тряпку — и все. Однако воздух в квартире стал намного свежее. Что и говорить, мыть или не мыть — большая разница.
Если только мать не слишком станет настаивать с уроками, Тимуш перед сном готов еще раз протереть полы. Пожалуйста.
Почему ему приятно это делать? Если бы Тимуш был взрослым, наверняка сказал бы: потому что в это время как будто ни о чем и не думаешь, работаешь себе и работаешь, как машина.
А в другое время человек остается с глазу на глаз с собой. Правда, когда чем-нибудь зачитаешься, тоже неплохо. Уроки — дело другое.
Ну что же, когда Тимуш подрастет, он, может, в самом деле сторожем станет? Мать же говорит: «Если не будешь учиться, то станешь пастухом или только сторожем». А учиться что-то не хочется. И это, наверное, на всю жизнь. Конечно, Тимуш такой уж человек. Поссорился с другом — враги навсегда. Значит, ясно, он будет сторожем. Но почему «только сторожем»? По мнению Тимуша, почетнее работы нет. В руках у сторожа ружье. Не спит ночами, охраняет народное добро. Для людей старается. Тимуш тоже вон старается, чтобы матери было легче.
Теперь можно было и присесть с учебником в руках, но вновь Тимушу показалось, будто не все дела сделаны, и он не выдержал — поправил покрывало на диване, полил цветы на подоконнике.
Вот теперь… Но уже оказалось поздно: в квартиру вошли мать с полной сумкой и мужчина с чемоданом.
Начиная с этого момента, день, как палка, с треском переломился надвое. То, что прошло, осталось позади, а дальше началось все удивительное.
…Пришелец смотрел на мальчика во все глаза.
— Ну-ка, ну-ка, разве это Тимуш? Ты Тимуш?
Мальчик молчал.
— Тимуш! — сам себе ответил незнакомец. — Ты большой стал, братец, не узнать даже. Скоро меня догонишь. Ты помнишь меня? Помнишь, как мы с тобой по городу ходили, на ту сторону Волги переезжали, купались там? Сколько тебе лет тогда было-то? Сколько ему было, Елюк?
— Три года, — послышался из кухни голос матери.
Нет, Тимуш ничего не помнил. Почему он все-таки не открыл дверь этому доброму человеку? То, что человек добрый, сразу заметно было. Как вошел, и в квартире стало будто светлее. Может, когда-то Тимуш и видел его, наверно, видел. Человек такой, что обязательно запоминается: высокий, здоровый. Лицо розовое, глаза веселые.
— И город вырос, и Тимуш вырос, — сказал незнакомец. А сам вглядывался в фотографию, висевшую на стене.
Посмотрел Тимуш на человека, стоявшего на карточке рядом с его матерью, а потом на незнакомца.
— Дядя, — проговорил он несмело.
— Верно, узнал! — обрадовался гость. — Твой дядя, — подтвердил он еще раз. Рывком поднял Тимуша на руки, прижал к себе. — Ну, как живешь, братец?
— Хорошо, — оказал Тимуш тихо.
Дядя опустил его на пол.
— Ты не болен, Тимуш? Почему такой тихий, несмелый?
— Не выспался, вот почему, — сказала мать.
Гость вынул из чемодана целую кипу вещей.
— Это за то, что не забыл меня. — На плечо Тимушу он повесил красный костюм из толстой ткани. — Будешь кататься на лыжах. Лыжи-то есть у тебя?
— Нет, — ответил Тимуш.
— Купим! — обнадежил дядя. — Вот поедим и сходим на базар… Это тебе, Елюк. Халат. А это мне. — И он поставил на стол малюсенькую бутылочку с водкой.
— Спасибо, Вазюк, — сказала мать Тимуша. Она собирала на стол и поглядывала, улыбаясь, на своего младшего брата. — Сильно ты потратился.
— Пустое… Заказать для вас шубы из медвежьего меха тоже было бы нелишне, ладно уж, в следующий раз. А сейчас я спешил.
— Вроде о приезде разговора не было, я даже не думала…
— Пришло письмо…
— Элексей пишет?
— Он.
Услышав имя отца, Тимуш даже дышать перестал, но мать с дядей сразу замолчали.
«Ага, о папе они будут говорить, когда останутся одни», — догадался Тимуш. Может, дела пойдут на лад, не станет ведь дядя зря ездить в такую даль?..
Во время обеда дядя рассказывал про охоту. А живет он, оказывается, посреди глухой тайги, и медведи иногда заявляются прямо в село.
После обеда они долго еще не могли пойти в город. Дядя помыл руки и, увидев, что из крана капает, починил его. Ослабла дверная ручка — прибил как следует, покосилась вешалка — и ее закрепил…
Тимуш в это время ждал, что мать закричит, как обычно: «Что ты не готовишь уроки» или «Почему не идешь гулять». Мальчик даже покраснел заранее, ведь неудобно перед дядей. Но все обошлось. Тимуш сходил на улицу, показал товарищам новый костюм. Похвастал также, что ему будут лыжи покупать.
По улице в толпе народа медленно идут мужчина с мальчиком. Мальчик черноволосый, низенький и худощавый, какой-то незапоминающийся. Кажется, будто мальчик просто не хочет, чтобы на него кто-нибудь обратил внимание. Он, как видно, не совсем еще привык к идущему с ним мужчине — не чуждается, но и не льнет к нему, пугливо уступает всем дорогу.
Мужчина высокий, крепкий, краснолицый, с большими красными руками. Дорогой черный костюм и белая нейлоновая рубашка придают ему, как ни странно, деревенский вид. Дует свежий осенний ветер с Волги, однако мужчине жарко в шерстяном костюме, шагает он осторожно, словно боясь ненароком раздавить кого-нибудь. На все смотрит с интересом.
В Чебоксарах осень. Небо чистое, воздух тоже чистый — фабрики и заводы сегодня не работают. В городе каждый уголок, каждый дом словно улыбаются. Липы по краям тротуаров и оставшиеся от старого города тополя как будто нарядились специально к этому дню — в красное, оранжевое. Люди на улице веселые, то и дело сверкают улыбки. В Заволжье зеленеет лес, переправляйся, добрый человек, и отдыхай там. Катера и паромы на Волге никак не могут устоять на месте: переплывут на тот берег и уже торопятся к этому, переправятся сюда, им уже надо скорей обратно. Целый день вот так и снуют.
Дядя Тимуша глубоко вздыхает:
— Хорошо у вас здесь!
— Тогда почему сюда не переедете? — спрашивает Тимуш.
— У меня же семья. Не так просто сняться… Сейчас там черная осень. Льют дожди…
Тимуш хотел было сказать: в это время и у нас тоже часто плохая погода, но промолчал. Пускай гость думает, что здесь всегда так хорошо, так ясно.
— А далеко этот ваш город?
— Не город, а село. Пять тысяч километров отсюда. — Гость, видно, подумал о тамошних богатствах и красотах, потому что закончил так: — Приезжай, в обиде не будешь.
— Как поспеют орехи, приеду, — говорит Тимуш. Идет некоторое время молча и добавляет: — Как только подработаю деньжат…
— Ну, конечно же…
Люди их обгоняют, обгоняют, толкают. Людской поток движется с шумом, будто ледоход на реке — порой бывают заторы, река разветвляется на рукава.
— Как я помню… Раньше здесь улицы были другими… Больше двух-трех человек разойтись не могло, — говорит дядя.
Прежние Чебоксары представляются Тимушу в виде детского городка. Городок маленький. Низкий. Тихий. Травянистый. Прямо посреди улицы ребята играют в футбол. Милиционер охраняет, чтобы никто им не мешал. Машины остановились, ждут, когда мяч в ворота попадет…
Вот и спортивный магазин. Зашли.
— Лыжи есть?
— Рано еще, приходите зимой.
Тимуш гордится своим дядей, любуется им. Такой он здоровый, красивый, и костюм у него такой хороший. Все на них должны смотреть, ведь идут-то они вместе. Может, подумают, с отцом идет. Когда встретился одноклассник, у Тимуша от гордости даже в глазах потемнело.
Теперь он уже успокоился. Оказывается, никто особенно не присматривается к ним. Видать, каждый торопится по своим делам.
Дядя Тимуша остановился перед высоким домом, запрокинул голову.
— Смотри, какой большой. Сколько же тут этажей?
— Девять.
— А так дом на вид стройный, легкий, только небось подниматься трудно.
— Чего трудного, — возразил Тимуш и покраснел, думая поразить дядю тем, что скажет. — Там машина вверх поднимается, эскалатор называется.
Дядя в ответ ничего не сказал, но по его улыбке Тимуш догадался, что допустил ошибку. Придется зайти в этот дом и посмотреть. Или расспросить-разузнать в школе. В их доме только пять этажей и никакой машины нет.
Почему он сказал «эскалатор»? Когда-то слышал, что с его помощью — машина это или что — куда-то поднимаются, вот и сказал.
Дядя ласково похлопал Тимуша ладонью по спине.
— Ну, еще что посмотрим? Может, дойдем до Зеленого базара? Я помню, прежде там продавали лыжи.
Тимуш был благодарен дяде, что тот не поправил его на людях. Они постояли немного на площади Советов. Перед памятником Ленину дядя Тимуша снял шляпу. Потом они отошли в сторону и еще немного постояли, оглядывая дома вокруг и людей. Тимушу понравилось, что Владимир Ильич словно куда-то торопится, как все люди, будто и ему надо поспеть на работу вовремя. Руки Ленин заложил назад, за спину. Народ здешний совсем не чужой ему. С детских лет он общался с чувашами. Одному даже учиться помог. Об этом написано в «Родной речи».
Тимуш и его дядя идут по Зеленому базару. Удивляется Тимуш: почему зеленый, когда кругом столько разных других цветов? Вон целая груда красных помидоров, а вот бурые грибы, хмель, орехи, желтая репа. Даже огурцы — и те с желтинкой.
Базар опять напомнил Тимушу ледоход на Волге. Поток несет сгрудившиеся льдины. Внезапно они останавливаются и с шумом валятся друг на друга. Скрип, стон, скрежет, ровный гул толпы, шарканье сапог, отдельные выкрики. Чтобы не потеряться, Тимуш обеими руками ухватился за дядину большую руку. А дядя смотрит вокруг с веселым удивлением. Не переставая улыбаться, подходит он к одному колхознику, к другому, осматривает товар, пробует овощи, справляется о ценах, спрашивает, кто из какой деревни.
— Зима у вас теплая в этом году будет, кожица луковиц очень тонкая, — сообщает он Тимушу.
Запомнил это Тимуш.
На рынке в ларьке купили они лыжи. С восторгом прижал их Тимуш к груди, с опаской глянул на продавца, будто боялся, что тот раздумает, отнимет… И дядю скорее потянул от ларька. Все на рынке грызли орехи, лузгали семечки. А орехи такие, что не хочешь, да купишь — крупные, ядреные, чуть надавишь зубами, рассыпаются. Тимуш сначала был очень занят своими лыжами, ничего не замечал, а теперь смотрит — все сплевывают на землю шелуху от семечек и скорлупки от орехов, под ногами так и хрустит. Тимуш прикинул в уме: если бы он стал это все убирать, скоро ли убрал бы? Около одного киоска вон сколько сору — на грузовике не увезешь, а на всей базарной площади!.. И попросил Тимуш дядю выйти поскорее на улицу. Иначе что подумает гость об их городе?
Но и на улице было то же самое. Хрустит под ногами, как на базаре, опять всюду шелуха и скорлупки. Тимуш с этой боковой улицы почти выбежал на главную, дядя еле поспевал за ним. Но и там полно окурков, бумаги, спичек. Что же это такое?! Ведь это все кому-то убирать надо… Вокруг вроде вполне приличные люди, а сорят…
Тимуш от стыда перед дядей не знает, куда глаза девать. Дядя почувствовал, что племяннику не по себе. «Устал мальчик, очень уж слабенький». И, чтобы подбодрить его, купил ему мороженое, а бумажку, скомкав, бросил… на тротуар.
Тимушу как будто пощечину дали. Он сильно покраснел и сразу отстал от дяди.
Дядя остановился, обернулся.
— Ты не устал? — спросил он. — Дай я понесу лыжи.
«Он, наверно, понял, что я на него рассердился, — подумал Тимуш. — Вот и намекнул, что лыжи мне купил».
Тимуш нес лыжи под мышкой, это было неудобно. Теперь он переложил их на плечо и буркнул:
— Я сам…
— Ну и ладно, — согласился дядя.
Пошли дальше.
Со стороны Волги подул порывистый ветерок, и скомканная бумажка от мороженого, которую бросил дядя, покатилась вслед за ними. Дескать, зря бросили. Шел мальчик, шел посапывая, и оглянулся. Белый комочек, словно не желая отстать, все еще катился вслед за ними. Остановится на секунду, снова срывается с места, катится, подпрыгивает. Когда Тимуш оглянулся еще раз, бумажки уже не было видно. Где-нибудь застряла, наверно, или прохожий растоптал.
И вдруг остановился Тимуш и уставился на дядю. Как же так?! Ведь дядя должен был что-то сказать об отце. Ведь он что-то знает. Обязательно знает. Иначе бы и не приехал.
— Ты чего? — спросил дядя.
— Я? — Тимуш смутился и показал рукой на свой дом. — Домой пришли.
— Вижу. Ну, пошли.
Когда поднимались по лестнице, Тимуш решил так: сейчас он спрячет лыжи и тут же выйдет. А они пускай о папе говорят. А ту бумажку, что дядя бросил, он обязательно найдет. Конечно, Тимушу сразу же надо было поднять ее и бросить в урну. Не догадался…
Вошли они в квартиру и услышали, как мама в ванной белье стирает. Тимуш хотел положить лыжи на полку в коридоре. Примерился — не достал. Погромыхал лыжами в кладовой — нет, здесь, пожалуй, не стоит. Ему хотелось спрятать их как следует, чтобы на глаза не попадались. А то сделает он что-нибудь не так, мать обязательно начнет попрекать его этими лыжами. Тебе, мол, дарят, надеюсь на тебя, а ты… Наконец, Тимуш засунул лыжи под диван и пошел к двери. Надо поскорее уйти, чтоб не помешать взрослым говорить о деле. А то дядя уедет, и все останется по-прежнему.
Однако Тимуша задержала мать.
— Ты куда это? — спросила она, недоверчиво вглядываясь в его лицо.
Тимуш, конечно, мог юркнуть в дверь, и поминай как звали, но он замешкался.
— Я погуляю немножко! — голос Тимуша зазвенел, мальчик был убежден, что загубит все дело, если ему не удастся вырваться на улицу. Мать тут же повернула вертушку замка.
— Ты сегодня и так целый день гулял, хватит, Сейчас поедим — и сразу садись за уроки.
— Я скоро вернусь! — закричал Тимуш. — Открой! Я только немножко погуляю. Говорят тебе, пусти! — дрожащими руками он попытался открыть запор.
— Ах, вот ты как… — Мать побледнела, схватила Тимуша, втащила его в комнату и бросила на кровать.
— Лежи здесь! Никуда не пойдешь!
Но Тимуш тут же сполз на пол, кинулся к выходу, застучал ладонями по двери.
— Открой, говорю, мама! Я ведь приду! Пожалуйста, открой!
Горькие мысли об отце, любовь и жалость к матери, обратившиеся теперь в боль и стыд, ожидание сочувствия со стороны дяди (дядя не успел вмешаться, он в ванной руки мыл, а ссора вспыхнула как пожар) — все это слилось в одном неудержимом стремлении вырваться отсюда, пусть они договорятся, а он должен найти ту проклятую бумажку и бросить ее в урну! Иначе ничего не получится!
— Открой, мама! Я же приду! Почему ты мне не веришь?!
Тимуш кричал так отчаянно, что нервы матери не выдержали. Она оторвала сына от двери, бегом отнесла в комнату и бросила на кровать. Однако то ли мальчик вывернулся из рук матери, то ли она не рассчитала как следует, но только Тимуш ударился о спинку кровати, упал на пол и… тут же заснул, обессиленный.
Он лежит на домотканом половике. Дышит тихо-тихо. Худой — кожа да кости. Мать и дядя стоят над ним, словно застыли. Дядя наклонился, тихонько поднял мальчика и уложил его на кровать.
Мать Тимуша закрыла лицо руками.
За кухонным столом молча сидят брат и сестра. Они ждут, когда проснется мальчик. Мать Тимуша совсем растерялась и даже не вспомнила, что можно вызвать доктора. Брат хмурит брови, морщится. Вот он встает, заглядывает в открытую дверь.
В квартире пахнет подогретыми щами. О потолок бьется одна назойливая муха. Осень.
Когда стало совсем уж невмоготу, мать Тимуша прикрыла дверь, не смея взглянуть брату в глаза, промолвила:
— Если случится что… и сама жить не стану.
Брат только рукой махнул.
— Не дури… Что может случиться? Ничего не будет. Выспится — и все.
Сестра чувствует некоторое облегчение.
— Плохое быстро приходит, — говорит она, не зная, что еще сказать. — Доброе не так. Плохое сделать — ума не надо. Оно само…
— Ничего не случится, — повторяет брат. — Быть не может. Потом поясняет: — Так было бы слишком несправедливо.
Он открывает дверь, идет к Тимушу. Возвращается на цыпочках.
— Все так же лежит. Пускай поспит. Ведь сон все равно сильнее всякого лекарства.
Мать Тимуша то ли улыбается, то ли плачет.
— Думаешь, я не люблю Тимуша?
Брат прерывает ее:
— Одна, сказывают, от сильной любви к своему ребенку толкла его в ступе. Не слышала про такое? — Он качает головой. — Ты крутая в гневе, женщине это не идет. Тимуша, конечно, любишь. Иначе как может быть, твое же дитя. Однако и покоя ему не даешь. Так ты его или совсем сломишь, или он все равно вырастет по-своему. Ты сердишься на него за то, что он не похож на тебя. Я так понимаю. Но нет людей, точь-в-точь похожих друг на друга. У каждого в жизни своя дорога…
Он смолкает, проводит ладонью по лицу.
— Все на мне одной, — тихо говорит сестра. Теперь, как ее ни ругай, она во всем будет согласна с братом. Она чувствует себя виноватой. И все же помимо своей воли как будто начинает оправдываться. — Все на мне… Работа, одежда, еда… Просыпаюсь ночью, подхожу к нему и слушаю. Стонет во сне, может, болен, думаю. Не холодно ли ему? И все ли уроки успел сделать? Разве не странно, при отце он был первый в классе, а сейчас последний. Почему? Обидно мне.
— Завтра съезжу к Элексею, — пытается успокоить ее брат, — хватит вам дурачиться.
Сестра вдруг изменяется в лице, встает с места.
— Вазюк, не вспоминай о нем. Слышишь? Никогда! Он отрезанный ломоть. Вдвоем с Тимушем будем жить.
Брат изумленно смотрит на сестру, потом отводит глаза. До самого последнего момента он, видимо, надеялся, что удастся их помирить.
Из-за двери послышался какой-то шум. Это, наверно, Тимуш спрыгнул с кровати.
Перевод с чувашского А. Орлова
Бердыназар Худайназаров До сумерек и после
1
— Что с тобой? — встревоженно спросила жена, стоило ему переступить порог. И, услышав в ответ, что он — Аманша, Аманша Аллаяров! — снят с работы, не придала значения его словам.
Снят?.. Ну вот еще! За тридцать с лишним лет — кому удавалось хотя бы шевельнуть ее мужа в председательском кресле?.. Он сидел в нем как влитой, как джигит в седле любого своенравного скакуна. А если всю правду говорить, то и она не раз поддерживала ему стремя.
А что, если это действительно случилось? Выглядит он помятым: голубые глаза потускнели, нет в них обычной кошачьей остроты. И рыжие усы печально поникли. Печальный Аманша? Можно представить его себе веселым, злым, наконец — мертвым, не приведи аллах, но только не печальным!
Не снимая сапог, Аманша прошел в комнату и повалился на диван. Уголки губ дергались, а это всегда служило у него признаком крайнего раздражения. Мало кто осмеливался в таком случае взглянуть ему в лицо.
Как ни странно, именно это наблюдение успокоило Нурджемал. В безоблачном небе молнии не сверкают и грома не бывает. Только в полдень ушел товарищ Силапов. Как всегда, обедал у них в доме, рассказывал новости, похваливал чал[19], который Нурджемал своими руками подавала ему. Подшучивал над Гульсун — дочка как раз приехала навестить родителей. Потом Аманша и он — вместе, а не порознь — ушли на собрание.
Все понятно! Какой-нибудь безответственный пустомеля, — а их много развелось, — задел его за живое, и теперь Аманша на ней хочет сорвать злость… Большая и статная, она легко подошла к дивану, сдвинула к стене ноги мужа и села рядом. Она наклонилась над ним и двумя пальцами разгладила усы. От прикосновения к колючей щеточке стало щекотно, Нурджемал тихо и нежно рассмеялась.
Аманша не пошевелился. Нурджемал не поверила себе, когда у мужа вдруг приоткрылись веки и из голубых глаз, устроившихся под кустистыми седоватыми бровями, скатились слезы. Нурджемал потерла большим пальцем указательный и средний. Влажные! Значит, его слова «снят с работы» — правда. Нурджемал приходилось видеть плачущих мужчин. Когда на твоем пути встречается много разных людей, и смех услышишь, и слезы увидишь. Но — Аманша, ее муж!.. Она не понимала: мир меняется?.. Или приближается конец света? Каким должно быть сердце человека, рискнувшего сказать: «Я предлагаю отстранить председателя от работы». У них в селе даже не надо называть имя. Раз председатель, значит — Аманша Аллаяров. Уж не с самого ли неба последовал перман[20]? И как мог допустить это Силапов, который приехал проводить собрание?
Нурджемал отказывалась что-нибудь понять. Она с надеждой поглядывала на мужа — не объяснит ли он. Но Аманша лежал, по-прежнему не шевелясь, глаза у него были закрыты. А загоревшее лицо стало серым, как кошма плохой выделки.
Нурджемал подняла тугие молочно-белые руки. О нет! Она не к помощи взывает! Она грозит — врагам мужа, ее врагам. Она обрушит такое же горе на их головы!
2
Аманша не мог бы сказать, сколько времени он пролежал. Ружейный выстрел привел его в себя. Он вздрогнул и сел на диване. Да, теперь только и осталось — стрелять в него… Стрелять. Но когда — один за другим — раздалось еще несколько выстрелов, он успокоился: оказывается, по телевизору в соседней комнате показывают какой-то фильм.
Жены не было, а он даже не заметил, как она ушла.
— Нурджемал! — позвал он.
— Мамы нет, папа, — раздался в ответ голос Гульсун.
— А куда ушла твоя мать?
— Я не знаю, она ничего не сказала. Я кино смотрю.
Аманша спустил ноги на пол и, кряхтя, принялся стаскивать сапоги.
— «Кино смотрю», — раздраженно проговорил он. — Ты, конечно, кино смотришь… Смотри, смотри…
Из соседней комнаты в ответ не раздалось ни звука.
— Должно быть, хорошую картину показывают, — продолжал он. — До того хорошая картина, что про родного отца можно забыть!
— Ты мне что-то говоришь, папа?
— Тебе! Тебе я говорю! — крикнул он. — Выключи ради самого аллаха эту проклятую штуку!
Телевизор поперхнулся на полуслове и умолк. В дверях появилась Гульсун.
— Что с тобой? Что случилось, папа?
— Что со мной, что со мной! Разве мать ничего не говорила?
— Нет. Но что же все-таки случилось?
— Все, что со мной могло случиться, уже произошло! Сегодня меня — меня! — сняли с председателей!
Гульсун ахнула, но тут же постаралась утешить отца:
— Папа, ну что ты так переживаешь? Сколько ты сил отдал… Теперь пусть поработает кто помоложе. Если в каком-нибудь кабинете стоит кресло, то так уж устроено: один встает, другой садится…
Не те слова выбрала она для утешения. Аманша заговорил, словно его прорвало:
— А за тридцать лет, за тридцать с лишним лет нашелся этот другой? «Так уж устроено»! В тридцатых годах что-то не нашлось желающих садиться в то кресло! И во время войны — тоже. А после победы? Легко ли было восстанавливать хозяйство? Один Аманша согласился взвалить на себя этот худой мешок! На своем горбу я притащил бы тогда в контору человека, согласного занять мое кресло. Но — не нашлось! Теперь люди набили животы и стали важными. Не сегодня придумали пословицу, что сытый ишак норовит лягнуть хозяина!
Гульсун горько улыбнулась, хотела сдержаться, но не смогла.
— А давно ли люди стали ишаками? — спросила она.
— Давно, давно!.. И я первый среди них. Если бы я не был ишаком, я давно бы выставил таких склочников, как Шихим! И не только из колхоза — из района! Да, делай добро…
При этих словах Гульсун напряглась и стала вдруг похожа на отца. Голос ее прозвучал резко:
— Папа! А ты делал Шихиму добро?
Аманша яростно взглянул на дочь, словно хотел спалить ее взглядом, но ничего не ответил, и она, постояв еще немного в дверях, повернулась и ушла.
Шихим… Добро… Да, теперь остался только Шихим. А когда-то приходилось иметь дело с его отцом. Бепбе… До сих пор я не выношу этого имени! Не выношу, но помню. Я помню тебя в старой гимнастерке, которая вылиняла от солнца, пота и бесконечных стирок. И такие же галифе. Особенно тщательно ты занимался своим ремнем. Ремень был старый, дырочки на нем почернели, от них расползлись трещинки. Ты смазывал ремень маслом, и он из желтого стал коричневым.
Гимнастерка, перепоясанная этим ремнем, галифе, сапоги… Пожалуй, в другом наряде я тебя и не встречал. Так ты ходил на редкие в годы войны праздники, так заходил домой к людям, которым почтальон принес горе в конверте. Та же одежда была на тебе и в тот день, когда мы вдвоем отправились на бюро райкома за выговорами.
Я помню — на рассвете ты выходил из дома и отправлялся к женщинам своей бригады, чтобы вести их на работу. Твоя дорога вела мимо моего дома. А я во дворе или ломал дрова, или задавал корм коню, перед тем, как ехать по полям. Иногда ты задерживался, и мы разговаривали о делах, о жизни. Сколько самокруток мы выкурили за этими разговорами — разве сосчитаешь?
Хоть не рвались возле нас снаряды и не было надобности в затемнении, но и нам приходилось не легко. Правда?.. Нужно отдать тебе должное: в самые тяжелые, отчаянные дни я не замечал у тебя подавленности. Ты успел повидать войну и часто говорил: «А у нас, на фронте…» Почему-то война не ожесточила тебя. Ты терпеливо разговаривал с женщинами — они не всегда охотно шли на работу, за которую и получать потом почти ничего не приходилось. Ты выслушивал их жалобы и упреки и умел поставить на своем, не обидев их. А я, честно говоря, был вспыльчив, если не сразу выходило по-моему. Моя жесткая неуступчивость и твоя мягкая настойчивость не могли ужиться по соседству. Разве не так? Если бы не тот случай, произошло бы что-нибудь другое, но непременно бы произошло.
Мы сумели выделить продукты, чтобы в поле варить для колхозников горячий обед. Давали им немного печеного хлеба. Ох уж этот хлеб военных лет! Кто хоть раз отведал его, никогда не забудет его вкуса! А ту постную, без мяса и почти без масла кашу теперь не всякая собака станет есть. Но тогда, тогда люди были готовы взять за грудки каждого, кто попробует лишить их этого варева.
Мне говорили: «Давай, Аманша», а я говорил: «Давай, Бепбе». Я был вынужден ввести один жесткий или жестокий, как хочешь, так и называй, перман. Если человек до полудня не успел сжать четыре сотки пшеницы, нет ему обеда. Если он не прошел с кетменем шесть соток хлопчатника — пусть стоит рядом и смотрит, как едят другие. А не нравится — может отвернуться, я не возражаю…
Я знал, что такое не придется тебе по душе. Я ездил по полям. Председатель должен все видеть своими глазами. И как сеют хлопок и хлеб, и как выполняются его приказы. К полудню я приехал к тебе — ты досеивал пшеницу на самой кромке песков, в том месте, которое называется у нас «Двор Аллалы». Была, по-моему, середина июня, но жара стояла июльская, Ноздри раздражал запах солодки, налившейся соком. Трудно было дышать.
Почему же все-таки я часто вспоминаю те дни? Не проходило ведь недели, чтобы чей-то дом не посетило горе. В ушах звенело от женских причитаний по далекому покойнику, которого нельзя даже честь честью похоронить в земле отцов. Так почему же в моих воспоминаниях нет горечи? Может быть, потому, что я делал дело, давал хлеб и мясо, шерсть для варежек, хлопок, из которого не только ткут материю, но и делают порох.
Так надо было. Я даже думаю, что если бы все были такими — такими, как ты, Бепбе, то мы бы не выстояли в той войне… О твердости, о несгибаемости мы слушали передачи по единственному на весь колхоз репродуктору, что висел на столбе у конторы. Ты так понимал это, я — иначе, но башлыком, начальником, был я.
Изредка возвращались односельчане. Кто без руки, кто — с костылем. Мы засиживались возле правления, слушая бесконечные рассказы фронтовиков. Уже и луна всходила, а разговор все не мог иссякнуть. Ты — тоже фронтовик — был им ближе, чем я. Вы всегда находили общий язык. Твое слово было им дорого, как клочок газеты для самокрутки.
Расходясь по домам, мы на прощанье старались угадать, какой будет жизнь, когда мы одолеем врага. «Тот, кто переживет эту войну, — говорил я, — будет жить в раю». Ты, Бепбе, в ответ грустно вздыхал. «Не вздыхай, не молчи, скажи и ты что-нибудь», — настаивал я. Мне всегда хотелось заставить тебя согласиться со мной. А ты отвечал: «Аманша!.. Не слишком ли ты быстро хочешь загнать людей в рай?» И еще развивал свою мысль, — что будут трудности и после победы, что не сразу забудется горе, причиненное войной многим людям.
Я невольно ушел от того дня, о котором вспомнил. Нет, я к нему вернусь, потому что я был прав.
На «Двор Аллалы» я собирался приехать к обеду и приехал к обеду. Огонь под казаном прогорел, каша была готовая, все подходили с мисками в руках. Огульнур-эдже — да, ты не знаешь, в позапрошлом году она умерла, да будет светлым место, где она покоится, — Огульнур-эдже заварила мне чай и вопросительно посмотрела на тебя, своего бригадира.
Ты молчал, и она вынуждена была спросить:
— Бепбе-ага, не пора ли делить кашу?
Ты сумрачно ответил:
— Почему же не пора? Солнце поднялось к полдню. Дели…
Я не мог делать вида, что это меня не касается, Я спросил:
— Все ли твои люди выполнили сегодня норму?
Ты бросил окурок, который уже обжигал губы:
— А какая разница, башлык? Если они останутся голодными, то и до конца дня мало что сделают.
Огульнур-эдже продолжала стоять с черпаком в руке, не зная, что делать, а ты снова сказал ей:
— Ты разве не слышала? Дели.
— Постой, — сказал я поварихе и попросил у тебя табель на выполненную с утра работу.
Четыре женщины, которым обеда не полагалось, не постеснялись в открытую проклинать того, кто их обеда лишил. Ты это слышал, и я это слышал.
Начала Дурлигозель:
— Пусть!.. Пусть он и его толстуха Нурджемал подавятся нашей долей!
Подошла с дальнего участка еще одна, совсем молоденькая, узнала, что обеда ей не будет, — и заплакала. Дурлигозель, не сдержавшись, крикнула уже прямо мне:
— Пусть слезы этой молодой вдовы выжгут твои глаза… Хей, башлык, слышишь? Я тебе это говорю!
Ты — бригадир — не остановил эти оскорбления. А оскорбляли ведь не меня. Оскорбляли председательскую должность. Тем самым ты принял их сторону. Плевать мне было на две ложки каши! Ты этим черпаком замахивался на меня.
Я тихо спросил:
— Ты что, Бепбе? Хочешь занять мое место?
Что же я услышал в ответ?
— Эх, Аманша, Аманша…
И таким тоном, каким говорят о безнадежно больном.
3
Спустя несколько дней ко мне дома привязалась Нурджемал:
— Может быть, ты так высоко занесся, что людской говор до тебя не доносится! Но я-то слышу… Может быть, повторишь, что говорила эта сплетница Дурлигозель?
Я на это ответил, — раз она спрашивает, значит, и без меня ей все известно, и Нурджемал разошлась вовсю, долго поносила бездельников, которые привыкли подсматривать за чужой жизнью. «Жена башлыка не работает в колхозе, а мы с утра дотемна…» Неужели нельзя заткнуть им рты? Под конец она сказала:
— Ты приведи в чувство своего дружка, своего бригадира — этого ничтожного Бепбе! Ты слышишь, что я говорю?
Я слышал, но ответить мне было нечего. А жена не унималась — она говорила, такого опасного человека, который ищет дешевой популярности, нельзя было оставлять в ауле. Надо было, когда он вернулся с фронта, отправить его в пески, чабаном. Кто башлык в колхозе, говорила она. Аманша или Бепбе? Я попробовал остановить Нурджемал, сказал, что после того случая в бригаде Бепбе прислушивается к моим словам, не возражает на людях…
— Я хоть и сижу дома, — возразила она, — а знаю все гораздо лучше тебя. В этой бригаде у меня есть свой человек. Если ты занят и не успеваешь к ним к обеду, Бепбе при раздаче каши не делает разницы, кто выполнил норму, а кто — нет.
Я вспомнил старинное выражение, что головы двух баранов не уварятся в одном казане. Я не хотел, но пришлось, Бепбё, освободить тебя от бригадирства, Я думал, так лучше будет и для тебя, и для меня. Чабаном в дальние пески я все же тебя не отправил. Что сказали бы твои товарищи-фронтовики? Теперь жалею. Был бы ты далеко от глаз, может, и все бы обернулось по-иному.
Я поставил тебя поливальщиком. Хотел доказать, — твоя судьба в моей власти… Но ты, даже если и сожалел о такой перемене, вида не показывал. Ты по-прежнему, как с равным, здоровался со мной. Казалось, ты даже доволен был, что не надо препираться с женщинами, которые плохо выходят на работу, ты избавился от необходимости за полночь засиживаться в конторе, и ездить в район на бюро — больше не было твоей заботой. Ты оставался самим собой — и в бригадирах, и в поливальщиках… Я был бы последним трусом, если бы не признал твоего мужества.
Так продолжалось все лето, а потом я на некоторое время должен был поехать в Таджикистан в составе взаимопроверочной бригады. Когда вернулся — зашел в райком, рассказать о поездке. В конце разговора мы остались с первым секретарем вдвоем, и он спросил, почему я посчитал нужным освободить тебя от бригадирства. Я объяснил, ничего не утаивая, ничего не прибавляя.
— Ты не можешь с Бепбе поладить, — сказал секретарь, выслушав меня. — А от людей я не слыхал о нем ничего плохого.
— От каких людей?
— Ну, хотя бы от женщин его бригады…
«Еще бы», — подумал я, но больше ничего не сказал, и секретарь не стал дальше развивать эту тему. Я и раньше знал, — что мне могут сделать, если я снял одного бригадира и назначил другого? Первый спрос с башлыка, а с кого спрашивать, тому и надо давать свободу действий.
И все же после разговора с секретарем — можешь поверить, Бепбе, — на душе у меня было скверно. А если скверно на душе, у кого найти утешение? У Хакы, мясника с районного базара… Ты тоже знал его. В его доме, всегда открытом для близких уважаемых людей, можно было найти что пожелаешь. Водки пожелаешь — будет водка. Если настроен на ширап[21], появится ширап. Находилась и женщина, готовая подать тебе угощение.
Хакы с женой как раз затеяли плов. Хакы знал, что от водки у меня першит в горле, и подал коньяк. А коньяк — самое надежное средство, чтобы избавиться от забот хоть на время. Мы поели и выпили. Помню, жена Хакы всячески обхаживала меня, чтобы я дал ей несколько килограммов верблюжьей шерсти. А по-нашему, когда хозяин или хозяйка что-нибудь просят у гостя, то отказывать нельзя. Я пообещал ей все, что она просила.
…Ты, мой Бепбе, не таил свои мысли и открыто выражал недовольство председателем. Ты настраивал против меня вернувшихся с фронта. Ты не скрывал, что думаешь обо мне, и от женщин, работавших в бригаде. Надо отдать тебе должное — ты был не из тех, что в глаза угодливо улыбаются, а за спиной судачат. Ты и в лицо мне говорил: «Аманша! Не слишком ли ты перехватываешь?» И предупреждал: «Смотри, как бы потом не пожалел».
Твой сын Шихим учился в седьмом классе, а полдня работал в бригаде табельщиком. Он, понятно, был на твоей стороне. Однажды в областной газете, которая выходила на русском языке, появилась бойкая заметка о произволе председателя, об Аманше Аллаярове, нарушающем принципы колхозной демократии. Подпись под заметкой стояла Шихима, но слова в ней не были его словами.
Планы у меня в колхозе выполнялись, чрезвычайных недостатков не было, и, прочитав заметку, я сразу понял: она не из тех, по которым заслуженных людей снимают с работы. В райкоме мне указали, что отмеченные промахи надо исправить и больше не допускать, чаще созывать правление. И пусть моя жена вместе со всеми выходит в поле. Было предложение — поставить на вид, но ограничились предупреждением.
Бепбе! Твой топор на этот раз не задел меня. Но если бы он оставался в твоих руках, то ведь мог бы и сильно поранить. Потом случилось так, что по твоему недосмотру было затоплено поле с колосившейся пшеницей. Тебе вынесли строгий выговор по партийной линии.
На собрании кое-кто встал на твою защиту. Чтобы разрядить обстановку, я выступил и сказал: никто не собирается утверждать, что ты, Бепбе, нарочно затопил поле… Тут выдержка тебе изменила, ты вскочил и крикнул:
— Спасибо хоть за это! Спасибо, что веришь — я не нарочно! Но ведь кто-то сделал это именно нарочно! Я ведь знаю, как укрепляю запруду перед тем, как уйти на ночь. Вода не может ее прорвать. Чьи же руки ночью открыли воде дорогу на поле?!
Я спросил:
— Чьи же, ты думаешь? Кто, по-твоему, мог это сделать?
— Тебе виднее, Аманша, — ответил ты. — Правда, может случиться и так, что ты в самом деле ничего не знаешь. Но тогда — спроси у своей жены, у Нурджемал…
А это уже была клевета в военное время.
…В тех местах, где ты отбывал наказание, ты подал заявление и снова отправился на фронт. Можешь мне поверить, я не знал, чьими руками была разрушена плотина. Узнал позднее, в минуту одной из семейных ссор, когда Нурджемал упрекала меня в нерешительности, недостойной мужчины.
После войны не надо было тебе возвращаться, но ты вернулся — и даже с одной звездочкой на погонах. Уже немолодой младший лейтенант. Ордена, медали. Но орден был и у меня, и чин постарше. Ты вернулся офицером — значит, искупил свою вину. Но ведь и моя слава не стояла на месте!
Был той в честь возвратившихся. Мы сидели рядом. Ты посмотрел на лацкан моего пиджака и покачал головой. Нет, ты ничего не сказал, просто прикусил губу. Я спросил, какое ты слово сейчас проглотил — я не любил и не люблю всяких недосказанностей. Не любил их и ты.
— Эх, не на ту грудь попал орден… — услышал я в ответ.
Такие слова нельзя считать случайной оговоркой. Это было оскорбление и для тех, кто вручал мне награду. Это было преступление… И ты опять ушел и больше не вернулся. Прости, брат… У каждого человека — своя дорога, и никто другой не может за него пройти эту дорогу от начала и до конца.
4
Аманша сел на ковре, согнул вдвое бархатную подушку, пристроил — вроде подлокотника. В открытую дверь ему была видна Гульсун, сидевшая за столом. Перед ней лежала открытая книга, и Гульсун казалась спокойной — такой спокойной, словно бы ничего и не случилось.
Ее безразличие не понравилось отцу, и он окликнул:
— В этом доме что — уже нет людей?
Она ответила:
— Если не считать тебя и меня. Мама еще не вернулась.
— Она не сказала, когда придет?
— Нет, не сказала.
Все его бросили, даже Нурджемал!.. С чувством горькой обиды Аманша ушел в дальнюю комнату и прикрыл за собой дверь.
До Гульсун донесся протяжный скрип кровати — отец улегся. Она вышла на веранду и устроилась на широкой лежанке.
Весна в этом году где-то по дороге задержалась, и на яблоне — рядом с верандой — только-только лопнули почки. Возле лампы, горевшей над дверью, роились бабочки. Должно быть, они так же роятся и возле фонаря, что горит над воротами.
Гульсун прислушалась к тишине. Она представила отца — как он лежит на кровати, наедине со своими черными мыслями. Сердце у нее сжалось. Отец… Но разве жизнь кончается от того, что он больше не будет хозяином входить в председательский кабинет? Или он думал, что этот пост — навечно?
Это ей, Гульсун, когда она была маленькой, простительно было думать, что учитель — всю жизнь проводит в классе у доски; врач — никогда не снимает белого халата; а кладовщик — никогда не расстанется с ключами от склада. Так же тогда считал и Шихим.
Шихим был всегда, сколько она себя помнила. Именно потому, что многое их связывает с самого детства, им с Шихимом так хорошо вместе. А тут приезжаешь домой и от родного отца слышишь: «Мне давно надо было выставить таких склочников…»
Вот так, сказала себе Гульсун. При всей нашей любви и полном доверии друг к другу, есть у нас некоторые запретные для разговора темы. Мой отец — одна из этих тем. А что бы сказал Шихим, если бы услышал сегодняшние слова отца?
Но он не слышал. По времени он сейчас — в редакции, подписывает последнюю полосу газеты, которая должна выйти завтра, в воскресенье. Впрочем, уже подписал, должно быть, и теперь дома. В холодильнике для него оставлены пельмени. Есть и бутылка водки. Я же очень хитрая, я все предусмотрела так, чтобы ему не захотелось уйти куда-нибудь вечером. Я потому и ребят оставила на него, хоть они и просились со мной. Сегодня — суббота, и потому телевизор им разрешено смотреть после десяти. Значит, Шихиму придется накормить их и укладывать спать.
Кажется, зря я не послушалась Шихима. Он ведь говорил: «Чего ты поедешь?» Может быть, Шихим знал, но не сказал мне. Если бы я могла хоть приободрить отца. Но тут наоборот, каждое мое слово раздражает его. А мама куда-то ушла. Мама не может тихо и молчаливо смириться с бедой. Она должна действовать… А пока она действует, я торчу на веранде одна. Честно говоря, я могла бы и поесть. Ведь ели мы в полдень.
Да, в полдень все было иначе. И отец, и мама — это совершенно другие были люди. Мама источала улыбки товарищу Силапову. Отец, самодовольно щурясь, открыл бутылку дорогого коньяка и поднял тост за процветание нашего района.
Я давно не видала отца в таком отличном настроении. Неужели он ничего не предвидел? В присутствии Силапова отец даже несколько раз обращался ко мне по имени. А ведь он и смотреть не хотел в мою сторону, хоть и столько лет прошло, и мы с Шихимом подарили ему внучку и внука. Я была приятно удивлена и подумывала, как бы устроить так, чтобы примирить их. Все же это не просто — постоянно чувствовать разлад между домом, в котором я родилась и выросла, и моим Шихимом. Думаю, если бы собрание кончилось, как всегда, я бы уломала отца. С помощью мамы, конечно. Если бы мы с мамой действовали заодно, — куда бы он девался?
Ведь было уже… Мы учились тогда в десятом классе, и отец однажды предупредил:
— Если я хоть раз увижу тебя с этим Шихимом, как стоите вы вдвоем на улице, я тебе перережу горло своими руками!
Я сделала вид, что очень напугалась. Но на следующий вечер привела Шихима не куда-нибудь, а к этой веранде. И привела в то как раз время, когда отец должен был вернуться. Ну, я не ошиблась, когда думала, что Шихим — мужественный парень… Он, правда, побледнел, но остался стоять на месте и смотрел в лицо моему отцу. Отец вошел в ворота, увидел нас и хлестнул камчой по голенищу сапога. Я уже жалела, что затеяла все это представление. Дочери все же бывает не по себе, если отец застает ее с парнем, которого почему-то ненавидит.
Я проводила Шихима до калитки и вернулась в дом, подошла к плите — мама у плиты готовила ужин. Я начала всхлипывать, закрыв лицо руками. Сперва — притворно, а потом расплакалась по-настоящему. Мне было очень жаль себя.
Мама следила за тем, чтобы у нее не выкипело молоко, и одновременно гладила меня по голове, целовала… А отец был такой свирепый в эту минуту, что сам пришел на кухню.
— Я что вчера говорил тебе?
Я сквозь слезы ему ответила:
— Ты сказал: если увижу тебя на улице с этим парнем, перережу горло своими руками. И я разговаривала с ним у нас во дворе, чтобы никто из посторонних не видел.
Мама покашляла. Покашливание всегда служило моему отцу предупреждением, что она не одобряет его действий или слов. Но на этот раз он был слишком зол.
Он закричал:
— Значит, в следующий раз ты позовешь его в мой дом?.. Да? Отвечай! В мой дом позовешь?
Теперь уже разозлилась мама. Должно быть, от того, что сигналы о сдержанности на него не подействовали. Теперь она закричала во весь голос:
— Успокой дьявола, сидящего в тебе! С чего это ты кинулся на бедную девочку, которая вся-то — с кулачок? Ты что — успел забыть свою молодость? Так я тебе напомню! Ты кем был?.. Молчишь… Ты нашим чабаном был, а я была дочерью почтенного человека. Ты мне что пел тогда? Земля и вода отныне принадлежат всем, бедняки стали равноправными людьми. Значит, и любовь стала свободной. Кто кого полюбит, ты говорил, могут жениться. Выходит, для тебя одни порядки, а для твоей дочери — другие? Или у тебя куча детей, и если одна плачет, ты можешь любоваться, как смеются другие?
Бывали у нас дома стычки между отцом и матерью. Но обычно он, не дослушав и половины того, что она хотела сказать, затыкал уши и убегал в другую комнату, хорошо, комнат было много. Однако на этот раз он все дослушал и строго сказал:
— А раз дочь единственная, тем более ты не должна потакать ей во всем, ты лучше как мать направь ее на путь истинный.
Но маму не так просто было переговорить.
— «Путь истинный, путь истинный», — передразнила она отца. — С чего ты взял, что твоя дочь идет кривой дорогой? Если бы я в те времена вышла не за тебя, а за сына горбатого Батмана — за Гочав-хана, то какой бы дорогой я пошла, по-твоему?
Отец насупился.
— Нашла о чем вспоминать! Если бы ты вышла за сына классового врага, это была бы самая кривая дорога из всех кривых дорог, какие только есть на свете! А кто и что скажет мне в райкоме, если я не считаю этого парня достойным моей дочери?
— Счастье твоей дочери — не забота райкома, — сразу нашлась мама, что ему возразить. — Ты любишь говорить: «Он ответит за то, что сказал». Так вот, если ты будешь противиться счастью Гульсун и мешать ей — ты, ты ответишь мне!
Отец не ожидал такого отпора и постарался отступить:
— О чем говорить с женщиной? В этом доме мне дадут поесть? Дадут чаю? Или я должен ходить голодным, как нищий оборванец?!
Больше разговора про то, что он своими руками перережет мне горло, не было.
5
Если у счастья, как у горы, есть вершина, значит, я была на вершине. Я понимала, что отец не откажется от своих намерений разлучить нас. Он готов был отправить меня на учебу в Ашхабад, хоть в Москву, лишь бы мы с Шихимом не могли встречаться. Но… Характером я, наверно, в маму, да и в него. Потому-то я и стала твоей женой, мой дорогой Шихим!
Это, понятно, вызвало долгий разлад с отцом. И впоследствии, став старше, я думала, что за человек — Аманша Аллаяров. Жизнь его не баловала. Батраком он и в самом деле был, а не только по анкете. А когда начались колхозы, он ревностно принялся строить в ауле новую жизнь. Кому же и было стать председателем, если не ему. Поначалу отцу было легко с народом, народу — легко с ним. Но постепенно…
В тяжелые годы войны, о которых я знаю только понаслышке, наши женщины с кетменями не расставались. А говорили: «Аманша Аллаяров выполнил план». На совещаниях ему приходилось слышать: «Твой колхоз, Аманша-ага», «В твоем ауле, Аманша-ага». Потом он и сам стал все чаще употреблять: мой колхоз… мой аул… И даже: школа моего аула!
А сегодня отец ведет себя так, будто вся жизнь остановится, раз нет у него больше ключа от сейфа, где хранится колхозная печать. Он скрипит зубами и не стесняется при мне сказать: «Надо было давно прогнать таких склочников, как Шихим». Что же, Шихим должен быть благодарен ему за историю с его отцом? Подробностей никто не знает, но ведь отец был председателем, когда Бепбе-ага вернулся с войны и с ним случилась беда.
Не любил отца — не любит и сына. Он не принял его на должность агронома, когда Шихим вернулся после сельхозтехникума. Он пошел против Шихима, когда тот собрался вступить в партию.
Не надо было отцу выступать, что Шихим — еще молодой, зеленый, несознательный. Молодой!.. А что — в партию надо вступать, когда станешь дряхлым стариком? Все же на этот раз не посчитались с самим товарищем Аллаяровым — приняли Шихима.
В родном ауле места ему не нашлось, хоть и не так уж много у нас дипломированных специалистов. Они плохо уживаются с отцом. Он говорит — много о себе понимают. Шихим устроился в райком комсомола, и отец по-прежнему не считал его за человека. Вообще в районе он признавал только двух, ну — трех людей. Только эти трое встречали в колхозе почетный прием. Да и не людям он оказывал почет, а должностям. Помню, один секретарь райкома, переставший быть секретарем, больше никогда не появлялся у нас в доме, хоть приезжал в аул как работник райфо. Но для троих — был обед, коньяк, чай, они спали у нас в доме на мягких матрасах из верблюжки. Отец не любил, чтобы у него в колхозе обращали внимание на «второстепенных» районных работников. Он говорил — районщики начнут воображать, что он их боится и заискивает перед ними.
Да-а… За то, что я с Шихимом, я должна быть благодарна маме. Но если бы и мама была против, я бы все равно связала свою судьбу с его судьбой.
Мама рассказывала, какими были наши туркменские баи, у которых отец успел побывать в батраках. Для них баран был куда дороже чабана! Значит, отец должен был бы ненавидеть бесчеловечность. Почему же — по своей пренебрежительности к людям, нетерпимости к чужому мнению, заносчивости — он и сам, прости, господи, стал походить на них?
Шихима за хорошую работу в райкоме комсомола послали в Ашхабад — в партийную школу. Я к тому Бремени уже была его женой. И я была беременна. Отец по крайней мере два раза в неделю приезжал в район. Я от него ничего не ждала. Но где было у него сердце или что там у него вместо сердца? Он ни разу — ни разу! — не навестил меня. Конечно, я не нуждалась… Была ведь мама. Но ему разве не хотелось просто повидать меня? А вдруг я умру от первых родов?
Сколько раз соседки — кто злорадно, кто участливо — мне говорили: «Сейчас встретила твоего отца, он направлялся к дому мясника Хакы». Или: «Твой отец только что остановил машину у райкома».
Из Ашхабада как-то принесли телеграмму: Шихим в больнице, ему срочно сделали операцию аппендицита. Я вынуждена была вызвать маму, чтобы на нее оставить маленькую Майсу. Через две недели я вернулась и случайно встретила отца в районном универмаге. Я сказала:
— Здравствуй, папа…
Что же он ответил дочери, которую давно не видел?..
— Тебе уже мало, что ты мать превратила в няньку?.. Хочешь, чтобы и я качал люльку твоего ребенка, бросив все дела?
Вот этому — наотмашь ранить людей — он научился отлично!
…Эх, папа… Я понимаю… Сейчас я должна пойти… присесть рядом. «Чай будешь, папа? Давай я покормлю тебя, папа». Я должна прижаться — как в детстве — к твоему плечу. Утешать, как, конечно же, надо утешать человека, которого несколько часов назад сняли с работы.
Но я — я вспоминаю… И не могу пойти.
Вот появится мама, она пусть и утешает отца, пусть находит общий с ним язык. Она пусть его и кормит. А кстати — и меня, потому, что с полудня я успела основательно проголодаться. Ведь уже… Бай-бов! Одиннадцатый час.
6
Аманша Аллаяров, уйдя в дальнюю комнату, плотно притворил за собой дверь. Большое окно, выходящее в сад, тоже было закрыто, от ночной сырости. Устроившись сперва на кровати, Аманша перелег на ковер, поближе к гладкой черной печке, которую Нурджемал успела истопить, очевидно, пока шло собрание…
На этом собрании сидел Силапов! Что же он пустил дело на самотек, по принципу «будь что будет»? Был бы он руководителем, не повторяющим дважды сказанного, кто осмелился бы поднять руку против многолетнего председателя? А Силапов сидел и слушал, вместо того чтобы решительно одернуть крикунов, напомнить им, если они посмели забыть, — кто такой Аманша Аллаяров. Да, мир меняется на глазах. Но к лучшему ли он меняется? Как поворачивался язык у говоривших: «Аманша-ага сегодня уже не может возглавлять колхоз. Мы не зачеркиваем того, что он сделал… И все же — он человек вчерашнего дня. Его надо переизбрать». Бездельник, разбивший кувшин, еще и кидает грязью в того, кто носит воду!
Бывали ведь и раньше собрания. Трем или четырем активистам указывалось: «Выступишь и скажешь то-то и то-то». Потом представитель из района: «Есть мнение, товарищи, рекомендовать у вас председателем…» А сейчас… Я не верил своим ушам, когда выступал Дурдымурад! Этот щенок, которого я назначил завфермой, согласен, видите ли, с теми, кто говорит обо мне как о вчерашнем человеке. А давно ли: «Аманша-ага… Аманша-ага, я оправдаю ваше доверие, ферма станет первой в районе». О, если бы я мог хоть месяц еще распоряжаться колхозной печатью, я бы показал, кто отстал от жизни! Будь ты академиком, Дурдымурад, а я бы тебя поймал, как ловят казахи норовистых лошадей! Скрутил бы, как покойный мясник Хакы скручивал теленка, перед тем как пустить его под нож.
Они воображают, что свалили меня, и теперь каждый прохожий сможет переступать через сбитого с ног. Они воображают, что я начну метаться без толку, словно что-то потерял. Нет, я не оправдаю их надежд. Мы еще посмотрим. Придется на время сменить львиные повадки на лисьи. Поступать так приходится не мне одному. Есть у самого Махтумкули слова: «Там, где уместно, и хитрость — смелость, и нужен муж, способный на нее». Аманша Аллаяров не какая-нибудь машина, которую можно списать по акту, как вышедшую из строя. Обо мне же сказал когда-то секретарь обкома Хезретов: он, Аманша, — один из тех, кто закладывал фундамент колхозного строительства! Потом Хезретов уехал в Ашхабад на большую работу. Кажется, позже у него были какие-то неприятности. Но — вода течет и течет, а камень остается лежать.
Надо только держать себя в руках. Горячность — не достоинство мое, а недостаток. Сколько раз Нурджемал говорила про это. Когда собрание повернулось столь неожиданно, разве можно было уходить? Надо было сменить, хоть и противно, парадную одежду на одежду смирения и ждать, как повернутся события. А я ведь даже не знаю, кого они там собрались посадить на мое место. Ну, Силапов вернется в райком и должен будет рассказать, как у нас все это происходило. В райкоме есть люди, которые примут мою сторону. Эх, если бы проводить собрание приехал не Силапов, а сам Баллыев! Тогда ничего похожего не произошло бы. И все равно — впадать в уныние преждевременно.
Где же Нурджемал? На веранде — шаги Гульсун. Вот, родная дочь, родная кровь, а ведет себя… «Папа, ты думаешь, председательское место — навечно?»
На всякий случай надо подготовиться к большому разговору. А большого разговора не бывает без призвания своих недостатков. Надо точно определить, что мне признавать. А то бросишь на самого себя черную тень, еще чернее, чем та, что бросили сегодня Дурдымурад и его дружки.
Но есть и такое, в чем я не признаюсь, даже если бы меня стали резать ножом.
Гынна… Сегодня она уважаемая женщина, жена своего мужа. Что ни говори, Ахмет — порядочный человек. Он пришел из армии позднее других, в самом конце сороковых годов, и он, конечно, слышал про Гынну и про меня. Но женился на ней. И не втихомолку, а затеял свадьбу на весь аул. Казалось бы, он должен краснеть, что берет в жены чужую женщину. А краснел я. Мне было стыдно. Наверное, от стыда я совершил еще одну ошибку. После свадебного то я он пришел ко мне.
— Какую работу ты мне дашь, председатель?
Надо бы сделать его бригадиром или завфермой, для этих должностей он подходил. А я сказал:
— Коровий пастух — это тебя устроит?
Чем-то Ахмет напоминал мне Бепбе. Такой же прямой, с чувством собственного достоинства. Я ждал — он начнет про свою ногу, про то, что хромому трудно со стадом.
А он кивнул и согласился:
— Ладно. Постараюсь оправдать…
При желании в его словах можно было уловить насмешку, но он говорил без улыбки, очень рассудительно — придраться было не к чему.
Что же мне делать?.. Ай, зачем сто раз передумывать то, что уже решил. Я стану выглядеть как заслуженный человек на покое. А для начала поеду в район — заручиться поддержкой Баллыева. Из района — в Ашхабад, к товарищу Хезретову. Ведь я фундамент — по его же словам. А если тронуть фундамент, весь колхоз может обрушиться. Так… Всю главную работу я возьму на себя. Здесь — справится Нурджемал. Не в первый раз. Придется только не одну, а несколько запруд разгородить незаметно. В конце концов я своего добьюсь, меня еще попросят вернуться! Тогда уж я поломаюсь… Я отвечу их же словами: «Нет, нет! Я постарел совсем, отстал от жизни».
Где же все-таки Нурджемал?
Что-то голова разболелась… Выйти? Подышать свежим воздухом?.
7
Время было позднее. На улице — ни людских шагов, ни говора. В лицо ему дул сырой ветер, а под ногами, подобно злому шепоту за спиной, шуршал гравий. Пока Аманша сидел дома, небо успело покрыться тучами, и за тучами не было видно звезд, ни одна не просвечивала сквозь плотную завесу. Аманша подумал: завтра, наверное, нельзя будет пускать машины на поля, и еще подумал, что теперь это не его забота.
Он дошел до моста через Ших-арык на краю аула. Постоял здесь. Вода почти достигала настила, но в темноте потока не было видно, и можно было лишь представить его — мутный, коричневого цвета, вскипающий белыми шапками пены.
Вдоль противоположного берега кто-то шел, приближаясь к мосту. Аманша откашлялся. И тот, кто шел, тоже откашлялся. Аманша включил карманный китайский фонарик.
— А-а… Башлык, — раздался женский голос. — А я думаю — кто это на мосту в такое позднее время? Не старое ли ты вспомнил? Не меня ли караулишь?
— Ты, Гынна? Какое там — караулю…
— А помнишь ночи, когда караулил?
Аманша недовольно засопел. Кто его знает, не окажется ли поблизости какой-нибудь случайный ночной прохожий?
— Сопи не сопи, а того, что было, не вернешь и не переделаешь, — продолжала женщина. — Сколько тогда ходило сплетен про меня и про тебя. Ну, тебя-то они миновали, вот как эта вода под мостом. А мне досталось. Не знаю, что и было бы со мной, не окажись на земле добрых, умеющих прощать людей.
— Ради самого аллаха, говори ты потише, Гынна, — взмолился Аманша, хоть и не в его привычках было кого-то о чем-то просить. — Лучше скажи, откуда идешь?
— Как будто не знаешь, откуда! Со скотного двора иду, где мой муж по твоей милости ходит за коровами, как будто он не способен ни на что лучшее!
— Перестань кричать. Я же не глухой старик Полат…
Гынна вроде бы успокоилась, но хриплый ее голос продолжал звучать укором.
— Шума боишься? Еще бы! Тогда я тоже хотела закричать… Не помнишь? А ты схватил меня, как курицу, за горло, чтобы никто ничего не услышал. Чего же теперь не хватаешь?
— Да ладно тебе, — примирительно сказал он. — Твоя беда, а моя вина. Только не кричи.
Женщина молча обошла его на мосту и, не сказав больше ни слова, направилась по дороге к аулу.
— Все у тебя, Аманша, сегодня получается наоборот, — тихо сказал он самому себе.
Какой шайтан надоумил меня таскаться ночью по аулу? Будто в саду возле дома не хватает свежего воздуха! И стоило выйти — посмотри, кого встретил. Значит, правильно говорится: «Про волка скажешь — волк придет». Опять шаги с той стороны?.. Ай, нет, показалось. Я теперь дуновения ветра готов испугаться. А вдруг придет хромой Ахмет и схватит меня за ворот, подумает — я опять гоняюсь за Гынной. Пе-хей!.. Да хоть бы убил он меня, разве я в силах снова сделать ее девушкой?
Но хромому лучше не попадаться, если он в гневе. Как тогда он влепил кладовщику костылем? Меня, правда, Ахмет стесняется. Старается не смотреть в глаза, если нам случается о чем-нибудь разговаривать. Но, кажется, я неправильно сказал: не стесняется, а — стеснялся. И что будет впредь, даже всеведущему аллаху неизвестно. А Гынна, конечно, о собрании знает! Иначе разве посмела бы заводить унизительный для меня разговор? Однажды — давно — у нее вырвалось: «Разбил ты мое счастье». Но тогда это звучало упреком, а не обвинением, как сегодня.
А ведь у меня и мысли такой не было. Разбивать ее счастье — зачем? Я взял Гынну помощницей счетовода, потому что было указание: девушек и женщин вовлекать в конторскую работу… И куда приятнее — видеть у своего кабинета хорошенькое личико, а не кривую морду какого-нибудь ублюдка. А Гынна в те годы, если одеть ее по-городскому, могла бы послужить украшением для обкомовской приемной!
Я называл ее «кейигим»[22], и сам удивлялся, что способен говорить такие нежные слова и испытывать радость от них.
Существует ли на свете тайна, которая в ауле не перестала бы быть тайной через день или два? По-моему, нет. Узнала, конечно, и моя Нурджемал. Узнала — и ничего мне не сказала. Когда надо, она бывает удивительно выдержанной и тактичной.
Потом мне стало все равно, по какой тропинке ходит домой Гынна. Вернулся Ахмет. Он обратил внимание на красивую девушку, которую почему-то никто не брал в жены. Нашлись добрые люди — рассказали… Он постучал костылем, пообещал обломать ноги всем сплетникам на свете, и больше ему не решались намекать на прошлое женщины, которая стала его женой — женой коровьего пастуха.
В ауле сейчас, наверное, не спят. Многие радуются — Аманша-башлык стал просто Аманша. Сегодня они забыли все хорошее, что я для них сделал, и помнят только плохое. А это так же несправедливо, как забыть все плохое и помнить только хорошее. Но бог с ними! По совести, я чувствую свою вину лишь перед двумя из всех. Перед Гынной и ее мужем Ахметом. Но, может быть, я сумею помочь им, когда вернусь.
8
Маленький домик стоял по соседству со скотным двором. Ахмет, вышедший на поздний стук, не мог скрыть своего удивления. И Аманша теперь сам не понимал, чего это его понесло в дом, где он никогда раньше не бывал. Ахмету ведь приятно — увидеть председателя в день его поражения.
Комната ничем не напоминала жилище пастуха, прозябающего на отшибе, вдали от дома. Это могла быть и комната продавца-холостяка по соседству с магазином. И комната одинокого учителя. Чисто… Кровать в углу застелена одеялом. На столе у маленького окна — книги. Играющий транзистор, который остался невыключенным, когда хозяин пошел отворить.
Аманша сказал, вежливо улыбаясь:
— Ахмет! Ты никогда не звал меня в гости, а сам я тоже не приходил к тебе. Пусть не окажется мой глаз дурным, но ты живешь здесь, как хан!
Ахмет подал ему стул и тоже улыбнулся — как и гость, не от души, а так, для приличия. Засовывая в печурку несколько палок саксаула, он ответил:
— А почему бы не жить, как хан, если хочется? Тут мое поместье, и я могу не хуже других принять гостя. Пока чайник закипит, ты, башлык-ага, не погреешься чем-нибудь другим?.. Ночь сырая, а путь от аула до скотного двора — не близкий.
Это можно было понять и как намек, что долгие понадобились башлыку годы, чтобы преодолеть этот путь. Но Аманша предпочел увидеть в этих словах только то, что было сказано.
— Можно и погреться. Ночь действительно сырая. Не знаю, — смогут ли завтра трактора выйти в поле.
Из тумбочки, которую он, вероятно, смастерил сам, Ахмет достал бутылку коньяка, две зеленоватые стопки, вдетые одна в другую, и поставил все это на стол. Даже лимон у него нашелся, и он нарезал его остро отточенным ножом. Коньяк… Лимон… Аманша привык, что если рядовой колхозник захочет чего покрепче, то пьет водку.
— Ты… ты знал, что я приду к тебе сегодня? — спросил он.
— Откуда мне было знать?
Аманша подумал: конечно, — откуда… Какой-нибудь час назад он и сам не подозревал, что завернет сюда.
— За твое здоровье, Аманша-ага…
— За твое благополучие, Ахмет.
Они выпили, закусили лимоном, и Ахмет снова наполнил стопки — до краев, как и в первый раз.
— Я чувствую, что ты уважаешь башлыка, — сказал растроганный Аманша. — Спасибо тебе…
— Я гостя уважаю, — ответил Ахмет, поднимаясь, чтобы снять эмалированный чайник, у которого начала подпрыгивать крышка.
Он заварил фарфоровый чайник для башлыка, чайник для себя, достал пиалы, сахар.
Теперь он мог спросить:
— Аманша-ага… Я не думаю, чтобы ты просто так пришел ко мне среди ночи. Какое дело привело тебя?
— Правду сказать — не знаю, Ахмет. Я не подумал, что ночь, что ты должен спать. Пастух ведь поднимается рано. Зашел… Ну, спросить о здоровье, поинтересоваться, как дела…
— Не верю, башлык, — сказал Ахмет, глядя ему прямо в лицо. — Не хочешь сказать? Лучше молчи, но не говори мне неправды.
— Ну, тогда поверь, что сегодня было собрание. После этого собрания ты напрасно зовешь меня — башлык. Я Аманша, Аманша Аллаяров. Этому ты поверишь?
— Да. Я слышал об этом.
— Слух был верный.
— Если так, желаю тебе сил и здоровья. Но поверь и ты мне — жизнь идет и за стенами председательского кабинета.
— Я знаю. Ахмет, если я причинил тебе когда-нибудь неприятности, прости мою вину.
— Это напрасно, башлык… Уже поздно… Я в самом деле должен ложиться спать.
Он проводил своего странного гостя до ворот и еще постоял в темноте, прислушиваясь к удаляющимся шагам.
Аманша направлялся к мосту через Ших-арык и думал: ну и Ахмет! Он-то считал пастуха приниженным, уставшим от жизненных невзгод… Может быть, он даже хотел утешить Ахмета, что не одному ему плохо. Что ж, Ахмет сказал правду: он уважал не башлыка, а гостя. Он не был похож на человека, который для своей выгоды станет лицемерить, угодничать. Нет, может, и в самом деле пора на покой? Трудно же работать, если люди перестают тебя побаиваться.
Раньше… Стоило зайти в магазин, и парни делали вид, что покупают конфеты, а взять при нем бутылку вина — боялись. Молодые женщины, которым надо было что-нибудь по хозяйству от председателя, не решались обратиться к нему, а принимались обхаживать Нурджемал. Бедная Нурджемал, она ведь тоже привыкла к своему положению…
И все-таки — хорошо или плохо, что он побывал среди ночи у хромого Ахмета? Не принизил ли он этим своего достоинства? Нет, пожалуй, хорошо! Никто не посмеет сказать, что он — Аманша — боится посмотреть в глаза Ахмету!
9
Дома горел свет — и на веранде, и на кухне.
Аманша удивился, что они еще не улеглись. А времени — два часа. И ночь уже не ночь, и утро еще не наступило.
На веранде прохаживалась Гульсун. Что же она — так и не присела с того времени, как Аманша ушел?
— Папа! Куда ты пропал так надолго?.. Мы начали беспокоиться, где ты…
— Мать пришла наконец? — спросил он, не отвечая на вопрос.
— Да, вскоре после того, как ушел ты. Оказывается, она успела съездить в район и вернулась.
Как он сразу не догадался! Это было в характере его жены. Пока он сам предавался размышлениям и строил планы, как ему поступить и к кому обратиться за поддержкой, Нурджемал предпочла действовать.
Она вышла из кухни ему навстречу.
— Пойдем в комнату, — взяла она его за руку.
Он устало опустился на ковер.
— Ну…
Нурджемал вздохнула.
— Дело, оказывается, сложнее, чем мы думали.
Завтра пленум. Говорят, Баллыев уходит на пенсию.
Интересно, что Нурджемал, не сговариваясь с ним, делала то же, что собирался делать он сам.
— Ну…
— Силапов переходит на его место. А на место Силапова… на место Силапова — Шихим.
— Шихим?
— Да, он.
Аманша разгладил отсыревшие усы и зачем-то посмотрел на часы, висевшие над дверью.
— Завтра, говоришь? — переспросил он. — Это уже не завтра, это уже сегодня.
— А наше собрание не кончилось. Выборы отложили. Говорят, председателем будет Дурдымурад.
— Этот щенок? Которого я за уши вытащил из навоза и назначил завфермой?
— Да, он. А на его место — Ахмет, пастух.
Нурджемал ушла на кухню разогреть ужин. В окно Аманша видел Гульсун, облокотившуюся на перила. К ней тянулась яблоневая ветка. «Старею, — подумал он, но тут же поправился: — Кажется, начинаю стареть».
Перевод с туркменского А. Белянинова
Григол Чиковани Радость одной ночи
— Я же сказала тебе, не смей приходить, Мурза!
— Сколько ночей провел я в мыслях о тебе, Таси!
— Что ты, Мурза!
— Сколько ночей провел я без сна под этим навесом, ожидая тебя, Таси!
— Не говори мне этого, Мурза!
— Я стоял здесь и слушал твое дыхание, Таси.
— Зачем ты делал это, Мурза?
— Из любви к тебе, Таси.
— А если проснется отец, что я стану делать, Мурза?
— Прикрой дверь, Таси.
— Тише, у отца слух, как у зайца, Мурза!
— Осторожно прикрой, Таси!
— Все же, что привело тебя сюда в эту полночь, Мурза?
— С той минуты, как я увидел тебя, нет для меня ни ночи, ни дня, Таси.
— С каких пор это длится, Мурза?
— Целый век, Таси.
— Куда же ты смотрел до сих пор, Мурза?
— Я и сам не знаю, Таси.
— Мурза!
— Прикрой дверь, чтобы не скрипнула, Таси.;
— Не бойся, Мурза.
— Таси!
— Все-таки ты не должен был приходить в полночь, Мурза.
— Ведь и ты вскормлена материнской грудью, Таси!
— Ну и что, Мурза?
— И я вскормлен материнской грудью, Таси.
— Ну и что же, Мурза?
— Я тоже человек, Таси.
— Ну и что же, Мурза?
— Пожалей меня, Таси.
— Я жалею, Мурза.
— Станем вот сюда, у плетня, Таси.
— Нет, пойдем под платан, Мурза.
— Хорошо, пойдем под платан, Таси.
— Не смей трогать меня рукой, Мурза!
— Почему, Таси?
— Так… Что же все-таки привело тебя в эту полночь ко Мне, Мурза?
— Я целый год ждал этой ночи, Таси.
— А что же удерживало тебя столько времени, Мурза?
— Любовь к тебе, Таси.
— Тише, как бы отец не услышал… Что же теперь побудило тебя, Мурза?
— Любовь к тебе, Таси.
— Мурза!
— Сегодня, когда ты посмотрела на меня на празднике мариамоба[23], ты разом сняла с меня оковы, Таси.
— А не обманули тебя глаза, Мурза?
— Сердце меня не обмануло бы, Таси.
— А не обмануло ли тебя сердце, Мурза?
— Почему, Таси?
— Может, я тебя не люблю, Мурза!
— Тогда полюби меня, Таси.
— А что достойно в тебе любви, Мурза?
— Сердце, Таси.
— А еще, Мурза?
— Душа, Таси.
— Сердце и душа есть у всех парней, Мурза!
— Что делать, больше у меня нет ничего на земле, Таси.
— Мурза!
— А у тебя что есть, достойное любви, Таси?
— Сердце, Мурза.
— А еще, Таси?
— Душа, Мурза.
— А еще, Таси?
— Больше и у меня нет ничего на земле, Мурза.
— Что ты говоришь, Таси! Одни твои глаза дороже всех женщин.
— Неправда, не говори так, Мурза.
— Улыбка твоя стоит всех дадиановских владений, Таси.
— Не говори мне этого, Мурза.
— Твой стан, Таси, стоит всей земли.
— Молчи, не надо так говорить, Мурза.
— Твои щеки…
— Ты сводишь меня с ума, Мурза!
— Твой стан гибкий, как плеть, Таси…
— Какой сладкоречивый язык у тебя, Мурза!
— Твои уши и шея…
— Хватит, Мурза, я совсем потеряю разум!
— Ты — моя жизнь, Таси.
— Почему ты до сих пор не говорил мне этого, Мурза?
— Ты — икона моя, Таси.
— Почему ты до сих пор не говорил мне этого, Мурза?
— Смотри, моросит, не простудилась бы ты в одной рубашке, Таси…
— Да разве могу я простудиться с тобой, Мурза!
— Ты моя радость, Таси.
— О, не трогай меня, Мурза!
— Почему, Таси?
— Я боюсь, Мурза.
— Боишься любви, Таси?
— Боюсь любви, Мурза.
— Ты моя радость, Таси.
— А если ты обманешь меня, Мурза?
— Любовь не умеет обманывать, Таси.
— Что за медовый язык у тебя, Мурза!
— Любовь никогда не обманывает, Таси.
— Правда, Мурза?
— Любовь не умеет обманывать, Таси.
— А где же ты был до сих пор, Мурза?
— Таси…
— Не касайся меня рукой, Мурза!
— Почему, Таси?
— Не знаю, Мурза…
— Не убивай меня, Таси!
— Что ты, бог с тобою, Мурза!
— Может быть, тебя любит сын Ивы?
— Что ты, нет, Мурза.
— Может быть, тебя любит сын Пепу, Таси?
— Что ты, нет, Мурза.
— Может быть, ты любишь сына Какучиа, Таси?
— Что ты, не говори так, Мурза!
— Может быть, тебя любит парень Тэмы, Таси?
— Пропади пропадом парень Тэмы, Мурза.
— Может быть, тебя любит парень Барны, Таси?
— Нет, нет, Мурза.
— Тогда что же ты имеешь против меня, Таси?
— Я боюсь, Мурза.
— Почему, Таси?
— Не знаю, Мурза…
— Я жить без тебя не могу, Таси.
— Не говори мне таких слов, Мурза!
— Так что же мне делать, Таси?
— Не знаю, Мурза…
— Пожалей меня, Таси.
— Я боюсь, Мурза.
— Не вонзай мне в сердце нож, Таси!
— Пусть в твоего врага вонзится нож, Мурза.
— Таси…
— Не прикасайся ко мне, Мурза!
— Не хорони меня заживо, Таси.
— Пусть бог даст тебе сто лет жизни, Мурза.
— Пожалей меня, Таси!
— И ты пожалей меня, Мурза!
— До каких пор мне мучиться, Таси?
— Мучился же ты целый год, Мурза!
— Одного года достаточно для меня, Таси.
— Хорошо, Мурза.
— Таси…
— Придвинься совсем немножко, Мурза.
— Таси…
— Больше не придвигайся, Мурза!
— Таси…
— Ну, еще немножко придвинься, Мурза!
— Ты моя радость, Таси.
— Если так любишь меня, где ж ты был до сих пор, Мурза?
— Таси…
— Еще немножко придвинься, Мурза…
— Любимая моя, Таси.
— Ах, какой ты хороший, Мурза.
— Таси…
— Ты и сейчас скован, Мурза…
— Это ты меня сковала, Таси.
— Мурза, Мурза!
— Почему ты дрожишь, Таси?
— Дождь идет, мне холодно, Мурза…
— Это не дождь, а ливень, Таси.
— Обними, согрей меня, Мурза!
— Таси…
— Ну, обними же меня, согрей, Мурза!
— Таси, Таси!
— У тебя железные руки, Мурза.
— Только не простудись, Таси!
— С тобой я не простужусь, Мурза!
— Таси!
— Не смей целовать меня, Мурза!
— Таси…
— Ну, один раз поцелуй меня Мурза, чтобы я не простудилась.
— Таси…
— Еще раз поцелуй меня, Мурза!
— Таси…
— Довольно, больше не целуй, Мурза!
— Ладно, больше не поцелую, Таси.
— Довольно, тебе говорят, ты задушишь меня, Мурза!
— Родная моя, Таси!
— Убери руку, Мурза!
— Что делать, я не могу убрать руку, Таси.
— Хорошо, если не можешь, не надо, Мурза.
— Ты моя радость, Таси!
— Не порви на мне рубашку, Мурза!
— Я не могу не делать этого, Таси!
— Ну, если не можешь.
— Таси…
— Как же ты все-таки терпел целый год, Мурза?
— Я и сам не знаю, Таси…
— Видно, ты не так сильно любишь меня, если мог вытерпеть целый год, Мурза!
— Любовь умеет и терпеть, Таси.
— Это правда, ведь и я целый год терпела, Мурза.
— Что же ты не сказала мне, Таси?
— Любовь умеет терпеть, Мурза!
— Где же у меня, безмозглого, были глаза, Таси!
— Как я ждала тебя, Мурза!
— Где у меня, безмозглого, сердце было, Таси!
— День не был для меня днем и ночь — ночью, Мурза.
— Где у меня, безмозглого, была душа, Таси!
— Если хочешь, еще раз поцелуй меня, а то я простужусь, Мурза!
— Таси…
— Чшшш, Мурза!
— Собака пробежала, Таси.
— Нашу собаку в это время сам черт не разбудит, Мурза.
— Если б я знал, что сердце твое было со мной. Таси!
— С тобой было, Мурза.
— Меня бы цепями не смогли удержать, Таси.
— С тобой оно было, Мурза.
— Таси…
— Теперь ты знаешь, что с тобой оно, Мурза.
— Теперь-то знаю. Когда ты на меня посмотрела на празднике мариамоба, тогда же я почувствовал, Таси.
— Правда, Мурза?
— Как мне уместить в сердце такую радость, Таси?
— Уместишь, Мурза.
— Ах, если б не рассветало, Таси!
— Да, если бы совсем не рассвело в эту ночь, Мурза!
— Что за радостная ночь, Таси!.
— Ночь радости, Мурза.
— Таси…
— Не отпускай меня, Мурза.
— Как же я тебя отпущу в этакий ливень, Таси!
— Ты моя радость, Мурза!
— Таси…
— Какой ты сильный, Мурза!
— Я тобою силен, Таси.
— Правда, Мурза?
— Ты дала мне силу, Таси.
— Не касайся меня так, Мурза.
— Почему, Таси?
— Я боюсь, Мурза.
— Если в этом году будет хороший урожай, я попрошу у твоего отца согласие, Таси.
— Да, урожай будет хорошим, Мурза.
— Если только дожди не загубят его, Таси.
— Не загубят, Мурза.
— В октябре мы справим свадьбу, Таси.
— Как я дотерплю до октября, Мурза!
— К свадьбе подготовиться надо, Таси! Чшшш, Таси!
— Что такое, Мурза?
— Кто-то ходит по двору, Таси.
— Это отец вышел во двор, Мурза.
— Небо посветлело, Таси!
— Не уходи, петухи еще не пели, Мурза!
— Я хотел бы и вовсе не покидать тебя, Таси.
— А ты знаешь, что у меня нет приданого, Мурза?
— И у меня ничего нет, Таси.
— Это позор для меня, Мурза.
— Бедность только у господ считается позором, Таси.
— Когда придет октябрь, Мурза?
— Оглянуться не успеешь, как придет октябрь, Таси.
— Когда придет октябрь, как мне дожить до октября, Мурза?
— Ты моя радость, Таси.
— Чшш, кто-то перескочил через забор, Мурза.
— Это ливень, Таси.
— Мурза…
— Почему ты дрожишь, Таси?
— Не знаю, Мурза.
— Не бойся, ничего не бойся, Таси!
— С тобой я ничего не боюсь, Мурза.
— Ты моя радость, Таси.
— Когда выходила замуж дочь Эгутиа, двадцать квеври вина было выпито на свадьбе, Мурза.
— На нашей свадьбе в два раза больше выпьют, Таси.
— Ха-ха-ха, Мурза!
— Что смеешься, Таси?
— Из каких квеври, Мурза?
— Из квеври добрых соседей, Таси.
— Чшш… Кто-то пробежал здесь, Мурза.
— Это ветер, Таси.
— Сердцем чую какую-то беду, Мурза…
— Люблю твои ежевичные глаза, Таси.
— Как я счастлива, Мурза!
— Люблю твои розовые щеки, Таси.
— Не касайся меня так, Мурза!
— Говорят, владетель собирается воевать с абхазами, Таси.
— Избави нас бог от войны, Мурза!
— Дадиани и Шарашиа не хотят примириться друг с другом, Таси.
— Да примирит бог Дадиани и Шарашиа, Мурза!
— Если будет война, Таси…
— Ох, не говори этого, Мурза!
— Больше не скажу, Таси.
— Я думала, ты хочешь свататься к дочери Кучуриа Кутелиа, Мурза.
— Пропади она пропадом, Таси!
— Касайся, целуй меня, Мурза.
— Ты моя радость, Таси.
— Слышишь, Мурза?
— Слышу, Таси.
— Кто-то свистнул, Мурза.
— Это ветер свистнул, Таси. Смотри не простудись!
— Дочь Кучуриа Кутелиа красивее меня, Мурза.
— Дочь Кучуриа Кутелиа твоего мизинца не стоит, Таси.
— Что тебя до сих пор заставляло молчать, Мурза?
— Чшш… Кто-то крикнул, Таси.
— Это ветер завывает, Мурза.
— Взошла утренняя звезда, Таси.
— Вчера в Мухури работорговцы похитили жену Уту Гурцкайа, Мурза.
— Работорговцев убили, Таси.
— Кто они были, не знаешь, Мурза?
— Макацариа из Чаладиди, Таси.
— Почему бог не проклянет их, Мурза?!
— Не знаю, Таси!
— Женщина со двора не может ступить, Мурза.
— Как может христианин продавать христианина неверному, Таси!
— Кто-то ходит по двору, Мурза.
— Может, отец снова вышел, Таси?
— Нет, отец один только раз выходит ночью, Мурза.
— Пойду обойду двор, Таси.
— Не уходи, я боюсь, Мурза.
— Хорошо, я не уйду, Таси.
— Невесту Мадзиниа у дружков в дороге похитили, Мурза!
— И Мадзиниа с того самого дня домой не вернулся, Таси.
— Несчастный Мадзиниа, Мурза.
— Еще несчастнее его Пациа, Таси.
— Иди, иди, вот-вот встанет отец, Мурза.
— Завтра выходи в это же время, Таси.
— Поцелуй меня, Мурза!
— Таси…
— Еще поцелуй меня, Мурза!
— Заткни ей башлыком рот, Коста!
— Крепче свяжи ей ноги, Миха.
— Ну, побежали, Дата!
— Ты не убил того парня, Коста?
— У него крепкая голова, не сдохнет, Маква.
— Фьють… фьють!
— Но-о!..
— Гуджу!
— А?
— Со двора мне послышался крик, Гуджу.
— Это ветер поет, Цабу.
— Нет, крик мне послышался, Гуджу.
— Померещилось тебе спросонок, Цабу.
— Открой дверь! Мне послышался крик, Гуджу!
— Небо разверзлось, Цабу!.
— Открой дверь, Гуджу!
— Эй, кто там?
— От платана донесся крик, Гуджу!
— Наверное, ветер, Цабу!
— Беги к платану, Гуджу!
— Да вот гляди, никого нет под платаном, Цабу!
— Ну, а это кто там, Гуджу?
— Сын Маркозиа — Мурза.
— У него голова разбита, Гуджу.
— А что здесь нужно было ему, Цабу?
— Наверно, к Таси пришел, Гуджу.
— А что нужно было от Таси сыну Маркозиа?
— Не время спрашивать об этом, Гуджу?
— Что нужно было здесь сыну Маркозиа, Цабу?!
— Какое-то несчастье с нами стряслось, Гуджу!
— Почему ты так думаешь, Цабу?!
— Ты слышишь топот коней, Гуджу?
— Что это, Цабу?!
— Горе мне, Таси нет в постели, Гуджу!
— Что ты говоришь, Цабу?!
— Таси, дочка!.. Таси!.. Помогите!
— Таси, дочка!..
— Таси, дочка, Таси!.. Таси!..
— Что такое, что случилось?
— Кажется, похитили Таси!
— Таси похитили!
— Выбегайте все!.. Работорговцы похитили Таси!
— Филипе!
— Манча!
— Спиридон!
— Выходите все!
— Эй, не упускайте их!
— Трубите в трубы!
— Звоните в колокола!
— Таси похитили, дочку, Гуджу!
— Варна, перережь им дорогу у мельницы!
— Ива, перехвати их у моста!
— Таси, дочка! Таси, дочка! Горе твоему отцу, дочка!
— Эй, все выходите, все до одного!
— Таси!.. Пусть земля возьмет твою мать, дочка!
— Горе твоему отцу, дочка!
Перевод с грузинского Ю. Нагибина и С. Серебрякова
Геннадий Юшков Месяц в городе
1
Можно было улететь самолетом и через какой-нибудь час оказаться дома, но Турков не торопился, решил добираться теплоходом. Будет в дороге целые сутки наедине с самим собой. Достаточно времени, чтобы все обдумать, понять, разобраться. А разобраться в случившемся ему надо непременно. Он взял билет, в гомонящей толпе пассажиров поднялся на раскаленный от солнца, пахнущий краской теплоходик; посадка закончилась неожиданно быстро; желтея пузырями, вскипала под бортом вода; отвалили от пристани… Покатились, как на саночках, только ветер бьет по глазам.
И, когда осталась позади пристань, уходя вбок, заслоняясь береговым обрывом, Турков с пугающей отчетливостью почувствовал всю краткость предстоящей дороги. Сутки… Всего сутки. У Туркова сжалось, замерло сердце. Он пробовал успокоиться, твердил себе, что никакой беды нету, что он придумал ее, вообразил, что спустя месяц-другой будет смеяться над своими страхами… А сердце сжималось, будто в холодном кулаке его стискивали.
Сельских учителей регулярно вызывают в город — повышать квалификацию. Бурно развивается педагогическая наука, того и гляди, отстанешь от передовых веяний. И вот в разгар лета, по самой жаре, отправляются сельские преподаватели в областные и районные центры, чтобы самим превратиться в учеников, После учебного года хочется отдохнуть, покопаться на приусадебном участке, заняться подзапущенным хозяйством, а тут корпи над конспектами в душном классе, и питайся бог знает чем, и живи неизвестно где… В гостиницах мест не бывает, скромных учителей размещают по частным комнатам и углам, будто «диких» туристов. Тяжко достается современный уровень знаний… Вот так и прибыл Турков нынешним летом в город и стал жильцом покосившегося подслеповатого дома на окраинной улице.
Комнату ему сдавала шустрая словоохотливая старушка, которую все соседи звали неизменно: бабка Ударкина.
Потирая сухие, в черных трещинках руки, бабка Ударкина сразу сообщила, что пускает жильца с неохотой, что ей нужен покой, который всяких денег дороже, и что из-за того покоя, она и осталась тут доживать, в родительском дому, а не переехала к внучке с горячей водой и газом.
— Да ваш закоулок тоже снесут, — сказал Турков.
Бабка Ударкина моментально ответила, что прежде ее самое вынесут из родительского дома вперед ногами, что никакие отдельные квартиры ей не нужны, а нужен только покой, хоть и с удобствами на дворе.
После знакомства с бабкой стало совершенно ясно, какое тут предстоит житье-бытье. Турков помянул черта, затосковал, уселся на лавочку перед калиткой.
По грязной от дождей улице шествовали гуси, их торчащие шеи были помазаны синими чернилами. Мальчишки катались на велосипеде с моторчиком. Моторчик трещал оглушительно, вся его сила превращалась в звук. Соседние домики тоже были пузаты, неряшливы, с поломанными заборами — улица сознавала свою обреченность и словно бы гордилась запустением.
Вот люди, думал Турков. Вот люди. Пока переберутся в новые квартиры, привыкнут к безалаберности и уже не отвыкнут. Оттого и все лифты ободранные, и на лестницах грибы растут.
— Топор найдется? — спросил он бабку Ударкину, вышедшую из калитки. Судя по одежде, бабка намеревалась гулять: переливался на ней импортный плащик из «болоньи», вспархивала на голове косыночка с рисунками доисторических автомобилей, зонтик торчал под мышкой.
— Зачем топор? — спросила бабка, насторожась.
— Да хоть крыльцо поправлю. В темноте-то все ноги поломаешь.
— И не требуется! — сказала бабка. — Сколько живу, а ноги целы. Привыкнешь, милай, привыкнешь, тут падать невысоко.
Очевидно, бабка полагала, что починенное крыльцо помешает ей спокойно дожить остаток дней. Вот люди. Ну, люди…
Бабка ушла, звонко шурша подолом «болоньи», а вскоре из другой половины дома показалась молоденькая женщина, тоже нарядно одетая, в косыночке и с зонтиком. Она подталкивала в спину мальчика лет четырех, который боялся спускаться по гнилым ступенькам.
— Здравствуйте, — сказал Турков. — Тренируете ребеночка?
— То есть как?..
— Приучаете к опасностям?
— А-а, вы про ступеньки… — улыбнулась женщина. — Да ничего, мы уже привыкли. Прыгай, Женечка, прыгай.
— Из окна не пробовали? — спросил Турков. — Из окна и через дыру в заборе. Очень удобно. И очень пригодится ребеночку в будущей самостоятельной жизни.
Турков не мог справиться со своей злостью. Он взрывался, когда вот такое видел. Ну, люди! Наверняка эта юная мадам — хозяйкина родственница, еще одна внучка или племянница, поселившаяся здесь в поисках покоя. Восемь с половиной квадратных метров площади, удобства на дворе и полный покой. Зато, когда он кончится, государство выделит квартирку.
— А вы, наверно, новый жилец? — спросила женщина.
— Угадали.
— Приятное будет соседство, — сказала женщина.
— Да уж. Предвкушаю.
— Мы тебя выгоним, — глядя исподлобья, проговорил мальчик. — Ты к нам лучше не приходи.
— Хорошо, дитя, я воздержусь.
— И не говори потом, что дверями ошибся!
— Вот как? — сказал Турков. — М-да. Не беспокойся, дорогой товарищ, я помню, что моя дверь налево. А другими дверьми я обычно не интересуюсь.
Он приоткрыл перед женщиной с мальчиком калитку, висевшую на одной петле, и пропустил обоих на улицу. Мальчик побежал по лужам, распугивая гусей с чернильными загривками. А женщина даже походкой, даже спиной в «болонье» выразила негодование. Ну, люди… Туркову захотелось отыскать все-таки топор, а еще лучше колун, чтоб потяжелее, и разнести в щепки не только крыльцо, но и всю эту хибару.
Не терпел он таких людей и такой жизни.
2
Десять лет назад в городе был всего один институт — педагогический, — и Виталий Турков, закончив с золотой медалью школу, поступил в него учиться, хоть и не мечтал о профессии педагога.
Просто так нужно было. Отец Виталия не вернулся с войны, мать работала в колхозе, поднимая на нога троих детей. Жили всегда без лишнего достатка, и Виталий, будучи школьником, уже подрабатывал — то на колхозной ферме, то на лесопункте. Была профессия, которая его влекла — капитан дальнего плавания, — но, чтобы ее получить, надо было уехать далеко от дома, бросив и мать, и двух малолетних сестренок. А из педагогического института до родной деревни недалеко, можно наведываться каждое воскресенье, не говоря уже о каникулах. И Виталий пошел в педагоги.
Выбрал факультет посерьезней — математический. Учился прилежно, старательно, не шаляй-валяй. Закончил, правда, без отличия, но с хорошими оценками.
Потом его взяли в армию, отслужил два года в ракетных войсках, вернулся домой лейтенантом запаса. Заглянул в министерство, получил направление в сельскую школу, чтобы снова оказаться поближе к матери.
— Не женишься, Виталик? — спросила мать.
— Пока не думаю, — сказал Турков.
— И на примете никого?
— Я, мама, разборчив. Не скоро подходящую найду…
У него был составлен жизненный план, и там на первом месте служебная деятельность.
Турков знал, что мужчина в сельской школе — редкость, вроде мамонта. И Турков собирался опровергнуть мнение, согласно которому сельская школа — удел неудачников.
Он не стремился в педагоги, но будет хорошим педагогом. Он не стремился работать в глубинке, но будет хорошо работать и в глубинке.
Еще в армии он почитывал педагогические журналы, занятные статейки в «Комсомольской правде»; он изобрел, как сделать свои уроки интересными. Надо завлекать ребятишек не оценками, а самим процессом познания.
Ребятам не нравится сухая математика? Турков добьется, что они будут сидеть в классе, как на ковбойском фильме. Всего можно достичь, если голова на плечах.
Через полгода у Туркова не было неуспевающих учеников, в школе функционировало кафе «Под интегралом»: он вывешивал в коридоре такие объявления: «Внимание! Февраля (уравнение) дня, (уравнение) часов состоится математический турнир 8–10 классов!»
— Это, Виталий Максимович, какого же числа? — спросила завуч Аглая Борисовна, воззрясь на первое такое объявление.
— Попробуйте решить, — сказал Турков.
— Я серьезно спрашиваю! Мне надо график дежурств составлять!
Завуч Аглая Борисовна восхищалась Турковым, а он не испытывал к ней уважения. Весь год завуч приходила на работу в длиннополой жакетке, нитяных чулках и стоптанных туфлях. Наверно, ей было немногим больше сорока лет, но выглядела она старухой. И все из-за этой неряшливости.
Погрязла в домашнем хозяйстве, опустилась, думал Турков. А ведь небось чувствовала призвание к учительскому труду. Мечтала сеять разумное, доброе, вечное… А теперь ходит в школу, как на каторгу; во время урока думает о поросенке, которого не успела покормить; книг давно не читает, ругается с мужем, кричит на собственных непослушных детей. И убеждена, что всю себя отдала педагогике, любимому делу…
— Это уравнение, Аглая Борисовна, решит даже пятиклассник.
— Но я близорука, Виталий Максимович! Я не вижу этих ваших крючков!..
Все она видела. Просто не могла решить пустяковое уравнение. Давно растеряла тот минимум знаний, который имела.
Больше всего Турков ненавидел человеческую безалаберность. Аглае Борисовне достаточно выписывать журнал «Наука и жизнь», читать по страничке в день, чтобы не отставать от жизни. Достаточно ежедневных пяти минут перед зеркалом, чтобы сохранить пристойную внешность. Так нет же, не отыщет этих несчастных минуток. Потеряет их в болтовне с соседкой, в ругани с мужем. И пролетают месяцы, годы, десятилетия, человеческая жизнь тратится попусту — пользы нет ни себе, ни другим.
А сколько вокруг подобной безалаберности! Осенью и весной деревня тонет в грязи, все ждут, когда совхоз станет миллионером и соорудит асфальтовые дороги. Да принеси каждый житель по камешку — ведь полно булыжника на полях, — давно бы улицу замостили, не таскали грязь в избы!
Дважды в год шумная кампания в школе: собираем макулатуру. Кто больше?! Чей отряд активней?! Взмыленные ребятишки стучатся во все двери. Да не надо, товарищи, лихорадочных кампаний: сберегите использованную бумагу и тетради в самой школе, не позволяйте сторожихе сжигать ее в печках! Все макулатурные планы перевыполните!
Через край безалаберности. В большом и малом. А кто виноват? Вот такие Аглаи Борисовны, без остатка отдающие себя избранному делу, но давно забывшие, как решается простенькое уравнение…
3
Перед тем как жениться, Турков начал строить себе дом. Такой, как ему хотелось.
Испокон веку деревенские избы ставятся по принципу «оглянись на соседа». У соседа Митьки пятистенок, и у меня будет такой же; Митька возвел сарай слева, и у меня слева; у Митьки деревянное солнышко над чердачным окном, и у меня будет.
Эпохи меняются, время летит, а до сей поры избы в деревне одинаковые. Кто-то задумал строиться и сегодня не может без Митькиного образца: опять рубит пятистенок и опять вплотную к дороге, на самой обочине. В прежние времена дорога тихой была: коровы пройдут, лошадь прошагает — и все движение, пей чаек у раскрытого окна; сейчас на дороге трактора барахтаются, самосвалы громыхают, оплескивая окошки жидкой грязью… Приятно? Удобно? Покойник Митька с ума бы свихнулся от шума и дыма, но последователи его терпят.
Турков заложил фундамент в глубине участка; дом развернул не к дороге, а к солнцу — лучше настоящее в окне, чем деревянное над окном. Еще ввел усовершенствования: водяное отопление вместо русской печки, скважину с насосом вместо колодца. И, естественно, все прочие удобства не во дворе. Извините! На исходе двадцатого века живем.
Большинство работ он проделал своими руками. Ведь с детства владел топором и пилой, умел и раствор замесить, и пазы проконопатить. А если чего-то не знал, вычитывал в книжках. Теперь по всем отраслям вдоволь литературы, только не ленись читать.
Пока строился, всякий день был расписан по минутам. И, представьте, времени хватало, вполне обошелся без наемных шабашников, без ежедневной подати — бутылки водки.
Конечно, не сразу все ладилось, и ошибки бывали, и переделки, но завершил Турков строительство, вселился в удобный, современный дом.
Настал час подумать и о женитьбе.
У Туркова было несколько предварительных кандидатур, исподволь присмотренных и изученных; следовало решиться на окончательный выбор.
Он стал похаживать на вечера в Дом культуры, на танцы, на деревенские праздничные гулянья; поочередно провожал кандидаток до крылечка, целовался, если позволяли. И примеривался.
Его беспокоило, что нынче разводится каждая третья супружеская пара. Он не желал быть причастным к подобной статистике. И он нашел то, что искал.
Лиза Игнатьева (будущая Туркова) заведовала почтовым отделением, была скромницей. Не носила юбочек на запредельной высоте, никогда не давала повода сплетницам. Умненькая, ласковая, практичная. Надо — оденет джерсовый костюмчик, в кругу друзей почитает стихи. Надо — засучит рукава и пойдет картошку копать.
Через год после свадьбы родился первый ребенок — мальчик; еще через два года родилась девочка. Дети были у Турковых крепкие, здоровые, отлично развивались. Да иначе и заводить их не стоит…
Постепенно Турков расплатился с долгами, в которые пришлось ему влезть, пока строился; постепенно купил хорошую мебель. На участке разбил образцовый огород, насадил ягодных кустарников. Начал откладывать деньги на «Жигули».
Бытует суждение, что человеку, если он не мещанин, требуется минимум комфорта и жизненных благ. Чепуха какая! Турков не был мещанином, но ему хотелось иметь и «Жигули», и лодку с мотором, и приличное ружье для охоты, и много других вещей, которые облегчают и украшают жизнь. И Турков знал, что приобретет их, и даже от одного этого сознания ощущал удовольствие.
Всего можно добиться, если голова на плечах.
Последнюю зиму отработала в школе завуч Аглая Борисовна, она уходила. Все понимали, что ее место займет Виталий Максимович Турков. Все говорили об этом.
А сам Виталий Максимович предстоящее повышение ожидал бестрепетно. Не было оно финалом, конечным пунктом стремлений, впереди еще столько всего! Только началась его нормальная жизнь…
В июле месяце, как обычно, педагогов вызвали в город «на доводку». Если бы знать Туркову, чем кончится поездка, его бы трактором из деревни не выволокли.
4
Мальчик и женщина скрылись в конце улицы; завывал велосипедный моторчик; меченые гуси тупо смотрели на Туркова, вытянув шеи палками.
Бабка Ударкина предупредила, что готовить еду для постояльцев не собирается. Надо было измыслить пропитание, и Турков, надев пыльник, тоже пошел к центру города.
Пообедал в кафе. Выпил бутылку сухого вина. Настроение улучшилось, и Турков двинулся обратно, намереваясь пораньше лечь спать.
Возле хибары громоздилась большая куча дров. Видимо, их только что привезли, враскат шарахнули с самосвала, окончательно порушив забор.
Женщина, успевшая переодеться в старенький тренировочный костюм, с трудом перекатывала чурбаки во двор, к поленнице. Мальчик подбирал кору и щепочки.
— Честь труду! — сказал Турков.
— Ты к нам не приставай, — насупясь, предупредил мальчик. — Тебе же сказано!
— Предлагаю помощь! — великодушно улыбнулся Турков. — Хотите?
— Иди, иди, — сказал мальчик.
— Мы уж как-нибудь сами, — отозвалась женщина.
Мальчик собрал под ногами Туркова щепочки, словно боясь, что Турков их зажулит.
— Мама, он пьяный… — оповестил мальчик.
— Клевета, — сказал Турков. — Я, дорогой товарищ, сам не люблю пьяных.
— У нас нет на поллитру, — сказал мальчик.
— А грузчики требовали?
— Ага.
— Жулики. Мародеры. Вы правильно сделали, что не дали им поллитру.
— Для тебя тоже нету, — упрямо сказал мальчик.
— А я обычно работаю за «спасибо». Скажешь мне «спасибо», и мы в расчете.
— Мама, он правду говорит? Или обманывает?
— Отойди от него, Женечка. Не разговаривай с ним… — сказала женщина.
Турков спросил с изумлением:
— У вас тут что, заповедник напуганных? Микрорайон «Спаси меня, господи»? Предложил починить крыльцо, бабуся приняла за сумасшедшего. Предлагаю дровишки перекидать, снова все шарахаются.
— Мы привыкли сами обходиться, — сказала женщина.
— Вы ж надорветесь!
— Ничего.
— Всю ночь провозитесь!
— Не беда.
— К несчастью, тут мое окошко! — сказал Турков, снимая пыльник и пиджак. — Ночью я хочу спать. В тишине и покое. Отойдите в сторону, не мешайте!..
Он поднял чурбак и швырнул к поленнице. Дрова были, сплошь осиновые, сырые, будто сию минуту вытащенные из воды. Турков подумал, что бабка Ударкина зверствует. Могла бы купить и березовых на те деньги, что дерет с жильцов. Ну, люди…
— Мерзнете зимой?
— Бывает, — неохотно сказала женщина.
— И внучонка бабуся Ударкина не жалеет?
— Какого внучонка?
— Извините, правнучка. Он ведь правнук бабуси?
Женщина наконец догадалась, о чем идет речь.
— Мы с хозяйкой не родственники.
— Разве?!
— Такие же постояльцы. Но живем второй год.
— Произошло недоразумение, — сказал Турков. — Я вас принял за родственников. Крылечко виновато.
— Я же не могу его починить.
— Бабуся надолго ушла?
— Она смотрит кино, — сообщил мальчик.
— Откуда тебе известно?
А она каждый день смотрит кино… — в голосе мальчика был оттенок зависти.
— Найдите-ка мне топорик, — сказал Турков.
— Не нужно. Зачем это?
— Найдите топорик. Вся ответственность будет на мне. Даже в капиталистических странах квартиросъемщики борются за свои права.
— Бабушка заругается, — сказал мальчик.
— Мы ее перевоспитаем, — пообещал Турков. — Бабушку, да еще чужую, всегда можно перевоспитать. Это не проблема.
5
Бог свидетель, не собирался Турков заводить с этой женщиной знакомство. Пуще того, она не нравилась Туркову. Бывает, что увидишь приятное личико и тебя невольно потянет к знакомству. А тут никакой тяги не возникло, женщина совсем не показалась Туркову симпатичной и привлекательной.
Но, пока он перебрасывал чурбаки и ладил крылечко, он узнал про нее занятные вещи. Непостижимые вещи. Он даже спросил, не скрывая удивления:
— Граждане, да как же вы существуете-то?!
И потом, позднее, заходя к ним в гости, он опять настойчиво твердил:
— Да разве так можно существовать?!
У Галины — так звали эту женщину — не было родственников, кроме ее четырехлетнего сына; не было жилья, кроме временно снимаемой комнатки, не было никакого имущества, кроме чашек да ложек.
У нее, с точки зрения Туркова, ничего не было! Ничего!
И если бы Галина сокрушалась, плакалась, горевала, Турков посочувствовал бы ей, но особенного интереса не проявил бы. Что ж, попадаются люди с неудачно сложившейся судьбой. Есть счастливые, а есть и несчастные.
Однако ж Галина совсем не печалилась, не чувствовала себя несчастной; она могла бы изменить свое нелепое существование и не делала этого.
Наличествовал феномен, который просто нельзя было не исследовать.
Перед самим собой Турков не лукавил. Отчетливо понимал, что по характеру он не стяжатель, не собственник. Отходят в прошлое дремучие типы, молившиеся барахлу. И Турков не станет молиться на собственный дом, на мебель, на тряпки. Но если можно без ущерба для совести жить безбедно, то и следует жить безбедно, черт побери! Кто откажется?!
Галина рассказала, что родители ее умерли, а муж, по специальности геофизик, три года назад утонул в озере.
— Квартира была? — спросил Турков.
— Мы на очереди были.
— Ну? Отчего же не получили? Где квартира-то?
— Он нетрезвый был, когда утонул… — смутилась Галина. — Понимаете, неловко просить квартиру… И потом не могла я оставаться в Сыктывкаре. Ходишь по улицам, невольно вспоминаешь…
— Получили бы квартиру, обменялись на другой город!
— Нет, мы с Женей сразу уехали. Я боялась, что он все поймет. Знакомые жалеют, соседи…
— А родственники мужа где?
— Живут в Ленинграде.
— Ссоритесь?
— Нет, не ссоримся. Поздравляют Женю с дней рождения, иногда пишут.
— И все?
— Я у них ничего не просила. Мне не надо.
Она рассказывала и вязала на спицах рукавичку с орнаментом. Такая у нее работа: вяжет рукавички с национальным орнаментом, сдает в мастерскую художественного фонда.
— Нам вполне хватает на жизнь.
— О настоящей профессии не думаете?
— Почему же эта не настоящая? Мою продукцию на выставки посылают.
— Знаете, знаете, что я имею в виду!
— Догадываюсь. Я хотела учиться… Но мужа переводили из одного места в другое, и я вместе с ним ездила.
— А заочно?
— Художественный заочно не кончишь.
Вертятся спицы, ложится петелька к петельке. На рукавичке появляется узор — какие-то петушки. Велика важность, есть эти петушки или нету их. Велика радость, что кто-то наденет особенную рукавичку, а не стандартную…
— И нравится вам?
— Очень.
Турков накалялся от ярости. Врет, врет! Опять ссылки на мечту, на призвание! Чепуха собачья! Не изобретен прибор, который определял бы это призвание, да и не нужен прибор; нагородили мечтатели воздушных замков, а пустота и останется пустотой! Гении не в счет, они исключение, а обычный человек без призвания обойдется. Что, ломать себе жизнь, если не поступил в какой-нибудь цветочный техникум? Ничего, пойдешь в кулинарный и будешь печь блины, мир от этого не оскудеет… Большинство людей устраивается работать туда, куда есть возможность устроиться. А лепет о призвании — оправдание собственной лени.
— Так и будете дальше?
— Да, так и буду.
В нищенски обставленной комнатке занавесочка с теми». же петушками, Женечкины рисунки на стенах. На окне глиняный горшок, в горшке топорщится куст болотной травы. Трава изображает растрепанные волосы, горшок — человеческое лицо, рот и глаза подрисованы. Искусство.
— А жить-то где собираетесь?
— Пока здесь.
— А потом?
— Потом видно будет.
— Ведь никакой перспективы! Или замуж надеетесь? Только честно!..
— Совсем не надеюсь. Он у меня хороший был, хоть и выпивал… Мне, Виталий Максимович, трудно другого полюбить. Да и Женечка теперь вырос… Уже понимает.
— Уже видел, как мои предшественники дверью ошибались? Не обижайтесь, я без злости, у меня своих двое. Но мои, слава богу, пьянства и драк не видели.
— Здесь, конечно, всякое бывает. Иногда не везет на соседей.
— Да я уж почувствовал. Женечка-то вас защищает, а мне от его доблести страшновато…
— Ничего. Это забудется, это неважно.
Петелька к петельке, петушок к петушку. А что важно? Вырастить худосочного мечтателя?
— Поощряете его рисование?
— Конечно.
— И есть способности?
— Судить рано. У всех детей в этом возрасте замечательные способности.
— К чему?
— А вы не заметили? У вас же двое!
— Я постараюсь развить у них другие способности, — сказал Турков. — Чтоб не выросли лоботрясами. Чтоб дурью не мучались.
— Озлобленный вы какой-то, — рассеянно произнесла Галина, считая петельки.
— Озлобленный?!
— Да. Будто на душе у вас неспокойно. Будто не знаете, на кого разозлиться…
Только этого недоставало, чтоб Галина его пожалела. Бедного, запутавшегося, обиженного судьбой. Великого неудачника.
6
Турков на два дня отпросился с курсов — ему-то не очень требовалось повышать квалификацию, от коллег не отстанет — и съездил к матери, чтоб помочь на сенокосе.
С наслаждением поработал физически, азартно махал «горбушей» на кочковатом лугу. Славно было чувствовать свою силу, неутомимость, ничем не подточенное здоровье; славно было купаться вечерами в озере, по-мальчишески прыгая в воду с наклонного дерева. Городская хандра моментально выветрилась. И, веселый, довольный, отправился он на субботу и воскресенье домой, к жене Лизе, к сыну и дочке, по которым уже соскучился.
Каким-то новым взглядом он смотрел на жену, горделиво сознавая, что она лучшая из всех женщин, которые ему встречались; с той же гордостью смотрел и на ребятишек — румяных, крепконогих, со смышлеными мордахами.
— Павлушка, разбойник, даю задачу на сообразительность!
— Давай!
— Три голубя прилетели, два улетели, сколько осталось?
— Остался один плюс те, которые раньше были!
— Молодец!
Вот такая у нас арифметика, гражданка Галина. Разбойнику Павлушке еще шести годочков не стукнуло, а сообразителен, как агент по снабжению. Можно поручиться, что в будущей жизни не пропадет, не скатится в неудачники. Выберет успех, а не прозябание.
— Лиза, тебе не кажется, что мы плохо живем?
На белоснежной подушке смуглое, без единой морщинки лицо, загорелые руки, светлеющие в подмышках, закинуты под голову, сонная умиротворенность в глазах.
— Ты довольна, Лиза?
— Почему ты вдруг спрашиваешь?
— Потому, что раньше не спрашивал.
— Если бы мне что-то не нравилось, я бы сказала… Спи.
— Может, у тебя духовные запросы какие-нибудь? Мечтала об одном, а получилось другое?
— Спи. Тебе спозаранку на самолет.
— Нет, ты ответь: ты счастлива? Серьезно спрашиваю.
— Счастлива. За тебя только переживаю.
— Это еще что?! По какой причине?
— Ты ведь меня не любишь.
— Окстись, Лизавета! Что тебе в голову взбрело?
— Я же знаю.
— Ну, Лизавета, тебя солнцем чересчур напекло… Я что же, не по своей воле женился?!
— Спи, Виталик. Если что и случится, буду сама виновата. Понимала, что ступаю на ненадежную дощечку…
— Лизка, ты старая, жуткая костяная баба-яга. Завтра же я тебя брошу. Пусть другие тебя любят сильней.
— Спи, — улыбнулась Лиза.
Турков сегодня, сейчас же мог дать какую угодно расписку, что не только не расстанется с Лизой, но будет ей верен постоянно. Уж себя-то он знает. Неспособен на мимолетные романы, перед собою краснеть не желает, слишком это противно. От добра добра не ищут, и никто ему не нужен, кроме Лизы. Это верно, что он не испытывал к Лизе острой влюбленности, ну и что? Грош цена сумасшедшей влюбленности, именно из-за нее разводится каждая третья супружеская пара! Ошалеют от взвинченных восторгов, сомлеют в объятиях, а через неделю трезвые будни, домашнее неустройство. Влюбленность испаряется, как лужа на дороге. У Туркова тоже были девочки, по которым он вздыхал — и в десятом классе школы, и в институте, — куда подевалось былое томление? Вспомнит теперь, усмехнется: дурачок был, слепой дурашка…
— Лизавета, неужели боишься, что я тебя брошу?
— Не в том дело, Виталик.
— А в чем?
— Наверно, ты не бросишь. Хотя кто знает… Но ты, наверно, все-таки не бросишь.
— Чего ж тебе переживать и опасаться?
— А вдруг мучиться будешь? Вдруг раскаиваться?
Она произнесла эти слова после долгого молчания.
Словно взвешивала, надо ли их говорить.
— Лизавета, Лизавета, я люблю тебя за это!
— За откровенность? Так ее маловато у нас.
— За отчаянность! За то, что на вулкане живешь! В доме, который качается!
— Спи.
— Между прочим, последняя новость: кажется выдвигают меня в депутаты. Будешь за меня голосовать? Остальные-то избиратели поддержат…
— Я рада за тебя, Виталик. Очень рада. С этой работой ты хорошо справишься.
— И на том спасибо.
Июльская короткая ночь завесила темнотой окна и вскоре уплыла, как дождевое облако. Петухи по деревне заголосили. Турков чувствовал, что Лиза тоже не спит. Невероятное открытие: и жена, оказывается, обеспокоена участью Туркова!
Ну, скажи она попросту «мало меня любишь», это бы прозвучало естественно. Всем женам чудится, что мужья охладевают и недостаточно ласковы… Но Лиза тревожится не о себе, она тревожится о Туркове. Он, понимаете ли, еще раскается!
Воистину, мир перевернулся вверх ногами. Все наоборот.
7
Наутро Турков улетел в город, с аэродрома помчался на занятия, и, когда они закончились, ему не захотелось сразу идти в халупу к бабке Ударкиной.
Погулял по городу, посетил магазины. В одном из универмагов в сувенирном отделе среди чудовищных, яростно сияющих пепельниц, градусников в форме колеса, распустивших крылья деревянных ястребов (а может, филинов?) он увидел знакомые пестренькие рукавички.
Турков нарочно потолкался у прилавка, последил за торговлей. Покупались градусники-колеса, устрашающие значки «Ну, погоди!», прочая мелкая дребедень. Рукавички спросом не пользовались. Вряд ли оттого, что была середина лета и товар не к сезону…
— А перчатки кожаные есть? — спросил Турков продавщицу.
— Бывают, но не всегда.
Странно, что ему понадобилось спрашивать. Убеждаться в неоспоримом.
Он возвращался к халупе кружным путем, через городской парк, по речному берегу. Ясные, четкие мысли рождались в голове.
Да, мир сложен. Смущают человеческую душу разнообразнейшие вопросы. Но так же, как главным-то вопросом останется извечный «зачем жить, если в итоге умрешь?», то главной мудростью останется изречение «помирать собрался, а рожь сей!»… Надо рожь сеять, граждане. Покуролесите вы в поисках чего-то небывалого, воспарите в несбыточных мечтаниях, а все равно иной мудрости не сыщете.
И, чтоб времени зря не терять, чтоб впоследствии локти не кусать, засевайте свою делянку пораньше. Мир сложен, а жить в нем рекомендуется попроще.
У мостков на реке женщины полоскали белье; худенький мальчик прыгал с камушка на камушек, играл в одиночестве.
— Привет, старикан!
— Здравствуйте, — сказал Женя. Он так и остался боязливым, недоверчивым. Так и смотрел исподлобья.
— Как поживали без меня?
— Хорошо поживали.
— Чего это ты набрал?
— Это ракушки. Они красивые.
— Слушай, старик, мама заставляет тебя рисовать? Или самому хочется?
— Я рисую, когда хочется.
— Загадать тебе загадку? Три голубя улетели, два прилетели. Сколько осталось?
Женя лег пузом на камень, стараясь дотянуться до обломка раковины. Все дно в заводи было покрыто этими блестящими обломками, и непонятно, чего Женя тут выбирал. Одинаковые скорлупки, хватай любую, не прогадаешь.
— Так сколько голубей-то, Женя?
— Я не знаю.
— Скажи, старик, а приходили к маме дяденьки, которых она не прогоняла?
— Не-а.
Турков задал этот вопрос и вдруг устыдился. Зачем он шпионит? Какое ему дело до того, притворяется Галина или нет? Поймать он ее собрался, припереть к стене? Да пусть она живет как ей вздумается. Нашлась блаженненькая, а он удивился и рот раскрыл.
Издали поздоровавшись с Галиной, Турков не подошел к ней и вечером тоже не разговаривал. И всю неделю избегал разговоров, на выходные опять уехал в деревню.
А в следующий понедельник халупа бабки Ударкиной исчезла. Бульдозер крушил остатки заплесневелого фундамента; вещички Туркова, белье и книги оказались у владельца соседних апартаментов.
— Бабка-то Ударкина квартиру получила! Утром съехала!
— А жиличка ее где? Женщина с мальчиком?
— Да тоже куда-то перебрались.
— Куда же?!
— А неизвестно. Небось тоже в отдельную квартиру!
Как бы не так. У Галины отнюдь не торжественным было переселение. Ушла в неизвестность, покидав в занавеску чашки да ложки и таща на руке горшок с болотной травой. Может, бродит еще по улицам, отыскивает комнатенку.
Да что же это такое?! Не глупость ли беспросветная?!
8
В оставшиеся полмесяца он разыскивал Галину, понимая, что не найдет. Ведь и в справочное бюро не обратишься. Женщину звать Галина, мальчика Женя, а больше сведений нет. Даже фамилия неизвестна.
Рукавички с петушками и те пропали из магазина. Турков отправился в мастерскую художественного фонда, она была закрыта; все сотрудники — по новому прогрессивному методу — находились в коллективном отпуске.
Оставалась наивная надежда, что встретишь Галину на перекрестке. Турков издевался над собой, выходя на поиски.
Проживал он теперь в гостинице (районо в виде исключения выхлопотало номер), было удобно, кончились бытовые заботы, улетучивались из памяти окраинная улица с гусями, бабка Ударкина и ее крылечко. Можно было не думать и о Галине.
Он убеждал себя знаменитыми чапаевскими словами: наплевать и забыть. Хладнокровнейшим образом наплевать и забыть.
Не удавалось.
Червячок копошился в душе, беспокоил. Без видимых причин не давал отвлечься надолго. Просто какое-то помрачение.
Ведь не влюбился же Турков, не нужна ему эта женщина, хоть порою в разговорах его подмывало спросить: «А за меня вышли бы замуж?» Она, допустим, ответила бы, что согласна, и он тогда не знал бы, как отвертеться.
Предположим, существует не физическое влечение, а духовное, еще не испытанное Турковым. Но духовная близость возникает между людьми, которые придерживаются сходных взглядов. А Турков с Галиной — противоположности, антиподы. Их сближение ничего не сулит, кроме взрыва.
И не настолько Турков мягкосердечен и сострадателен, чтобы не спать, пока не поможет Галине. Весьма относительны ее бедствия, она добровольно их избрала, она отказывается от помощи: «Мы привыкли сами обходиться…»
Тогда что же заставляет Туркова шататься вечерами по городу? Может, не доспорили? Турков свою правоту не доказал, а Галина свою? Но Турков-то знает, что нету на свете доказательств, способных его переубедить.
И, значит, все блажь.
Как обыватель, начитавшийся медицинских справочников, Турков обнаружил у себя признаки несуществующих болезней, разволновался, впал в истерику. А заболевания и в помине нет. Одна блажь.
И все же, уговаривая себя, Турков чувствовал, что существует другое объяснение происходящему. Просто он, Турков, еще не наткнулся на это объяснение. И недаром бродит по городу, и недаром видит перед собой Галину с Женькой, недаром вспоминает брошенную вскользь фразу: «Озлобленный вы какой-то…»
Снова он прилетел в деревню на выходные дни. Копался на участке, собирал поспевшую красную смородину, возился с детьми. А червячок-то в душе скребся. Грыз и грыз.
— Павлушка, разбойник, ты рисовать не пробовал?
— А зачем?
Держит решето со смородиной, загорелый, с сизым румянцем, глаза бесовские. Бесстыжие.
— Кем хочешь вырасти?
— Капитаном дальнего плавания!
Турков поперхнулся смородиной, которую неохотно жевал. Откуда эта мечта?! Никогда он не рассказывал сыну о собственном детстве, о несбывшихся намерениях. Вернулась мечта на круги своя? Да нет, ерунда. Все мальчишки собираются стать космонавтами, капитанами, путешественниками. Что известно Павлушке о капитанской профессии? Серьезен этот порыв? Смешно слушать.
И все-таки почему не космонавт, не путешественник, почему капитан дальнего плавания?
Лежал ночью, опять не спал. И впервые подумал, что умненькая, рассудительная Лиза не очень-то счастлива, если понимает, что Турков не любит ее. Проживет жизнь в благополучии, в довольстве и сама Туркова не разлюбит, но… Какое же счастье тут?
Под поезд не бросишься, но и от радости не захлебнешься. Умненькая, рассудительная Лиза просто смирилась со своей участью, как когда-то смирился Турков, оставшись в родной деревне, поступив в педагогический институт. Туркову надо было. Вот и Лизе надо, хоть и по другим причинам…
Силы небесные, но кто ответит, был бы счастлив Турков, сверни он с предначертанной обстоятельствами дороги? Была бы счастлива Лиза, откажи она Туркову?
Есть ли ошибка? И где он ее совершил?
9
Вычегда катила навстречу теплоходу волны с белыми чубчиками. Откатывались, уходили назад пристани, поселки. Ветер выжимал слезы из глаз.
Миновал месяц, проведенный в городе. Вроде ничего не случилось. Попробуй объяснить кому-нибудь — и не объяснишь. Нет вразумительных фактов.
Только вот страшно, страшно возвращаться домой, и уже не червячок тебя точит, а сердцу физически больно, словно стискивают его в кулаке.
Не полетел самолетом. Выиграл дополнительные сутки.
Думай, решай. Но помни, коротки сутки. И жизнь человеческая коротка.
Авторизованный перевод с коми Э. Шима
Андрис Якубан О старой доброй земле и о море
Стариков было трое, и сидели они за одним столиком.
Оскар Звейниек (по-русски его фамилия была бы что-то вроде Рыбакова), который жил на улице Рыбачьей, сказал, что этой весной первый гром прогремел, когда деревья были еще совсем голые, без листвы.
Екаб Кугениек (по-русски Кораблев), который жил на улице Корабельной, добавил, что его дед, когда этакое случалось, сулил голодное лето — дескать, ни хлебушка, ни порядочной салаки в море, ни водки в лавке. Словом, ничего хорошего такие приметы не сулят, одни неприятности.
А Бенедикт Веинь (по-русски Ветров), который жил на улице Ветряной, по обыкновению молчал и только слушал.
Так вот — сидели они втроем за одним столиком. У всех троих были совсем седые головы, морщинистые, как кора прибрежных сосен, лица, руки темные, жилистые, похожие на канаты, перепачканные нефтью, а глаза спокойные, умные, как у сов, которые прожили тысячу лет и много чего знают, много бед повидали на своем веку, все претерпели и теперь ничему не удивляются, и ничто их не волнует. Стариковские речи были неторопливы и степенны.
Солнце клонилось к закату, и старая добрая земля, которую они исходили вдоль и поперек, являла свету то тут, то там зеленые росточки. Льда нигде уже не было — ни на море, ни на реках. Старики за зиму основательно отоспались, до одури насытились телевизором, что им было теперь делать? Они потихоньку поругивали своих старух и с завистью бранили ребятишек за то, что те много бегают.
До начала следующего столетия оставалось каких-либо тридцать лет, но ни один из троих не надеялся его дождаться, ибо они официально значились пенсионерами, в больших водах уже не плавали, а только ради собственного удовольствия болтались между третьей и четвертой мелями, распугивая камбалу. Ничего великого они вроде бы не совершили на своем веку — бороздили море, растили детей, воевали, но стоило бы кое-что не торопясь подсчитать: было на их веку две мировые войны, три революции, четыре по-настоящему голодных лета и зимы, каких-нибудь там несколько сот штормов, тут, в заливе, и в открытом море, семь председателей рыболовецкой артели, два корчмаря и пятнадцать буфетчиц в прежней корчме, которая давным-давно зовется кафе, и еще бесконечное множество теперь позабытых событий. Когда-то построили они хибары между большой дюной и лесом, время шло, хибары превратились в настоящие дома, незаметно образовались улицы, которые они, шутки ради, попросили назвать соответственно их именами, потому что честное имя — гордость мужчины, и должно жить вечно.
Было самое начало мая с торжественными праздниками, собраниями, на которых вручались почетные грамоты, со смолением бочек, сидением на теплом солнышке, а также с не менее торжественным открытием «банки». Все было, как обычно бывает весной: прилетели скворцы, куры копошились в прошлогодней листве, а у коровенок не было досыта корма. Они до того жалостно мычали в своих хлевах, что ни один порядочный мужчина, у которого в груди есть сердце, не мог с горя не пойти в «банку».
Что касается «банки», то это была не какая-нибудь кадка для соленых огурцов, или грибов, или дождевой воды. Нет, у этой банки не было ничего общего с тарой. Так называлась круглая стеклянная будка, а иначе — летнее кафе, которое выстроили рядом с прежней, «старорежимной» корчмой, летнее — потому что открыто было только летом. Кафе так и называлось — «Лето». И тут нужно сразу же сказать — сколь красиво, столь несообразно, как и многие другие названия этих самых кафе. Ну подумайте, разве можно сказать — посидим в «Лете»? Закусим в «Лете»? Потанцуем в «Лете»? Пойдем, поваляем дурака в «Лете»? Как-то уж чересчур легкомысленно, несерьезно. Лето есть лето, и не надо это понятие совмещать с сидением, закусыванием, валянием дурака и танцами, рыбаки — это вам не какие-нибудь шалопаи, которые носятся по берегу моря в белых брючках и черных очках с бабами под ручку. Летом нужно работать, ловить стоящую рыбу или хотя бы салаку, а не валяться на песочке. Теперь ясно, почему кафе стали называть «банкой», а не «летом»? Потому что оно такое же круглое, как банка, и никакие тут недоразумения невозможны, и возражать нечего. Разве что дурак этого не поймет, а умному долго объяснять не надо.
А этим трем стариканам все было ясно и понятно: лед сошел, скворцы прилетели, солнышко помаленьку становится ласковей, скоро наступит летняя страда — знай работай от зари до зари. Мужикам настало время надевать белые рубахи и праздничные костюмы, а бабам красить губы, доставать из шкафов модные платья и — в «банку». А там, в «банке», известное дело — разговоры о прошедшей зиме, о наступающем лете, о том, кто помер, кто родился, кто на ком женился (все доподлинно, без всяких там слухов и сплетен), кому жена досталась злыдня, у какого парня теща, бог знает отчего, стала шелковой, ну просто ангел с белыми крыльями; о том, что у прежней зазнобы мужик слишком уж закладывает за воротник, в конце концов нужно же и выяснить, у которой из мамаш самые удачные, самые умные дети. Да и потанцевать молодым девицам надо, чего сидеть и клевать носом, пусть щеки зардеют розами, заодно не мешает выяснить, какая из них ловчее танцует, а какой нечего надеяться выйти замуж, сколько бы ни красилась, ни завивалась, какое бы заграничное барахло на себя ни напяливала — всякие там нейлоны, дедроны, кашмилоны, перлоны, поролоны, шифоны, за которые их отцы платят бешеные деньги. Такая у отцов судьба — знай выкладывай красненькие, чтобы девица выглядела шикарно. Отсчитывай красненькие, чтобы соорудить ей свадьбу, а не дай бог, попадется зятек жмот, снова отсчитывай красненькие — внуку на коляску. Все это начинается в «банке» и в «банке» же завершается, а чтобы все шло, как надо, не следует торопиться, следует подождать, когда за стеклами «банки» зайдет солнце, когда старую добрую землю озарят звезды, ну и, конечно, искусственные спутники, — вот тогда все поселковые горести и радости будут видны, как на ладони, и тогда вдруг окажется, что тайн больше не существует, — мир станет непостижимо ясным.
Ко дню торжественного открытия летнего сезона окна «банки» были до того чисто вымыты, что и трезвый мог, не заметив, на них наскочить, на лампы надели новые розовые абажуры, на окна повесили новые занавеси с разноцветными кругами. Их было так много, что почти у каждого над головой висело по штуке. Из-за этого все немного походили на святых со старинных, от времени потемневших, церковных фресок. Официант в белом фартуке то и дело смотрелся в зеркало, потому что чуть ли не за три дня до этого ходил к парикмахеру. Вся «банка» выглядела великолепно и приглушенно гудела — женщины выкладывали все, что у них накопилось; девицы сидели и краснели от робости, но были и такие, что давно разучились краснеть и поэтому изрядно натерли себе щеки розовой крепированной бумагой; парни так и сыпали избитыми остротами, при этом деловито, будто затягивая ремень, разглядывали и пересуживали девиц; стариковские трубки чадили, вроде океанских пароходов, — тут на подмостки вышел с нетерпением ожидаемый оркестр. Разумеется, все сразу же умолкли.
Как обычно, первым уселся начальник добровольной колхозной пожарной команды Робис Ритынь — саксофон. Уселся и, как обычно, на приветствие присутствующих, обращенное к оркестрантам, не посчитал нужным ответить — как-никак он ведь был важной птицей. Разве может начальник всякого замечать, да еще всякому отвечать? В начальниковой голове должна быть тьма свежих мыслей, даже по воскресным дням он должен думать, должен решать важные вопросы. Все должно быть сработано в лучшем виде — быстро, эффектно, но так, чтобы в результате этой деятельности не лишиться места. Еще чего не хватало — всякого приветствовать, всякому улыбаться, чего доброго, подумают, он простой смертный и в начальники не годится. Робис только разок соизволил дунуть в саксофон — этак коротко и противно — и вся «банка» его увидела, услышала и поняла, как надо.
Вторым уселся Зигурд Скребле — аккордеон, прозванный просто Кривым, так как его фамилию ни один нормальный человек не в состоянии произнести, не сломав язык. У Кривого и теперешней его жены было одиннадцать душ детей, да еще двум прежним женам он платил алименты. В такой ситуации настоящий мужчина на все согласен: днем перетягивать матрацы, стеклить окна, чистить уборные, ночью работать кочегаром на рыбоконсервном заводе, по вечерам играть в «банке» на аккордеоне.
И как всегда опаздывая, почти вбежал, будто на минутку, будто мимоходом, господин Спекулянт и, подсев к барабану, благожелательно улыбнулся публике, У него было гордое имя Ричард и не менее гордая фамилия Аугстгодис. В ульманисовские времена из него вышел бы тип, вроде Гарозы из «Сына рыбака». Наверное, поэтому его презрительно называли господином Спекулянтом, ведь ни для кого не было секретом, что в барабан он колотил, чтоб не сочли тунеядцем, даже в будни он разгуливал по поселку в шляпе и галстуке, с роскошным портфелем. В этом портфеле всегда была свежая рыба, которую он продавал дачникам и прочим сухопутным обитателям поселка. Возможно, кому-то эта мысль покажется смешной, но если хорошенько подумать, то Ричард Аугстгодис сойдет за жертву весьма странных и даже трагических обстоятельств: к берегу ежедневно причаливали лодки, доверху полные рыбы, весь поселок пропах этой рыбой и морем, а в поселковом магазине продавалась одна лишь усохшая копченая салака да огромные банки с тихоокеанской сельдью. Как тут обойтись без господина Спекулянта? А еще он занимался куплей и продажей кошек, собак, телят, а если сумеешь с ним сговориться, то в его портфеле отыщутся импортные шмотки, которые не водятся даже в магазине под прилавком, но которые можно увидеть на каждом втором. Одним словом, Ричард Аугстгодис был настоящим господином Спекулянтом, и милиция, невесть почему, его не беспокоила. Пожалуй, все-таки потому, что у него имелась выправленная по всей форме справка из психиатрической лечебницы о том, что он слегка тронутый или просто сумасшедший. А что можно сделать с сумасшедшим?
А четвертый в оркестре был несуразный человек — маленький, гладко причесанный, с блестящими черными усиками. Он сел, держа гитару на коленях, а впереди себя поставил ноты и все время заглядывал в них с таким отчаянием, будто именно они были его спасением. В «банке» подобных чудес не видывали, тут никто еще никогда не играл по нотам. Это что-то новое, и несуразный человечек сразу же был прозван Неучем. Единодушно было решено, что он откуда-то приехал на электричке, тутошним музыкантам такое и в голову бы не пришло.
Наконец все уселись и поудобней умостились на своих местах. Начальник пожарной команды Робис Ритынь поднял кверху палец. Кривой выжидательно склонил голову набок, Спекулянт мечтательно глядел в потолок, Неуч вместе со своими усиками спрятался за ноты; но вот Ритынь, сурово всех оглядев, поднял второй палец, а третьим эффектно прищелкнул — и все разом начали — начали песню, в которой пелось о том, почему шумит Балтийское море, на берегах которого зеленеют ивы, и о том, что если кто-то у этого моря родился, то ему и помирать здесь. Эту песню Раймонда Паула все хорошо знали, и она никого не удивила, однако все стали вертеться, оглядываться вокруг, потому что певец отсутствовал, потому что нигде не было видно Кнабиса. Все было, как всегда, — была весна, школьники готовились к весенним каникулам, жители поселка уже знали, каких дачников они возьмут на лето в дом, в «банке» на каждом столике стояла вазочка с первыми цветами, которые далее пахли, но только Кнабиса нигде не было.
Оскар Звейниек, который жил на Рыбачьей улице, заметив в дверях красную физиономию Жаниса, поманил его пальцем.
Жанис был не из местных, он приехал из Риги, где в свое время (как он частенько рассказывал) был значительной персоной. На Центральном рынке в мясном павильоне он заправлял рубкой мяса по всей правой стороне, но однажды после работы зашел в «банку» и пропил все свои денежки, добытые халтурой, остался еще на денек и пропил золотые зубы, а так как на прежнее место он больше не вернулся, то женился на буфетчице Амалии Пипинь, которая в результате всей этой истории приобрела новую фамилию — Кнапиня. Амалия купила Жанису новые зубы, а он ей поклялся не забулдыжничать. Для поселковых баб их женитьба была темой нескончаемых пересудов. Еще бы — Жанис являл собой наглядный пример того, как умная баба даже из пропойцы способна сделать мужика хоть куда, а что касается любви — так от нее ум за разум заходит и уж не спасешься: это вроде того, как всадить быку меж ребер вилы — тащи их наружу — не тащи, все одно — бычку конец — знай котлеты готовь, фрикадельки, бифштексы и прочее.
Подойдя к столику, за которым сидели старики, Жанис с неподдельным отвращением взглянул на пивные бутылки. Оскар Звейниек спросил его без всяких обиняков, без всяких разглагольствований о погоде и рыбной ловле:
— Где Кнабис?
Жанис махнул рукой и сказал:
— С Кнабисом — пиши пропало, вряд ли мы его еще увидим. — Он еще раз махнул рукой, показав таким образом, как больно ему говорить о Кнабисе. Убедившись, что старики больше ни о чем ином не собираются его расспрашивать, Жанис отошел и стал в дверях, потому что работал в «банке» швейцаром и должен был присматривать, чтобы какой-нибудь пьянчуга, не дай бог, не высадил бы дверь. Высадит, что тогда?
Оскара Звейниека Жанисов ответ, разумеется, не удовлетворил, потому что, если один человек ясно и определенно о чем-то спрашивает другого, а этот другой темнит, то тут уж ничего хорошего не жди.
Екаб Кугениек, который жил на Корабельной улице, тоже не мог взять в толк — то ли загнулся Кнабис, то ли утоп, то ли женился…
И только Бенедикт Веинь, который жил на Ветряной улице, ничего по этому поводу не высказал, потому что свой рот он открывал лишь для еды и выпивки и болтовней себя не утруждал. И то сказать — зачем? Слова-то, как ветер, сорвались с языка да исчезли, проку от них никакого. Разве кто сумел доказать свою правоту словами? Может, кто рыбу сумел болтовней вернуть, когда она удрала из сети, или с помощью болтовни кто-то стал умнее? Нет, только дурь свою всем показал да неприятности нажил. Как убедить кошку, чтоб не шкодила? Умными речами? Нет, только горчицей под хвостом намазать. Ну, а рыба? Разве ее поймаешь трепотней? Нет, надо выйти в море и ловить. От болтовни до дела, от хотенья до уменья — все равно, что от берега до горизонта — целое море пролегает. Одни болваны такого понять не могут.
А так как Бенедикт Веинь ничего не сказал, то снова высказался Екаб Кугениек. У него, дескать, неспокойно на душе оттого, что нигде не видно Кнабиса, и тут же прибавил, что душа, конечно, не то слово, но другого, достойного Кнабиса слова, он подыскать не может, потому что Кнабис не какой-нибудь горлодер, который орет во всю глотку, кишки надрывает, у Кнабиса сердце есть. Стало быть, душа — она сама по себе, а бог и баптистский проповедник Теодор Маритис, к примеру, — сами по себе. Душа — это все хорошее в человеке. Люди-то не только едят, пьют и говорят, но также поют и танцуют. Это уже кое-что значит. Так вот, хорошее есть в каждом человеке, но научить человека отдавать хорошее другим — это уже искусство, это и есть душа. Все мы знаем, что Кнабис не какой-нибудь там святоша или ангел с розовыми щечками и небесно-голубыми глазками. Кое-какие грешки за ним водились, а у какого порядочного человека их нет? О том, что Кнабис — душа поселка, каждой собаке известно, не зря, когда он идет по поселку, ни одна не тявкнет. Эти твари кое-что смыслят в делах человеческих. Такой пес поглядит на человека и враз поймет, труслив он, как заяц, или хвастлив, как индюк, или жуликоват, вроде кота, или воображает о себе, вроде гусака, или добрый малый с сердцем и душой — каким был Кнабис. Такой псина поглядит на человека и поймет, что он не прохвост, на друзей своих не клевещет, не поступает в жизни нечестно. В общем, в таких делах собаки разбираются — доброго человека следует защищать и нельзя ему причинять зло.
Меж тем Оскар Звейниек, у которого все еще не было никакой ясности насчет Кнабиса, заглянул к буфетчице Румбулиете.
Румбулиете была ходячей поселковой газетой. Она знала решительно все, в особенности то, что касалось всяких страшных историй. Часами она могла рассказывать, как такого-то задавила машина, а в машине сидел брат третьей жены свекра дочери директора хозяйственного магазина, а вот такой-то наступил во время купания на разбитую бутылку, перевязал раненую ногу, снова пошел купаться и утонул, как на такого-то свалилась сосулька с крыши и пробила череп, он испугался и помер. Послушаешь ее пять минут и поймешь, что на свете ничего иного не происходит, как только убийства, изнасилования и отравления газом из-за несчастной любви. Все-то Румбулиете знала, все-то Румбулиете понимала, одного понять не могла — из-за чего повесился ее собственный муж. Каждому встречному и поперечному она твердила:
— Ну зачем ему понадобилось вешаться? Зачем, я вас спрашиваю? Что ему мешало жить? И ведь такой хороший был человек, работящий. Мыл полы в доме, готовил завтрак для всей семьи, обед и ужин. Не позволял купить мне ни пылесос, ни стиральную машину, потому что все делал сам, даже мои платья гладил так, как не сумела бы ни одна женщина. На что ему было жаловаться? Не пил, не курил. Ну зачем ему понадобилось вешаться? Никак не пойму!
Оскар Звейниек оказал ей то, что ему сообщил Жанис, — дескать, с Кнабисом дело дрянь.
У Румбулиете лицо до того вытянулось, что стало вдвое длиннее, а глаза переместились куда-то на середину лба, хотя она и сама кое-что звала насчет Кнабиса.
— Что-о-о? Неужели правда? Я в этом была почти уверена. Иду я вечером в магазин и встречаю Кнабиса. Вид у него, надо сказать, самый несчастный. Идет и на землю ни разу не глянет, все вверх, вверх… на ветки… Ну точно, мой бедняжка муженек, перед тем, как повеситься. Только на деревья, только на одни деревья и глядел, будто подыскивал ветку покрепче. Само собой, я не утерпела и без всяких спрашиваю Кнабиса:
«Уж не задумал ли ты повеситься, что все на ветки глядишь?» Думаете, что он мне ответил? Он ответил, что так оно, пожалуй, было бы лучше, потому что он запутался в своей жизни и не может выпутаться. А сам грустный такой, чуть не плачет. Ну точно — мой муженек перед тем, как повеситься. Ах, господи, господи! Зачем это ему понадобилось? Он ведь так красиво пел, будто в опере. Так уж и быть, вам скажу, но только между нами: во всем виновата буфетчица Амалия, у нее с Кнабисом был роман, а она взяла да вышла замуж за Жаниса. Страшно жить в этом мире, страшно! Человек так прекрасно дел, совсем, как в одной опере, изумительной опере, и зачем ему нужно было на эти самые ветки глядеть? Я ведь ему говорила: не глядите, не глядите, ничего из этого хорошего не выйдет! Да разве меня кто-нибудь слушает? — И Румбулиете принялась плакать. Достав пару носовых платков, долго сморкалась и утирала слезы. Она оплакивала Кнабиса, своего мужа и вообще всех погибших, С к ним в придачу еще и тех, кто наверняка плохо кончит, если не станет слушаться ее советов. Но обнаружив, что старики не плачут вместе с нею и никакого коллективного рыдания не получится, ушла. Ушла искать какое-нибудь чувствительное сердце, которому можно было бы сообщить весть о новом несчастье и с которым вместе можно было бы поплакать.
А вот Екаб Кугениек насчет оперы думал иначе, нежели Румбулиете. Ему эту оперу пришлось случайно посмотреть по телевизору. Сперва какая-то тощая особа сообщила о том, что сейчас будет показано выдающееся произведение оперного искусства, что телезрители увидят и услышат нечто изумительное и неповторимое, от чего у нее самой замирает сердце; она уверена, что телезрителя будут в восторге. А минуту спустя Кугениек увидел и услышал это изумительное и неповторимое произведение. На экране появились два толстых мужчины и дородная дама лет за пятьдесят и принялись истошно вопить о любви, которая их всех троих загубит, все они умрут от чахотки. Троица эта так безбожно верещала, что несчастный телевизор не выдержал и вышел из строя, да так основательно, что даже рижские мастера не могли его отремонтировать целых полгода. С тех пор Екаб строго-настрого запретил домочадцам смотреть телевизор, когда там показывают оперу, и своим друзьям посоветовал поступать так же, потому что, спору нет, Кнабис из «банки» лучше сотни опер.
В опере, конечно, старики мало чего смыслили, во дело не в этом. Их, сказать по правде, потрясло сообщение Румбулиете, хотя очень-то верить ей не стоило, однако зерно истины в ее словах частенько бывало, совсем уж напрасно она, пожалуй, не скажет. К примеру, с ее мужем — ведь он и в самом деле повесился, да и по части ужасных историй она была дока, вроде самого Вельзевула. Что ни говори, если бы Кнабис был жив, он, конечно же, находился сейчас в «банке» и пел, но его, увы, не было. Это могло означать только одно — с ним случилось несчастье.
И старики пришли к решению — какой бы смертью Кнабис ни помер, похороны ему следует устроить самые что ни на есть пышные, и на похоронах ни в коем случае не плакать, а, наоборот, петь песни, которые он особенно любил и пел в «банке», когда был в хорошем расположении духа. На похоронах следует сказать речь, и сказать именно то, что думаешь, ведь Кнабис был таким человеком, что на его похоронах грешно себе не позволить говорить правду. И хотя еще не было вполне ясно, когда и какой смертью умер Кнабис и умер ли он вообще, Оскар Звейниек уже думал о том, чтобы заранее составить надгробную речь. В произнесении таких речей у него был немалый опыт, ведь он похоронил не одного своего друга и говорил над их могилами речи. В похоронах нет ничего страшного — здесь собираются вместе оставшиеся в живых, чтобы добром помянуть покойного и еще раз поразмыслить над самой что ни на есть простой вещью на этой старой и доброй земле: ничто не вечно под луной.
Оскар прокашлялся и приступил, потому что хорошее надгробное слово надо прежде попробовать, а потом уж произносить над могилой. Хорошее надгробное слово должно звучать, как старинная песня, ему надлежит быть таким, чтобы прослезились старухи, а старики, припомнив всю свою жизнь, пришли к выводу, что и они не хуже других, вместе с усопшим сделали немало добрых дел и еще не одно сделают, а молодые, у которых все впереди, должны жить так, чтобы над их могилами произнесли хоть несколько добрых слов.
Всем, кто такую хорошую надгробную речь будет слушать, станет ясно — жизнь чертовски хороша, только бы сами люди сумели жить не по-свински.
И Оскар Звейниек представил Кнабиса лежащим в гробу, а всех жителей поселка стоящими у гроба с поникшей головой.
— Сегодня мы стоим над твоей могилой, а ты, мертвый, лежишь перед нами, и мы никогда больше не сможем поговорить с тобой. Мне так жалко, и всем нам так жалко, что звали мы тебя Кнабисом[24], а не твоим настоящим именем — Юркой Стаклитом. Твое настоящее имя не очень-то красиво, а твой нос, по правде сказать, был слишком длинным, чтобы его можно было назвать коротким и красивым, — наверное, потому ты и не обижался на Кнабиса, что ни говори, это было здорово придумано. Так вот, дружище, разве кто-нибудь в нашем поселке женился, если бы ты не пел на свадьбах? Хоть тебя и не просили, ты все же приходил и пел. Чего ты на своем веку особого совершил? Вроде бы — ничего, только пел, как бешеный магнитофон, куда там, почище магнитофона! Хочешь верь, хочешь нет, но нам было чертовски хорошо, когда ты пел ту самую песню про море, которое, как девушка в синем платье, а еще про то, как не может берег без песчаных дюн, а море без смелых и сильных мужчин. Мы, вроде бесноватых, пели вместе с тобой, и не потому что у нас иной раз в башке хмель бесновался, а потому, что песня больно хороша и ты был человек хороший. А теперь мы все вместе споем эту песню в память о тебе и не забудем тебя, пока живы!
И старики запели. За соседними столиками их услышали и стали подпевать, потому что это была по-настоящему хорошая песня. Оркестр им стал подыгрывать, и вся «банка», будто единая семья, пела про море, которое, как девушка, нарядившаяся в синее платье, про то, что берег не может без песчаных дюн, а бури — без сильных и храбрых мужчин. А когда пели, то и в самом деле думали, что древнее, уже чуть надоевшее море похоже на юную своенравную девушку, в нее влюбляются, но никогда не могут понять; что они и есть именно те настоящие мужчины, которые затем и родились, чтобы всегда любить море, так как без любви жить нельзя, можно только зарабатывать на жратву да мало-помалу готовиться к смерти.
А когда песня затихла и все чуть отдышались от такого прекрасного пения, стал прокашливаться Екаб Кугениек, потому что и он готовился сказать речь. Свое надгробное слово он представлял себе так:
— Ха! Я начну — с «ха»! Потому что это чертово словцо пристало ко мне, как чума, — смогу ли я без него обойтись в надгробной речи? Юрка Стаклит, в этот день, когда мы предаем тебя земле, позволь вспомнить другой день, когда ты всех нас, бывалых мужиков, избавил от изрядной неприятности. Давно это было, мы тогда впервые отправились в Атлантику за сельдью. Теперь каждый мальчишка, у которого и борода-то еще не растет, туда ходит. А мы в первый раз! Меня ребята брать с собой не хотели, говорили — старая кляча — ха! Вот опять сказал — ха! И все-таки я поехал. В те времена у рыбаков сапоги, рукавицы, не говоря уж о сетях, были куда как хороши! Руки мы поистерли в кровь, ноги у нас промокали больше, чем рыба промокает в море, а на уме одно — вернемся домой и за все мучения получим кучу денег — целый дом или «Волгу» в наличных — ха! Борода у меня тогда отросла чуть не до колен, не мылись мы добрых полгода — в море ведь только ненормальный станет мыться. Вот вернемся домой — такое пойдет веселье! Такие номера отколем — ха! Потому что те, на берегу, грустили без нас, и мы должны их потешить. Ну и решили мы нарядиться пиратами: повязали вокруг головы платки, к носам приладили кольца, а в руки и в зубы — ножи для разделки сельди. На конкурсе маскарадных костюмов, наверное, первое бы место заняли. Меж тем встречавшие нас решили, что без речей в таком случае не обойтись, и с этой целью соорудили специально для нас трибуну — стало быть, как сошел с палубы, валяй на трибуну, в море-то ведь много не наговоришься, а на берегу болтай сколько влезет, А когда большое начальство увидело нас с этакими бородищами, с ножами да кольцами в ушах и носах — все, как есть все, онемели. Ясное дело, разве можно таких шутов гороховых на трибуну выпускать? И ты нас тогда спас. Тебе, наверное, следовало петь в нашу честь гимн, прославлять, вроде мы герои какие, но ты хитрец, чертов сын, ты не стоял раззявой, как другие, ты не растерялся и запел: «Был ты, парень, удалым молодым!» Веришь, Кнабис, меня слезой прошибло. Моя старуха на меня глядит, ребята мои глядят, а мне вот ничуточки не стыдно реветь, словно я младенец грудной. Как-никак всю Атлантику избороздил, от молодых не отставал ни в одном деле, потому могу сказать — ха! Дорогие мои, давайте споем в честь нашего друга, которого мы сейчас предаем земле, песню, спасшую нас от позора. По правде говоря, Кнабис, тебе следовало стоять над моей могилой, но так уж получилось, что не я, а ты скоро будешь в земле, мне же придется еще какое-то времечко потопать. Стало быть, предлагаю спеть «Был ты, парень, удалым, молодым!».
Оскар Звейниек похвалил Екаба Кугениека за такую прекрасную речь и прибавил, коль скоро она ему так удалась, то пусть и на похоронах Кнабиса ее скажет. После чего старики торжественно запели песню Кнабиса. За соседними столиками, услышав ее, подхватили, потому что и в самом деле это была славная песня. И оркестр стал подыгрывать поющим, вся «банка», как единая семья, пела о том, что старики когда-то были молодыми и удалыми парнями, были горазды на всякие проделки, одним словом, озорники, вроде молодых бычков на весеннем солнышке; но старики — это вам не трухлявые мосты или ржавые пароходы, выброшенные на берег, — они не сдаются и еще на кое-что годны, и эта удалая песня была как бы подтверждением. А когда она окончилась и все уже успели немного отдышаться от такого прекрасного пения, к Екабу Кугениеку подошел его внук Оскар.
Имя мальчишке дано было не случайно. Внука Екаба Кугениека звали Екабом — таков уж был уговор между друзьями, потому что у настоящего мужчины должна быть вечной не только фамилия, но и имя. Это обстоятельство являлось также причиной, из-за которой Бенедикт Веинь частенько бывал грустен, ведь только у него не было ни сына, ни внука, одни лишь дочери да внучки, и друзья никак не могли уговорить своих детей, чтоб назвали кого-нибудь из внуков Бенедиктом, а все оттого, что каждое приличное имя записано в календаре, в котором установлена дата именин Екаба, Оскара, Андриса и прочих, но Бенедикта в календаре не было. Не было — и все тут. Насчет этого дела Бенедикт Веинь написал жалобу в редакцию календаря, единственную за свою жизнь, и получил ответ, что-де «Бенедикт» устарело, что этим именем никто больше не хочет называть своих детей, к тому же оно невольно наталкивает на мысль о боге, о католиках, а также о ликере под названием «Бенедиктин». Какой современный человек даст такое имя своему сыну? Следовательно, Бенедикту нужно было смириться — хочешь не хочешь, оставаться ему последним Бенедиктом, потому что его дочери рожают только девочек, и он с завистью смотрел на внука Екаба Кугениека Оскара, который уже пытался разговаривать с дедом, как полагается настоящему мужчине:
— Дед, чего это вы расшумелись? Нам с Анитой потанцевать охота, а вы все поете да поете. Оркестр играет только для вас.
Бенедикт Веинь хотел было открыть рот и пообещать парню больше не петь, дескать, танцуйте себе на здоровье, к тому же Анита была его внучкой, глядишь, поженятся с Оскаром, правнука назовут Бенедиктом, может, доведется такое… Но Екаб Кугениек стукнул кулаком по столу, зазвенели рюмки:
— Ха! Я снова говорю — ха! Попридержи язык, молокосос! Попридержи! Не то не погляжу, что ты мой внук! Человек помер, а у них одни танцульки на уме!
А так как он почти кричал, то его услышала вся «банка», и все стали спрашивать:
— Кто? Кто помер?!
И Екаб Кугениек ответил.
— Кнабис помер.
В «банке» наступила тишина, перестали звенеть вилки и рюмки, перестали скрипеть стулья. Слышно было, как ветер колышет те самые новые занавеси с цветными кругами, которых так много, что почти у каждого из сидевших за столиками над головой висел круг, отчего все походили на святых, вроде тех, что на церковных фресках.
И совсем тихо, почти беззвучно за буфетной стойкой упала в обморок буфетчица Амалия Кнапиня.
В этой тишине вдруг раздался голос Кугениека. Екаб сказал, что хотя сегодня все пришли сюда повеселиться, однако не следовало бы позволять никаких шуток и озорства, а следовало бы помянуть добрым словом Кнабиса. А еще он сказал, что в связи с этим печальным событием нужно бы произнести речь и спеть те песни, которые Кнабис любил, но если кому-то сказать нечего, пусть просто помолчит и помянет покойного по своей совести и разумению.
И все находившиеся в «банке» поняли — произошло нечто страшное, непоправимое, нечто такое, чего не исправишь, как лодочный мотор, не заштопаешь, как чулок, не залечишь, как рану, которую стоит только тряпкой перевязать.
Саксофонист Робис Ритынь, он же начальник добровольной пожарной команды, собрался было встать и сказать несколько слов, но, взглянув на трех стариков, вдруг понял, что ничего искреннего сказать не сможет, потому что Кнабис всегда насмехался над ним, называл в глаза начальничком, который влезает другим начальничкам в неприличное место и уж вылезти оттуда не может оттого, что собственный его начальничек в свою очередь влезает в те же места другим начальничкам — и так до бесконечности, а в результате — одна великая вонь получается. Кнабис частенько говаривал, что Робису наплевать на пожары, он лишь опасается за свою должность. Переиначив слова песни «С робкой мольбою тихою ночью песня звучит», Кнабис пел в его присутствии «С робкой мольбою ползу на карачках средь бела дня», а дальше и вовсе шли такие непристойности, что язык не повернется произнести, и Робис Ритынь, не сказав ни слова, честно промолчал. По правде говоря, он даже обрадовался, что Кнабиса нет на открытии «банки», но, узнав, что Кнабис помер, огорчился, да, огорчился, потому что Кнабис и впрямь был добрый малый, не трус, говорил что думал, никогда не унывал. Это были как раз те качества, которых недоставало самому Робису Ритыню. Ему сделалось бесконечно грустно оттого, что он никогда таким не станет.
И аккордеонист Шкибелис тоже думал сказать пару слов, ведь Кнабиса он считал своим лучшим другом. У обоих прошлой весной было так паршиво с деньгами, что им пришлось чистить в интеллигентных домах уборные. За пару часов можно управиться с ямой и получить вполне приличные и чистые денежки. После работы они отправились к Шкибелису домой помыться и поделить заработок. Конечно, жена тут же налетела как дракон — отдавай деньга, детям, одежда нужна, детям есть нужно, мне самой пальто, снова все уйдет на алименты, и так далее и тому подобное, Кнабис, услышав это, объявил, что никогда не женится, и отдал свои деньги его жене. Само собой разумеется, жена сделалась доброй, как солнышко, еще бы, муж так много заработал, принялась жарить мясо, даже в магазин за вином сбегала. Шкибелис был тогда просто не в своей тарелке, потому что не знал, как возвратить Кнабису его долю, но Кнабис его утешил, он-де не крохобор и чувствует себя вполне хорошо, только когда люди вокруг улыбаются, это для него — самое большое вознаграждение, именно этого ни за какие деньги нельзя купить. Кнабис в тот вечер пел песню о старом капитане Крише, который никогда не унывал, хотя ему бывало скверно, жил легко, весело и пел о том, что «злые ветры, ураганы — нипочем, если любишь ты девчонку горячо, унывать не стоит, право, никогда, даже смерть, сказать по чести, — ерунда, злые ветры, ураганы — не беда». Всем детям Шкибелиса — как старшим, так и младшим — песня пришлась по душе, они ее распевали как шальные, все вместе, даже злюка жена.
Шкибелис уже хотел встать и сказать несколько слов, даже рассказать об этом удивительном вечере, когда они вместе с Кнабисом пели, и предложить всем вместе спеть песню о злых ветрах, которые нипочем, если не принимать близко к сердцу всякие невзгоды и неудачи, но ему вдруг стало неловко, оттого что волей-неволей придется упомянуть и про уборные, которые они чистили. Работа эта, прямо надо сказать, не из приятных, а если еще все узнают, что он и такими делами занимается, то всякий станет приглашать к себе за тем же. Попробуй откажись, если тебя вежливо просят, он вообще не умел отказываться, не зря же у него было одиннадцать душ детей от теперешней жены да еще двум прежним алименты платил. И чтобы не нажить себе новых неприятностей, Шкибелис промолчал.
Барабанщик — господин Спекулянт — тоже промолчал, потому что доброго слова о Кнабисе сказать не мог — тот всегда занимал у него деньга и никогда не отдавал, даже когда господин Спекулянт вежливо просил его вернуть долг. Кнабис при этом делал изумленное лицо: как это господину Спекулянту удается быть таким до приторности вежливым, ну чистый сироп, и, обращаясь к присутствующим, объяснял, что мамочка господина Спекулянта, когда была беременна, видно, ела много сладостей, особенно сиропа, а ему Кнабису, от таких сладких речей хочется закусить соленым огурчиком, да жаль, не может, в желудке у него слишком много кислоты, потому нельзя есть соленые огурчики. А вообще-то — пусть господин Спекулянт не расстраивается из-за своих денег, ведь они заработаны нечестно, и лишиться их нечестным путем — только справедливо. Вспомнив все это, господин Спекулянт только и сделал, что состроил скорбную физиономию — пусть видят, как переживает он смерть Кнабиса.
А несуразный человечек с черными усиками и гитарой — ну тот самый, которого завсегдатаи «банки» окрестили Неучем, — никак не мог понять, что же здесь происходит. Он с удивлением поглядывал на печальные лица присутствующих и расчесывал усики, ибо — хоть и глуп человек, однако должен быть красивым.
Жанис Кнапинь стоял в дверях «банки» как истукан. Кто-то дергал дверь и просил, чтобы его впустили, но Жанис будто застыл, и все на свете было ему безразлично. Одно только понимал Жанис, что никогда больше не услышит, как поет Кнабис его любимую песню: «Скоро в собственном садочке розочки раскроются, розочки раскроются, сердце успокоится». Чуть не с детства был Жанис мясником и ведь прилично зарабатывал, но работа мясника ему не нравилась, потому что крестьяне всякий раз упрашивали получше разрубить единственного поросеночка или теленочка и запихивали ему в карман шуршащие бумажки. Он-то делал свое дело не за страх, а за совесть, но те же крестьяне, которые старались незаметно всучить Жанису деньги, за глаза называли его обдиралой. Он чувствовал себя прескверно, то есть так, как и вообще должен чувствовать себя человек, стремящийся делать ближнему добро, а этот ближний смотрит на него, как на последнего негодяя. Так Жанис и прожил едва ли не всю жизнь, макушка у него уже была лысая, когда вдруг все перевернулось из-за одной-единственной песни, спетой Кнабисом в «банке» «Нам с тобой идти по жизни вместе», — и счастливый Жанис зашагал по жизни вместе с Амалией. А потом Кнабис спел «Я люблю тебя, жизнь!» — и Жанис, стоя в дверях «банки», вместе со всеми пел, как он любит жизнь, как радуется, глядя на счастливые лица завсегдатаев «банки». Кнабис пел «Скоро в собственном саду розочки раскроются, розочки раскроются, сердце успокоится» — и Жанис помогал Амалии вскапывать садик, в котором, кроме розочек, произрастали морковь, огурцы, картофель, десять курочек, овца и даже корова. Вскапывал и все не мог взять в толк, как это он когда-то рубил на куски таких симпатичных животных. Но счастье — штука хрупкая, это он понял, когда вчера встретил Кнабиса и тот ему сообщил, что больше не поет в «банке». Весть о смерти Кнабиса окончательно убедила его в невозможности земного счастья.
Жанис глубоко и скорбно вздохнул, но тут до него дошло, что в дверь стучат, он ее открыл.
В дверях стоял живой Кнабис, живой и здоровехонький. Он обаятельно улыбался, и Жанис никак не мог принять его за выходца с того света, потому что ни одно привидение не умеет так славно улыбаться, как Кнабис.
На Кнабисе была новая рубаха с попугаями всех цветов радуги, с черным кружевным жабо, а волосы длинные, как у хиппи, и благоухал он, как цветочная клумба Амалии, потому что вылил на себя изрядное количество одеколона.
А меж тем из-за столика поднялся длинный лохматый человек с плаксивым выражением лица и произнес такие слова:
— Бога нет, и Кнабиса тоже нет. А мир мало-помалу движется к гибели, и мы не в силах этому воспрепятствовать.
Этот длинный, словно его нарочно тянули вверх, мужик со скорбным, слезливым лицом был баптистский проповедник Теодор Маритис. Последнее время он то отрицал бога, то снова его признавал. Признание и отрицание попеременно сменялись, и не было этому конца. В период признания он старался внушить (преимущественно молодым девицам), что бог существует, но почему-то его слушали одни дряхлые старушенции, с которыми он ничего иного сотворить не мог, как только собрать с них пожертвования на восстановление божьего храма, чтобы самому спокойненько дожидаться судного дня. Собрав деньги на божий храм, Теодор Маритис подолгу засиживался в «банке», пока не уяснял себе, что бога нет и рая нет, а главное — нет ада, и все то, на что следует возлагать надежды, сосредоточено именно в этом греховном мире.
Вдруг все завсегдатаи «банки» заметили в дверях Кнабиса и в один голос воскликнули:
— Кнабис! Живой!
А Теодор Маритис, увидев Кнабиса, произнес:
— Кнабис есть, а бога нет! (У него как раз начался период отрицания.) Стало быть, Кнабис — больше, чем бог, ибо бог то есть, то его опять нет, а Кнабис, он всегда есть. Значит, Кнабис наш бог, потому что он приносит нам радость. И храм у него есть — наша «банка».
Оскар Звейниек не стал воздавать Кнабису хвалу, а прямо, без обиняков, его спросил:
— Где же тебя нелегкая носила, чертушка? Мы тебя, можно сказать, земле предали!
Кнабис попросил у стариков прощения и стал рассказывать, что заделался настоящим артистом, потому что поет в столичном ресторане, сегодня у него свободный вечер выдался, вот и решил навестить старых приятелей.
А Екаб Кугениек спросил — для чего ему все это?
Кнабис ответил, что мир велик и что ему хочется попытать счастья в столице, да и лет ему немало, уже сорок, следовало бы о пенсии подумать. А здесь — какие здесь деньги? Прямо надо сказать, маловато платят, значит, если он будет продолжать работать в «банке», то пенсию получит маленькую.
Екаб Кугениек даже прикрикнул на него:
— Ну и чепуху же ты городишь, чертушка этакий!
И Кнабис согласился с ним, что и в самом деле несет чепуху, что всему причиной дела сердечные, его зазноба рассвирепела и не желает с ним иметь никаких дел.
Старики посоветовали ему не принимать неприятности близко к сердцу, а лучше что-нибудь спеть.
Насчет пения Кнабиса и упрашивать было не надо.
Он взял аккордеон и запел песню на музыку Иманта Калныня: «Ты такая хорошая, ты такая плохая, ты — моя жизнь!»
А буфетчица Амалия, придя в себя после обморока, ничего не могла понять. Она увидела Кнабиса живого и веселого. Он стоял впереди оркестра и пел. Пел, конечно, для нее, ведь это она и есть та самая хорошая и та самая плохая, та, которая — жизнь Кнабиса, солнце Кнабиса, его радость и слезы. Кнабис был в такой божественно прекрасной рубахе с попугаями всех цветов радуги, с черным кружевным жабо, что Амалии волей-неволей припомнились ночи, которые Кнабис с ней проводил. Он безумно ее любил, но почему-то упорно отказывался на ней жениться. И тут пришлось ей вспомнить и то, что за Жаниса-то она вышла из мести. Сделала жалкого пьянчугу настоящим мужчиной, чтобы насолить Кнабису, доказать, что и из него мог бы выйти порядочный человек, а еще ей пришлось вспомнить, как наотрез отказала Кнабису, изображая честную и добродетельную жену. Амалия поняла, как опрометчиво она поступила.
И сказала мужу:
— Какой ты муж? Твоя родная жена упала в обморок, а тебе хоть бы хны.
А Жанис спросил, неужто на самом деле такое случилось? Он просто не заметил.
Амалия так и зашипела на своего супруга: бесчувственный-де, неотесанный чурбан, словом — мясник, а сама, не отрывая глаз, глядела на Кнабиса и чувствовала, что любит его, хоть убей.
А Жанис тоже ведь не слепой, видел, что его супружница, будто завороженная, глядит на Кнабиса, и понял — ничего хорошего теперь не жди. И он сделал отчаянный шаг, чтобы спасти счастье всей своей жизни, — вытащил изо рта вставные зубы и положил на буфетную стойку. Кнабис меж тем пел, как шальной, и вся «банка» пела вместе с ним, как единая семья, в лоно которой вернулся блудный сын. Казалось, песне не будет конца. Кнабис повторял ее снова и снова. Хорошая песня нескончаема, как жизнь, ее, пожалуй, можно петь всю ночь, весь следующий день, весь год, до самого смертного часа, о котором-то и думать страшно, потому надо петь, петь и петь.
Амалия не обратила внимания на искусственные зубы Жаниса, лежавшие на буфетной стойке, хотя сама их подарила к свадьбе, она смотрела на Кнабиса.
Саксофонист Робис Ритынь дул в свой саксофон как ненормальный, потому что ведь он был не просто начальником добровольной пожарной команды, но и хорошим человеком, потому что музыка облагораживает человека, делает его лучше, с музыкой жить-то легче. А что, если бы он не играл по вечерам на саксофоне?
У аккордеониста Шкибелиса это был еще один, второй, счастливейший день в его жизни. Когда он состарится, обязательно будет рассказывать внукам, как о чуде, историю с Кнабисом, которого все считали умершим, а он оказался живым.
Господин Спекулянт совсем сник, сидел как в воду опущенный, он никогда не понимал, почему этих сумасбродов и чудаков любят больше, нежели рассудительных, практичных людей.
А чудило с черными усиками настолько был удивлен всем происходящим, что перестал бренчать на гитаре. Кнабис все пел, как одержимый, «Слышишь, это музыканты играют о моей жизни!» — и забавный человечек с черными усиками почувствовал, что совсем еще молод, что вся жизнь впереди, и не красота в ней главное. Главное, чтобы тебя любили и уважали, чтобы ты, как Кнабис, был нужен людям.
Жанис все-таки заметил, что Амалии не до него, не до его зубов, которые лежат на буфетной стойке, и потому спросил:
— Муж я тебе или не муж, Амалия?
Амалия, не глядя на него, ответила:
— Если ты в этом сомневаешься, значит, не муж.
И Жанис открыл дверь, но не для того, чтобы кого-то впустить, чтобы самому уйти из «банки», от Амалии, если не навсегда, то по крайней мере на некоторое время.
У входа в «банку» стояли три собаки и виновато махали хвостами. Они принадлежали Оскару, Екабу и Бенедикту. Собак послали за стариками вслед жены, чтобы, возвращаясь домой, мужья не сбились с пути, чтобы легче было найти свою улицу.
Выходя, Жанис впустил собак в «банку».
Старики, увидев их, поняли, что приспело время расходиться по домам, к женам, — собаки, они порой умнее иного человека, их надо слушаться.
Перед уходом старики вспомнили еще одну печальную историю, когда они, перессорившись со своими женами, решили удрать в Швецию: и алименты платить не придется, и бабы, оставшись одни, без мужей, всласть наплачутся и наругаются. Это случилось еще до того, как основали артель, в зимнюю пору. Мужики запрягли лошадь в сани, захватили компас и три ящика водки, чтобы не замерзнуть в дороге. Ну и, дело известное, согрелись, чуток вздремнули, а когда проснулись, увидели вокруг каких-то людей. Оскар Звейниек, как самый умный, говорит по-английски:
— Хау-дую-ду!
— Ага, притащились! — на чистом латышском языке ответила ему его жена. Оказывается, лошади знают дорогу домой.
Старики встали из-за своего столика и вышли из «банки». Настроение у них было скверное, им казалось, что здесь оставили они нечто дорогое, да и вообще — бог его знает, доведется ли им еще посидеть втроем за одним столом.
А старая добрая земля была так приветлива, так бережно несла их на себе, как море несет лодку при восьмибалльном шторме, и так ловко раскачивалась, что старики даже и не замечали этого.
Старая добрая земля благоухала, как девчонка-сумасбродка, и казалось — все вокруг охвачено любовным томлением. Птички сидели на ветках по двое и так славно, так трогательно щебетали, что хотелось плакать. Коты гонялись за кошками, кошки за котами, такая подымалась кутерьма, такой ералаш, хоть уши затыкай. В кустах было полно влюбленных, парни тискали девок и так горячо их любили, что от этой любви непременно должны были родиться дети.
А старики шли себе и шли, разговаривая с собаками, рассказывая им всяческие были и небылицы о весне, даже песни пели и понемногу приближались к дому, к улицам, которые были названы их именами.
Старая добрая земля, не только неистовая в любви, но когда это требовалось — и благоразумная и рассудительная, — сказала морю такие слова:
— Ты уж, пожалуйста, завтра не бесись, веди себя смирно. Старики веселились сегодня, а завтра им будет трудновато.
И море так ответило:
— Не беспокойся, сестра! Ведь это не впервой!
И стало дожидаться стариков с их лодками.
Перевод с латышского Л. Осиповой
Примечания
1
Дила узи — брат мой.
(обратно)2
Здравствуй, кацо, человек божий…
(обратно)3
Букв.: круглый квартал.
(обратно)4
Шаракан — средневековая армянская духовная песня.
(обратно)5
Джут — бескормица и падеж скота.
(обратно)6
Стихи С. Красовицкого.
(обратно)7
Важенка — самка оленя.
(обратно)8
Курук — аркан.
(обратно)9
Самырсын — кедровник.
(обратно)10
Букв.: Белухе.
(обратно)11
Цалди — топор особой формы.
(обратно)12
Тариел, Фридон и Автандил — витязи, герои поэмы Ш. Руставели.
(обратно)13
Батоно — вежливое обращение.
(обратно)14
Чури — огромный, зарытый в землю кувшин для хранения вина.
(обратно)15
Цоликаури — сорт вина.
(обратно)16
Усто — столяр.
(обратно)17
Кибла — направление к Мекке, священному городу мусульман, куда обращаются лицом при молении.
(обратно)18
Скакнуть в гречку — изменить жене.
(обратно)19
Чал — прохладительный напиток, приготовленный из верблюжьего молока.
(обратно)20
Перман — указ.
(обратно)21
Ширап — вино.
(обратно)22
Кейигим — мой джейранчик, ласковое обращение к любимой женщине, младшей по возрасту.
(обратно)23
Мариамоба — день богородицы.
(обратно)24
Кнабис — нос.
(обратно)



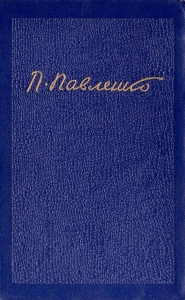




Комментарии к книге «Рассказы советских писателей», Ахмедхан Абу-Бакар
Всего 0 комментариев