Федор Гладков ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ
КНИГА БОЛЬШОЙ ПРАВДЫ И БОЛЬШОЙ ДУШИ
Константин Федин — сам превосходный стилист и тонкий взыскательный ценитель художественной литературы — назвал «Повесть о детстве» великолепной книгой. Написанная уже в последний период долгого творческого пути Федора Васильевича Гладкова, «Повесть о детстве», сразу же после своего появления в 1949 году, заняла место в ряду лучших произведений советской литературы В ней закономерно увидели продолжение славной традиции классической русской и советской литератур. Речь идет о прекрасном и труднейшем жанре художественной литературы — произведениях о детстве. О них можно сказать, перефразируя слова Горького, что писать о своем детстве надо так же хорошо как и о взрослых героях, только еще лучше!
А начало этой традиции следует отнести к пятидесятым годам прошлого века. Тогда почти одновременно выходят в свет «Детство» (а затем «Отрочество» и «Юность») Льва Толстого, «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука» С. Т. Аксакова. Они стали событиями тогдашней литературной жизни. Примечательна такая деталь — для Льва Толстого это был литературный дебют, ему было тогда 24 года, в то время как Аксакову уже перевалило за 60. Уже при своем рождении в русской литературе этот жанр как бы подчеркнул, что ему «все возрасты покорны».
Первые повести Льва Толстого позволили Н. Чернышевскому сделать проницательный вывод «Две черты — глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства всегда останутся существенными чертами его таланта». А Герцен по поводу произведений Аксакова заметил, что они помогают «узнать наше неизвестное прошедшее».
Традиция этого жанра была продолжена затем «Пошехонской стариной» М. Е. Салтыкова-Щедрина, позднее — «Детством Темы» Н. Гарина-Михайловского, «Детством Никиты» А. Толстого. В 1913 году появляется «Детство» М. Горькогопервая часть его автобиографической трилогии. Это было принципиально новым явлением в традиции литературы о детстве. До сих пор в них повествовалось о благополучном детстве, детстве счастливом, где господствуют любовь и забота… У Горького все начиналось со страшной картины: на полу полутемной тесной комнаты лежит мертвый отец. Рядом — мать. Внезапно у матери начинаются роды. Тут же — на полу… А затем приезд в Нижний, в семью дегда Каширина… И тогда началась для маленького Алеши Пешкова обильная «жестокостью темная жизнь» «неумного племени». Теперь в центре произведения не радости детства, не счастливое открытие светлого мира, а наоборот ужасы «свинцовых мерзостей», окружавшие ребенка из городских низов…
Но не только кошмар растоптанного социальной несправедливостью детства изображал писатель. Горький одновременно раскрыл и другое; как сквозь пласт насилия и невежества, нищеты и издевательств над человеком «все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».
Этот горьковский принцип изображения жизни народа во всей беспощадной правдивости и в то же время с твердой верой в творческую мощь народа и его стремление к свободе станет одним из краеугольных камней новой советской литературы, станет ее традицией. Она, эта традиция, была продолжена и развита в произведениях К. Паустовского, В. Катаева, В. Смирнова и других писателей, но особенно — у Ф. Гладкова.
О творческом претворении горьковской традиции в автобиографических повестях Ф. Гладкова написано немало специальных работ, и читатель легко может с ними познакомиться. Подчеркнем, однако, ч го это было не ученическое, а творческое, т. е. художественно-самостоятельное развитие писателем того, что было открыто Горьким. В «Повести о детстве» совершенно новый, неисследованный пласт народной жизни — детство деревенского мальчика из бедной семьи в последние годы прошлого века. И это не город, как у Горького, а далекая деревня в глубине тогдашней Саратовской губернии. Напомним читателю некоторые факты из творческой биографии художника.
Федор Васильевич Гладков, — один из зачинателей советской литературы, автор многих и многих книг, сыгравших видную роль в духовной жизни нашего общества.
Писатель родился в 1883 году в Саратовской губернии в селе Чернавка (ныне оно входит в Пензенскую область). В старых, прошлого века, указателях стояло: с. Чернавка. Дворов — 67, душ — 252. Мы потому напоминаем эти детали, что они имеют самое непосредственное отношение к «Повести о детстве». Ведь в ней и описана та старая Чернавка, какой она была девяносто лет назад. Маленький Федя из этой книги — Федя Гладков, родившийся в бедной старообрядческой семье. Дед Фома, бабушка Анна, отец Василий, мать Настя — это не только персонажи «Повести о детстве», но и реальные люди — семья будущего писателя. И если читатели этой книги будут любознательны, то они в вышедших в последние годы книгах («Воспоминания о Ф. Гладкове» и исследование Б. Брайниной «Талант и труд») найдут фотографии родных писателя и дома, в котором он родился. Они увидят и деда Фому, точно такого же, как его описал Гладков: маленького, сухонького, с большой белой бородой, с острыми и деспотичными чертами лица… И бабушку Анну, и отца Василия… Но особенно задержится читатель на портрете. Анастасии Михайловны Гладковой — матери писателя. Простое лицо русской крестьянки, не то чтоб писаной красавицы, но чем-то неизъяснимо приятное, открытое, дышащее большой душевной силой. Эта сила особенно видна в быстром и живом взгляде: она словно бы всматривается в жизнь с надеждой и с каким-то доброжелательным расположением к людям… И еще запомнятся ее руки — большие, трудовые, много переделавшие на своем веку, кисти их крепко, нервно сжали друг друга — видимо, не часто приходилось ей сидеть перед фотографом, (снимок относится к концу 80-х годов, едва ли не первый в ее жизни). И, странное дело, крепкие руки ее тоже производят какое-то доброе впечатление. Наверно, еще и потому, что мы ведь знаем, — перед нами Настя из книги, «похожая на девушку, попавшую в неволю», один из самых поэтичных и сильных образов этого произведения и всей автобиографической трилогии.
Надо сказать, что Гладков принадлежит к такому типу писателей, которые почти всегда пишут с огромным увлечением и полной отдачей о том, что видели, лично сами пережили и перечувствовали. Трудное детство в с. Чернавке и стало основой «Повести о детстве». Позднее родителям Феди пришлось из-за невыносимой бедности бежать из села на заработки на берега Каспия в рыбачью ватагу, потом в город…
Двенадцатилетним мальчиком он вместе с родителями оказался в Екатеринодаре. Писатель в своей биографии вспомнит об этом периоде своей жизни: «Тоска по деревне, по детской сельской свободе, по родным взгорьям, родничкам и солнцу, мальчишечья неволя в людях, муки за мать, которую истязает отец, постоянное ощущение, что я обречен жить безрадостно, без всякой надежды на лучшее будущее, что в жизни только одно страданье, рабство, жестокость, приводили меня в отчаяние, и я чаще и чаще думал умепеть и пи повеситься в сарайчике, или утопиться в Кубани Я начал выражать свои переживания на бумаге Рассказывал о моем житье в церевне о рыбных ватагах о радости возвращения домой Потом написан целую толстую тетрадь — «Дневник мальчика» — и когда писал, испытывай неизведанное возбуждение Часто вставал ночью, зажигал лампешку и писал, к неудовольствию отца Но, несмотря на свою постоянную озлобленность, он относился к этим моим занятиям благосклонно — очевидно, ему лестно было, что сынишка грамотей».
Еще вон когда, можно сказать, совсем мальчишкой, Гладков попытался описать собственное детство.
В том же Екатеринодаре он поступил в шестиклассное юродское училище и, закончив его, стал работать сельским учителем В это же время он приобщился к революционной работе и одновременно — к читературе Первые его рассказы, написанные под несомненным воздействием произведений М. Горького, появляются в начале новою, двадцатою, века. Но широкую литературную известность, в том числе и за пределами нашей страны, он приобрел, опубликовав в 1925 году свой роман «Цемент».
В 1918–1921 годах Гладков жил в Новороссийске, где и развертывается действие романа Он сам активно работал в большевистском подполье, а после освобождения города Красной армией со всей энертией включился в возрождение хозяйства, прежде всею знаменитою цементною завода. Так что «Цемент»- в известной степени часть биографии писателя.
Роман сразу же оказался в центре внимания и читателей, и критики тех лет. Горький писал автору: «На мой взгляд, это — очень значительная, очень хорошая книга. В ней впервые за время ревочюции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности — труд. До Вас этой темы никто еще не коснулся с такою силой. И так умно».
В этих словах как бы сконденсировано принципиальное значение всемирно известною романа Гладкова Горький писал также Гладкову, что его книга написана с позиций особого романтизма — романтизма верующих. И пояснял, что речь идет о «романтизме людей, которые умеют стать выше действительности, смеют смотреть на нее, как на сырой материал, и создавать из плохого данного хорошее желаемое» Горького привлекла эта особенность романа — своеобразная патетическая поэма в прозе.
Но Горький тогда же, в первом и последующих письмах, указывал и на те художественные просчегьг, которые, по его мнению, не позволили сделать книгу еще лучше Так, язык романа, считал Горький, «слишком форсистый, недостаточно скромный и серьезный» «Местами Вы пишете с красивостью росчерка военного писаря, — упрекал он. — И почти везде — неэкономно, а порой неясно». Советовал Горький автору избавиться и от многословия, находя, что в романе есть немало лишних страниц.
Мы вспоминаем об этой дружеской критике сейчао потому, что эпизод этот имеет отношение и к «Повести о детстве». В последующих изданиях «Цемента» Ф Гладков вносил много улучшений, сильно поработал над языком, а когда приступил к созданию «Повести о детстве», эти уроки были им в значительной степени учтены. Это и позволило К. Федину сказать, что в «Повести о детстве» сочетаются «полнота реализма с освобожденным, очень прояснившимся языком».
После «Цемента» Гладков много ищет, экспериментирует в своем творчестве, идет сложным и трудным путем. Им созданы в последующие годы пьесы: «Бурелом», «Ватага», сатирическая «Маленькая трилогия» («Непорочный черт», «Вдохновенный гусь», «Головоногий человек»), ряд других произведений. В конце 20-х годов он на продолжительное время уезжает на Днепрострой. Результатом этой поездки явился известный роман «Энергия», над которым писатель работал в 30-е годы.
Перед войной вышла его повесть «Березовая роща» — «поэма о лесе и преобразовании природы», как называл ее сам автор, и при этом добавлял: «одно из самых дорогих мне произведений».
Во время войны Ф. Гладков напечатал в газетах «Правда» и «Известия» серию очерков о людях тыла, рабочих уральских заводов, которые в неимоверно тяжелых условиях трудились для фронта, отдавая себя без остатка делу победы. Писатель создал тогда же две повести о людях военных лет — «Мать» и «Клятва».
Более полувека продолжалась литературная деятельность Ф. В Гладкова (он умер в 1958 году), им написана целая полка книг.
К «Повести о детстве» он вплотную приступил уже после войны, в конце сороковых годов. Но замысел этого произведения проходит фактически через всю его жизнь. Сначала, как мы писали выше, первый отроческий приступ «Дневник мальчика». Затем в 1930 году Горький взял с него слово, что он напишет повесть о пережитом. Писатель тогда же горячо взялся за дело и несколько месяцев работал над рукописью. Но потом важные вопросы жизни страны и текущей литературы заставили его отвлечься Затем — Великая Отечественная война…
И вот, наконец, настал час приняться за давно уже выношенный замысел. Что любопытно — писалась «Повесть о детстве» в непосредственной близости от описываемых родных мест. Об этом пишет в своих воспоминаниях критик 3. Гусева:
«В каленный морозом день подъехали мы… к заснеженной дачке в лесу под Пензой. Здесь… уединившись, писал Федор Васильевич свою «Повесть о детстве», первую книгу незавершенной эпопеи, которую хотел назвать «На земле отцов»..
Из всех комнат… он выбрал для работы небольшую, но самую светлую угловую… Мебель и вещи лишь необходимые. Письменный стол с горкой остро очинённых карандашей (писал только карандашом). Стопки чистой бумаги. Странички исписанной, где многажды перечеркнуты слова, строки. У стола на табурете, прямо за спинкой стула, где сидел, работая, ведерный самоварище с медными начищенными боками. Крепкий чай. Наливал, не отрываясь от рукописи.
И книги. Множество книг…
— Вот книжка о прошлом народа, — пристукнул он крепкой ладонью по исписанной стопе, но, ей-богу, я пишу о современности».
Замечательный советский писатель Михаил Пришвин говорил о произведениях, обладающих тайной современностью рассказа о несовременных вещах. К ним, видимо, можно отнести и «Повесть о детстве». Повествуя из середины бурного XX века о событиях восьмидесятых годов прошлого столетия, Ф. Гладков воскрешал перед нами во всей многосложной реальности навсегда ушедший мир и одновременно намечал некие силовые линии развития, пусть еще слабые, но которым суждено было бурное грядущее.
В этом — в верности времени прошедшему, верности времени историческому, времени движущемуся — своеобразие произведения.
М. Е. Салтыков-Щедрин отмечал в первых русских повестях о детстве среди других достоинств еще и разработку разнообразных сторон русского быта. И здесь яркой, многоцветной картиной предстает перед читателем давний быт русской деревни конца прошлого века!
Вот дедова изба, где растет маленький Федя, — не изба, а целый мир со своими жестокими законами, с жизнью, бредущей по раз установленной колее. Тут тесно и грязно. Дед — верховный правитель, жестокий бог и царь всей семьи — беспрерывно наставляет:
«Мы рабы божьи… Мы крестьяне, крестный труд от века несем». Обращаясь к своим домочадцам, заключает: «Несть нам воли и разума, опричь стариков: от них одних есть порядок и крепость жизни».
Мера воспитания одна — «кнутом ее хорошенько»… Заведены и строго соблюдаются обычаи, большинство из которых беспощадно подавляют в человеке даже намек на достоинство. Мечтает маленький Федя о новой шубе (а она даже не покупная, сошьет ее из домашней овчины за гроши здесь же, в избе, ходящий по домам швец Володимирыч), а бабушка тут же учит: поклонись в ноги, «головкой в дедовы валенки постукай и проси Христа ради…» Он так и сделает, хотя ему и невыразимо стыдно… «Но этим не заканчивался мой подвиг: сердито кричал отец и требовал того же. Приходилось елозить под столом и кланяться валенкам отца. Потом очередь наступала для Семы. Он это делал легко, уверенно, юрко, по давней привычке».
Пожалуй, вот это последнее — ловкость и юркость подростка Семы, привыкшего к рабскому обычаю, еще страшнее унижения маленького Феди…
Побои, унижения, оскорбления — они каждодневны, их уже не замечают. Вставали в избе затемно. Раньше всех подымался дед, «…снимал со стены трехвостку и стегал Сему, который спал на полу, на кошме, рядом с Титом и Сыгнеем. Сема уползал на четвереньках в чулан. Я кубарем слетал с печи и прятался под кровать, на которой сидел и одевался отец».
Но еще тяжелее гнета физического был гнет нравственный. Дед подавлял малейшую попытку не то чтоб мыслить самостоятельно, но даже говорить что-либо, не согласующееся с затверженными раз навсегда правилами. Дело усугублялось еще и тем, что семья была старообрядческая. Для деда Фомы всякое вольное слово «охально и губительно». Поэтому он властно прерывает всякий неугодный разговор каким-нибудь старинным поучением, совершенно непонятным для слушающих. «Но так как в этой угрожающей бессмысленности было какое-то пророческое предупреждение, какое-то гнетущее возмездие, «перст божий», неведомая сила, то все чувствовали себя пригвожденными к «немому смирению».
И как ужасно, что это «немое смирение» шло не от властей, не от многочисленных притеснителей народной жизни — помещиков, полиции, мироедов, и т. п. — нет, это было добровольное духовное рабство, культивировавшееся в семье, вбивавшееся в души с малых лет и до конца жизни…
А ведь происходило это не в какие-нибудь тмутараканские времена, а уже тогда, когда писали Лев Толстой и Достоевский, когда народовольцы подняли руку на самого царя, Ленин поступил в Казанский университет… А рядом миллионы и миллионы людей жили такой жизнью, как Федя и его семья…
«Самый страшный и мрачный угол — это иконный киот. Там много икон… Лики — темно-коричневые, страшно худые, сумасшедшие, зловещие, одежды красные и синие, в золотых нитях. Ниже — черные доски с призрачными лицами, такими же страшными и стариковски зловещими… Под образами черный сундучок, окованный железом. Я знаю: там — толстые, тяжелые книги, в коже, с медными застежками и разноцветными лентами-закладочками…»
Маленькому Феде очень хочется полистать эти старинные книги, особенно так называемые «лицевые», где масса рисунков — людей и страшных чудовищ. Но это строжайше запрещено. Мальчик только прикладывает ухо к запертому на замок сундучку. И тут его ловит дед. Происходит тяжелейшая и унизительная сцена…
Есть в избе и другая стена… «Над зеркалом лубочные картинки, купленные у тряпичника: «Бой непобедимого, храброго богатыря с Полканом»… «Ступени человеческой жизни»… портрет царя Александра Третьего… и царицы с хитрой прической — волосы взбиты высоко, как каракулевская шапка…»
Это все — из разряда тех изданий «для народа», которые Лев Толстой презрительно именовал «ошурками» и пояснял — «та пиша, которая не годится сытым — отдать ее голодным». А когда Федя принесет тайком в дом «Сказку о царе Салтане» и с упоением начнет ее читать, дед яростно закричит: «бесовскую мразь притащил в избу»… И тут же с остервенением порвет книжку и клочки бросит в лохань…
Вот почему маленький Федя приходит к горькому выводу:
«А в избе и на улице трудная жизнь: в избе страшный дед…
В избе у нас редко смеются: все скучно молчат или разговаривают осторожно…» А за пределами избы — свои страсти Здесь мир еще более суровый, переполненный несправедливостью, так остро ранящей детское сердце.
…Как волки на стадо, налетают в деревню полицейские, урядники, пристав и прочие. И встает стон над селом — идет форменный грабеж, из домов волокут все, что поценнее, — самовары, рухлядь, ведут со дворов коров, овец… Что же это такое? Обычное делосбор недоимок. А кто возмутится — расправа коротка — тут же вязать да в тюрьму. Так и живет село — от одного разбоя царских властей до другого.
Неподалеку от села — господский дом, где живет с семьей барин Измайлов. Это не только непонятный и чужой мир, а и враждебная сила. Хотя помещик Измайлов может иной раз заступиться за крестьянина, но в конечном счете он полностью на стороне угнетателей. Ведь это он продает мироеду Митрию Стодневу землю, которую искони обрабатывали мужики, а потом вместе со становым посмеется над законными претензиями крестьян…
Но еще страшнее, чем эта внешняя противостоящая сила — становой, урядники, чиновники, помещик — свои сельские мироеды Вот, к примеру, тот же Митрий Стоднев. Он свой, «тутошний», да еще и старообрядец. И не простой — а самый главный. Каждый раз поучает всех на очередном молении жить по божьему, христианскому закону. А ведь он и есть первейший враг своих односельчан Ловкий, безжалостный кулак, он уже подмял под себя добрую половину села, все у него в неоплатном долгу, попросту — в кабале.
Лицемерный и жестокий, он не остановится ни перед чем, даже родного брата Петра отправляет на каторгу.
А местная власть — староста, сотские — до чего же они мерзки и отвратительны. Вот два ражих, пьяных мужика — староста и сотский — хватают бабушку Наталью и волоком волокут по дороге в «жигулевку» — так называли в селе местную тюрьму Волокут, как куль, не считаясь ни со старостью, ни с болезнью, ни с тем, что перед ними женщина… Им показалось, что она не оказала уважения крестному ходу.
Даже не перечислишь всех фактов ужасного насилия, которые окружали маленького Федю. С полным правом он может сказать о себе — «жизнь моя сложна и опасна». Опасна не только в смысле физической гибели, от которой он не раз был на волоске, но и в смысле гибели нравственной в этой атмосфере одичания и жестокости.
Но были и другие силы в селе… Ибо не из одного мрака состоял этот мир, в нем открывались и свои светлые стороны. Была радость и поэзия сельского труда. Сколько прекрасных страниц в этой книге посвящены и пахоте, и жатве, и обмолоту…
«Плясовой перестук цепов, взлеты молотил над головами, желтая пыль над снопами и этот сухой и жгучий морозец веселили душу: хотелось схватить цеп и вместе со всеми взрослыми бить по снопам изо всех сил…все были так захвачены работой, ладным ритмом молотьбы, что лица у всех были прикованы к снопам. Эта согласная работа связывала каждого друг с другом и со всеми вместе, и_ порвать эту живую цепь было невозможно…»
Перед нами в этот момент предстают другие, преображенные, люди, сбросившие с себя оковы тупости, жестокости, зверства…
И как существенно для общего замысла книги, что в этой же сцене Гладков обращает наше внимание на мать Феди. Она «красиво взмахивала цепом… у ней разгорелось лицо и в глазах играла радость. Мне казалось, что она вся пела, и ей уже не страшны ни дед, ни отец».
Раскрылась перед маленьким Федей красота и поэзия других, истинно народных, обычаев, старинных сельских праздников: масленицы, пасхи, троицына дня… Эти праздники выступали перед ним не столько в церковном, сколько в их глубоко народном обличье «Троицын день был девичьим праздником. Девки наряжались в яркие сарафаны, белые, красные, зеленые, повязывали алые и желтые полушалки. Вся деревня цвела хороводами, и они похожи были на радостные вихри. В знойном воздухе с разных сторон волнами плескались песни».
Мир, окружавший Федю, был опасен, но он был и сложен, т е. многогранен, в нем порой обнаруживались светлые, прекрасные стороны, и писатель с большой силой изобразил эту многомерность ушедшего мира. Было в этом мире немало того, что внушало надежду на перемены к лучшему. И не так уж несокрушимо прочны оказывались силы угнетения и всяческого подавления в человеке человеческого.
Даже в удушающем гнете дедовой избы был свой «светлый луч» — Настя. Это, пожалуй, не только лучший женский образ в книге (а там немало ярких женских характеров), но и во всем творчестве Гладкова. Уже с первых страниц она входит в наше сердце- «Маленькая, быстрая, расторопная, жадная в работе, мать носилась по избе во время приборки, и все сторонились, давая ей дорогу. Она легко, бегущими шагами, неслась за водой к колодцу под гору, и ведра на коромысле повизгивали, позванивали в такт ее шагам». Дед и дядья с самого ее появления возненавидели ее за чистоту! Сначала вот эту за беспощадную уборку грязной избы А затем и за другую: нравственную чистоту. За то. что в отдающую мертвечиной домостроевскую атмосферу она внесла жизнь, свежесть и непосредственность человеческих чувств. Ее били, унижали, оскорбляли, гнули в дугу, а она каждый раз распрямлялась и вновь стояла перед сыном живым и прекрасным примером человеческой стойкости, духовной силы, веры в лучшее.
Это был истинно русский характер, который не ломался и не сникал перед самыми тяжкими испытаниями, характер, в котором жили и развивались лучшие черты самого народа.
Маленький Федя делал одно открытие за другим, находя в родной Чернавке людей, которые, как и мать, не поддались гнету насилия, не погрязли в тупости и невежестве, а возвышали свой голос против- унижения человека. Они, эти люди, еще были в меньшинстве, их распинали, бросали в острог, но в них-то и была истинно народная сила, в них-то и было будущее. Это и смелый Микитушка, так безбоязненно в молельной обличавший лиходея Стоднева и бесстрашно выступивший против произвола сельских властей, этот старый слепой Луконя, стремившийся делать добро; это бабушка Наталья, хранившая в своей памяти святые легенды о народных заступниках…
Справедливо писательница Лидия Сейфуллина писала в своей рецензии на только что вышедшую «Повесть о детстве»: «В этой обездоленной деревне живут люди большой совести и беспокойной мысли, искатели правды, мечтатели, протестанты, бунтари. Это РУССКИЕ люди, не согнувшиеся под гнетом насилия».
Перед читателем книга, которая помогает лучше понять и прошлое и настоящее, ибо открывает ему корни прошлого в настоящем. И это произведение доставляет наслаждение подлинно художественной прозой, которую хорошо назвали кристаллической.
ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ
Посвящается моим внукам
ВСТУПЛЕНИЕ
Осенью 1930 года пришлось мне прожить несколько дней в гостях у А. М. Горького в Сорренто. Его вилла, с невзрачным фасадом со стороны узенькой улицы, казалась настоящим дворцом среди обширного сада. Неподалеку, за деревьями, открывался необъятный лазурный простор: глубоко внизу небесно синел Неаполитанский залив, направо, очень далеко над заливом, огромным конусом вздымался Везувий со своей седой пинией над кратером. Крутой спуск к заливу был бархатный от густых зарослей олив и других субтропических деревьев. Стояли чудесные дни, ослепительно яркие, знойные, безветренные благостные дни. Каждый день мы спускались по извилистой дорожке вниз, к морю, и этот час прогулки пролетал незаметно, в разговорах о нашей стране, о литературе и литераторах, об Италии.
Как-то Алексей Максимович сказал, обводя палкой вокруг:
— Любуйтесь, запоминайте: тут природа — карнавал.
Здесь все играет и поет — и море, и горы, и скалы…
В этот момент где-то наверху заревел осел.
— Слышите, даже ослы поют канцоны.
Мы посмеялись.
— Но нет, трудно нам привыкать к этому празднику природы: она превращена здесь в бутафорию, в театральные декорации. Она — как и все здесь — эксплуатируется в целях наживы. А народ влачит самое жалкое существование. Золото и лохмотья. Наша страна сурова в своей красоте, но и люди — самоотверженные труженики. История нашего народа — это история великого труда и великой борьбы. Изумительный народ! Нигде труд так не возвышается до героизма, до творчества и поэзии, как в нашей стране. Наш народ прошел через страдания, через муки и неволю, через тьму дикой жизни и деспотизма, через непрерывную борьбу, чтобы стать впереди всего человечества.
И нигде нет такой литературы, как у нас, у русских. А народные песни? Они широки, как эпопея, и глубоки, как раздумье. Такие песни могли родиться только у народа великой души — в мятеже, в тоске по правде и справедливости.
У каждого нашего человека есть большая биография.
В гору он шел быстро, опираясь на палку, и я едва поспевал за ним. А ведь он был болен. Я удивился этой его быстроте и легкости при подъеме на крутизну, но он, не останавливаясь, разъяснил:
— Старая привычка. Когда-то я делал по шестидесяти верст в день.
На мой недоверчивый возглас он улыбнулся.
— Никто мне не верил, а вот Лев Николаевич сразу поверил. Наблюдал странников на большой дороге у Ясной Поляны. Идут как будто неторопливо, но упорно и делают по пятидесяти — шестидесяти верст.
Уже в саду, а потом в просторном кабинете разговорились о прошлом. Я напомнил, как он спас мне жизнь в самые тяжелые дни моей ранней юности. Безработица, голод, бесприютность, душевный надрыв и отчаяние довели меня до мысли о самоубийстве. Две книжки его рассказов потрясли меня и словно вывели на свежий воздух, на свободу и влили в душу бодрость и веру в себя. Он заволновался и затеребил усы.
— Ну-ка, расскажите о себе — о вашем детстве, о молодости… Все рассказывайте, ничего не утаивая, обо всех мытарствах рассказывайте…
Я бессвязно передал ему несколько событий из детских лет в деревне, на рыбных промыслах Каспия, в рабочих предместьях города, о незадачливой судьбе моих родителей, о том, как мне пришлось своими силами пробираться к свету, как охватывало меня отчаяние, когда мои надежды и усилия разбивались о неприступные преграды… Он подошел ко мне и взял меня за плечи.
— Слушайте, сударь мой! Ведь я же совсем не знал вашей жизни… Дайте мне слово, что вы немедленно приметесь за повесть о пережитом. Обязательно! Вот возвратитесь домой — и за работу. Летом я приеду в Москву, и вы мне прочтете, что написали. Это очень важно, очень нужно!
Наша молодежь должна знать, какой путь прошли люди старшего поколения, какую борьбу выдержали они, чтобы дети и внуки их могли жить счастливой жизнью. Им нужно показать, как трудно создавался человек, как он был упорен и вынослив и в труде, и в борьбе и какой он совершил невероятный путь к свободе. Много писали, например, о нашем деревенском народе литераторы разных лагерей, но они сочиняли мужика: то делали его благолепным, покорным и кротким мучеником, то — наоборот — зверем и тупым дикарем. А он — простой, умный, даровитый человек, с большой любовью к труду, с мятежностью в душе Он — свободолюбив, жизнерадостен, деятелен и знает себе цену. Во г и пишите — пишите так, как знаете и чувствуете его, а вы должны его знать и чувствовать И самое главное — покажите, чем он велик и что издавна нес в своей душе. Не надо закрывать глаза на явления тяжкие и отрицательные, — а их много было в прошлом, и они были неизбежны, — но подчеркивайте положительные, жизнеутверждающие явления и ярко освещайте их. Я уверен, что это будет хорошая книга.
— Но все-таки это будет и жестокая книга, Алексей Максимович — А вы не смущайтесь. Пишите уверенно и смело. В ней все найдет свое место.
Этот разговор глубоко запал мне в душу, и я много дней жил под его впечатлением.
Сначала я горячо принялся за работу и не отрывался от нее несколько месяцев. Но жизнь требовала художественных откликов на события: страна переживала великий подъем во всех областях социалистического строительства. Как литератор, я не мог не принять активного участия в созидательном труде нашего народа: нужно было внимательно и долго изучать людей и их творческие подвиги и рассказать об этом своевременно. Потом разразилась война — нужно было стать рядовым бойцом на фронте литературы в напряженные дни великой борьбы с фашистскими разбойниками.
И только позднее, памятуя свое обещание Горькому, я решил вновь приняться за повесть моей жизни. Но и потом я не раз прерывал свой труд под тяжестью сомнений: нужно ли писать о том, что испытано и пережито в далекие годы? Какое воспитательное значение для современного читателя имеет эта длинная хроника событий моей жизни и судьбы тех людей, среди которых я жил, с которыми я делил горе и радости? И даже в эти часы раздумий настойчиво звучал внушительный голос Алексея Максимовича: «Это очень важно, очень нужно».
Так в течение ряда лет создавалась эта летопись моего детства и юности — летопись жизни человека моего поколения. Я осуществил заветное мое желание рассказать в образах о той далекой жизни, в условиях которой прошли мои детские годы и годы ранней юности.
Это была тяжелая эпоха в истории нашего народа: свирепый царский деспотизм, полицейщина, мракобесие, полное бесправие народа, рабская его зависимость от помещика и кулака, катастрофическое разорение деревни, жестокая классовая борьба, пролетаризация крестьянина, бегство его с неродимой земли отцов в города, где попадал он в тиски чудовищной эксплуатации, где ждала его безработица и гибель на «дне жизни». Мрачная власть церкви, домостроевщина, постоянная борьба за кусок хлеба, круговая порука, разграбление крестьянского хозяйства — озлобляли мужика, приводили в отчаяние. Он зверел, метался как затравленный, не находя себе места, срывал свое горе на жене, на детях, на соседях, на самом себе.
Марксизм только что начал зарождаться; он пускал свои корни в промышленных городах, где пролетариат мог складываться в организованную силу В деревне самовластно распоряжались помещики и кулаки. Земский начальник, пристав с арапником и поп с крестом душили всякое проявление живой мысли. Но под этим игом никогда не угасали недовольство и мятежность народа, и в разных формах шла классовая борьба между подъяремным бедняком и богатеем, между мужиком и помещиком. Страдания землепашца и батрака постоянно разжигали в них гнев и возмущение против самовластия барина, мироеда и начальства и обостряли ненависть к существующему порядку. В моей обездоленной деревне жили люди большой совести и беспокойной мысли искатели правды, протестанты, бунтари.
Среди них были и мечтатели, и обличители, и мстители.
Я много встречал в юности хороших людей, но люди, с которыми я жил одной жизнью в деревне, до сих пор близки мне как первые мои друзья Это были те русские люди, которые не сгибались под гнетом насилия и которые имели дар видеть свет и во тьме и предчувствовать радость будущего.
Я думаю, что мои сверстники, вспоминая о минувшем, найдут в этой книге много созвучий с тем, что пережито ими, а молодежь почувствует, что ее свобода и счастье — это воплощение в действительности заветных дум и стремлений их отцов, прошедших трудный путь борьбы против эксплуатации, гнета, бесправия, борьбы во имя торжества коммунистического идеала и творческого величия человека.
I
Тело матери дрожит и корчится. Она всхлипывает и задыхается. Я встаю на колени и сам начинаю дрожать от страха. Окна ярко-зеленые от инея. На печи — могучий храп дедушки. Я прислоняюсь спиной к деревянной стене и вижу, как по избе проходит какая-то огромная тень… Я щупаю лицо матери — оно обжигает меня влажным жаром Я боюсь кричать, боюсь отца, боюсь этой темной тени и плачу тихо.
Рука отца толкает меня на подушку…
— Лежи ты!.. Спи! Заболела мать-то…
Его шепот, сердитый, угрожающий, но он мне кажется чужим, растерянным, дрожащим от испуга.
— Мама, не надо, — шепчу я, задыхаясь от слез. — Не надо… я боюсь…
Но мать не слышит меня: она всхлипывает, взвизгивает, бьется на кровати.
— Господи, беда-то какая!.. — стонет на печи бабушка. — Васянька, вздуй ты, Христа ради, огонь-то. Не вижу ничего — не упасть бы. Вот уж бабу-то взяли — назола какая!
Это Олёнка ее сглазила… Олёнка-то, чай, только бога и молила, чтобы в нашу семью войти.
Бабушка не ворчит, а поет — не то стонет, не то причитает.
Отец растерянно бормочет:
— Тут не знай, что делается… Так ее всю узлом и свивает… Титка! Сыгней!
— Ее связать бы сейчас… — ворчит Сыгней — неженатый дядя, молодой парень. — Кликуша она. Кликуш вязать вожжами надо и шлею надеть… Надеть шлею с жеребой кобылы да уздой ее…
Отец встает с кровати и в зеленом мерцании окон расплывается жуткой тенью. Все становится нежизненным, колдовским.
Стена шевелится и шуршит очень близко, у самого уха.
Это тормошатся в щелях тараканы.
Храп деда потрясает стены, и в груди у меня все дрожит и трясется. Деда все боятся: дед — наш владыка и бог. Он — маленький и юркий, как таракан, но его холодные, серые глаза под густыми клочьями бровей остры и неотразимы.
Я не выношу его колючих глаз, этой серебряной седины, и его окрики пронизывают меня, как удары.
Черная тень отца мечется около стола. Он ловит кого-то в переднем углу и ругается.
— Куда это спички-то делись? Черти лысые! Это Семка ночью мусолит их.
На полу, на кошме, начинается возня. В зеленом полумраке волнуются шубы, оживает солома: она пенится, шелестит. Поднимаются головы, кто-то позевывает. Стекла — в искрах, и с подоконников сползает фосфорический пар.
Дрринь… — звенит и брызжет осколками стекло.
— Тьфу, дьявол!..
Дед сразу перестает храпеть и спокойно грозит:
— Ты что это с пузырем-то сделал, шайтан? Шкуру спущу! Где теперь возьмешь пятак-то? Пятак ведь, сукин сын!
Воздух в избе густой и вязкий. Я мокрый от пота Вдруг маму бросает с кровати какой-то внезапный толчок. Дверь с визгом распахивается. Звякает щеколда в сенях, в избу врывается холодный туман.
Три пестрых лопоухих ягненка шарахаются от порога и прыгают по соломе.
— Эх, в одной рубашке бабенка-то!.. — как-то по-ребячьи вскрикивает отец и бросается в седое облако пара.
— Валенки-то надень! — сердито стонет вслед ему бабушка. — Шубенку-то!..
Отец подскакивает к кровати и что-то ищет на полу. Он ругается и бросает что-то от себя в сторону.
— И куда это валенки запропастились?! Титка их, должно, свистнул… Титка!
— На кой они мне, твои валенки!.. — злится Тит плаксиво. — Спать только не дает со своей жененкой-то…
Бабушка причитает на печи:
— Владычица, матушка… господи! А вы бегите… ловите ее… еще в прорубь бросится — долго ли до греха… Вот наказал бог бабенкой-то… Надо бы канун по ней отстоять, отец… канун, бай…
— Какой тебе канун… — ворчит дед. — Кнутом ее хорошенько.
Отец надевает валенки, вскидывает на плечи шубу и скрывается в густом тумане. Облака пара мерцают зеленым огнем, как живые, вихрятся, кудрявятся, медленно и плавно колышутся. Я плачу от страха.
Бабушка скорбно причитает:
— Околеет бабенка-то… Мороз-то ведь крещенский. Шевяхи лопаются… Закройте-ка вы дверь-то!.. Бестолковые какие! Избу-то всю простудили… Титка! Семка!..
Из омута тумана всплывают одна за другой тени. Они телесны только до пояса и кажутся не людьми, а Полканами — страшными существами, у которых половина туловища человеческая, а другая лошадиная.
Ощущение беды давит сердце. Где моя мать? Куда она убежала?
Может быть, она схвачена теми страшными чудовищами, о которых рассказывала мне бабушка, — змеями о семи головах и колдунами с белыми бородами до колен? Нечистая сила! Что такое нечистая сила? Она видимо-невидимо летает около нашей избы, врывается в печные трубы, проникает и в щели и сквозь стекла. Она не губит нас только потому, что на ночь мы «осеняем себя крестным знамением»… Что такое «крестное знамение»? И что такое «осеняем»? Я знаю, что должен положить сложенные «крестом» пальцы «на темечко, на пупочек, на плечики».
Бабушка уже топчется около стола, должно быть, хочет зажечь огонь. Она стонет, но не потому, что недужит, а потому, что эти стоны, вздохи, причитания — ее особенность, ее суть. Без этих стонов я не мог ее представить. Я набираюсь храбрости, прыгаю на пол и с размаху толкаюсь в дверь. Она чавкает и распахивается. Меня сразу охватывает сухой холод черной тьмы сеней. Ступни ног обжигает мороз. Двери из сеней во двор открыты — там тоже полутьма. Двор покрыт плоскушей с дырой в небо, и сверху спускается космами солома. Калитка открыта, и в распах ее льется снежное сияние. Там, на улице, вихри радужных искр на снежных сугробах. Через дорогу видны амбары в пышных шапках снега на крышах. На дороге стоит пестрая собака и визгливо лает в даль. Это — Кутка, мой преданный друг в играх и в опасных путешествиях в Заречье, куда я часто отправляюсь в гости к другой моей бабушке — бабушке Наталье, к маминой матери. Она живет в «келье» под горой, в слепенькой, старенькой избушке.
Мне чудятся визги матери где-то за дорогой, среди амбаров, и я бегу по раскаленному снегу к калитке. Подгоняемый ожогами, бегу на улицу, к Кутке, я чувствую, как хрустит снег под ногами. Ошпаренные ноги горят, и я уже не чувствую холода, только дрожь трясет меня до самых внутренностей. Больно щиплет нос и щеки лунный мороз.
Я кричу и бегу по дороге мимо избы на сияющую луку — ровную, бескрайную, в волнах сугробов. Мутные стекла избы в оранжевом накале: в избе зажгли лампу, и по стеклам пролетают фиолетовые тени. Кутка трется около меня, прыгает мне на грудь, на плечи, радостно визжит и лижет лицо. Слюна ее горячая, липкая, а потом холодная, льдистая.
А я бегу и кричу до боли в горле:
— Ма-ма-а!..
Я вижу, как вдали по снегу луки несется легкий призрак.
Лунно-снежная тишина ночи полна странных тайн. Люди в полушубках бегут за призраком. К ним из-за ближайших амбаров мчится мужик в полушубке, с колом в руках.
Я знаю, что это она, мать, что за ней бегут и отец, и этот мужик, что они сейчас настигнут ее, подомнут под себя.
На той стороне, за рекой, на высоком взгорье, спят избы. Всюду пусто и мертво. Церковь смотрит на меня и на луку огромным черным глазом. Мне нужно к ней, к матери, — к ней во что бы то ни стало, иначе произойдет что-то страшное, непоправимое. Она уже недалеко, она бежит ко мне.
— Ма-а-ма!.. Я здесь!.. Ма-а-ма-а!..
Но она не слышит и круто поворачивает в другую сторону, к церкви. От амбаров бегут еще двое мужиков. Я задыхаюсь, выбиваюсь из сил, что-то сковывает мое тело. Я не чувствую ни боли, ни ожогов, но бежать уже не могу. Чьито руки хватают меня под мышки и бросают вверх. У меня уже нет голоса: я только хриплю.
И вот я опять в избе, опять в кровати. Рыхлое курносое лицо бабушки с отеками на щеках трясется складками. Рукава засучены выше локтя. Она трет мои руки и ноги и стонет:
— Парнишку-то заморозили… Ножонки-то с пару зашлись… Дурачок-Эдакий! Рази ее, мать-то, сейчас спасешь?..
Ишь Иван-воин какой!..
Висячая лампа с жестяным кругом коптит рваным язычком. Лампа отражается в мутном зеркальце. Над зеркалом лубочные картины, купленные у тряпичника: «Бой непобедимого, храброго богатыря с Полканом» (борода его широкая и длинная, как у дяди Ларивона, брата матери); «Ступени человеческой жизни» (горка в виде лестницы, на одной стороне которой человек родится, растет, поднимается, а на другой стороне спускается до самой могилы); портрет царя Александра Третьего, у которого борода похожа на бороду Полкана, и царицы с хитрой прической — волосы взбиты высоко, как каракулевская шапка; «Сирин и Алконост» — огненные птицы, чарующие людей волшебными песнями о счастье.
Дед, покряхтывая, творит молитву. И по голосу его, мирному, кроткому, видно, что лежать ему на горячих кирпичах приятно и уютно, что он любит тараканов, кишащих на потолке над его головой. И мне слышится его поучительный голос:
— Без тараканов да мышей — дом без души.
Мои ноги ноют от тупой, мучительной боли, пальцы на ногах горят, точно обваренные кипятком. Я реву, задыхаясь, но не от боли, а от горя, от тоски по матери.
— Ба-ба! — в отчаянии кричу я. — Мужики там убьют ее, чай…
Бабушка успокаивает меня:
— Придет она, придет… не плачь… — И вздыхает сокрушенно: — Беда-то какая! Наказанье-то какое, батюшки!.
Дед назидательно говорит:
— Вон Серега Каляганов свою бабу-то из рук не выпускает: всяк день кости ей правит. Водой отливают. Вот и порядок в доме — все на своем месте.
— Зверь твой Серега-то Каляганов… — сурово стонет бабушка. — Живьем съел бабенку-то…
В сенях торопливый скрип шагов и девичий радостный крик:
— Несут невестку-то… волокут…
Дверь распахивается, и в избу вбегает в шубенке внакидку тетя Катя (одна рука в рукаве, а другой рукав спустился до земли). Она вносит с собою облако пара и с разбегу сбрасывает шубейку на лавку. Она потирает руки, дует на них и смеется возбужденно. Длинный нос ее покраснел, глаза блестят от волнения.
— Ух, и мороз, — дух захватывает!.. Как только она терпит! Всю луку избегала… Я из сил выбилась, никак догнать не могла. Ванька Юлёнков кол ей под ноги кинул, а она — брык…
И вдруг со страхом в глазах бросилась ко мне.
— Феденька-то, чай, весь зашелся… так и увяз в сугробе… Не обморозился ли?
Она наклоняется надо мной и чмокает меня в губы. Катя молодая, здоровая. Она веселая, с дедом держит себя дерзко. Когда он проверяет, сколько она с матерью напряла клубков, и ворчит недовольно, она кричит:
— Ты, тятенька, не тряси портками-то… В бабьи дела не суйся!
Катя мне кажется сильной — сильнее всех, сильнее отца.
Я прислушиваюсь к глухим голосам и возне за окнами.
Мне кажется, что и стены начинают шевелиться от голосов и шагов.
В избу входит отец. Он несет тело матери через плечо; ее ноги впереди, сзади свешиваются голова и спина. Волосы спускаются двумя косами, связанными на концах тряпочками. Он кладет ее на пол, на кошму.
Около кровати стоит Ванька Юлёнков, коротышка-мужик, в шубе и в черной шапке банкой. Он опирается на кол и неудержимо смеется мясными деснами.
— Зверя какого пымали!.. Брагой бы напоил, дядя Фома… В кои-то веки шабровой молодухе угодишь…
Двое других молодых мужиков в рыжих полушубках, с инеем на усах, стесняются, прижимаясь к косякам. Это сыновья бабушки Паруши, соседки, рослые и ладные, — в мать. Один из них, с пышной черной бородой, Терентий, участливо говорит:
— Снегом ей ноги оттирать надо — обморозилась. Сейчас принесу; Олеша, помоги… Веревки-то развяжи — связали-то сгоряча туго. Промерзла веревка-то, к коже прикипела…
Он выходит из избы, а брат с желтой шерстью на щеках и подбородке становится перед матерью на колени и старательно распутывает узел.
— Эх, Настя, Настя, — смущенно и ласково бормочет он. — И чего это с ней попритчилось? Беда-то какая!.. А баба-то какая хорошая!.. Мамынька уж больно ее любит.
Мать лежит неподвижно, вся заплетенная вожжами. Руки ее заломлены за спину, рубаха изорвана в клочья, и тело ее обнажено, запачкано кровью. Лицо мертвое. Ноги белы как снег, а может быть, они покрыты снегом. Отец стоит перед нею, как в столбняке, и дышит глубоко, порывисто, со свистом. Бороденка его прыгает, а руки все время елозят по шубе и под шубой. Он с остервенением срывает с себя шапку, бросает ее на пол и бессильна садится на лавку.
Дед слезает с печи и кричит на отца:
— Ну, чего расселся, чурбак? Снимай шубу-то!.. Мозги потерял?.. Запутали, как овцу, галманы…
И сам натягивает клочья рубахи на голое тело матери Входит Терентий со снегом в поднятой поле шубы и высыпает его на солому. Отец только сейчас приходит в себя: он схватывает полную горсть снега и изо всех сил начинает растирать им ноги матери.
Бабушка подходит к ней и щупает ноги:
— Зашлась вся… Обморозила ноги-то… Катёна, давай скорее рубаху-то!
Катя опять накидывает на плечи шубейку и выбегает за дверь. На бегу она толкает Иванку Юлёнкова и орет на него:
— Чего столбом стоишь-то? Иди домой!.. Только по шабрам нос и суешь…
— Чай, вы мне всех ближе, Катёна… Все-таки Настёнка спасибо скажет… Баню истопит, брагой напоит…
Когда дед с Алексеем распутывают веревки, а отец трет ноги снегом, тело матери безжизненно трясется.
Терентий с конфузливым вниманием смотрит на нее и оправдывается, как виноватый:
— Ты, Настенька, не суди меня: это я тебя веревкой-то связал… Мои вожжи-то… Ты их, Олеша, захвати с собой.
Ведь ежели бы не связал, чего бы с ней было?.. Вырвалась бы и замерзла…
Он кланяется матери и, сгорбившись, идет к двери. У порога он толкает Юлёнкова.
— Поохотился, дурак… Шагай домой со своим колом-то… За своей женой гляди… Чеверелый, а заездил бабу-то…
Пойдем-ка, нечего тебе здесь делать…
И уже из сеней говорит так же виновато в открытую дверь:
— Ты, тетка Анна, погляди, не перебил ли ей Иванка ноги-то.
Вбегает Катя с холщовой рубахой в руках, а за нею один за другим входят, толкаясь плечами, Сыгней, Тит и Сема.
Они молча раздеваются и оторопело смотрят на мою мать.
Сыгней, кудрявый парень с густыми бровями, с веселыми, смешливыми глазами, никак не может погасить улыбки на лице. Тит, с белобрысым пухом на щеках, курносый, замкнуто садится за стол, вытягивает из угла Псалтырь и перелистывает его, безучастный ко всему. Сема, парнишка, тоже кудрявый, похожий на Сыгнея, с боязливым любопытством смотрит на возню около матери. Олеша деловито сматывает веревку в руку и зыбко, словно крадучись, выходит из избы.
Тело матери по-прежнему лежит мертво, маленькое, жалкое, истерзанное. Катя с бабушкой с привычной ловкостью надевают на нее рубашку, а отец продолжает тереть ей ноги снегом. Бабушка стонет и всхлипывает.
— Господи, господи! Как ребенок лежит… Пальцем перешибешь, не то ли что веревками связывать. Обмерла-то как… хоть в гроб клади.
— А ну тебя, мамка!.. — возмущается Катя. — Тут силу лошадиную надо, чтобы эдакое перенести. Мы ведь на ней как на одре ездим. И не думали человека пожалеть.
Дедушка встает с пола и, как хозяин, который сделал что нужно вовремя и заботливо, лезет на печку.
— Читай, Титка, с первого псалма!.. — набожно прикрикивает он. — Вслух пой! Бес-то еще, видишь, не вышел из нее… А потом канун надо отстоять.
Катя по-прежнему сердито кричит:
— Тебе бы только канун да канун, тятенька. Надо знахарку Лукерью позвать. Лечить надо…
Ей никто не отвечает, даже дед не цыкает на нее, как обычно.
Тит крестится и гнусаво, нараспев читает Псалтырь.
Отец поднимает мать, как девочку, несет ее на кровать и кладет рядом со мной. Я плачу, обнимаю ее, но она холодна, как покойница.
Входит Паруша, большая и сильная, как мужик, старуха, в шубе, накинутой на плечи. Она сурово молится, потом подходит, тяжелая и грузная, к матери и, сдвинув мохнатые седые брови, всматривается в ее лицо. Серые усики над углами рта скорбно вздрагивают, а в глазах искрятся слезы.
Она наклоняется над матерью и целует ее. Потом трогает пальцами ее щеки, шею, плечи и качает головой.
— Люди и лошадей жалеют, — обличительно гудит она бабьим басом, — а вы сироту измор довали. Бог помнит это, Анна… А ты, Фома, ответишь при смерти. Кто бабенку заставлял камни ворочать на сносях-то? Выкинула она тогда… С тех пор и мается.
Дед рассудительно отвечает ей с печи:
— Судья ты, что ли, Паруша? Ты за своими невестками следи…
— Я-то слежу. У меня невестки — маков цвет. А ежели им работа не под силу — первая помогу. Вот парнишку-то как бы не попортили. Вишь, как обневедался: личишко-то помертвело. Один из всех мучается. Милый ты мой, ковылек шелковый!
И она гладит меня по голове. Ее огромная рука легко и нежно щекочет мое лицо. Вдруг она властно и сурово приказывает:
— Анна, Катя, несите воды да утиральник! Обмыть ее надо. Чего вы глядите? В крови вся. Да и в себя чтобы пришла. Водица-то, она, матушка, исцеляет. Ну-ка, Анна, проворней!.. Вася, шубу на нее накинь!
Все как будто ждали этого властного голоса и хлопотливо зашевелились.
И мне было приятно, что все слушаются Парушу, что она жалеет и любит мать, что даже дедушка смиряется перед ее силой.
II
После этой ночи я как будто умер на долгое время: это были годы небытия. Я не знаю, болела ли мать, повторялись ли у нее припадки, помню только, что она часто среди работы рядом с бабушкой, которая вся пылала отблесками пламени в печи, вдруг бессильно опускала руки, застывала на месте, глубоко задумывалась, потом медленно, потрясенная какой-то мыслью, садилась на лавку и, положив голову на ладони, опираясь локтями о колени, сидела так молча и долго. Бабушка с ухватом в руках останавливалась в дверях чулана и смотрела на нее скорбно, с певучими стонами.
Потом мама начинала что-то очень торопливо и невнятно бормотать и всхлипывать. Внезапно лицо ее блаженно улыбалось, и она тоскливо и больно начинала вопить. Это была сначала тихая жалоба, надрывающий душу напев без слов, похожий на колыбельную песню. Потом голос ее наплывал волнами — то наполнял всю комнату печалью, то затихал до шепота, и я видел, кате по щекам ее текли крупные слезы.
Мне казалось, что она плакала только глазами. Пела она всей душой, и песня рыдала, молила о помощи, мечтала о чем-то далеком, утраченном навсегда. У бабушки дрожали щеки, и она умоляюще стонала:
— Да будет тебе, невестка… Не надрывай душу-то… Господи! Беда-то какая!.. Горя-то сколько!.. Невестка, чай, ты не сирота какая!.. Муж ведь… родные ведь… Чай, и мать, сваха Наталья, рукой подать, за рекой…
Мать уже была в каком-то другом, незримом мире, и стоны бабушки, и эти копотные стены — этот реальный мир сейчас не существовал для нее. Бабушка роняла ухват, подходила к матери и садилась рядом с нею. В тон матери. она тоже начинала вопить, и из глаз ее текли слезы.
Как жила-то я у моей родимой матушки, Уж не знала я у ней горя-заботушки… Отдала меня моя матушка во чужу семью Во чужу семью на горюшко, на злу судьбу…Обе они сидели, склонившись к коленям, и качались в такт своим причитаньям — одна молодая, похожая на девушку, попавшую в неволю, другая — рыхлая, сутулая старуха, одетая в старинную китайку.
Вопили в деревне охотно, по всякому поводу и без повода — так, по настроению: у баб много было причин голосить и плакать. Вопили по покойникам, при проводах парней в солдаты, при выданье девки замуж, при встречах прибывших со стороны близких людей, при воспоминаниях о прошлом. Я очень хорошо видел, что они — мать и бабушка — плакали не так, как плакали мы, дети, и не так, как визжала, например, жена Сереги Каляганова, шабра, которую он бил смертным боем. Они пели протяжно, сладостно, забывая обо всем, и я никогда не слышал, чтобы они повторяли одни и те же слова: они импровизировали свои жалобы и больше к пропетым словам не возвращались. Мать пела свое, бабушка свое. Они начинали новый запев поочередно: слова одной не совпадали со словами другой. Запевает одна, другая вступает в напев, а потом обе в один голос поют, не слушая друг друга. Я садился рядом с ними и плакал, вцепившись в мать и тыкаясь в ее плечо.
Если они ненарушимо доводили до конца свое вопленье, песня их замирала на едва слышных всхлипываниях и стонах. Потом они плакали уже молча, вытирая слезы фартуками. Лица их после этого светлели и становились похожими на лица святых. Мне было приятно от их теплоты и скорби, и чувствовал я, что они в эти минуты любили друг друга.
Маленькая, быстрая, расторопная, жадная и в работе, мать носилась по избе во время приборки, и все сторонились, давая ей дорогу. Она легко, бегущими шагами, неслась за водой к колодцу под гору, и ведра на коромысле повизгивали, позванивали в такт ее шагам.
Чистоплотность ее подавляла всех, а дед и дядя ненавидели ее за привередливую хлопотню по дому. Они мстительно несли грязь на сапогах в самый передний угол и старались растереть ее на полу. Мать с ужасом и тоской глядела на деда и деверьев и страдала: она видела, что они назло оскорбляют ее, что им противна эта ее потребность к чистоте.
— Эка, какие дворяне! — сипленько ворчал дед. — Помещики!.. Чаевники!..
И мне казалось, что быть чаевником — это самое зазорное дело для человека, как быть мошенником, преступником, вором, негодяем. Но я очень любил чаевничать, и, когда к нам в дни больших праздников приезжали гости из соседних сел на тарантасах и телегах — тетка Марья с мужем Николаем Андреевичем, тетка Паша с Агафоном Николаевичем, — самым торжественным и лакомым угощением был чай. Светло начищенный медный самовар сиял на столе, покрытом чистой скатертью. Сам дед сидел в иконном углу, как седой бог Саваоф, с расстегнутым воротом домотканой рубахи и хлебал чай с блюдечка, поставленного на все пять пальцев. Такую роскошь допускали в исключительные дни года — на рождество, на масленицу, на пасху, когда на столе появлялись пшенники, лапшевники, щи с наваром и «харч» — мясо. Тогда изба улыбалась чистотой, вымытым полом, побеленными стенами, белым столешником и утиральником в выкладях. Тогда все, начиная с деда, одевались в пахучие наряды: он сам — в набойную рубаху и портки, в сапоги, промазанные дегтем, бабушка — в стародавнюю, ароматную от долгого лежанья в сундуке китайку с оловянными пуговицами, похожими на бубенчики, сбегающими сверху донизу — от груди до подола, частой оторочкой на фоне желтой прошивки с кудрявым восточным тканьем. А мать и тетки расцветали сарафанами, полушалками, повязанными с трудолюбивым искусством в виде кокошников: из-под полушалков тоненькой каемочкой выступал белоснежный платок. Лица у всех были праздничные, приветливые, голоса певучие, задушевные. Звенела чайная посуда, янтарно переливался чай в стаканах, лежали снежные кусочки сахара в блюдечке, которые вызывали обильную слюну у нас, малолеток.
Что же в этом плохого? Чем же эта сладостная красота так ненавистна деду? Ведь он же сам был веселый за столом, словоохотливый: красное лицо его морщилось от улыбок и смеха; пальцы, обмазанные маслом и жиром, он вытирал о волосы, чай пил долго, много, опьянение. А вот сейчас, в эти будние дни, он старается опакостить чистоту и ругает женщин.
Тит озорует: его возбуждает эта хлопотня матери. Он бегает из избы в избу и вносит ошметки грязи и навоза.
Бабушка хочет сердиться, но не может: она трясется всем телом и закрывает рот грязным фартуком. Дед как будто ничего не видит: он возится со сбруей и напевает фистулой: «Всяк человек на земле живет, яко трава в поле растет…» Но лохматые его брови дрожат, ползают по лбу: он доволен.
Мать, застывшая от обиды, молчаливо смотрит на Тита, на навоз и жалко улыбается. У нее дрожат веки, дрожат руки. Она жмется к своей кровати, озирается, и лицо ее просит помощи у бабушки, у меня, у Семена, еще мальчика, которому жалко невестку. Но он бессильно сопит, покряхтывает, только свирепеют глаза.
В этой своей страсти к чистоте мать находила успокоение от безрадостной жизни в жестокой семье и отдых от непрерывной тяжелой работы. После мытья полов и протирки стен и окон она уряжала избу искусно и любовно: то, бывало, развесит полотенца с выкладью на косяках окон, то — зимою — над картинками и на зеркальце пристроит золотые веночки из соломы, а летом пучки из цветочков, которые походя соберет на усадьбе и в загуменье. И когда изба как будто засветится, она станет посреди комнаты и, улыбаясь, тихонько запоет песенку. Бабушка не понимала этой ее слабости, тетка Катя хоть налюбовалась ее работой, но никогда не помогала ей и только посмеивалась:
— Для кого стараешься, невестка? Для коров да телят что ли? Али для наших мужиков-дуболомов? Все равно наволокут грязищи да всякого дерьма. А после чистоты грязь-то еще тошнее станет.
Мать, не угашая улыбки, с сердечной певучестью отвечала:
— А я — для себя, Катя… и для сыночка… Тебе тоже ведь от приглядности сладостно…
Но дед как будто нарочно вносил в избу и шматки навозных, нечистот на сапогах, и смрадную от грязи сбрую.
Матери было больно, она коченела от отчаяния, но не сдавалась. Помню, пришла как-то Паруша, оглядела прибранную избу и сурово приласкала мать.
— Умница, цветик мой лазоревый! Ты, Настенька, словно зорька утрешняя не погасить тебя и туче кромешной.
Вслед за ней вошел дед с ворохом грязной и мокрой конской сбруи и с дегтярной лагункой в руке. Паруша гневно пошагала к нему навстречу и забасила:
— Это ты чего делаешь, Фома? Бабенка избу-то божьей светлицей уряжает, чтобы ангелам было в радость, а ты, как бес, лепоту-то поганишь. Вот обличу тебя на собрании, епитимью и понесешь. А ты бы невестку-то за праведное дело приласкал да восхвалил, а не топтал грязными своими сапожищами. Я сама чистоту люблю: чиста изба — чиста и душа.
— Чай, мы не дворяне… — смущенно забормотал дед, но остановился у порога. — Чай, мы не купцы. Мы всю жизнь с навозом да с тяглом возимся. Из грязи в князи мужику тянуться не положено. И так, даст бог, в черном смирении проживем по грехам нашим.
Паруша замахала на него рукой и властно приказала:
— Иди-ка, иди, Фома! Вымой там, на дворе, всю эту хурду-мурду, а сапоги соломой протри. Это бес всегда пакостит, а бог чистоту любит. Как в Писании-то сказано: омый мя, и паче снега убелюся. — И еще сказано: всякую мерзость господь ненавидит. Любишь от Писания глаголить, а сам закон нарушаешь. Обличу, Фома!
С этого времени дед всегда входил в избу, вытирая о солому сапоги, а сбрую, кожи и веревки вносил чистыми, хотя и хмурился и делал вид, что не замечает матери.
Обычно дед истово поет над шлеёй и строго покрикивает:
— Титка, иди чистить назем-то… Семка! Федька!
Бабушка робко стонет:
— Чай, он еще маленький, Федянька-то, куда ему?.. Что это ты, дедушка?
— Пошел, пошел! Хлеб-то жрать может. Пущай хоть на возу стоит — уминает навоз.
Сема молча одевается. Он прячет глаза и тоже хочет плакать, — а ведь он кажется мне большим и сильным. Я бегаю в широких портчишках и пунцовой рубашке, вожусь с кошкой и пасу тараканов. Я их понимаю и разговариваю с ними. А навоз на дворе — это огромные кучи коровьих и конских шевяхов и густая россыпь овечьих орехов. Их надо сшибать и сгребать в вороха.
Я подбегаю к матери, обнимаю ее колени, озираюсь волчонком. Мне кажется, что отец бессилен защитить ее от деда. Отец хоть и с бородой, но она у него маленькая, жидкая. Лоб его — с шишками над бровями, нос твердый, прямой и сильный, похожий на нос деда, но голову он держит так, словно его ударили по шее, глаза жесткие, стальные, злопамятные, самолюбивые. Он смотрит исподлобья, никого не видит, но видит все. Я не отрываюсь от подола матери и чувствую, как дрожат ее ноги.
— Невестка! — стонет бабушка из чулана. — Иди-ка в амбар, принеси муки в ночевку…
— Невестка! — сурово кричит дед, не отрываясь от шлеи. — Иди притащи мне хомут. Да баню истопи… Что-то бок болит, попариться надо.
— Невестка! — опять стонет бабушка. — Куделю-то внести надо. Выбей ее хорошенько…
Меня оглушают эти выкрики, и мать мне чудится юлой, кубарем, который подхлестывается кнутом, чтобы он катился и летел неустанно. Я не пускаю ее: мне хочется ее защитить. Никто, кроме меня, не любит ее, никто не жалеет.
— Мама, не надо… не ходи…
Она наклоняется надо мной, целует и поет нежно:
— Иди, сыночек… Только оденься хорошенько… Дай я тебя укутаю.
Дед с притворной угрозой сипит:
— Вот я его ремнем… вместе с матерью… Ну-ка!
Потрясая супонью, он шагает к нам. Колени его зыбки, портки трясутся, глаза из-под седых бровей с остренькой усмешкой вонзаются в меня. Я замираю от ужаса: на меня движется что-то огромное, неотразимое, лохматое — это домовой, всесильный владыка, против которого никто не может бороться.
— Дай-ка его сюда, поросенка! Я его отстегаю… Где он тут, сукин кот?!
Он размахивает супонью и хлещет ею где-то около меня. Может быть, он хлещет мать, может быть — по шубам, которые лежат на кровати, а может быть — отца. Я ослеп, я весь трепещу. Внезапно я ощущаю острый ожог, он пронизывает мое тело и будто оплетает меня с головы до ног.
Я болел оспой, но не помню этого события в моей жизни. Осталось же в памяти припухшее мое лицо в красных ямочках и руки в болячках. Лицо свое я видел каждый день в зеркальце на стене. Зеркальце в деревянной рамке висит наклонно недалеко от икон. Стекло его струится в мушином пшене, каждая точка сдвоена. Я стою на лавке и подымаюсь на дыбки. Пристально смотрит на меня мое круглое, щекастое, курносое лицо в вишневых рябинах. Они рассыпаны густо — большие и маленькие. Мне занятно смотреть на себя, потому что на меня глядит другой «я», который строит мне гримасы, показывает язык, зубы, таращит глаза и смеется. Я грожу кулачком тому парнишке, которого вижу в зеркале только по плечи, и он мне тоже с угрозой показывает кулак. Я делаю ему свирепое лицо, и он тоже.
Я хохочу, и он хохочет. Я тычу в него пальцем, и кончик моего пальца встречается с кончиком его пальца, и они срастаются в ударе. Это меня захватывает, и я не могу оторваться от таинственной жизни за стеклом. Я нахожу в этом своем двойнике немого друга, который отвечает мне на все мои настроения одними и теми же движениями. Я незаметно засовываю руку за зеркало, чтобы поймать другого меня, но там я нащупываю стенку и какой-то сор: из-под зеркала сыплется давнишняя труха. Я люблю бегать по лавкам, протянутым вдоль стен. Лавки массивные, толстые, вековые, щербатые от давности, широкие — на них можно спать. Венцы стен, гладко обтесанные, — в мой рост. Эту избу при выделе поставил прадед, когда разделил свою огромную семью в двадцать человек. Тогда дед только что женился. Прадед не хотел делить хозяйство, но ему приказал барин. Барин сам участвовал при разделе семьи. Хозяином был не дед, а барин, и воля барина была закон.
Стены в глубоких щелях и смолистых лепешках сучьев.
В где лях чутко шевелятся усики тараканов.
Самый страшный и мрачный угол — это иконный киот.
Там много икон. Высоко, почти у потолка, — Деисус; в среднем — Христос с золотым кругом вокруг головы, разделенным на четыре части верхушкой креста, и на трех пластинках стоят непонятные буквы; богородица — с двойными буквами на плечах; Иван Креститель — с лохматыми волосами и в овечьей шкуре. Лики темно-коричневые, страшно худые, сумасшедшие, зловещие, одежды красные и синие, в золотых нитях. Ниже — черные доски с призрачными лицами, такими же страшными и стариковски зловещими.
Среди деревянных образов медные кресты, рельефные, ярко вычищенные, простые и с финифтью. Под образами черный сундучок, окованный железом. Я знаю: там — толстые, тяжелые книги, в коже, с медными застежками и разноцветными лентами-закладочками. Рядом с сундучком — стопка подрушников, похожих на черствые лепешки. Эти любовно разукрашенные разноцветными лоскутками и вышивкой плоские подушечки — коврики для рук. Они лежат на полу перед каждым молящимся, и в моменты земных поклонов ладони опираются на подушечки, чтобы не загрязниться руки должны быть чистыми при «стоянии». Мне очень хочется полистать толстые книги в красивой, причудливой росписи таинственных букв с запутанной красной вязью кудрявых линий на страницах. Особенно привлекательны «лицевые» книги — с рисунками на отдельных листах. Там люди в хитонах, в рубашках, голые — и в раю, и в аду, там истовые ангелы и озорные дьяволы с козлиными рогами, там и невиданные смешные чудовища, там Сирин и Алконост, горящие, как жар-цвет… Но эти книги на замке. Я часто прикладываю ухо к крышке сундучка и прислушиваюсь мне чудится, что в сундучке совершается какая-то невнятная возня. Сундучок закапан воском, от него пахнет ладаном.
Дед тянет меня за рубашку. Он держит наотмашь свернутый жгутом утиральник.
— Это ты чего там делаешь, курносый, а? Вот бог бесам тебя бросит… а бесы тебе зубы сокрушат…
Он замахивается утиральником, но не бьет меня.
— Кланяйся в ноги, курдюк!.. — взвизгивает он, и я догадываюсь, что в голосе его смех и удовольствие. — Падай, кланяйся в ноги! Ну-ка!
Я послушно падаю на пол, на соломенную труху, и тычусь головой в его валенки, мокрые и холодные от растаявшего снега. Валенки старые, курносые, подбиты толстой войлочной стелькой.
— Не так, не так!.. Не торчком, не пеньком!.. Рыбкой, курник!.. Рыбкой!
Я чувствую тяжелый, мягкий удар по бедрам и быстро ложусь на живот. Я уже знаю, что такое кланяться «рыбкой»: это распластаться на брюхе, биться лицом о пол и дрягать ногами. Я мельком вижу, как трясется от смеха бабушка в дверях чулана и на отечном ее лице ползут вверх ко лбу морщинки. Ее коричневое лицо похоже на лик иконы.
Тугой жгут опять падает мне на спину, и дед визжит пронзительно и грозно:
— А ну-ка!.. Вставай, поросенок! Сызнова!
Я тупо подчиняюсь приказанию деда и становлюсь на четвереньки.
— Забыл., что ли, как надо вставать? Кочетом надо!
Кочетом, а не теленком…
Он опять бьет меня жгутом, потом защемляет мое ухо в своих жестких пальцах-и тянет меня вверх. Я с ревом вскакиваю на ноги и стою, оглушенный смешливой угрозой.
— Молчать! Кланяйся в ноги рыбкой!
И он трясет надо мною жгутом. Я падаю на пол, на живот, дрягаю ногами, разбрасываю руки в стороны и задыхаюсь от слез. Я глотаю плач, чтоб не слышно было, и тыкаюсь в мокрые валенки деда. И когда слышу его визг «кочетом!», вскакиваю на ноги и трясу руками, как крыльями.
Меня подхватывает кто-то и уносит в темный угол — туда, где наша кровать.
Дед морщится от смеха. Борода у него трясется, редкие зубы запутываются в седых волосах. Он начинает возиться с ремнями, с веревками, с разной рухлядью, принесенной им с заднего двора, и скрипучим фальцетом напевает:
— По греха-ам на-аши-им… Господь посыла-ат… э-э-э… вели-ику бе-е-ду…
Бабушка грузно подходит к кровати и певуче говорит.
— Дедушка-то ведь играет… а ты, глупенький, трясешься… Эх ты!.. Весь в мать: оба, как осинки, ветерка боятся.
Она тычет мне черный теплый мякиш. Я засовываю его в рот, приклеиваю к нёбу и начинаю сосать. Это успокаивает меня. Привычка сосать мякиш осталась у меня надолго, и мне было очень трудно от нее отстать.
Бабушка идет к деду с деревянной гребенкой, которой расчесывает мочки кудели, садится на лавку, и дед щурится и добреет. Он кладет голову на колени бабушки и закрывает глаза, фыркая носом. Он очень любит рассуждать в эти минуты. Рассуждает он убежденно, кротко, любит, чтобы все молчали и слушали его. Это самое блаженное его время, когда он выражает свои мысли и чувства вслух. Он — мудрец, он — владыка, он — законодатель и моралист.
— Дрянной нынче народ пошел — квелый, мизерный, самолюбец. И каждый хочет показать свой характер. Безумные, чего хощете? От этого вот и разброд и попрание заветов. Раньше какие люди были! Орлы! Семьи-то дружные. А теперь все дробится, рвется в клочки и кружится, как охвостье на ветру. Вот наш дедушка Селиверст — лев, певга, кипарис. От века Катерины богатырь. Сто десять годов! Не болел никогда. Гирю в два пуда бросал до ста годов и хватал на лету. Барину правду в глаза возвещал небоязно. А барин-то был маленький, щуплый, визжит, топает, и уши лопухами. По пояс дедушке-то. Прыгает, кулачишками в брюхо его… И нагайка в руках, и все норовит нагайкой-то по лицу. А дедушка стоит, как гора, и смиренно ему возвещает: «Воля твоя, барин: мы — рабы от господа бога тебе и твоему роду дадены, а ты — наш владыка и отец… Но господь, царь небесный, — владыка и над нами и над тобой, барин». Ух, как грозно бушевал барин-то.
«Дерзкий, говорит, хам! Смерд! Я тебя казни предам!» — «Ну и казни, барин». И — в ноги ему, и стоит перед ним на коленях, как перед плахой. А потом барин сам же его гостям своим показывает: вот, бает, какой у меня богатырь и мудрец — цены нет. И перед господами сядет ему на горб и погоняет нагайкой. А то нанижет на него человек пять и орет: «Скачи!» А то велит в каждой руке по человеку поднимать. Со всей округи приезжали любоваться. Вот какой человек был! Сколь людей от убойства сохранил! На кулачках, бывало, спроть дюжины выходил. И на такое зрелище за сто верст бары глядеть приезжали. А сейчас? Не впрок пошла воля. Одно охальство: сын — на отца, брат — на брата, шабер — на шабра. И земля тоже тощая стала и голодная. А бывало — какие урожаи!
Катерина вяжет чулок из толстой шерсти и, не отрывая глаз от блещущих спиц, с наигранной кротостью говорит:
— А ты-то вот чего, тятенька, такой кукишный уродился? Мамка-то выше тебя на две головы.
И ехидно склоняется над вязаньем.
Она кажется мне тяжеловесной и горбатой: спина упруго выгибается, коса лежит на спине, как змея. Дед блаженно дремлет. Он лежит на лавке, тощенький, жилистый, крепко сбитый, в коричневой домотканой рубахе и в синих набойных портках. Голова его серебрится на коленях у бабушки, а борода расстилается по ее китайке и кажется зеленой.
Я жду, что от этого непочтительного вопроса Катерины дед вскочит, завизжит, затопает ногами, схватит жгут, который огромным серым червяком лежит в его ногах, и бросится на нее: он ведь не терпит никаких возражений и никаких вопросов. То, что изрекает он, — это неоспоримо и священно.
Но по разомлевшему лицу бабушки и по выжидательной, спокойной усмешке Кати видно, что дед будет лежать расслабленный и укрощенный. Он только бормочет невнятно:
— Дура ты. Рази можно так говорить с отцом? В кого ты такая уродилась?
— Вся в тебя, тятенька: и смирением, и лепотой, и благочестием.
— Ка-атька-а! — осудительно поет бабушка, но от смеха брови ее ползут на сморщенный лоб. Ей и страшно, и нравится эта опасная игра Катерины. Ка-атька, чего ты мелешь, мельница!
— Порол я тебя мало… мало порол… — ворчит дед, но голос его не страшен.
Мне было всегда любопытно смотреть на Катю, которая не боялась деда и братьев, и даже моего отца. Я был уверен, что она весела и бодра, и ходит как уверенная хозяйка, и посмеивается, и покрикивает, и ехидничает, и поет песни только потому, что обладает какой-то сверхъестественной силой, как девица-поляница, о которой певуче рассказывала мне бабушка, когда мы с ней по вечерам лежали на печи.
— Мало тебя пороли… — дремотно бормочет дед. — Ежели бы по-доброму драли космы, ты была бы девка как девка — в страхе жила бы, дышать бы не смела. Наш грех, Анна… за это с нас спросится на Страшном суде. Развернет ангел книгу, ткнет пальцем и возопиет: «А ну-ка, рабы божьи, грешницы нечестивые, как вы дщерь свою уму-разуму учили? Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его».
Бабушка смущена и подавлена зловещими словами деда: она молча смотрит на седую его голову, и руки ее слабеют.
А Катя ухмыляется, не отрывая глаз от вязанья, и притворяется испуганной. Она елейно вторит деду:
— А я, тятенька, выйду и скажу ангелю: «Ангель божий, милый, ты же сам видишь, неповинны они, тятенька с маменькой: ничего они со мной поделать не смогли. Тятенька со всей душой драл бы меня как Сидорову козу, да я уж больно отчаянная. Не раз было, ангель божий, когда я у тятеньки кнут вырывала, а его самого брала за плечики и к переднему углу подводила и кричала ему: «Молись богу, тятенька, уходи от греха!» — он только бегает да портками трясет…» Ангель божий тогда с улыбочкой поглядит, голоску золотую свою почешет и скажет: «Да шут с ними совсем! Пускай они, господи, идут в рай: все едино от них толку никакого не добьешься…»
— Не богохульствуй, дура! Дай срок, я полежу вот, посплю… а потом и космы тебе надеру…
Семья наша была небольшая — девяти человек, если считать по тому времени и меня за человека. Несколько лет назад было двенадцать: двух девок выдали замуж в соседние села — Марью и Пашу. Была еще прабабушка, да умерла недавно — мать бабушки. Бабушка родила четырнадцать детей, из них осталось семь. А семь младенцев умерли то от «горлышка», то от «горячки», то от «брюшка»; одного пропорол насквозь бык; другой сел на деревянные трехрогие вилы на гумне, когда, маленький, отважился съехать с соломенного омета вниз; третий уткнул.
Бабушка говорила о них, охая, причитая, с обычными стонами, но в голосе ее я не чувствовал ни горя, ни жалости. Вероятно, ей, как и мне, который этих детей никогда не знал, они были уже чужие — какие-то тени, похожие на угасающие призраки. Она называла их нежными именами — Демушка, Мишенька, Оленушка, — но эти имена были будто созданы ею самой: ни ее, ни меня они не волновали, — они были менее реальны, чем имена героев тех сказок, которые она рассказывала мне на печи. Оленушка и ее братец Иванушка были мне роднее, ближе, ощутимее, чем умершие ее младенцы. У ее младенцев Оленушки и Демушки — не было никакой интересной судьбы: они родились и исчезли, а Оленушка и Иванушка из сказки жили в моем воображении, как живые ребятишки, с плотью и кровью. Это мои одногодки, такие же белоголовые кудряшки: она — в сарафанишке, он — в пунцовой рубашке и в портчишках. Иванушка утонул в болотце — в таком же, как в жуткой котловине за селом, у речки, покрытом зеленой ряской, с глазастыми, мордатыми лягушками. Оленушка сидела так же, как я, — на корточках — и очарованно смотрела на таинственную ряску, одевающую неведомую воду болота, и на лягушек, глазеющих на солнце и глотающих его, не раскрывая рта.
Я спрашивал бабушку:
— А как бык запырял Демушку?
Она нехотя, насилуя себя, позевывая, отвечала:
— Так и запырял… поднял на рога и — бежать…
— А как? Расскажи…
— Так и поднял на рога… Бык — он бык и есть… А ты спи… перекстись и спи…
— А тебе их жалко?
— Как же не жалко, — знамо, жалко, глупенький. Да ведь жалеть-то грех: их ведь господь прибрал.
— А меня тоже приберет?
— А то как же, всех приберет.
— А когда?
— Не вем ни дня, ни часа… Когда он, батюшка, захочет, тогда и приберет. Он ведь не спросит: можно аль нельзя?
Одних — сразу, других — погодя… одних — во младости, других — в старости. Может, и сейчас в нощь. Вот сейчас лежишь, не думаешь ни о чем, хвать — он тебя и облюбовал! Перекстись и молчи, а го бес в уста войдет. Он ведь бесперечь за плечами караулит: прыгнет, махнет хвостом, щелкнет копытцами и — юрк прямо в рот!.. Глядь — уж во чреве. Они такие, беси-то! А ангель-хранитель сюит и плачет: обидно ему, что его бес-то перехитрил. Закрой рот, перекстись. Крестное-то знамение для беса — хуже всякого пугала.
Я думал об этом ангеле и о бесе постоянно. О них говорили каждый день, говорили чаще всех дедушка и бабушка.
Эти невидимые существа были как будто членами нашей семьи. Я чувствовал их присутствие всюду — и в избе, и во дворе, и в погребе, и в клети. Мне казалось, что они обладали одной способностью — не спать. Они прятались где-то по темным углам и исподтишка следили за нами. Бог был такой же неприступный, седой, неласковый, как дедушка.
Его боялись все, даже сам дед трусил: как бы этот сердитый старик не навредил ему. Дед каждое утро и каждый вечер стоял с лестовкой и подрушником перед иконами, покорно клал на себя кресты и тыкался седой головой в подрушник на полу. Позади него так же истово стояла бабушка, крестилась и кланялась с ним одновременно. Я смотрел на них и ждал, что оба они распластаются на полу и будут дрягаться «рыбкой», как я перед дедом. Иконы были темные, мутные, угрюмые, и ни на одной из них не было бога. Он, очевидно, сидел в углу, за досками икон и выглядывал оттуда, волосатый, как прадед Сильверст, — следил, по правилу ли кланяются ему в ноги, послушны ли, покорны ли дед и бабушка. И я чувствовал, что этот бог — злой и неудобный старичище, что он, как и дед, по своему жестоко-своевольному норову возьмет да и «приберет» ни с того ни с сего и деда, и бабушку, и мать, и отца, и каждого из нас… На него не угодишь: он — самодур, он шагу ступить не позволяет и всех держит под «десницей».
Что такое «десница»? Руки у него изуродованы, крючковаты, как у деда, и брови такие же лохматые, закрывающие глаза, и глаза мерцают, как у кота вечером, из-под жутких бровей. О нем никто не говорит без страха: он давит всех, как постоянная угроза. Может быть, я слышал и голос его по ночам: я знал, что голос его глухой, хриплый, грозный.
А вот ангел и бес — это были совсем иные существа. Ангел, пожалуй, был похож на мать — светловолосый, курносенький, в длинной рубашке. Он беспомощный, чуткий ко всему, как мама, и говорит так же робко, с надрывом, как она же. Он часто плачет и вытирает слезы рукавом. Его часто туркает и обижает забияка бес, а бес — живой, веселый, вертлявый проказник. Он обязательно что-нибудь нашкодит: то выкупается в ведре воды, которую не покрыли с молитвой на ночь, то заберется в горшок с молоком, то защекочет во сне кого-нибудь из нас. Сема часто вскакивает во время сна на кошме, становится на колени, чешется, отмахивается, бормочет и смеется. А то под печкой начинаются возня и писк. Я ненавидел этого беса за маму: он измывался над нею так нахально, что она билась на постели, вся дрожала, обливалась потом и выбегала на улицу, на мороз.
Вероятно, такое издевательство над матерью он производил, когда злился и мстил ей за ее безответность, за неизлечимый ее испуг и ангельскую печаль. Этот бес мне казался маленьким, мохнатеньким уродцем с хохочущей мордочкой, с мягкими рожками и собачьим хвостиком. Он носится и прыгает на копытцах, строит рожицы, показывает красный язык, а глаза у него горят, как угольки. Он всегда выдумывает какие-нибудь озорные делишки. Он доступен и прост, но неуловим, потому что он невидимка! Если бы он вдруг попался мне на глаза, я не испугался бы и обязательно отлупцевал. бы его за проделки над матерью.
Но бог — гнетущая обуза, как дед: он не позволяет ни играть, ни кричать, ни петь. Он требует молчания, мертвого покоя. Нам, детям, да и парням просто дышать нельзя под его стариковским гневом. Стоит нам позабыться и шумливо зашалить — сейчас же нас глушит окрик деда:
— Отпорю, бездельники! Чтоб вас разорвало! Бога не боитесь…
Он идет к иконам, снимает медный ось ми конечный крест и направляется к нам. Мы в ужасе замираем на месте. Нет, не выносит бог наших детских удовольствий.
Иногда по утрам бабушка со страхом рассказывает деду, как ночью бродила по избе, опираясь о лавки и жутко постанывая, мохнатая тень, и бабушка, ни жива ни мертва, спрашивала у нее: «К добру аль к худу, батюшка?» А тень стонала: «К худу! К худу!..»
Вот он какой, наш домашний бог. Без людей в избе я не мог оставаться. Единственно, кто мог уживаться с этим богом, — это дед. Только они двое и понимали друг друга.
III
Отец был старшим сыном в семье. За столом он сидел по правую руку деда, по левую, с краю, присаживалась бабушка. Каждый знал свое постоянное место; сидели все по старшинству: возле отца — Сыгней, за Сыгнеем — Тит. На другой стороне, на приставной лавке, — Катерина, Сема, мама и я. Иногда мне разрешалось сидеть между отцом и дедом. Я гордился этим и задыхался от страха. Прислуживали у стола бабушка и мать: бабушка господствовала, распоряжалась, а мать безмолвно исполняла приказания.
Рассаживались после общей молитвы. На молитве дед стоял впереди, за ним — бабушка, а потом кучей — все остальные.
— «Боже, милостив буди мне, грешному…» — бормотал со вздохами дед и клал крест тяжело, неторопливо, истово и низко кланялся.
Все делали то же самое в один и тот же момент, как по команде. Небрежности и разнобоя в крестном знамении и в поклонах не допускалось. Женщины поднимали фартуки, откладывали их на левую, прижатую к груди руку и крестились двуперстием — «на темечко, на пупочек, на плечики».
Потом все молча занимали свои места, и дед открывал трапезу: он крестился, и все крестились, смотря на стол, потом он брал ложку и тянулся к большой глиняной чашке, наполненной квасом и тюрей из картошки и лука. Как лакомство, квас белился молоком. Ложки стукались в болтушке, переплетались, мешали друг другу и после короткой бестолочи уносились ко рту. Если кто-нибудь из нас торопился протянуть ложку к чашке раньше деда, он хмурил брови, размахивался и бил виновника ложкой по лбу.
— Куда лезешь? По череду бери!
За столом хмурое, скитское молчание. Однажды мать, погруженная в себя (с ней это случалось часто), протянула свою ложку раньше других. Дед пронзительно посмотрел на нее из-под седых бровей и ждал, когда она понесет ложку обратно. Все оцепенели. Отец стукнул раздраженно по ее ложке и опрокинул ее.
— Ты чего? Слепая, что ли? Чего лезешь раньше время с ложкой-то? Гляди у меня!
Мать испугалась, посинела и ложку уронила в чашку.
Дед протянул руку, погрузил пальцы в тюрю и вынул ложку. Он молча встал с места и деловито сказал:
— Ну-ка, давай лоб-то! Череду не знаешь? Твоя череда — последняя в дому.
Мать встала, покорно и немо наклонилась над столом, и дед два раза ударил ее ложкой по лбу. Она не села — боялась сесть — и вся дрожала. Прыгал подбородок, губы, а глаза, залитые слезами, смотрели на деда обреченно.
Отец волновался и тоже был бледен. Он злобно оглядел мать и цыкнул на нее:
— Садись! Чего стоишь… дьявол!..
Бабушка не заступилась за мать: она считала, что невестку поучили кстати, что невестка должна привыкать к самоунижению.
Только Катя звонко выкрикнула:
— Да чего вы бабенку-то мордуете? Эко, какое дело сделала! У нее сердце заходится, больная она, а вы ее долбите.
Тятенька-то ведь рази что понимает?
— Я те вот косы-то выдеру. Ишь выскочила… кобыла чала! Тебя не спросили.
— Ты, тятенька, меня не трог…
— Молчать!
Дед ударил кулаком по столу, и от удара и чашки, и хлеб, и солоница подпрыгнули с грохотом и треском. Катерина ухмыльнулась и равнодушно сказала:
— А ты, тятенька, протягивай ложку-то с молитвой… а то других в гнев вводишь… бога гневишь…
Ужин кончился молчанием: все были подавлены, все боялись дышать. Казалось, что вместе с тюрей все стараются проглотить ложки. А дед был доволен, — он истово собирал пальцами крошки и клал их в рот, потом всей сучковатой пятерней схватился за бороду.
— Ну-ка, мать, вставай! Поднимайтесь! Молиться надо… Убирайте со стола!..
Вставали гурьбой в прежнем порядке на молитву. Потом дед опять садился за стол и, отдыхая, делал распоряжения по хозяйству.
— Завтра на мельницу надо, Васянька. Два мешка смелешь на сита. Сыгней, иди проворней, гнедку корму замеси, да напоить надо! Титка! Корове дал соломы-то? То-то, а то все вы только и норовите работу бросить — да на улицу.
Назем-то на дворе не вычистили… лодыри! Семка, Федька!
Чтобы завтра чуть свет — за грабли!.. На поле надо вывозить…
Помню один из таких вечеров. Отец сидел на почтительном расстоянии от деда и напряженно тер глаза ладонями: это для того, чтобы не глядеть на деда. Он делал вид, что занят этой работой серьезно. Как обычно, он обсуждал с дедушкой план завтрашних работ с достоинством большака и рассудительного хозяина. Только иногда он бил ногой кошку под столом.
Женщины сели за свои гребни и пряли куделю. Бабушка в чулане бормотала что-то про себя, звенела посудой, чугунами.
Мы с Семой забрались на печь и скрылись в темноте, чтобы нас не видели.
Тит и Сыгней перемигнулись и стали одеваться. Я уже знал, что они собираются на улицу, на гору, к ребятам — подраться на кулачках и пройтись под гармонь через все село.
— Куда это вы? Валенки надо подшивать. Федянька одну кафизму прочитает — слушать надо.
Сыгней с готовностью, скороговоркой ответил:
— Мы на двор, тятенька. Лошади надо замесить… Сейчас только говорили. Овец поглядеть надо. Пестренькая-то су ягнится.
Он умел ловко заговаривать зубы. Незаметно вместе с Титом они исчезли за дверью.
— А Сыгнейку женить надо — избалуется, — деловито решил дед. — Да и бабу надо лишнюю в дому: твоя-то вон и денег тех не стоит, что в кладку дали.
Отец сидел хмуро и нелюдимо.
— Ежели женить Сыгнея, батюшка, так надо овец продавать. Чего же у нас останется?
Дед важно доил свою бороду.
— В извоз поедешь… от Митрия Стоднева. В Саратов!
Кожи повезешь. Мед. Хлеб. Сходно.
— А как же без лошади дома-то?
— У Каляганова кобыленку возьму. Поедешь в извоз с шабрами. Готовиться надо.
Мать испуганно глядела на отца. Он не обращал на нее никакого внимания.
Катерина съехидничала, прислушиваясь к пению веретена и поплевывая на пальцы, которые быстро и ловко тянули и крутили нитку у самой шелковистой мочки:
— Хоть бы сам-то тятенька в извоз поехал на придачу к братке — все-таки вздохнули бы вольготней…
Отец смотрел на нее из-за ладони неодобрительно, но в глазах играли лукавые огоньки. А дед веско изрек:
— Вот и Катьку надо с рук сбыть. Засиделась. Рази тоже до двадцати годов в девках сидеть? Сватьев надо звать.
— Сначала бы ее, батюшка, надо выдать, а потом и Сыгнея женить. Теперь кладка-то дороже стала — целковых двадцать. Вот то же на то же и выйдет.
— Поговори у меня! — цыкнул на него дедушка. — Без тебя ума нет?
Дед не терпит, когда при нем высказывают свои суждения: сыновья должны беспрекословно выполнять его приказания — не перечить, не советовать. Какие могут быть свои мысли у молодых? Жизнь прожить — не поле перейти.
У него, у старика, на теле столько рубцов, что, если сложить года всех его детей, это число составит только часть этих следов. Он, старик, весь прошит кнутьем и кулаками: он вышел из барщины. Он знает, что такое власть барина-самодержца: ты червь под ногою владыки, тебе ничего не принадлежит — ни колоса, ни волоса. У тебя есть голова на плечах, чтоб иметь помыслы, есть руки, чтобы выполнять труд, есть ноги, чтобы ходить, но ценность человека определяется волей барина. Воля твоя — воля барина, руки твои — желанья барина, ноги твои — капризы барина. Вот его, деда, однажды барин заставил сто раз бесперечь прыгать через дугу. Сорок раз прыгнул — за дугу задел, и она упала. Барин повелел ему дать сорок кнутов, а после порки опять приказал прыгать сначала. Он согрешил — схитрил, обманул барина, тайно проявил своеволие: задел дугу на десятом разе — думал, что барин ему даст только десять кнутов.
А барина нельзя обмануть: за своеволие ему дали девяносто кнутов. Сидел он в сарае и плакал: своя-то воля дурацкая, своя воля красна волей хозяина. Наутро он с великой радостью и усердием сделал сто прыжков летал над дугой птицей. И барин был доволен, и он, дед, постиг великую премудрость рабского самоотречения.
— Мы — рабы божьи, — поучал дедушка при всяком случае, угрожающе постукивая пальцами по столу. — Мы — крестьяне, крестный труд от века несем. Но ни коеждо не рабы антихриста и аггелов его — сиречь попов, немецкого начальства, еретиков-табашников, бритоусцев с бляхами и позументами. Несть нам воли и разума, опричь стариков: от них одних есть порядок и крепость жизни.
У отца твердел и бледнел нос, глаза жестко и упрямо смотрели в ничто: видно было — нутро кипело у него.
Власть деда и его поучения были ему невмочь. Он копил в себе постоянную злобу против деда, и она часто прорывалась круто и мстительно. Он был страшен в своем гневе и раздражении, когда унижалось его достоинство как самосильного мужика. К деду он относился с молчаливой злобой в его отсутствие, а в глаза выражал преданность и безусловное подчинение. Он тоже почитал крепкие устои семьи.
И вот на такое поучение он и посмел возразить деду:
— Теперьча, батюшка, люди — другие и жизнь — на другой лад. Бар таких теперьча нет, и крепости нет. Сейчас человек сам свою жизнь устраивает. Раньше, при господах, люди из деревни на сторону не бежали, а сейчас как тараканы расползаются. Сейчас, батюшка, сам знаешь — жить не при чем: ни земли, ни прибытка. Что ты сделаешь на душевом осьминнике? Мы вон тоже спокою и день и ночь не знаем, а завтра, может, с голоду сдохнем. Приходится думать, батюшка, как бы самому мне не пришлось на сторону уйти.
Дед сначала как-то растерялся: его поразила речь сына-большака. Таких слов от него, всегда молчаливого и как будто всегда согласного с ним, он не ожидал. Потом лицо его стало черным, борода запрыгала, и он весь взъярился. Его потрясал гнев, и я ждал, что он бросится на отца и начнет его бить. Но он обернулся на иконы и перекрестился, медленно и трудно. Казалось, что у него даже кости затрещали.
— Царь небесный, владыка милостивый! Не допусти до черного слова, огради меня от дьявола.
Он спокойно взял железную кружку, из которой пил квас, и ударил ею по голове отца. Она зазвенела, и сразу же на коже отца появилась кровавая полоса. Это было так неожиданно, что отец ошалело вскочил со своего места. Катя взвизгнула:
— Да ты чего это, тятенька?!
Мать бросила гребень и подбежала к отцу. Донце с дребезгом полетело на пол. Она стала около отца и безумно смотрела на дедушку. А дед размахнулся еще раз и хотел опять ударить отца.
— Слушай, когда говорят старики!.. Не перечь отцу, а слушай со страхом… Кланяйся в ноги!..
Мать плакала навзрыд, хватаясь за отца, и в страхе смотрела на деда.
— Батюшка! Батюшка!.. Прости, Христа ради!..
Отец вырвался из рук деда и, оправляясь и стирая кровь со щеки, срывающимся голосом, стараясь сохранить достоинство женатого мужика, говорил:
— Я почитаю тебя, батюшка… Не выхожу из твоей воли… А руки на меня не поднимай… Не страми перед людями…
Дед топал ногами и визжал фистулой:
— Кланяйся в ноги, арбешник!
Из чулана вышла бабушка и, охая, плакала стонущим голосом:
— О-оте-ец!.. О-оте-ец!.. Не греши, отец… Аль он тебе, Васянька-то, неспослушный? Опомнись, бай… О-оте-ец!.
Дед визжал, трепыхался, и портки у него тряслись и пузырились.
— Доколь я жив, я тебе царь и бог! Слова сказать тебе не велю. Хочу на карачках будешь ползать, хочу — пахать на тебе буду. Шкуру спущу!
Катерина уже безучастно пряла куделю. Только один раз она позвала маму.
— Невестка, отойди от греха, а то еще под руку попадешь, оглушат… Много ли тебе надо…
Мать не слышала ее и дрожала около отца, теребила его за рубашку, тянула к себе:
— Фомич! Фомич!.. Чего это делается?..
Отец оттолкнул ее и взглянул на нее так страшно, что она вся съежилась и затопталась на месте, как дурочка.
И тут же рухнул на пол, ткнулся головой в ноги деда и промычал:
— Прости, Христа ради, батюшка!..
Дед серьезно и деловито сказал:
— Бог простит… Ты старший, ты своим братьям и сестрам пример. Умру, приберет бог, — ты им наставник и власть.
Отец встал, весь красный от стыда и унижения, накинул на плечи шубу, схватил шапку со стены и вышел из избы.
Мать тихонько всхлипывала. Катерина безразлично пряла куделю и пристально смотрела в мочку. Бабушка стояла в дверях чулана с голыми руками в тесте и стонала.
Дед полез на печь. Он опять был благодушен, доволен собой.
— Семка, пошел отсюда!.. Садись за Псалтырь, а я спать буду.
Семка кубарем слетел с печи и спрятался в чулане у бабушки.
Катерина подошла к маме и зашептала:
— А ты плюнь на них, чертей, невестка… не ввязывайся Каждый кочет кукарекать хочет. Сиди да издали гляди.
Сиди пряди да в нитку плюй… До чего же мужики дураки Ох, до чего же дураки!
Мать горестно вздыхала.
IV
После смерти первого мужа бабушка Наталья, еще молодая, осталась бездетная, — одинокая, без куска хлеба. Некуда деться, — пошла на заработки на сторону. Она была одна из первых вдов, которые отважились бросить деревню после «освобождения». Работала она на рыбных промыслах в Астрахани, служила стряпухой у купцов в Саратове, несколько лет провела на виноделии в Кизляре. Там-то она и прижила в тайной любви мою мать — Настю. По возвращении в деревню бабушка работала у барина. Работница она была горячая, старательная. Ее брали охотно — безропотная была и мастерица на все руки. И за чистоплотность уважали: каким-то чудом для деревни она одевалась хорошо и девочку свою держала опрятно. Хотя она вела себя строго и неприступно, но у нее была «крапивница» Настя, и этого было достаточно, чтобы каждый озорник мог обохалить ее на улице, перед народом. И она старалась не показываться среди людей. Беззащитная, оскорбленная, пряталась где-нибудь в скотнике или на гумне и плакала, прижимая к себе Настю. Она не стерпела такой жизни и перебралась в семью своего брата — в село Верхозим, за двенадцать верст. Но и там не нашла себе пристанища: встретили ее у брата, как отверженную. Тогда они, с подожком в руках, с котомочкой за плечами, вместе с Настей прошли двести верст до Саратова. Там они работали на поденной. Потом сели на пароход и поплыли в Астрахань, к племяннице, которая держала крендельную пекарню. На пароходе мечтали: в крендельной хорошо работать — труд чистый, хлебный, мукой сладостно пахнет и румяными, горячими кренделями. В крендельной не пришлось им работать: племянница встретила их неприветливо. Переночевали они не в горнице, а в пекарне и на другой день устроились у одной бобылки и вместе с нею стали крутить чалки. Коекак дотянули до весны и опять возвратились в деревню.
Жил в соседнем помещичьем лесу сторожем Михайло Песков, крупный телом старик из нашего села. Был он человек строгой жизни, неподкупный, воровства и порубок не допускал. Но когда мужики законным порядком пилили бурелом и сушняк или рубили строевой лес на избы, Михайло не мешал увезти лишний воз дров малоимущему мужику и совал ему корец меду из собственной пасеки. Пчеловод он был знаменитый — на всю округу, и к нему наезжали даже из дальних сел за наставлениями. Трезвую его, честную жизнь народ связывал с праведным делом пчеловодства.
Говорили, что пчелы не жалили его, и он никогда не надевал сетки на лицо.
— Она, пчела-то, чует… — убежденно толковали мужики. — Она прозорлива. Она не подпускает ни пьяного, ни грязного, а супостата не жалует… Не терпит ни прелюбодея, ни вора… Михаиле — правильный человек!
Шли к нему со всех сторон за советом: как заткнуть дыру в хозяйстве, как больную лошадь направить, какую девку в дом взять, за кого замуж выдать… Он охотно давал советы, и их выполняли строго. Знал он всех мужиков, даже из далеких сел, — знал, как они живут, какие у них слабости, какое хозяйство у них, какая семья, кто трудолюбив, кто лодырь, сколько своей душевой земли, сколько арендует… Терпеть не мог он кабатчиков, барышников, мироедов.
— Мироеды — лихоимцы. Жизни мужику не будет от них: всех по миру пустят. От них и пьянство, и воровство, и всякое непотребство…
Большой, костистый, седоволосый, Михаиле ходил в чапане и в лаптях, с клюшкой в руках. Этот чапан и лапти, когда он проходил по деревне, делали его чужим, и появление его на улице было целым событием. Бабы высовывались из окон, мужики бросали работу и глядели на него разинув рты. В нашей деревне не носили ни лаптей, ни чапанов — считали это зазорным. «Лапотников» и «чапанников» презирали. Мужики носили сапоги, бабы — «коты» и, чтобы не обувать лаптей, предпочитали ходить босиком.
Мужики шили себе поддевки, бабы — курточки-душегрейки с длиннейшими узкими рукавами. На руку надевали только один рукав, другой болтался пустым. Эти поддевки, душегрейки, сапоги и коты носились многие годы и нередко переходили от отца к сыну, от матери к дочери. Я видел у матери в сундуке шелковый сарафан и алый полушалок, которые перешли к ней от прабабушки. Но чапан и лапти Михаилы Пескова не вызывали осуждения: это его облачение ставилось ему даже в достоинство. Михаиле — старик лесной, живет среди божьей природы, а пчелы любят в человеке только природное естество. Шел он по улице, высоко подняв голову, важно, неторопливо, каждому кланялся, и все знали, что Михаиле неспроста появился в селе, что идет он куда-то, выполняя какой-то ответственный долг: значит, у кого-то нелады в семье, кого-то надо направить на истинный путь, кого-то надо проводить в могилу. И всегда нес он корец меду.
У Михаилы умерла старуха. Недавно он женил восемнадцатилетнего сына Ларивона. Сын был такой же высокий и коренастый и, несмотря на молодость лет, уже оброс бородой. Это был странный по характеру парень: жил неровно, волнами. Вот он весел, ласков, с отцом говорит побабьи нежно, певуче и называет его «родной тятенька», «милый, дорогой родитель», работу по дому выполняет за троих, с увлечением, без отдыха. А то вдруг мрачнел, зверел, начинал без всякого повода бить лошадь остервенело, долго — кулаками, палкой, оглоблей, — бить до тех пор, пока и лошадь и сам он с пеной на губах не падали на землю.
Михаиле выходил к нему из избы неторопливо, весь черный от гнева, и оттаскивал его от лошади.
— Ларька, не истязай животину! Опамятуйся, разбойник!.. На скотине нет вины и греха…
— Уйди, тятя! — хрипел, брызгая пеной, бешеный Ларивон. — Уйди!.. Душу мою, тятя, в грех не вводи…
Михаиле нашел Ларивону тихую, кроткую девку из нашего села — Татьяну. Но Ларивон и с Татьяной повел себя так же, как с лошадью: то ласкал ее, лелеял, то вдруг начинал бить до потери сознания. И вот Михаиле порешил взять в дом бабушку Наталью с девочкой. То ли бабушка внесла в лесную избу Михаилы какой-то особый благостный дух, то ли она взяла на себя хозяйство и освободила Ларивона от многих обязанностей по двору, — Ларивон с полгода вел себя легко, ласково, ровно, и постоянно слышался его мягкий голос.
— Мамынька! Как твоя воля и словечко, мамынька, так и будет… Ты в дому у нас, мамынька, как солнышко ясное.
И эти возгласы были похожи на бабьи причитанья.
А потом начал опять куролесить и беситься. Сразу пристрастился к медвяной браге и стал пить запоем. Чтобы спасти Настю от тяжелой его руки, увозили ее на время в Верхозим. Когда Ларивон приходил в себя — рыдал, валялся в ногах у отца, у бабушки Натальи и у жены, а потом шел из леса за восемь верст в Верхозим и еще с улицы кричал в окна:
— Настенька, сестрица моя! Прости меня, Христа ради, окаянного. Мушке-комарику не дам обидеть тебя. На руках носить буду Приводила его в человеческий вид и успокаивала только бабушка: она обхватывала лохматую его голову, прижимала к груди, отводила его на лавку, укладывала, гладила по волосам, по плечам и убаюкивала, как ребенка.
Через два года у бабушки родилась девочка Маша, и у Татьяны — мальчик. Михаиле бросил лес и переехал в село: думал, что на людях Ларивон станет лучше. Стали крестьянствовать.
Михаиле сел на своем наделе — на четверти десятины земли, а чтобы свести концы с концами, взял у барина исполу две десятины. За долгую службу в лесу барин дал Ми-, хайле ржи на посев и на прокорм. Несколько пеньков Михайло поставил на усадьбе, за своим двором, в кустах черемухи. Но не впрок пошли эти пеньки Михаиле: однажды утром он нашел пеньки на боку, весь мед был очищен, а мертвые пчелы кучами лежали на земле, лишь одинокие пчелки летали над пустыми колодами. Михаиле долго смотрел на это поруганье и тихо плакал. С этого случая он сразу одряхлел: глаза его начали слезиться и затряслась борода. Он снял чапан, лапти, посконную рубаху и оделся, как принято было в деревне, в фабричное.
А Ларивон как будто ожил в селе: стал легким, веселым, общительным. По вечерам и праздникам выходил на улицу, к общественным амбарам, где собирались парни и девки, молодые мужики и бабы. Там до полуночи пели песни, плясали под гармошку, обнимались. Неизменно выносилось ведро медвяной браги, которую они покупали в складчину, и Ларивон стоял перед ведром на коленях, черпал ковшом и певуче, нежно приговаривал:
— Миколя, дружок, пей, родной!.. Жизнь наша, Миколя, чижолая… Шабер! Гриша!.. Аль мы с тобой не один пот льем? Аль не одно горе мыкаем?.. Пей, Гриша, милый!..
Ежели были бы крылышки, улетел бы в незнаемые края. Зачем силы наши на сей земле без радости губим?.. Эх, грусть-тоска, зазноба, дальняя сторонка!.. День да ночь — сутки прочь, а перед тобой — все едино лошадиная репица…
А солнышко играет в навозной жижице… Жил я в лесной берлоге… Миколя! Гриша!.. Шабры вы мои кровные!.. Неужто же, милые мои!.. Неужто же так до гробовой доски небо нам в овчинку, а солнышко — медный грош с орлом… маячит и в руки не дается?..
Теперь уже не помогало баюканье бабушки Натальи. Он поднял руку и на нее. А когда бросилась на защиту Настя, он чуть не искалечил ее. И впервые Михайло связал Ларивона и долго порол его ременным кнутом.
И еще больше сгорбился и одряхлел Михайло. Голос у него стал тихий, дряблый, больной. Видно было, что старик глядит в гроб.
Собрал он как-то всю семью торжественно, истово. Все стали перед иконами и помолились молча. Потом Михайло сел за стол, в передний угол, и веско, строго, как перед смертью, объявил свою последнюю волю.
Так как Михайло чует, что бог скоро пошлет по душу, с этого дня он вверяет все хозяйство Ларивону. На него, Ларивона, возлагается большая ответственность — блюсти порядок и благосостояние в дому, быть кормильцем и защитником домочадцев. Много предстоит испытаний Ларивону: ежели он не ужаснется своих пороков — пьянства, жестокости, — то он скоро погубит и себя и родных. Это испытание накладывает на него сам бог. Старшую дочь Натальи надо сейчас же выдать в хорошую, строгую семью. Мать свою, Наталью, он, Ларивон, никак не должен обижать. А ежели после его, Михаилы, смерти мать захочет уйти из семьи, Ларивон обязан выделить ей заслуженную часть: пусть она живет в келье, а для прокормления он обязан дать ей телицу.
После этого Михайло отошел от хозяйства и стал жить молчаливо и отчужденно. Ларивон с год жил смирно, трудолюбиво и не брал в рот хмельного. В этот год Михайло умер.
Настю в пятнадцать лет отдали замуж за моего отца.
Отец тогда был заметный и завидный жених. Кудрявый, опрятный, расторопный, он пользовался славой умного парня, который не водится с бражниками, гармонистами и пустобрехами. Льнул он больше к старикам, слушал их мудрые речи и сам рассуждал с ними, как опытный в житейских делах. В деревне ставили его в пример молодежи.
А молодежь его не любила: очень уж умничает Василий!
Ни в хороводе его нет, ни в ватаге парней, которые гуляли с гармонью по улицам, ни с девками, которые засматривались на него.
Старики по праздникам собирались у амбаров, рассаживались на бревнах и толковали о том, о сем — о домашних делах, о податях, о земле, о том, что пришли времена, когда жить уже не при чем, что люди уходят в сторону и заколачивают свои избы, что многие думают переселяться в Сибирь, что заел арендой барин, что выкупные платежи совсем задушили народ. Отец присаживался к ним, рассуждал, как старик, смотря себе в сапоги:
— Оно еще хуже будет…
— Ну? Неужели еще хуже? Куда уж больше…
— К тому идет. Народ множится, земли нет, душевой надел дробится. Барские угодья для мужика — кабала. Хорошую землю барин в аренду не дает: сам машиной обрабатывает. Нам же идет неудобная. Раньше барин отдавал эту землю из третьего снопа, сенокос — из третьей копны, а сейчас — исполу. Через год-два — руку на отсечение — будет у нас только третий сноп. Имение-то у него заложено-перезаложено — как ему свести концы с концами? Вот мужик и выручает, вот с него и дерут три шкуры. Мужик со всех концов в клещах: и барин его дерет, и власть дерет, и мироед дерет…
Мужики качали головами и поражались:
— А, батюшки!..
— Вот то-то и оно…
И старики восхищались умом и рассудительностью отца, тогда девятнадцатилетнего парня, и говорили деду:
— Ну, и сын у тебя, Фома Селиверстыч, цены нет…
Дед был доволен похвалой мужиков, но делал вид, что эта похвальба для него ничего не значит.
— Да ведь в нашем роду все разумом не обижены… Все кудрявы, все клявы.
И тут же начинал ворчать:
— Вот только порол мало… Ежели бы как следует порол, не стал бы перед стариками рассуждать. Ему бы молчать надо да слушать, чтобы… неотнюдь… чтоб дрожал, голоса не смел подать. Покамест еще не женили, попороть хорошенько надо.
— Попороть — это всегда надо… — соглашались старики. — Пороть — что поле полоть.
Отец бледнел, самолюбиво замыкался и натягивал картуз на лоб.
— У вас только одно и на уме и на языке — пороть. Это не при господах. Сейчас народ хочет жить без господ.
И уходил твердой, уверенной походкой человека, который знает себе цену, знает, что он умен, и не позволит оскорбить и унизить себя. Шел он гордо, с достоинством склонив голову к плечу и с важностью переваливаясь с боку на бок.
Мужики провожали его молча и обидчиво.
Дед несколько раз приходил к Ларивону сватать мою мать, но не сходились в цене. Ларивон просил за мать двадцать рублей, а дед давал двенадцать. Торговались долго, шлепали по рукам, обсуждали достоинства и недостатки невесты: она хоть и работящая, горячая и послушная девка, и с лица приглядна, только годами еще зеленая, ростом еще мала, еще грудью и бедрами на бабу непохожа, надо еще кормить, растить. Оно, конечно, семья Ларивона — хорошая, трудолюбивая, хозяйственная, но ведь и семья Фомы Селиверстовича достойных кровей. Сошлись наконец на четырнадцати с копейками и на ведре браги.
Через год мать скинула мертвую девочку. Лежала она после этого недели две в постели в жару, без памяти, а когда пришла в себя, встала и пошла работать. Как это случилось? Когда мать была уже на сносях, дед заставил ее таскать камни для кладовой. Она носила их на животе. Камни были тяжелые, угластые. К вечеру почувствовала родовые муки. Не доносила она ребенка месяца два. Роды были мучительные. Целые сутки мать кричала на все село, а над ней непрерывно читали Псалтырь.
После этого мать стала болеть припадками тяжелого нервного расстройства. Припадки повторялись часто, и болезнь эту все считали порчей.
Мать вошла в семью легкой, прыткой поступью, приятная, открытая, ласковая, и в избе сразу стало светло, певуче, радостно. Маленькая-, порывистая, она с горячей готовностью и ласковостью прислушивалась ко всем и старалась угодить всем — не потому, что хотела подольститься, а просто так — искренне, простодушно, от нежности сердца, от общительного характера. На другой же день она стала прибирать и прихорашивать избу. Голосок ее звенел и в избе и на дворе:
— Матушка, я это сама сделаю… Не трудись, матушка…
Катена! Давай окошки помоем… Сема, давай я новую рубашечку тебе надену.
И начинала петь тоненьким голосом песни.
Катерина сразу привязалась к ней, и они подружились и засекретничали. Понравилась она и Сыгнею, красивому парню, он глядел на нее и смеялся. Отец относился к ней безучастно, замкнуто, по-хозяйски, как чужой, и при людях не говорил с ней ни слова, только при надобности покрикивал строго:
— Настасья!..
И это имя как-то не шло к ней. Она пугалась и озиралась, как ушибленная.
Дед оглушил ее с первых же дней. Он вошел в избу с кнутом, остановился посредине и крикнул:
— Это кто тут хохочет? Кто песни орет? Чтоб у меня в избе тихо было, мертво, чтоб на цыпочках… Ах ты, курица! Закудахтала!
И пошагал к ней, зыбко сгибая колени. Только свои знали, что его волосатая седая усмешка и пронзительные медвежьи глаза играли добродушно и безобидно. Но мать сразу онемела, съежилась, с ужасом уставилась на седую лохматую голову деда и оцепенела при его приближении.
— Кланяйся в ноги!..
Мать рухнула на пол и ткнулась головой в сапоги деда.
— Прости, Христа ради, батюшка…
— Ну, то-то… бог простит… Слушайся… Ты не девка: ты в чужой семье. Угождай, молчи, будь скромной, бога поминай.
Бабушка стояла в дверях чулана, красная от жары, и смотрела молчаливо и растроганно: ей было и жаль молодую невестку, которая трепетала в ногах деда, и нравилась эта торжественная минута. Невестка должна знать свое место в доме, и смелость ее, и девичье веселье не должны оскорблять строгой благопристойной тишины и незыблемых устоев старинной семьи. Бабушка сама родилась и выросла в «крепости» и не знала иной доли, кроме вечного рабства. Она не знала ничего, кроме своей избы, поля и барского двора. Ее мир ограничивался только гумнами, ее небо синело и блистало звездами только над своей деревней, и для нее был огромным событием выезд за околицу, верст за пятнадцать, в гости к своим дочерям, выданным в Даниловку и в Выселки. Ее мир — это был мир застывшей, нерушимой, неизменной, раз навсегда установленной дедами и прадедами патриархальной семьи. Если бы эта привычная жизнь нарушилась и в нее ворвались бы новые порядки и новые люди, она не вынесла бы перемен.
На свою невестку-девочку она смотрела как на «крапивницу», чужачку, привезенную свахой Натальей из далеких, неизвестных стран. Невестка — плод бродячей, скитальческой жизни, дитя греха и пороков. Хотя девочка и воспитана в семье Михаилы, хотя она и росла в истинной вере, но в ней скрыт яд греха и дьявольской вольности. Ее надо держать строго, приучать к безмолвию, безропотности, покорности и красоте скитского смирения. Но, при этой суровой отрешенности, у бабушки была слабость к состраданию, к слезам, к хорошей, задушевной песне и к вопленью. Она души не чаяла в своих детях, особенно в дочерях, и для нее было высшим наслаждением встретить Пашу и Машарку, которые приезжали к ней в гости раз или два в год, и повопить с ними в обнимку. Обычно к ним присаживалась мать, и ее сердечный голосок надрывался среди их голосов и потрясал их своей скорбью и девичьей тоской. И бабушка после этого несколько дней была с ней нежна, участлива и смотрела на нее любовно и благодарно.
Она по-своему привязалась к матери: ее хрупкая незрелость, ее ужас перед дедом и мужем, ее кроткая услужливость и нетерпеливая готовность делать все, что велят, ее игривость и песни с оглядкой, тайком, под покровительством Кати — все это трогало бабушку. Но она, бабушка, сильная, большая, презирала слабеньких телом, запуганных, прозрачных душою женщин. Ей приходилось скорее беречь невестку, чем распоряжаться ею. Невестка была как былинка, которая гнется от ветерка: ее ничего не стоило растоптать. А бабушке нужно было проявить свою власть и силу свекрови полностью. Однажды она попробовала размахнуться — проявить свое могущество по-настоящему. С вечера она замесила тесто в квашне, а квашня была большая: это — липовая кадушка, сделанная из цельного толстого комля, — аршин в высоту и аршин в диаметре. Утром тесто вылезало наружу. Бабушка приказала перенести квашню с тестом на другое место, а сама ставила огромные чугуны в пылающую печь. Ручка ухвата трещала и гнулась, и было боязно смотреть, как чугунище, полный воды, пружинно дрожал и покачивался в огненном жару печи. Мать торопливо обхватила квашню и хотела ее поднять, но квашня только сдвинулась с лавки на край. Мать, синяя от натуги, в страхе крикнула:
— Матушка!..
Бабушка поставила чугун, вынула ухват и прислонила его в угол. Она увидела, как невестка, надрываясь, приседает под тяжестью квашни, квашня валится на нее.
Бабушка разгневалась:
— У, непутевая, чтоб тя тута! И с квашней-то сладить не может. Трещит, как лучина.
Она подхватила квашню жирными руками, почти без натуги переставила ее на лавку. Мать стояла перед ней, убитая и виноватая.
Сыгней очень похож на отца и на деда, такой же маленький и кудрявый, но брови у него густые и не разрываются над переносьем. Он — непоседа, шутник, хохотун, любит наряжаться. Особенно неравнодушен к сапогам с длинными узкими голенищами, которые он долго и любовно собирает в мелкую гармошку. Одна у него мечта — быть хорошим сапожником. Он часто пропадает у шабра-чеботаря Филарета, чернобородого сутулого мужика, и жадно следит за его работой. Филарет пользовался его слабостью и заставлял помогать себе — подбивать подметки деревянными шпильками, сучить дратву, натягивать на доску заготовки. Сыгней часто бросал работу на дворе и убегал к чеботарю. Работа тогда взваливалась на Тита и отца. А Тит злился и бросал лопату, грабли, когда чистил навоз, или топор, когда рубил дрова. Неуклюжий, с вогнутыми в коленках тяжелыми ногами, он ломал черенки у граблей и отбрасывал ногами лопаты и вилы. Отец деловито подходил к нему и раза два спокойно, рассчитанно давал ему кулаком по уху. Потом добродушно, с лаской старшего, приказывал ему:
— Титок, бери-ка проворнее вилы и накладывай навоз в сани… Отвезешь назем на усадьбу, заедешь на гумно — возьмешь колосу из половешки.
Тит не слушал. Он всегда приходил в бешенство от хозяйской степенности отца. Повадка и голос отца, его авторитетная строгость были непереносимы и для него и для Сыгнея. В борьбе с отцом они выступали вместе, хотя дрались между собою из-за того, что Сыгней старался взваливать свою долю работы на Тита.
Ярость Тита была опасной и зловещей: он хватал железные вилы и бросался на отца. Лицо его серело, глаза безумели, и он похож был на обозленную собаку.
— Хвост!.. — взвывал он плаксиво. — Хвост!
Отец как будто не видел и не слышал Тита. Он напевал про себя какую-то духовную стихиру и сгребал навоз поближе к саням.
— Ну-ка, Титок, попроворней… накладывай… Надо успеть все подчистить и убраться по двору… «Иже глубинами мудрости человеколюбие вся строя…»
— Хвост… у тебя и жененка-то порченая… Тебя еще тятенька за волосы таскает.
— Титок! — дружелюбно уговаривал его отец. — Ну-ка, поддевай-ка вилами-то…
Он как будто не замечал рядом с собою Тита с вилами, направленными на него. Заботливо, торопливо подгребал граблями навоз к саням, хлопотливо шагал обратно, уверенно раскачиваясь с боку на бок. Потом внезапно вырывал вилы из рук Тита и хватал его за грудки.
На крик выходил дед. Отец торопливо бормотал:
— Бери скорее вилы, Титок! Я скажу, что мы играли.
И громко кричал:
— Титок! Будя, поиграли… Иди-ка кончать с навозом-то.
— Бездельники! — кричал дед. — Дармоеды!
Тит покорно ковырялся вилами в навозе и всхлипывал, пряча лицо от деда.
Вместе с Сыгнеем они постоянно придумывали мстительные шутки над отцом. То набивали ему в шапку сажи, и она обсыпала ему лицо и шею, то прицепляли на поддевку обрывок рогожки в виде хвоста, и когда он шел по улице, они следили за ним издали и давились от хохота. Бывали и опасные проделки. Однажды, когда ездили с ним на гумно за соломой, они ухитрились свалить на него сучковатую слегу. Для того чтобы солому не разносило ветром, кругом омета ставили слеги — длинные, тяжелые жерди.
И вот когда он сполз с омета, слега упала на него и сшибла с ног. Он сильно ушибся и долго корчился на снегу, кряхтя от боли. А Сыгней и Тит как ни в чем не бывало с невинным видом поднимали слегу и притворно охали и ахали.
Отец с этого дня стал подозрительно следить за ними.
Они тоже охотились за ним, притворяясь кроткими и послушными меньшаками. И все-таки они перехитрили его.
Сыгней вертел Титом, как ему хотелось: он был всегда весел, расторопен, легок нравом, а Тит тяжкодум, нелюдимо скрытен. На всех он смотрел, как на врагов, озирался, прятал глаза и руки и сам прятался в каких-то потаенных углах.
Катя как-то шутливо крикнула ему:
— Ты, Титка, как бы косу у меня не отрезал. А то еще крест стащишь. Подковки-то у меня от котов кто отодрал?
Ах ты, скряга-коряга!
Как-то после сильного снегопада и вьюги дед велел сбросить с плоскуши снег в прореху — во двор, на сани — и вывозить его на улицу: снегу намело так много, что плоскуша погнулась и грозила обрушиться. Мы с Семой с лопатами в руках стояли около саней и опасливо смотрели на клочья соломы и выгнутые слеги. В дыре мутно сияло тусклое небо, и свет туманно и холодно мерцал на снежной кучке. С плоскуши просачивался сердитый голос отца, что-то гнусаво возражал Тит, и Сыгней визгливо смеялся.
— Сыгнейка-то с Титкой не хотят к дыре идти — боятся, как бы не провалиться, — злорадно сказал Сема и крикнул, задирая голову кверху: — Эй вы, хозявы — руки корявы!
Скорее проваливайтесь — сани-то под дыркой; сразу гнедко на улицу вынесет, — лихач.
Кто-то шел осторожно по плоскуше, слеги трещали и упруго гнулись. Снег глыбой шлепнулся в сани и разлетелся белыми брызгами. Потом начали падать комья, и снежная пыль посыпалась, как мука. Когда снег на санях нагромоздился горой, Сема крикнул:
— Довольно! Поехали… Н-но!
В это время из дыры вверх ногами полетел отец. Он ударился головой в снег, и его отбросило в сторону. Испуганный и бледный, с ободранным лицом, он вскочил на ноги и, прихрамывая, погрозил кулаком вверх:
— Ах вы, прохвосты!.. Я вам припомню…
С края дыры свешивалась голова Сыгнея. Он морщился от пискливого хохота.
— Чай, я, братка, не нарочно… Ты не убился? Нога, окаянная, подвернулась. А тут еще Титок толкнул меня сзади…
Когда отец проходил по улице быстрой, твердой походкой, переваливаясь с боку на бок, из окон или с завалин смотрели на него мужики и бабы и говорили:
— А вы поглядите, как Васянька идет. Ногами-то… словно строчку стегает.
— Ну да, чай, мужики-то у них умники. А Васянька-то словами обделяет, как двугривенными.
В глаза его звали уважительно — Василий Фомич.
— Ребята-то у вас какие, Василий Фомич, — не баловники… не бражники… подбористые.
Отец самодовольно, с тщеславной небрежностью усмехался и умственно смотрел в землю.
— А кто в нашем роду дураком был? Кто уродом родился?
Но себя он считал умнее и красивее всех и рисовался перед людьми.
— Уж больно ты, Василий Фомич, форсу задаешь… Мы вот все думаем: не без барского тут промысла… Тетка Анна-то ведь при дворе жила… Не ущипнул ли ее невзначай княжой домовой?
Отец не только не обижался на эти намеки, но таинственно ухмылялся.
— Нашу семью ц при дворе из всех отличали.
— А дядя-то Фома, говорят, скоморохом был.
— Да ведь при барах все скоморохами были, да не все короткие кнуты плели.
Эта загадочная фраза ставила всех в тупик. И мужики трудно почесывались.
Но когда дедушка обращался с ним, как с недоумком, и порывался его бить, он оскорблялся злопамятно и мрачно, уходил, как бирюк в берлогу, и был страшен в молчании своем и замкнутости.
V
Каждый день заходили к нам шабры — заходили как будто по нужде: то призанять ведро пшена или мучицы до помола, то взять гнедка, чтобы отвезти рожь на мельницу.
Они садились на лавку поодаль и калякали о своих невзгодах и деревенских делах. Мужики считали деда умным и знающим стариком: он не только прожил трудную жизнь, но и на стороне в разных местах бывал извозничал и наблюдал, как живут люди в других уездах и губерниях. Он старик хитрый, осмотрительный: сто раз обдумает, сто раз проверит да примерит. И о чем бы ни говорили мужики, все разговоры сводились к «земле», к «аренде», к тому, что «жить не при чем»… Приходили обычно шабры нашего порядка и родственники. Чаще всех вваливался краснобородый Серега Каляганов в рваном полушубке, в облезлой шапке, в растоптанных валенках. Он нехотя крестился и кланялся иконам и сразу же мычал простуженным голосом:
— А я с докукой к тебе, дядя Фома. Где тонко, там и рвется. Без молотила череном хлеба не намолотишь, а нужду не взнуздаешь. Без шабров и куска до рта не донесешь. За пилой пришел к тебе, дядя Фома: хочу прясло ломать да дров нарубить. Топить нечем. — И мрачно шутил: — Может, к весне и избу по венцу разберу да в печке пожгу. А на пасху приходите хоровод круг печки-то водить.
Он крутил красноволосой головой, и глаза у него наливались злостью.
— Эх, такая назола, шабры, такая нужда! И голы, и босы, и есть нечего… А наш-то настоятель, Митрий Стоднев, совсем жилы вымотал… Долг на копейку, а работаешь ему на целковый. День-деньской на него трубишь, а семейство с голоду дохнет. Хотел на барский двор на поденную наняться — не пускает. Отработай свой долг, бает, тогда иди на все четыре стороны. А как отработаешь, когда нужда-то в тенеты гонит?..
И он нехорошо ругался, но бабушка совестила его:
— А ты постыдился бы, Сергей, дурные-то слова бросать. Гоже ли при девке да при малолетках-то!.. У нас сроду в избе-то черного слова не слыхали… Молиться надо, а ты с собой свору бесов приводишь. Вот бог-то тебя и наказывает!..
Серега угрюмо ухмылялся и злобно рычал:
— Мне, тетка Анна, молиться неколи: меня по бедности бог Митрию Стодневу в батраки загнал. Обо мне бог-то не помнит. Хоть лоб расшиби — не услышит. На мне только один грех — бабу свою колочу, больше мне не на ком горе срывать.
— Не богохульствуй, Сергей, — гневалась бабушка. — Не забывай, что сила твоя — в божьих руках. Гляди, Сергей, как бы казниться не стал всю жизнь…
— Я и так казнюсь, тетка Анна, — бунтовал Серега. — А за что? За какие грехи? За бедность свою? За бездолье?
А почему Митрий, мироед, не казнится? Кто ему довольство да счастье дарит? Бог аль дьявол? Вот над чем думать надо.
Бабушка сокрушенно бормотала:
— Господь терпенье любит… смириться надо…
— Я — терпи, а мироед да барин как сыр в масле катаются да на мне ездят. А мне вот терпенье-то кости ломает…
Дед лежал на печи или возился со сбруей, мудро усмехался и шутил:
— Ты бы, Серега, лучше в город подался да перед купцами силой своей похвастался: вызвал бы всех драчунов да кости им поломал. Страсть это купцы любят. Озолотили бы тебя.
Серега серьезно возражал:
— Там — мошенники: гирями дерутся. Миколай Подгорнов сколь годов по городам шляется: он все эти дела до тонкости знает. К тому идет: весной в город убегу. Здесь мне совсем урез, дядя Фома.
Уходя, он мрачно шутил:
— А может, мне, шабры, не прясло ломать надо, а шайку сбить — таких вот бедолаг, как я, да бар с мироедами громить?
Дед усмехался в бороду, а бабушка в страхе взмахивала руками и стонала:
— Не дай господи! Как бы на злодейство мужик-то не пошел. До чего бедность-то доводит!
Катя крутила веретено и, склонившись над мочкой кудели, смеялась:
— Сколько у мужика силы-то зря пропадает! С ним и трое не сладят. На кулачках за него весь наш порядок держится. Выйдет вперед, рукава засучит и шагает, как Еруслан.
Отец починял валенки и завистливо вспоминал:
— А работник-то был какой! Так все у него и горело в руках… На сенокосе аль на жнитве за ним никто, бывало, не угонится… Омет навивает — по копне на вилы подхватывает. И только смеется да кричит: «Подавай бог, а я не плох!..» А сейчас совсем запутался.
— А все винцо да бражка… — ворчал дед. При господах он знал бы свое место. За бражку-то на конюшне драли.
Отец пытался возражать деду:
— Аль от бражки он самосильство потерял? С прошлого-то неурожая не один мужик по миру пошел, а то на сторону голыми да босыми убегали. А мы-то, батюшка, разве лебеду не ели? Чай, только и спаслись тем, что всю скотину продали да бабьи холсты спустили. Так и не оклемались с тех пор: на барской десятине работа — исполу, а у Митрия из долгов не выходили.
— Говори… Без тебя не знают, — обрывал его дедушка. — Ишь умный какой! Такие, как ты, без отца-то нищими бродят.
Отец угрюмо замолкал и сопел над валенком.
Приходил дядя Ларивон с длинной бородой, заправленной в полушубок. Отец и дедушка казались рядом с ним парнишками. Это был красивый мужик: борода у него спускалась до пояса, густая, в искрах, цветом как свежий хлеб, а длинная борода считалась у нас единственным украшением мужика. Лицо у него продолговатое, нос — прямой, как у святого на иконе, глаза темные, горячие, тревожные: то в них переливалась ласка и женская нежность, то они обжигали бешенством, то в них металась тоска. У нас его не любили и боялись. Иногда он приходил с ведром браги, ставил его на пол перед собою и пил жестяным ковшом.
Расстегнув полушубок, бережно вынимал бороду и разглаживал ее ладонью.
— К тебе, сват Фома, люди ходят ума-разума набираться, — говорил он с усмешкой в глазах. — И меня тоска погнала за советом. Вспомянешь сейчас тятеньку-покойника: он бы и на ум наставил, и пути-дороги указал. А барин Измайлов только глаза таращит да лается: «Всё вы дураки и оболтусы! У старика Фомы учитесь: он — как уж его не ущемишь ни за башку, ни за хвост — выскользнет, а клок урвет».
Дед хотя и хмурился, но был польщен: он чаще фыркал носом, и в белесых глазах его поблескивали искорки.
— Мы все живем на земле, сват Ларивон, — мудрствовал дед, уминая большими пальцами ремни шлеи. — И от нее не оторвешься. А с барином мы век провели. Барину поклониться — не на плаху голову положить. У барина Измайлова четыре десятины целины просил — у самого болота которая…
— Знаю… как не знать… — усмехнулся Ларивон. — Все дивились, как ты барина обдурил.
— Никогда она не пахалась. А Митрий Митрич за версту ее объезжал. Кланяюсь ему с этой докукой. А у него — глаза на лоб. «Зачем, бает, тебе эта гнилая земля, Фома?
Там и бурьян не растет». — «А я, бай, Митрий Митрич, не осилю пахотную-то: несходно мне — исполу да два дня тебе работать. А тут ты мне эту землицу-то из четвертого снова отдаешь без отработки». А он таращится на меня да бороденку дергает: «Дурак, бает, ты, а еще старик. Ни беса там у тебя не будет, только лошаденку надорвешь да с голоду сдохнешь. Гиблое, бает, место, — там и растенье ядовитое.
Бери! Только после ко мне с нуждой не являйся: собак натравлю». Я ему в ноги, а ему лестно. Поднял я эту целину-то, вспахал вдоль и поперек и засеял — Дед поднял голову, показал из бороды редкие зубы, и глаза его хитро заиграли. — Такого урожая сроду мы не видели. Прискакал барин-то на дрожках, орет, лается. «Обманщик, бает, мошенник!»
Смеху что было!
Ларивон не смеялся, а тоскливо смотрел в сгорбленную спину отца, который подшивал стельку к валенку. Борода Ларивона лежала на полушубке, как конский хвост, и видно было, что он томится от избытка своей силы, что тесно ему и у себя дома, и здесь, и в деревне. Ему надо было ворочать большую работу, размахнуться бы вовсю, а он возится на своем дворишке, ковыряется на душевой полосе и из второго снопа работает на барский двор.
— Чего мне делать-то, свет Фома? — Он крутил волосатой головой и трудно вздыхал. — По моей бы силе мне лес рубить надо али в бурлаки идти. Пропаду я здесь… Поедем.
Вася, с тобой на Волгу.
Дед сурово хмурился и ворчал:
— А ты бражничал бы поменьше… Последнюю муку из сусека на брагу-то выскребешь и детишек по миру погонишь. На Волге-то только одни голахи. Не пил бы, а рачил побольше.
Ларивон мучительно просил:
— Сваха Анна, дай, Христа ради, кваску. Все нутре у меня изожгло от браги-то.
Бабушка, поджимая губы, с~недобрыми глазами, молча подносила ему ковш кислого квасу. Он выпивал весь ковш, не отрываясь.
— Кто отца-то, свата-то Михаила, в гроб вогнал? — обличал его дед. — А какой праведный старик был!.. Слушался бы его — в доме-то лепота была бы. А сейчас на гнилушках сидишь. И все крушишь и хурду-мурду на ветер бросаешь.
— Не говори, сват Фома!.. — горестно соглашался Ларивон и ошалело озирался. — Все из рук валится… Ходу мне нету, сват Фома, податься некуда. Не на себя работаешь, а на барина. С горя и дуреешь, сватья. Вот сестру Машку просватаю — кладку возьму и вздохну маленько. Она, Машка-то, девка — на все село: и приглядная и сильная, вся в меня. Максим Сусин сходную цену дает, да еще торгуюсь.
На барском-то дворе она совсем извольничалась, от рук моих отбилась. Вчерась выгнала меня, когда я ей о Максиме-то сказал.
Мать с тревогой поглядывала на Ларивона, но молчала, как полагается молодой невестке в семье.
Помню, пришел в такой час шабер с длинного порядка — шорник Кузьма Кувыркин, старик с серой кургузой бородой, жесткой, как кошма, лысый, похожий на Николая-угодника. И летом и зимой он ходил без шапки, в короткой шубейке и в кожаном, пропитанном дегтем фартуке, и я удивлялся, как он не обморозит свою красную лысину. Он всегда был веселый, а серебристые глаза смеялись. Голос у него был тоненький, дрябленький и тоже смеялся. На улице я его видел только у амбара, где у него стоял деревянный ворот и он вместе с рыжим сыном, бывшим солдатом, крутил сырые кожи. Он тоже любил выпить по праздникам и, пьяненький, бродил в своем фартуке по улице. Его провожали мальчишки, а он плясал на кривых ножках и пел фистулой, взмахивая руками:
Танцевала рыба с раком, А петрушка с пастернаком…И ласково кричал парнишкам:
— Размилые вы мои!.. Работнички радошные! — И напевал по-бабьи: Хорошо тому на свете жить, кому горе-то сполагоря… Вот я выпил и плясать хочу.
Он не положил еще последнего креста, а его голосок уже смеялся:
— Ты бы, Ларивон Михайлыч, шел ко мне в конпанью — кожи квасить да мять. Сила у тебя бычья, а кожи силу любят. А то болтаешься ты, как кобель на цепи, и воешь да норовишь и старому и малому в горло вцепиться.
Без работы-то бесишься. А работа и урода молодцом делает.
Дед поучительно подтвердил:
— Без работы — как без заботы: и умный в дураках ходит. Рачйть надо. Гнездо вить, а не разорять его. Хозяйство крепкую руку любит.
А Ларивон мотал длинной бородой и тосковал:
— Не по мне это, дядя Кузьма. Дай мне работу по душе, чтобы сердце радовалось, да такую, чтобы кости трещали.
Я тогда весь свет переворочу.
— Свет-то не переворотишь, Ларивон Михайлыч, — смеялся голосок Кузьмы, — и сам-то вверх ногами не вскочишь. Ты лучше покрепче на ногах стой да руками владей пользительно.
— У тебя, дядя Кузьма, рукомесло, — возразил Ларивон. — Ты землю у барина не арендуешь, на него горб не гнешь, а у тебя — деньги. Тебе сходнее мучки прикупить… да ты и к Стодневу тропочку протоптал.
— Чего и баить! Митрий-то Степаныч даст на полтину, а насчитает лишнюю пятишну. Ходишь растопыркой — ну и слава тебе господи. Коли жив да здоров — радуйся. Солнышко-то светит да греет, а до могилы еще не раз погуляем да попляшем.
— Ходу нет, — тосковал Ларивон, — податься некуда. Силов-то лишку бог дал, а без спорыньи. Распирает она меня, сила-то, и не знаю, чего мне хочется. И барин дерет, и волость дерет, а я, голый да комолый, места не найду и сам себе в тягость. — И вдруг сорвался со скамьи и забунтовал: Вася, Тита и ты, дядя Кузьма, пойдем на двор, подеремся. Я спроть всех пойду, душу отведу.
Отец, не отрываясь от работы, с недоброй усмешкой посоветовал:
— Ты иди, Ларивон, с мирским быком поборись, а у нас кости-то не кованы, да и силенки — в обрез.
Ларивон спрятал бороду в полушубок и ушел, шальной и разболтанный.
Зимой мужики сидели по избам: работа по дому была маленькая, неспешная, скучная. Утром сгребали и перебивали солому у коровы и овец на заднем дворе, давали корму, месили соломенную резку с отрубями гнедку, чистили двор, чинили сбрую, возили навоз на усадьбу, ездили за кормом на гумно. Но дедушка был неугомонный старик: он не мог сидеть без хлопот, всегда находил работу для сыновей и сам возился над какой-нибудь часто ненужной мелочью — над хомутом, над старыми вожжами, которые обновлял мохрами кудели. И обязательно заставлял и отца, и Тита, и Сему или чинить валенки и сапоги, или менять кожаную связку на цепях, или парить черемуху и крутить новые завертки для саней. Сема был мастер делать из лутошек всякие сооружения, всегда новые и интересные, и я все время торчал около него и старался услужливо помогать ему. Он делал настоящие грабли, красивые топорища из березового полена, строил маленькие тележки, а однажды сделал ветряную мельницу с шестернями, с колесами, с засыпкой и колотушкой. Он был горазд на выдумки, и даже дед однажды похвалил его и сказал поощрительно:
— Ты, Семка, этих безделушек-то побольше наделай, толчею там, дранку сколоти, сани согни, водяную мельницу… Я на базар поеду, продам их аль господам на барский двор отнесу. Все-таки рублишко выручу.
И днем мы с удовольствием мастерили эти машины, забывая, что дед отберет их у нас и утащит из дому. А когда готова была ветрянка, мы выбегали на улицу и испытывали ее на ветру. Крылья весело махали, колеса и шестерни вертелись, рокотали, поскрипывали, и мы оба с Семой смеялись от радости.
Мне было восемь лет, но я, как любой деревенский парнишка, был самосильным помощником для взрослых: наравне с мужиками я выполнял всякую работу по двору. Но я, как и Сема, как и шестнадцатилетний Тит, очень хорошо знал, чем живет вся деревня, сколько у каждого мужика земли, какая у кого нужда, кто чем промышляет, кто голодает, кто богатеет, сколько у барина земли и как он опутывает крестьян кабалой.
После «воли» наша деревня получила малый надел, а выкуп наложили на мужиков тяжелый, да еще надо было платить подати. Раньше, при барах, крепостные пахали всю барскую землю и каждый двор обрабатывал для себя пахотной земли много больше теперешнего. На барщину ходили через день. Теперь же они со своего надела не собирали даже на прокорм и принуждены были арендовать землю у помещика, а за аренду платить второй сноп или отрабатывать те же три дня в неделю, как и при «крепости», и терять дорогие дни на всякие повинности — дорожные, погонные, земские и волостные. Для себя оставалось мало времени, и мужики пахали, косили и жали впопыхах — выходили на работу затемно, ночевали в поле. Выгон был маленький, без сенокосных угодий — арендовали у барина исполу. Платили ему штрафы за потравы, а когда не на что было выкупить корову, овцу, лошадь, скотина стояла на барском дворе без корма по нескольку дней и часто подыхала. А барин брал деньгами сверх отработок. Весь лес был барский. Чтобы построить избу или амбар, загородить прясло или запасти дров, нужно было деревья на сруб или хворост на топку покупать, а для этого надо было закабалиться у барина, или залезть в долги к богатеям — к Митрию Стодневу, к старосте Пантелею, к Сергею И вагину — барышнику. Это было, пожалуй, хуже, чем барская кабала, они тогда морили за долги работой на своей земле и посылали далеко на сторону с кожами, с шерстью, с хлебом.
Многие мужики, как и наш дед, уезжали на своих одрах за сотни верст и пропадали месяца по два. И все-таки из долгов вылезти не могли. Некоторые наши шабры отдавали за долги свои наделы и Стодневу и Пантелею и батрачили у них из года в год. Серега Каляганов и Ванька Юлёнков даже свои усадебные полоски отдали Стодневу. У Сереги еще топталась на дворе костлявая кобыленка и грызла плетень и прясло. А у Юлёнкова лошадь подохла, и он продал ее на шкуру бродячим татарам. Держались еще кое-как коровы, о которых заботились бабы; потому что без коровы — ложись и помирай. Кое-кто уходил из деревни на заработки, и кое-где избы пустовали, окна были забиты досками. У Митрия Степаныча Стоднева скопилось уже много мужичьих наделов, но они были разбросаны и на той и на этой стороне. А так как большинство мужиков были у него в долгу и в волостном правлении все перед ним снимали шапки, он провел передел земли и наделы соединил за нашими гумнами в один участок, который доходил до Ключовской грани. Позади своей большой кладовой он построил каменный сарай, где хранились всякие машины. На этом участке работали, как на барщине, и Серега Каляганов, и Ванька Юлёнков, и кое-кто из шабров. Иногда выезжал в горячую пору отец или Тит на нашем мерине Рассказывали, что Серега раньше жил неплохо: и хлеба хватало у него до нового урожая, и держал двух лошадей и двух коров, до пятка овец. Работник он был сильный, заботливый, рачительный и завидно веселый. И жена Агафья была старательная баба. Жили они согласно. На масленицу любил он покрасоваться: катался вместе с женой на разукрашенной лентами паре своих лошадей и вихрем носился по селу с набором колокольчиков под дугой. Был плясун и песенник, а когда шел на кулачный бой, разудало закручивал рукава полушубка и вел за собой целую ватагу мужиков и парней. Но после большого неурожая он попал в лапы к Стодневу и уже не мог оклематься: продал овец, лошадь, женины холсты, оставил только корову, с арендой не справился, для работы по хозяйству не было времени — пропадал на барщине и батрачил у Стоднева. Так бился он несколько лет и все мечтал: вот разделается с долгами, отобьется от барщины и опять начнет хозяйствовать по-прежнему. Потом он запил, озлобился и, пьяный, стал бить Агафью. Все отвернулись от него, боялись встречаться, и он, как зачумленный, весь рваный, глядел на всех исподлобья, злобно и ненавистно. Но работал у Стоднева и на поле и во дворе с какой-то бешеной жадностью, молча и нелюдимо, словно мстил Стодневу за свои невзгоды. Я часто видел, как он яростно рубил дрова у кладовой, где у Стоднева навалены были целые горы леса.
Дедушка и отец жалели его, а бабушка и Катя ненавидели за Агафью, за его озверение. Мать боялась Серегу и, когда он заходил в избу, пряталась в чулан.
Дед вспоминал прошлые годы и хвалил его:
— Такого работника да рачителя и сыскать не сыскать.
Бывало, я сам ходил к нему советоваться: как-де мне быть да как-де в капкан не попасть? Разумный был мужик, не обманщик, своего не уступит, ну и чужого не возьмет.
А страсть любил помочь устроить и сам на помочь ходить.
И барин и Митрий все жилы из него вымотали… Как тут не озлобиться человеку?..
Отец не сторонился Сереги и часто ходил к нему в избу и о чем-то калякал с ним. Приходил он от него встревоженный и замыкался в себе.
Дядя Ларивон был в таком же положении, как и Серега, но никак не мог согласиться, что он давно уже не самосильный хозяин, а барский батрак, даже хуже чем крепостной. Он не мог расстаться с клочком надельной земли и всеми силами держался за аренду барских десятин. Он надрывался на этих полосах, надсаживал лошаденку до упаду и вдруг сразу бросал соху и борону на поле, приводил лошадь в хомуте домой и в отчаянии запивал на несколько дней.
Дедушка был старик изворотливый и не брезговал побарышничать на стороне, когда ездил в извоз. Так как никаких счетов и документов и в помине тогда в деревне не было, а сдача и прием товаров производились по памяти, дедушка по дороге продавал и покупал и кожи, и шерсть, и воск с выгодой для себя. При сдаче товар был налицо; бакалею, красный товар и керосин он привозил полностью, но выручку от торговлишки прятал у себя в потайном углу. Он очень хорошо знал, что Митрий и хитростью и всякими правдами и неправдами не погасит долга, а еще сделает начет, чтобы покрепче пришить к себе дедушку и заставить его служить постоянно, как работника, который ничего ему не стоит. Если и причиталось что-нибудь деду, Митрий совал ему и красного товару, и керосину, и гвоздей, и сапожной кожи, но обязательно оставлял за дедом должок.
— Тебе, Фома Селиверстыч, надо и девку с невесткой, и парней одеть, обуть, чтобы не зазорно было перед народом-то. Тебя-то почитают и в домотканом, а молодых сейчас в домотканое не оденешь. Наше село исстари в сапогах ходит. Пинжачки, да жилеточки, да картузики носит. Деды и прадеды наши пришли сюда из Владимирских да Мижгородских слобод, где они тонким тканьем да чеботарским ремеслом занимались. Сыспокон века в чистоту облекались.
И нам с тобой родительский обычай рушить нельзя, грех.
Бери — сочтемся. Мы одной веры, одной пути к богу. Парнишкам конфеток да орешков дам. Это — дар, не в счет. Федяшке радость будет. Он маленький, а Псалтырь читает, божье слово на устах держит. Его богородица посетила и просветила его разум. Я его в моленной к пенью приучу.
И помни: всяко даяние благо и всяк дар совершен, свыше есть сходя от отца светом…
Хотя дедушка был хитроват и недоверчив, но очень слаб к божьему слову: оно действовало на него, как колдовство И Митрий Степаныч, как мудрый настоятель и вероучитель, обезоруживал его. Дед относился к Митрию двояко, словно перед ним было два человека: мироеда и лавочника он старался перехитрить и ухватить клок выгоды, спорил с ним из-з-а каждой копейки, а вероучителя и настоятеля почитал и верил ему бескорыстно.
Я иногда украдкой пробирался вслед за дедом в кладовую Митрия Степаныча, наполненную всякими диковинными товарами, чтобы полюбоваться этими чудесами и невиданными богатствами, и меня не выгоняли. А Митрий Степаныч даже ласково шевелил рукой мои кудри и совал мне длинную мохрастую конфетку, увитую золотым пояском.
— Ну-ка, грамотей, гласы-то знаешь?.. То-то. Какой это глас? — И он гнусаво напевал: — «Первовечному от отца рождшуся божию слову…» Ишь какой разумник!.. Верно, второй глас. Ходи к часам и к вечерне, становись на скамейке, около налоя. Слушай и пой.
Дед, польщенный, с истовой, улыбочкой приказывал мне:
— Скажи: спаси Христос за доброе слово, дядя Митя.
Я сконфуженно через силу бормотал благодарность и, не отрываясь, смотрел на лубочную картину на каменной стене. Митрий снимал ее с гвоздя и протягивал мне.
— Это райские птицы-певицы: Сирин и Алконост. Возьми себе и пой, как они, — сладостно и лепо. Один вьюнош слушал их целый век, как един миг, и когда в себя пришел, поглядел в родник и увидел себя седым старцем. Чудо великое, и велика сила божественного пения!
Дед благочестиво вздыхал и гладил бороду.
— Боже, милостив буди мне, грешному…
Митрий Степаныч умел говорить красно и увлекательно.
Он завораживал и старого и малого, и слова его и певучий, проникновенный голос звучали как музыка. Так, вероятно, пели и эти вещие птицы — Сирин и Алконост. Но этот свой талант красноречия Митрий Степаныч не расточал даром: каждое слово его стоило мужикам очень дорого. Мироед и настоятель сочетались в одном лице, как могучая сила:.
Митрий Степаныч и в моленной, и в лавке, и в деловых разговорах с мужиками красотой слова и неотразимой мудростью лишал их воли к сопротивлению, гасил в них недоверие и злобу и потом делал с ними что хотел. Но когда мужики трезвели, приходили в себя, они восхищались талантом Митрия Степаныча, но ругали уже не его, а самих себя.
— Ну и дураки! Ну и губошлепы! Ведь знали, что неспроста чубы заговаривает, а вот поди ж ты… Прямо в пасть ему угодили. Ну и живоглот! Эх, чернота, легковеры! Так нам, чертям, и надо… учены мало!
Но ученье не шло впрок мужикам. Стоднев богател с каждым днем и становился непреоборимой силой, а мужики все больше запутывались в его тенетах.
Не лучше был и управляющий барским имением, Митрий Митрич Измайлов высокий, сухопарый, строгий старик с военной выправкой, с выпученными жесткими глазами, с искалеченными пальцами на левой руке. Он ходил стремительно, властно и щелкал по голенищам сапог нагайкой. Зимой он ездил на тройке или цугом, одетый в пухлую серую шинель «полтора кафтана». Большую часть своих угодий Измайлов сдавал мужикам в аренду маленькими клочками, а меньшую обрабатывал плугами, косил и молотил хлеб машинами. И на поле и на конной молотилке работали у него наши мужики, как на барщине, — бесперебойно, посменно, через день. Дворовых людей у него было мало: конюхи, сторожа и кухонная прислуга. Те, кто арендовал землю исполу, на барщину не ходили, а второй воз ржи отвозили на барскую молотилку. Но и эти осенью нанимались на резку подсолнечника и на рытье картошки по гривеннику в день. Мы, ребятишки, бегали на картошку с удовольствием: это была дружная и веселая работа. Каждую субботу мы получали по шести гривен и летели домой, счастливые и богатые. На высоком крыльце барского двора за столом сидел Измайлов и судорожно теребил свою стриженую бороду искалеченными пальцами, а конторщик Горохов, тощий и большеносый парень, считал на счетах и что-то записывал на бумаге. Парни, девки и мальчишки стояли толпой перед крыльцом и ждали, когда их вызовут по фамилии. Когда управляющий вызывал меня, я замирал от страха и бежал к крыльцу, как на казнь: нагайка, надетая петлей на руку управляющего, извивалась змейкой, а быстрые и страшные глаза его пронизывали, как ножи. Я не помнил, как сбегал с крыльца и прятался в толпе. Дома я отдавал деньги отцу, или матери, а они высыпали гривенники и пятаки на ладонь дедушке. Мать обнимала меня и шептала нежно:
— Работничек ты мой! Сам себе рубашонку-то заработал… Дедушка-то теперь не будет попрекать…
А бабушка ласково стонала, улыбалась и ставила на стол чашку каши с молоком.
— Потрудился, милый внучек, и кашки поешь. Помощничек золотой…
Иногда и Сема получал вместе со мной такое угощение, но чаще всего он оставался дома и работал на дворе.
VI
В святки у нас работали швецы — шили новые шубы и чинили старые полушубки. В избе едко и кисло пахло овчиной. Овчина была золотой, и от нее поднималась дрожжевая пыль. Всюду — и на полу, и на лавках — валялись кудрявые пестрые лоскутья, а на столе волнами вздымалось лохматое, обильное руно. У перегородки чулана на полу пышным ворохом лежала солома для топки, она тоже была золотая.
Швецов было двое — старый солдат Володимирыч с сыном Егорушкой, черномазым, горбоносым парнем. Впрочем, Егорушка, был болгарин, и Володимирыч привез его из Болгарии после турецкой войны. Он взял его как сироту, не разлучался с ним в походах, а потом, уже дома, усыновил его. Володимирыч носил ремешок на голове — подпоясывал им свои волосы. Его лицо старого ветерана, с колючим подбородком и бачками, было суровым и грозным, но голосок был певучим и добрым, а глаза умные и ласковые. Работал он расторопно, щелкал наперстком, пересыпал разговор прибаутками, рассказывал о своих походах и постоянно давал практические советы бабам и мужикам по хозяйству и по разным вопросам жизни.
Для меня приход швецов был настоящим праздником.
Они вносили в нашу строгую и постную жизнь бодрое беспокойство, точно в избу врывался свежий ветер. Много интересных россказней, шуток, загадок, игр и выдумок приносили они с собой. Где они блуждали до нас, в какие неведомые края уходили пешком, с сумками за плечами и палками в руках? Вероятно, у них весь свет родня. Должно быть, они так же заходили в другие деревни, так же, как у нас, открывали дверь знакомой избы, входили в копотную духоту и скороговоркой наперебой причитали у порога:
— Мир дому сему, хозявы. Пришли швецы, зимние скворцы, расторопные молодцы, с ножницами, с наперстками, с иголками — стегать шубы с фантами, со сборками…
Вот и мы, швецы, душеспасительные скоморохи, коих любят блохи, прибыли на счастье молодухам, девок замуж отдавать, а с парнями свадьбы играть…
И кланялись в пояс, с шапками наотмашь.
— К доброму часу или не ко двору, хозявы? Принимайте, хозявы, швецов, радошных гонцов, к святкам, к посиденкам, к молочным пенкам…
Этот говорок сыпался речитативом, немножко нараспев, с особыми лицедейскими взмахами рук, с застывшими, серьезными лицами. И хозяева обычно становились у передней стены, любовались гостями и настраивались по-праздничному.
— Подите-ка, гости дорогие, милости просим…
Тогда швецы истово и молча шагали вперед и размашисто крестились на иконы.
— Ну, здорово живете!.. Мир вам и благодать!
— Спасет Христос…
Три раза все низко кланялись друг другу. Только тогда переходили на обычный разговор.
Дед, как всегда, деловито топтался по избе и кричал с сердитым добродушием:
— Опять шайтан принес тебя, Володимирыч… Трубку курить к церкви прогоню, табачник… За оградой там, нечистый, смрадом дыми.
Володимирыч рассупонивался, клал холщовую котомку на лавку, раздевался, а за ним раздевался и Егорушка. Володимирыч хитренько таращил глаза на деда, сбрасывал с седых усов сосульки, и бачки его сердито топорщились на щеках.
— Чем твой дух, Фома Сильверстыч, чище моего дыма?
Дым мой табачный через огонь идет. Огонь — страшная сила: он и свят и проклят. В трубочке он играет, в лампочке улыбочки дарит, в пожаре бедствие… а на войне — победа и поражение… расскажу я тебе, как сей огонь на Балканах бурями бушевал…
Володимирыч мог рассказывать целыми днями — и всегда к случаю, к слову, кстати. И все слушали его с неистребимым интересом. Он никогда не повторялся. Я мог сидеть на лавке около него целые часы и слушать, забывая о себе, о страшном дедушке, обо всем на свете. А говорил он убеждающе, проникновенно, сам переживал свои истории.
Язык у него был для разной были свой, неповторимый: то веселый, шутейный, с подкашливанием, с подкрякиванием, с игрой глаз и бровей, то мрачный, зловещий, с пристальным взглядом, с угрожающими жестами, с ожиданием в глазах, то песенный, спокойный и умиротворяющий.
К нему привыкли и ждали его, как своего человека. Но все держались от него и от Егорушки поодаль, да он и сам старался жить с нами как-то издали, но не обижался, а снисходительно усмехался бровями и солдатскими бачками.
Глаза его в это время зеленели и лукаво смеялись. Все дело было в том, что он любил свою трубочку и частенько выходил на двор полыхать ею, а в безделье брал метлу и подметал сор у крыльца или колол дрова под навесом. За обедом и ужином садился он со своим парнем на конце стола и ел с ним из отдельной чашки. Квас тоже наливали им ковшом в их кружку. А когда убирали посуду, то мыли ее тоже отдельно и ставили подальше от домашней посуды. Швецы были «мирские», табашники, а мы — «правой веры», «древнего благочестия». Иногда Володимирыч шутейно, как будто по ошибке, с молодым озорством в глазах, тянулся своей обгрызанной ложкой в нашу огромную глиняную чашку с желто-зеленой глазурью. Все испуганно замирали, а мать и бабушка истошно взвизгивали:
— Ой, батюшки! Чего это ты, Володимирыч? Каянный!
Обмирщишь ведь… беды не оберешься. Канун из-за тебя стоять придется.
— Ох ты, пречистая, пресвятая богородица, беда-то какая! — с притворным ужасом, по-бабьи причитал Володимирыч. — Чуть в ад семью-то с собою не потащил. Однако, дядя Фома, я, выходит, сильней вас: одна ложка моя семерых сечет… Ух, как трудно живется вам, праведницы!..
Гордыня вас заела, людие… И похожи вы на лошадей на дранке: идут они день-деньской по кругу, а с места ни на вершок, и морды к кормушке прикованы. Чего стоит эта ваша гордыня-то? Вы меня поганым считаете, недостойным коснуться вашего ядева, а где это сказано, что вы лучше меня?..
Отец строго и непримиримо смотрел на него и поучительно изрекал:
— «Аще будет армянин и христианин в пути и чаша едина и аще испиет армянин прежде воды, то христианину из нее не пити, а сосуд разбити и молитвы не давати».
— Вася! Чудодей ты! Ведь это же там говорится насчет армянина. А какой же я армянин? Я же единой с тобой крови. Но, однако, знаю, что армяне такие же христиане, как и мы с тобой. Не гордись, Вася.
— Истинные христиане — мы, старообрядцы, поморского единобрачного согласия… — резал отец. — А изречения Писания нужно принять по научению наших толковников.
И, закатывая глаза под веки, спешил мудро изречь другое правило:
— «Все еретицы подобает отметати, зане таких сообщение зело прилипно, яко общение прокаженных…»
— Не уважаешь ты человека, Вася. Нет у тебя любви евангельской. Христос ел, и пил, и спал вместе с самарянами и блудниками. Он сказал: не препятствуйте идти ко мне малым сим. А может, я лучше тебя в тысячу раз. Какой ты судья?
— Это было до Никона. А сейчас все никонцы еретики, оные же попрали заветы святых отец.
— Парень ты хороший, Вася, а толковники твои вместо языка ботало тебе привязали. Вот ваш Митрий Стоднев… или староста Пантелей: маслице они жмут из вас первый сорт. Вот тебе и толковники.
Женщины слушали отца с благоговением и восторгом: какие он неслыханные слова говорит — и все от Писания. Не поймешь что, а за душу хватает и жутью веет от их тайного смысла. Но на Володимирыча взирали со страхом и трепетом: как бы своим богохульством не нагнал нечистой силы.
Дедушка хмурил седые брови, становился грозным и, хватаясь за бороду левой рукой, правой истово клал на себя двуперстное крестное знамение.
— «Изженут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради…»
Это было любимым изречением деда, когда он приходил в гнев. Он, как владыка дома, патриарх, блюститель заветов отцов, обязан был охранять чистоту веры и обычаев. Он не мог допустить оскорбления святыни со стороны «мирских поганцев»; вольное слово их охально и губительно. Как можно допустить, чтобы эти бродяги, хотя и давнишние дружки в делах и личном общении, могли нарушать незыблемость основ? Тут дети, бабы. Тут может произойти соблазн.
Эти слова деда, суровые и властные, как окрик, сразу водворяли тишину. Я украдкой посматривал на деда и видел его косматые седые брови и глаза, которые пришивали каждого к месту. Эти его слова тоже казались мне седыми и зловещими. В них была суть деда, душа его, в них было что-то магическое, как в заклятии. Что такое «навылжуще» и «менеради»? В этих словах не было смысла: в их таинственной невнятности была какая-то особая выразительность, свойственная деду. Если бы дед просто прикрикнул, стукнув ложкой о стол: «Ну, будет вам языки точить! С молитвой ешьте!» — этот обычный окрик не произвел бы нужного действия: все бы, пожалуй, замолчали на миг, но разговор опять возобновился бы с прежним оживлением, и в нем никто не почувствовал бы особого греха, соблазна, погибели. Но так как в этой угрожающей бессмысленности было какое-то пророческое предупреждение, какое-то гнетущее возмездие, «перст божий», неведомая сила, то все чувствовали себя пригвожденными к «немому смирению». Дерзость Володимирыча после этого казалась уже неуместной и нетерпимой. Это я видел по его лицу: он смущенно улыбался, покачивая головой, и до конца обеда уже не вступал в спор с отцом. Но он не мог молчать, как все: характер у него был живой, веселый, говорливый. Он шутил или заговаривал с дедом о хозяйстве, о земле, об извозе, о городах и деревнях, где бывал дед, когда извозничал, рассказывал разные истории из своей жизни, богатой событиями.
— Ниточки, бабочки, готовьте… посуровее, покрепче, холстеца на кармашки. А тебе, курник, шубу-то со сборками али с фантами? — обращался он ко мне, делая страшные глаза.
А я, счастливый его вниманием, лепетал, замирая под взглядом деда:
— С фантами… с пуговками…
— Я вот ему фанты-то кнутом настегаю… Баушка! Дайка мне кнут… Где он, кнут-то?
Сердчишко у меня начинало биться гулко, больно, до удушья.
А бабушка, колыхаясь от беззвучного смеха, вставала с места и со стоном плыла ко мне и становилась позади тетки Кати, Семы и матери. Она наклонялась ко мне, пропахшая квашней и капустой, и шептала, поглаживая мои волосенки:
— А ты иди… поклонись дедушке-то в ножки… и скажи:
«Сшей мне, дедушка, шубку, Христа ради…» А он тебе скажет: «Еще кланяйся…» А ты еще поклонись и головкой в ножки ему постукай. Он и скажет: «То-то! Сошью уж…»
А ты ему: «Спаси тебя Христос, дедушка! Сохрани тебя пресвятая богородица…» Вот как надо-то, дурачок!
Она выводила меня из-за скамейки, я шел, закрывая рукою глаза от стыда, залезал под стол и делал так, как говорила бабушка: все выходило в точности по ее слову.
Но этим не заканчивался мой подвиг: сердито кричал отец и требовал того же. Приходилось елозить под столом и кланяться валенкам отца. Потом очередь наступала для Семы. Он это делал легко, уверенно, юрко, по давней привычке.
Святочные вечера были для меня и Семы полны волнений и причудливых переживаний. Святочные ночи — месячные, фосфорические, волшебные ночи: люди, события, вещи — близкие, знакомые, обыденные — превращаются в чудесные и страшные видения, в сказочные образы. Действительность неотделима от фантазии, обычное — от призрачного. Все полно таинственности и предчувствий. Не знаешь, где кончается реальная жизнь и начинается сновиденье. Мерещится золоторогий олень Евстафия Плакиды, трепещет крыльями жар-птица… О них певуче по вечерам рассказывает бабушка.
После ужина дед заботливо одергивался, приводил себя в порядок, надевал полушубок, шапку и шел с фонарем на двор — проверить, даден ли корм скотине, заперты ли хлев, конюшня, погреб. Возвращался он с хомутом, со шлеёй, с разного рода конскими и упряжными принадлежностями.
Все это он бросал на пол — починить, подправить. Если сбруя справна, он будет подшивать валенки. Но перед этим он после ужина должен с час полежать на печи. Ночь длинна, а зимняя ночь дадена богом мужику для подготовительных работ на весну: как говорится — готовь соху да телегу зимой. Надо справлять сапоги, коты и калоши на святки, чтобы в великую седмицу их можно было мазать дегтем.
Для деда лежанье на печи после еды — это не только благостный отдых и потребность, но и почтенный обычай старины. Он лежал там глубокомысленно и дремал, бормоча себе в бороду невнятные слова и какие-то непонятные изречения.
А Володимирыч рассказывал под жужжанье бабьих веретен и щелканье наперстков:
— И вот, друзья мои, лежу я на полатях… ну, как вот ребятишки… и вижу…
Он замолкал и обводил всех предупреждающими глазами. Мы с замирающим сердцем, со страхом ждали необыкновенного.
— …И вижу — хлынула…
— Ну? Вода-то? — нетерпеливо вскрикивает мать.
— Она! Из дверей, из окошек… А зима… Так же вот… святки… Наводнение… На полу уж озеро… уж до окна… Уж стол, одежда поплыли… Все — на полати… Пол-избы!.. Печку затопило…
— Ну, ну? — Катя бросает веретено, и глаза ее горят ожиданием.
Мать в ужасе застывает и подбирает ноги на донце.
— Вот те и ну…
— И не потонули?
— Да и воды-то не было… Ничего не было… Глаза отвели.
Ночи сияют лунным снегом. Когда идешь по улице по санной дороге, льдисто накатанной полозьями, со следами подков, снег по сторонам играет и пересыпается колкими искорками: они — живые, они роятся, вспыхивают впереди и гаснут вблизи, разноцветные, звонкие, неощутимые, и кажется, что они вихрятся в воздухе, вонзаются в лицо и щиплют щеки, нос и до слез режут глаза. Всюду густой синий свет. Он тоже мерцает искрами. Взметы сугробов, как волны, всюду между избами и амбарами. Застывшим прибоем снег перед нашей избой взвился до карнизов, и наплеск серебряно-сахарной волны перегибается к окнам и свисает пеной и сосульками. Я люблю ходить под этим наплеском снега и смотреть в голубой прозрачно-мутный купол, нависающий надо мною. Между завалинкой и вогнутой стеной сугроба — уютный и гулкий проход, а от ворот идет на дорогу блистающий широкий прокат, который поднимается кверху, как на гору. И мне чудится, что под этим снежным балдахином — иной мир, терпкий, пахнущий небом, сеном и овчиной. Я знаю, что эта сказочная жизнь существует. Надо только тихо, затаив дыхание, подкрасться к дальнему углу избы, где сугроб срастается с венцами, и долго прислушиваться. Я люблю уединяться в этом голубом снежном сиянии и слушать какую-то глубокую возню, вздохи, глухие удары где-то очень близко, и пение, и звоны каких-то неутихающих струн. Порою кажется, что кто-то рядом зовет меня и играет бубенчиками. В глазах причудливо роятся огненными мушками снежинки.
В снегу утопала вся деревня. Крыши мягко и пухло белели, как холмы. За сугробами не видно было даже стен.
VII
Мы с Семой идем по дороге в шубенках, в валенках, в шапках с плисовым острым верхом, в шарфах, и мне кажется, что мы несемся над деревней по воздуху, и нам легко, свободно. Приятно пахнет снегом, морозом, соломой и дымом. Кое-где внизу, по сторонам, расцветают узорами в окошках желтые огоньки. Мы идем прямо на луну. Она смотрит на нас лицом Катерины и улыбается. И от нее к нам стреляют радужные искры, они падают на снег и на снегу кружатся метелицей. Снег вкусно хрустит и скрипит под валенками. Хрустит и морозный воздух, и небо кажется чистым и прозрачным, как молодой лед на реке. Лают далеко и близко собаки — лают по-домашнему, грустно, задумчиво. Где-то далеко, на той стороне, на высоком снежном взгорье, поют визгливыми голосами девчата под гармонь с колокольчиками. Перебор гармони звонок и заливист, с трелями и воем басов.
— Это конторщик Горохов с барского двора, — говорит Сема. — Эх, и играет же! Из Саратова перебор привез.
Этот Горохов — высокий, рябой дылда в романовском полушубке. Он казался мне не деревенским, очень чужим, высокомерным. Пальцы у него, длинные, цепкие и ходят ходуном.
И я вижу этот барский двор далеко на горе, с мезонином и крыльями по бокам. Он недостижимо далек и пластается там, на высоком горизонте, черной махиной надворных построек. Хотя я и бывал там с матерью у тети Маши, но мне страшно думать о нем, потому что там били кнутом деда, а сейчас там огромные свирепые псы. Иногда днем я видел, как по главному порядку, в снежной пыли и вьюге, с грохотом бубенцов бурей проносилась тройка лошадей в облаке пара. В санках, украшенных коврами, сидела медвежья туша, а кучер, откинувшись назад, как черт, играл связкой красных и зеленых вожжей.
У нас, в конце короткого нашего порядка, тоже поют девчата — поют так же визгливо и пронзительно, — пиликает и гармоника, но она гнусавая, с насморком. Я знаю, что девок и парней тянет на ту сторону, на барский бугор. Пройти туда сейчас нельзя: на льду дерутся на кулачки, стена на стену.
С бугра вся деревня видна от края и до края. Село у нас небольшое. Пожалуй, это не одно, а два села: одно — по эту сторону речки Чернавки, а другое — по ту. И там и здесь по одной улице: избы стоят в один ряд, а через дорогу — амбары, скотьи загоны и «выходы» в земле. За избами «усадьба» в заросли черемухи и яблонь, а в конце усадебных полос гумна с половешками и копнами, очень похожими на огромные корчаги. Через речку от одного порядка до другого — с полверсты. Оба берега высокие. Наш берег обрывистый, буерачный. От яра расстилается белой снежной равниной площадь с деревянной церковью. Тот берег от реки сначала низкий, поемный, а потом сразу круто взлетает ввысь длинной стеною, изгибаясь посередине деревни по течению реки. Тот берег выше нашего, и избы смотрят на наш порядок и на луку, как с горы. Реки сейчас не видно, — там снежное волнистое сияние, река глубоко под снегом.
Только в овраге, под ветлами, идет пар от обледенелого родника, заключенного в сруб.
На реке черная многолюдная толпа. Она подается вперед и назад, распадается и опять сбивается в кучу. Мерцают искры звезд, мерцают и вьюжатся алмазные искры на снегу и в воздухе. Воздух прозрачен, звонок и жгуч. Искры колючи и вонзаются в щеки и глаза. И от этого снежного сияния и лунного морозного воздуха все кажется огромным и волшебным, как в сказке. Я люблю эти лунноснежные ночи зимы, и мне хочется лететь над снегами в хрустальном воздухе. Мне холодно, ноги мерзнут в валенках, и голяшки мои щиплет и обжигает огнем. Я бегаю среди взрослых, среди девчат, с толпою парнишек, мы боремся, катаемся по скрипящему снегу, и от него приятно пахнет лошадиным пометом. Мы, ребятишки, тоже кубарем несемся по снежному склону горы к реке за толпой девчат и парней.
— Наши погнали сторонских! Наша взяла!..
Мы неудержимо бежим вниз, в сияющую лунным снегом котловину, с Семой и моим товарищем Иванкой Кузярем, худеньким озорником. К нам пристает Наумка Архипов, наш родственник, с долгого порядка, рябой и краснолицый.
Он увалень и говорит гнусаво и тягуче, точно норовит заплакать.
И на той и на другой стороне есть свои богатыри, которые держат честь своей «стены». От них зависит успех боя. Эти бойцы становятся впереди своей стены и дерутся только с равным противником. Их дружины теснятся около них. Рядовая толпа буйной ватагой рвется вперед. Люди расталкивают друг друга плечами, задыхаясь от жажды прорваться в первый ряд и ввязаться в бой. С нашей стороны непобедимыми героями считались трое: Серега Каляганов, Филька Сусин и Тихон Кувыркин, солдат, сын кожемяки Кузьмы. Филька — огромного роста молодой парень, «лобовой», тяжелый, ленивый в шагу, добродушный «тюхтяй». Он белотел, с сонными глазами, с застывшей улыбкой на лице.
На той стороне славились как вожаки мой дядя Ларивон, кузнец Потап и Миколай Подгорное, длинноногий и длиннорукий детина. Ходил Подгорное по селу всегда вызывающе смелый, форсистый и веселый. Каждый год он уезжал на сторону — в Саратов, в Астрахань — и возвращался домой, одетый по-городски, в брюках навыпуск, в резиновых калошах, на зависть парням.
Мы летим вниз и истошно визжим «ура». Ко мне подбегает Сема и хватает меня за руку.
— Не бегай туда — сомнут. Как погонят наших, под ноги попадешь — в лепешку растопчут. Стой здесь!
Я уважаю авторитет Семы: Сема говорит сердито, как взрослый, его голос похож на голос отца, и сам он тоже похож лицом на него, хотя и без бороды.
Он кажется мне необыкновенным: прежде всего он умеет под пляс петь азбуку, и я хохочу, когда он читает, подпрыгивая на лавке: «Буки-арц-аз-ра, веди, арц-аз-ра… глагольарц-аз-ра!..»
Ребятишки убегают вперед и смешиваются с взрослыми.
Мы с Семой стоим на взгорье и следим за ходом боя. Мне хочется туда, к моим друзьям, хочется и Семе, но там, внизу, опасно. К нам подходят девчата и степенные мужики в суконных поддевках — Митрий Стоднев, Иванка Архипов, брат Наумки, правая рука Митрия — чтец на «стояниях», Серега Каляганов, в рваном полушубке, Тихон Кувыркин, двое братьев, сыновья Паруши — Терентий и Алексей, оба статные мужики. Они редко дрались, но, когда втягивали их в бой, шли не спеша и деловито, плечо в плечо.
Я бегаю вокруг Семы, стараюсь согреться.
Иванка Архипов говорит смешливо:
— Ты чего здесь егозишь? Ступай домой, а то сосулькой станешь.
Я впервые вижу на ногах Митрия Стоднева белые высокие валенки с красными крапинками и не могу от них оторваться. Эти валенки нежны, мягки, богаты. Таких нет ни у кого. Голенища широки, они дрожат, как шелковые. Их раструбы поднимаются выше колен. Пораженный, я невольно кричу в восхищении:
— Эх, чтоб тя тута-а!.. Вот так валенки! До самого пупка…
Митрий берет меня за ухо и треплет, посмеиваясь:
— А ты чей будешь, ваше степенство?
Мне радостно, вольготно: я никого не боюсь, мне хочется смеяться и показать себя смелым, и я бойко отвечаю:
— Чай, дедушки Фомы внучек…
— А-а, Федяшка. Ты, чай, и кафизмы еще не прочитал?
— Я четыре прочитал, а первый псалом наизусть знаю Я и стихи пою.
— О? Ну-ка, пропой стихи-то. Врешь, поди.
— Это я-то вру? Врать грех.
И, подражая матери и бабушке, я пою тонким голоском:
Потоп страшен умножался… Весь народ горе собрался. Гнев идет! Гнев идет!Митрий с улыбкой слушает меня, одобрительно хмыкает:
— Гоже, тоже… Ты ведь говорил, что и гласы знаешь.
Ну-ка спой: «Приидите, возрадуемся господеви» на глас седьмый радостный…
У Митрия Степаныча нет бороды и усов нет, а только торчат кое-где кудрявые волоски. Он красивый мужик, держится гордо. Нос у него немного приплюснутый, но лицо румяное, ядреное, глаза круглые, пристальные, умные. Говорит он певуче, и голос у него глубокий, приятный.
Вдруг он порывается вперед и с почтительной строгостью говорит:
— Митрий Митрич Измайлов с кем-то прискакал на санках… Должно, гостя привез со своего двора…
Все спускаются с горы на несколько шагов, зорко вглядываясь в сторону боя. Поодаль, из-за крутого обрыва, легко и быстро летит красивая, тонкотелая лошадь, запряженная в нарядные санки. Лошадь кажется синей на лунном снегу. Из ноздрей клубится пар. Так же быстро и легко останавливается на реке, за дорогой. Из саней вылезают две фигуры в шубах «полтора кафтана».
Митрий Степаныч хотя и держится с достоинством богатого, уважаемого мужика, но безбородое лицо его покрывается мелкими морщинками: он почтительно и угодливо улыбается этим крылатым шинелям и вытягивает шею. Он забыл о бое, обо всех нас и шагает вниз, к санкам, к барам, которые приехали полюбоваться на кулачный бой. За ним плетутся Иванка и другие мужики.
— Наших погнали! — испуганно кричит Сема. — Бегут!
Страшное дело!
Все встревоженно останавливаются. Даже Митрий Степаныч застывает на месте и негодует:
— Дураки стоеросовые! Силачи! Ума не хватило, чтоб догадаться: ведь сторонские обманом хотели взять. Они и побежали-то, чтобы оглушить их. Серега! Филя! Как же это без вас-то?
Серега и без того бормочет что-го про себя, передергивается и поднимает рукава полушубка то на одной, то на другой руке. Красная борода его вздрагивает, и глаза жадно впиваются в густую толпу на реке. Он задирает шапку на затылок, бьет рукавицами и взывает с лихой удалью:
— Эх, была не была! Ударим, Тиша! Покажем нашу удаль молодецкую. Это там Ларя с Миколаем чекушат… несдобровать нашим. Филя! Грянем из засады.
И он бежит вниз, взмахивая руками. Тихон широко шагает за ним с решительностью опытного бойца. Терентий и Алексей остаются с нами.
Девки улепетывают в гору и рассыпаются в разные стороны. По деревне тревожно лают собаки. Там, далеко на горе, разливисто, со звоном играет гороховская гармония.
Митрий Степаныч не оглядывается и степенно шагает вниз, к барским санкам.
По нашей стороне прокатился гул. Густое ядро врезалось в середину «стенки» сторонских. Толпа заволновалась, закружилась на реке, беглецы остановились и храбро повернули назад. Кто-то кричал «ура». Перепуганные девки, карабкаясь на гору, падали и визжали.
Митрий Степаныч оглянулся, не останавливаясь, и сказал одобрительно в нос:
— Ну, теперьча наша взяла… Глядите-ка, погнали… Эх, какой боец лихой Серега-то!.. Филька только сплеча режет, от сердца, а Серега — и от ума… Тихон — с расчетцем, с хитрецой. Солдатской выучки.
И он загнусил, гордый и величавый, почтеннейший из людей деревни, учитель наш и настоятель:
«Вечернюю песнь и словесную службу тебе, Христе, приносим…»
И шел не так, как все мужики — вразвалку, а с сознанием всесильного человека: уверенно подавшись вперед, твердо, легко и широко скупая своими необыкновенными валенками по снегу. Он не замечал нас, но почтительное окружение ему было приятно: вот идут около и позади него люди и уважительно прислушиваются к каждому его слову, следят за каждым его движением и готовы услужить ему. И он принимал это как должное. Вот так же и в бакалейной лавке своей, в новом пятистенном доме, красовался он, упиваясь своим могуществом, как самый умный, самый бывалый мужик чистоплотный, нарядный, благонравный, патриархально-строгий. Жена его, Татьяна, крупнотелая, медлительно-ленивая в движениях, пышная в цветных нарядах, брезгливая к людям, тоже величавая, покрикивала на баб и на мужиков и поучала их, как надо жить «по-божьи». На нас, ребятишек, которые лепились в дверях и очарованно смотрели на всякие редкости на полках, она вперемежку с мужем покрикивала:
— Прочь вы… прочь, червивые!..
У них была дочурка Таненка, рябенькая, большеротая, похожая на лягушку. Мы с ней не водились — ненавидели без всякой причины и постоянно дразнили ее:
— Кворрак!.. Лягушка-квакушка, кворрак!..
Она выла, грызла в бессилии свои руки и топала ногами.
Однажды отец схватил меня за волосы и начал невыносимо больно трепать, приговаривая:
— Не дразни Таненку. Никогда не дразни. Дьяволенок!
Из-за тебя меня в лавке перед всем народом страмили.
Запорю!
И с этого дня я понял, что сила Сто дне ва несокрушима, что жизнь моя зависит не только от отца и деда, но и от Митрия Степаныча и его Татьяны. И я возненавидел Таненку всеми силами души.
Неподалеку, на прибрежных низких обрывах, занесенных сугробами, толпятся и на той и на другой стороне взрослые и ребятишки. Сейчас и мы и они — тоже соперники.
К санкам Измайлова подходят любопытные и с того берега. Санки стоят на середине реки, в нейтральном месте.
Здесь люди и той и другой стороны — обычные мирные друзья и сродники. Но ребятишки и здесь вероломны: заглядишься, забудешься, доверчиво побежишь вокруг людей, окружающих сани, и неожиданно падаешь, оглушенный ударом кулака. Подбегал Сема, сердито поднимал меня за руку и обивал снег с шубы.
— Кто это тебя саданул?
— Чай, сторонский. Убег он.
— А ты не разевай рот-то! Сейчас я ему выволочку дам.
Постой здесь!
Он убегал, хлопая полами шубы о валенки, и через некоторое время несся вдогонку за парнишкой, который вилял по снегу, ускользая от преследования. Парнишка хитрый: он мгновенно у самых ног Семы падает в снег и поднимает руку: лежачего не бьют. Сема останавливается и, обезоруженный, смотрит на него, не смея нарушить строгое правило боевого времени. Но все же украдкой пинает его валенком и угрожающе что-то бормочет. Потом он отходит, парнишка поднимается и бредет вслед за ним к барским санкам в коврах.
Я самозабвенно смотрю на голубую лошадь в яблоках, стройную, поджарую, на тонких ногах. Она нервно озирается, раздувает ноздри, дышит паром, взмахивает головой и выгибает шею дугой. Она жует удила и фыркает. На губах у нее иней и льдинки. Она так красива и неотразимо грозна, что я не могу подойти к ней близко, как подхожу обычно к своему ребристому и толстопузому гнедку. Но мне до отчаяния хочется покататься на ней верхом. Лошадь окружают мужики и ребятишки и любуются ею. Кучер в шапке с пером сидит идолом на облучке, невиданно толстый в своем кафтане, и не обращает внимания на людей. И когда кто-нибудь осмеливается подойти поближе, он рычит грозно:
— Этдей нэзэд! Рылэ!
У саней стоят две фигуры в крылатых серых шинелях и дорогих шапках. Люди окружают их и молча глазеют на бар. Измайлов то и дело хватается за бородку искалеченными пальцами и быстро теребит и разглаживает ее. Он кажется очень злым, в правой руке у него сучковатая палка: так и кажется, что он сейчас начнет жарить всех по башкам.
Голос у него резкий, лающий, властный. При луне выпученные глаза его блестят и прыгают из стороны в сторону.
Другой барин тоже сухопарый, но высокий, с длинными темными усами и узкою бородкой. Он смотрит на дерущихся угрюмо. Время от времени усмехается и качает головой.
Мне кажется, что он больной: он морщится, и на лице у него страдание.
Бой доходит до высшего напряжения: ни та, ни другая сторона не уступает. Голоса замирают, и настает внезапная тишина, только отчетливее и глубже бухает частая молотьба. С одной стороны высокий черный буерак в ярких пятнах снега, с другой — волнистая и бугристая заречная полоса снежного поля, а за ним — крутой взлет сияющего взгорья.
В этом молчании боя что-то сосредоточенное и яростное.
В центре толпы тела сбиты плечо в плечо, и там не видно ничего, кроме взмахов кулаков и овчинного кипения. Гуща людей упруго колеблется вперед, назад и в стороны. — Сейчас решительный момент, Михаил Сергеевич! строго, раздраженно кричит Измайлов, впиваясь выпученными глазами в толпу. Седые брови у него взлетают на лоб и дрожат, лицо вытягивается, становится свирепым. — Прошу обратить внимание. Замечательный миг. Стоднев! — орет он и бьет палкой по снегу. — Ставлю четверть водки: если побьет твоя сторона, угощаю всех, если моя сторона — угощай ты. Я убежден, что победит наша сторона. Ну? Ты думаешь, кулугур, взять полведром браги? Ты ханжа, скуп и жаден: ты за свои полведра уже наложил лишнюю копейку на ситец и воблу. Знаю тебя, прохвоста…
Митрий Степаныч не смущается. Он с достоинством мудрого начетчика, хорошо знающего причуды барина, снисходительно улыбается и покорно, с рассудительной кротостью говорит:
— Ваши щедроты, Дмит Митрич, известны всему уезду.
— Слышите его, Михаил Сергеевич? Лицемер и жулик, каких мало.
Сухопарый барин смотрит на Митрия Степаныча и мягким басом обращается к нему:
— Я слышал о тебе, Стоднев. На тебя жалуется духовенство: ты перетянул в раскол почти всю деревню.
Митрий Степаныч кланяется ему и учтиво говорит в нос:
— Мирское духовенство, Михаил Сергеевич, наводит хулу. Народ жаждет божьего источника и ищет его, как ему указует совесть.
— Ты говоришь красно. Видно, что умеешь действовать на людей и, вероятно, не только властью слова…
Измайлов в восхищении стучит палкой о снег и по-армейски лает:
— Ну? Не правда ли, Михаил Сергеевич? Фарисей!
Здесь, у нас, кроме него, есть всякие искатели правды.
— Сектанты?
— Всякого сорта ягоды. Бегуны вокруг сосны. У вас в Ключах — лапотники, древляне, куряне… сплошная Рязань. Наши чернавцы хранят традиции керженских скитов.
Они из поколения в поколение взыскуют града. Из самой утробы выворачивают «о». Недра народного духа! Глубина! А в глубине — чертей вдвойне.
Эти люди как будто внезапно явились к нам из другого, неведомого мира только в эти волшебные лунные святки.
Они стояли перед нами в странных, необъятных широких серых одеждах, поражающих своими бесчисленными складками, крылатыми накидками и пушистыми воротниками.
И язык их — язык не нашей жизни, не наших повседневных интересов. Он так же тонок и благороден, как их лица, как их стриженые бороды, как их необыкновенная лошадка, как их странные и удивительные «полтора кафтана».
Измайлов вдруг срывается с места, и полы его «полтора кафтана» распахиваются, как огромные крылья. Он свирепеет, машет палкой и ревет:
— Мерзавцы!.. Скоты!.. Черепки перебью сукиным детям…
И бежит по снегу с палкой на отлет. Барская его шуба слетает с правого плеча и волочится по снегу. Лошадь испуганно рвется в сторону, храпит и страшно выкатывает глаза. Толстый кучер играет ласковой фистулой:
— Трр… трр… Стой, дур-рак!
Измайлов так же внезапно останавливается и кричит уже с восторженным бешенством:
— Ага! Так, так… Наша сторона побита… Так вам, дуракам, и надо. Я на вас, подлецов, четверть водки проиграл.
Стоднев, ликуй, бестия!
И хохочет, дергая головой и махая палкой.
Наши стремительно, с гулом гонят сторонских. Вся лавина мчится через реку, на снежное поле. Но сторонские все-таки бегут с боем, толпа рвется как-то порывами: то наталкивается на какое-то сопротивление, то черной волной опять всей массой стремится вперед. Отстающие падают и поднимают руки: лежачих не бьют. Все группами и по одному возвращаются на реку. Сторонские собираются около кузницы.
Измайлов лает, точно командует у себя на барском дворе:
— Сюда победителей! Поздравляю! Четверть водки!
Молодцы! Великолепный бой! Ах вы, канальи бородатые!
Он идет обратно к саням. За ним кто-то из мужиков тащит его шинель. Еще издали он с восхищением кричит Ермолаеву:
— Вот где, Михаил Сергеевич, сказывается непобедимость русского солдата и его боевая слава! Никакой немец, никакой француз и поганый турок в придачу не могут постигнуть тайны великой силы русского человека!
Бойцы и с той и с другой стороны идут гурьбой в нашу сторону. Впереди шагают, утираясь полами полушубков, силачи.
Каляганов, мотая красной бородой, хватает горстями снег и умывается им. Филька Сусин прячется за его спину.
Ларивон, высокий, башкастый, без шапки, несет свое тело с натугой, как пьяный, вытягивая шею. Длинную свою бороду он закинул за плечо. Видно, что он робеет перед барином и жалобно приговаривает:
— Миколя, ты уж вперед держи!.. Ты, милок, весь свет объездил. А мы здесь как черви возимся. Боюсь я их, этих господ, не приведи бог. Я уж, Миколя, за тобой…
И очень смешно и беспомощно хватается за полу полушубка Миколая Подгорнова. А Миколай смело и форсисто шагает рядом с Калягановым, засунув руки в карманы шубы.
Он первый срывает шапку и, отмахнув ее в сторону, рассыпается бесом:
— Доброго здравьица, Митрий Митрич! Имею честь лепортовать о скончании кулачного сражения…
— А почему не говоришь о результатах боя? Опять вас расколошматили? Не научили еще вас драться по-настоящему? Эх вы, дрянные бойцы!
— Никак нет, Митрий Митрич! Будьте праведным судьей. Мы с Ларивоном Михайлычем дрались от чистого сердца, от чистой души.
— Выходит, что вас раскрошили за это ваше честное сердце и чистую душу. Пеньки осиновые!
— Да ведь, Митрий Митрич! У той стороны сколь бойцов-то? У нас только Ларивон Михайлыч да я, а у них Серега да Тихон прибежали. Один Серега чего стоит. Силы-то Дмит Митч; не равные.
— Не в числе и не в голой силе преимущество. Ты это хорошо знаешь, Николай. Дело в уменье, в ловкости, в боевом духе, наконец в уверенности, что победишь… Надо прежде всего повести за собой народ. Это сумели сделать и Серега и Тихон. А вы с Ларивоном сдрейфили. Народ почувствовал это и дрогнул. Если бы Серега один был на вашей стороне, вы все равно победили бы.
Бойцы нашей стороны прячутся друг за друга, только Серега Каляганов нагло смотрит в глаза Измайлову.
Митрий Степаныч подходит к нему и что-то шепчет на ухо.
— Каляганов! — рявкнул Измайлов. — Скажи прямо: чем ты взял сторонских?
Серега переступает с ноги на ногу, но смотрит в глаза Измайлову и скалит зубы.
— Рази, барин, зна-ашь… Загорелось в душе, руки ходуном заходили, и словно гору могёшь своротить…
Измайлов свирепо стучит палкой по льду.
— Ты у меня дураком не прикидывайся! «Могёшь»! Лучше скажи: ежели сейчас кликнешь клич и бросишься снова на сторонских, уверен, что побьешь?
Каляганов безбоязненно скалит зубы.
— Да ведь ежели хотите полюбоваться, можно и клич кликнуть. Я только в раж вошел. Как схватился с Ларивоном, он мне по сопатке, а я его по скуле. Как-никак силач он отчаянный. Ну, он покачнулся — и на своих. Они и хлынули. Миколя-то уже не удержал людей-то. А ежели хотите — я не прочь. Еще сейчас сердце кипит, — размахнуться хочется.
Измайлов хлопает его по плечу и лает в восхищении:
— Мо-ло-дец! Жаль только, что ты превратился в вахлака. Здесь ты удалец, мастер, а вот в жизни драться за себя не умеешь. У меня сорвался, а к Стодневу попался в лапы, как дурак.
Серега уже не смеется, а опускает голову угрюмо и зло.
— Ты мне, Митрий Митрич, сердце не надрывай. Не трог меня!
Измайлов, остывая, отвернулся от него и крикнул Митрию Степанычу:
— Ну, знаю, Стоднев: без тебя ни один бой не обходится. Ты здесь как главнокомандующий. Все у тебя в лапахь Держи! Разделить всем честно, без подлога.
Бойцы снимают шапки и кланяются ему. Митрий Степанович стоит истово и величаво.
Измайлов, довольный, теребит стриженую бороду дрожащими кривыми пальцами, потом идет к санкам. В руках его поблескивает на луне зеленой глубиной четвертная бутыль.
VIII
Наши детские игры начинались еще засветло, после работы по двору. Ко мне прибегал Наумка или Иванка Кузярь, и мы удирали на косогор, к речке. Там уже катались на салазках и ледянках ребятишки. Много парнишек было и на речке. Кое-где попарно дрались на кулачки. На взгорок собирались взрослые парни и даже бородатые мужики.
Обычно они подтрунивали над нами: вот, мол, ты бегать горазд и за мамкин сарафан держишься, а подраться с парнишкой храбрости нет, — какой же ты после этого парень?
Мальчата ярились, бунтовали и хвастались, сжимая кулачишки:
— А ты видал, как я за подол держусь? Ты еще не знаешь: я спроть каждого выйду. Только давай.
— Эка, хвальбишка! А довелось на кулачки — лежачего не бьют! Трус!
Это было смертельным оскорблением для меня лично.
Как! Я — трус?
— Давай кого хошь. Сейчас же спроть пойду.
Я всегда храбро выступал против Кузяря и Наумки, но в душе чувствовал себя слабее их: они часто побивали меня в боях. Кузярь был худенький, расторопный, а Наумка ростом был выше, и руки у него были длиннее.
Но бывало, что и я выходил победителем, хотя и не без урона.
Сема заботливо и любовно тер лицо мое снегом, учил, как держать его на губах, чтобы они не распухли.
Я понимал, что нельзя признаваться в поражении, надо всегда сохранять свое достоинство и храбриться, надо всегда показывать людям, что ты можешь постоять за себя.
Люди, даже близкие и кровные, любят сильных и брезгуют слюнтяями и плаксами.
Когда я входил в избу и звонко кричал о своих победах, дед шевелил своими седыми бровями и ухмылялся.
— А это чего у тебя, сукин кот, нос в крови?
Сема мгновенно приходил мне на помощь:
— Ничего не в крови… Он здорово дрался…
И я видел, что никто мне не верил, но притворялись восхищенными мною.
В конце нашего порядка, там, где у последней избы собирались парни и девки и где происходили наши ребячьи побоища, дорога спускалась вниз круто и прямо, потом шла по равнинке и сворачивала влево, к речке, и одять круто падала с маленького взгорка. На этой равнинке стояла очень старая изба, вся украшенная кружевной резьбой. Окнами она смотрела в гору, и я любил глядеть издали на стекла этой избы, сияющие радугой Я удивился, почему ни у кого в селе нет таких стекол, которые расцветали красными, зелеными, синими вспышками. Около этой избы и летом и зимой удушливо смердили кучи голубой земли, а на дворе на веревках висели и синие и набивные холсты. Здесь жили «крашенинники» — большая семья: седой старик, больной, худущий, всегда молчаливый и покорный, мертвенно-бледная старуха с плачущим голосом и двое сыновей — белолицых, веселых, прытких, крикливых, лучших певунов и плясунов. Эти крашенинники были сторонние: они тягуче акали и якали «рабяты», «бяда», — но жили уже давно и стали совсем своими. У всех у них были дочерна синие руки, краска эта никогда не отмывалась.
Дальше равнинка переходила в волнистый пустырь, полого поднимаясь далеко у околицы буграми сугробов. Ближе к речке на этом пустыре рядком стояли старенькие избушки бобылок и каких-то очень древних стариков. Здесь все было таинственно и зловеще. Я знал только, что там жила какая-то Казачиха, потом какая-то Заичка с двумя ребятишками — нищенка. Говорили, что там знахари и ворожеи, а у них — целебные травы и наговорная вода. И мне чудилось, что этот маленький порядок стряхнуло с горы, с большого порядка, а настоящие избы на взгорье отгородились от них и пряслами, и курными банями, и амбарами.
Мы катались на салазках по этой дороге, льдисто накатанной полозьями, и лихо, с ветром в ушах проносились мимо избы Крашенинников, мимо голубых куч. В лицо вонзалась снежная пыль, салазки подскакивали на ухабах, взлетали в воздух, и я замирал от полета, от стремительной быстроты и ловко правил валенками, чтобы не свалиться в обрыв. Навстречу мне неслась Крашенинникова изба, вьюжились мимо сугробы. Впереди летели другие ребятишки, орали, выли, хохотали. Я тоже хохотал и орал.
Взрослые топтались у плетня крайней избы, пиликали на гармошке, смеялись, плясали. Визжали девчата, которых тискали парни. Крашенинники в два голоса хорошо пели свою, не слыханную раньше печальную песню: «Последний день красы моей…» И за эту песню их любили в деревне.
Мы, малолетки, очень опасались взрослых. И парни и мужики часто озорничали и обижали нас: то отнимут салазки, то натрут колючим снегом уши, то подставят ноги на бегу. Особенно мы боялись Иванки Юлёнкова. Хотя он был пожилой и дома у него хворала жена, но льнул больше к парням, всегда ссорился с ними и лез драться. Его сторонились, не принимали к себе в компанию. Он наслаждался, когда ребятишки при его появлении, как ягнята, разбегались в разные стороны. Глядя им вслед, он смеялся, топал ногами и по-бабьи визжал:
— Держи их!.. Держи!.. Поймаю — татарину продам…
Ванька появлялся внезапно. Увлеченные катаньем, мы не замечали, как он подходил к нам. Переполох был только тогда, когда он неожиданно вырастал на спуске и подставлял ногу навстречу несущимся салазкам. Так однажды я вдруг увидел перед собой его сморщенное лицо и ощеренные десны. Курносый его валенок показался мне чудовищным. Я кувырком полетел куда-то вперед, в снежную пропасть, и в тот же миг почувствовал страшный удар. Опамятовался я в чьих-то руках. На меня смотрел, похихикивая, Ванька. Лицо его совсем было не страшно: серые глаза были, пожалуй, даже ласковые, бороденка и усишки усыпаны льдинками.
— Ну, чего ты? Чай, я любя… Меня, брат, не так обижают, как тебя.
Кто-то выхватил меня из его рук, и я услышал, как Иванку ударили.
Юлёнков плаксиво закричал:
— Это за что, шабер?
Сыгней весело смеялся:
— За дело, Ванек. Парнишку не трог. Ведь ты убил бы парнишку-то.
Юлёнков озверел:
— Чай, я шутейно… а ты меня по морде…
Он с вытаращенными глазами бросился на Сыгнея.
Я слышал, как Сыгней засмеялся, будто играл с Ванькой, и побежал в гору.
Ванька бежал вверх по горе, а за нами и впереди нас гурьбой торопились ребятишки с салазками. Салазки болтались на веревочках из стороны в сторону.
Таненка Стоднева совала мне веревочку в руку и квакала:
— На, салазки-то… курник! Дай я тебя оботру…
И она заботливо, по-матерински распахнула шубу и вытерла мое лицо подолом своего сарафана.
— Что же ты не плачешь? Чай, больно ведь… Глаза-то плачут, а злые. От злости и не ревешь. Какой ты карахтерный. Весь в отца.
Она засмеялась и неожиданно поцеловала меня. Из девчонок меня еще никто не целовал. Целовала меня только мама, а потом бабушка Анна, бабушка Наталья, редко Катя, чаще тетя Маша, сестра мамы. С парнишками у меня были только деловые отношения: в дружбе мы были воинственно настроены, а во вражде расходились в разные стороны, оскорбляя друг друга самыми позорными прозвищами.
К Таненке я почувствовал нежность и, взяв ее за руку, тихо, от всего сердца сказал ей:
— Я тебя больше дразнить не буду.
— А я тебе из лавки конфетку принесу. Мне тетку Настёнку жалко.
Я шел с Таненкой рука в руку, таща за собою свои салазки, и впервые больно чувствовал, что жизнь моя сложна и опасна.
Каждый день и каждый час дышал внезапностями. Чудесно, самозабвенно несешься, бывало, с горы на салазках, снег вихрится искрами, а накатанная дорога пахнет навозом. Золотом блестят нити соломы на снегу, и снег мерещится прозрачным и голубым, как небо. Усталая лошаденка неохотно трусит на той стороне, тащит розвальни и дышит паром. Там, в Заречье, далеко, тоже гурьба ребятишек катается с гор. Я отчетливо слышу их крики и визги.
А наверх из труб избушек клубится дым. Как хорошо! Мир кажется милым, понятным, огромным, таинственно близким. Каждый день я ослепляюсь солнцем и подхожу к окну, чтобы любоваться его лучами, которые наискось пронизывают дымный воздух избы, в голубой полосе дыма мерцают пылинки. Я долго смотрю не отрываясь на чудесные узоры на стекле с радужными изломами и затейливым золотым и серебряным шитьем. Кто это сделал? Почему такая красота? И мне чудится какой-то сказочный мир в этих перламутровых зарослях странных деревьев, невиданных листьев и цветов. Мне кажется, что они начинают шевелиться, манить меня, а я, заколдованный, хожу в их дремучем, сверкающем мире, маленький, с салазками на веревочке, и смеюсь, и пою, и слушаю, как звенят колокольчиками и бубенчиками эти ослепительные деревья и травы, как сладостно поют там Сирин и Алконост…
А в избе и на улице — трудная жизнь. В избе — страшный дед с плеткой и вожжами в руках. На улице — Ванька Юлёнков, ребятишки, которые сходятся для того, чтобы драться. На улице я окружен врагами и бедами. Я не могу один пройти по порядку, не говоря уже о том, чтобы пробраться одному к бабушке Наталье на ту сторону: на меня обязательно нападает стая ребятишек.
У нас редко смеются: все скучно молчат или разговаривают осторожно — и то по делу. Взрослые сидят за починкой валенок, котов, сапог и сбруи. Я вслух читаю Псалтырь.
Сема читает хуже меня и всегда отлынивает от этого занятия. Но Псалтырь и я читаю с натугой: я ничего не понимаю.
Иногда дед подает голос с печи:
— Ну-ка, Володимирыч, похвастай своей гражданской грамотой. У тебя — а, да бе, да зе — верхом на козе…
Всех словно подбрасывает какая-то сила: изба трясется от хохота. Смеется отец, корчится Сыгней, по полу катается Сема, а Тит пищит, как младенец. Мать тоже смеется.
А дед поучительно мудрствует:
— Наша грамота божья, а гражданская — ворожья.
У нее одни сказки да побасенки. Наша грамота — премудрость, скрытая от умных и разумных…
Володимирыч смотрит через очки на печь и вдумчиво кивает головой.
— Господи Исусе, на печи-то гуси…
Хохот переходит в бурю. Но Володимирыч не смеется, и, когда все немного успокаиваются, он говорит:
— Выходит, это такая грамота, Фома Селиверстыч, что нам, умникам, от нее одна печаль и никакой корысти. И выходит к твоему положенью… — И он пропел по-псалтырному одно слово: — Добро-он-до, мыслете-он-мо, веди-онвой… Так, что ли, Фома Селиверстыч?
Все в ожидании смотрят на печь, а у Тита, Сыгнея и отца трясутся плечи.
Дед торжественно изрекает:
— Ежели бы ты был не табашник, Володимирыч, да не бритоус, был бы ты у нас настоятелем: гляди, как тоже складываешь…
Сыгней падает на лавку и визжит поросенком, отец вскакивает с чеботарского стульчика и выбегает на двор, Тит сползает с лавки и скрывается под столом.
Володимирыч по-прежнему сердито оглядывает всех поверх очков. Мать и Катя смеются потому, что смеются другие: они — неграмотны.
Володимирыч вздыхает, размышляя, и старательно щелкает наперстком.
— Легко тебе живется, Фома Селиверстыч: день и ночь — сутки прочь. И дума и дело — по привычке. Ты и во тьме свою тропу знаешь. У тебя всякая кочка торчит на своем месте. Ты хоть и слеп, да норовом леп.
Дед строго и поучительно, с ударениями на значительных словах, внушает:
— Ты, Володимирыч, человек шатущий. Устоев и веры у тебя нет. Ежели человек без корней, без почвы, без своего места — неверный это человек.
— У меня, Фома Селиверстыч, место просторное, богатое: вся земля. А под лежачий камень и вода не течет: одна под ним плесень и тлен. Даже вон дерево семя свое по свету рассеивает. А у человека, окромя рук и ног, есть еще и сердце. А сердце человечье — беспокойно: ему положено страдать и радоваться.
Дед истово бормочет:
— Сердце сокрушенно и смиренно бог не уничижит.
— Сокрушенное и смиренное сердце, Фома Селиверстыч, слепое и глупое. Не зря молвится: сердце сердцу весть подает. Христос к людям был болезный, всем в горе полезный, а солнышку и дождичку радовался. Рыбу удить любил, в праздник с друзьями веселился. Наш русский бог — молодой и трудолюбец, он не такой, как на иконах.
Он и с чертом умеет в чехарду играть.
Эти слова Володимирыча приводят в ужас всех нас, даже детей. Бабушка бросает веретено и крестится в страхе. Дед слезает с печи. Брови его падают на глаза. Входит отец и с угрюмым любопытством прислушивается к голосу Володимирыча. Все в нем бунтует против богохульства швеца.
Дрожащими пальцами он тычет в стол и отбрасывает в сторону овчинки.
— Ты, Володимирыч, — старик, умрешь скоро. Бога не хули. Такой ереси не вытерпеть не только нам, а стенам.
Дед доволен: отец вовремя и с достоинством стал на защиту веры. Все жутко замолкают, и в этом молчании сгущается вражда к швецу.
Сыгней подмигивает отцу и с ехидной наивностью спрашивает:
— А много тебя колотили, Володимирыч?
— Ну, ежели, скажем, много били, так тебе что?
— Да вот… ничего ты не страшишься.
— Это ты верно, хоть и глуп годами. И колотили, и молотили, и со смертью на кулаки дрался. На свете нечего страшиться. А ежели и через смерть прошел да через муки человеческие, ничего уже не страшно.
Поглядывая на отца поверх очков, он умненько улыбается и добродушно назидает его:
— Нравом ты, Вася, вроде волчок, и по повадке бычок.
Только вот слова-то у тебя какие-то не настоящие: словно шубу вверх шерстью напялил и мычишь зверем, а оно не страшно. Тебе бы с твоим характером по свету походить, да уму-разуму поучиться, да пострадать. Вот тогда бы ты человеком стал.
— Это бродяжить-то? — грозно ворчит дед, рассматривая хомут. — У нас в роду еще никогда не было галахов.
А галахов у нас в волости порют.
— Поротьем жизни не остановишь, Фома Селиверстыч, а от кнута и лошадь бежит. Не те времена. Ты по старинке хочешь семью кроить и шить, а нитки-то не по шубе — тоненькие. А где тонко — там и рвется. Да и овчинка-то — одни облезлые лоскутки. Не прокормить всех-то, Фома Селиверстыч, клади на нос по осьмине, сложи вместе, и выходит на четверых десятина, а бабы ведь не в счет: баб словно на свете нет.
Отец забывает о своей недоброжелательности к Володимирычу и слушает его внимательно: ведь он и сам доказывал не раз старикам и дедушке, что время сейчас не прежнее. Он невольно перебивает Володимирыча:
— Из нашей надельной земли и могилы не выкроишь, как ни раскидывай…
— То-то и есть. Осьмина не резина, как ни мерь, не будет десятины. А лошадь не покормить, она и в извоз не пойдет. Ты уж и сам, Фома Селиверстыч, с извозом-то забродяжил, а приедешь домой, да как бы не пойти с сумой.
— Ты, Велодимирыч, без корней и без поросли. Ты — солдат, а солдат, бают, от земли отодрат: на готовых харчах — и сыт и мордат. — Володимирыч смеется.
— Это в сказках, а сказки ведь сладки. Я вот у брата живу. Поработаем с Егорушкой и несем ему свою лепту, помогаем в хозяйстве, а все концы с концами не сходятся. Вот люди и ходят, рыщут, пищи ищут. А люди — везде люди.
Не от благости бродят. Все люди человеки: одинаково везде бедность у трудящего, одинаково они слезы льют, одинаково они смеются и пляшут, одинаково болеют и помирают…
И у всех тяжкий труд — до могилы. А свет земной — великий да богатый. И живут везде разные народы. И везде человек счастье ищет, везде есть люди, которые хотят жить по правде, по совести.
Все слушали его с любопытством, и видно было, что речь его нравится. В тишине щелкали наперстки и шуршали веретена.
Егорушка был смуглый, черноволосый, с горбатым носом, с коричневыми горячими глазами. При разговоре всегда улыбался, показывая белые зубы. Эта доверчивая улыбка и радостная готовность сделать что-то приятное каждому были похожи на робость, на застенчивость. Только один раз видел я, как лицо его окаменело от гнева, а в глазах вспыхивал ослепительный огонек. Это было тогда, когда отец бил мать. После этого он сидел за работой, как больной, не поднимая лица от овчины. Я любил сидеть за столом рядом с ним и смотрел на него не отрываясь. Он иногда поглядывал на меня исподлобья и привлекательно улыбался, но улыбка его казалась мне жалобной и задумчивой.
Однажды вечером, когда все были дома и заняты работой, Володимирыч рассказал нам о войне с турками. Лампа висела над столом низко на толстой проволоке, под жестяным абажуром, похожим на сковороду. Эта лампа была, должно быть, старше меня: белая краска давно уже растрескалась, пожелтела и густо засеяна мушиными точками.
Язычок огня горел тускло, и грязное стекло было покрыто сверху копотью. Изба потрескивала от мороза, а иногда в стенах слышались удары: словно кто-то постукивал по ним колом. Володимирыч и Егорушка пощелкивали наперстками и обычно пели какую-нибудь песенку. Чаще всего они напевали странно тревожную, задумчивую, беспокойную песню, которую в деревне у нас не пели. Начинал ее Володимирыч немножко одряблевшим баском, вступал чистый тенорок Егорушки, а потом дальше начинал Егорушка и подхватывал Володимирыч. Так они попеременно звали друг друга куда-то вдаль, и мне казалось, что они идут по дороге искать счастливой доли.
Ах ты, лихо, горе-гореваньице!.. Шито лыком ты, мочалой подпоясано…Егорушка встряхивал головой и, взмахивая рукой с иголкой, вскрикивал со слезами в голосе:
Не мной, молодцем, ты, горюшко, наплакано, Злой неволюшкой на шею петлей брошено…Володимирыч сердито вскидывал бачки и с угрозой в солдатских глазах спрашивал:
Долго ль будешь горе мыкать, добрый молодец…И вместе с Егорушкой обнадеживали себя:
Помолюсь я на меже — да в путь-дороженьку, — В путь дорожку, волю-долю поищу…Эта песня, широкая, разливная, всегда волновала мать она вся начинала светиться, глаза становились большими и печальными. Она бледнела и застывала от какой-то поразившей ее мысли. Забываясь, она переставала прясть, и веретено падало ей на колени. Мне казалось, что она всегда пела, даже в хлопотливой работе. Память на песни у нее была необычайная: стоило ей услышать новый напев, как она уже схватывала его мгновенно и не забывала, и, когда оставалась одна — сеяла ли муку в амбаре или доила корову, — она пела тихо, для себя, пела как-то по-своему. Мелодия звучала у нее задумчиво, проникновенно, точно она жаловалась на свою судьбу и мечтала о какой-то иной, несбыточной жизни. Володимирыч иногда говорил ей. не стесняясь ни отца, ни деда:
— Ты, Настенька, как была, так и будешь сиротой.
И весь век свой мучиться будешь: сердце у тебя, Настя, как голубь, бьется и воркует. И думы твои — как птички в клетке. Слез прольешь много, а кругом тебя будет и сухо и глухо. А сынок-то в тебя уродился! И у него такая же судьба. Ох, много же вам доведется горя помыкать! У кого дума песней увита, у того судьба слезами улита.
— Скажет же Володимирыч! — смеялась Катя и задорно вскидывала голову. Ты ворожей, как передок без гужей.
Ты не гляди, что невестка эдакая слабенькая: у нее работа-то в руках так и горит. Для нее работать — песни петь.
А мать смотрела на Володимирыча со слезами, на глазах, с трепетной благодарностью. Она впервые испытывала участие к себе чужого хорошего человека, и это- участие трогало ее, как внезапное счастье.
— Ты уж лучше, Володимирыч, погадай мне, — озорничала Катя, и веретено ее вертелось на нитке с веселым шорохом.
Володимирыч с усмешкой поглядывал на нее через очки и шил, щелкая наперстком и отмахиваясь рукою широко и уверенно.
— Девка ты со своим норовом, Катерина Фоминична.
Да изломают, скрутят тебя, и будешь ты, как все бабы, — и под кулаком и под ярмом.
— Ты меня, Володимирыч, не расстраивай, — сердилась Катя. — Я и без тебя знаю, какая у бабы доля. Вот возьму да в девках и останусь.
Дед с суровым спокойствием обещал:
— Весной замуж выдам. Взнуздаю, как лошадь, аль, как овцу, свяжу. И не пикнешь! Побаловалась в девках-то — хватит. Позора на семью не допущу.
Как-то она озлилась, вскочила с лавки и крикнула на вею избу:
— Ты, тятенька, меня не трог!..
— Хомут надену на тебя, — сказал дед и даже не повернулся к ней. Взнуздаю! Узлом свяжу!
— Ты, тятенька…
— То-то и есть, что тятенька.
Катя вся обмякла, как от удара: она подняла донце, опять села и склонилась близко над мочкой кудели.
Мать пряла, немая, глухая, прибитая к месту. Отеи с Сыгнеем и Титом тоже молчали, но я видел, как они переглядывались и украдкой смеялись. Сема стоял перед стеной и, сгорбившись, вил веревку из кудели, а я сидел рядом с Егорушкой и старательно переписывал осьмигласие черными и красными чернилами. Егорушка склонился ко мне и прошептал:
— Давай-ка споем с тобой все гласы. Дедушка-то утихнет, а утихнет всем станет хорошо. Я начну первый глас, ты — второй, я опять — третий.
И, не переставая шить, он запел тонким голосом, почти по-ребячьи:
— «Грядет чернец из монастыря…»
Я подхватил второй глас:
— «Навстречу ему второй чернец…»
Егорушка спросил участливо третьим гласом:
— «Откуда ты, брате, грядеши?»
Я ответил грустно:
— «Из Констянтина-града гряду».
— «Сядем, брате, побеседуем. — И спросил с живым упованием: — Жива ли там, брате, мати моя?»
Я изобразил глубокую печаль:
— «Мати твоя давно умерла».
— «Ох, увы, увы мне, моя мати!..»
Этот наивно-трогательный разговор чернецов считался священной основой молитвенного песнопения, и нарушение его житейской суетой было недопустимо, как грех. Чтобы ни случилось в избе, какой бы скандал или хлопотня ни происходили, стоило кому-нибудь запеть эти простодушные слова осьмигласия, сейчас же все замирали, как от грозного окрика или небесной трубы архангела.
Красное лицо деда в ворохе седых волос сразу же стало благочестиво-строгим. Он бросил шлею на пол, схватился за седую бороду и сокрушенно вздохнул:
— Окаянные, греха-то с вами сколько!..
Сытней с лукавой игрой в глазах поглядел на Егорушку и подмигнул ему и мне: ну, мол, и молодцы же вы, ребята!
Мать уронила веретено на пол и смотрела на меня с нежностью в лице и со слезами в глазах, а Катя по-прежнему сидела как каменная, уткнувшись лицом в гребень с шелковистой мочкой кудели. Когда мы кончили петь, дед умиленно, со старческой дрожью в голосе сказал:
— Хоть ты и щепотник, Егор, и Володимирыч тебя грехами опутал, а поешь божьи гласы, как человек праведной веры… В моленной ты пел бы как истинный гамаюн!
Егорушка безбоязненно уставился на деда и скромно, но с достоинством ответил:
— Мой папаша — чистый человек: он никого не обижал, никому зла не делал. Он мне не родной отец, а лучше отца.
Людям он всем родня, он себя не пожалеет, чтобы в беде человеку помочь.
Володимирыч шутливо трепанул его за волосы и притворно-сердито прикрикнул:
— Ну, ты еще молод судить да рядить о людях. За собой следи. Мы с тобой бродяги и троюродная родня двоюродному мерину. Расскажу я тебе, Фома Селиверстыч, такую вот быль. Стояли мы на Шипке, в Балканских горах.
Время было осеннее, а морозы трещали, как вот сейчас же.
Обмундирование плохонькое: шинелишка да дурацкая французская кепка, вроде шлыка с пятачком: на лоб напялишь — затылок голый, на затылок сдернешь — вся башка наружи. Много людей померзло да с голоду погибло. Места были дикие, приютиться негде: жили в палатках, в норках, да и у костров. А турки — внизу, в тепле, в селах да городках. Сдружились мы шестерка солдат — разной крови и разной веры: и русские, и татары, и литва, и болгары.
И был у меня дружок, башкир Фейзулла — прямо брат родной. Здоровый парень — быку рога свернет. Веселый, шутник, добрая душа. Мы с ним лазутчиками были и не раз ходили в разведки в турецкие места. И вот послал нас командир в тыл к туркам, к Казанлыку, к болгарам, — разузнать, что у турок делается. Проходим одну деревеньку, другую, третью — все ночком больше. У нас уж там и друзья болгаре были. Ну, конечно, турецкий караул снимаем…
— Это как — снимаем? — беспокойно вмешался Сыгней.
Он тоже забыл о работе, захваченный рассказом Володимирыча.
— Постой ты!.. — оборвал его отец, стараясь доказать, что он все заранее понимает и не нуждается в объяснениях, да и подшивка стелек дратвой — не менее важное дело, чем какая-то побасенка Володимирыча.
— Как снимали-то? — переспросил Володимирыч, втыкая иголку в овчину и поглаживая бачки. — А так… подкрадывались — и нож в спину… или мигом на землю и…
— Батюшки! — в ужасе вскричала мать.
А бабушка стонала на печи:
— Сколь на тебе крови-то, сколь душегубства-то! Не будет тебе прощения, Володимирыч…
— На то война! — усмехаясь, внушительно успокоил Володимирыч. — Мы солдаты. Ежели не мы их, они нас. Вон ваш Архип Уколов — тоже солдат, вместе с ним спроть турок воевали. Ногу там ему оторвало. И Сыгней тоже в солдаты пойдет. На войне солдат под смертью ходит.
— Война — дело царское, — солидно разъяснил отец. — Без войны нельзя, а то народу много расплодится — совсем земли не будет.
А дед поучительно заключил с благочестивой суровостью:
— Война — по божьему произволению. Бойка еще до Адама дана: сам бог с дьяволом воевал и во ад его загнал.
Израиль воевал, а для Исуса Навина господь солнце и луну остановил. А мы с татарами воевали, француз на русскую землю наступал. Дедушка Селивсрст хорошо помнит, как нехристей мужики убивали.
— А ты вспомни, Фома Селиверстыч, — с веселой хитрецой заметил Володимирыч, — как Степан Тимофеевич Разин да Емельян Иваныч Пугачев с барами воевали. Крестьчнская была война, правильная война, из-за земли, против крепости. Емельян-то Иваныч и здесь, в наших местах, был.
Бабушка молодым голосом с живостью пропела с печи:
— А как же… ведь Оленин-то куст и сейчас в Сосновке целый. На нем барыню Олёну пугачи повесили. Дуб-то этот и не старится. Деауика-то Селиверст всем нам показывал.
На этом дубу сколь после мужиков перевешали! Да еще плетьми при народе тела-то рвали. до костей. А у неких кишки из живых выматывали… Мотают, мотают, а те смеются: бают, щекотно больно…
— Ну-у, понесла кобыла, да лягнуть забыла — пренебрежительно оборвал ее дедушка.
Мне было приятно сидеть бок о бок с Егорушкой и слушать Володимирыча. Занятно было следить и за взрослыми: они раскрывались передо мною по-новому. Мне казалось, что отец боялся Володимирыча больше, чем деда. Он ненавидел старого швеца и чуждался его, как будто прятался от него. А дед хорохорился перед Володимирычем и все старался показать, что он перед своим богом достойнее и праведнее швеца, что швец — не самосильный мужик — ошметок человечий, бездомник и нищий. Но я видел, что Володимирыч подавляй его своей мудростью и знанием жизни. Мне было обидно, что мать немела и тряслась перед дедом, что отец с трусливым озлоблением сносил его самодурство. А теперь и Катя вот согнулась и замолчала Сыгней и Тит, каждый по-своему, обманывали деда и всю семью: Сыгней пропадал из дому и выискивал всякие поводы, чтобы отлынить от работы по двору и не попадаться на глаза деду. Тит никуда не уходил и с парнями не знался, но у него была своя скрытая жизнь: он тоже исчезал внезапно из избы, но внезапно и появлялся. Я знал только, что он собирает всякие вещи и прячет их, что он даже тащит пуговицы, бляшки, подковы и всякие тряпки. Он был скупой, завистливый, и серые мутноватые глаза его подозрительно озирались. Я жил среди близких мне людей, которые не доверяли друг другу, считали «мирских» соседей отверженцами, а такого хорошего старика, как Володимирыч, и такого безобидного парня, как Егорушка, — погаными. А ведь Володимирыч всем помогал — и бабам по хозяйству, и мужикам в работе, и Егорушка не гнушался поработать на дворе: он часто вскидывал на плечо коромысло с ведрами и шел за водой вместо матери или Кати.
— Война-то война, други мои милые… — словоохотливо говорил Володимирыч. — Только она не божье, а человечье дело. Разве это от бога, еже пи люди на войне тысячами гибнут, да еще в муках? За какие же грехи солдаты-то, — а ведь они мужики! — страдают? За что, к примеру, у Архипа ногу оторвали? А детей-то зачем убивают? Вот турки в болгарских деревнях всех жителей вырезали, а детей — за ноги да головками об стенку… Вступаем в деревню, а там все перебиты — и старики, и бабы, и ребятишки. Не бог, а жадность да зверство людское! Я на своей шкуре все претерпел, кровью плакал. Туг надо думать да думать…
— Это дьявол творит, — учительно перебил его дед. — Дьявол-то еще в раю смутил человека. С бабы начал, а баба всегда с дьяволом вкупе.
— Нет, Фома Селиверстыч. Нехорошо ты говоришь, грешно думаешь. Женщина тебя родила, она — мать. У нас у каждого была родная кормилица. Неужто же наши матери прокляты, с дьяволом вкупе? А богородица как же? Мы ей, как страдалице, поклоняемся. Ежели у бабы не душа, так мы не стоим пи шиша.
— Ты — еретик! — раздраженно крикнул дед, взметнув на него свои пронзительно-властные глаза. — Богородица-то одна без семени родшая. А бабы блудом живут. Писание о Еве-то что свидетельствует?
— Так ежели бы мужика-блудника не было, как же она жила бы в блуде то? От мужика и блуд. Она в муках детей родит, кормит, растит, слезы льет. Тем и земля наша красна, что она тоже мать. Однако ты вот, Фома Селиверстыч, без бабы не прожил, а тетка Анна дюжину тебе детей народила. А ну-ка попробуй-ка кто-нибудь назвать ее блудницей — ты первый зубы выбьешь обидчику. Кто, Фома Селиверстыч, постыдную-то матерщину выдумал? Баба, что ли?
А это матерщина оскорбляет самого дорогого человека — мать! И мне по душе ваше поморское строгое правило — не допускать в речах матерной ругани. Уж за одно эго хвала вам и честь. И вот мы как раз и подошли к тому, о чем хочу рассказать…
— Ну, ну, рассказывай… хвастай, что сорока на хвосте принесла… насмешливо отозвался дед, и я видел, что он хочет унизить его в отместку за дерзкую речь.
Володимирыч спокойно пропустил мимо ушей слова деда, но добрые, умные глаза его потускнели от горечи.
— Я старый человек, Фома Селиверстыч, — с грустным достоинством произнес он, — и нет мне нужды шутом быть.
Пускай сорок считают дураки да пустобрехи. А я хочу поведать, как этого вот паренька от злой смерти спасли и как он дорог мне, потому что за него кровь пролита.
Отец не утерпел и съязвил:
— Он, Володимирыч-то, как наш Микитушка, в пророки лезет.
Егорушка положил голову на руки, и я чувствовал, что ему больно за Володимирыча, что в нем клокочет гнев и на отца и на деда. Мы встретились с ним взглядом, и в его черных глазах блеснули слезы.
— За что его обижают?.. — прошептал он. — Да лучше его для меня и человека нет… Тяжко жить хорошему человеку…
— Хороший был парень Фейзулла, — рассказывал Володимирыч, щелкая наперстком, — силач, а сердцем мягкий.
Веселый был солдат. Бывало, в стужу около костра, в шинелишках, худо приходилось: мерзли, душа застывала, люди слабели, некие обмирали. А он плясать начнет, а то растормошит ребят и бороться примется. Ну, народ и оживет маленько. А то о своих башкирах начнет рассказывать и в гости зовет: вот, говорит, побьем турок, приезжайте гурьбой — баранов варить будем, гулять будем… Ну и растревожит всех. Магометанин, а лучше другого христианина.
— Татары да разные башкиры конину жрут, — враждебно перебил его отец, сгорбившись над валенком. — Они поганы, басурманы.
— И вот пробирались мы по деревням, а деревеньки в горах, только одни крыши видны. А крыши — из каменных плит. Дворишки с вашу избу. Везде пусто, люди словно вымерли. И верно, пробираешься ночком в домишко — ни живой души, а в нос смрад бьет. Вглядишься — мертвецы лежат: старики, бабы, детишки… Так в каждой деревушке мертвецы нас и встречали. У кого горло перерезано, а у кого и руки и ноги отрублены. У детишек головки, как горшочки, разбиты. На заборах торчат отрубленные головы. И такая на нас тоска нашла, что ноги подламывались, сердце холодело. Уж какой был Фейзулла силач да выносливый, а упал на коленки, качается и плачет: «Аи, какой шайтан турок! Детишки резал, баб резал… Аи, шайтан, аи, шайтан!» И вот ночью, в ненастье, подходим к большому селу. Тьма — глаз выколи. Навстречу бегут люди. Мы в кустах притаились. Вглядываемся — не турки, а болгары бегут. Плач, стоны… А в селе — как свиней режут: жуть берет. И рев, свист, собачья свалка. Фейзулла стонет: «Аи, шайтан! Турки народ режут… Аида, друг, спасать…»
И — зверем вперед, насилу поспеваю за ним. Говорю ему:
«Фейзулла, оружия у нас нет: одни штыки на поясе. Ничего не сделаешь, укокошат нас. А у них ятаганы да берданки».
Ничего не слышит, бежит да стонет: «Аи, ш-шайтан, аи, ш-шайтан!..» — и совсем забыл, что мы лазутчики.
Володимирыч замолчал и щелкнул зубами, перегрызая нитку. Сыгней забыл о работе и даже повернулся к столу, не сводя оживленных глаз с Володимирыча. Тит елозил пальцами в чеботарской мелочи и украдкой прятал что-то в карман. Только отец и дед были заняты своей работой и как будто совсем не слушали Володимирыча. Мать сидела бледная, с ужасом в широко открытых глазах, а Катя с лихорадочной быстротой крутила пузатое веретено и по-прежнему казалась тупо-равнодушной ко всему.
Я не утерпел и крикнул:
— Ну, а дальше-то что, Володимирыч?
Но отец цыкнул на меня:
— Убирайся отсюда. Спать пора. Нечего тебе побасенки слушать!
— Не любо — не слушай, а врать не мешай… — дурашливо съязвил Тит и нарочно громко застучал молотком.
Егорушка вздрогнул и с тревогой поглядел на согнутую спину отца. Потом повернулся к Володимирычу и глухо сказал:
— Не надо, папаша… Давай нынче кончим работу, а завтра — в другую избу…
Дед равнодушно говорил, не поднимая седой головы от сбруи:
— Турки — тоже поганые: они Мухамеду поклоняются и человечью кровь пьют. Неверные убивают за грехи. Значит, болгары-то прогневали господа… Тоже и нас за грехи татары заполонили… Когда вера до Никона укрепилась, мы и татар прогнали… А после Никона-то опять турки да французы…
Володимирыч внимательно выслушал его и с насмешливым сожалением в глазах покачал головой. Он ничего ему не ответил, но мягко утешил Егорушку:
— Нет, Егорушка, нам еще в этом доме денька два придется потрудиться. Не торопись: на нашу жизнь мытарств хватит. Живая душа правдой питается, а правда — как золото: ее трудно добывать. Жив человек — жива и правда.
Она — не на небе, как звезда, а на земле, в человеке. А человек правдой велик.
— Ты у Митрия Стоднева да у старосты Пантелея спроси, кто велик: ты или они… — съязвил отец. — У каждого своя правда. Велик человек не горбом да добром, а умом да рублем.
Дед неожиданно для всех прикрикнул на отца:
— Поговори у меня! Ишь язык развязал… молокосос! Ты подметки Володимирыча не стоишь и перед ним дурак. Хоть он еретик и табашник, а человек справедливый. За него в каждом селе бога молят.
А Володимирыч, как человек, уверенный в силе своего слова, ровным голосом продолжал рассказывать:
— Ну, так вот, люди мои милые… Эту повесть не вредно и детишкам послушать, чтобы помнили… чтобы пример держали про хороших людей… чтобы не боялись страхов ради правды… Знали бы, что подвиги на войне и в нашей жизни — великое дело…
Он вздохнул и опять поднял голову, лицо его совсем помолодело и засветилось, а в глазах заискрились слезы.
— Давно это было, а сейчас еще сердце голубем бьется.
С той ночи я другим человеком стал. Вот Егорушка, мой истинный сын, до гроба будет в душе моей гореть…
— Не надо, папаша… — с гневной мольбой в глазах сказал Егорушка и отодвинулся от меня в волнении.
— Нет, Егорушка, надо! Плохо знают люди, чем человек хорош. Много среди нас зверей, они каждый день, как турки, устраивают резню душ наших. На устах — «помилуй мя, боже», а в делах — вилами в бок Ну, а конец моей были такой. Прибежали в местечко, видном — факелы везде пляшут. Народ табуном несется по улице, крик, вой, плач, дети визжат… А на толпу эту со всех сторон турки в фесках, в широченных штанах, как в юбках, нагрянули и ятаганами — шашками кривыми — рубят, а морды оскаленные. Рубят направо, налево, и люди совсем обезумели. А на улице уже целая свалка убитых и раненых — стоны, плач… А Фейзулла как заорет: «За мной, друг, в атаку! Отнимай ятаганы и пистолеты, руби и стреляй! Не давай народ туркам резать!..» Да со штычишком-то своим и бросился в эту суматоху. Я — за ним: сразу меня как-то подхватило, и страх пропал. И не думалось, что мы двое-то против целой оравы турок — как две собаки на свору волков. Вижу, Фейзулла сшиб с ног одного здоровилу, вырвал у него, саблю и рассек его. Налетел на другого — и давай, и давай крошить. Залетел я на одного турка, который женщину с младенцем на моих глазах зарубил и уже на другую замахнулся, всадил ему в спину штык, вырвал ятаган и начал крошить их того по башке, того по плечу, а сам «ура» реву. Опамятовались турки, завизжали — и многие наутек. «Рус, рус!» — кричат.
И в эту минуту вижу: тащит турок с кинжалом во рту ребятенка за ноги. Крутит его округ себя и прыгает через трупы к каменной стенке. Вижу, хочет размахнуться и ударить мальчонку головенкой об эту стенку. Я — к этому турку, а на меня другой турок — верзила такой — с саблей. Вижу одни зубы и глаза — как у волка горят. Тут бы мне и капут, да откуда ни возьмись Фейзулла. Махнул шашкой, — и гурка пополам. А мой-то турок уже от стенки в двух-трех шагах. Рубанул я его по феске, он и грохнулся. Подхватил я мальчонку на руки, а он пищит: «Майка, майка!..» Мать, значит, зовет. Маленький еще такой, как Федяшка.
— Майку мою тогда зарубили… — вдруг сдавленно, с надломом в голосе прервал его Егорушка. — А меня турок за ноги схватил… а потом ничего уж не помню…
Мне почудилось, что мать болезненно вскрикнула… Она вцепилась в гребень и уткнулась лицом в мочку кудели.
Катя молчала и не двигалась. Веретено лежало у нее под ногами. Бабушка плаксиво стонала на печи. У меня больно билось сердце и обрывалось дыхание.
— Бегу я с мальчонкой в руках и зову Фейзуллу. А он то за одним турком припустит, то за другим. Уж не знаю, почудилось ли им, что нас много, все кричали: «Рус, рус!» — и стали разбегаться. Кричу, зову Фейзуллу, а он и не слышит. Но увидел, что с кинжалом летит сбоку турок, бросился со всех ног к нему и сразил его одним махом: «Беги, друг, кричит, спасай парнишку, а я тут рубить их буду…» Отбежал я это за уголок, вижу — яма какая-то и куча камней. Посадил мальчонку в эту яму и приказываю ему:
«Сиди и молчи, я приду сейчас». А сам побежал на выручку Фейзуллы. Смотрю — Фейзуллы и нет. На улице — пусто.
Люди разбежались, турки все пропали, как дым. И слышу — середь стонов и хрипов Фейзулла зовет: «Друг, сюда иди! Зарезал меня ш-шайтан…» Лежит мой Фейзулла, а изо рта кровь пеной клокочет. «Шабаш, друг!.. Все кончал… Народ убежал — ладно… Парнишку спасал — добро… Живой ты рад я… Тур ков мы разбил — такой русский солдат храбрый… ладно делал… Прощай, друг!..» И умер Фейзулла. Оттащил я его к яме. Парнишка скорчился там, ни живой ни мертвый… Вынул я его, посадил на землю, а Фейзуллу в яме похоронил под камнями. Так наша битва и кончилась. А я с парнишкой назад подался горами и лесами. Вот вам и неверный, вот и Мухамед!.. А для меня он — святой человек, в сто раз лучше иного христианина. Для спасения людей и меня и этого вот паренька — жизни не пожалел…
Мать вся тряслась, уткнувши лицо в мочку кудели, а бабушка плакала и стонала на печи. Дед не рассердился ни на мать, ни на бабушку. Должно быть, и на него рассказ Володимирыча подействовал своей трогательной силой. Он только поучительно произнес:
— Жертва вечерняя… Мир живет одним праведником.
Блаженны праведницы, ибо они наследят землю.
И вдруг хозяйственно распорядился:
— Ну, нечего тут… тары да растабары… Ужинать надо.
Бабы, собирайте на стол!
X
Как старший в семье, отец подражал деду в обращении с братьями, с мамой, со мною. Он делал вид, что не замечает матери, как и меня, но кричал на нее, как на скотину:
— Настасья, принеси квасу! Проворней! Кому говорят?
А она хлопотала в чулане с бабушкой, или валила охапками солому на пол для топки на завтрашний день, или, прозябшая, подурневшая от мороза, приносила не одну пару ведер из колодца.
— Сейчас, Фомич… Матушка велит муки принести…
Он свирепо орал:
— Кому говорят!..
И когда она кротко и безгласно ставила кувшин на стол и рядом с ним жестяной ковш, он угрюмо командовал:
— Аль не знаешь, что налить надо?
Она дрожащими руками наливала в ковш квасу и от страха выплескивала его на стол.
А иногда, в часы обид и озлобления против деда или братьев, отец бил ее походя.
И ночью не раз слышал я, как он шептал ей виновато:
— Разве это я бью? Обида бьет. Моготы нет… Убежал бы на край света… Я — как батрак у отца-то! Хуже работника: слова не скажи. Скоро к барину в кабалу пошлет. Володимирыч-то правду говорит…
Мать всхлипывала и молчала.
— Разделиться бы, что ли… — тосковал он. — Аль на сторону… Отец раздела не даст. Поеду в извоз. Может, бог даст, перехвачу деньжонок… приторгую по дороге, как батюшка…
— Умру я, Фомич, — шептала мать, глотая слезы. — Всю себя до капли истратила. Всем угоди, всем поклонись, всем покорись… Чай, сердце-то у меня, как уголь, почернело.
— Терпи. Дай срок, весной на Волгу уйдем.
— Господи, помоги! Не оставь, пресвятая владычица, в лихой печали… Пожалей ты меня, Христа ради…
А утром я видел в ее глазах и в глазах отца затаенную надежду.
Отец любил читать вслух и поражал своим чтением Цветника, Пролога, Псалтыря, но читал с запинками и, пользуясь тем, что славянской речи не понимали, а слушали ее как что-то таинственно-мистическое, уродовал слова, пропускал трудные титлы. Как-то Володимирыч долго слушал его чтение, крякал, гмыкал, сердито шевелил усами и бачками и вдруг спросил:
— Погоди-ка, Вася. Ты чего это читаешь-то?
Отец опасливо взглянул на него исподлобья.
— Как это чего? Правило, яко не подобает к еретикам приобщение имети в молитвословии и ядении, в питии и любви.
— Не пойму я как-то ничего у тебя…
— Значит, не дано тебе.
— Эх, Вася, Вася! Всякое слово, ежели оно сказано от ума, должно быть понятно и бородачу и ребенку. В слове, Вася, — весь человек. А ведь ты читаешь слово-то божье в поучение людям. Как же я могу принять это поучение, ежели оно для меня — тарабара?
— Не дадено тебе, — упрямо и строго повторил отец. — Ты другого ветра.
— Верно, Вася: другого я ветра. Мой ветер меня встретил, погонял и приветил. И лжу я скоро примечаю. Лжу ты прочитал. А лжа твоя — от норова.
Отец почему-то закатывал глаза и говорил одно и то же с злой настойчивостью и упорством. А Володимирыч добродушно усмехался и, не отрываясь от овчины, легко, ласково журил отца:
— А норовишься ты потому, что мозги у тебя промозгли. Упрямство, Вася, от лени и слепоты. Чего ты на своем веку видал? Двор свой да поле. Чего ты испытал, какие края, каких людей встречал? Никаких! Какие муки принимал? А Расея большая, людей в ней всяких — не пересчитать, а городов — как гороху на току… Походишь по разным сторонам, поглядишь и ахнешь: господи, сколько задано человеку работы, чтобы устроить свою жизнь по-человечьи! А вот глохнет человек-то… как ты вот…
— Нам, Володимирыч, дан от бога один закон, выполняй его и не умствуй, — упрямился отец, раздражаясь.
— Какой же это закон? Закон, сказано, как дышло, куда сунь, туда и вышло. Вот слова свои ты прочитал, а они без мысли. Ну-ка прочитай-ка еще хоть одно твое правило.
Дай-ка я послушаю.
Отец самоуверенно читал, спотыкаясь на трудных словах:
— «Елико же есть от иже к согрешающим приобщения пакость… Мал квас все смешение квасит. Аще же от иже вобыченных согрешающих такова есть пакость, что подобает глаголати от иже о бозе злословящих…»
— Ну, поясни мне, Вася… Вложи мне в понятие сии квасные словеса. Что это, такое? Слово за словом поясни.
Ну, к примеру, какая мудрость в этом месте: «от иже вобыченных согрешающих пакость…»?
Слушая этот спор, все относились к Володимирычу недружелюбно. Как он, мирской человек, табашник, может оспаривать у отца привычную для всех его привилегию быть истовым храмотеем в семье? Как ои может, чужой для правой веры, постигнуть священную мудрость древнего Писания? И все ожидали, что отец опрокинет Володимирыча, поразит его непререкаемой истиной начертанных в книге слов. И отец чувствовал на себе ожидающие глаза домашних и усмехался в бороду. Он поискал пальцами нужные слова, вдумчиво поднимая брови и шепча что-то непонятное.
— А вот это и есть о таких еретиках, как ты: в обычае ты имеешь пакость — слово божие устами злословящих пакостишь.
Володимирыч не обиделся, а настойчиво привязывался к отцу и, не спуская с него глаз, требовал:
— Тут сказано не «в обычаях», а «вобыченных». Чего это значит? Толком скажи, по-человечьи.
— Тут эдак написано от Василия Великого.
— Пускай написано… Вижу, что какой-то грамотей, как ты же, написал по-печатному… а ты по-нашему скажи.
Отец в затруднении молчал. Я впервые увидел, как он побледнел: он сам не понимал того, что читал, и не мог ответить Володимирычу, который совсем уничтожал его своим молчаливым ожиданием и острым взглядом.
Дед сердито отозвался с печи:
— Деймоны! Это во что вы обратили слово-то божее?
Не слушай его, Васянька, он тебе наплетет, трубокурный бес.
Но отец уже захлопнул книгу и вылезал из-за стола. Он молча, не глядя ни на кого, надел шубу, напялил шапку и вышел из избы.
Не приходил он долго. Когда же ввалился в избу вместе с холодным паром, я увидел, что лицо у него распухло. Он разделся, зло взглянул на мать и рявкнул:
— Не видишь, дьявол? Давай воды!
И неожиданно засмеялся. И мне казалось, что у него смеется одна борода.
— На кулачках дрался… Кум Ларивон, долгорукий бес, измолотил.
А когда мать налила ковшом воду в глиняный рукомойник, который висел на веревочках над лоханью, отец ни с того ни с сего ударил ее с размаху. Она охнула и, защищаясь от него локтями, стала падать на колени. Он выхватил у ней ковшик и замахнулся им, но в этот момент Володимирыч подскочил к нему, схватил сзади за обе его руки, заложил их за спину и, прихрамывая, потащил назад.
А бабушка разгневанно крикнула: — Дурак окаянный! Розорва тебя возьми!
Отец бешено рвался из рук Володимирыча, корчился, пыхтел, храпел, но был беспомощен: Володимирыч тянул его назад медленно, заботливо, принуждая его пятиться за собою. Никто не улыбался, точно перед ними совершалось какое-то колдовское действо.
Отец задыхался: — Пусти-и!.. Брось, говорю!..
Но Володимирыч все тянул и тянул его за собой молчаливо и вдумчиво.
Мать лежала на кровати, уткнувшись в рухлядь, и у нее тряслись плечи. Ковшик валялся на полу, и его никто не поднял. Дед наблюдал с печи, опираясь на локти. Видно было, что он тоже встревожен. Бабушка будто одна поняла, в чем смысл этого хождения назад шаг в шаг, и у нее уползали брови на лоб. Потом лицо ее плаксиво сморщилось, и вся она рыхло затряслась в беззвучном смехе. Катя держала за нитку веретено, а оно крутилось в ее руках, задевая за подол сарафана. Она не смеялась, но, должно быть, переживала большое наслаждение. Она подмигнула бабушке и отмахнулась. Бабушка подняла ковш и ушла в чулан.
Я сидел около матери, обнимая ее, и ощущал, как она дрожит вся от судорог. Я смотрел на отца, который прижимался лопатками к груди Володимирыча, и видел, что он уже не помнит себя. Борода у него торчала кверху, зубы скалились. Егорушка сидел за столом и щелкал наперстком.
Дед вдруг озабоченно спросил с печи:
— Это ты чего делаешь, Володимнрыч?
— Гляди, усмиряю строптивых.
Когда отец ослабел, сгребая солому валенками, Володимирыч быстро поставил его на ноги.
— Вот так-то, Вася. Нехорошо человеку ронять себя перед людями. А ежели чуешь, что сам перед собой унизился, не взыскивай с других, а только с себя. А взыщешь — не расплатишься.
Отец одурело переминался с ноги на ногу и шатался: так и казалось, что он вот-вот грохнется на пол.
— Нельзя, Вася, силу на слабых показывать. Сила солому ломит, но ведь эта сила — не сила. Ты тут не силу свою выявляешь, а зло свое срываешь на беззащитных. Ежели ты сильный, так силу свою на сильных испытывай. Нищий перед богатым не похвалится, а слабый и перед калекой трус. Ты вот кошку бьешь, жену больную истязаешь, а людям тошно глядеть на тебя. Слабый всегда в обиде, а сильный — в гордости. Я — старик, тело мое мозжит от ран, а вот измотал я тебя. Внушаю, Вася, тебе: при мне ты свою Настю пальцем не трог. Ее слеза дороже твоей судьбы. Умрешь от ее слезы. А обидишь — в ногах у ней будешь валяться. Я, Вася, человека умею, как хороший швец, двадцать раз перекроить. Помни!
Он сходил в чулан, принес воды и вылил в рукомойник.
Ковшик отнес опять в чулан и, стоя у рукомойника, ласково, но сурово приказал:
— Иди-ка, Вася, умойся!
Отец очухался, сразу как будто проснулся и оглянулся на Володимирыча. И стыд и ненависть дрожали в его лице. Он послушно и молча умылся.
Володимирыч, обнимая отца, вел его к столу, как больного, и глаза его играли весельем и лаской. А отец шел рядом с ним и сконфуженно улыбался.
XI
В избу на ночь приносили большие охапки соломы.
Я любил зарываться в пышные золотые вороха и кувыркаться в них. Солома вкусно пахла солодом. Вместе со мною прыгали и ягнята и сорили орешки. Подходил рыжий лопоухий теленок и смотрел на нас глупыми глазами, растопырив ноги.
Отец сидел перед лавкой и чинил обувь или сбрую. Дед лежал на печи или вил веревки. Швецы щелкали наперстками и ножницами. Иногда они пели какую-нибудь задумчивую песню или Володимирыч рассказывал разные истории о своем солдатстве или как живут люди в разных местах России. Я гулял по лавке, хватал у отца шило и сверлил им стену или охотился за тараканами. Тараканы одурело удирали от шила, а я настигал их и пригвождал к стене. Прогулки мои по лавкам кончились навсегда после того, как я споткнулся и упал на шило. Я не помню, как это случилось, но говорят, что шило вонзилось мне в бровь, и, когда мать подхватила меня на руки, шило торчало над глазом толстым черенком и сидело крепко. Мать крикнула раздирающим душу голосом и не знала, что делать. Отец вскочил со стульчика, схватил черенок и выдернул шило. После этого я долго ходил с разбухшим глазом. Шрам над бровью остался у меня на всю жизнь.
Днем я убегал на улицу, когда взрослые спали после обеда, а вечером, после ужина, с отцом и дядьями уходил на бугор, где собирались мужики, парни и девки попеть и поплясать под гармонью. Весь же день мы с Семой работали по двору — сгребали навоз, давали корму скотине, гоняли ее на водопой, отбрасывали снег от ворот, вязали жгуты из соломы для топки, вили из кудели веревки, сучили дратву, читали нараспев Псалтырь и учились писать и скорописью и по-печатному, чтобы четко и красиво переписывать книги.
Это в нашей семье считалось душеспасительным делом.
Даже дед не отрывал нас от этого занятия из уважения к нашему подвигу. А мы часто пользовались этой его слабостью, чтобы отлынить от нудной работы по двору, и старательно выводили буквы, бормоча малопонятные слова Писания. Дед богобоязненно вздыхал, творил молитвы и поощрял нас с Семой:
— Чище пишите, чище! Слово в слово… чтобы не отличить, а то бог взыщет.
А когда он надевал засаленный полушубок и выходил из избы, мы переглядывались с Семой и фыркали, как озорники. Смеялся и Егорушка. Володимирыч подмигивал нам и говорил:
— Бросьте мозги-то себе забивать, ребятишки. Лучше делайте, что вам по душе. Ты бы, Сема, на одном поставе и толчею приспособил. Ну-ка, неси сюда мельницу-то, мы с тобой сообча покумекаем.
Сема сразу же загорался и, задыхаясь от волнения, сообщал:
— А я толчею-то уж делаю. Мне вот хочется еще насос привязать. Привяжу насос — он и будет поршнем воду наверх толкать. Будет толкать, а вода-то по лунке на огород польется.
Он радостно смеялся, и в глазах его искрилось лукавое удивление. Он лез на полати и подавал мне оттуда сложную постройку: избу из лутошек настоящий сруб, большое водяное колесо сбоку с колодцами, с гаузом, с колесами и шестернями внутри. Я принимал это сооружение как драгоценность и гордился, что держу его в своих руках, что я тоже участник этого замечательного дела: ведь я помогал Семе готовить венцы из палочек, строгал дощечки и учился у него сверлить дырочки в ободьях колес и вбивать шипы. Сема самозабвенно работал над мельницей много дней, но постройка не была закончена: она была еще без крыши и без дверей. Для нас с Семой это были самые упоительные часы, и мы забывали все на свете. И когда мы прерывали свой труд при окрике деда, мы с сожалением смотрели на чудесное наше деяние и грустно прятали его на полати. Но дедушка сам с интересом следил за работой Семы. Однажды он взял в руки мельницу, которая была величиной с четыре Псалтыря, и внимательно осмотрел ее и снаружи и внутри. — Плотничать будешь, Семка. С докукой к Архипу Уколову аль к Мосею-пожарнику не пойдем, коли нужда будет в плотнике. Делай, коли время есть. На базар в Славкино поеду — продам. Деньги и за баловство платят.
Я хныкал и громко клянчил:
— Не надо, дедушка, продавать. Мы ее на речку поставим. Муку молоть будем.
— Чего ты понимаешь? — усмирял он меня. — Рупь-то дороже побалушки.
Сема тоже грустнел от соображений дедушки. Ведь дед не знал и не чувствовал наших творческих радостей и неудач. Он слишком дешево ценил наш труд и наши искания.
Володимирыч чувствовал нас хорошо. Он не соглашался с дедом и доказывал:
— Тут не рупь дорог, а умишка да охотка. Гляди-ка, сколь здесь труда-то да выдумки затрачено. Парнишка-то не о рубле думал, а душой да сердцем кипел — по-новому все устроить. А это дороже денег стоит.
Дед не понимал Володимирыча: он отмахивался от него и смеялся.
— Ты как маленький, Володимирыч. Побалушки — игрушки, а дело рук просит. Время-то попусту в хозяйстве нельзя тратить. Заместо этих побалушек ребятишки-то сколь навозу бы на усадьбу вывезли… Нам копейка сама с потолка не упадет, а копейка-то — десяток гвоздей…
Дедушка был человек практический. Каждый в семье должен оправдать себя: каждую крошку хлеба и взрослые и ребятишки должны окупить да еще принести выгоду. Вот почему мы с Семой были под строгим надзором деда и отца, и для нас всегда находилась работа. На улицу мы убегали только в то время, когда дед залезал на печь и храпел там или уходил из дому по каким-нибудь делам, недоступным нашему разуму. Единственный бездельный день, освященный обычаем, желанный для нас, — это было воскресенье или двунадесятый праздник. Мы тогда наслаждались свободой, но и в эти дни по утрам мы обязаны были ходить в моленную на длинное стояние, а вечером — к всенощному бдению до звезд.
Мы с Семой очень любили и Володимирыча и Егорушку. Они никогда не отгоняли нас от себя, а всегда с приветливой готовностью калякали с нами, как с ровесниками.
Егорушка часто выходил с нами на двор и с увлечением играл в козны. Он достал где-то свинец, расплавил его в печке и вылил в биток. Разбивал он козны на расстоянии двадцати шагов и, к нашему изумлению и зависти, ни разу не промахнулся. Я горячо приставал к нему, чтобы он научил меня этой меткости, а он смеялся, довольный своим мастерством, и с удовольствием показывал, как надо держать биток, как взмахнуть рукой, куда метиться, и советовал:
— Ты, Федя, не торопись, а рассчитывай. Сначала не будешь попадать. Ловкость да сноровка — от привычки.
А привыкать и добиваться надо долго. Не выходит — бей и беи, покамест не добьешься. Я тоже вон шить-то не сразу выучился — и руки иглой колол, и ножницами резался, и овчину портил. А сейчас все словно само делается.
И действительно — игла у него как будто сама летала, а он ее только подхватывал.
Раза два играл с нами в козны и Володимирыч. Он разглаживал свои бачки и, с трубочкой во рту, прихрамывая, сердито хмурил свои серые брови. Он метился в кости издали и, шагнув вперед, бросал биток со всего плеча. Когда козны разлетались в разные стороны, он глухо смеялся и победоносно уходил в избу.
Веселый кудряш Сыгней тоже дружил с Егорушкой и уводил его с собою на улицу. С Володимирычем он держал себя странно: посмеиваясь, увивался около него, зыбко семенил, подгибая коленки, и шутил легко и словоохотливо:
— Ты, Володимирыч, на все руки мастер. А вот плясать, должно, не умеешь.
— Солдат и маршировать, и стрелять, и плясать должон хорошо, — отвечал Володимирыч с притворной строгостью. — Давай-ка поспорим, кто лучше пляшет. Ты вот через два года в солдаты пойдешь, Сыгней, а умеешь только сапоги тачать да собирать гармошку на голенищах. Ну-ка, я научу тебя ружейным приемам…
И он сделал однажды из обломка старой доски ружье и, ловко щелкая, брал на плечо, на караул, на прицел. Особенно внушительно он колол штыком, подпрыгивая, бросаясь вперед, отскакивая проворно, как молодой.
Делад он эти приемы в избе, не стесняясь деда. Даже отец был захвачен игрой и смеялся, забыв о своей степенности. Сыгней невольно повторял четкие движения Володимирыча и подталкивал Тита, который пискливо хихикал, показывая редкие острые зубы. Дед снисходительно шевелил седыми бровями. Мать и Катя даже встали с донцев и смотрели на занятного старика блестящими глазами. С этого дня Сыгней так пристрастился к этому занятию, что реже стал удирать из дому и долго упражнялся с ружьем перед Володимирычем. Возвращаясь в запачканном фартуке от чеботаря, он сразу же хватался за ружье.
А я думал о Володимирыче, как о человеке необыкновенном: ведь никто в нашей семье и во всем селе не сравнится с ним. Он все знает, все умеет и никогда ни на кого не сердится. А если его обижает дед или отец — ругают его, называют табашником, еретиком и брезгуют им, — он не расстраивается, а смотрит на них с сожалением да так пронзительно, словно насквозь их видит и считает их неразумными. И я сочувствовал ему и был на его стороне.
Особенно привязался я к нему за его ласковое отношение к матери. И я мечтал: когда вырасту большой, я буду такой же, как Володимирыч или Егорушка. Я тоже буду солдатом, пойду на войну, и также буду спасать мальчиков и девочек от турок, и также буду ходить швецом по чужой стороне. Я все увижу, все узнаю и буду таким же мудрым и добрым, как он.
Мельницей Володимирыч так заинтересовался, что каждый день нет-нет да и крикнет, откладывая овчину в сторону:
— Ну-ка, милок… Сема! Тащи-ка сюда свою мельницу!
У меня мыслишка есть. Надо толчею-то позади привязать, а насос сбоку, над заводью. Вал с шестерней установить внизу и слепить его с зубчаткой, а на конце колесо с шатуном. И надо не из досок трубу-то, а выжечь из бревнышка.
Бревнышко я тебе найду. А туда — поршень.
Мы притащили мельницу на стол, и Володимирыч задумчиво стал осматривать ее, пощипывая свои бачки. Егорушка тоже отложил работу и подсел к старику. Сема был в лихорадке: глаза у него горели, руки дрожали, и он, не ожидая, что скажет Володимирыч, стал говорить, захлебываясь, бойко и нетерпеливо:
— А я уж это обдумал, дядя Володимирыч… Тут вала не надо, а к колесу толчеи маленькую шестерню приладить с костылем, к костылю — плечо, ча большое плечо будет двигать маленькое плечо. Порщень с заслонкой сделаю из сыромятной кожи. Я уж у Кузьмы Кувыркина выпросил.
Володимирыч слушал Сему и задумчиво кивал головой, не переставая пощипывать бачки. Вдруг он шлепнул Сему по плечу и потрепал его за вихрастые волосы.
— Эх, парнишка ты милый! Головка-то у тебя какая смышленая! Доходчивая головка! Учиться бы тебе надо, сударик, — далеко бы зашагал Да вот беда наша — тьма, моховое болото. Ну, да ведь свет и во тьме светит, как говорит Евангелье. Светит-то светит, ребятишки, да и гаснет.
Трудно выпрыгнуть из этого болота, ежели вокруг и барин с нагайкой, и мироед с капканом, и полицейский с арканом.
Да и сами-то вот…
Он оглядел избу, хотя и знал, что никого в ней не было: дедушка ушел к шабрам, отец с Титом уехали на гумно за соломой и колосом. Сыгней, как обычно, у чеботаря, а мать с Катей полоскали белье в проруби. Бабушка сеяла муку в амбаре.
— Сами-то вот увязли в этих своих правилах да поучениях. В кандалы душу заковали. А в кандалах смерть для души. Помните, не забывайте меня, старика. Всякие цепи сбивайте, бегите от тьмы и духа не угашайте, как учит апостол. Ты, Сема, не думай угомониться: это не пустая побалушка, что ты делаешь. А ты, Федяшка, учись и учись — от спички и дрова горят, и пожары бывают. — И он растроганно обращался к Егорушке: — Вот как, Егорушка, в людях огонек горит. Ты примечай: дети-то в игре да в своем интересе душу свою выказывают. Помни о Фейзулле: вот как надо за человека драться. И ничего не страшиться.
Он говорил задумчиво, тревожно, и я слушал слова его, как сказку. Многого я не разумел, но голос его — ласковый и проникновенный — внушал мне что-то очень хорошее, волнующее, и от этого голоса все пело у меня внутри. И всегда в тяжелые дни моей жизни этот милый, бодрый ц обещающий голос звучал в моей душе как утешение и надежда.
То же самое переживал, вероятно, и Егорушка, потому что он как зачарованный смотрел на Володимирыча широко открытыми глазами. А Сема не слушал старика и весь ушел в возню с своей мельницей. Он любил и чувствовал только то, что было у него в руках, и увлекался практическим делом. К сказкам он был равнодушен и засыпал от них, когда бабушка, постанывая, рассказывала их нам на печи. И песни не трогали его, а когда сам напевал за своей работой, то тянул какую-то дикую канитель.
А я хотел учиться и жадно читал гражданские книжки, которые мне совала тетя Маша, когда я встречался с ней у бабушки Натальи. Потом я стал выменивать их за тряпки у «шебалятников». Я собирал эти тряпки всюду шарил во всех уголках и копил их в потайном месте. А когда слышал заливистое пение шебалятника, бежал к нему на длинный порядок и выбирал маленькие книжечки, которые мне нравились по заглавиям. Я их тоже держал в потайном месте, чтобы не увидел дед. Он ненавидел их и считал грешными.
Как-то он выхватил у меня из рук «Сказку о царе Салтане» и грозно затопал ногами.
— Это какой окаянный всучил тебе пакость такую? Где ты взял? Бесовскую мразь в избу притащил да еще музюкаешь…
Дедушка с остервенением стал рвать мою книжку на клочки и бросал их в лохань. Красное лицо его вздрагивало от гнева и страха, а глаза были злые и колючие.
— Баушка! — пронзительно крикнул он. — Я на него, дурака, — сорок земных поклонов на каждый день наложил… на неделю… Гляди за ним! Ишь арбешник какой! Мирской потехой занялся. Это хуже, чем из мирской посуды пить.
Откуда эта пакость? От щепотников, от табашников, от нечисти. х Я мужественно отбил двести сорок земных поклонов, затаил ненависть к дедушке и тогда же решил читать книжки тайно. Таких книжек я накопил с десяток. Тут был и «Гуак», и «Страшная месть», и «Францыль-венциан», и «Ашик-Кериб», и «Битва русских с кабардинцами», и «Два старика».
Как-то мне попалась в руки невзрачная книжечка — «Песнл Кольцова». Стихи я любил и запомнил их сразу. Эти «Песни» поразили меня своей трогательной простотой и той глубиной чувства, которые я переживал сам и каждый день переживала мать. Стихи напоминали мне причитания бабушки Анны, когда она певуче передавала мне слова знакомых песен. Но они так взволновали меня своей свежестью и какой-то глубокой правдой, что я перечитывал каждую песню по нескольку раз.
Забыв об опасности, я вбежал в избу. Дедушки не было, а отец, по обыкновению, сидел над валенком. Мать и Катя пряли и что-то напевали вполголоса. Бабушка возилась в чулане. Ребят тоже не было.
Я подошел к Володимирычу и с дрожью в голосе, тыкая пальцем в раскрытую книжку, выпалил, словно сообщил о чуде:
— Вот… Про нас написано!
И громко прочел:
Вместе с бедностью Дал мне батюшка Лишь один талан Силу крепкую, Да и ту как раз Нужда горькая По чужим людям Всю истратила…— Это про Серегу да про дядю Ларивона поется! — срывающимся голосом крикнул я.
Отец выпрямился и повернулся к нам с изумлением:
— Это чего такое? Где это ты выкопал?
Мать и Катя тоже с удивлением смотрели на меня.
А Володимирыч поощрительно сказал:
— Дальше читай, что тебе по душе…
И я прочел первые попавшиеся на глаза стихи:
Иль у сокола Крылья связаны! Иль пути ему Все заказаны?— Хорошо! — крякнул Володимирыч, и у него вспыхнули глаза. — Ну, не про тебя ли это, Вася?
Егорушка исподтишка смотрел на меня и улыбался. А я, запинаясь от волнения, читал:
Без ума, без разума, Меня замуж выдали…Книжка трепыхалась у меня в руках, и на меня со страхом глядела мать.
Но в эту минуту Егорушка с огоньком в черных глазах, с мечтательной улыбкой напевно подхватил:
С радости-веселья Хмелем кудри вьются, А с тоски-печали Русые секутся.Меня накрыла горячая волна, и я, не помня себя, ткнулся головой в грудь Володимирыча. Рука швеца гладила мою голову, и я слышал его глухой добрый голос:
— Ничего, ничего, милок… Откликнулась душа-то…
Хоть и малолеток… Видишь, Вася, какие книжки-то есть.
Их к иконам надо класть.
Школы в нашем селе не было, а грамоте учил «поморских» ребятишек и девочек дряхлый старик Петр Подгорнов, от которого дурно пахло. Он был настоятелем до Митрия Степаныча. Рассказывали, что, когда дети сидели за азбучками, он в руках держал треххвостку и хлестал их за ошибки и они орали на всю улицу. Когда отец хотел и меня отвести к нему, я убежал к бабушке Наталье. Спасся тем, что обещал сам учиться с помощью Тита и самого отца. Но помощь их мне не потребовалась. Под каким-то странным наитием я постиг, что буквы надо произносить не словами, а звуками.
Кое-кто из «мирских» учились тоже у этого старика, но скоро убегали от него. Школа была в Ключах, и туда ходил парнишка старосты Пантелея, но мне нельзя было якшаться с «мирскими» ребятами, которые могли меня «обмирщить» в Ключах. Да меня и не отпустили бы, потому что в школу ходил поп обрюзглый пьяница и табашник: он обязательно затащил бы меня в свою церковь и наложил бы маслом «антихристову печать».
Церковь у нас многие годы стояла пустая: наши «мирские» хотели попа «благословенного», то есть молящегося двуперстием, по старообрядческому правилу, и ведущего службу по старопечатным книгам. Этих «мирских» в нашем селе было меньше половины, и «благословенным» попам, должно быть, было невыгодно служить здесь. За эти годы одна за другой «мирские» семьи перекрещивались в «поморское единобрачное согласие». Они, так же как и «поморцы», презирали щепотников и считали их папистами. К лапотникам и чапанникам, ключевским и варыпаевским мужикам, акающим и якающим, относились у нас брезгливо, как к мордвам и татарам. Потому и веру их отвергали, как еретическую. Но так как нужно было венчаться и крестить младенцев, выполнять всякие требы и справлять престольный праздник и пасху, а в пост исповедоваться и причащаться, то волей-неволей, с натугой, приглашали ключевского попа, пропахшего табаком и сивухой. Зато после службы сторож Лукич, который почему-то упрямо ходил в лаптях, в чапане, в домотканой рубахе и портках и носил и летом и зимой старинную серую шляпу плошкой, заливисто и разудало звонил во все колокола, и деревня словно расцветала и празднично улыбалась.
Митрий Степаныч был человек сильный не только как богатей, но и по уму и по развитию. Как вероучитель, он был очень начитан: знал всю догматическую литературу старообрядчества и православия, наизусть читал тексты Священного писания, хорошо знал учение Льва Толстого, постоянно переписывался с московскими беспоповцами, тесно был связан с поимскими, с саратовскими поморцами и держал в руках окружающие общины. Его красноречие и молодой голос пленяли прихожан, а статная, рослая фигура, белое, безбородое лицо и безгрешные голубые глаза обезоруживали людей, особенно женщин. Слушать его приезжали из далеких деревень. Однажды в нашей церкви миссионеры из города Петровска устроили «прения» с Митрием Степанычем. Никогда еще наше село не видело столько народу, сколько понаехало в этот день. Вся площадь была загромождена тарантасами, телегами и людьми. Говорили, что Митрий Степаныч так разгромил городских попов и говорил так красно, что народ плакал.
С этих пор слава о нем распространилась по всей губернии, а перед властью его отступала даже полиция и земский начальник. Наши же «мирские» почитали его больше, чем попов, и ходили в моленную постоять и благочестиво послушать утреню и обедню. Им разрешалось только кланяться вместе с другими, но не креститься, чтобы православные не «смешались» с ними.
XII
Бабушка Наталья жила в старенькой избушке на той стороне, под горой. За нашим задним двором обрывался крутой яр, который подмывался речкой. Каждую весну он обваливался и подползал все ближе и ближе к пряслу. Меня тянул этот обрыв своей головокружительной глубиной: было и страшно смотреть в снежную пропасть, и хотелось полететь над белым простором.
Келья бабушки ютилась на той стороне, как раз против нашего двора, кособокая, вросшая в гору. В окошечках не было ни одного цельного стекла: в переплетах — множество осколков, сплетенных замазкой, скрепленных лучинками. Зимой окошки казались слепыми от инея. Часто бабушка выходила из избушки, чтобы посидеть на завалинке, и призывно махала мне рукой, если видела меня на обрыве. С горы по накатанной дороге проезжие мужики сводили под уздцы лошадей с возами. Для меня было праздником пойти вместе с матерью в гости к бабушке. Обычно мать бежала к ней, чтобы «помыкать горе». И всегда, как только мы входили в темные сенцы, бабушка встречала нас в этой тьме, и мать начинала плакать:
— Матушка!.. Матушка!.. Какая я бессчастная!..
Бабушка, такая же курносая, как мать, маленькая, шустрая, прижимала ее к себе и тоже всхлипывала.
— Настенька., дитятко мое… жичи мы с тобой сиротами, сиротами и остались.
В избушке, оклеенной рыжими газетами с барского двора, с терпким запахом хлеба и конопляного масла, они садились на лавку и вопили, низко склонившись к коленям.
Пока они голосисто вопили, я взбирался на другую лавку и внимательно глядел на непонятные рисунки объявлений, на людей, похожих на уродцев, на самокаты, на странные, невиданные в жизни предметы. Вдруг за бумагой с писком и шорохом пробегали мыши, а я начинал охотиться за ними: бумага шевелилась, и я тыкал в нее пальцем.
Бабушка разгневанно кричала:
— Это чего ты, баловник, делаешь? Всю бумагу истыкал, греховодник!
Но гнев бабушки был ласковый, нежный, приятный. Она подходила ко мне и лукаво шептала:
— Ну-ка, угадай-ка, чего я тебе дам?
— Чай, мосол… — уверенно отвечал я, привыкший к желанным мослам, которые приносила ей Маша с барской кухни.
— Ведь вот пострел какой… угадал!
Она вынимала из горшка вываренный мосол с кудерками хряща, и я глодал его с жадным аппетитом. Разговор бабушки с матерью был тихий и задумчивый. Мужики говорят с натугой и злобой даже о самых простых вещах: о скотине, о навозе, о земле, об аренде, о податях, часто повторяя слова: «исполу», «барщина», «малый надел»…
А тут, у бабушки Натальи, было ясно, ласково, трогательно. Обычно они сидели долго, прижимаясь плечами друг к другу. Мать жаловалась на тяжелую работу, на обиды, а бабушка Наталья утешала ее: что же поделаешь, надо терпеть — такая доля бабья. У бабы своей воли нет: ей положено подчиняться и безропотно нести свой крест. Живешь в семье — твое последнее место на скамье. В чужой семье горько: там ты не человек, а только батрачка. Да и в девках не сладко. Что она, Настенька, видела у Ларивона?
Беспросветную работу, страх.
— И зачем мы только, матушка, с чужой стороны сюда воротились? горестно говорила мать и начинала вспоминать свое детство: — И ты жила по чужим людям, да свободная птица была: хотела — жила, хотела — ушла. Мы на чужой стороне хоть свет да людей видели. Идешь по дороге с подожками, солнышко светит, странники да странницы всякие вести рассказывают. И дивуешься, какие на свете города, моря, да люди, да всякие чудеса бывают.
— Да ведь по чужим-то людям, Настенька, ходить тяжко и горько: чужие люди норовят все силы вымотать. Ни рук, ни ног не чуешь, и все косточки ноют. Ты еще маленькая была, ничего не знала. А сколь я слез пролила, только одни ночи знают.
— А здесь-то, матушка? Я молоденькая, а не дай бог старухе столь пережить.
И она шептала бабушке, широко открывая глаза от возбуждения:
— Я Фомичу-то все время наговариваю, когда он с отцом-то в неладах: уйдем, мол, и уйдем, в Астрахань поедем, на ватаги. Вон, мол, Макины уехали, Слепышовы, Спирины… Растревожится он и мечется. «Вот летом, говорит, как рожь уберем, в драку пойду, а уедем. Жить все равно не при чем. С извозом ничего не выходит — и лошадь надорвешь, и сам в долгу останешься. Митрий Стоднев не дурак: он знает, как пот выгонять». Я, матушка, только одной думой и живу, только душу свою и тешу: уйдем да уйдем. На Волгу, на приволье. Во сне и наяву мне это мерещится. От этого и в неволе легче. Такая тоска, такая тоска!
Бабушка тоже начинала светлеть, и глаза ее оживлялись, молодели от воспоминаний о своей молодости.
— Чего ж, милая… Ежели бы я была в твоих годах, Настенька, я тоже улетела бы.
Мне было скучно слушать эти их мечты, похожие на ленивенькие рассказы о бесцветных снах. Я шагал по лавке вдоль стен и, не отрываясь, смотрел на бесчисленные ряды печатных букв, так ловко, прочно и правильно нанизанных в строчки и ползущих одна за другой, как крошечные жучки. На пожелтевшей бумаге они казались мне живыми.
Псалтырные буквы были как черные сердитые старухи, которые приходили в моленную. А эти — как ребятишки: смелые и задорные. И вдруг сразу открывались сокровища, невиданные, ошеломляющие: вот самокаты на колесах — одно, впереди, огромное, а другое, позади, малюсенькое, человек сидит на большом колесе и едет куда-то в черную россыпь печатных строк; вот куча самоваров, чайной посуды, больших и маленьких ковшиков и странных клещей, которые вцепились в бока, в спину человека; вот лошадка тащит за собою странную многоножку — длиннозубую гребенку на высоких тоненьких колесах; вот какая-то удивительная машина со множеством колес, труб, рычагов; вот голый человек с крыльями на ногах, а рядом с ним целая толпа банок и бутылок на тоненьких ножках, — эта толпа бежит и машет ручками, как соломинками. Мне смешно, и я смотрю на этих веселых уродцев и тихо хохочу. Я читаю какие-то неслыханные слова, и они увлекают меня своей бессмыслицей: «велосипеды», «сепараторы», «Гулье-Бланшард», «локомобили».
Я забывал о бабушке, о маме, не слышал их разговора.
Все эти невиданные, сказочные вещи каждый раз пленяли меня, и мне чудилось, что тетя Маша, которая приносит эти газеты с барского двора, живет в каком-то ином мире, полном чудес и ликования.
В один из таких дней мать пришла к бабушке необычно взволнованная и очень встревоженная. Она не жаловалась на свою судьбу, а сразу же начала говорить решительно и пылко. Разговор шел о тете Маше.
— Там, на барском дворе, Машка-то от твоих рук отбилась: охальницей стала. Рази хорошо? Девка на выданье, а тут слава пошла. Вымажут дегтем-то калитку — страму не оберешься на старости лет…
Бабушка была больна. Она сидела у края стола с серым страдальческим лицом, судорожно упираясь руками в лавку.
Глаза ее цвета полыни были мутны и безучастны. Даже обычным мослом она не угостила меня. Она как будто совсем не слушала мать, а мучительно сосредоточилась в себе. Ответила она с натугой, и то, что она говорила, я как будто слышал много раз:
— Жизнь-то какая! Доля-то какая! Хоть бы Машарка-то сама себе человека выбрала, а то потом всю жизнь казниться будет. Чего-то там болтают… Словно бы Максим Сусин за Фильку ее сватает.
Мать так волновалась, что у нее дрожали руки, а лицо горело красными пятнами. В глазах ее вспыхивал и гнев и испуг. Она вскакивала с лавки и отходила к печи, подбегала к бабушке, опять садилась и опять вставала.
— Ежели, матушка, сейчас Машку не выдать в хорошую семью, пропадет она ни за копеечку. Барский двор — для девки позор, — такая слава везде идет. А по селу судачат.
Она тебе мослы да объедки приносит, а барыня ей обноски да полушалки дарит. Сводня она, барыня-то. И детей не стыдится. Рази тоже слушать, когда мне шабровы девки в лицо смеются: «Житье, бают, вашей Машарке-то на барских харчах: барыня ее по-городски обряжает для своего сынка Митеньки, а Горохов его своей гармоньей в гроб загоняет». Не знаешь, куда и деться от стыда. Мало ты горя-то приняла, матушка, а на старости лет от позору ума лишишься. И не думай, матушка, не гадай: сейчас же Машку за Фильку Сусина отдавать надо… И семья справная да строгая, и жених для девок завидный.
Я впервые видел мать такой красноречивой и страстно-рассудительной.
— Да ведь, Настенька, — слабо протестовала бабушка, — семья-то у Сусиных больно несуразная: сам старик неурядистый, весь какой-то кривой и на глаз, и на стать, и на душу. Не знаешь, то ли кулаком ударит, то ли молитву сотворит. Голосок келейный, как у нищего, а руками словно норовит человека задушить. Боюсь я его, Настенька: встречусь с ним — сердце заходится. А вдруг ежели на гибель отдашь Машарку-то? Он-то ведь замучил свою старуху-то, покойницу.
Она прислонилась спиной к стене, закрыла глаза и рукой стала искать угол стола, чтобы схватиться за него. Мать бросилась к ней и заплакала.
— Матушка, чего это ты? Аль заболела? А я, окаянная, терзаю тебя…
Бабушка спокойно, едва слышно, словно по секрету, сообщила с дрожащей улыбкой:
— Кровью вся исхожу, Настенька. Лукерья-бобылка сказала: рак. И году не проживу.
Мать, рыдая, обняла бабушку, попыталась поднять, чтобы уложить на кровать. Но бабушка каким-то неуловимым движением усадила ее рядом с собой.
— Матушка, и словечком-то ты не обмолвилась! Да как же я без тебя жить-то буду? С тобой умру. Прости меня, Христа ради: сколько я тебе горя принесла!..
Не угашая страдальческой и задумчивой улыбки, бабушка погладила ее по плечу.
— Чего это ты, милая! Грех тебе так говорить: у тебя сынок. Надо его вырастить, на ноги поставить. Может, бог поможет, в люди выйдет.
Мать с ужасом в лице нетерпеливо встала и прерывающимся голосом попросила:
— Покажись мне, матушка: сама хочу знать. Лукерья-то, может, и сболтнула. Дай я тебя сама обсмотрю, а то места себе не найду — изведусь вся.
И тут же схватила меня и прижала к груди.
— Иди, Феденька, привези воды баушке. Возьми салазки, поставь ведро с ковшиком да на речке из пролуби и налей.
По двору бродили пестрые куры с петухом и, поджимая от холода то одну лапку, то другую, пристально искали зернышки на земле. Здесь, у стены, около поленницы дров, стояли давно знакомые мне гнутые салазки с кареткой. На них я обычно катался с горы вниз к речке. Я поставил ведро в салазки и запрягся в них, как лошадь, даже заржал и лягнул воображаемого седока. На улице меня ослепили зыбкие волны снега. Он-пылал оранжевым пламенем, и чудилось, что низкое солнце, увенчанное кругами и столбами, родилось из этой пылающей белизны. Я впервые удивился: в затененных углублениях и под гребнями сугробов дымилась небесная синева. Волны уплывали под гору, к реке, и исчезали у высокого обрывистого берега на той стороне. Прямо на этом высоком обрыве видно было прясло нашего двора, за пряслом соломенная крыша дворового навеса.
Слева гора взлетала к верхнему порядку, который тянулся по краю высокого взгорья, скрытый амбарами и каменными кладовыми. Сейчас же за избой спускалась проезжая дорога, засоренная навозом и клочками соломы. Она была рыжая, гладко укатанная полозьями саней до льдистого блеска. На горе, у спуска, стоял старый дом с тесовой крышей, а с крыши свешивались сугробы снега. Внизу, где дорога шла уже полого по прибрежным песчаным наносам, ютилась большая изба, которая когда-то была постоялым двором. Теперь она свалилась набок от старости. Здесь жил кузнец Потап, всегда прокопченный, бородатый и молчаливый мужик, который кричал и ругался только в своей кузнице. Она, тоже прокопченная, дымилась на взлобке у самой реки. У Потапа был сынишка старше меня на год — Петька, такой же прокопченный, как отец. С ним мы всегда катались вместе на салазках. Он и сейчас неторопливо и хозяйственно шагал ко мне с большими санками и звал меня рукой.
— Пойдем, что ли, кататься-то!.. — недовольным басом встретил он меня, точно делал мне одолжение, как взрослый. — Тятька лежит после обеда, а мамка на реке белье полощет. В кузнице возились… Замаялся я на мехах, как черт: работы много.
В кузнице я никогда не был, и меня давно тянул ее таинственный шум и ладный звон молотов, а еще сильнее — ослепительные звездные брызги, которые вылетали по вечерам из дымной двери. Я нарочно выбегал на задний двор и с обрыва долго слушал звонкое звяканье ручника, смотрел на оранжевые вспышки огня, отраженного на снегу, и ждал, когда будут вылетать из двери дрожащие звезды перегретого железа. Мне казалось, что там, в кузнице, какая-то невиданная работа, полная чудес, а сам кузнец и Петька были особые люди. Поэтому я к Петьке относился с опаской, а его угрюмость немного пугала меня. Перед Потапом же, когда он, волосатый, в кожаном фартуке, с усталыми глазами, встречался мне на улице, я испытывал смутный страх.
И всегда, как только я сходился с Петькой, я не мог играть с ним, как с другими парнишками: он стеснял меня, как взрослый, и возбуждал во мне острое любопытство.
— Я за водой еду: кататься мне неколи, — с важностью ответил я ему, не останавливаясь. Мне хотелось показать, что я самосильный работник, а не ребенок, с которым впору нянчиться.
Он смотрел мне в ноги и снисходительно усмехался.
— А я бабушке Наталье сколь раз воду носил на коромысле. Рази на салазках-то много привезешь! Это ведрушко — игрушка. А ты еще и ковшик взял…
Этот насмешливый тон сильного человека и тяжелое спокойствие опытного работника сразили меня. Мне нечего было противопоставить ему. Я страдал от унижения: нужно было отплатить ему во что бы то ни стало, иначе в глазах его я останусь ничтожеством. Я решил поразить его без боя:
— Ты еще азбучки не знаешь. Я уже Псалтырь и Цветник читаю. Я и гражданскую печать разбираю.
На него мой удар не произвел никакого действия. Он пренебрежительно отразил мой наскок:
— Ну, так что? Мне это без надобности. Зачем нам в кузнице твоя азбучка? Там огонь да железо, а не чтение.
У тятьки молот в полпуда… как бахнет — земля трясется.
Господи, помилуй нас про запас… почешусь и спасусь да чашкой-ложкой запасусь.
И он ухмыльнулся и плюнул с писком через зубы. Забыв о том, что он старше и сильнее меня, я сжал кулачишки и враждебно выпалил сквозь слезы:
— А вы в кузнице с бесами знаетесь…
Он попятился от меня и растерялся. Мои слова так на него подействовали, что он онемел и, как дурачок, стал топтаться на месте, мигая черными глазами. А я глушил его, ободренный его растерянностью:
— Твой отец сам на беса похож — весь черный, страшный и глаза красные.
— Это — от горна, кулугур.
— А горно ваше что? Норка в ад. Тебя бесята, как мухи, облепили.
Петька крепче натянул варежки и дружелюбно сказал:
— Ну, поехали. Я свое ведро захвачу, мы оба бабушке Наталье воды привезем. Садись на мои салазки: я тебя довезу до дому, а свои салазки держи за веревочку.
— Я и сам повезу, — недоверчиво возразил я. — Чай, я не маленький…
Он оживился и сразу потерял свою важность. Это был хороший парень добрый, с горячим сердцем, искренний товарищ. Видно было, что ему хочется дружить со мной и не ссориться. Голос его стал тоненьким, мальчишечьим и глаза теплыми и ласковыми.
— Вот чудак! Ведь, чай, мы играем. Ведь и большие играют. Садись!
Я сел на его санки, а веревочку от своих салазок надел на рукав. Так как дорожка шла вниз по пологому склону, он сразу же взял на рысь и заржал жеребенком.
— Иго-го!.. Поехали с орехами!.. Наши сани с подрезами… Конь-огонь, золотые подковки… Дуга писаная, шапка плисовая…
Петька подпрыгивал, повизгивал, лягался, дубленая шубенка его, покрытая гарью, с частыми оборками назади, хлопала по стареньким валенкам, и мне чудилось, что это ёкает селезенка у конька-бегунка. Снег по сторонам, на взгорках, на оползнях летел поземкой, ветер резал лицо, и я смеялся от радости быстролетной езды и от уморительного бега Петьки, который никак не мог удрать от настигавших его салазок. Он бросил мне веревку, а сам свернул к воротам своей избы. Салазки быстро пролетели мимо ворот и остановились у высокого длинного бугра — у «выхода», над дверью которого свешивалась пышная бахрома снега.
От Петькиной избы до речки было недалеко. Кузница, вся черная от копоти, с четырьмя столбами для ковки лошадей, с кучами шлака со всех сторон, стояла на обрывистом бугорке. Она была заперта. На речке, у проруби, била вальком белье тетка Пелагея в короткой овчинной шубейке, в. теплой шали. Валек чавкал по какой-то холщовой одежине, и каждый удар откликался эхом в голых ветлах на нашем берегу с грачиными гнездами в ветвях. Тетка Пелагея, с красным лицом, часто бросала валек и дула в размокшие и посиневшие руки. Петька уверенно подошел с ведром к проруби и грубо прикрикнул на мать:
— Погоди ты, мамка, не грязни воду-то!
Она послушно положила на кучу белья валек и мелкими шажками стала приплясывать вокруг проруби. — Руки-то паром зашлись, — пожаловалась она. — Иззябла вся! — И вдруг сердито прохрипела: — Я ведь тебе сказала салазки мне привези, а ты — на-ка! — своими делами занялся.
Петька не обратил внимания на упрек матери и сказал.
— Чего ты колотишь без пути? Окоченела вся, а дома — опять на печь и дохать будешь. У меня не сто рук: не то на мехах стоять, не то за тобой ходить. А тут тятька запьет, на тебя глядя. За ним тоже гляди да отхаживай. Двужильный я, что ли?..
И с ухмылкой пояснил мне:
— У нас, брат, так: мамка сдуру захворает — тятька пить начнет. Пьет и плачет: «Пелагея, бат, умрешь, бат, совсем я с кругу сопьюсь!» Только с ними и возись. Одну отхаживай да Лущенку ублажай, чтоб травами лечила да черными тараканами, другого в баню води да квасом отпаивай. А тут еще Микитка на моих руках. Поживи-ка, как я, — быком завоешь…
Пелагея безучастно топталась рядом и даже не посмотрела на него, а только сказала мне сиплым от простуды голосом:
— Он, арбешник, в бабьи дела мешается: и муку в ночевки сеет, и пеленки Микиткины стирает, и печь топит.
Отец хотел подручного в кузницу нанять, так он на него кочетом налетел: «А я-то тебе, бат, что, тятька? Чай, не чурак и не дурак!»
Петька, весь красный от натуги, вытащил ведро, хоть и расплескал его почти до половины, и, не слушая мать, поставил его на мои салазки. Потом степенно возвратился к проруби с моим ведром.
Ни слова не говоря, он сгреб уже замороженное тряпье в охапку и положил его на свои салазки. Пелагея забеспокоилась и хотела оттолкнуть его, но Петька протянул ей свои большие варежки и заботливо приказал:
— Нечего тебе здесь возиться, мамка. На, надевай на свои грабли-то. Сосулька!
— Ты мне не мешай, Петька!.. — рассердилась Пелагея и даже валенком притопнула. — Чего тут распоряжаешься?
Я еще не отхлопала тятькину рубашку… Не вводи меня в грех!
Но Петька сам надел ей на окоченевшие руки зарежки, ласково подтолкнул ее к салазкам и вложил ей веревку в руку.
— Ну, качай, не серчай!.. Но! Не приди я сюда — совсем бы ко льду приморозилась.
Пелагея послушно повезла свои санки, а мы с Петькой потащили мои с двумя ведрами воды.
Когда мы сравнялись с их избой, из калитки вышел кузнец, заспанный, неумытый, в кожаном фартуке поверх шубы. Черная борода его была всклокочена. Он и зимой ходил без шапки. На большой голове торчало в разные стороны целое руно волос. Огромные руки, обнаженные и черные, казались очень тяжелыми. И было странно слышать его глухой и очень приветливый голос:
— Сынок! Петенька! Ты хлопочешь все, хозяин мой милый. Вот господь дал сынка-то… Золото! Ты отдохнул бы, Петюшка, и так заработался.
Петька неодобрительно посмотрел на него искоса и с досадой отмахнулся.
— Ну-у, разомлел на печке-то!.. «Сыно-ок, сыно-ок»… — ухмыляясь, передразнивал он отца. — Иди без разговору: там, в кузнице-то, тебе еще шесть сошников ковать, два топора оттягивать да сколько подков!.. Я сейчас приду — только воду с Федюшкой отвезем бабушке Наталье.
— A это чей парнишка-то? — ласково улыбнулся Потап. — А-с-, Настёчкия?.. Значит, дяди Фомы внучек… Ну. ну… Приходи к нам в кузницу, я топорик тебе сделаю… Ты его, сынок, в гости зови, мать ватрушки испечет.
XIII
В избе бабушки пронзительно кричала тетя Маша, а мать отвечала ей с надрывной угрозой.
— Ого! — с лукавым одобрением отозвался Петька, кивая на маленькие слепенькие оконца. — Засучили рукава, разбросали все дрова… Разбивай горшки — береги башки! Дядя Ларивон Маньку-то вашу пропивает. Я в избу не пойду: тут дела мне мало. Поставим салазки во дворе, и удеру: в кузницу надо. А за ведром я вечером приду аль мамку пришлю.
Мы втащили санки во дворик, подволокли их вверх, к дровам, и Петька степенно и молча пошел обратно.
Я смотрел ему велел с завистью, мне он казался совсем взрослым мужиком, с огромным опытом к знанием жизни.
В своей семье он — самосильный хозяин и помощник: без него и отец и мать как без рук. В сравнении с ним не только Сыгкей или Тит, но и отец мой были бессловесными работниками: они не могли и глаз поднять на деда, а по своей воле и до соломины не смели дотронуться.
У калитки Петька обернулся и предупредил басом:
— Ты помни: приходи к нам в кузницу-то. Тятька — мужик дорогой: такого во всей округе нет. Мы с ним куда хошь пойдем — не пропадем.
Он задрал шапку на затылок и деловито вышел за калитку.
Тетя Маша, молоденькая, высокая, одетая по-городскому, с длинной косой, стояла перед бабушкой и визгливо кричала. Лицо ее, красное от волнения, злое, заливалось слезами. Она бросалась с судорожно сжатыми кулаками то к бабушке, то к матери.
— Продали! Как скотину, продали! Нет, скорее руки на себя наложу, чем за Филю-дурачка пойду. Я знаю, что вы обе думаете: тебе, мамка, не дорога моя судьба. Тебе одно нужно: чтобы люди не судачили. А она вот… сестра… мстит мне… мстит… за себя мстит. И с Ларькой снюхалась… За что! За то, что я тебя любила? За то, что мы сидели с мамкой на морозе да плакали, когда тебя пропивали? За то, что я на барском дворе, что я вольная птица? Нет, не сдамся, самому черту будет тошно!
Бабушка сидела за столом и горестно плакала. Она страдальчески поднимала на Машу залитые слезами глаза и порывалась сказать что-то, но беспомощно взмахивала худой рукой в толстых жилах. А мать, бледная, похудевшая, тоже кричала, стараясь перебить ее, но та не давала ей произнести ни одного слова. Бабушка стонала:
— Машка! Бесстыдница! Побойся бога!.. Кто тебе враг?
Это я? Мать-то?
— Я бесстыдница? Я — бога побойся?.. — кричала Маша с искаженным от исступления лицом. — А вы губите Машку — это вам бог велел? На это вам стыда нет? Я сама своей воли хозяйка: как хочу, так и поскачу. Пускай только явится этот кривой… старый хрыч Максимка Сусин со своим Филькой варом обварю.
И визгливо заплакала.
— Все злодеи и недруги… и мать родная, и сестрица единственная… Одна я… хуже сироты… Зачем ты меня, мамка, ребенком не задушила?.. А ты… змея коварная!.. Ты!..
Она бросилась к моей матери, содрала с ее головы полушалок, но вдруг ослабла и с ревом упала на скамью.
— Удавлюсь я… руки на себя наложу…
Поправляя свои волосы, мать говорила тихо, печально, раздумчиво:
— Ей надо, матушка, пострадать… В хорошей семье она своевольничать не будет. И так славы много накопила — один позор. Да и тебе, матушка, пора покой дать: у тебя уж смерть не за горами. Она закружилась там, средь потерянных людей, и не хочет знать, что мать-то чуть дышит…
А бабушка стояла с желтым лицом, с гневом и мукой в глазах. Такой я еще ни разу не видал ее. Она подняла руку и со строгой печалью сказала:
— Молчи, Настя. В животе и смерти бог волен. Не тебе судить, какую судьбу Маше готовить. Сядь и молчи. А я с ней по-своему поговорю.
Маша встала, схватила свою шубу, лихорадочно оделась, накинула на голову теплую шаль и пошла к двери. На ходу она, как слепая, наткнулась на меня, но не заметила.
Бабушка с грустным раздумьем предупредила ее:
— Ну, что же… иди, Маша… Иди, да смотри, как бы слезами не захлебнуться… Когда умру — скоро уж, — слез твоих земля моя не примет.
Я не выдержал и зло закричал вслед Маше:
— Ты что это делаешь? Дворянка, чаевница! Ишь злая какая! У бабушки рак, а тебе и горя мало…
Она ахнула, взмахнула руками и бросилась обнимать меня.
— Феденька, миленький! Ослепла я от горя… Аль ты не видишь, Феденька, как они меня в чужие люди продать хотят? Хоть ты-то меня пожалей…
И опять горько заплакала.
Мать сидела с сухими глазами, разбитая, ослабевшая, вся странно измятая, и бессознательно перебирала дрожащими пальцами косы. Красный повойник ее валялся на полу. На Машу она не смотрела, а глаза ее застыли на какой-то точке, и она как будто вся одеревенела.
Я не мог больше сердиться на Машу: ее ласка и ее жалобный голос обезоружили меня. Да я и любил ее: она была всегда веселая и нежная со мною, всегда приносила или конфетку, или старенькую книжечку, или огрызок карандаша. Она хоть и плакала, но и сейчас вынула из кармана шубы два старых перышка, коротенький карандашик и тоненькую книжечку крупной печати. Я жадно выхватил все эти сокровища из ее рук и утешил ее.
— А ты не плачь. Слезами горю не поможешь, — повторил я слова, которые часто слышал от взрослых.
Маша не выдержала и, прижимая свою щеку к моей щеке, засмеялась сквозь слезы.
— Ишь говорун какой! Кто это тебя только уму-разуму учит?
Бабушка подошла к нам и, пока Маша возилась со мной, смотрела на нее кротко и горестно.
Мать, всегда покорная, безгласная, поразила меня своим враждебным голосом:
— Матушка, иди сюда! Ее все равно не обломаешь.
Но бабушка, не слушая ее, тихо, почти шепотом, говорила:
— Ты верно, Маша, сказала: сирота ты… и каждая из нас сирота… Бабе покориться надо, Маша. Христа ради прошу: не дай мне в могилу уйти со скорбью. Умру я скоро, Маша.
Маша быстро вскочила, оттолкнула меня и выпрямилась, точно ее больно ударили. Лицо ее с упрямыми губами и злым блеском в глазах стало острым и жгучим.
— Не покорюсь. Я не враг себе. Скорее петлю на шею, а в ярмо да под кнут к ненавистным людям не пойду. Ты, мамка, всю жизнь мучилась, и не ты ли говорила и сестре и мне, что надо по сердцу выбирать человека. А сейчас ты хочешь меня в кандалы заковать. Не будет этого.
Бабушка сокрушенно опустила голову. — Куда пойдешь, Машенька? Кому пожалуешься? Тебя из села-то не выпустят: мы подневольные. Плетью обуха не перешибешь. Обесславят, ворота вымажут, глаза нельзя будет показать, пальцем будут указывать, собаками затравят.
Дай мне умереть не в позоре, а в мире.
Маша, всхлипывая, выбежала из избы.
Бабушка бросилась за нею, но дверь хлопнула так. что стены задрожали. Бабушка остановилась перед нею и замерла. Мать сидела по-прежнему и, с затаенной мыслью в блестящих глазах, не переставая, копошилась дрожащими пальцами в спутанных косах.
Бабушка всплеснула руками и застонала:
— Беда-то какая, Настенька!.. Беда-то какая!.. Что делать-то будем?
Мать враждебно отозвалась:
— Ничего, матушка, пускай побесится. Скрутят ее так, что и не пикнет. До чего дошла! И мать для нее ни по что!
Лежи, мол, коли бог убил. И сердце не дрогнуло у окаянной. Ничего не стоит ей и через гроб твой перешагнуть.
Бабушка словно проснулась и с тревогой стала вглядываться в мать.
— Погоди-ка, Настя: дай мне с мыслями собраться. Чего это ты больно разбушевалась? То была тихоня, овечка покорная, а то вдруг на стену полезла. Ой, Настя! Чего-то ты задумала… Уж не правда ли, что ты сестре подвох строишь? Кто это тебя улестил? Не Сусины ли?
Мать вспыхнула, вскочила со скамьи, рванулась к бабушке. Косы ее упали на плечи, и она стала как девушка.
В глазах ее уже не было обычной беспокойной грусти, они стали как будто еще больше и глубже. Я испуганно рванулся к ней: в них я увидел знакомую одержимость и слепую улыбку, как это бывало у нее в моменты нервных припадков. И голос ее стал крикливым и странно чужим.
— Матушка!.. Спасай Машку, спасай!.. Насильно спасай!.. Пока ты жива, скрути ее по рукам и по ногам.
— А ты уж и с Ларькой столковалась… — вздохнула бабушка и покачала головой. — Крадучись, за моей спиной… чтобы совсем меня доконать… Нет, Настя, души своей я не убью. Живите как хотите, а что совесть велит, я так и сделаю. Дай-ка мне отдохнуть маленько, — полежать хочу: мочи моей нет…
Шатаясь, она побрела к кровати и упала на нее с судорожной гримасой страдания…
XIV
Мы с матерью стали часто ходить к больной бабушке Наталье. Мать робко и как-то боязливо отпрашивалась у бабушки Анны на короткое время, и мы торопливо уходили через задний двор, мимо бани, мимо колодца, над срубом которого клубился пар. Дни были звонкие от мороза, яркие, оранжевые от низкого солнца.
Когда мы проходили мимо кузницы, в дымной ее тьме мелькал огонь горна и звенел молоток Потапа. Петька не выбегал из кузницы: он, вероятно, стоял у мехов. Только один раз я увидал его у столбов, внутри которых стояла гнедая лошадь и билась, стараясь освободить заднюю ногу, привязанную к чурбаку. Петька не обратил на меня внимания. Только Потап показал из-за бороды белые зубы, когда мать молча поклонилась ему. Он старательно срезал скоблом заусенцы с копыта.
— Плоха, говорят, тетка-то Наталья?
Мать печально ответила:
— Плоха, дядя Потап.
— Вот беда-то какая! И ходить-то за ней некому. Я бабу свою к ней посылать буду: все-таки воды принесет, щи сварит да покормит.
А Петька даже головы не повернул. Он считал ниже своего достоинства отрываться от работы. Рядом стояли сони с какой-то кладью, а сторонний мужик с рыжей бородой пристально смотрел на копыто и спорил о чем-то с Петькой.
Бабушка Наталья лежала на кровати, под шубой, с пепельным лицом, которое сразу осунулось и помертвело.
Глаза ее провалились и встретили нас безучастно. Мать шепотом приказывала мне уйти в чуланчик, а сама долго возилась с бабушкой, и я слышал, как она, всхлипывая, плескала водой.
Бабушка говорила слабым голоском: — Саван-то я уж сшила, Настенька… Сверху в сундуке лежит. Пожила — и слава богу: было и хорошее и плохое…
Не хочется помирать-то. Значит, и земля-матушка радовала… Вспомнишь, как жила, и плачешь: и свет увидала, и людей хороших встречала, и солнышко меня грело… Солнышко-то так в душе и осталось.
Однажды, когда мать вышла из избы, бабушка позвала меня к себе. Она лежала в чистой холщовой рубахе, вверх лицом, застывшая и плоская, как мертвая. Кожа стала прозрачно-желтой, в складках, в морщинах, нос заострился, а щеки совсем провалились. Передо мною лежала чужая, страшная старуха.
Я подошел к ней нерешительно, с боязнью, как-то боком и неожиданно для себя заплакал, — может быть, от страха, а может быть, и от жалости.
— Видишь, какая я стала хворая, Феденька… И угостить тебя ничем не могу… Да и сама не ем: охоты нет. А ты не плачь. Чего обо мне плакать-то? Разве о таких старухах плачут? Я никому не нужна, а сейчас в тягость. Мне бы умереть поскорее. А ты расти, милый. Много придется тебе и порадоваться и пострадать. И то и другое на пользу.
А лучше так живи, Федя, чтобы почаще радоваться. Солнышко везде светит, и земля-матушка везде кормилица…
Мы с матерью твоей где не бывали! И на Волге, и на Капказе, и на Дону… И с казаками жили, и с татарами, и с киргизами. Везде люди — и хорошие и плохие, и везде люди обижают друг друга.
Она не жаловалась на свои обиды, и в голосе, слабом, прерывающемся, была мягкая успокоенность и задушевность.
Она болезненно улыбнулась и положила мне на голову свою неживую руку.
— Милый мой, хорошие-то люди самые совестливые.
Маленький ты да слепенький. Тоже ведь и людей-то надо пожалеть, Феденька. Бедность заела, жизнь черная, горя много… податься некуда… Только вот Митрий Стоднев да барские в богатстве купаются. И все у них в долгу, как в тенетах… последние силы выматывают, последние крошки со стола отнимают… Об одном я бога молю: чтобы ты в люди вышел, хорошим человеком стал… А ведь люди каждый час о счастье думают, Феденька… только даром-то оно не дается… Ну, иди, милый… устала я… Приходить-то ко мне будешь, что ли?
— Каждый день буду приходить… — горячо обещал я и опять заплакал.
— Вот и хорошо мне, милый. Любишь меня. Какого счастья мне надо?
Своими светлыми и грустными словами она напоминала мне Володимирыча: он тоже говорил о какой-то иной, большой жизни, о разных городах и людях, о просторах России, о лучшей человеческой доле, о том, чего никто из нас не ведал.
Я стал бывать у бабушки каждый день. Обычно убегал я из дому с утра, а вставали все затемно. Раньше всех поднимался дед.
— Васянька, вставать пора! Сыгней, Титка, Семка! Вот я сейчас всех кнутом… Федька, слезай с печки-то!.. Кто это там у бабушки спрятался? Вот я сейчас влезу да за волосы стащу…
Я кубарем слетал с печи и прятался под кровать, на которой сидел и одевался отец. Мать уже хлопотала в чулане.
Дед хлестал плеткой по пустому месту под кроватью, но меня не задевал: я забивался в угол и съеживался в комочек.
Бабушка рыхло слезала с печи, и под ее тяжелым телом трещала скамья, а задорга скрипела и повизгивала под отекшими руками. Постанывая, она пела обычным больным голосом:
— Да будет тебе, отец, ребенка-то пугать! Чего грешишь-то?
А дед кричал удовлетворенно:
— Это какой такой робенок? Ему, мошеннику, уже девять годов работник. В его годы ребятишки пашут Бабушка защищала меня только словами, но никогда не решалась спасать от деда. Ей и в голову не приходило нарушать стародавний семейный порядок. Дед и отец вольны в жизни и смерти своих детей и внуков. На этом держится крепкий устой семьи и весь сельский мир.
После завтрака я торопливо надевал шубенку, напяливал шапку, отходил к двери и ждал Сему и Тита. Вместе с ними я выбегал на двор. Мы носили солому корове и овцам, подметали двор. Было еще темно, на небе переливались звезды, и снег на луке и на той стороне казался синим и воздушным. В окошках на верхнем порядке мирно краснели огни, и над крышами поднимался кудрявый дым. Я смотрел с заднего двора на избушку бабушки Натальи, но ни огня в оконцах, ни дыма над снежной крышей не видел: у бабушки уже не было сил возиться у печки.
Я перелезал через слеги изгороди, сбегал по крутому спуску к бане, в ветлы, и шел через речку по проезжей дороге на ту сторону. В кузнице уже полыхал синий огонь в горне, и черная тень Потапа шевелилась зловещей загадочно.
Я стучал бабушке в слепое окошко и проходил через темный дворик. Двери в сени и из сеней в избу были уже отперты. Я подходил к кровати и говорил осторожно:
— Я пришел, бабушка.
На ее мертвенном лице вздрагивала улыбка. Костлявая рука тянулась ко мне и поглаживала по моим волосам.
— Затепли, Феденька, свечку у иконы, а то сердцу больно тошно. Ночи-то долгие, маешься, маешься… и все-то мне душеньки разные являются… Померли все, а являются… Не доживу, знать, до весны-то… Мать-то придет аль нет?
— Не знаю. Я тайком ухожу.
— Пришли ее ко мне: постирать бы надо. Самой-то силушки нет.
— Ей ведь отпрашиваться надо. А дедушка-то, знаешь, какой?
— Пускай у бабушки отпросится, — бабушка-то Анна хорошая. Она еще сама, чай, придет.
Я приносил дров, залезал на шесток и укладывал их на поду срубиком. Лучина была уже приготовлена со вчерашнего дня. Пока разгорались дрова, я ставил ухватом чугун с водой, потом в горшок клал картошку и тоже отправлял в печь. Так же готовил щи из кислой капусты, пшенную кашу. Бабушка делала усилия, чтобы полюбоваться на мою хлопотню, и говорила слабым голосом, и голос ее улыбался:
— Тебя и учить нечего: ишь ручки-то какие ловкие да проворные! Это хорошо, ежели в руках работа играет. Цена-то ведь человеку по работе дается: у спорого мастера, говорят, руки золотые. Знавала я таких мастеров. Они за работу-то с молитвой принимались, с чистой душой.
И она начинала рассказывать через силу, но с охотой о прошлой своей жизни. Вероятно, ей неудержимо хотелось выложить все, что у нее было на душе. Длинные ночи были для нее, покинутой, одинокой, мучительны, как пытка, и она рада была и ленивому рассвету, и моему приходу. Пусть я был еще маленький, но я был живой человек, который приносил с собой жизнь, а мое мальчишечье сердце светилось любовью и привязанностью к ней.
— В Кизляре я жила у одного купца по виноградному делу в винном подвале. И был там бондарь — всем мастерам мастер, Павлом звали. Лучше его дубовые бочки никто не делал: как из меди литые. Мужик одинокий, бродячий, всеё Россию исходил и нигде не мог места постоянного найти. Уж в годах был — этак за сорок… и с сединкой. Росту невысокого, бородка кудрявенькая, курносенький и запивать любил. А запивал-то как раз в то время, когда у него работы было по горло. Сидит в бондарне, пьет, вцепится руками в голову и поет заунывно: «Устали мои белы руки от работушки, устали от недоброй, от недоброй, от немилой…» Придешь, бывало, по хозяйским делам: «Скоро, мол, Павлуша, за бочары-то возьмешься? Хозяин и рвет и мечет». А он ударит по верстаку кулаком и кричит: «Ага, рвет и мечет — чет да нечет! Я для него не бочары, а гроб дубовый сколочу». И улещает меня: «Наташа, уйдем куда глаза глядят, — пойдем с тобой счастья искать». — «Что ты, говорю, Павлуша: для нас, подневольных, счастья на белом свете нет. На горе уродились, — в горе и умрем». А сама ему песней отвечаю: «А и горе, горе-гореваньице, а и лыком горе подпоясалось, мочалом ноги изопутаны…» Упрямый он был мужик: бьет кулаком по верстаку, а лицо у него страшное. «Бочары проклятые меня жрут, Наташа. Горой на меня валятся. Своими же руками обручи на себя набиваю…
А оно, Наташа, в моих руках, счастье-то. Эх, каких бы я дел наделал!..» И вот однова приходит ко мне в подвал, отводит в сторону, разворачивает платок и подает мне шкатурочку махонькую, а шкатурочка красоты неописанной.
Вся-то она, как кружево сплетенное, из крошечных-крошечных палочек, и палочки-то все друг за дружку держатся, а на стеночках-то птички да цветочки из блесточков да разноцветных стружечек собраны. Я так и ахнула да чуть не заплакала от дива такого. Глядит он на меня и смеется: «Эту, говорит, шкатурочку, я тебе, Наташа, целый год делал, всю душу вложил. Эх, говорит, Наташа, этим бы рукам слободу дать… чего бы они не сделали!» Долго я берегла эту шкатурочку, да не уберегла. Увидал ее у меня раз хозяин мой, бурдюк такой толстый, мордастый, да и сцапал. Жила я с артелью в бараке. А хозяин держал нас взаперти, чтобы не баловались. И все в вещишках рылся. Ну, сцапал шкатурочку-то и орет: «Воровка, такая-сякая, говорит, где ты украла эту драгоценность? В остроге тебя сгною!» И утащил. «Я — к Павлуше, плачу и в себя прийти не могу. А он покачивает головой и посмеивается: «Ничего, Наташа, не убивайся: другую лучше сделаю. Хоть и в неволе, говорит, мои руки, а все-таки эти руки — мои, и что я захочу для души, то и сделаю». Вог как, Феденька… Золотые-то руки — праведные.
Мне понравился рассказ бабушки Натальи, а этот Павел напомнил мне Володимирыча. Я сразу же полюбил его как старого швеца, веселого и мудрого мастера, душевно привязанного к людям.
Бабушка закрыла глаза и застыла в изнеможении. Ее землистое лицо закоченело в страдании. Потом она через силу прошептала:
— Иди, Федя… иди, милый, а я отдохну… силушки-то у меня уж совсем нету…
Однажды, когда ей стало как будто легче, рассказывала она больным голосом, очень добрым и ласковым, о своих блужданиях по городам и селам Поволжья.
— В Кизляре-то я жила долго, Феденька. Там и маманька твоя родилась. Летом в виноградных садах работала, а зимой в винном подвале. Когда Настя родилась, Павлуша взял сумочку, пришел ко мне и зовет: «Пойдем со мной, Наташа. Здесь мне больше не житье. Или сопьюсь, или повешусь. Пойду искать счастья в других местах. Россия — большая». — «Куда же я, говорю, с ребенком-то пойду?
А счастье, говорю, там, где нас нет». Говорю это и плачу-разливаюсь. Ну, и ушел. А куда ушел — неизвестно. И весточки о себе никогда не давал… Проводила я его с Настей на руках за город и долго-долго стояла — смотрела ему вслед, пока он за горку не перевалил. Так с тех пор он и манил меня каждую ночь во сне являлся. А когда подросла мать-то, взяла я ее за руку, и пошли по дорогам… где — одни, где — со странниками. Остановишься где-нибудь в станице или в селе, поработаешь на поденной — в поле, на жнитве, — а потом опять посошок в руку. А то и милостыньку попросишь. Так пешочком и шли — сперва по Тереку, через Мозлок, потом на Кислые Воды, да так до Волги и дошли. Тоже вот счастье свое искали, а оно, счастье-то, вперед нас уходило, счастье-то человека не ждет, оно вместе с ветром на облачке улетает…
И у нее дрожало восковое лицо от судорожной улыбки.
— Вот я, Феденька, гляжу на тебя и думаю: дожила до старости лет, сколь муки приняла… и смирилась. Нет, мол, нам радости, бессчастным. А оно, счастье-то, маленькое, как искорка. Оно перед нами летает. В молодости оно — в одной тоске. Вспоминаю я вот Павлушу-то, а ведь он весь в счастье купался. Вот тоже когда дедушка Михаиле нас с матерью пригрел — разве это не счастье? Ведь счастье-то с несчастьем вместе живут. Время сейчас трудное… В деревне вам не жить — бедность, скудость, голодные годы.
Много тебе претерпеть придется — и страдать будешь, и горе мыкать, только одно не забывай: к добру иди, к чести, себя от недобрых людей охраняй… Отец-то твой завистливый… оттого, что ума да сноровки мало…
— Ничего не мало… — возразил я против ее недоброжелательства к отцу: я уже давно знал, что она его не любит, а он к ней не ходит и от нее бегает. — Ежели бы мало, так он дома-то не распоряжался бы. Он только одного дедушку боится. А перед людями подбористый.
Это слово я не раз слышал от бабушки Анны: она выговаривала его с гордостью, подняв голову и охорашивая свой платок.
— Потому-то и подбористый, Федя, что больно уж хорохористый.
— Он тоже на сторону уйти хочет, — сообщил я. — Много мужиков уйдет… А ты не сказала, как вы с мамой шли… со странниками-то? Зачем они странники?
— Странники-то?..
Она задумалась и долго молчала: ее сдавило удушье.
А говорить хотелось, словно торопилась выговориться перед смертью. Она вспоминала с удовольствием, с задумчивой улыбочкой, с сожалением, словно вся прошлая ее жизнь прожита ею, как праздник. О тяжелых днях, о нужде, о нищенстве говорила снисходительно, как о чем-то забавном, как о естественных случайностях, вроде внезапного дождичка или лихорадки во время пути.
— Странники-то?.. А это разные люди. И старики, и старушки, и молодые, и в годах. Идут и идут по разным путям-дорогам. Одни — к святым местам по обету, другие работы ищут, третьи — так… от лихо ты бегут али от неволи…
Нигде не уживаются, везде им не по душе. Вот и мы с твоей матерью, с палочками в руках, с котомочками за плечами, с ведерочком и чайничком у пояса, шагаем, бывало, по большой дороге, а впереди и сзади — всякие странные люди.
Хорошо идти эдак вперед: дорога как холст стелется, а кругом хлеба золотые волнуются, жаворонки поют. Нет птицы милее и роднее жаворонка: будто это душа твоя поет и радуется. И не думаешь, куда идешь, зачем идешь, и не оглядываешься назад: прошел день — и слава богу. А то налетит тучка с грозой, все принахмурится, вихри поднимутся по дороге, и хлынет ливень. Сядешь под деревом и любуешься гневом божьим. Конечно, и промокнешь, и грязь под ногами, да ведь по грязи босиком-то очень даже приятно… А пролетит тучка, выглянет солнышко — и как будто еще светлее станет, а в воздухе дух от трав такой легкий…
А придешь к людям — только одна свара, одно горе и грех.
— Ну, так и не приходили бы…
— А куда же денешься, Феденька? Все дороги в люди ведут. Есть, пить да одеться надо. Нужда в неволю гонит. Ну, да ведь горе-то забывается. Только радость солнышком светит.
Я слушал ее с таким же интересом, как сказки и рассказы бабушки Анны. Но сказки бабушки Анны были суровы и невеселы: вот Иванушку утопили, а по нем Олёнушка плачет, вот богородица по адовым мукам ходит, а тут Демушку бык забодал… Рассказывала она со стонами, со вздохами, но с какой-то равнодушной покорностью:
— Беси-то везде кишат… из одного ада-то… а ангели везде плачут… Ангели-то ведь до земли не касаются: они, как пух, легкие… А беси — из земли, как трава, пробиваются… и земля от них, как на дрожжах, пыхтит и пухнет… Над ними ангели-то, как бабочки, порхают… Ползаем мы по земле-то, как мурашки, и не видим, как беси-то нас на всякий грех наводят. Все от беса — и пакости разные, и убойство, и болезни… Ими все засижено, как мухами… Земля-то вся бесова, только небо божье.
И мне чудится, как эти мохнатенькие, чумазые существа, озорники с нахальными зелеными глазами, кишат всюду, зубоскалят, подпрыгивают, сговариваются друг с другом, подмигивают и выдумывают какие-нибудь опасные мерзости. Они представлялись мне бездельниками, дармоедами, которые от скуки издеваются над людьми. Каждый из взрослых бесов похож был на Ваньку Юлёнкова, а маленькие — на Кузяря. Ангелы же реяли передо мною странными призраками — пугливыми недотрогами, забитыми, бледными ребятишками с длинными льняными волосами, в белых балахончиках. Как они могли защитить мать или Агафью от побоев? По моим расчетам, бог с его ангелами был совсем бессилен истребить весь этот нечистый сброд. Похожий на дедушку, он несправедливо злился на людей и свирепствовал, а сам подчинялся проискам дьявола.
Бабушка Наталья редко говорила о бесах и ангелах. Но со своим домовым жила душа в душу. С ним она часто разговаривала, как со своим стариком, очень добродушным, беззаботным, невидимым для меня хозяином.
— А я не знаю, какие они, беси-то… — усмехаясь, говорила она, никогда не видала. Бабушка-то Анна в молодости грешила много: на барском дворе жила, а там девке нельзя было не грешить.
— А как она грешила? — озадаченный, спрашивал я, не понимая смысла ее слов.
— Ну, вот как Манька наша…
— Блудила? — невинно допрашивал я, вспоминая, как мать отзывалась о Маше в разговоре с бабушкой.
— Кто это тебе сказал? — строго обрывала она меня. — Чего это ты болтаешь-то?
— А вы же ее замуж отдаете за то, что она блудит Бабушка всплескивала руками, болезненно морщила лицо и охала.
— Ты еще маленький, Феденька. Тебе нехорошо так говорить. А будет тебя кто спрашивать о Маше — молчи или говори, что зря про нее судачат.
И вдруг ни с того ни с сего она почтительно обращалась к чуланчику.
— Батюшка, скажи, не прогневайся: к добру или к худу?
И прислушивалась чутко и терпеливо. Потом с доброй улыбкой сообщала:
— Спит. Слышишь, как посапывает? Не тревожится.
Значит, к добру. А уже когда к худу-то — целые сутки, ночь-полночь, так и тоскует, так и возится, стонет. Перед моей болезнью больно уж беспокоился: по ночам будил — ползает вдоль лавок и тоскует… «Наталья, худо… худо, Наталья…» Бывало, закряхтит, завозится, так я его скоро успокаивала. Скажешь: «Батюшка, милый, иди на место, не майся. Кто нас, бедных, тронет: никому-то мы не нужны, и никто-то зла от нас не видит». Ну, и уходит. А тут не знаю, что с ним сделалось — тоскует и тоскует, всю ночь покою не дает, сама с ним измаялась.
— А какой он? Я его ни разу не видал. Он со стариками водится, что ли?
— Он-то? — улыбнулась она, но вдруг, спохватившись, погрозила мне пальцем. — А ты молчи! Обидишь его, так он беды еще накличет. Об нем и говорить-то нельзя: он этого не любит. С ним сдружиться надо, ублажать: страсть любит, когда ему кусочек сахару положишь, — зубов-то у него нет, ну и чмокает, сосет, облизывается, как младенец малый. — И она прошептала мне в ухо да еще ладошкой губы прикрыла. — Старичок он эдакий горбатенький… и не ходит, а ползает. Ты не бойся: он у меня добренький.
Пока топилась печь и варились щи и каша, я тоже сидел на лавке за столом и читал ей гражданскую книжку: «Бог правду видит, да не скоро скажет», а чаще слушал ее разговор. Иной раз мне казалось, что она не со мной разговаривает, а сама с собой. Лежит на постели под лоскутным одеялом, с шубенкой в ногах, смотрит в потолок или с закрытыми глазами говорит долго о том, о сем, что придет в голову, а на мои вопросы не отвечает. И слушать ее всегда было интересно, хотя бы говорила она о всяких мелочах, о том, что мне давно уже известно.
— Ничего нет дороже бабьей слезы, Феденька. Помни это. Каждая материна слеза — за тебя, милый, чтобы ты человеком стал… А кровь наша… — придет такое времечко… вспыхнет кровь-то… полымем вспыхнет…
Она замолкала на некоторое время от утомления и морщилась от боли. Потом застывала, как мертвая. И опять начинала говорить слабым голосом:
— Жили в крепости, на бар работали, вроде лошадей.
Мужиков пороли, да и баб тоже… и убивали, и мученически мучили. А бабам и сейчас не лучше — мучаются, и никто их не защитит, никто не утешит, не обнадежит…
Вспоминая о своих скитаньях, она рассказала однажды, как неожиданно довелось ей попасть в деревню, где мужики бунт против барина подняли.
— Идем это мы с посошками, с котомочками… Настя-то еще по восьмому годочку была, а тельцем крепенькая.
С ней, с робенком-то, меня никто не обижал. Она услужлива была: пустит кто-нибудь ночевать, а она все норовит хозяевам помочь — за водой сходит, скотинке корму даст, дров принесет, избу выметет. Всем она по нраву приходилась, и все ее добрым словом провожали. Такая росла расторопная да догадливая… Идем это мы по дороге, впереди — странники, позади странники. Одни перегоняют нас, другие отстают, ноги разбили от пути. По сторонам дороги — в два ряда старые березы, такие густые да раскидистые. И от солнышка спасают, и от дождей укрывают Видал эти березы-то у Ключей? Одни уже вырублены, другие сгнили… Любили мы эти березы белые: приветливые они, ласковые, светлые, как кипень. Под ними и на сердце легче, и о сиротстве своем забываешь. Входим в одно село, а село большое, с белой церковкой, — думаю: может, даст бог, поработаем здесь, отдохнем с дальней дороги, а кет — так милостынькой перебьемся. И видим: на улице народ кишит, как галочье… гул оттуда идет, свист, крики… И седые старики, и парни молодые — все с кольями, с топорами. Из окошек бабы высовываются, некие из ворот на улицу выбежали, смеются, старухи молитвы шепчут. Словно крестный ход по селу проходит, аль чудотворную икону несут. Подходим к бабам, кланяемся им с именем Христовым. А бабы строгие, глядят исподлобья — нехорошо глядят. «Идите, говорят, подобру-поздорову своей дорогой, странницы, а то в беду попадете. Тут, может, убойство будет, а в чужом пиру похмелье не сладко. Мужики на барский двор всем миром пошли землю отбирать». Стоим мы так с бабами-то, а старушка одна, маленькая, сморщенная, сухая, как мощи, причитает: «Каянные, греха-то не боятся, арбешники! Рази мысленно, чтоб спроть бар идти? Опомнитесь, покайтесь!
Волю дали — все прахом пошло, и земли лишились, и все — вразброд, как тараканы. Не к добру, бабыньки, к худу…
К великой беде…» Бабы-то постарше вздыхают, а помоложе-то да девки хохочут. До нас народ-то не дошел, а к церкви повернул. Шум, гвалт, кольями машут, одни бегут, другие отстают. Бабы и девки со всех ног бросились туда. Мы тоже с Настей пошли за ними. Церковь-то на площади стояла, а за церковью — барский дом со столбами. На столбах — плоскуша с оградкой, а на плоскуше — барин в пестром кафтане, седой, усатый, орет и палкой по оградке стучит. Внизу, перед столбами, — дворня: бурмистр, видно, да челядь всякая… (А барин — бешеный, на всю площадь орет:
«В плети!.. На конюшни! На каторгу!..» Вижу, кто-то кол в него швырнул, да мимо, а барин-то упал да на четырках — в двери. Тут и началось… Все валом бросились к окошкам, стекла бить начали. Дворня — в дом… Одни мужики — за ними, двери стали ломать, другие — к амбарам, к конюшне. Лошадей, коров, овец выгнали. Сарай подожгли: дым повалил, на гумне тоже дым…
Я уже сидел на кровати у бабушки, ловил каждое ее слово и позабыл о печке, о щах, о каше. Такой необыкновенный рассказ слышал я впервые. Хотя рассказывала она слабым голосом, с перерывами, с одышкой, часто шепотом, но каждое ее слово было живое, зримое, проникновенное.
Есть люди, которые обладают чудесной способностью не только произносить, но творить слова, то есть говорить их кстати, к месту, воплощать в них и мысль и чувство полно, густо, впечатлительно. Эти слова чаще похожи на мысли вслух и звучат тихо, задушевно, но образы их остаются в памяти навсегда. Бабушка Наталья дышала искренностью своих слов: для нее ни одно сказанное слово не пропадало даром, для нее сказать — значит выразить то, чем в данную минуту живет ее душа. Я никогда не слышал, как она пела, но речь ее всегда похожа была на песню. Не рассказывала она мне и сказок, но каждый ее рассказ о пережитом похож был на увлекательную сказку. Она много пережила на своем веку всяких невзгод: испытала муки бесприютности, беззащитности, вынесла бесправие рабского труда и научилась прощать таким же людям, как она, их жестокости и заблуждения.
Как-то я спросил у нее:
— А кто у мамы отец был?
Бабушка без смущения, очень просто ответила, с задумчивой теплотой в голосе:
— Хороший человек. Карахтером-то Настя на него походит.
— Нет, кто он? — приставал я к ней с настойчивым любопытством.
— Не спрашивай, Феденька! Его уж давно нет. Ждала я его и не дождалась.
— А я знаю кто… — вызывающе поддразнил я бабушку. — Это — Павел… с которым ты жила в Кизляре.
Бабушка спокойно сдвинула брови, вздохнула и с упреком взглянула на меня.
— Знать тебе это не к чему, роднуша. Это дело к твоему разуму не приспело.
— А ежели меня на улице дразнят…
И я видел, что ей больно было слышать от меня позорное слово: оно хлестнуло ее по сердцу. По пепельному ее лицу прошла тень гнева, морщины как будто отвердели, и в мутно-серых глазах вспыхнул огонек.
— Собака — и та без нужды не лает, а дурачина — как осина, шебаршит без причины. А из осины не выйдет ни сохи, ни дубины. Так, бывало, любил говорить покойный дедушка Михаиле. У любого дурака, Феденька, дурости на весь мир хватит. А ум — как золото: он не у всякого Якова.
Талан не всякому дан. Мал золотник, да дорог. Береги его для доброго дела. Живи своим умом, а честь расти трудом.
Она любила говорить пословицами и складными словами, и запас их был у нее неистощим. Эта народная мудрость, отлитая в емких и звучных словах, чудилась мне широким полем, усыпанным цветами. Говорила она легко, распевно, немного грустно, и слова звучали красиво и необъятно.
К своей болезни она относилась кротко, беспечально, как к неизбежной и естественной повинности. Она знала, что болезнь эта неизлечима, но о смерти говорила спокойно, без волнений и жалоб:
— Не подняться уж мне, Феденька: ноги подламываются, а в животе огонь… Уж больно охота мне по снежку походить: на горках-то он серебряный, а в яминках — синьцвет… и воздух ядреный, березовыми дровами пахнет…
Дожить бы до весны, до красной горки, а там уж и на покой. По весне, при цветах, на солнышке да когда жавороночки в небесах, хорошо душеньку свою богородице в руки отдать. Весной-то ведь владычица сама за душенькой приходит… вся — в цветах, а ее пчелки несут, как на облачке…
И медвяной да черемушный дух кругом, словно ладан…
XV
Как-то вломился к ней дядя Ларивон. Еще со двора он завыл пьяным голосом под грохот калитки:
— Мамынька! Богоданная!.. Прости ты меня, окаянного. К тебе иду, сердешная… Мамынька, дороговина моя!..
Захлопнув за собой дверь, он поставил на стол ведро медвяной браги с жестяным ковшом, который висел на крючке, загнутом на конце ручки, с трудом снял шапку и, благочестиво устремившись в передний угол, неуклюже стал креститься и кланяться в пояс. Потом смиренно повернулся к кровати, низко поклонился бабушке:
— Здорово живешь, мамынька!
Бабушка жалко улыбнулась ему и слабым голосом пригласила:
— Поди-ка, Ларенька! Садись, милый! Какое уж здоровье-то…
— Благослови меня, мамынька, Христа ради…
— Бог благословит.
Нетвердым шагом он подошел ко мне и погладил меня по голове.
— Тут и племянничек родной… Какой сынок-то у Настеньки растет! Кудрявенький, светленький, грамотей.
Неожиданно он заплакал и, всхлипывая, сел на лавку.
— Мамынька, смерть-то у тебя не за горами… краше в гроб кладут… Почитаю я тебя, мамынька, и люблю пуще матери родной! Сколь я тебе горя принес, мамынька! Как я буду за свои грехи господу богу отвечать? Ежели бы не ты, пропал бы я, мамынька… сгинул бы, как собака…
Бабушка улыбалась и лепетала:
— Эх, Ларя, Ларя!.. Без пути ты живешь, без радости…
Пьешь бесперечь… Зачем пьешь? А какой ты мужик хороший! Жить бы тебе, Ларя, трезвому да добро наживать.
Ларивон в отчаянии закрутил волосатой башкой.
— Зачем, мамынька дорогая, мне добро? Да и как его наживать? Противно мне… все спроть души. Силы у меня, как у быка, а деть ее некуда. И на кулачках-то от меня все шарахаются. Только один-разъединый раз меня избили, да и то пьяного, и не помню кто… Тоска меня, мамынька, съела. Не знаю, как быть… места не нахожу… Ушел бы я не знай куда… И не знай, чего бы я сделал… Вот возьму да все село и сожгу… со всех концов… чтобы все взбесились… Али бы в скит уйти…
— Об одном тебя, Ларя, молю: дай мне ка исход души обещание — не бей, не терзай свою Татьяну. Для тебя, силача, зазорно это, Ларенька. Сила-то тебя и взбесила. А над тобой люди смеются. Нехорошо, Ларя, когда над силачом мелюзга потешается.
Он без передышки выпил полный ковш браги и ударил им по столу. Черпачок со звоном отлетел к порогу.
— Я Машку пропил, мамынька. Максиму Сусину пропил — за Фильку. И тебя не спросился. Взял да и пропил.
И неожиданно упал на колени перед постелью бабушки.
— Бей меня, дурака, мамынька! Выдери мне все волосы, бороду по волосочку вырви.
Я ожидал, что бабушка набросится на него, замечется, зайдется сердцем, но она даже и лица к нему не повернула, — лежала тихая, спокойная, с обычной печалью в глазах.
И только кротко сказала, поглаживая сухой рукой по лохматой голове Ларивона:
— Зря озоруешь, Ларя. Какая тебе от этого корысть и радость? Сгубить девку нетрудно, трудно себе хозяином быть. А себе ты не владыка. Машу-то насильно не выдашь.
— За волосы вытащу… — гнусаво вскричал он, задыхаясь. — Прямо Максимке в избу брошу.
— Нет, Ларя, Маша сильнее тебя: она карахтерная. Вы одного отца дети, оба упрямые да норовистые, только она-то умнее и хитрее тебя. Умного кулаком не сломишь, только искалечишь.
Ларивон, как медведь, тяжело встал с пола и с дико выпученными глазами, обезумевший, рванул себя за бороду, широко размахнул и сшиб кулачищем ведро с брагой.
Грязно-коричневая жидкость выплеснулась на пол и густо забрызгала печку и дверь. Ведро дрябло закувыркалось к порогу. Удушливо запахло кислой вонью дрожжей и меда.
— Вот тебе с Машкой что будет…
Он сжал кулаки и быком уставился на бабушку. А бабушка через силу поднялась на локоть и указала пальцем на иконы. Ее лицо окаменело, как у мертвеца.
— Ларя, Ларенька, перекрестись на образ матери божьей. Ты, сынок, на кого руки хочешь поднять?
Как огнем, у меня обожгло сердце, кровь так бурно бросилась мне в голову, что зашевелились волосы. Задыхаясь и не помня себя, я кинулся к бабушке. В руке у меня почему-то оказался нож, и, размахивая им, я визгливо крикнул:
— Только тронь, я тебе брюхо пропорю! Бабушка при смерти, а ты ее хочешь бить. Не дам! Дедушка домовой, спаси!..
Ларивон невольно отшатнулся и часто замигал, словно ему запорошило глаза. Мне показалось, что он даже испуганно охнул и стал растерянно озираться.
— Мамынька, это чего он делает, а?.. Зарезать хочет… Это дядю-то? Батюшки!
Он затоптался в лужах браги, хлопнул себя руками по бедрам и весь затрясся от хохота.
— Ах ты, сукин кот!.. Эдакнй таракашка — с ножом… да спроть такого жеребца. Да ведь ты бы зарезал меня…
— И зарежу — только тронь баушку.
Бабушка строго окликнула меня и сердито, хоть и больным голосом, приказала:
— Дай-ка мне, Федя, ножик-то. Да как это ты смел с ножиком на дядю Ларивона? Постреленок ты эдакий!
— Пускай только попробует еще, я, даром что маленький, пырну изо всей силы.
Ларивон зашелся от хохота и грохнулся на лавку.
Бабушка отняла у меня нож и оттолкнула меня от себя.
— Иди в чулан! Не суйся, куда тебе не надо! Ишь чего надумал, парнишка окаянный! Я вот скажу матери-то — она тебя отхлещет.
— Не пойду! — бунтовал я. — Ты и так умираешь, а он, еще здесь бушует.
Ларивон вскочил со скамьи, и не успел я опомниться, как сильные его руки вскинули меня к потолку. Я забрыкался и с ненавистью смотрел в волосатое, хмельное его лицо, обветренное и обмороженное до глянца.
— Будешь еще с ножом на меня прыгать, курник? Говори, а то сейчас брошу тебя на пол и разобью.
— Буду! — орал я, готовый разрыдаться. — Буду!
И баушку не трог, и Машу не трог: они бессчастные…
Он медленно опустил меня на пол. Лицо его нахмурилось, и он вздохнул. Бабушка опять обмякла и страдальчески улыбалась.
— Видишь, Ларя, какой у меня внучек-то? Защитник!
Живота не жалеет.
Ларивон протянул мне руку и сказал угрюмо;
— Ну, давай мириться. Отшиб ты меня, племяшок.
Больше не буду. Хошь, я научу тебя на кулачки драться?
И вдруг опять затрясся от хохота:
— Как он домового-то… Помогай, бат, дедушка домовой! Ух ты, Настёнкин сын, как распотешил!..
Он оттолкнул меня в сторону, шагнул к бабушке, низко ей поклонился и покорно проговорил:
— Прости меня, Христа ради, мамынька, окаянного!
— Бог простит, Ларя. Я уж не встану больше. Похорони меня, милый, по-хорошему, чтобы люди не осудили. Дай тебе, господи, счастья.
— Мамынька, весь расшибусь, а похороню, как барыню.
Портки продам, а поминки сделаю на весь порядок.
Бабушка поманила его пальцем, он наклонился над нею.
Она взяла в руки его лохматую голову, притянула к себе и поцеловала.
— Об отце помни, Ларя. Такого человека однова земля родит. Горе принести людям и дурак может, а человека вознести трудно. Вознесешь добром другого — сам вознесешься. Не губи родных, Ларя, — сам сгибнешь, даром пропадешь. Слушай, чего говорю, Ларенька, да помни… И душа у тебя хорошая, и сердце радошное… не убивай души, Ларя!..
Поглаживая его лохмы, она уговаривала его, как ребенка:
— Вот весна скоро придет, Ларя, а весной поехать бы тебе в Астрахань… на ватаги… Раздолье там… и кого-то там нет!.. Да там силушкой-то своей и размахнулся бы…
Этот силач и боец опять заплакал. Захлебываясь слезами, он нежно повторял только одно слово:
— Мамынька!.. Мамынька!..
Схватив со стола шапку, он, наклонившись вперед, пошел к двери, поднял ведро и вылез в. сени, как большущий зверь.
На другой день бабушка Наталья послала меня на барский двор к Маше, чтобы позвать ее к ней: здоровье, мол, у ней, у бабушки, стало совсем плохое — как бы ей не умереть.
— Да скажи ей, чтобы побереглась: как бы Ларивон йе сделал ей худа, как бы не нагрянул к ней с пьяных глаз и не обесславил на всю округу. Похоронили бы меня честь честью, а после уж пущай живут как хотят.
От бабушкиной избы надо было подняться прямо на гору и идти вдоль высокого обрыва над речкой. У последней избы верхнего порядка дорогу пересекало прясло, которое отделяло барское имение от деревни. В последней избе жил Архип Уколов со старухой — бывший солдат. Одна нога была у него на деревяшке, но он бойко ковылял на ней, не зная усталости. Скотины у него не было, надел свой он отдавал шабрам за хлеб, а сам — хороший печник — ходил по округе, клал печи или плотничал. Но мастер он был на все руки: и маляр, и столяр, и сапожник, и плотник. На барском дворе он был свой человек, и его там ценили очень высоко. Он по какому-то своему способу построил плотину для водяной мельницы, сделал для барчат красивые лодки, хотя никогда раньше их не делал. Даже печи клал необычно, и другие печники только разводили руками. Домовитые мужики его презирали за бедность, но обходиться без него не могли. В деревне никто не курил — с давних пор считалось это грехом, позорной слабостью и развратом, — но Архип, как старый отставной солдат, раненный на войне с турками, курил трубочку безвозбранно.
Особенно любили его ребятишки: он искусно делал затейливые игрушки вырезал из дерева лошадей, делал телеги, сохи, ветряные мельницы с колесами и жерновами.
Когда он был дома, около его избы всегда собиралась толпа малышей и подростков. Он толкался среди них и рассказывал им всякую всячину. На выдумки тоже был большой охотник. Держался он с ребятишками как ровня и дарил им свои поделки. Это был высокий старик с молодым лицом, с живыми, лукавыми глазами, стриженный по-солдатски, с густыми усами, которые срастались с бачкам.и. Веселый и расторопный, хоть и на деревяшке, он любил посмеяться и поиграть с девками. Володимирыч с Архипом были задушевные друзья: оба были на войне, оба трубокуры, оба люди бывалые, оба не унывали и относились к людям с беззлобной насмешечкой, но Володимирыч был мудрец, а Архип ходил с прозвищем «шутолома».
Когда я подошел к воротам, он стоял у прясла без шубы и шапки и привязывал деревянного солдата к колу. Дул легкий ветерок со стороны барского двора, к солдат с трещоткой взмахивал саблями в руках. Архип смеялся мне навстречу, показывая на солдата, задушливо кашлял и кричал:
— Вот какой храбрый барабанщик! Рубит, колет турка и в барабан бьет! Смирно! Здра-жла, портупей-прапорщик! — И Архип приложил руку к уху. Потом по-солдатски повернулся ко мне и поманил пальцем: — Ты чей, тятькин сын?
— Василия Фомича.
— Куда в поход собрался и откуда выступил?
— Чай, на барский двор, к тете Маше. Бабушка-то Наталья слегла, а я у ней убираюсь.
Архип поглядел в сторону барского двора, потом опять повернулся ко мне, смерил меня молодыми глазами, гмыкнул, вынул трубочку изо рта и постукал ею по колу. Было морозно, и деревня внизу, за речкой, коченела в опаловой дымке, а старик стоял на жгучем ветерке и словно не чувствовал холода. Деревянный солдат трещал и махал саблями.
— Вот что, Васильич… Дядя твой Ларивон с Максимом пошли на штурм крепости. Машарка-то может сейчас попасть им в плен. Бежи-ка вприпрыжку прямо по обрыву, зайди с той стороны, прямо к кухне, и труби сигнал. Эти турки пошли в обход по дороге мимо сушилок. Дуй во- все лопатки. Погоди-ка! — спохватился он. — Я сейчас ломоть хлеба вынесу, — встретят тебя собачищи, бросай им по кусочку. Они маленьких не трогают, а испугать испугают. Ну, да тебя Машарка в окошко увидит — выбежит.
Он смешно заковылял на своей деревяшке к крыльцу и запрыгал по ступенькам лесенки. На ходу подмигнул мне, потом сделал свирепое лицо и хрипло запел:
По горам твоим Балканским Пронеслась слава об нас… Раз, два-с, редька, квас!..И пристукнул своей деревяшкой. Это было так забавно, что я засмеялся и подбежал к крылечку.
Он вышел уже в полушубке и в какой-то невиданной шапке, похожей на горшок, с петушиным пером сбоку. Подавая сверху, через перильце, ломоть черного хлеба, он сказал, покачивая головой:
— Ты, паренек, беги изо всех сил: как бы с Машаркой-то не случилось чего… Скрутят девку-то… Пропили, мерзавцы.
А девка-то какая! Ах, бородища чертова! За двенадцать целковых… а лошадь стоит двадцать пять. Ну? Чего стоишь? Валяй! Строчи ногами-то! А я пойду навещу бабушку-то Наталью. Постой, постой!.. Хорошая старуха.
У нас хорошие-то человеки живут, как калеки. Хорошему человеку откровенно жить нельзя. Это я только тебе говорю, парнишка. Одна радость с вами, малышами, душу отводить. Приходи ко мне — я тебе игрушки сделаю.
Он страдальчески сморщил лицо и сокрушенно закачал головой.
— Не поспеешь, боюсь. Далеко уж они… Разболтался, старый дурак: детишек-то больно люблю. Строчи скорее!
У тебя ножки-то резвые, как крылышки, — лети!
Барский дом стоял недалеко отсюда — на самом краю крутого спуска к реке. Дом был очень старый, деревянный, обшитый досками, почерневшими от многолетия. Это был обычный помещичий дом, с колоннами, с мезонином, с обширным фруктовым садом по склону, с широким двором позади. Дальше, за двором, шли разные дворовые постройки — конюшни, амбары, скотные помещения, а еще дальше — большое гумно, загроможденное копнами, ометами соломы, тут же сушилки, риги, кошары и плоские, длинные сараи для сельскохозяйственных машин.
С высокого обрыва открывалась широкая низина за рекой, ослепительно сияющая сугробами снега в синих оттенях. Отсюда видны были Ключи, Выселки, Петровский хутор и даже Варыпаевка при впадении нашей Чернавки в Няньгу. Теперь, зимою, среди сияющей снежной белизны, наше село внизу тянулось длинной пестрой полосой, пересекая излучину реки и стягивая ее, как тетива. На луке стояла деревянная церковь с высоким шпилем на колокольне. Хорошо было смотреть отсюда вниз и вдаль, где на горизонте дымился лес с одной очень высокой сосной, увенчанной черной тройной короной. Все отсюда казалось воздушным в легкой морозной дымке: и застывшие волны снега глубоко внизу, мерцающие огнем, и таинственная синева далеких лесов на горизонте, и призрачные клочья облаков, как ковры-самолеты, и голубые кудри дыма над крышами изб, словно избы были живые и дышали паром. Черные стаи галок летали подо мной и на одной высоте со мной, как мухи.
Там, по обе стороны Ключей, тянулась большая дорога из Саратова в Пензу, а из Пензы — в Москву, и вдоль этой дороги стояли косматые старые березы и тонким частоколом — телеграфные столбы. Едва заметно ползли по дороге длинные обозы, и было хорошо видно, как лошади махали головами и как шагали мужики в тулупах около возов Все это мелькнуло предо мною почти мгновенно, когда я бежал по узенькой тропочке в снегу у края обрыва. Она глубокой канавкой вела прямо к дому, а потом огибала фасад. Когда я обежал дом и свернул к открытым воротам, навстречу мне с ревущим лаем выбежала целая свора огромных собак — рыжих, черных, белых, лохматых и глянцево-гладких. Я остановился и замер от ужаса, в животе у меня все похолодело. Но собаки остановились около меня и стали нюхать воздух. Они сели на задние лапы и, лениво гавкая, смотрели на меня с беззлобным любопытством.
Я вынул из кармана ломоть хлеба, отломил кусок и бросил им. Я слышал не раз, что от собак бежать нельзя — разорвут, а нужно или стать перед ними, или идти уверенно вперед. Идти на них я не мог — окоченел от страха. Первый кусок рыжая лохматая собака слопала мгновенно и подошла ко мне, облизываясь. Я хотел бросить еще кусок, но она ловко вырвала его из моих пальцев и начала тыкаться в меня мордой, виляя хвостом. Это мое знакомство с собаками произошло как раз против окна кухни. Тетя Маша должна была увидеть мое затруднительное положение и выбежать мне на помощь. Но в это время на дворе завизжала женщина, яростно взвыл мужской голос, хлопнула дверь и началась драка. Женщина истошно кричала: — Помогите!.. Спасите!.. Барин!.. Барыня!..
Собаки сорвались с места и с лаем скрылись в воротах.
Я побежал вслед за ними и застыл от испуга. Ларивон, без шапки, лохматый, взмахивая бородищей, с озверелым лицом, тащил обеими руками за косу тетю Машу. Максим Сусин, кривой, с седой, свалявшейся бородой, которая топорщилась у него в стороны, с подлой улыбочкой, тоненьким, елейным голоском уговаривал не то Ларивона, не то Машу.
С широкого крыльца сбежал старый барин Измайлов в сером военном кителе, с торчащими щеткой белыми волосами на голове, с дико выпученными глазами и начал хлестать нагайкой и Ларивона, и Максима.
— Мерзавцы! Подлецы! Канальи! Как вы смеете врываться в мой дом! Скоты! Хамы! Без моего ведома… Собаками затравлю!
Он схватил Ларивона за бороду и, тощий, маленький рядом с ним, исступленно полосовал его нагайкой. Маша рыдала и старалась вырвать косу из руки Ларивона. Собаки остервенело бросились на мужиков, рвали их полушубки, впивались зубами в их валенки. Максим плаксиво взвизгивал и прятался от собак за Ларивона, и за Машу, и за Измайлова.
— Ларивон Михайлыч! — жалко умолял он, смешно подпрыгивая. — Уймись! Брось, Ларивон Михайлыч! Собаки сожрут… Барин, Митрий Митрич! Ведь собаки-то разорвут!
— А-а, собаки! Я вам, мерзавцам, покажу, как моих людей уволакивать.
Маша отбивалась от Ларивона с яростным отчаянием.
Ободренная помощью Измайлова, она уже чувствовала себя уверенно.
— Не пойду! Брось, Ларька! Глаза выцарапаю, Ларька!
Барин, что это такое? Скотина я, что ли? Он пропил меня этой кривой роже. Уйди лучше, Ларька! Все равно не возьмешь…
Выбежали из дома барчата: длинный косой Николя, юркий толстячок Володька, который тоже начал стегать и Ларивона и Максима нагайкой.
— Хамы! Грязные рожи! — кричал он, оскалив зубы. — Маша, лупи его, прохвоста, негодяя! Я не позволю распоряжаться здесь всякому гаду.
На крыльцо вышла барыня Серафима Евлампьевна, в меховой шубе внакидку, высокая, миловидная, гордая, но такая же косая, как сын Николя. Она некоторое время спокойно смотрела на эту отвратительную сцену и сильным, басовитым голосом приказала:
— Димитрий! Оставь! Стыдно! Володя! Марш сюда!
Николя! Я тебе говорю, Димитрий! Не вмешивайся не в свое дело! Машу отдают замуж, а ты-то тут при чем?
— Но ты же видишь, Серафима, что происходит?
— И это тебя удивляет? Почему это должно тебя возмущать, тем более что в руках у тебя нагайка! Что же ты можешь сделать, если у них такой дикий обычай?
— Дррать! — свирепо заорал Измайлов и опять огрел нагайко» Ларивона и Максима.
Максим заскулил и спрятался за Машу, которая продолжала отбиваться от Ларивона. Володька с азартом стегал Ларивона, а Ларивон уже ничего не сознавал: его охватил припадок ярости, он не чувствовал ударов, а только клокотал от бешенства. Маша упала на снег, а Ларивон дергал ее за косу.
Я дрожал и от страха, и от ненависти к Ларивону и к Максиму, и от жалости к Маше. Прижимаясь к забору, я всхлипывал и бил кулачишком по доскам от бессильной злости. Но когда я увидел, как Ларивон ударил Машу кулаком, я схватил кусок льда из разбитого круга, который валялся около рассыпанной кадушки, и бросился со всех ног на Ларивона. Не отдавая себе отчета, я размахнулся и швырнул ледяшку ему в голову. Она шлепнулась ему в шею, около уха. Он выпустил косу Маши и схватился за ушибленное место.
— Кто это? Расшибу! — захрипел он и рванулся к барчатам.
Я подскочил к Маше, которая задыхалась от рыданий, и, стараясь поднять ее, кричал сквозь слезы:
— Вставай!.. Беги скорее!..
— Это что за мальчишка? — повернулся Измайлов, жвыкая по воздуху нагайкой. — Как он сюда попал? Что за ералаш, черт бы вас побрал!
Володька звонко крикнул:
— Молодец! Здорово! Давид и Голиаф…
И захохотал.
— Это Машин племянник: я видел его у нее два раза Вот это я понимаю герой!
А Маша лежала на снегу и, рыдая, молила:
— Защитите меня, барин. Сирота я… Пропил он меня…
Ларивон схватил меня за шиворот и отбросил, как щенка. Но я уже разозлился и опять кубарем подскочил к Маше:
— Не дам! Не дам!
Володька хохотал, а Измайлов изумленно шевелил седыми бровями и таращил на меня грозные глаза.
Ларивон дышал, как запаленная лошадь. Он неуклюже, как-то боком поклонился Измайлову и гнусаво пригрозил:
— Митрий Митрич, низкий тебе поклон… а в наше мужицкое дело не ввязывайся. Уйди от греха, Митрий Митрич!
Хотя я и тормошил Машу и кричал ей, чтобы она сейчас же бежала и спряталась, но она лежала съежившись и задыхалась от рыданий. Измайлов нагайкой отогнал собак.
Серафима Евлампьевна стояла безучастно и сурово. Николя был, должно быть, послушный сын: он стоял рядом с нею. Оба косые, они воткнули свои глаза в переносье.
— Маша, встань и иди с братом, — строгим басом приказала она. Скандала здесь не устраивай. Семья Максима Сусина — хорошая, крепкая. Чего еще тебе нужно? Я тебе свое старое платье подарю в приданое. Димитрий, Володя!
Идите сюда!
Маша вскочила, раскосмаченная, разъяренная, страшная.
Горячие от ненависти глаза испугали всех, даже Ларпвон отшагнул назад. Высокая, сильная, опасная, она отмахивалась, словно отшвыривала каждого от себя. Повернувшись к крыльцу, она пронзительно закричала:
— Будьте вы прокляты!.. Я спину гнула на вас, ночей не спала, ублажала… Просила, молила… Бросили вы меня аолкам… Благородные, а звери… Не лучше мужиков… Хорошо, я сама за себя постою. Не подходи, Ларька! Я сама пойду.
И она с высоко поднятой головой, простоволосая, в одной легкой курточке, пошла к воротам. Ларивон уже отошел, обмяк и смущенно бормотал:
— Машенька! Сестрица! Господь не оставит… Озолочу тебя…
— Сказал нищий богачу: я тебя озолочу, — огрызнулась Маша, не оборачиваясь.
За ней шагали Ларивон и Максим, поодаль друг от друга.
Измайлов хлестал нагайкой снег и свирепо бормотал:
— Прохвосты!.. Зверье!..
Володька, недовольный, капризно негодовал:
— Напрасно отпустили, папа. Нужно было отпороть их и выгнать вон. Какое они имеют право врываться сюда? Теперь Маше капут. Это мамаша все дело испортила. С какой стати она вмешалась в эту историю?
Измайлов окрысился на него:
— Молчать! С кем разговариваешь? Ты не понимаешь ничего, щенок! От мужиков всего можно ожидать. А этот Максим — негодяй из негодяев.
Маша вдруг остановилась и протянула ко мне руки.
Лицо ее было жесткое и острое.
— Один у меня защитник — Феденька. Иди со мной, милый. А то они, эти благородные, собаками тебя затравят.
Я подбежал к Маше и пошел с ней за руку.
XVI
Володимирыч с Егорушкой остались навсегда в моей памяти. Они были той моральной силой, которая поддерживала меня в тяжелые дни. Володимирыч был малограмотен, Егорушка тоже читал по складам, но старый швец мудрость свою и знание людей заработал несладкой жизнью солдата и многолетней борьбой за кусок хлеба. У него не было своего хозяйства, жил он у брата холостяком и промышлял своим ремеслом на чужой стороне: большую долю заработанных денег он приносил весною брату, а летом помогал ему по хозяйству. Отец и дедушка смеялись над ним, что он батрачит у брата, называли его дураком, а брата костили жуликом и выжигой. Но Володимирыч никогда не говорил плохого слова о брате, о его семье и вообще ни о ком не отзывался худо. Даже Митрия Степаныча не ругал грубо, как другие. Он только усмехался, умненько и скупо замечал:
— На то и щука в море, чтоб карась не дремал. На всякую муху есть свой паук. Нет мужика без мироеда-кулака.
Митрий Степаныч к вам и с крестом, и с пестом, и с божьим словом, а домой — с уловом. Это — присказка, а дело упирается в скудное житьишко с безземельем, с голодом, с податями да с розгами. С одной стороны — помещик с подлесчиком, сенаторы да губернаторы, а с другого бока — соседы-мироеды, старшина с урядником. Недаром поется:
Как в село Голочисто Скачет становой пристав… Ой, горюшко, горе!..Говорил Володимирыч как будто готовыми словами — пословицами и прибаутками, но в них звучала свежесть и острота. Эти слова били, как палкой, по головам и деда, и отца, и шабров, которые приходили к нам каждый день Многие из мужиков кряхтели от цепкой руки Стоднева.
Каждый был в долгу и у барина и у Стоднева, за каждым были недоимки, и все ожидали налета полиции, которая уводила последнюю скотину со двора и загребала всякое барахло. Вспоминая те годы, я до сих пор слышу стук палки о наличники окон и крик десятского:
— Хозявы! На сход идите!.. О податях, о недоимках!., Все шалели, дед ворчал, а отец ухмылялся: речи Володимирыча были ему по душе. Он только и думал, как бы уехать из деревни, и долбил мужикам и старикам, что в деревне сейчас жить не при чем, что дальше кабалы не уйдешь, что последнюю скотину со двора сведут, а от розги царь никого еще не освободил.
Когда Володимирыч ушел от нас к Паруше шить шубы, в избе стало грустно, скучно и как будто потемнело. Но отец повеселел и в отсутствие деда держал себя строгим хозяином, поучал всех и умничал. Когда вспоминали Володимирыча, зло усмехался и отрубал:
— Старый дурак! До седых волос дожил и скоморохом остался. Суется бродяга в чужую корчагу!
Злопамятный и мстительный, он не мог забыть насмешек Володимирыча над его богословскими рассуждениями, а особенно то, что Володимирыч молча, спокойно, без драки укротил его. Володимирыч подавлял его своим умом, уверенным спокойствием и добродушием, а на язвительные щипки отвечал или умным, укоряющим взглядом, или глухим равнодушием. Я не раз слышал на дворе, как отец издевался над Володимирычем и под смех Сыгнея и Тита передразнивал его жесты, прихрамывание, акающий выговор. Он не стеснялся охаивать его, выдумывать небылицы о нем. Боязливо озираясь, он подговаривал Сыгнея и Тита собрать ребят, подзудить Фильку Сусина и дать выволочку Володимирычу ночью. Но Сыгней, хитрый парень, только ухмыльнулся, подмигнул Титу и сказал с ужимками льстеца:
— Мы не прочь поиграть, кому только спину подставлять? А в грязь лицом тебе ударить негоже: ведь Василию Фомичу на все село почет. Про тебя все бают, что ты уж ловок больно, а на ногах стоишь, словно подкованный. Порази его при всем народе. Давай-ка тебя с ним на «поодиначки» спарим. И душу отведешь, и себя покажешь. Эх, и потеха будет!
Отец самодовольно посмеивался и многозначительно помалкивал. Он любил похвастаться, порисоваться, хотя и не отличался никакими дарами. Он умничал и форсил в своей суконной бекешке и принимал за чистую монету насмешки лукавых шабров. Не понимал он и коварства Сыгнея, которому хотелось сыграть злую шутку над ним. А Сыгней и Тит не любили отца за его постоянное самохвальство, за его потуги показать свою власть над ними, за зуботычины, за подражание деду в суровости и самодурстве. Сыгней гнул свою линию: во всех стычках с отцом всегда оставался в стороне и подставлял под его удары Тита. Жил он весело, беззаботно, подлизывался к деду и отцу, в семье держал себя поодаль, часто пропадал из дому, всегда отшучивался, отсмеивался. И эта его легкость и отчужденность всем нравилась. К нему ни в чем нельзя было придраться, и даже дед относился к нему мягче и снисходительнее, чем к другим. Сыгнею завидовали и Тит и отец, ругались с ним, называли лодырем, забулдыгой, а он смеялся им в лицо и нарочно надевал сапоги со скрипом и с тонким набором. Отца он обезоруживал лукавством, притворной покорностью и нахальной лестью.
Мне было жаль и Володимирыча и Егорушку, и я возненавидел и отца, и Сыгнея, и Тита. За обедом я сидел молчаливо и хмуро, и есть мне не хотелось. Бабушка и мать забеспокоились, обе прикладывали ладони к моему лбу.
— Что это ты? Не заболел ли? Не ешь и не пьешь. Не побили ли тебя?
А я заплакал от их участия и ласковых слов. Но дед, как обычно, взглянул на меня серыми ледяными глазами из-под седых бровей.
— Ну-ка, где у меня кнут-то? В девять-то годов я у барина стадо пас, воду возил… Я вот пошлю его с навозом на поле…
И больно щелкнул меня ложкой по лбу.
А отец вытащил меня за волосы из-за стола.
— Пошел вон, свиненок! Виски выдеру…
Но бабушка рыхло встала из-за стола и с быстротой, несвойственной ее тяжелому телу, вырвала меня из рук отца.
Мать пришибленно молчала. А Катя с возмущением крикнула:
— Чего вам парнишка-то сделал? Сидел, никому не мешал. Братка-то ведь, кроме как виски драть, никогда робенка-то не приветит.
— Молчи, дура! — вскипел дедушка и стукнул кулаком по столу. — Учили мало…
В этот же день я пошел к Паруше. В избе у ней было просторно и светло. Эта огромная старуха с мужским голосом и седыми усами встретила меня раскатистым басом:
— Вот он, дорогой мой гостенёчек! Вспомнил обо мне. Иди-ка, иди-ка, милок! А я как раз пряженцы испекла. Садись, с молочком поешь.
Молодая и стройная для своих лет, властная, с высоко поднятой головой, повязанной черным платком в виде кокошника, она встречала меня приветливо, радостно и каждый раз вынимала из-за пазухи то лепешку, то пряженец, то крендель. А маму прижимала к бугристой груди и гладила по голове. Я любил эту старуху больше, чем бабушку, и терся о ее толстые и мягкие колени, как котенок.
Редко кого из детей в наших семьях баловали лаской, и эту ласку я принимал от Паруши как дорогой подарок. Эта милая и строгая старуха осталась в моей памяти как женщина большой души.
Семья у нее была работящая, веселая. Сыновья — Терентий и Алексей ходили чисто, во всем фабричном, как зажиточные. На самом деле жили они не богаче нас. Но Паруша, всегда опрятная, чистоплотная, и дома одевалась приглядно, а в избе грязи не допускала. Ни телят, ни ягнят зимой в избе не держала, а помещала их в предбаннике, баня же у нее была белая, не курная. Сыновья женились по любви, и Паруша приняла невесток ласково, с ободряющей шуткой.
Терентий и Алексей были погодки и выбрали невест одновременно. Это было целое событие в деревне: ни у кого в памяти не было, чтобы сразу обоих сыновей женить да еще без всяких кладок, словно невест на улице подобрали.
Обе девки были дочери бобылок и работали на барщине поденно. Одна Лёсынка — была маленькая, прыткая, разудалая, с задорным курносым личиком, певунья на все село и работница расторопная. Другая — Малаша — смирная, молчаливая, послушная, похожая на скитницу. Лёсынку выбрал Алексей, а Малашу — Терентий. Однажды вечером, после ужина, они оба поклонились матери в ноги и наперебой попросили у нее благословения на брак.
Паруша положила руки на их густые волосы и по обряду строго сказала:
— Бог благословит. Девок знаю. По сердцу и уму выбрали. Хоть любовь-то своевольная, стариков не признает, а журю вас: надо бы раньше сказать мне. Не осудила бы, не препятствовала, а бабий совет дала. Самой пережито-переплакано: на немилой жениться — сердцем озлобиться, за немилого идти — горя не снести. Встаньте, женихи! Уж на старости поплачу от радости. Не обидела меня богородица.
Ребята встали, и она поцеловалась с каждым троекратно, заливаясь слезами. А Терентий и Алексей, оба — кровь с молоком, похожие друг на друга, сильные, плечистые, тоже плакали.
С невестками Паруша жила ладно, хотя они и боялись ее в первые дни и статились, — покорно опускали глаза, говорили тихо и кротко, — но, когда свекровь озорно кричала на них с притворной сварливостью и грозно сдвигала мужичьи брови, они видели веселый смех в ее умных глазах, фыркали и переглядывались, а потом бросались к ней на шею.
— Матушка, милая, дай тебе господи доброго здоровья!.. Ты лучше родной матери. На руках носить тебя будем… Чего хошь делай с нами — всю душеньку отдадим, с песней, с радостью.
Паруша отбивалась от них, топала ногой и басила громоподобно:
— Ну, вы, охальницы… своевольницы! Согну в бараний рог! Высушу, вытравлю вашу красу. Я — свекровь, я — дому голова.
И, обнимая их, смеялась и дышала утомленно.
— Ух, устала я с вами, как после пляски! — И нежно ворковала: Расхорошие вы мои, молоденькие мои!.. Ведь и я когда-то была молодая да пригожая. Дай нам, владычица, мир да любовь! — И опять кричала с притворной строгостью: — Внучат скорей родите! Мне чтобы вовремя ребятишки-то были! А то ухватом колотить буду, а мужьев — поленом.
Когда рассказывали об этом Катя и бабушка за прядевом, в бабьи часы, мать грустно улыбалась и думала о чем-то, вздыхая, а Катя озорничала:
— А мамка вот и голос и красу свою тятеньке под ноги бросила. Тятенька-то ей и под мышки мал, она его одним щелчком к порогу швырнула бы. А всю жизнь под окриком да под угрозой жила — и пикнуть не смела.
— Ка-атька! Бесстыдница!.. Аль об отце-то так тоже баять?
— Я не об отце баю, — открикивалась Катя. — Мне тебя жалко. А баушку Парушу я бы тоже на руках носила.
Мать с задумчивой улыбкой говорила, будто сама с собой:
— Паруша-то такая одна, а девок много. У всех нас одна судьба. А вот такая бывает тоска — умереть хочется… а то обернулась бы птицей и улетела на край света…
Катя, посмеиваясь, заканчивала словами запевки:
Не обута, не одета, Только миленьким согрета.И я видел, что мать и Катя завидуют невесткам Паруши.
И вот когда я у Паруши сидел и ел горячие пряженцы с молоком, она ворковала:
— Ешь, золотой колосочек, кудрявая головка. А потом споешь мне стихиру, грамотей дорогой. Голосочек-то у тебя как колокольчик.
И успевала приласкать и маленьких внучат, которые подбегали к ней постоянно. Обращаясь к швецам, говорила с насмешливым осуждением:
— Семья-то у них какая-то несуразная… Дедушка-то Фома как-то в стороны расползается. Никогда ни в чем не было у него удачи. Сыновья какие-то петушишки: форсуны и безалаберные, как тараканы. Попала им хорошая бабенка Настя — испортили бессчастную… и парнишку-то изуродуют…
Володимирыч посматривал на меня добрыми глазами и посмеивался:
— Да, семейка несмышленая. На словах густо, а в голове пусто. Настеньку-то больно жалко — золотое сердечко.
Забили.
Егорушка весело говорил со мною глазами и подмигивал мне, как мой ровесник.
— Ну, чего пришел-то? — участливо спросил он. — Аль скучно без нас?
— Скучно.
— А ты почаще приходи сюда. Бабушка-то Паруша, вишь, как тебя привечает.
Я подошел к нему и прошептал ему на ухо:
— Пойдем со мной: я чего-то тебе скажу.
Он быстро вышел из-за стола и сделал какой-то знак Володимирычу.
— Мы, бабушка Паруша, по секрету с ним поговорим.
Я подбежал к Паруше и стыдливо потянулся к ее лицу.
Она наклонилась ко мне, и я крепко поцеловал ее. Это было не в нравах наших парнишек и вышло неожиданно для меня самого, и я совсем растерялся. Но в глазах Паруши я заметил слезы.
— Милый-то ты какой! Сердце-то у тебя какое счастливое. Дай тебе господи жизню радошную…
Мы вышли с Егорушкой на крыльцо, и я рассказал ему, о чем говорили отец с Сыгнеем и Титом. Он засмеялся.
— Ничего. Ты не унывай. Я никому не скажу. Володимирыч-то знает, что его бить отец твой собирается.
А я ведь полюбил тебя, и Володимирыч тоже, и ты нас любишь… Тут вчера офеня заходил, а я у него для тебя купил эти вот книжечки.
Он вынул из кармана порток две книжки и сунул их мне в руки. Я побежал домой и дорогой любовался ими. Одна была нарядная, с разноцветной картинкой на обложке: какие-то невиданные и богато разодетые богатыри у сказочного дворца. Другая тоненькая книжечка в синей обложке.
Первая оказалась «Бовой-королевичем», а другая «Про счастливых людей».
Для того чтобы дед не изорвал их, как «побалушки», я спрятал их в сенях, в коробьё с хламом.
XVII
В тот же вечер я с Кузярем и Наумкой толкался в толпе парней и мужиков на взгорке, над избой Крашенинников.
К нам неожиданно пришел редкий гость, барский конторщик Горохов со своей «саратовкой» с колокольчиками. Вместе с ним нахлынули и сторонские: это значило, что в этот вечер между враждующими сторонами заключено перемирие. Высокий, немного сутулый, худой, носатый, Горохов в черном романовском полушубке наигрывал причудливые, виртуозные переборчики, но как-то странно: начнет громко, размашисто и даже поднимет гармонь к уху, но потом неожиданно оборвет игру. Толпа говорливо шевелится, кто-то выкрикивает шутейные слова, все дружно смеются, девки повизгивают. Около Горохова почтительно топчутся парни и о чем-то просят его.
— Михаиле Григорьич!.. Михайло Григорьич!.. В кои-то веки… Распотешь, Михайло Григорьич!
Луна сияет высоко, смотрит на нас с пристальной улыбкой, небо темно-синее, и звезды мерцают весело и лучисто.
Снег кажется зеленым и вьюжится искорками. На той стороне — тоже огни. Все село — под снегом, а снег всюду мягкий, волнистый, даже горы и крутые обрывы кажутся пологими и пушистыми, только сияют ярче холодным лунным блеском. Снег скрипит и хрустит под валенками ядрено и вкусно. Горохов заиграл оглушительно и звонко плясовую, с такими же замысловатыми переливами. Кажется, что этот серебряный перебор, с дробью, с колокольчиками, заливает все село и вихрем уносится к небесам, к луне, которая смеется от удовольствия. Мне чудится, что и она принимает участие в этом веселье хоровода. Голосов парней и де: иск уже не слышно. Сразу раздается круг, и лица у всех становятся строгими и торжественными. Начинается пляска Я продираюсь внутрь толпы, становлюсь рядом с Гороховым и наслаждаюсь необыкновенной его игрой. Пальцы его бегают по белым пуговкам, дрожат, трепанут, тонкие, длинные и удивительно гибкие. Тощее его лицо серьезно, сосредоточенно и гордо. Он — весь чужой, не деревенский, таинственно сильный. Он чувствует себя среди этой деревенской толпы парней и мужиков выше всех: он дарит всех чудесной музыкой, как волшебник, и властно поднимает голову, посматривая равнодушными глазами на эту густую толпу парней, пропахшую кислым запахом овчины. В кругу пляшут самозабвенно, с визгом, с присвистом, с ревом.
Парни подпрыгивают, приседают, выбрасывают валенками всякие коленца, а девки носятся плавно, кружатся, вскидывают головы в теплых платках и шлепают парней длинными рукавами телогреек. Мне приятно, что лучше всех, проворнее всех пляшет наш Сыгней и сверкает зубами. Он хватает пляшущих девок, успевает ловко и высоко взлететь с залихватским криком, а потом завертеться на месте и, сияя своими сапогами-гармошками, дробно сделать сложный перебор каблуками. Им все любуются и растроганно кричат:
— Эх, милый мальчишка! Сыгней! Душу мою вывернул.
Было горе — горя нет!.. Михайло Григорьич, что есть наша жисть? Жестянка! Навозу — воз А грех-то с орех! Эх, катай во все завертки! Рви, дроби все заботы!
В толпе неподалеку от себя я заметил и Володимирыча с Егорушкой. А за ними — Терентия и Алексея в суконных поддевках. Володимирыч стоял в короткой шубейке, с белым шарфом на шее. Он попыхивал трубочкой и смотрел на пляску со спокойной улыбкой. Егорушка тоже выходил раза два плясать и в ловкости спорил с Сыгнеем, но того самозабвенного ликования, как у Сыгнея, у него не было. Здесь стоял, на голову выше всех, Филька Сусин. Он не плясал: он был слишком тяжел и неповоротлив. Он только глупо улыбался и грыз семечки. Шелуха, как короста, прилипала у него к губам. Я вспомнил, как Ларивон продал этому дылде тетю Машу и уволок ее с барского двора. Теперь Маша у Ларивона, и он не спускает с нее глаз.
Не стесняясь меня, Катя хвалила Машу за то, что она отбивается от Ларивона — дерется с ним и не щадит себя.
— И дура будет, если покорится. Связалась с Гороховым, ну и не отрывайся. С немилым жить — коровой выть.
А мать спорила с ней до слез.
— Не допущу, чтобы у матушки гроб дегтем вымазали.
Она матушку-то не пожалела. В хорошей семье она другая будет.
А Катя крикнула ей насмешливо:
— Какие вы, бабы, к девкам завистливые! Это ты, невестка, должно, от сладкой холи раскалилась.
А от Сыгнея на дворе я узнал, что Ларивон с Максимом уговаривали Фильку переломать кости у Горохова. Но Горохов стоял сейчас в толпе парней и ничего не боялся. Он даже ни разу не взглянул на Фильку, будто его здесь и не было, хотя и знал, вероятно, что против него замышляют недоброе. А Филька грыз семечки и добродушно, с дурацким восторгом смотрел на Горохова.
Отец стоял вместе с Титом против меня, впереди Фильки, но на пляску смотрел без интереса. Он перешептывался с Титом и что-то внушал ему, а Тит послушно кивал головой, но, должно быть, слушал невнимательно, следил за пальцами Горохова, за пляской, подтопывая валенками, и не переставая смеялся.
Горохов побыл недолго и равнодушно ушел вместе со сторонскими за речку. Кучка парней и мы, ребятишки, проводили его до кузницы: магическая гармонья с серебряными колокольчиками приворожила нас к себе так, что я терся около Горохова и не отрывал от нее глаз. Кузярь нахально наскакивал на Горохова, который держал гармонь под мышкой и шел, немного сутулясь и покашливая (говорили, что у него чахотка).
— Михаил Гриюрьич! — клянчил Кузярь, ловко прыгая задом наперед. Сыграй! Аль жалко? Ты сторонским играешь, а нас обижаешь. Сыграй! А то я сейчас лягу перед тобой и шагу шагнуть не дам.
Но Горохов прикрикнул на него:
— Ну-ка, ты… прочь с дороги!.
Кузярь совсем обнаглел и озорно брякнул ему в упор:
— Куда торопишься? Ведь Маньку-то у тебя все равно утащили…
Горохов, пораженный, рванулся к нему и матерно выругался:
— Ах ты, сукин сын! Я тебе уши оторву!
Кузярь юрко отскочил в сторону и важно показал ему кос:
— Сухая слега — гнилая дуга!
Он сказал зазорное слово, которое оглушило меня, как удар кулаком по лицу: это слово не столько оскорбило Горохоза, сколько взбесило меня. Я рванулся к Кузярю и со всего размаху ударил его по носу. Он не ожидал моего нападения и кувырнулся в снег. Я вскочил ему на грудь и стал колотить его обоими кулаками:
— Вот тебе за Маню!.. Не охаль!..
Он сам взбесился и стал рваться из-под меня. Но бил я его, вероятно, очень больно, потому что он стал хватать меня за руки. Не знаю, чем кончилось бы наше побоище, если бы к нам не подбежали ребята. Чья-то сильная рука вскинула меня под мышки кверху и поставила на ноги. Это был Горохов. Он схватил Кузяря за ухо и с угрозой сказал:
— Ах ты, мозгляк! Ты еще ст горшка два вершка, а такие пакости болтаешь!
Кузярь вырвался от нею и со всех ног побежал к реке.
Вслед ему заулюлюкали.
Горохов надвинул мне шапку на глаза, шлепнул меня перчаткой по спине и одобрительно сказал:
— Молодец! Храбро защищал Машу. Хорошо. Действуй и дальше так же.
Пищала гнусавая гармошка. Парни и девки теснились отдельно от мужиков и по-прежнему тискались, повизгивали и хохотали. Мужики толпились плечом к плечу и о чем-то спорили и посмеивались. Чтобы увидеть Володимирыча и отца, я продрался в середину. В центре было пусто, словно все было готово для поединка. Все кричали, перебивая и не слушая друг друга: о чем-то спорили, взаимно насмешничали и поддразнивали, оскорбляли один другого, как это бывает перед началом драки. Отец стоял в середине между Сыгнеем и Титом. На усах у нею белел иней, лицо усмехалось самодовольно и хитро. Он старался держать себя невозмутимо, с достоинством. Сыгней, по обыкновению, морщился от смеха, и в прищуренных глазах его поблескивали искорки. С ужимками веселого насмешника он покрикивал.
— Чего эго больно холодно, ребята? Должно, все мы трусы. Храбрым всегда жарко. Погреться бы, что ли?
— Ну и на чин аи, — засмеялся кто-то рядом со мною. — Давай-ка сцепимся с тобой… А то дразним друг друга, словно горохом бросаемся…
— Нет, я боюсь поскользнуться, — балагурил Сыгкей. — У меня сапоги со скрипом. Бот лучше мой старшой начнет: у него и стать и руки покрепче. Поглядим на опытных бойцов да поучимся. Вот Володимнрыч — старый солдат, а я только лобовой, да и то два года ждать, когда забреют.
Володимирыч, попыхивая трубочкой, в старенькой шубейке, стоял направо от меня, рядом с Егорушкой и сыновьями Паруши в черных поддевках и бараньих шапках. Он вынул трубочку и неохотно отшутился:
— Я не прочь погреться, хоть и старый солдат, хоть колченогий и давно не дрался. Да и руки у меня не такие, как у Василия Фомича.
Он выбил пепел из трубочки о подошву валенка, спрятал ее в карман шубейки и потеребил свои бачки.
— Ну что ж, давай попробуем, Василий Фомич. Только уговор: щади мои старые кости, не ломай их, да и по зубам не бей, — чего я буду делать-то, ежели последние выкрошишь?
Я обрадовался: Володимирыч, оказывается, совсем не боится отца и сам его вызывает на поединок. Егорушка что-то шепнул ему на ухо, а Володимирыч только бодренько встряхнул седенькими бачками. Я пробрался к Егорушке и ткнул ему в бок. Он улыбнулся мне и наклонился к моему лицу.
— Не надо, Егорушка. Изобьют Володимирыча. Отговори его.
Он прошептал весело:
— Ничего. Володпмирыча голыми руками не возьмешь.
Не бойся.
Но я очень боялся, что Володимирычу не устоять против отца: отец был злой на него и будет колотить его без пощады. Боялся и другого: если отцу насадят синяков на лицо, он обязательно изобьет мать. Но отец по-прежнему стоял невозмутимо, с улыбочкой, себе на уме, и делал вид, что ему нет охоты связываться с Володимирычем.
— Да что за потеха — со стариком драться? — заскромничал он и рассудительно пояснил: — Нам, молодым, негоже стариков обижить. Он хоть и старый солдат и с турками воевал, а все-таки человек в годах и нога искалечена. Кетоже, ребята.
Мужики загалдели, замахали руками и стали подталкивать отца в круг.
— Да Судет тебе ломаться-то, Вася! Выходи:
— Да он струсил. Куда ему спроть Володи: шрыча? Форсу задаешь, Вася.
— Ну-ка, пошире круг! Выходи, бойцы! Володимирьп, покажи себя, старый солдат!
Володимирыч покрепче натянул варежки, похлопал ими одна о другую и добродушно оглядел мужиков. Он, прихрамывая, вышел в круг и сказал дружелюбно:
— Ты, Вася, уж мои-то слова попомни. Когда мне будет не под силу с тобой драться, я уж скажу тебе. Тогда уж меня не трог. Слышали, мужики?
— Слышали! Какой разговор? В обиду не дадим.
Отец вышел степенно, как будто подчиняясь воле мужиков и парней, солидно склонил голову к плечу и со снисходительной усмешкой предупредил Володимирыча:
— Не обессудь, Володимирыч. Негоже, собственно, драться с тобой, да видишь, какой народ… Для шутки ради только.
— Ничего, Вася. Пошалим маленько. Погреемся… А потом поглядим, как другие…
Отец вдруг выпрямился и, с угрозой в лице, оглядел старого швеца. Я увидел в глазах его мстительный огонек.
С раскинутыми руками он начал топтаться перед Володимирычем и пристально следить за его движениями. Володимирыч тоже приготовился и мелкими шажками, прихрамывая, затоптался против отца. Лицо его, красное, со старческими морщинками, беззлобно улыбалось. Так они ходили, кружась один против другого, несколько секунд, стараясь уловить момент, когда можно было нанести неожиданный удар. Толпа напряженно молчала и с нетерпением следила за бойцами. Вдруг отец рванулся к Володимирычу и мгновенно взмахнул кулаком. В тот же момент Володимирыч нагнулся, и отец, потеряв равновесие, отлетел вбок. Толпа ахнула и дружно засмеялась. Отец рассвирепел и ринулся к Володимирычу, но старик рассчитанным ударом в грудь пошатнул его. Этот удар еще более взбесил отца. Мигая и тяжело дыша, он опять начал топтаться перед Володимирычем и нацеливаться на него. Он то отступал, то наступал на него, стараясь обмануть его бдительность. Но Володимирыч как будто играл с ним: он спокойно, с усмешкой в глазах, нехотя переступал с ноги на ногу.
Тесный круг шевелился и упруго колыхался: каждый старался стать впереди, и от этого люди жали и на плечи и на спины друг другу. Раздавались нетерпеливые голоса:
— Ну-ка, ну-ка, Вася!.. Двинь хорошенько! Отличись по-нашенски!
— Володимирыч! Сбей-ка форс с Фомича-то! Круши старый солдат!
— Старик не подгадит — турок бил.
— Вася, должок-то отдать надо. Воздух-то не замай: на всяко било есть рыло.
Эти выкрики — насмешливые, досадливые и веселые — подстегивали и обжигали отца: он не терпел насмешек, не понимал шуток и шалел от растревоженного самолюбия и мнительности. Он изо всей силы ударил Володимирыча в грудь. Володимирыч отшатнулся и, словно обороняясь, стал пятиться от него то в одну, то в другую сторону.
Тит стоял с открытым ртом и повторял все движения бойцов Сыгней хитренько щурился и притопывал щеголеватыми сапогами. Отец наскакивал на Володимирыча, но не успевал ударить — старик ловко отскакивал от него. Неожиданно, совсем без подготовки, как-то незаметно, он ударил отца по уху. Должно быть, удар был очень сильный, — отец кувыркнулся и упал, врезавшись головой в ноги мужиков.
Шапка отлетела в сторону. Толпа глухо охнула и заволновалась. Кто-то опять крикнул сквозь смех:
— Вася, вставай! Аль браги выпил?
— Вот так швец, старый скворец! Гляди-ка, как крепко стегает.
— Опять задолжал, Вася? Расплатиться надо… Не подгадь, Вася!
Сыгней уже не смеялся- он с сердитой озабоченностью закричал, размахивая левой рукой (он — левша):
— Это не закон, а обман! Надо честно., без подковырки…
Кто-то ответил ему злорадно:
— Хорошая драка дураков не любит.
Отец вскочил на ноги и смущенно вздохнул:
— Это не в зачет: я поскользнулся.
— Валяй, Вася! — залихватски подбодрил его еще кто-то. — Так и быть, не зачтем. А Володимирыч и хромой не падает. Ну-ка, подсеки, Вася!
Володимирыч по-прежнему спокойно и осмотрительно прихрамывал перед отцом и так же добродушно усмехался глазами. Они опять закружились, пристально следя за каждым движением друг друга. Отец горячился, наступал на Володимирыча, старался обмануть его своими наскоками.
Ему в какой-то момент удалось ударить Володимирыча сверху по плечу. Я уже знал этот удар: он рассчитан был на го, чтобы повредить руку в суставе. Но Володимирыч только пошатнулся и вскинул плечом, отшибая кулак отца, и в ту же секунду непонятным для меня отшибом он отшвырнул отца назад. Отец врезался спиной в толпу мужиков. Но он и здесь не забывал себя: хотя он уже был весь растрепан и волосы на голове были похожи на помело, он сумел сохранить форс сильного и уверенного в своей непобедимости бойца. С кулаками наотмашь он ринулся на Володимирыча с хриплым криком: «Берегись!» Но сам обманулся оборонительной позой старика: эта поза и всем показалась беспомощной. В толпе даже испуганно охнули, а Сыгней подпрыгнул торжествующе. Но Володимирыч ловко отбил руку отца и левым кулаком ударил его в подбородок, а правый в ту же секунду всадил в грудь. Отец рухнул к его ногам.
Толпа молчала, пораженная скорым концом боя. Володимирыч наклонился над отцом и добродушно отчитал его:
— В драке, Вася, тоже сноровка нужна, да и мысли не злые Учись быть ловким. Ты — сильнее меня, молодой, а я тебя все-таки поразил. Ты шел на меня с подлостью, хотел над старостью моей поманежиться, кости мои поломать Негоже, Вася. Не считай себя лучше всех, не форси, не самолюбствуй. Себя одного вини, а на слабых не взыскивай.
Сильный дуростью слаб, а слабый ловкостью умен. Вставай, Вася! У меня к тебе вражды нет.
Он хотел поднять его, но отец прохрипел:
— Уйди!
Толпа заволновалась, заговорила, зашумела и стала расходиться. Володимирыч с Егорушкой пошли вместе с сыновьями Паруши домой. Отец вскочил как встрепанный, кто-то надвинул ему на голову шапку, и он, не оглядываясь, быстро скрылся за избой. Сыгней и Тит о чем-то тихо и возбужденно переговаривались. В толпе кто-то свистнул вслед отцу, кто-то визгливо крикнул:
— Вася, тут еще парнишки есть, вернись, подерись с ними. Может, со своим Федяшкой выйдешь на поодиначки?
Я побежал вслед за отцом, но он куда-то исчез.
В эту ночь он явился поздно, пьяный, и сразу же свалился на кровать.
XVIII
В избе стало тягостно, мрачно, точно случилось что-то нехорошее, о чем нужно было молчать. Мать ходила заплаканная.
Катя замолчала с того дня, когда дед огорошил ее своим грозным решением выдать ее замуж. Бабушка возилась в чулане, стонала и невнятно бормотала с чугунами и горшками. Я убегал к бабушке Наталье и проводил у ней весь день до вечера, а в обеденное время катался на салазках с Петькой и раза два ходил с ним в кузницу, где было грязно, дымно и совсем неинтересно. Только за мехами стоял я с удовольствием и был очень доволен, когда научился давать непрерывный поток воздуха в горн. Бородатый и черный, как бес, Потап подбодрял меня:
— Нажми, милок!.. Дуй изо всей силы: сварка любит веселое горко… Эх, будет у тебя топорик — маленький, да удаленький… Петюшка, бери клещи, из горна тащи да накладывай!..
Ослепительные звезды летели брызгами в разные стороны из-под молотка Потапа — и на него самого и на Петьку, который держал, как настоящий кузнец, длинными клещами добела накаленную полосу железа. И было удивительно, почему Петька и Потап не загорались от этих ослепительных звезд, которые с шипением и треском обсыпали их к мгновенно взрывались на их кожаных фартуках и закопченных шубейках.
Иногда к бабушке прибегала мать и хлопотала около печки, кипятила воду, стирала холщовые ее рубахи и какие-то заскорузлые тряпки.
В эти дни я не раз встречал на улице Володимирыча с Егорушкой. Они не расставались никогда. Егорушка не водился с нашими парнями, не ходил на посиделки, не бражничал. Все знали у нас в семье, что отец ненавидит Володимирыча, и стоило кому-нибудь из домашних вспомнить о нем — он бледнел. Не раз за обедом дед, благодушно усмехаясь в бороду, ворчал:
— У нас, Анна, дети-то умом не вышли. Учил, учил их Володимирыч, а все невпрок. Большак-то все хочет показать, что он умнее стариков.
Отец страдал от унижения, бороденка его вздрагивала, и он притворно улыбался, делая вид, что ему забавно слушать язвительные шутки деда. Он прятал глаза, тер их ладонями и спрашивал у деда, как и что готовить к отъезду в извоз. Об извозе он говорил с почтительной Настойчивостью каждый день. А дед язвил:
— С твоим умом без порток останешься. Не поехать ли мне с ним, Анна?
Бабушка Простодушно негодовала:
— Да будет тебе отец, шутоломить-то! Чай, Васяньха-то не хуже других. Не первый год ездит и ни разу без прибытку не приезжал. А тебя, бывало, и обсчитают, и долгами опутают.
Бабушка любила детей, как клуша цыплят, и стояла за них горой.
— Поговори у меня! — сердился дед. — Не бабьим умом дела эти делаются. — И сурово обращался к отцу: — Собирайся! На санях выедешь, а телеги — на сани.
В эти дни произошли события, которые до дна перевернули всю деревню. Жили люди в своих избах тихо, устойчиво, дремуче, как медведи в берлогах. Похороны и родины не нарушали скучной однообразной жизни. Лежание на печи, курная баня, избяной угар, мертвая тишина деревни, затерянной в снегах, все это было вековой обыденностью, которую, казалось, не изменит никакая сила. Вырваться из этого житья было невозможно: уйти на заработок мог только тот счастливец, который расплатился с недоимками, но и его в любое время могли пригнать по этапу. Власть старика отца, сила круговой поруки держала мужиков в деревне, как скот, в загоне. Каждый чувствовал себя безнадежно прикованным к своей избе, к своей голодной полосе, к своей волости. Какие же могли произойти события в этой скудной и беспросветной жизни, которая охранялась и стариками, и миром, и древлим благочестием, и полицией, и старшиной, и земским начальником!..
События разразились внезапно и ошеломительно.
Однажды поздним утром, когда снег был уже оранжевый от мутно-красного солнца и синий в оттенях, а над избами столбами поднимался лиловый дым, в деревню ворвались пять троек с колокольчиками. Из дворов выбегали мужики, бабы, ребятишки с испуганными лицами. Такие колокольцы были только у начальства, которое редко заглядывало в нашу деревню. Тройки остановились у съезжей избы старосты Пантелея. Эта пятистенная изба стояла по соседству с избой Ваньки Юлёнкова. Староста Пантелей, зажиточный мужик, с черной бородой во всю грудь, с короткими кривыми ногами, ходил, качаясь из стороны в сторону, нахлобучив шапку или картуз на самый нос, и говорил фистулой, но важно, как подобает сельскому голове. Он недавно овдовел и женился на молодой девке, рябой, дураковатой и бессловесно-послушной, которая вошла в его избу, полную детей, маленьких и больших.
— Только дура — хорошая мачеха, — рассуждал Пантелей, упрямо глядя себе в ноги. — А умная о себе думает, не тужит и не служит: убыточная.
Пантелей ходил в старостах уже несколько лет, и к нему так привыкли, что не могли себе представить другого старосту. Он арендовал землю у Измайлова, торговал свечами, воском, кожами, имел свою дранку и воскобойню, а свечи делали ему бобылки. Он был исполнительный староста, строгий и взыскательный, но мужики уважали его за то, что он часто защищал их от крутых мер по взысканию недоимок. Во время сбора податей сам платил за несостоятельных недоимщиков, но зато выколачивал из них долги отработками и батрачеством.
Со всех сторон потянулись к съезжей старики с палками в руках, как полагалось ходить на сход главам семей. Тройки стояли в обширном крытом дворе Пантелея и позванивали колокольчиками и бубенчиками. Мужики столпились у избы, на улице и, опираясь на палки, уже галдели на весь порядок. Пришла и Паруша с подогом в руке. Мужики все еще тянулись к съезжей, подходили и сторонские — группами, в одиночку, и с луки, и от дранки, и со стороны Крашенинников. Нам, малолеткам, было не понятно и не интересно, о чем галдели и спорили мужики: мы с нетерпением ждали, когда выйдут к сходу приезжие таинственные люди, и чутко прислушивались к перезвонам дуговых колокольцев.
И вправо и влево на длинном порядке у изб стояли бабы.
Всезнайка и проныра Кузярь уже успел пролезть в самую гущу толпы и смотрел на нас с Наумкой и Семой с дьявольским видом человека, которому уже известен загадочный приезд начальства.
— А я знаю, хы… я знаю, зачем они нагрянули…
— Знаешь, так скажи.
— Кладите мне по трешнику — скажу. Сроду не узнаете.
— И без тебя узнаем. Ловкий какой на трешники! Сорока тебе на хвосте принесет.
— Кладите трешники, а то покаетесь. Я уж во двор слетал и у кучеров все выспросил. Ох, и дела будут!
— Знают твои кучера…
— Дадите по семишнику — в избу взойду и все как на ладони увижу. Пойдем с тобой, Федюк, сам увидишь. Только, чур, семишники — за вами.
Он дернул меня за рукав, и мы побежали вокруг толпы к открытым воротам. Это событие опять связало нас дружбой.
У самых ворот Кузярь вдруг остановился и озорно взглянул на меня. Он торопливо стащил варежку с руки и вынул из кармана засаленной шубенки маленького котенка — серенького, пушистого, который судорожно шевелил лапками и смешно плакал розовым ротиком.
— Вот видишь? Этого зверя я кореннику на репицу положу. Знаешь, что будет? Как рванет, как забесится — все тройки с ума сойдут. Вереи вынесут.
— А зачем?
— Эх, дурак! Да ведь потеха будет. Все село — на дыбы.
Мы не успели подойти к воротам: навстречу нам тесной кучей вышло начальство. Впереди, выпятив грудь, в черной шубе с серебряными погонами и в плоской шапке с кокардой, шел высокий человек с рыжими усами, с выпученными глазами. Рядом с ним степенно переваливался с боку на бок Пантелей в суконной бекеше, а за ними — полицейские в таких же плоских шапках с кокардами, усатые, по-солдатски свирепые, с оранжевыми шнурами, надетыми на шею, а еще дальше — какие-то сторонние мужики.
Кузярь шепнул мне торопливо:
— Ну, идем… никто не увидит…
Но я остановился, пораженный и испуганный. Эти люди показались мне зловещими и до помрачения страшными.
Мужики сняли шапки и сразу застыли в молчании. Я побежал обратно туда, на снежную горку, на крышу «выхода», где толпились парнишки. Там уже стояли и взрослые парни, а среди них Сыгней и Тит.
Пантелей помахал шапкой и по-бабьи крикнул:
— Старики, их благородие прибыли… насчет недоимок и земельных платежей.
Толпа робко зарокотала и покрыла голосишко Пантелея.
Усатый начальник выпучил красные белки и рявкнул:
— Молчать! Бараны! Слушай!
Толпа сразу угомонилась, и Пантелей опять закричал надсадно:
— Все сроки просрочены, мужики. А недоимок много.
Опись сейчас будет — имущество, скотину со двора изымут — Подожди, староста! — опять хрипло рявкнул усатый начальник. — Антимонию разводишь. Тут у вас все кулугуры: они все скрытые враги и обманщики. Их проучить надо, подлецов, мошенников. Сейчас на лошадях поедут урядники с сотскими по всему селу, чтобы не укрыли скот и домашние вещи. На каждый десяток домов назначить людей, и будем отбирать по списку. С молотка, на площади, у церкви… черт их раздери! Писарь, читай список!
Безбородый, криворотый, с длинными верхними зубами грызуна, писарь начал читать фамилии недоимщиков.
Я услышал имена Юлёнкова, Калягакова, Ларпвона… Писарь читал долго и называл сумму недоимки. На дедушке тоже числилось несколько рублей.
Около избы Ваньки Юлёнкова закликала, завопила Акул-шг., жена Ваньки. Где-то неподалеку истошно закричала другая баба, еще дальше — третья. Этот бабий визг стал перекатываться волнами и далеко к близко. Толпа глухо заворчала, мужики стали одурело оглядываться. Даже парнишки застыли на месте, не понимая, что случилось. По деревне лаяли встревоженные собаки. Густая толпа мужиков в затасканных, заплатанных полушубках заворошилась, заволновалась, загудела, несколько надорванных голосов закричало с отчаянием и злобой. Казалось, что эта туго сбитая толпа рванется к начальнику, к урядникам, к Пантелею и начнет молотить их палками и кольями. Но хриплый голос начальника опять оборвал эти крики:
— Молчать, болваны! — И залаял матерной руганью. — Какие это сукины дети смеют орать? Подать их сюда! Что это за сброд, староста? Не умеешь держать их в руках?
Сыгней с любопытством смотрел на толпу, на полицейских и щурился от смеха.
— Эх, как этот барбос чешет! А буркалы-то… словно яйца катает. Ну, ребята, сейчас они начнут коров и овец со дворов выгонять, по сундукам лазить. Зато Митрию Стодневу да Пантелею лафа: скупят все, а потом за шиворот схватят мужиков… Тут толкуют, что это они сами состряпали. Титок, беги домой, скажи, чтобы бабы сарафаны прятали да чтоб самовар в снег закопали.
Тит, озираясь, с искаженным от трусливой злобы лицом, сполз с «выхода» и, оглядываясь, пошел вразвалку через дорогу к нашей избе. У нашего амбара стояли мать и Катя в курточках с длинными рукавами и кутались в шали. Мать прижимала к лицу конец шали и плакала, а Катя стояла угрюмая, с окаменевшим лицом и шевелила губами — что-то сердито говорила матери. Когда Тит прошел мимо них, кивнув на избу шапкой, они пошли вслед за ним, оглядываясь и прислушиваясь не то к тому, что происходит на сходе, не то к завыванию баб на деревне.
На дворе у Пантелея вдруг забрякали разноголосые колокольчики. Истошно закричали люди, что-то грохнулось и затрещало, залягались лошади, и из ворот бешено вырвалась тройка с пустыми санями и вихрем понеслась по улице.
Вслед за нею побежали два кучера, а за ними несколько мужиков. Толпа повернулась в сторону умчавшееся тройки, которая скрылась в облаках снега. Начальник заорал, замахал кулаками, и я увидел, как он начал бить по лицу нашего сотского, бывшего солдата, с саблей через плечо. Пантелей стоял без шапки, бледный и почтительно умолял его о чем-то. Тот обернулся к нему и ткнул его кулаком в бороду.
Пантелей пошатнулся и с плачущей улыбкой продолжал умолять его, кланяясь и прижимая руку к груди.
Незаметно к нам прибежал Кузярь и, захлебываясь от смеха, победоносно притопывая валенками, захвастал:
— Вот как подрали, ага! Как рванули, как хрястнули, думал — и мокренького от меня не останется. А они, черти, и не заметили… ямщики-то. Водку хлещут. Котенка-то я на репицу к шлее мотовязком привязал. Вцепился он в репицу-то когтями, тут коренник-то и заплясал — да на дыбы, да лягаться. Ух, и шарахнули! Брякнулись об столб, об другой… и как ветром вынесло.
Сыгней схватил Кузяря за шиворот и зашипел на него, вытаращив глаза:
— Ах ты, гнида!.. Сейчас же домой! Башки тебе не сносить… Видишь, что из-за тебя делается?
Кузярь вырвался, задрал шапку на затылок и нахально заиграл глазами.
— Попробуй-ка ты так сделать, левша! Я еще им не так сделаю… Ишь нагрянули с колокольчиками! Я и самому начальнику усищи сожгу.
И, приплясывая, забарабанил скороговоркой:
Было рыло у Кирилла Стала рваная хурда; Били рыло у Кирилла Благородны господа…И угрожающе показал мне и Семе кулак:
— Давайте семишник, а то окна побью.
Сема бросился за ним, но Кузярь кубарем скатился с «выхода» и исчез в толпе.
Начальник грозно отдал какие-то распоряжения. Урядники и староста с сотским окружили его и пошли во двор.
Толпа стала расходиться в разные стороны, а многие мужики побежали домой, забыв надеть шапки. Из ворот с малиновым звоном выехали тройки: две промчались в одну сторону, а одна — в другую. Отдельно, на четвертой тройке, сидел начальник. Пантелей пристроился рядом с ним неудобно, бочком. Они пересекли улицу и скрылись за кладовыми Митрия Степаныча. Урядник с саблей на боку и двое мужиков прошли вдоль избы Пантелея к Ваньке Юлёнкову, а другой урядник, тоже с двумя мужиками, направился через дорогу на наш порядок. Сыгней с испуганным лицом пошел вслед за ними.
Мы с Семой скользнули с холмика «выхода» и бегом пустились через улицу к амбарчикам — домой. Но в эту минуту на дворе у Юлёнкова опять завыла Акулина. Из ворот выбежали три черные овцы, а за ними мужик гнал хворостиной костлявую пеструю корову. За ее рога хваталась Лкулина и, падая, плакала навзрыд. Она давно лежала больная в постели, а сейчас выползла и, волочась рядом с коровой, впивалась пальцами в рога и причитала:
— Не отдам! Батюшки мои! Коровушка моя! Кормилица! Не отдам! Не предавайте смерти! Чего же делать-то будем? Пропадем, сгибнем… Пожалейте, Христа ради!
Урядник оторвал ее руки от рогов и, свирепо ругаясь, отбросил ее от себя на снег. Акулина свернулась в комок и завыла, а потом встала на колени и протянула руки к корове. Попробовала встать, но опять упала, уткнувшись головой в снег. Сам Ванька, без шапки, с искаженным от бешенства и ужаса лицом, в распахнутой шубенке, тащил за хвое г корову назад и визжал плаксиво и яростно:
— Хвост ей вырву… а не дам! Сдыхать мне, что ли?
Сволочи! Разбойники!
Он бросил хвост, одурело подбежал к мужику, который подгонял корову хворостиной, и ударил его по лицу.
— Убью! Горло перегрызу! Грабители!
Обезумевший, он подскочил к уряднику, но тот обернулся и с размаху ударил его в грудь.
Почудилось, что всюду заорали мужики, и началась свалка.
XIX
У нового пятистенного дома Митрия Степаныча стояла тройка, позванивая целым набором колокольчиков под дугой. Кучер в тулупе, с красными вожжами в руках сидел на облучке. Начальник и староста, должно быть, пошли в гости к Стодневу. А у ворот Сереги Каляганова стоял урядник, поддерживая левой рукой саблю, и строго покрикивал.
Перед ним на снегу стоял медный самовар в зеленых пятнах и лежала на боку старенькая прялка. Из ворот неохотно шла костлявая рыжая корова. Агафья не кричала, молчал и Серега, словно их и дома не было. Но когда двое мужиков выгоняли на улицу к уряднику корову, Серега неторопливо и как будто равнодушно вышел из ворот с топором в руке и быстрым взмахом ударил ее обухом по лбу. Корова глухо замычала, зашаталась, упала на колени, грохнулась на бок и судорожно забила ногами.
— Ты что это делаешь, каналья? — заорал на Серегу урядник и схватил его за грудки. — Душу выдавлю, прохвост!
Серега без труда оторвал его руку, отбросил от себя.
— Ты не шути со мной, урядник, ежели жизнь дорога.
Урядник отшатнулся от него и дрожащей рукой начал вынимать саблю. — А Серега с угрожающей насмешкой предупредил его:
— Ты своей жестянкой со мной не играй, полиция!
Он так же спокойно взмахнул топором и ударил по самовару, и самовар сразу весь сморщился и стал похож на корытце. А Серега походя растоптал и прялку и, не оглядываясь, зашагал обратно во двор.
Урядник растерялся: то он бросался вслед за Серегой, то возвращался и свирепо ругал мужиков. Мужики почесывали головы и ухмылялись в бороды.
Хватаясь за саблю, он опять кинулся вслед за Серегой, но вдруг остановился и погрозил ему кулаком.
— Арестую мерзавца, в тюрьме сгною.
Серега повернулся к нему с топором в руках. Урядник, стараясь не терять достоинства, оглядываясь, торопливо побежал к дому Стоднева. Серега затрясся от хохота, выпятив красную бороду, но злоба его не угасла. Мужики робко отошли в сторону и трусливо посматривали на Каляганова. Он погрозил им топором.
— Эх вы, олухи, дураки еловые! Своего брата мужика… дуботолы!
Переминаясь с ноги на ногу, один из них, с бородой мочалкой, виновато забормотал:
— Да ведь… наше-то дело какое, голова? Рази ослушаешься? Сам посуди. Наше дело подневольное. Ты сам-то как бы?..
Я ни разу не видел в селе этих мужиков: должно быть, их привезли из волости.
На высокое крыльцо дома Стоднева вышел пристав.
— Взять его, негодяя!.. Ар-рестовать!.. Посадить в жигулевку и жрать не давать!.. Я с ним потом поговорю…
Двое урядников сбежали с крыльца и вытянулись перед приставом.
— Взять сию же минуту! Ур-рядники, скр-рутить ему руки веревками!
— Ваш блаородие, — выступил на шаг вперед усатый урядник, — разрешите.
— Ну-у? Рразговаривать?
— Ваш бла-ородие, ежели он воспротивление окажет?
Он, как жеребец, сильный.
— Что? Какой же ты унтер-офицер, ежели с мужиком не можешь справиться? Кто ты — полиция или баба? Марш!
Серега шел к ним с веревкой в руке и с усмешкой пробасил:
— Не бойся, урядник! На, бери веревку-то. Вяжи!
Он швырнул веревку на снег, а сам повернулся к уряднику спиной, заложив руки назад. Урядники подбежали к нему и стали связывать его руки. Пристав разгладил свои бакены и ударил кулаком по перилам.
— Ага, мерзавец, одурел от перепуга? То-то же! Вяжи его круче, а в жигулевке скрутите ему и ноги!
Каляганов усмехнулся, как человек, для которого теперь уже все кончено и бояться ему нечего.
— А ведь это не я, вашбродь, трусу-ту верую, а твои урядники. Он вон, усатый-то таракан, к тебе жаловаться побег. Да и ты вот боишься меня: велишь ноги крутить.
Да ежели бы я захотел, так я всех вас разбросал бы, как ягнят.
Пристав вытаращил глаза, опять стукнул кулаком о перила и вдруг неожиданно хрипло захохотал.
— Ах ты, разбойник стоеросовый! Верно! Хоть ты и негодяй, н-но… молодец. Вожжи отставить! Он и сам пойдет в жигулевку. Ведите его!
Кяляганов, не переставая усмехаться, пошел впереди урядников.
К нам тоже пришел сотский, высокий мужик в шубе, с саблей через плечо, в новых валенках — Гришка Шустов, который жил на той стороне. Он тоже бывший солдат. Служил он в сотских несколько лет и за эти годы построил себе новую избу и справил две лошади. О нем говорили, что он ловко насобачился выжимать «хабару» из мужиков. Он отвел в сторону отца и о чем-то пошептался с ним. Отец, довольный, повеселевший, торопливо скрылся в избе. После этого к нам никто не заходил.
По селу выли бабы, лаяли собаки, надсадно кричали мужики. По луке к церкви гнали овец, провели несколько коров, потом привезли два воза какого-то добра. Мимо нашей избы к церкви браво прошагал пристав. По одну сторону почтительно, но с достоинством шел Митрий Степаныч в бекешке, в каракулевой шапке и в своих высоких валенках с крапинками, а по другую шагал вперевалку Пантелей.
Весь этот день был угарный от страха и ожидания бед.
Никто из взрослых не выходил из избы, говорили вполголоса и прислушивались к окнам и к двери. Только дед, с палкой в руках, уходил куда-то и долго не возвращался. Бабушка стонала, вытирая запоном глаза, и причитала:
— Беда-то какая пришла, господи! Народ-то обидели.
Скотинку отняли у неких… Что они будут делать-то теперь?
Ложись да умирай. Съест бедность-то. Так же вот года три тому будет… нагрянули, как воронье… погнали, потащили… в коробьях хурду-мурду перерыли. А весной люди-то стали падать, как мухи, что ни день — то покойник. Мякину ели, корни рыли. От брюха и умирали. А детишек тогда как метлой вымело. Лошадей хоть и не брали, а для мужика и лошадь тогда в тягость была — нечем кормить-то. Все плетни и прясла изгрызли. И дохли. Вот и сейчас то же будет. Куда же дедушка-то ушел? Все сердце изболелось. Как бы беды какой не случилось. Спаси, господи, и помилуй!
Вслед за дедом скрылся и отец, а потом и Сыгней, а Тит, молчаливый и замкнутый, пропадал во дворе, возился в клети, в «выходе», в амбаре и таинственно, с оглядкой шел в погребицу. Я уже знал, что он подбирал вещи и прятал их где-то в надстройке погреба. Он, как сорока, хватал всякую мелочь и тащил в свое, только ему известное место.
Я из любопытства подсматривал за ним, но он хватал меня за воротник шубенки и с испугом скареда выбрасывал из амбара или из погреба.
— Прочь отсюда! Волосы выдеру. Ишь нос сует, как воришка. Чего тебе надо?
Чтобы задобрить его, я шепотом обещал ему:
— А я много кое-чего нахожу. Хочешь, я тебе приносить буду? Гвозди, пуговицы, подковы… У меня и грош старинный есть.
У него вспыхивали жадностью всегда подозрительные глаза.
— Ты все тащи, не отдавай никому. Мне тащи и никому не говори. Когда женюсь, у меня уж свое хозяйство будет. И отделюсь. Приходи тогда, я тебя чаем поить буду. Отец-то твой на сторону хочет, а я свою избушку ухитаю. И буду жить-поживать, добра наживать.
И он счастливо смеялся, мечтая о каких-то своих радостях.
Сема сидел дома на чеботарском стульчике и делал грабли. Он был доволен, что один в избе, что никто ему не мешал, и с беззаботностью напевал фальшивым голоском какие-то песенки.
Матери не было весь день: она отпросилась к больной бабушке Наталье поухаживать за ней и побыть с ней, чтобы она не «обневедалась», ежели случится «несчастная статья»: вдруг нагрянут к ней «эти татары»… Катя часто убегала куда-то, оживленная, нетерпеливая, взмахивая длинным пустым рукавом, и кричала от двери:
— Я скоро приду, мамка! Погляжу, разузнаю, что у шабров делается.
А бабушка огорченно стонала в чулане:
— И помочь-то некому: все подолы подняли, разбежались. Корова-то не поёна, овцам-то надо бы корму дать.
Беды-то сколько наделали!
Я давал корму скотине и поил корову. Потом выбегал на задний двор и смотрел на заречную сторону. С гор по санным дорогам гнали овец и коровенок. За ними кучкой спускались бабы и визгливо плакали, и эти вопли были похожи на похоронные выкликания. Казалось, что на деревню спускалась какая-то угрюмая тень и избы присели, съежились и ослепли. Изба бабушки Натальи тоже как будто зарылась глубже в гору.
В ограде церкви бродили коровы и овцы, чернели кучи домашних вещей и толпились мужики и бабы. Я стоял у прясла и глядел на скотину, которая ворошилась за оградой, как в загоне, блеяла и мычала от голода, на мужиков без шапок и плачущих баб, сбитых в кучу у паперти. Мужики галдели, кто-то надрывно кричал. Опять что-то бубнил писарь и хрипло лаял пристав.
Цепкие холодные пальцы, тонкие и жесткие, схватили мое лицо и прилипли к глазам. Я сразу узнал Кузяря. Он умел подходить незаметно и внезапно.
— Кузярь-гвоздарь, тебя урядник искал — хотел в жигулевку посадить да выпороть.
Он быстро отнял руки и засмеялся.
— Черта с два! Я им еще покажу.
— А что ты сделаешь? Ты сейчас и носа не высунешь.
Коричневые его глазенки стали острыми, жгучими и отчаянно озорными. Было ясно, что он задумал что-то — Хочешь, докажу? Пойдем со мной.
Мы пролезли сквозь прясло, пробежали к моленной, потом к жигулевке, где сидел Каляганов. Кузярь не утерпел и воткнул лицо в окошечко.
— Дядя Серега, не робей! Митрий Степаныч за тебя горой. Я сам слышал у церкви был.
Злой голос Каляганова прогудел глухо:
— Зря, значит, я веревку-то оставил: удавит он меня-, ежели горой за меня. Ему изба моя нужна да двор.
— А я, дядя Серега, уж кутерьму устроил: тройку-то я угнал. И сейчас кавардак чебурахну.
Каляганов хрипло засмеялся и закашлял.
— Качай невзначай, Ваня, и не будь дураком — не поддавайся.
— Черта с два: пой песни, дядя Серега.
Серега опять засмеялся.
— Пой песни, да не тресни.
Мы перебежали к пожарной и с задней стороны подкрались к церковной ограде. На нас с любопытством и настороженностью уставились морды овец и голодных коров Кузярь вынул из валенка палку, ловко отворотил гнилой плинтус в ограде и выдернул несколько дощечек из решетки.
Когда дыра стала широкой, он поманил овец, протягивая им кусок хлеба:
— Бараша, бараша!.. Тпруся, тпруся!.
И засмеялся.
— Видал? Сейчас вся скотина из ограды попрет. Разом по селу разбежится.
Не успели мы добежать до сарая пожарной, как овцы ринулись в дыру ограды, за ними помчались и другие, которые бродили вокруг церкви. Ограда под напором овец стала разлетаться гнилой щепой, а потом грохнуло целое звено. Два теленка, один рыжий, а другой пестрый, подняли хвосты и побежали за овцами. Медленно шагали четыре коровы: одна, черно-бурая, шла к нам, три другие спускались под гору, к речке. Люди забегали и замахали руками. А мы быстро проползли по глубокой дорожке в снегу к нашему пряслу и юркнули в кучки раскиданной соломы. Мужики гонялись за овцами, телятами и коровами, а те убегали от них во все лопатки. Мы хохотали с Кузярем и от удовольствия дрыгали ногами.
От церкви по луке шли к нашему порядку мужики. Еще издали я увидел деда, а позади него, скосив голову к плечу, шагал отец с Филаретом и Сыгнеем, и видно было издали, как они смеялись.
Мы бегом помчались во двор. Кузярь махнул мне рукой и выскочил за ворота. Но порывисто остановился и, озираясь, приложил ладони рупором ко рту:
— А тройка-то ускакала совсем. Так и упорола с котенком. Черта с два его сбросишь, — привязанный. До самых Выселок… десять верст, как ветер, летела…
Я не успел спросить его, откуда он это знает: Кузярь уже махал валенками далеко и быстро скрылся за кладовой Стоднева.
Я вошел в избу, разделся и залез на печь. Катя стояла в дверях чулана и говорила торопливо и возбужденно, двигая лопатками. Ни она, ни бабушка меня не заметили.
Семы в избе уже не было.
— Ой, мамка, чего делается!.. Ваньку Юленкова избили в кровь… А он ревмя ревет. Акулину на руках в избу внесли… Ничего-то у них не осталось. Тут тетка Паруша подошла, растолкала и сотских и мужиков и орет: «Ах, чтоб вас разорвало! Вы чего это над мужиком-то издеваетесь? Обездолили, бает, да еще терзаете. Прочь отселева!» Да с падогом на них.
— Ох, давно-о я ее знаю!.. — Голос бабушки помолодел при воспоминании о прошлом. — Еще в девках мы с ней водились. Уж такая была озорница да карахтерная — парни ее боялись. Первая плясунья была. А когда на барский ее взяли, в девичью, сторонние баре приезжали любоваться ею и всё купить ее хотели. А наш барин смеялся и покрикивал:
«Эта девка — богатырь. Я ей мужика найду под стать. Они наплодят мне таких мужиков, кои будут целыми копнами ворочать…» А мужика-то ей за провинность маленького дали. Она его, для смеху, на руках носила.
И бабушка засмеялась, но и смех ее был похож на стон.
— Да будет тебе, мамка! — оборвала ее Катя, но сама засмеялась. — Он, старичишка-то ее, и умер как-то не по-людски: поехал на гумно и замерз.
В избу вошел дед, а за ним отец. Выдирая лед из усов и бороды, дедушка щерился от усмешки.
— Смеху что было! Согнали скотину-то, а она проломила ограду — и наутек. Много ли гнилью надо-то! Сперва и не заметили. Тут пристав с Митрием да с Пантелеем торги да переторжки устроили. Бабы плачут, мужики в ноги кланяются, а скотина-то — хвосты на спину. Смеху что было!
Отец посмеивался в бороду и в тон деду подсказал:
— А как пристав-то… кулаками на каждого. А Митрий Степаныч успокоил его: «Мы, бает, всё по списку соберем.
Пожалуйте ко мне обедать».
«Никто не видал. Вот так мы!» — подумал я и почувствовал себя на несколько лет старше.
Я уже ничего не боялся и осмелел, свешивая голову с веретья над задорогой. Кузярь мне показался теперь умнее и сильнее самого пристава.
— А где ребятишки-то? — благодушно спросил дед — Все разбежались…
— А я-то? Чай, я здесь… — задорно крикнул я и засмеялся, довольный, что меня никто не заметил.
— Да ты когда это прибежал-то? — удивленно крикнула Катя. — Мы тут с бабушкой беспокоимся: где, где он? А ты уж на печи.
— А я, бай, попадет кому под руку парнишка-то, побьют еще, — простонала бабушка. — А он на печи с тараканами.
И голосу не подает.
— А я все видел, — похвалился я. — Сейчас только пришел.
— Мать-то к баушке Наталье пошла, — плоха стала баушка-то.
Отец присел к краю стола и принялся тереть ладонями глаза. Я уже знал, что тер он глаза в присутствии деда, чтобы не встречаться с ним взглядом. Вдруг он засмеялся.
— Володимирыч-то чего отчубучил, батюшка… Перед приставом вытянулся по-солдатски и как топором отрубил:
«Разрешите, вашбродь, купить мне коровенку Юлёнковых.
Сколько положите — внесу сей минут». А пристав на него — как пес- «Гав, гав, кто такой? Зачем тебе коровенка?» — «Для хозяйства, вашбродь. Я солдат. Георгиевский крест имею, с турком воевал». — «Ага, герой, бает, честь отдаю георгиевскому кавалеру. Вынимай пятишну и бери».
Дед лег на лавку, положил голову на колени бабушки и блаженно закрыл глаза, когда она начала деревянной гребенкой и пальцами перебирать его волосы.
— Он хоть и табашник, и бродяга, и еретик, а человек хороший. Я его сколь годов знаю. Ты, Васька, зло свое из головы выкинь. Проучил он тебя, и ежели что — опять в дураках будешь.
Отец молча и угрюмо встал, снял шубу со стены и, накинув ее на плечи, вышел из избы.
— Отпустил бы ты его на сторону, отец. Едоков много, а земли-то на одну борозду.
Но дед уже храпел, сотрясая воздух, и чудилось, что от его храпа дрожали и стена и печь, а тараканы испуганно разбегались в разные стороны.
XX
Коровенку свою Юлёнков опять загнал в хлев, а вечером, когда все мы сидели за столом и ужинали, он пришел к нам и, крутя головой, бормотал сквозь смех:
— Ввалился в избу-то… слезами весь изошел… а мою пестравку, гляжу, швец за рога тащит. «Ваня, кричит, получай свою скотину! Чуть, бает, по дороге не сдохла. Накорми, напои ее!» А баба лежит и стонет: «Иди, в ноги Володимирычу поклонись!» Выбежал я и брык ему в ноги.
А потом зло взяло, ору: «За то, что корову привел, сто раз в ноги поклонюсь. А за то, что обохалил меня, зубы тебе выбью. Нищим ты меня сделал, милостыньку подал, без ножа зарезал. Теперь каждый пальцем будет в меня тыкать.
«Нищий, нищий! Коровий пасынок!»
Дед вскинул на него жесткие глаза и пошевелил бровями.
— А я на месте Володимирыча схватил бы тебя за вихры да заставил бы себе валенки целовать. Чего бы ты сейчас без коровы стал делать? Помер бы со своей Акулиной-то…
Ванька заерзал, вскочил с лавки, закричал и замахал руками:
— Да ведь, дядя Фома! Чай, честь-то дороже денег. Доброе-то имя слаще коровьего вымя. Хоть бы тебе доведись — заплакал бы от обиды. А я надел имею, хозяин.
— Надел!.. Корове на хвост надел…
Сыгней весело съязвил:
— У тебя, Ваня, честь-то семишник стоит. Это про тебя, что ли, песня поется?
Сидел Ваня на диване, Чай с лимоном распивал…Ванька заиграл локтями, заломался, выставил одну ногу, потом другую и хвастливо залопотал:
— Швеца-то я вмиг поразил. Видит, не купишь Юлёнкова. Хлоп-хлоп глазами-то, вошел в избу к Акулине. Со мной-то ему стыдно калякать, совсем я его сконфузил. Подходит к бабе и бормочет: «Корову-то, бат, я тебе, Акулина, выкупил. Храни ее. А на твоего дурака глядеть мне мочи нет». Вот как я его подшиб. А что с бабы взять: сползла на пол да ноги ему обнимает. Кричит дура: «Век буду за тебя бога молить, спасет тебя господь от бед и напастей». А он поднял ее, как курицу, — высохла вся, — и на кровать положил. «И чего, бат, ты, Акулина, жизнь свою с этим дураком загубила? Эх, баба наша русская!» Выбежал я за ним, а он слезы вытирает.
Бабушка перекрестилась и вздохнула.
— Человек-то какой… Господи!.. Сам-то пропадает в нечистой вере…
Ванька вдруг обмяк, пошел к двери и прислонился спиной к косяку.
— Бедность заела, шабры… хоть ложись да помирай…
Акулина-то от голоду с душой расстается. Куска хлеба нет.
Да и корова сдохнет.
Он махнул рукой и вышел, забыв надеть шапку.
Отец сидел и угрюмо молчал. Он как будто совсем не слушал Юлёнкова: он презирал его и пренебрегал им. Но видно было, что болтовня Ваньки растревожила его.
— И кому добро сделал — дураку беспутному! — ворчал дед. — Пять целковых выложил!
— Чай, не Ваньку он, а бабу пожалел, — недужным голосом пояснила бабушка. — Акулина-то всю жизнь промаялась с ним, непутевым. Господь привел, хоть сторонний человек ее приветил.
Мать сидела с краю скамьи, рядом со мной, и вздрагивала.
Дед поучительно рассуждал:
— Добро надо с расчетом делать, по-хозяйски. Добро прибыль любит. А какой толк добро на ветер сеять? Толкуешь: Акулина, Акулина… Она в гроб глядит, Акулина-то У нее и дети-то все сгинули.
— А баба-то была какая умная да рачительная, Акулина-то! — соболезновала бабушка. — Хоть и чеверелый был Ванька-то да ветрогон, а бабу-то в чахотку вогнал. Пока она с ним возилась, — а уж чахла, — детишки от брюшка да от горлышка умерли. Все прахом пошло.
Отец угрюмо заключил:
— Не впутывался бы не в свои дела Володимирыч-то.
От большого ума лохмотья да сума, а барыша ни шиша.
В любой избе свой домовой. Ванька Юлёнков хоть дурак, а своим норовом живет.
Дед покосился на отца и сердито сдвинул брови.
— То-то вы с Ванькой за норов свой боками платитесь.
В избу неуклюже ввалился дядя Ларивон. Он положил три поклона, странно болтая лохматой головой. Борода у него заправлена была за воротник шубы — значит, он был трезвый.
— Здорово живете! — пропел он и стал срывать сосульки с усов. — Не обессудьте за поздний час: пришел к сватьям да к шурину с сестрицей потужить да порадоваться…
Ни дед, ни отец не любили его и гнушались им, как бражником и своенравным мужиком. Отец ни разу со дня женитьбы не гостевал у него, и я не помню, чтобы он посетил когда-нибудь бабушку Наталью. Но Ларивон не обижался на него и как будто не замечал отчуждения отца: он приходил к нам по праздникам один, без Татьяны, которую не выпускал из дому, как дурочку.
Ларивон беспечно распахнул полушубок, вытащил бороду и раза два ударил по ней, встряхивая ее, как куделю.
— Меня, сват, бог миловал: я сполна уплатил. Получил за Машку кладку с Максима двенадцать целковых и все до копеечки погасил. Машка-то на три чети в недоимки ушла Ежели бы я ее с барского двора не притащил, всю бы мою скотину — полтора одра — угнали бы. А завтра ее под венец повезут. В церкву, с попом, чтобы клин вбить. Вот и с докукой к вам. — Он низко поклонился деду с бабушкой и всем остальным в обе стороны. — Не побрезгуйте на свадьбе погулять, чинно, благородно попраздновать. А тебя, сестрица Настенька, прошу Машу проводить, повопить да потешиться. Василию Фомичу, дружку, после свата Фомы да свахи Анны, особый почет.
— Какая тут свадьба, шутолом ты эдакий, когда люди обездолены! В избах стон стоит, словно везде покойники…
— А я нарочно так, сват Фома. По всей деревне поезд прокачу, с колокольчиками, с платками у дуги. В слезах горе не утопишь, только во хмелю горе пляшет да песенки поет.
Катя подзадорила Ларивона:
— Да чего ты раньше сроку Машухой-то распоряжаешься? Она скорей убежит аль удавится, а за Фильку не пойдет.
Ларивон с жутким спокойствием и бешенством в глазах ответил ей тихо и ласково:
— Катенька, девынька дорогая, вас ведь надо обьезжать, как молодых кобылок: обхомутать да в оглобли. На всю жизнь смирные будете.
Ларивон очень похож был и лицом и волосами на иконного Ивана Крестителя. Вероятно, Креститель был такой же неукротимый и сильный мужик, с такими же бешеными глазами в минуты гнева и с бабьей нежностью в момент чувствительной кротости. В Ларивоне все было неустойчиво и противоречиво. Вот он держит на коленях своих детей, целует и ласкает их, певуче говорит им нежные слова. Дети играют, тычутся в его широкую грудь, запутываются ручонками в его бороде, и он смеется и становится мягким и добрым. Он кличет жену:
— Танюшка, милая, поди-ка сюда, матушка, погляди-ка, дети-то какие у нас золотые.
И ее начинает ласкать и миловать со слезами на глазах.
Но выйдет во двор, увидит, что голодная лошадь грызет колоду, мгновенно звереет и начинает колотить ее чем попало. Он готов был отдать последний кусок хлеба, скотину, зерно любому соседу, но выбивал у них стекла, когда бесился. Во мне он возбуждал тоже странные чувства: я любил его, как добряка, и боялся, как разбойника. В семье у нас опасались его.
Так и в этот раз мы оторопело смотрели на него и ждали, что он ошарашит всех внезапным озорством. Но он вдруг подхватил меня под мышки и вскинул к потолку.
— Вот он, племяшок мой родной! Чуть не зарезал меня у баушки Натальи. И — к домовому: помогай, бает, дедушка домовой! Парнишка мой милый! Цены тебе нет! Прямо сразил меня, дурака.
Он вдавил мое лицо в свою бороду и стал целовать меня в голову и в щеки. Потом поставил на пол и больше уже не обращал на меня внимания.
— После свадьбы в извоз поеду, сват Фома. Прими меня, Вася. А весной посеюсь и уйду на Волгу пешком. В селе мне делать нечего. Баржи буду грузить али на Каспии невод тянуть. Работу бы мне, как быку. Нет мне здесь раздолья, И все перед ним казались маленькими, испуганными, придавленными. Даже дед кряхтел и опасливо косился на него. Мать так и не сказала ему ни одного слова, уткнувшись головой в мочку кудели на гребне. И только едва слышно ответила ему на вопрос, придет ли она завтра на свадьбу:
— Как батюшка да матушка… Как Фомич велит.
Только Катя враждебно крикнула:
— Не ходи, невестка! Сват Ларивон пропил Машуркую, а ты ее с петлей на шее поведешь да плясать будешь.
— Ну, ты… кобыла чала! — прикрикнул на нее дедушка — Не завидуй: и на тебя эту петлю накинут, дай срок.
Катя с досадой дернула плечом и с насмешкой спросила.
— Где же сейчас Машарка-то, сват Ларивон? Уж не к столбу ли ты ее привязал?
Ларивон добродушно похвалился:
— А я ее, Катенька, в клеть на замок запер. Там морозно, так ей шубу да тулуп бросил.
А утром зазвенели за окном колокольчики. Мы бросились к окнам и сквозь мутные пятна проталин увидели двое саней. У коренников под дугой блестели по три колокольчика, a у пристяжек хвосты завязаны были тугими узлами. На передних санях сидел Ларивон и какая-то баба в цветной шали, а между ними — Маша с мертвым лицом, очень похожая на Ларивона. Оба держали ее под руки. На вторых санях плотной кучей сидели девки, болтая валенками.
Мать долго не отрывалась от окна и плакала. Слезы текли по ее щекам, и она не вытирала их. Лицо ее застыло в скорбной покорности. И мне было непонятно, почему она так горестно плачет, когда сама у бабушки Натальи настаивала, чтобы выдать Машу за Фильку Сусина. Многие годы мучил меня этот вопрос, и только потом, когда пришлось пережить много испытаний и перемучиться тяжелой судьбой матери, я постиг, что мать плакала не только над загубленной молодостью Маши, но оплакивала и свою горестную жизнь. А Маша сейчас даже к окну не повернулась: сестра стала для нее смертельным врагом.
Попа привезли из Ключей, и он в нетопленной и промороженной церкви, с епитрахилью на шубе, быстро окрутил молодых, несмотря на то что Маша кричала на всю церковь.
Дня через два Маша убежала от Фильки. Максим со старостой Пантелеем, с сотским и Филькой бросились к Ларивону, но там ее не нашли, у бабушки Натальи тоже ее не было. Ходили и на барский двор, но барыня строго отчитала их: как они смели явиться сюда, как смели подумать, что Маша скрывается здесь! Если бы она пришла сюда, ее немедленно отправили бы в дом мужа.
Отыскали Машу через сутки у горбатой бобылки Казачихи. Спряталась она в амбарушке, в пустой бочке, под рухлядью. Староста проводил Казачиху с сотским в жигулевку На шею Маши надели вожжи, и Максим повел ее по всей длинной улице домой, а Фильку заставил подгонять ее хворостиной. Пантелей проводил их до своей избы и свернул в ворота. Толпа баб, парней и ребятишек провожала их до самого дома.
Мне было жаль Машу, и я плакал о ней, притаившись где-нибудь в глубине двора, а по ночам просыпался от кошмаров. Бабушка прижимала меня к себе и ласково стонала:
— А ты перекстись! Это домовой тебя давит. Сотвори молитву.
Дрожа от страха, я спрашивал ее:
— Зачем ее насильно отдали?.. Как она живет-то… у чужих-то?
Бабушка успокаивала меня, как маленького:
— Ну, чего ты, дурачок, томишься? Чай, всех так девок-то отдают. Поживут и привыкнут. Так уже от века ведется.
Так уж бог установил.
— Вот ты говоришь, что бог милостивый и любит всех, а зачем он людей мучает?
— Что ты, что ты, греховодник! Рази можно так про бога? Услышит отец или дедушка — не знай что будет, — А бог-то разве сам не слышит?
— Молчи, болтун!.. Греха с тобой не оберешься… Какой бес тебя за язык тянет? Богохульников-то в аду беси за язык повесят. Вытащат язык-то клещами, прибьют к потолку — и веси веки вечные!
Эта угроза действует на меня неотразимо. Я живо представляю себе угарное подземелье, похожее на кузницу, и бесов с собачьими туловищами и с рогатыми башками, чумазых, красноглазых, мохнатых, расторопных. Они орут, хохочут, хватают меня клещами, такими, как у Потапа, больно ущемляют язык и поднимают меня к потолку. Там шуршат они крыльями, как у летучих мышей, тычут длинные ржавые гвозди в мой язык и машут молотками.
Я слышу их возню, хохот и шелест крыльев, чувствую их мохнатые и костлявые тела, которые пахнут псиной, и меня сковывает холодный страх.
XXI
В воскресенье после «моленного стояния» собирались на нашем дворе мои приятели — Кузярь и Няумка, а иногда несмело заходили двое парнишек дяди Ларивона — Микитьа и Степанка, оба белобрысые, с голодными лицами и испуганными глазами. Толкаясь плечами, они, в стареньких, заплатанных шубейках, жались друг к другу и, как нищие, смотрели на нас жалобно, словно ждали милостыньки. Мпкитка был на два года старше Степанки, но оба были одинакового роста и очень похожи друг на друга, как близнецы. Около моленной они боязливо подходили ко мне и ныли наперебой:
— Братка, аль ты брезгуешь нами?.. Мы, чай, двоюродные братья.
— Тятенька зовет тебя к нам поиграть. У нас нынче мамынька пирог с капустой испекла.
— А у нас гора-то высокая, выше вашей. Будем на салазках кататься.
Они не нравились мне: больно уж были жалкие. Улыбались они как-то не по-людски: закрывали ли по варежкой, и глазенки их туманились не то страхом, не то болью, а веки дрожали. Мне хотелось обнять их и встряхнуть, чтобы они громко засмеялись, но не решался: как бы они не заплакали. И я был рад, когда мать, нарядная, праздничная, возвращалась с Катей и бабушкой из моленной и приветливо вскрикивала:
— А-а, Микитонька, Степашенька! Идите ко мне. В избу пойдемте, — я вас горячими лепешечками с молочком попотчую. Чего это мамынька-то в моленную не пришла?
Парнишки жались друг к другу и, застенчиво улыбаясь, шли ел навстречу, счастливые от ее ласки.
— Мамынька-то лежит, тетенька Настя, хворает. У нас землю барин отобрал…
Однажды Кузярь и Наумка пристали к Семе, чтобы он показал им свою мельницу.
Пока Сема ходил за мельницей, Кузярь бросался то ко мне, то к Наумке и сшибал с нас шашек, чтобы разозлить.
Наумка почему-то сразу же свирепел и кидался на него с кулаками. От рябин лицо у него становилось пестрым. Но юркий Кузярь, озорно поблескивая глазами и зубами, подставлял ему ногу, и Наумка брякался на землю. Кузярь побеждал нас задиристостью и нахальством: неожиданно даст тумака, сорвет шапки, вцепится в шею. Ошарашенные, мы с Наумкой бешено бросались на него, как слепые. Он пользовался этой нашей безрассудностью, увиливал и орал.
— Эх вы, бойцы!.. Двое спроть одного, а сами ноги задираете. Вы оба-то ведь вдвое старше меня.
Я негодовал:
— Жулик ты!.. Из-за угла кидаешься… Обманом берешь.
А ну-ка, давай по-честному.
Наумка обиженно упрекал его:
— Таких, как ты, надо в жигуленку сажать. А то и… отлучать от согласия.
Кузярь приплясывал и скалил зубы.
— Эка, чем пугать вздумал! Мне самому осточертело с лестовкой дураком стоять да поклоны бить. Это только мне на руку, ежели бы меня отлучили. Я бы тогда чего хотел, то и делал. А про честность мне не толкуйте: надо уметь ловко драться. Вы по-дурацки деретесь — напролом, а я — фокусно да учетисто. Меня люди-то похвалят, а над вами смеяться будут.
Меня взорвало его бахвальство. Я сжал кулаки.
— А ну-ка покажи… покажи-ка сейчас…
Наумка сердито шагнул к нам.
— Вы, бараны, оба драны… Глаза бы на вас не глядели.
Разве так дружат?
К моему удивлению, Кузярь протянул мне руку и очень серьезно сказал:
— Хлопнем по рукам! Стоять друг за друга на всю жизнь!
Мы хлопнули ладонями и крепко сцепились пальцами.
— Разнимай, Наумка! — крикнули мы в один голос.
Наумка деловито разорвал наши руки и надул губы.
— А я-то? Чай, тоже с вами.
— Ты еще тюхтяй, — решительно ответил Кузярь. — Недогадливый. Обдурять не умеешь. Сперва помолись своему ангелю: пророк Наум, наставь на ум.
В этот раз мы были в мире и согласии, хотя Кузярю не терпелось выкинуть какой-нибудь фокус. Он сшибал мерзлые шевяхи и, бегая за ними, швырял их валенками в разные стороны.
Сема вынес свое сооружение, и мы побежали к нему, чтобы общими силами установить его на телеге, опрокинутой вверх осями под навесом. Сема поставил мельницу на дно телеги, снял крышу и вынул по частям толчею, потом насос. Как хозяин и строитель, он оттолкнул в стороны Кузяря и Наумку и с сосредоточенным лицом объявил:
— Издали глядите, не мешайте. Это не игрушка.
Он поставил рядом с мельницей брусок с вырезанными в ряд ямками, с двумя столбами по краям и вертикальными пестами над каждой ямкой. Наверху между столбами лежал валик с зубьями, вбитыми по винтовой линии. По другую сторону мельницы, у стены, быстро всунул в костыли длинную лутошку с выжженной сердцевиной. Потом пристроил коробку, похожую на скворечник, с коротким рычагом, а на рычаг надел другой — длинный рычаг. От коробки тянулась лунка для стока воды. Ребята с нетерпеливым любопытством вытягивали шеи и, пораженные, не могли оторваться от этой сложной постройки. Кузярь, сухопаренький, с недетскими морщинками на лбу и по углам рта, беспокойно извивался, и костлявенькие длинные пальцы его хватались за переплеты телеги и тянулись к толчее и к мельнице. А Наумка глупо смеялся, сопел и спрашивал недоверчиво:
— А на ней можно муку молоть? А ежели завозно будет.
Сема, как же управишься на одном поставе-то? А за помол да за толчею сколько будешь брать-то? Вон староста Пангелей четвертый гарнец берет. Это ты, Сема, скоро богатый будешь. Ну-ка, ведь из Ключей поедут.
Он не интересовался постройкой: его беспокоил размер побора, — каждый гарнец зерна для их семейства стоил большого труда, а хлеба им не хватало до урожая. Его отец, работящий мужик, с застывшим испугом в лице, всегда был занят по хозяйству, всегда возился и во дворе, и на гумне, и со скотиной. Зимой и весной он резал барана или бычка, ездил по окрестным селам и истошно зазывал покупателей. Старший сын, Иванка, батрачил у Митрия Стоднева, красиво переписывал ему какие-то книги на продажу и бессменно читал псалтырь в моленной.
Сема, как искусный мастер, завертел водяное колесо, и толчея заработала пестами: они поочередно подскакивали кверху и со стуком падали в ямки. Внутри мельницы зарокотали и запищали шестерни и защелкали колотушки над жерновом. Насос замахал рычагами. Сема не утерпел и радостно засмеялся. Он весь светился и волновался, наслаждаясь своим произведением. Кузярь вздрагивал и порывался потрогать беспокойными пальцами сооружение, но Сема отстранял его руки.
— Вот как я!.. — хвалился он, захлебываясь от счастья. — Я что хошь умею сделать… Я еще лодку сделаю с колесами- Архип Уколов меня настрочил… Сделаю лодку с колесами и буду на барском пруду кататься… Буду и колеса вертеть, и править… Все село сбежится — задивуются все…
Кузярь не отрывался от этого причудливого механизма и бормотал:
— Эх ты… ну и сделал! Сроду не видал. Вот бы мне.
Дай мне, Сема, покрутить.
И когда Сема разрешил ему крутить водяное колесо, он забыл обо всем и весь ушел в наблюдение за движением шестерней и рычагов.
А Наумка посоветовал Семе:
— Ты продай это, — ведь деньги… лафа. На барский двор отнеси аль Митрию Степанычу, — он в город отвезет. Ежели бы я умел так плотничать, я бы делал да продавал… И барашка бы сберегли, а мамкины холсты были бы в сундуке.
Сема исподлобья посмотрел на Наумку и сердито оттолкнул Кузяря.
— С вами, дураками, каши не сваришь. Чего вы понимаете? Для одного игрушка, для другого — только бы продать. А я за золото не отдам.
И он начал по частям снимать и толчею и насос и ставить внутри мельницы. Потом со своим сокровищем сердито пошел в избу.
— Ну, после этого ничего не мило, — разочарованно протянул Кузярь. Пойдем на салазках, что ли, кататься.
— Побежим чехардой на реку, где барчата на коньках катаются, предложил я, вспомнив, что в эти часы барские парнишки спускаются со своей горы на каток, который расчищается для них дворовыми.
Для нас встреча с ними всегда кончалась выгодой: они боялись нас и откупались огрызками карандашей, старыми перышками и семишниками. Мне интересно было встречаться с ними: они разговаривали на особом, не деревенском языке — певучем, легком, приятном. Кузярь очень ловко передразнивал их, и даже голос у него пел звонко и чисто. Он называл их язык «благородным».
— Все благородные ничего не делают, а только играют.
У них и разговор-то игрушечный.
Барчата относились ко мне, как к племяннику Маши, дружелюбно, хотя и с барским высокомерием, а Кузяря и Наумку старались не замечать. В общем, между нами, деревенскими парнишками, и ими, барчатами, шла скрытая война: для нас они были людьми другой породы — они были господа. И одевались не так, как мы: вместо овчинных полушубков носили суконные бекешечки с барашковыми воротиками, рукава и полы тоже были оторочены барашком Катались они в штиблетах, на сверкающих коньках. Спускались с высокого крутого обрыва и были недовольны, когда мы прибегали к ним. Встречали они нас окриком:
— Опять приплелись, черти чумазые! Кто вас просил?
Зы нам мешаете. Этот каток не для вас.
Кузярь храбро шагал по катку наперерез им и нахально отругивался:
— А река-то чья? Не ваша, а наша река. Мы здесь хозяевы.
— А кто расчищал снег и поливал водой? — орал старший барчонок Володя.
Он угрожающе подкатывал на коньках к Кузярю и с презрением щурился на него. Кузярь и тут не лез за словом в карман:
— Ну, и не вы. Вы тонконогие и сахарные. За вас работники чистили, наши же мужики.
— Да, но они же нам служат. Мы их кормим и деньги платим.
— А вы что делаете? Дрыхнете только до самого обеда.
А мы вот какую хошь работу делаем. А на мне все хозяйство.
Володя небрежно и гордо цедил сквозь зубы:
— Так и полагается. Не хочешь ли быть таким, как мы?
Дождешься на том свете. Можешь идти в свой хлев и спать вместе с баранами.
Такие перебранки веселили нас: нам хотелось озоровать, глумиться над ними и хохотать им в лицо.
На этот раз мы от нашего двора пробежали, прыгая друг через друга, по всему нашему порядку, слетели вниз по спуску, мимо парнишек и девчонок, которые катались на салазках и пронзительно визжали. Еще издали увидели мы барчат. Они катались на коньках по кругу, широко размахивая руками и стремительно наклоняясь вперед. Желтое солнышко сияло в радужном круге, а небо было покрыто инеем. Коньки барчат поблескивали мгновенными вспышками. Длинная стена обрыва была в пятнах снега и глинистых обвалах. А там, высоко, за ребрами обрыва, видны были длинные бурые хоромы с мезонином и густым хворостом голых деревьев перед окнами.
Так, разгоряченные, мы подбежали к катку. У Володи в руке была нагайка, жгучая, как змея, а у Саши — красивая рогатинка с острым железным наконечником. У Володи лицо было злое, и встретил он нас молча, делая вид, что не замечает нас. Саша, наоборот, смеялся, и на румяных от мороза щеках вздрагивали у него ямочки. В глазах его не было вражды, а задорно играло веселое ожидание.
Кузярь смело и независимо вошел в круг и заскользил на своих курносых валенках. Мне тоже хотелось озоровать и показать барчатам, что я не боюсь их, несмотря на то что Володя зловеще похлестывал нагайкой, а Саша вонзал рогатину в лед. Я с разбегу проехал по зеркальному льду на середину крута к Кузярю. Наумка остался на снегу и с завистью посматривал на нас, робко улыбаясь и вытирая варежкой нос.
Володя подскочил к нам, замысловато закружился и встал на острые концы коньков. Он щелкнул нагайкой по своей бекешке и властно приказал:
— Вам кто разрешает сюда ходить? Убирайтесь вон! Вы нам не пара.
Кузярь с невинным видом спросил дружелюбно:
— Аль уж на льду-то поиграть нельзя? Мы, чай, не мешаем вам. Звери мы, что ли?
— Мне собака милее, чем вы, — с брезгливой гримасой высокомерно ответил Володя, играя нагайкой. — А если я гоню — значит, вы здесь лишние.
Приплясывая, Кузярь с ехидной улыбочкой напомнил:
— Да ведь река-то ничья. Может, здесь и воздухом нельзя нам дышать?
Володя внушительно стукнул черенком нагайки по шапке Кузяря.
— Значит, нельзя. Долой отсюда, пока я вас не отхлестал.
Я не вытерпел и вырвал у него нагайку.
— Ну, ты не охальничай кургузкой-то! Думаешь, боимся тебя?
Володя бросился на меня и хотел ударить, но я замахал перед ним его нагайкой.
Саша подъехал ко мне на коньках и с гневным испугом закричал:
— Не смей, Федяшка! С ума сошел! Володька пожалуется папаше, и он выпорет тебя. А ты оставь, Володя. Знаешь, с кем имеешь дело?
— Я их, дураков, заставлю слушаться. Я на версту их не подпущу! Отдай нагайку!
Кузярь вырвал у меня нагайку и заскользил по льду, весело жвыкая ею. Володя с металлическим треском рванулся к нему на коньках. Саша с тревогой поехал за ними, подталкиваясь рогатинкой. Я тоже поскользил на помощь Кузярю. Он юрко увернулся от барчат и, жвыкая нагайкой, вызывающе засмеялся.
— Отдай плетку! — злился Володя, преследуя его. — Сашка, дай сюда рогатину, я его огрею по башке.
Но Саша отъехал в сторону.
— Не желаю. Рогатина не для того, чтобы бить по башкам. Ты такой же, как папа, — не помнишь себя.
— А я желаю его проучить. Он не понимает, идиот, что нечего ему соваться сюда своим рылом.
Он подлетел ко мне и крикнул:
— Ты какое имел право вырвать у меня плетку? Ну? На первый раз я тебя щажу, потому что ты храбро защищал Машу. Но за дерзость я все-таки должен тебя наказать. Отбери у этого негодяя нагайку и вручи ее мне.
Я тоже ненавидел этого зазнайку и посоветовал ему:
— Возьми да сам и отбирай. Эка, чем стращать захотел!
Сам зарвался, обругал нас, а сейчас трусу веруешь.
— Это я трус? Ты дурак.
— Ты сам дурак. Саша-то тебя умнее: тебя же совестит.
Он поскользнулся на коньках и взмахнул руками. Если бы я не поддержал его, он упал бы навзничь и больно расшиб голову. Он растерянно взглянул на меня и пробормотал:
— Спасибо за помощь. Я тебя прощаю.
— Прощать меня не за что. Чай, я не хуже тебя. Я ведь тоже книжки читаю.
Я подозвал Кузяря и велел ему отдать нагайку Володе.
Но Кузярь заартачился:
— Пускай он поборется со мной, тогда отдам.
Володя презрительно скривил рот.
— Еще чего захотел!
Саша с веселой готовностью предложил:
— Давай со мной бороться. Я с удовольствием.
Кузярь дружески улыбнулся ему.
— Нет, с тобой не буду. Мы с тобой не ругались. А он у меня в долгу.
Наумка, должно быть, не ждал ничего хорошего от нашей ссоры и побежал обратно.
— Один навозный герой уже удрал, — усмехнулся Володя. — Пора и вам обоим убираться. Хватит. Давай плетку.
Кузярь подмигнул мне и захлестал нагайкой перед Володей. Он дразнил его: вот, мол, твоя плетка-то, а не возьмешь.
— Нам идти некуда, — ухмыльнулся он. — Мы дома. Это вы забрались к нам на задний двор. Мы же вас не гоним.
Вон у себя на мельничном пруду каток-то и сделали бы. Вы у нас скотину за потраву угоняете и штрафы дерете. А я вот в залог взял нагайку. Ну-ка, попробуй отнять. Хоть ты и старше меня, а со мной не сладишь…
Я шепнул Саше на ухо:
— Чтобы драки не было, пускай выкупит. Кузярь-го страсть ловкий драться.
Саша встревожился и миролюбиво посоветовал Володе:
— У тебя, Володька, в шубе оловянный пистолетик с бумажными пистонами. Отдай его за нагайку.
— Молчи ты, трус! Он меня и пальцем не тронет, — не смеет! Он — мужик, а мы — дворяне.
— Ну, так что же? — серьезно возразил Саша. — Не забывай, как Митя доказывал, что крестьянин нисколько не хуже нас и часто бывает благороднее.
— Мне наплевать на Митю. Он студент. Нигилист. Папа уже сказал ему, что он урод в нашей семье.
Он неожиданно сшиб шапку с Кузяря, вцепился в нагайку и рванул к себе. Но Кузярь ловко выкрутил ее из его пальцев, и глаза его вспыхнули.
— Подними шапку!
— Дай, Сашка, рогатину! — яростно крикнул Володя. — Мне это надоело. Пора кончать комедию. Я его сейчас отлуплю… Я…
Но не договорил и кувыркнулся на лед.
Саша со слезами в голосе закричал:
— Володька, ты сам виноват. Довольно! Брось задирать — не показывай своего гонора. Помиритесь — и по домам!
Но Володька быстро вскочил на коньки и бросился на Кузяря. А Кузярь встретил его взмахом нагайки. Мы с Сашей кинулись к ним. Но Кузярь успел опять свалить Володю с ног, сорвать с него шапку и бросить ее далеко в снег.
Он сунул плетку в руку Саши, поднял свою шапку и с угрозой сказал:
— Больше сюда с кургузками не ходить! Да и рогатину незачем таскать. Мы к вам с миром пришли, а вы кнутом да рогатиной привечаете. Пойдем, Федяха! Они с собаками привыкли валандаться, а с людьми водиться у них ума нет.
Дворяны — морды поганы!
Я заметил, что Саше было стыдно за Володю, который с трудом поднимался со льда, — должно быть, ушибся.
Володя надорванно кричал нам вслед:
— Высекут тебя, мужик вонючий! Высекут! Обоих высекут!
Кузярь обернулся и дернул меня за рукав.
— Побежим к ним сразу вместе. Увидишь, как они лататы зададут.
В груди у меня забурлила дерзкая радость. Очень хотелось увидеть, как эти кичливые дворяне будут улепетывать от нас. Мы с разудалым криком ринулись на барчат. Они сорвались с места и замахали коньками, но — перед сугробом не успели затормозить, и оба ткнулись носами в снег.
Кузярь остановился и захохотал. Захохотал и я.
— Эй, дворяне! — победоносно заорал Кузярь. — Дворяне!.. Скоро вас запарят черти в бане!
Барчата удирали от нас не по тропе, а прямо по снегу, проваливаясь в него до колен.
Больше они на этом катке не появлялись, и мы с Кузярем ликовали. Там, наверху, в барских хоромах был враждебный нам мир. Оттуда мы не ждали ничего хорошего.
Кузярь тоже пристрастился к книжкам. Эту страсть разбудил в нем я. Как-то после моленной мы зашли к нам в избу, и я стал ему читать «Песню про купца Калашникова». Ему очень понравился запев «Песни»: «Ох, ты гой еси!..» И он несколько раз повторял его при встрече: «Ох, ты гой еси!» Но особенно захватил его кулачный бой Калашникова с Кирибеевичем. Он вскрикивал, смеялся, и у него горели глаза.
— Вот как здорово! Это похоже, как Володимирыч с твоим отцом дрался. У нас только ничего не вышло с Володькой-барчонком. А то бы я ему задал, как Калашников.
Кирибеевич тоже, чай, так же нос задирал, как Володька.
Должно, все дворяне хвальбишки. Ну-ка, как это?
Как сходилися, собиралися Удалые бойцы московские На Москву-реку, на кулачный бой…Из чулана вышла бабушка с ухватом в руке и слушала с удивленной улыбкой.
— Это чего вы бормочете-то? Эдакой песни-то я никогда и не слыхала. Гоже-то как! Где это ее поют-то? А на голосто как?
Я задыхался от радости: этой «Песней» я победил бабушку, — значит, книжку можно читать вслух всем, даже дедушка не будет ругаться и не вырвет ее из моих рук. Бабушка чутка была к песне и знала ее красоту. В этой «Песне» пели сами стихи, и когда я читал ее, то невольно распевал каждое слово. Бабушка вслушивалась в мой голос и рыхло подплывала к столу, словно песня манила ее, и она подчинялась ее напевному ритму.
Мы не заметили, как вошли мать с Катей. Увидел я их только тогда, когда мать вскрикнула, как от боли, а Катя изумленно, с надломом в голосе, сказала:
— Да откуда ты выкопал это, Федя? Вот чудо-то!..
Кузярь, прижимаясь ко мне плечом, впивался в строчки книжки и не мог оторваться. Он плачущим голосом крикнул:
— Да не мешайте вы, Христа ради! Дай, я читать буду.
А бабушка со стонами и вздохами вспоминала:
— На гуслях-то и у нас играли… Мой батюшка-покойник в барских покоях играл и песни пел… Заслушаешься…
Ну, а эдакую песню не пел.
— Баушка Анна, — с жалобным возмущением просил Кузярь, — ты слушай, а не бай. Эту песню-то сто раз слушай — не наслушаешься.
Мать торопливо и страстно лепетала:
— Спрятать надо, а то дедушка изорвет. В сундук спрячу. А когда его нет, слушать будем.
Но бабушка обиженно простонала:
— Дедушка-то, чай, только побалушки не любит… Грех побалушки-то читать. Сказки — складки, а песня — быль…
Я сама дедушку уговорю послушать-то.
И действительно — я укротил и дедушку. Вечером я сидел за столом, под лампой, и читал нараспев эту «Песню», и все слушали ее как божественное чтение. С тех пор я уже не боялся читать и при дедушке. Отец узаконил мое чтение словами:
— Чтение не баловство, а для души. Митрий Степаныч сказал, что читать и гражданскую печать — душеспасительное дело. Кажда буква, бает, искра во тьме и польза для ума.
На этот раз дед не прикрикнул на отца. Он сидел на краю стола и гладил бороду. Он был неграмотный, и печать для него была силой таинственной и неотразимой.
XXII
Недалеко от церкви, на взгорбочке, стояла круглая, широкая, с низкими плетневыми стенками дранка. Там обдирали просо и гречиху. Часто ворота дранки открывались, и в черную дыру вводили пару лошадей. Около дранки стояли дровни, и мужики таскали на спине тугие мешки с крупой.
В снежной тишине растекался шелест, хруст, похожий на шорох соломы. Меня всегда тянула к себе эта дранка своей таинственной работой внутри. Один я не отваживался ходить туда: меня пугала черная пустота открытых ворот, чужие мужики и лохматые собаки, которые рычали друг на друга и постоянно дрались.
Однажды я набрался храбрости и, в сопровождении Кутки, сделал попытку подойти поближе к дранке. Но как только Кутка навастривала уши, мурзилась и повизгивала, зорко поглядывая на собак, я останавливался. Недалеко от дранки, за амбарами и кладовыми, через улицу стояла изба Максима Сусина с высоким коньком и резными ставнями.
Я думал, что, если мне удастся добраться до дранки и мужики приветят меня и отгонят собак, я посмотрю, как в дранке лошади крутят круг, а потом пробегу к избе Сусиных, чтобы увидеть тетю Машу.
От церкви по санной дороге шел наперерез мне Луконяслепой с палочкой в руке. Лицо его, очень рябое, с желтым пушком на щеках, было поднято кверху и улыбалось. Эта улыбка была странная: как будто он постоянно удивлялся чему-то в себе самом и как будто радовался каким-то своим мыслям. В этой улыбке было что-то светлости кроткое. Мне всегда было больно и неприятно смотреть на его лицо и в то же время неудержимо влекло к этому парню, похожему на святого. Из-под шапки спускались до плеч белокурые волосы. Старая, вся в заплатках, дубленая шубейка была засалена, а из дырявых валенок торчала солома. Он еще издали ласковым тенорком закричал мне:
— Ты куда это, Федя, с собачкой-то собрался? К дранке не ходи: там собачищи злые. Тебя-то не разорвут, — они маленьких не трогают, а Кутку твою растерзают.
И он радостно кивал головой и протягивал руку, будто ощупывал воздух. Как и всегда, он встревожил меня: он казался не обычным парнем, а каким-то прозорливцем, который видит больше, чем зрячие, слышит лучше, чем другие люди, и даже знает, что я думаю и чувствую. Вот и сейчас он поразил мой детский умишко: как он мог знать, что я иду к дранке и что со мной Кутка? У него были страшные глаза: они, как молочные пузыри, выпирали из век и были неподвижны и мертвы. Когда он легко и зыбко шел по дороге, среди снежной белизны церковной площади, или посредине улицы с тоненькой палочкой, которая играла в его руке и посвистывала по льдистому снегу, мне чудилось, что он идет не один, а с невидимыми товарищами. Он улыбался, высоко поднимая лицо, кивал головой, останавливался, прислушивался, как будто обдумывая что-то, и потом уверенно шагал дальше или сворачивал к избе и исчезал в воротах. Он ходил по деревне каждый день, словно совершал обязательный обход. Заходил в те дома, где лежали больные ребятишки и женщины, или в бедные лачуги — в «кельи» бобылок или к умирающим. Каждый раз, когда Агафья лежала после побоев Сереги, Луконя непременно приходил к ней, долго сидел около нее и говорил тихо и ласково. Приходил он и к нам в те дни, когда мать лежала больной или после того, как на нее «находило». И я видел, что все, даже дедушка, встречали его приветливо, но как-то виновато. Он истово крестился и низко кланялся иконам, и в его слепой улыбке было что-то всегда новое, обещающее и таинственное. Он, как зрячий, скользящим шагом подходил к матери и певучим, девичьим голосом говорил:
— А я тебе, Настенька, гостинчик принес: не кренделек, не калачик, а утешеньице. Мне пресвятая богородица велела сказать тебе: «Пускай она не плачет, не тужит, на меня надеется. О чем, бает, думает — исполнится».
Хотя был он наш — деревенский, сын бедной вдовы, которая жила на отлете, в нижнем порядке, но казался сторонним. Говорил так, как и все в деревне, но слова его звучали напевно, задушевно, улыбчиво.
Когда он подошел ко мне и погладил меня по плечам, я спросил его:
— А как ты узнал-то меня, Луконя? Я ведь далеко был.
— А я еще дальше узнаю. Духом узнаю. Как идешь, как дышишь, как сердчишко бьется. Не знаю, как сказать, а сразу тебя чую.
И он тихо засмеялся, высоко вскинув лицо, подставляя его солнцу.
— По воздуху чую. Мне воздух весть подает. Я тебя не го ли что издали узнаю, а в целой ватаге сразу найду, да и других парнишек без ошибки пересчитаю. Вы и пахнете-то все разно.
Он как-то быстро и незаметно стал мне понятным и близким.
— А как это я пахну? — с любопытством спросил я и доверчиво взял его за руку. Она была горячая, мягкая, ласковая.
— Не знаю. Должно, самим собой.
Он стоял рядом со мною, улыбаясь, и все поглаживал меня по плечам и по спине.
— Я уж два раза был у бабушки-то Натальи. Мучается она, а думы-то у нее радостные. Я около нее словно живую водицу пил. Любит-то как она тебя!.. Ты ее не покидай: одна она на старости лет. Ходи к ней, дня не пропускай. По Машарке вот только горюет…
— А куда ты шел-то, Луконя?
— К Заичке-нищенке. Петяшка у ней в оспе лежит. Таскала она его, таскала — в Ключах бродила, в Варыпаевке, а там оспа-то по дворам ходит. Ну, к нему она и пристала.
Сама-то Заичка день-деньской кусочки собирает, а он один мается. Оспа всего его покрыла и на глаза бросилась. «Сходи, — бает Заичка-то, — без памяти он, мается и тебя зовет».
А оспа-то чешется, ребятишки-то сдирают ее, — далеко ли до беды? Как бы глазки не потерял, как я вот. Не помню, как они у меня угасли, и не знаю, что они видели. А мне сейчас — горя мало: куда хошь пойду, каждый камешек, каждый бугорок и травку знаю. У меня пальцы мои лучше глаз видят и уши тоже. Ты слышишь, чего мужики у дранки говорят? Тот-то вот! А я каждое словечко слышу. Пойдемка, я провожу тебя на дранку-то.
Он шел рядом со мной веселыми шагами, поскрипывая палочкой по снегу и поводя головой из стороны в сторону.
Лицо его, румяное от морозца, все время ловило солнце и улыбалось, и в этой застывшей улыбке не потухало радостное удивление и какое-то недоступное мне прозрение.
В распахнутые ворота дранки мужики носили мешки и сразу же исчезали в пыльной тьме.
Там что-то глухо вздыхало, рокотало, хрустело и постукивало. Эти перестуки похожи были на ладную игру ночного обходчика со своей стукалкой. Выпряженные лошади стояли перед санями и жевали вено. Собаки встретили нас сердитым лаем, но, когда увидели Луконю, бросились к нам и приветливо замахали хвостами. На меня они не обращали внимания. Луконя смеялся, шлепал их по загривкам, нежно покрикивал:
— Ну, ну, дурочки! Чего обрадовались?.. Аль давно не видались? Дайте-ка пройти-то! Не пугайте парнишку-то!..
Глядите у меня: ежели как-нибудь невзначай встретите, не лайте, не бросайтесь на него… Ну, ну! Пошли, пошли!
Из ворот дранки вышел молодой мужик — Алеха Спирин, низенький, приземистый, с черной шерстью под ушами и на подбородке, с насмешливо злыми глазами.
— Луконька, чего бродишь, как ангел за грешниками?
Подставляй спину-то, а то даром силу носишь. По бабам все ходишь да стонешь вместе с ними.
— А что же, Олеша! Давай, ежели обидно тебе! Мешок снести не трудно, труднее горе мыкать.
Луконя нагнулся, подставил плечи для мешка, опираясь на свою палочку.
Из дранки выскочил Иванка Юлёнков, его обмороженное лицо морщилось от хохота. Он и Алеха легко вскинули мешок и мягко положили его на плечи Лукони. Он зыбко засеменил во тьму дранки, помахивая палочкой. Алеха озорно подмигнул Юлёнкову, но недобрые глаза его были тусклы и скучны. Юлёнков ликовал, нетерпеливо отбегал к воротам и опять возвращался.
— Давай, Олеха, нагрузим его, пра-а! Попрет! Он только сослепу жирок нагуливает…
Двое парней вывели под руки Луконю. Он поводил головой при каждом шаге и улыбался. Шапки на нем уже не было, не было и палочки в руках. Парни озорно ухмылялись и делали знаки Алехе и Иванке.
— Стой, Луконя! — с притворной лаской уговаривали его парни. — Пущай Иванка с Олехой в дураках останутся.
Чего там два мешка… только каких-нибудь шесть пуд.
Луконя обвел белыми глазами всех по очереди, но глаза его плыли поверх их шапок. Он как будто прислушивался к каждому из парней — не к словам, не к смеху, а к их мыслям и чувствам.
Иванка схватил мешок за уголки и потянул на себя. Алеха подхватил с другого конца, и они без усилий положили его на спину Лукони. Он чуть-чуть сгорбился под его тяжестью.
Второй мешок так же легко взлетел вверх и лег поперек первого мешка. Луконя пошатнулся, ноги его задрожали и чуть-чуть подогнулись. Лицо его налилось кровью, а на лбу надулись жилы. Но покорная улыбка не угасала, только стала жалобной и тревожной, точно спрашивала: «Что, мол, вы со мной делаете? Зачем вы меня мучаете?»
Иванка плясал и захлебывался:
— Клади еще! Он вон какой смирный да румяный.
Молчит!..
Алеха решительно и деловито распорядился:
— Бери, Ванька, третий! Плавно давай!
Но положить третий мешок на первые два было трудно, и они стали раскачивать его, чтобы легче было вскинуть наверх. Ноги дрожали у Лукони, и мне почудилось, что он глухо простонал. Я закричал и бросился к Ваньке:
— Чего вы делаете! Разве можно? Сбрось мешки-то, Луконя!.. Ведь они измываются над тобой…
Но Луконя стоял неподвижно, жалко улыбаясь. Лицо его распухло и стало сизым. Меня оттолкнули в сторону, и я упал. Но вскочил сразу же и озлился. Я до боли в сердце возненавидел всех этих озорников и бросился к Алехе с крепко сжатыми кулаками. С разбегу я ударил головой в живот Иванке. Но он отбросил меня, как собачонку. Я кубарем полетел в снег. Парни заржали, а Иванка яростно закричал:
— Возьми его! Полкан! Рыжик!
Но собаки обступили меня и стали обнюхивать, тычась мордами в мое лицо и руки. А я, замирая от ужаса, смотрел на них и не шевелился.
Кто-то поднял меня за шиворот и Поставил на ноги.
— Эх, какой ты силач, аршин с шапкой!.. Спроть всех на кулаки пошел… Ведь вот ты какой бесстрашный!
Около меня топтался маленький старичок. Одной рукой он напяливал мне на голову шапку, а другой сбивал снег с шубенки. Он смеялся, а жиденькая бороденка дрожала, запушенная инеем. Это был пожарный Мосей, веселый балагур. Я опять бросился к парням, но он цепко схватил меня за шиворот.
— Будя, будя! Ишь ты, кочедык с лычкой! Какой храбрый!
А я рвался из его рук, ревел и махал кулачишками.
— Ничего-о… — смеялся и кашлял Мосей. — Они ведь играют. Луконька-то ведь зна-ат! Они ведь не со зла… Рады поозоровать-то. А ты погляди-ка вместе со мной: выдержит он али трюкнется? Я однова поспорил эдак: вот, мол, пухом слечу с пустыми мешками в руках с избяного конька.
Народу собралось — страсть! А я стою с мешками-то, а мешки-то на веревочках, и думаю: хоть убьюсь, а народ потешу. Ну и бросился. Очнулся, а меня водой отливают.
Смеху что было! Мне бы надо мешки-то мухами набить — не догадался, тогда бы я выше колокольни полетел.
На Луконю положили третий мешок, и все окружили слепого и не сводили с него глаз. Алеха усмехался и брезгливо смотрел в сторону, как будто совсем не интересовался, что происходит около него. Иванка подпрыгивал и хохотал. Двое других парней пятились от Лукони, опираясь ладонями о колени, и подбадривали его.
— Ну, ну-у!.. Тащи, не расплещи… Потрудись для мира: ты праведная душа. Тебе всяко беремя — с маково семя.
Луконя, сгорбившись под тяжестью мешков и подняв локти, чтобы сохранить равновесие, силился отодрать валенки от льдистого снега, но ноги не слушались и дрожали мелкой дрожью. Чтобы шагнуть вперед, он чуть-чуть раскачивался. Пар валил у него изо рта и окутывал облачком его голову. Лицо его искажалось болью, и мне почудилось, что по щеке его скатилась слеза.
Мосей легкими и игривыми шажками подошел к нему и, задрав шапку на затылок, осторожно взял его за руку.
— А ты, Луконька, не обижайся. Дураки — народ веселый. Иди-ка, шагай-ка, я тебе золотую тропочку проложу.
Луконя судорожно схватил кривые пальцы Мосея, с натугой отодрал ногу от земли и боязливо шагнул вперед.
Алеха, скучая, подошел к Луконе и для устойчивости поддержал мешки. Иванка не переставал похохатывать и понукать Луконю.
Я не утерпел и крикнул:
— Не тащи, Луконя! Скинь мешки-то! Они — нарочно… озорники они. Не надрывайся, Луконя!
Алеха угрожающе сдвинул брови и погрозил мне пальцем.
— Брось, парнишка! Не ори под ноги!
Луконя уже добрался до ворот дранки. Все парни толкались около него, только Мосей опять подал свою руку Луконе и ворковал ласково и бодро:
— Ты, Луконя, плыви, плыви! Ножками-то линию держи… Исподволь пружинься. На пятку не дави! За моей рукой тянись. Я, брат, до старости лет жил на потеху. Дураки — народ веселый. Они таких, как ты, любят. А я дураков-то обманываю.
Юленков не находил себе места: он бегал вокруг Лукони, плясал и даже бросил шапку на землю. Не помня себя, я схватил палочку Лукони, которая лежала при входе в дранку, и со всего размаху ударил Иванку по спине. Он сгорбился от удара, увидел меня с палкой в руках, кинулся ко мне, вырвал палочку и с визгом замахнулся Я в ужасе закрыл глаза, съежился. Ко удара не почувствовал, палка шлепнулась в мягкую овчину где-то рядом со мной. Я очнулся к увидел, как Мосей вырвал палку из руки Иванки и совестил его, качая головой:
— Эх ты… дурак, дурак! С парнишкой связался. Чего с него взять-то! Эх, дурак, дурак!
Я вбежал во тьму дранки и, ослепший от снега, ничего не увидел, кроме пыльной тесноты. Потом заметил за перилами двух лошадей. Под ногами у них медленно и грузно крутился огромный круг. С одной стороны он уползал под пол, а с другой — сползал откуда-то из-под крыши.
Луконя лежал на мерзлой земле. Он дышал хрипло и захлебывался. Поодаль лежали тугие мешки. Один из них развязался, и просо золотым песком рассыпалось по земле.
Мосей стоял на корточках перед Луконей с озабоченным лицом, сокрушенно покачивал головой, цокал языком, толкая рваную шапчонку на затылок, а с затылка на лоб, утешал его, как ребенка:
— Ничего-о, сейчас отудобишь, Луконя… оступился маленько. А я, старый дурак, тоже ослеп. Они, шалыганы, накинулись на твою простоту: помоги, мол, Луконя. Шутка ли — три мешка! Чай, девять пудов… Арбешники, чего с парнем-то сделали! Где болит-то, Луконюшко? В баню бы тебя надо отпарить: оно бы кости-то обмякли. Вставай-ка, я тебя домой отведу.
Но Луконя не шевелился и молчал, только жалко улыбался.
— Ах, беда-то какая! Ведь вот дураки-то! Веселый народ! На простоте-то, милок, верхом ездят. Надо бы простотой-то облекаться, как лепотой, да умных обгонять.
Луконя поднял руку, повернул ко мне лицо и поманил меня пальцем.
— Поди-ка сюда, Феденька, — сказал он тихо, но внятно, — пойди-ка, чего я тебе скажу.
Я робко подошел и присел около него на корточки.
— Кричал я тебе… — бормотал я сквозь слезы. — Кричал:
«Сбрось мешки-то!» А ты не послушался. Они надругались над тобой.
— Пущай… Я ведь знал… чего они хотят… Добра-то ведь они не видали… Одни колотушки, палки да скалки…
Они ребята-то хорошие. Олеша-то — шабер мой. Мачеха у него… Били его и за дело и без дела, а я его в выходе прятал. А Иванку-то когда не обижали? Кто хочет, тот на него и наскочит. Ну, вот мы с тобой, Феденька, на дранке и побыли. Иди домой. Я приду, когда надо будет. Полежу вот маленько и отойду. Меня бог не обидит, от всякой напасти защитит.
Я смотрел на него с жалостью и болью. Его смирение и готовность отдать себя на потеху парням вызывали у меня недоброе чувство к нему. Я страдал от негодования, и мне хотелось крикнуть ему: «Зачем ты это делаешь? Ты же не кляча, не игрушка для них…» Но протест мой — протест малыша — был бы только забавой для всех, а Луконя не понял бы его.
Парни сконфуженно ушли на круг и хлестали кнутами лошадей. Алеха подошел к нам и угрюмо сказал:
— Я сейчас лошадь запрягу, отвезу его домой.
И вразвалку пошел из дранки. Шаги его были тяжелые и виноватые.
Мосей закрутил головой, подмигнул мне и ощерил стертые зубы:
— Простота-то бывает больней кнута.
XXIII
Серегу освободили из жигулевки в тот же день. Убитая корова лежала перед открытыми воротами на том же месте, там же валялись обломки прялки и исковерканный самовар.
Странно веселый и бойкий, Серега прошел мимо коровы и, посмеиваясь, ткнул валенком ее в брюхо. Все ждали, что он распотешит себя дома — сорвет свою злобу на Агафье, но, на удивление, он в этот раз не тронул жену, точно весь перегорел в тот момент, когда сразил обухом топора корову и изуродовал самовар, а потом смело и озорно разогнал урядников и сконфузил пристава.
Митрий Степаныч вышел на крыльцо навстречу Сереге, немножко хмельной после угощения начальства, и дружелюбно протянул ему стакан водки.
— Серега, шабер! Держи, выпей за благополучие! Ну, и отчаянная ты башка! Несдобровать тебе, буян неукротимый. Ежели бы я не вызволил тебя, шабер, не миновать бы тебе острога.
Серега взял стакан, бережно перехватил его левой рукой, снял шапку, бросил ее на снег и истово перекрестился. Он опасливо посмотрел на стакан, опять бережно перенял его правой рукой и с оторопью поднес ко рту.
— Взаименно вам, Степаныч, с благополучием!
И выпил медленно, наслаждаясь каждым глотком.
— Благодарю покорно, Степаныч! А теперь делай со мной что хошь.
Митрий Степаныч, приглаженный, прилизанный, с участливой улыбкой на скопческом лице, говорил ему задушевно, как старый приятель:
— Недоимок за тобой больше нет, шабер: я всё погасил.
Свои люди — сочтемся. Друзья в беде узнаются. Росли мы вместе, а отцы от века из одной чашки ели. Парень ты был легкий, подбористый. И чего с тобой сделалось, Сергей?
— Бедность заела, Сгепаныч, бездолье. Куска хлеба нет.
Работаешь до надсады, а спорыньи никакой. На тебя же работаю… Был дом, да съели поедом…
— Ты бы, шабер, о душе подумал, бога бы помнил, а то без пути душу свою губишь. Посмирнее бы да поумнее жил… А то вот бес-то вселился в тебя, ты и бесстыдствуешь. Ну, кому ты досадил озорством своим — корову-то убил?
Серега быстро захмелел на голодное брюхо, отшвырнул шапку валенком и с озорной усмешкой уставился на Стоднева.
— По крайности, волю себе дал, Степаныч. Размахнулся. Запалилась душа. Хоть за душой ни гроша, а свой норов показал. Я ведь, Степаныч, знаю: корову ты нынче утащишь на мясо, а меня к старосте — повинен Сережка Каляганов батрачить у Стоднева. И не моги дыхнуть. И не будет у Сережки Каляганова ни плошки, ни ложки, ни угла, ни прясла…
Он закрутил головой и закашлялся от смеха.
— Только ты, Митрий Стоднев, сейчас меня не трог.
Душа у меня стала просторная: я богаче тебя.
Митрий Степаныч простодушно утешил его:
— Иди с богом, Сергей. Все мы грешны, а у меня нет против тебя злого помысла. Погоди, я сейчас вынесу тебе каравай хлеба.
Серега схватил шапку и зарычал.
— Я не нищий, Степаныч. А на приманку в капкан не полезу. Продал я тебе душу, а больше схапать тебе нечего.
И быстро скрылся в своих воротах.
Недели две он жил тихо и нигде не показывался. Его все жалели, но боялись. Когда-то хороший, веселый мужик, нынче от бедности, от лишений и голода стал злой и дикий.
Ели они с Агафьей только тюрю — квас, лук и черный хлеб.
Дети тоже у них не жили: то Агафья скидывала их мертвенькими, то умирали они в первые же дни.
Каждый день он орал на своем дворе и на голодную корову, и на Агафью, и на кур. Ругался он помрачительно гнусно. Мать с Катей закрывались фартуками и растерянно ахали:
— А-а, батюшки! Охальник-то какой! Стыда-то нет.
Словно с него шкуру дерут, с окаянного.
Отца собирали в извоз недели две. Для нас, детей, это были самые интересные дни. Приводились в порядок сани, накладывались железные подрезы, парились новые завертки, чинились телеги, шиновались ободья. Все это укладывалось на сани, чтобы при весеннем распутье сразу же поехать на колесах. Наш костлявый гнедко равнодушно глядел на эти хлопоты и хрустел соломенной резкой с отрубями. Другую лошадь дед решил взять у Сереги Каляганова. Серега привел свою горбатую пегую кобылу с отвислой губой и передал ее в хомуте дедушке.
— Ты уж, Вася, подкармливай ее, чтоб не сдохла. А сейчас пускай постоит с вашим гнедком, дядя Фома. Она тебе через три дня рысак будет.
Дед держал за повод кобыленку и строго опускал лохматые брови на глаза.
— Садись верхом — и рысью! Выдержит — возьму, не поскачет — домой поведешь.
Дедушка говорил неохотно, точно Серега навязывал ему свою кобыленку, а деду вовсе не хотелось ее брать.
— Да ведь рази она сейчас побежит? — злобно хрипел Серега. — Она, чай, не на месиве. Соломы — и той нет.
У деда дрожали брови и льдистые глаза посмеивались.
Он любил потешиться над людьми.
— Садись, садись! Погляжу, как она кнут чует.
Серега устрашающе вытаращил глаза, поправил шапку и яростно прыгнул на спину лошади. Кобыленка пошатнулась, но не испугалась и не удивилась. Она даже не подняла головы и не дернула хвостом. Серега лежал брюхом на ее горбатой спине и никак не мог закинуть ногу на ее круп. Он болтал валенками, кряхтел, и лицо его набухало от крови.
Это было так интересно и смешно, что мы с. Семой бегали вокруг лошади и заливались хохотом. Отец стоял около деда, смотрел спокойно и улыбался. Дедушка заботливо взмахнул кнутом и стегнул кобыленку по заду. Пыльная полоса осталась на шерсти, но лошадь только лениво взмахнула хвостом. Серега дрыгал валенками и кряхтел.
— Ты, дядя Фома, погоди, а го она понесет впрыгашки — разобьет.
— Держись!
И дедушка начал стегать кобыленку и по крупу и по ногам. Кобыленка задрожала, мотнула головой и вдруг запрыгала по двору, как деревянная. Серега лежал на брюхе и болтал валенками.
— Дяди Фома, убьюсь!
Дедушка бежал за лошадью и стегал ее. Это не старик был, храпун и домовой, а молодой, ловкий мужик, которому хотелось играть и озорничать. Даже отец казался старше его: он издали глядел на деда и Серегу и смеялся в бороду.
Мы с Семой бежали за лошадью и бросали в нее шевяхами.
А кобыленка прыгала, пыталась лягаться, и отвислая губа ее болталась, как варежка. Шевяхи шлепались в бока лошади и в зад Сереги. Он хватался за бок и лопатку кобыленки, чтобы не упасть. Дедушка вошел в раж и бесперечь хлестал ее кнутом. Тит лопатой шлепал Серегу по заду и пискливо хохотал. Серега таращил глаза, трясся на спине кобыленки и смеялся: он так и не мог закинуть ногу на ее круп.
— Дядя Фома, душегуб!.. — орал он. — Разобьюсь… отвечать будешь… Старый черт!
Кобыленка забежала под навес и уткнула морду в длинную деревянную колоду. Серега спрыгнул, шутя схватил деда в охапку и поднял его над своей головой.
Сыгней и Тит долго смаковали дедушкину забаву над Серегой, его скачку на своей полудохлой лошади и заливались хохотом. Дедушка ушел куда-то со двора, Сыгней убежал к Филарету, а отец с Титом сгребали шевяхи. Кобыленка Сереги бродила по двору и тыкалась мордой и в пустую колоду рядом с гнедком, и в плетни, и в кучу навоза. Я граблями подгребал сор к саням.
В эти скучные минуты вошли во двор Кузярь с Наумкой, и я с радостью побежал им навстречу.
На этот раз Кузярь ошеломил меня неожиданной выдумкой. Мы стояли около телеги без колес, которую чинили для извоза. Каретка ее на связях была скована железными скобками. У Кузяря озорно заиграли глаза, и он с вызывающей решительностью предложил:
— Ну-ка, кто из вас сумеет языком железку полизать?
Кто из вас храбрее? Валяйте! Кто проворней и у кого язык умнее трешник дам. Ну? Начинай!
Я уже хорошо знал жульнические его замашки и всегда ожидал от него всяких опасных выдумок. А мне уже известно было, что такое промороженное железо: оно обжигало, как раскаленный уголь.
— Ты сам лизни, первый покажи, ежели такой ловкий.
— Трус, трус! — с обидным презрением дразнил он меня, и глаза его щурились от злости.
— Ты сам трус. Храбрый-то сам вперед норовит.
— Я то сделаю, а вы-то трусу веруете.
— Ну и сделай!
Наумка покраснел от робости. А я уж сам наступал на Кузяря.
— Вот те и храбрый! Ты только мастак на других выезжать.
Кузярь s ужасом почувствовал, что его авторитет смельчака и умника поколеблен, что он сам попался впросак. Он сделал нахальное лицо и сдвинул шапку набекрень.
— Эх вы, черти кургузые. Я вас на смех поднял, в дураках оставил! С вами и водиться-то — срамота одна. Глядите, как настоящие-то ловкачи козырем бьют. Морозу бояться — в извоз не ездить.
Он задорно снял варежки, засунул их в карман, наклонился над скобкой и высунул язык. Мы с любопытством стали близко к нему по бокам и замерли. Он осторожно и медленно приближал язык к железке и долго не решался коснуться им скобы. Улучив мгновение, он дотронулся кончиком языка до побелевшего от дыхания кольца. Может быть, он наклонился больше чем нужно или не успел вовремя отдернуть язык, конец его мгновенно прикипел к железу.
Кузярь хотел сейчас же оторвать его, но не мог. Он пискнул и начал усиленно дышать на скобу, железо покрылось слоем инея. Лицо Кузяря исказилось болезненным удивлением. Он вцепился пальцами в язык и начал лихорадочно отдирать его от железа. В отчаянии он рванул его, и мы увидели на железе кожицу с капельками крови. Из глаз Кузяря капали слезы. Но он улыбался дрожащей улыбкой и лепетал, весь серый от пережитого ужаса:
— Ну, вот то-то же… Вот те трус! Я не побоялся и язык немножко припаять.
А слезы текли крупными каплями по его щекам. Он не замечал их или храбрился, чтобы показать нам, какой он молодец.
В этот момент во дворе Калягановых страшно завизжала Агафья.
Двор у них был без плоскуши, и снег грязными сугробами лежал даже на крыльце. Агафья, раскосмаченная, распласталась на снегу. Она не двигалась, а только обреченно таращила заплывшие глаза. И лицо, и ноги, и большие руки ее были такие тощие, что мослаки на суставах просвечивали сквозь желтую кожу, а ямки на висках костистого лба были желты, как у мертвеца. Каляганов, в одной домотканой рубахе, молотил ее кулаками. Он уже не сознавал и не видел ничего. И было удивительно, как это Агафья переносит его убийственные кулаки и пинки, когда он на кулачных побоищах считался одним из самых опасных бойцов, когда с одного удара его кулака крепкие мужики грохались на снег.
Сбегались мужики и бабы со всего порядка.
Пожилые бабы начали наперебой пронзительно кричать и наскакивать на мужиков:
— Мужики, отнимите ее. Ведь убьет он бабенку-то. Оттащите его, борова, свяжите его… А, батюшки! Совсем ведь обмерла баба-то! Вот уж бог послал ей наказанье-то!
Иванка Юлёнков трепался около Каляганова и, к удивлению всех, бесстрашно наскакивал на него и пытался схватить его за портки.
— Дядя Сергей! Свяжут тебя, дядя Сергей, в волость угонят. Гляди-ка, ведь Огафья-то не дышит. — И вдруг визгливо засмеялся и затопал ногами. Эй, дядя Сергей, выходи против меня на кулачки! Выходи! — И бесстрашно схватил его за валенок.
В этот миг из кучи мужчин и баб вышел Луконя-слепой и уверенно, спокойно, даже как-то расчетливо, с ясным лицом подошел к Каляганову и с размаху упал на Агафью, прямо под кулаки Сереги. И всех поразил и он сам, и его обличающий голос:
— Дядя Сергей, грех мертвого человека терзать. Зачем ты на душу казнь такую взял? Плакать будешь — слез не хватит. Отойди, Сергей!
Все отпрянули, как оглушенные громом. Кто-то застонал и заголосил. Каляганов, точно глухой и слепой, долбил кулаками Луконю. А он, Луконя, все дальше оттеснял Серегу, чтобы закрыть собою тело Агафьи.
И вот тут совершилось то, что осталось в моей памяти на всю жизнь.
Мать, маленькая, хрупкая, как девочка, в короткой курточке с длинными рукавами до земли, бледная, с высоко поднятой головой в черной шали, повязанной по-старушечьи кокошником, с крепко сжатыми губами, уверенно и безбоязненно, подошла к распластанной, с раскинутыми руками Агафье, наклонилась над ней и взяла ее голову в руки. Потом низким голосом строго приказала:
— Возьмите отсюда Сергея-то! Его надо на цепь посадить.
Неожиданно к Каляганову подскочила Катя, смахнула с его головы шапку и, вцепившись в красные его волосы, рванула к себе. Луконя встал с сосредоточенной слепой улыбкой. Мать истово поклонилась ему и уважительно пропела:
— Луконюшка, защитник ты наш сердечный! Наградит тебя господь за это.
Серега стоял на коленях с диким лицом, опираясь руками в ледяную корку на снегу, и запаленно дышал, ничего не сознавая. А мать опять опустилась к Агафье, обняла ее и положила свою голову на грудь ей.
Когда мама медленно поднялась с судорогами в лице и задрожала с ног до головы, Катя ахнула и крикнула истошным голосом:
— Аль вы не видите, окаянные? Бабенка-то обневедалась. Мужики! Серегу-то свяжите…
А сама бросилась к маме. Но мама властно отстранила ее и запричитала: % — Распял он ее, распял ее!..
Тит и Ванька Юлёнков уже держали под руки Серегу, а он рвался к Агафье и кричал, как безумный:
— Пустите… Христа ради… Я ее в избу унесу… Зашлась она… Я ее водой отолью… Огафья! Вставай, Огафья… Не страми меня перед людями…
Я не заметил, как Кузярь приволок откуда-то вожжи и совал их Титу.
— Вот, Титок… Вяжите его!
И заплакал, захлебываясь слезами.
Помню, что я бил кулачишками Серегу, пронзительно кричал и рвался из чьих-то рук.
Степенно, по-хозяйски, подошел Митрий Степаныч, в суконной бекешке, в мерлушковой шапке, и со строгим, настоятельским лицом покачал головой.
— Это ты что же наделал, Сергей? Богу душу отдала Огафья-то. Грех непрощеный взял ты на душу. Отринул тебя господь. Муж волен жену учить, но не предавать смерти. — Он оглядел толпу (люди опять стали сбегаться) и ткнул пальцем в Серегу. — Связывайте его, бесноватого!
И старосту приведите.
Но люди встретили его молча, угрюмо и Явно враждебно. Никто не тронулся с места.
Как только Серега увидел Митрия Степаныча, он стал буйно рваться из рук Юлёнкова и Тита. Они отлетели в сторону, но на Серегу навалился мой отец и оба сына Паруши.
Серега был страшен в своем исступлении; Терентий, Алексей и отец напрягали все силы, чтобы связать ему руки, но он вырывался, хрипел, и они, изнемогая, покрикивали:
— Мужики! Помогайте! Страшенная сила… Вырвется, сумасшедший, беды наделает…
Подбежали еще несколько мужиков и сдавили его со всех сторон. Он бился в их руках, плевал в сторону Митрия Степаныча.
— Ты — злодей! Не я, а ты убивец. Ты силы из меня вымотал. Я мужик был… Трудился… Вот до чего ты меня довел! Пустите меня, убью я его… задушу… чтобы черти его в аду баграми терзали. Учитель, наставник… будь ты проклят! Дайте его мне, душегуба!
Бабы плакали навзрыд, а мужики хмурились, смотрели в землю и что-то угрюмо бормотали в бороды. Паруша, суровая, большая, подошла к телу Агафьи и низко поклонилась.
— Ну, отмаялась, сердешная. Отошла от юдоли. Нет на ней греха, на мученице. — Она повернулась к Сереге и со строгим участием пристально вгляделась в него, потом подошла к нему и скорбно покачала головой. — Ну, ты… мужик неудашный! На ком отомстил? На себя цепи наложил.
Знаю, знаю, не рычи, Сергей! Сейчас время пришло пострадать тебе, помучиться да подумать, откуда к тебе беда пришла. — И вдруг по-мужски пробасила, обращаясь к Митрию Степанычу: — А ты иди отсюда. Иди с богом да грехи замаливай. Горе-то копится да через край льется. Как аукнется, так и откликнется. Иди-ка, иди, не вводи людей в грех.
Митрий Степаныч развел руками, укоризненно улыбнулся и нерешительно пошел обратно. Мужики и заплаканные бабы проводили его молча, недобрыми глазами. А когда он, не оглядываясь, сохраняя степенность, вышел за ворота, все начали злобно кричать не поймешь что. Все обернулись вслед ему и загалдели, как на сходе. Бабы грозили кулаками, выкликали, а старики качали головами.
Паруша опять подошла к мертвой Агафье и махнула Кате рукой. А когда Катя подошла, она взяла за плечи мать и ласково подтолкнула ее к Кате.
— Поди-ка домой, сизокрылая! Да парнишку с собой возьмите. Ему здесь негоже быть.
Ванька Юлёнков перебегал с места на место и захлебывался от слез.
— Вот он, Сергей-то… пропал. Загубили мужика. И все мы запутались. Может, уж и мой черед завтра будет. Мужкки, шабры! Чего делать-то, шабры? Красного петуха им всем… И Митрию… и барскому двору…
Серега стоял на коленях, со связанными на спине руками, и уже молчал, уронив голову на грудь.
В это время по длинному порядку, с колокольцами, с шумом, поднимая снежную пыль, пронеслись нарядные сани цугом. На санях сидел в серой шубе с пышным воротником Измайлов. Толпа дрогнула и подалась к воротам.
Кто-то из мужиков крикнул надсадно:
— Вон еще сатана пролетел… И тут Митрий… и там Митрий. Жми, жми да вытри…
— Дождутся! — с угрозой захрипел простуженный голос. — Отольются волку овечьи слезы. В колья их, чертей…
Верно Ванька сказывает: сжечь их дотла.
Какой-то старик из толпы рассудительно заскрипел:
— Чего зря-то болтаете! Рази можно разбоем-то? Развольничались молодые-то…
Ванька Юлёнков закричал:
— Тебе, дедушка Игнат, умирать пора. На покой идешь.
А тут жить надо. А чем жить-то? С голоду выть? Детей морить?
Толпа шумела и волновалась.
Отец и Терентий с Алексеем поволокли Серегу в избу, а он стонал, как больной:
— Огафья! Что они со мной делают? Шабры! Сродники!
И потом, уже на крыльце, он опамятовался и сказал совсем спокойно и буднично:
— Это чего же, шабры? Что я наделал-то? Аль вправду?
Неужели Огафья-то?..
Юлёнков, задыхаясь от волнения, уговаривал его:
— Вот то-то и есть, дядя Сергей. Рази так бабу бьют?
Ведь у тебя ручищи-то по пуду. А ей чего надо? В ней и душа-то не держалась…
Серега послушно пошел в избу. Бабы вопили разноголосо. А Катя подхватила маму под руку и повела со двора домой. Я побежал вслед за ними, как одурманенный. Меня поразило никогда не виданное мною лицо матери, похожее на слепое, таинственное лицо Лукони.
После этого события я долго не мог прийти в себя: на улицу не выходил, а сидел на печи и молчал. Мама лежала без памяти целые сутки, а когда встала, по-прежнему засуетилась по дому: ходила к колодцу за водой, скребла и мыла пол, стирала одежду и била ее вальком на реке, у проруби.
Лицо ее было по-прежнему ясное, свежее, как у девочки. Так же расторопно угождала она бабушке, играючи собирала на стол и убирала со стола, сеяла муку в ночевки, гоняла корову на водопой и доила ее в хлеву. Когда хоронили Агафью, она провожала ее вместе с Катей и бабушкой и пришла с, кладбища спокойная, без печали на лице. И мне было больно и обидно, что в эти дни она как будто забыла обо мне: ни разу меня не позвала и не приласкала. Я пробовал подойти к ней, но она как будто не видела меня. Бабушка поглядывала на нее с беспокойством и о чем-то шепталась с Катей.
А я сидел на печи, перелистывал рукописный Цветник или Псалтырь, шептал прочитанные слова, и они рябили в моих глазах, непонятные, как бредовая нежить. Ночью я просыпался от страха. И бедная маленькая голова моя мучилась от назойливой галиматьи: «от иже согрешающим приобщение пакость…», «от аспида и василиска…»
В эти детские годы я впервые стал испытывать мучительную боль не только от побоев. Жизнь открылась передо мною как цепь несправедливостей, и я мучился от обиды и страха. Хотелось крикнуть на людей: «Да что вы озорничаете, дураки?» Но я только сжимался от боли, маленький, бессильный. Уже в эти ранние годы я знал, что сильный мучает слабого, что здоровый не щадит больного, что богатый Митрий С годнее распоряжается бедными, а они покорно и униженно снимают перед ним шапки.
Он обманывал нас, малолеток, когда строил большую каменную кладовую, приманивал елейным голоском и, обещая гостинцев из своей лавки, заставлял целые дни месить ногами глину. Я первый вышел из работы: до крови изранил ноги. Всем он дал нам по сухой вобле, которая тогда стоила две копейки.
Я боялся доброты и ласкового голоса бородатого дяди Ларивона и прятался от отца. Почему он ни разу не приветил меня, не сказал мне ни одного хорошего слова, не сажал меня на колени? Почему дед только грозно покрикивал на меня, постоянно пугал кнутом, вожжами, ременной шлеёй и заставлял ни с того ни с сего кланяться ему в валенки?
Я видел, что в деревне есть хорошие, ясные люди, но эти люди были для меня еще более непонятны. Их не любили и относились к ним или враждебно, или пренебрежительно.
Вот слепой Луконя, который каждый день ходил по избам, где метались дети в оспе, где лежали избитые бабы или умирающие. И не подвиг у него это был, не искус ради души спасения, а душевная потребность. Он и дома у себя не бездельничал. Старуха мать души в нем не чаяла, а он ее оберегал от работы и делал все сам: и за водой ходил с коромыслом на плечах, и корову доил, и муку сеял, а мать только возилась у печки. И все-таки он находил время зайти то в один, то в другой конец деревни, то на ту, то на эту сторону, чтобы порадоваться по-своему такой радостью, которая всем казалась причудой юродивого. Он очень любил девичьи посиделки зимой, а весной — хороводы и пел песни вместе с девчатами высоким, почти детским голосом. В моленной всегда стоял впереди, у аналоя, и пел своим тенорком всю службу и даже читал наизусть целые кафизмы или Евангелие. Без его «ангельского» голоса не проходила ни одна панихида. Вот Володимирыч с Егорушкой. Где они сейчас? Увижу ли я их когда-нибудь? Вот бабушка Наталья. Почему этих хороших людей обижают и свои и чужие?..
И теперь, перелистывая книгу моей жизни, я смущаюсь и спрашиваю себя, нужно ли рассказывать об этих давнопрошедших днях, нужно ли изображать те проклятые пытки, через которые проходило мое детство, а потом юность: ведь все это прошло и быльем поросло — оно минуло безвозвратно. Но внутренний голос совести и долга внушает мне настойчиво: обязан рассказать, должен показать те мучительные дебри, через которые приходилось пробираться людям моего поколения и преодолевать их, чтобы выйти из чертовой тьмы на свободную дорогу настоящего. Надо рассказать об этих страшных днях и потому, что не вытравлены, не выжжены еще до конца пережитки жестокого прошлого.
XXIV
Паруша устроила у себя «помочь», чтобы обмолотить копну ржи на продажу: шумно было купить невесткам красного товару и сапожной кожи на коты, а сыновьям новые сапоги и касторовые картузы. Она любила, чтобы ее невестки и сыновья на всю деревню были нарядные. И не потому, что ей лестно было видеть, как завистливо любуются ими бабы, а потому, что она смолоду любила сама приглядно одеться и одевать своих детей. Она умела рачить свое хозяйство: и сама, и сыновья с невестками работали с раннего утра до ночи. Она собирала по крошке, по копейке, ухитрялась не влезать в долги. В деревне не принято было вывозить навоз на поле: его сваливали в буераки. А сыновья Паруши не только отвозили навоз на усадьбу и на свою надельную и арендованную землю, но каждый день Терентий или Алексей подъезжали к буераку и вилами ковырялись в свалках, от которых шел зимою пар, и отвозили черный, горячий перегной на поле, не обращая внимания на насмешливые вопросы мужиков:
— Аль, Олёша, делов не найдешь — назём-то в овраге чистишь? Кому возишь-то? Вози, вози, — может, весной-то твоя полоса мне отойдет.
Алексей, сдвигая шапку на затылок, охотно отсечет на насмешку шуткой:
— Я клад ищу: на поле-то он, может, бог даст, сам вырастет.
И всегда на их полосах урожай был лучше, чем у шаоров. Хотя при переделах надельная земля и переводил? кому-нибудь из мужиков, Паруша говорила назидательно:
— Вот мы-то о землице заботились, питали ее, холили, ходили, как за матерью, она нас и кормила, матушка. Мы и другую, голодную полоску, так же удобрять будем: ведь земля за добро добром платит. Вот и ты почитай да ходи за ней, она и даст тебе благость. Земля дармоедов не кормит.
Но мужики по-прежнему навоз сваливали в буераки, а не «чужому дяде», сыновья же Паруши по-прежнему возили этот навоз на свои полосы. И всегда у Паруши стояла лишняя копна на гумке, мычала вторая корова в скотнике и блеяли овцы, а под навесом у кормухи хрумкали свес две лошади. Терентий в свободное от полевых работ время ездил от Стоднева в извоз, а счеты с ним сводила сама Паруша и, хотя была неграмотная, запутать себя не позволяла.
Митрий Степаныч плутовато улыбался и говорил ей благочестиво:
— Ты, тетушка Паруша, словно булгахтер, учетистая: ни одной полушки не упустишь. Мудростью какой господь тебя наградил! Торговцу с тобой дело иметь невыгодно.
А она смотрела на него умными, знающими глазами, сильная, мужественная, и обличала его:
— Меня-то уж, Митрий Степаныч, не обшельмуешь, хоть ты и живешь обманом. Я ведь чую твои петли и заковырки. Ты хоть и настоятель наш, и божье слово у тебя на устах — начетчик! — а последний кусок хлеба норовишь вырвать у мужика. Вы, богатеи да барышники, на дураках живете. Учишь, наставляешь, к вере зовешь, а верой-то капканы ставишь. Я вот только богу верю, а тебя насквозь вижу. Ты уж со мной-то в курючки не играй: завязывать глаза не дам. Эх, Митрий, Митрий, сколь ты народу обездолил! Сколько детишек уморил!
— Без бога, тетушка Паруша, ни един волос с головы не упадет. Только он, владыка, пути человеку указует… И не нам судить, кому что дадено и от кого отнято.
Она грубо обрывала его:
— Ну, ты мне, Митрий, глаза-то не отводи! Не забывай: я ведь псе твои дела и повадки знаю. А на Страшном суде все богу выложу.
Может быть, Стоднез и не хотел бы связываться с Парушеи насчет извоза, но без нее не обходился: никогда не было случая, чтобы он обнаружил «утечку», «утряску», «подмочку» на возу Терентия. Это был самый надежный, самый честный и заботливый возчик.
На «помочь» Паруша, как и раньше, позвала нашу семью. Хотя она и ворчала на дедушку и на «неудашность» в нашем дому, но сыздавна была в дружбе и с ним и с бабушкой.
Терентий и Алексей расчистили от снега ток на луке, недалеко от нашей избы, привезли три бочки воды и поливали его ведрами. Ток заблестел молодым льдом, по которому хотелось кататься. С гумна еще накануне Терентий с женой стали свозить снопы и складывать их в большие скирды.
Стояли жгучие морозы, и воздух мерцал лиловым туманием. Небо было чистое, как лед, оранжевое солнце стояло низко над избами и казалось мохнатым. Из труб поднимался желтый дым, расплывался и таял над селом.
Взъерошенные галки зябко летали над лукой, орали во все горло и без надобности садились на снег. По дороге, по длинному порядку, бесперечь тянулись обозы, а рядом с санями шли мужики в длинных тулупах с высокими воротниками, с кнутами в руках.
Утром, с солнышком, дедушка, отец с матерью, Катя и Сыгней оделись, как на праздник, и пошли с цепами на ток. Нам с Семой тоже была там работа — разрезать серпом свясла обмолоченных снопов и отвозить на волокушах солому в кучу. Тит остался хозяйничать дома: он любил оставаться один на дворе и елозил по темным углам клетки, кладовой и «выхода», озираясь, как вор.
Мать и Катя прихорошились: надели новые сарафаны, полушалки, гороховые шали, суконные теплые курточки.
И липа их стали праздничные, ожидающие, взволнованные.
Паруша вместе со снохами вышла тоже в новой шубе и праздничной китайке и в такой же гороховой шали, как и мать с Катей. Шла она величаво, как самовластная хозяйка, но в глазах ее играли веселые огоньки. Невестки нарядились на загляденье и были очень миловидны. Но Терентий и Алексей, разные по облику: один — неразговорчивый, озабоченный и медлительный, другой — расторопный, веселый, шутливый, даже бородка у него была кудрявая, — пришли в будничных полушубках и привели лошадь с волокушей.
Молодухи сразу подошли к матери и Кате и стали о чем-то живо перешептываться. Мужики сняли шапки и молча поздоровались. Отец деловито подошел к Терентию и стал осматривать пегую лошадь и поглаживать ее по шее и по спине. Дедушка снял со скирды сноп, взвесил его рукой и внимательно стал перебирать колосья, а они тяжело свешивались и тряслись, как сережки. Он что-то бормотал в бороду и завистливо встряхивал головой.
Мы с Семой, не ожидая обрядных разговоров, сносили тяжелые снопы на ток и клали их вплотную друг к другу.
Нам эта работа нравилась: снопы были как живые, — они дрожали, колыхались колосьями и пахли солодом соломы.
Хорошо было ощущать под валенками промороженный снег, весь пронизанный колючими искрами, невыносимо белый и твердый, как сахар. Приятно было со снопами в обеих руках скользить с разбегу по зеркальному льду тока и чувствовать, как тучные снопы подталкивают вперед своей тяжестью. Мороз обжигал щеки и уши, и от этих ожогов хотелось смеяться. В воздухе застыла упругая тишина, и ослепительно-белая площадь переливалась разноцветными вспышками, как радужные стекла в окнах крашенинниковой избы. С нами вместе бегала и наша лохматая Кутка, и ей, должно быть, тоже было весело прыгать, хватать зубами снопы и скользить по льду.
Паруша, оглядывая всех молодыми глазами, строгими и властными, но веселыми и проницательными, низко поклонилась и сказала торжественно и напевно:
— Ну, шабры милые, по хорошему нашему обычаю, потрудитесь для обоюдности, не побрезгуйте хлебом-солью за столом нашим. Дружья-то помочь дороже злата-серебра: и работа свята, и душа богата. Мы с тобой, Фома, помним, как, бывало, всем миром помочь устраивали: сенокос ли, жнитво ли, молотьба ли… Свары меж шабрами были из-за мелочей, из-за переделов. А помочь-то обчая все ссоры да раздоры как рукой снимала. Уж редко бывает мирская-то помочь — и землицы нет, и угодий покосных нет. Самой семье делать нечего. А в сердце-то у меня вера: не стерпит народ безземелья, да и земля пропадет без мужика. И будет глад, мор и великое трясенье. Без труда и света не будет.
Труд-то свое возьмет. Ну, с богом, дорогие мои детки и соседушки!
И она неожиданно крикнула нам с Семой:
— Вот они, колосочки золотые, как трудятся-то! С веселой душой, с охоткой, играючи. Ах вы, дети боговы!
Потом она поклонилась дедушке:
— Будь хозяином, Фома. Распоряжайся… А я пойду домой по бабьему делу — в чулан, к печке.
Все слушали ее почтительно. Даже дедушка, который стоял близко от нее, поглаживал бороду варежкой и смотрел ей в ноги вдумчиво и озабоченно. А когда она кончила свое слово, он сказал с необычайной теплотой:
— Иди, мать, не заботься. Работники все хорошие. Где у нас помочь, там бог в помочь. Иди, будь надежна.
Это был обряд, который установлен исстари, но слова Паруши не были готовыми уловами: она говорила от души, трогательно, по-своему. И это растревожило всех, а у матери заблестели слезы на глазах. Отец стоял вместе с Терентием и, стараясь скрыть свое возбуждение, сказал захлебмваясь:
— Эх, Терентий… Мать-то какая у вас… ума палата!..
Терентий с гордостью ответил:
— Мы за мамынькой, как за горой. При ней не споткнешься. Бывает, и дурака загнешь, а она и виду не покажет, — на ум наставит. Душевой-то земли у нас меньше вашего — на аренде сидим, а сроду ни у кого в долгу не были.
У маменьки одно на уме: «коготок в долгу увяз — всей птичке пропасть», «тянитесь от поста к посту, а от долга бегите за версту».
Паруша пошла домой плавными, не старушечьими шагами, и во всей ее большой фигуре чувствовалась твердая уверенность в своей силе и независимости.
Мы с Семой уложили снопы на току длинным рядом, и они лежали, как ребятишки в шубенках, уткнувшись белокурыми головенками друг в друга. Дедушка снял шапку и, взглянув на мутное солнце, размашисто перекрестился. Все тоже перекрестились.
— Ну, начинаем с богом!.. — бодренько крикнул он, надевая шапку и призывно махнув рукой. — Берите цепы, становитесь!
Он первый взял цеп, оглядел его и встал в середину снопов, на колосья, спиною к ряду. Все со своими цепами стали перед дедом в обычном порядке: отец с Терентием, как большаки, впереди, перед дедушкой, по обе стороны от него, дальше — Алексей и Сыгней, а там Катя с Терентьевой бабой, и в конце моя мать и жена Алексея. Дед размахнулся цепом и глухо ударил по колосьям. После размахнулся отец, потом Терентий, и так по порядку молотила взвивались «верху, и каждый цеп бил в очереди один за другим.
Но дед уже бил размеренно, а за ним все остальные, и ладное буханье цепов взбивало колосья, снопы вздрагивали и подпрыгивали, словно им было больно от ударов. Мужики били сильно, со всего плеча, бабы послабее, и все, колыхаясь вперед и назад, подвигались за дедом, который пятился по колосьям, как будто вел всех за собою.
Так прошли все до конца ряда и, не отдыхая, попятились обратно в том же порядке. Мы с Семой вслед за ними переворачивали снопы. Мать поглядывала на меня и улыбалась.
Женщины переговаривались между собою и тоже улыбались. Дед и отец с Терентием молотили старательно, с такими сосредоточенными лицами, какие у них бывают в моленной. Только Алексей с Сыгнеем переглядывались с бабами и весело показывали зубы. Плясовой перестук цепов, взлеты молотил над головами, желтая пыль над снопами и этот сухой и жгучий морозец веселили душу: хотелось схватить цеп и вместе со взрослыми бить по снопам изо всех сил. Но нам, парнишкам, нельзя было нарушить строгий порядок молотьбы. Я не мог побороть в себе этого буйного веселья и с криком перекувыркнулся на снопах. Сема с жадностью смотрел на взрослых и невольно повторял их движения. На нас не обращали внимания, и все были так захвачены работой и ладным ритмом молотьбы, что лица у всех прикованы были к снопам. Эта согласная работа связывала каждого друг с другом и со всеми вместе, и порвать эту живую цепь было невозможно: стоило одному остановиться — и весь лад распался бы, а цепы стали бы бить друг по другу.
Тогда молотьба остановилась бы. Но молотьба увлекала каждого, возбуждала, как пляска, что-то праздничное было в лице каждого, словно это был дружный хоровод. Я видел, как мать ловко и красиво взмахивала цепом, как у ней разгоралось лицо и в глазах играла радость. Мне казалось, что она вся пела и ей уже не были страшны ни дед, ни отец.
А отец даже иногда покрякивал, словно на кулачках дрался:
— Дружнее, дружнее!.. Бей — силы не жалей!
Дед совсем изменился: он как будто помолодел, из-под вскинутых бровей глаза лукаво дразнили каждого, рука взмахивала сильно и гибко.
— Эх, нет нашего дедушки Селиверста! — закричал он, покрывая грохот молотил. — Вот кто любил молотьбу! Бывало, молотили по двадцать — тридцать человек. А он — выше всех, и цеп-то его на все село ухает. Сто годов ему было, а он трехпудовую гирю вверх бросал и ловил на лету. Поспорил как-то: подбили его гирю в пять пудов бросить. Загорелся, подбросил, а ноги отнялись. Больше уж не вставал, а жил после этого еще десять годов. Рази так теперьча молотят!.. Мелкий стал народ.
Катя не утерпела и задорно крикнула:
— Это ты, тятенька, виноват: хоть и удаленький, а маленький. С тебя и началось.
Все засмеялись, засмеялся и дед.
— Зато ты у нас кобыла чала.
Катя озорно вскинула голову.
— В дедушку Селиверста пошла: давай, тятенька, я и тебя, как сноп, подниму.
Все весело захохотали, а Сыгней как будто ждал этой бесшабашной минуты и сквозь хохот крикнул:
— Ты, Катена, на словах смелая. Заставь лучше тятеньку поплясать с тобой.
Алексей подмигнул ему и Кате:
— Мы упросим дядю Фому с мамынькой поплясать.
Ведь лучше их на селе и плясунов не было…
А мне не верилось: как это дедушка, маленький, неласковый, с согнутыми коленками, гроза в дому, при котором и вольного слова нельзя сказать, как это он мог. быть когда-то плясуном? Странным казалось и то, что он сейчас не сердится, не топает ногами, а смеется в бороду и как-то весь посветлел, стал легким и кротким.
Невестки Паруши, всегда скромные, ласковые, сейчас были похожи на девчат, словно невесты. Они все время пересмеивались с Катей и с мамой и о чем-то оживленно разговаривали с лукавой игрой в глазах. А Терентий весь ушел в работу и ненасытно бил своим цепом, стараясь перещеголять и деда и отца. Но отец не уступал ему, и оба они подбодряли друг друга благодушными усмешками.
Мы с Семой быстро разрезали серпами пояса у снопов, а вслед за нами женщины стали перетряхивать солому черенками цепов. Густо и пряно запахло соломой. Приятно было глядеть, как солома взлетает кверху золотым руном и над нею вихрится розовая пыль. Когда еще раз промолотили взрыхленную солому, мы вместе с женщинами стали сгребать ее граблями в вороха и относить в сторону. Сема подвел лошадь с волокушей и трехрогими вилами сложил вороха на слеги. Этот кудрявый омет соломы мы увезли в сторону, в сугроб.
Я с разбегу бросился в мягкую золотую копну и кувыркался на ней, а она с шелестом упруго подкидывала меня кверху. Сема забывал, что он мне по годам неровня, и тоже с хохотом бросался за мною. Мы барахтались с ним, задыхаясь от избытка здоровья и беспричинного счастья.
А женщины уже несли снопы и стали укладывать их вплотную друг к другу. И опять в том же порядке все заработали цепами. И опять звучные удары молотил и шум соломы, как бушующая пена в половодье, разносились по луке и эхом отзывались на окоченевшей колокольне. По дороге вдоль амбаров проезжали на санях мужики, с удовольствием смотрели на молотьбу и издали снимали шапки.
Эта молотьба зимою вспоминается как редкие дни радости, как лучшие дни моего детства. В этой дружной, веселой работе люди как будто раскрывали в себе что-то новое. Они как будто забывали о своих домашних и личных заботах, о нужде и недостатках, об обидах и горестях. Мне казалось, что они становились красивыми, очень добрыми и любили друг друга. У матери уже не было затаенной печали в глазах, и скорбные морщинки около глаз исчезали. Она становилась как будто сильнее, смелее, порывистее. Отец уже не думал о себе: и форсистость пропадала, и умственность таяла. Он бойко, размашисто, словно наслаждаясь здоровьем, работал цепом, лихо ворошил солому и даже бросался к нам с Семой помогать накладывать на волокушу. И лицо него было таким же молодым и веселым, как у Сыгнея, который, казалось, не работал, а играл с мужиками и бабами.
Молчаливый и тяжелый Терентий благодушно посмеивался в переглядке с Сыгнеем и Алексеем, показывая из-за густой бороды, покрытой инеем, широкие белые зубы.
А Сыгнею не терпелось похохотать, сделать ногами плясовой перебор и подурачиться с Алексеем, который широко ухмылялся, когда в перерыве пробовал с ним бороться Сыгней или когда шутили с ним бабы.
Лёсынька, живая, подвижная, с большими, удивленными глазами, должно быть, знала, что она красива: время от времени она как будто спохватывалась и чуть-чуть подбрасывала голову. Она все время о чем-то говорила с Катей, с матерью, перекидывалась шутками с Сыгнеем. Раза два она угрожающе замахивалась цепом на Сыгнея, а потом на Алексея, которые, должно быть, отпустили какую-нибудь вольность. Малаша, с задумчивым лицом, с кроткой готовностью и нежностью в глазах, больше молчала, как скромница.
И я думал тогда: почему так мало в нашей жизни этих горячих дней дружной работы, когда люди преображаются, делаются хорошими, беззлобными, праздничными?.. А ведь они хотят работать, любят свой труд, тоскуют по нему, как дядя Ларивон, и словно пьют в такие моменты живую воду.
Ведь в этой работе «помочью» нет корысти и никто не помышляет о будничных расчетах. И дед, у которого любимое занятие при безделье щелкать на стареньких счетах и который всегда печется о каждой копейке, как о благостыне, сейчас словно в бане вымылся или переживает какую-то удачу. Значит, если бы у каждого мужика была земля, он все время горел бы в работе и не истязал бы ни бабу, ни ребятишек, не пил бы горькую, как Ларивон, не был бы в безысходной кабале у барина и не тянул бы из него жилы мироед. А все дни жизни наших мужиков заняты были жалобами на недоимки, на всякие поборы и взыскания, на бесхлебье и бескормье. Все беды и напасти шли от барина и богатея, за которых горой стояло начальство. И не у кого было искать помощи и правды, а плетью обуха не перешибешь. Росла у людей лютая ненависть и к барину, и к богатею, и к начальству, которых они встречали хоть и без шапок, но с. неутолимей враждой. Иногда говорили о каких-то бунтах, вспоминали Стеньку и Пугачева, но все эти разговоры оканчивались безрадостно: там каких-то бунтовщиков заперли в острог, там всю деревню выпороли, там солдат пригнали…
Проходили через деревню разные бродячие люди, странники, рассказывали разные небылицы о праведниках, которые бежали от мирской суеты, от антихриста и ходят по Руси, отказавшись от семьи, от дома, от разных соблазнов.
Был и у нас свой праведник — старик Микитушка, который безбоязненно обличал богатеев и был грозен в своей правде: он проповедовал общий труд на общей земле, без граней и меж. «Межа хуже ножа, — вещал он. — Она, межа-то, душу режет. Межи да грани держат людей в брани. Земля — ничья, богова, а землей владеют сребролюбцы, властители, слуги антихриста. А чтобы победить антихриста, надо бороться с ним общим миром, мир должен отказаться от личного пользования землей, от раздельного хозяйства и все сделать общим. Труд человечий — не загон овечий, он свободу и согласие любит». Микитушку слушали с удовольствием, спорили с ним и сочувствовали ему, но относились как к чудаку. Высокий, с апостольской бородой, он ходил по селу с устремленными вдаль глазами и бормотал сам с собою. Он тоже был в нашем «поморском согласии», но не отличался истовостью при «стоянии», а рассуждал вслух, изобличал Митрия Степаныча, который постоянно совестил его дрожащим от ненависти голосом.
Но Микитушка казался мне необыкновенным, таинственным человеком. В его большом лице были и суровая жестокость, и светлая дума.
В часы бескорыстной работы перед моими глазами мелькал образ этого странного старика. «Труд любит свободу и согласие», — звучал его голос, убежденный, внушительный и добрый. Микитушка тоже проповедовал «помочь», но не от случая к случаю, а постоянную, общую — всем селом, всем миром. Тогда все люди были бы веселые, радостные и жили бы вольготно. Если и не думали об этом все на току, то этого желали, потому что все, начиная от нас с Семой работали с увлечением, ненасытно, с наслаждением.
Пришла Паруша и принесла горячий пирог с капустой.
А когда все поели, сама взяла цеп и стала рядом с дедушкой. Большая, тучная, в полушубке она напоминала мне Девицу-Поляницу с палицей в руках.
— Ну-ка, Фома, начинай!.. Мы, старики, еще молодым-то не уступим. А хорошая работка и стариков молодит. Вот держу цеп-то, а он у меня в руках-то, как борзой конек.
И сердце голубем бьется.
Все с удовольствием смотрели на нее и посмеивались.
Катя крикнула задорно:
— Чай, ты, баушка Паруша, всех выше, всех больше: за тобой не угонишься! Ты бы нас, баб, плечами-то своими поддержала.
— Выйдешь замуж — весь дом на своих плечах понесешь… Знаю, знаю твой норов-то.
Вместе с дедом Паруша била цепом гулко, молотило ее взвивалось с визгом и готово было оторваться от черенка.
Все разгорячились еще больше. Удары цепов стали еще сильнее, а молотила над головами взвивались крылатой чередой. От грохота цепов и стона снопов дрожал ток, и мне чудилось, что на меня дует ветер. Лица у всех были сосредоточенные, и в глазах вспыхивала веселая злость. Даже мать показалась мне выше ростом. Вместе с Лёсынькой она улыбалась от возбуждения. Сыгней как будто плясал, подстегивая себя быстрыми взмахами цепа. Отец даже зубы оскалил от буйных взмахов и бил молотилом с дикой страстью. Паруша легко и могуче взмахивала цепом и совсем не чувствовала напряжения: цеп ее взлетал и падал легко и упруго. Она вызвала в работе какой-то новый и бодрый порыв, и все чувствовали ее ловкость, силу и живой дух.
Так она прошла несколько умолотов, а потом бросила цеп и с сердитой шуткой крикнула:
— Вас, молодых, не перемолотишь. Замаяли совсем.
Но по легким ее шагам и взмахам рук и по задорному ее лицу совсем не видно было, что она замаялась.
К вечеру вся копна была обмолочена. А копна эта стояла на гумне, как высоченная корчага. Здесь, на току, она была сложена в четыре скирды, похожие на избы бобылок.
Обмолоченная солома свалена была в длинный омет. Зерно сгребали в большую кучу. Веять его будут уже сами Терентий и Алексей с утра. Дедушка с охвостьем в бороде, такой же бодрый и легкий, снял шапку, перекрестился и, улыбаясь, сказал:
— Ну, поработали с богом, а теперь пир горой. Зови, Терентий, на хлеб, на соль, на брагу.
Все сняли шапки, а бабы стояли утомленные и тоже улыбались. Сыгней с Алексеем пересмеивались и подталкивали друг друга.
Когда шли к Паруше, Лёсынька, призывно качнув головой в сторону Кати, а потом мамы, запела высоким голосом:
Распосею свое горе По чистому полю…И все — и женщины, и Сыгней с Алексеем — подхватили:
Уродися, мое горе, Не рожь, не пшеница, Уродися, мое горе, Трава муравая…Так с песней подошли к избе Паруши. Мы с Семой, как равноправные работники, тоже шли в общей гурьбе. Паруша вышла к нам навстречу с поклоном и широко отворила ворота: с «помочи» впускают людей не в калитку, а в распахнутые ворота, как почетных гостей.
— Милости прошу дорогих работничков, дружьёв и сродников, — напевно пробасила Паруша, — на хлеб, на соль, ка угощенье. Потрудились с хорошей душой, а сейчас отпразднуем. Честь тебе и привет, Фома! Входи воеводой в нашу горницу…
И она вместе с дедом пошла в открытые ворота.
В избе невестки захлопотали около стола: постелили домотканый столешник в выкладах и всем роздали утиральники на колени. Паруша гремела посудой в чулане. Пахло щами и топленым молоком. Дед сел под иконами, рядом с ним отец, потом Терентий, Алексей с Сыгнеем. Катя и мать поместились на приставной лавке, тут же примостились и мы с Семой.
Дед благодушно поглаживал бороду и вспоминал:
— Эх, какие раньше помочи были! Бывало, семей пять соберутся, а семьи-то большие — человек по десяти. Все так в руках и играет. Да каждый хочет перещеголять другого, да чтобы лучше другого…
Паруша принесла из чулана большую чашку щей и поставила на середину стола. Невестки раздавали деревянные ложки — красные, с золотыми разводами. Паруша зычным басом перебила дедушку:
— А чем сейчас плохо, Фома? Гляди-ка, молодцы все какие! А работники-то! Когда бы мы помолотили копну-то?
А тут в день обернулись. Дети-то, Фома, погляжу я, не хуже нас с тобой. А сейчас внучата-то грамотеи пошли и лучше нас будут. Дай только где размахнуться! Одно горе — связали нас, обездолили. Богачи пошли капиталами ворочают, а капиталы-то с последних клочков сгоняют, хуже крепости людей закабалили. Серегу-то Каляганова сгубили… Юлёнковых, Ларивона… мало ли их? Да и мы с тобой на ниточке держимся. Раньше копейкой не дорожили: все свое было.
А сейчас за копейку-то людей продают да покупают.
— А я о чем говорю? — со вздохом ответил дед и накрыл клочками бровей глаза. — Я вон на щетах-то своих каждый волос свой на полушки считаю. Раньше щеты-то и на столе не были, а сейчас я их к иконам кладу.
Паруша засмеялась:
— Клади не клади к иконам-то, все равно просчитаешься. Настоятель наш лучше тебя считает.
Все тоже засмеялись, словно она сказала что-то неожиданно забавное.
Отец отважился поехидничать: здесь, у Паруши, дед не оборвет его, да и настроены все были благодушно.
— Только тебя одну, тетя Паруша, настоятель ни с какого боку не прижмет: ты вон и обчественного быка покорила.
Паруша с притворной сварливостью накинулась на него:
— Не смейся над старухой, Вася! Бык-то с цепи сорвался от злых работников, а он ласку любит, он — как дитё малое.
А Митрий-то кротким словом да коварством из нас, дураков, веревки вьет.
Лёсынька весело, играючи, поблескивая глазами, потчевала всех поющим голоском, а скромница Малаша несмело кланялась и улыбалась, мягко приговаривая:
— Не побрезгуйте, соседушки дорогие. Не обессудьте нас за скромную мир-беседу.
Лёсынька поставила на стол ведро браги с большим ковшом, а Малаша принесла жестяные кружки. Терентий черпал ковшом брагу и разливал ее по кружкам. Выпили и стали есть щи. После щей выпили одни мужики, уже по две кружки. Съели жирные лапшевники, потом пшенники. Тут мужики опять забражничали. Пришла бабушка Анна в своей праздничной китайке. Ее посадили рядом с дедушкой, а с краю присела к ней Паруша. Дедушка захмелел и стал встряхивать седой бородой. Он затосковал — обхватил руками голову и закачался из стороны в сторону. Отец и Сыгней перемигивались со смехом в глазах. Вдруг дедушка встал и с пьяненькой улыбкой запел высоким, дребезжащим голосом:
Подуй, подуй, погодушка, с высоких гор…Он положил руку на плечо бабушки Анны, а другой рукой взмахнул над столом.
Паруша гулко подхватила запев, а бабушка со слезами на глазах наклонила голову и загрустила:
Раздуй, развей, мать-погодушка, калину в саду…Тут уж не утерпела и Катя. Вместе с матерью они завторили:
Калинушку да со малинушкой, лазоревый цвет.Дед сразу разошелся и заходил ходуном: он взмахивал руками, хмурил брови на мужиков, смеялся глазами и требовал, чтобы пели все. Его голос становился громче и заливистей: он играл им, как бывалый певун, с придыханьями, с трелями, с разводцами, и мне чудилась в его голосе та нарядная резьба на оконных наличниках и карнизах, которую так любили наши мужики. И захмелевший отец, и бородатый Терентий, и невестки — все устремились к нему и пели с задумчивой радостью. Песня была широкая, хватающая за душу, и в ее напеве было так много раздолья, что хотелось вздохнуть всей грудью, широко распахнуться навстречу этой вольной погодушке. Только Сыгней и Алексей говорили, посмеиваясь, о чем-то своем. Им грозила пальцем Лёсыныса и с упреком качала головой. Она пела хорошо, сердечно, от души, и голос ее, сочный, глубокий, молодой, должно быть, нравился дедушке. Он порывался к ней и еще заливистей играл своим голосом. Его красное, пьяненькое лицо старчески улыбалось, он поднимал руки, как будто звал всех к себе, чтобы пожалеть об ушедших днях — о лазоревом цвете своей молодости. А Паруша, уверенно подняв голову, оглядывала всех ясными глазами и низким голосом ласково рассказывала об этой желанной погодушке и о лазоревом цвете. Прожили жизнь трудно и честно, не о чем жалеть, а теперь надо помогать жить молодым: пусть раздует погодушка веру в свои силы у наших детей. Вишь, какие они сильные, здоровые, веселые. Пусть трудятся и строят по-новому свое житье-бытье на земле отцов. Я смотрел на Парушу и как будто понимал ее: даже в песне она была жизнерадостна и не стонала о прошлом, а жила вместе с детьми сегодняшним днем и верила в светлые дни будущего… А дедушка с бабушкой с печалью вспоминали о былом, как о невозвратном счастье.
Мать пела задушевно и задумчиво: она прижалась к плечу Кати, словно просила поддержать ее и откликнуться сердцем на ее думы, овеянные лазоревыми надеждами. Но Катя, смелая и озорная, не откликалась на ее мольбу и, так же как Паруша, пела уверенно, с высоко поднятой головой.
Она верила в свою судьбу и хорошо знала свою дорогу.
Малаша, должно быть, почувствовала грустные думы мамы, она ласково взяла меня за плечи и понудила слезть со скамьи. Села она на мое место рядом с матерью и так же ласково усадила меня рядом с собою. Обняв мать, она прижала ее к себе, а мать обернулась к ней грустно и благодарно.
Сема потянул меня-за руку и кивнул головой на дверь.
Ему было скучно оставаться здесь: он думал о своих делах.
Взрослые забыли о нас, и я почувствовал себя здесь лишним. Никто не заметил, как мы вышли из избы.
XXV
Масленица праздновалась целую неделю, и за эти дни перед угрюмым голодным постом всем хотелось вдоволь повеселиться. Небо было свежее, голубое, теплое и близкое.
Ослепительно-белые облака плыли, как льдины на реке.
Солнышко было горячее, молодое, ядреное. Снег на улице таял, рыхлел, и лучи солнца пронизывали его глубоко; сугробы щетинились, и ледяные иголки играли радугой.
Грязный снег на дороге был мокрый, тяжелый и зернистый, а когда проезжали сани, след от полозьев блестел водянисто и тускло. Заречные избы на горе мутнели в лиловой дымке.
Пахло навозом, талым снегом и соломой. С крыш свешивались длинные сосульки, и, вспыхивая, лилась с них капель.
По-весеннему пели близко и далеко петухи, и жалобно мычали телята.
По улице длинного порядка гужом навстречу друг другу неслись сани, запряженные парами или в одну лошадь, с колокольчиками и разноцветными платками на дуге. На санях сидели девки и парни и визгливо пели песни. Гармоньи играли переборы. Парни изображали из себя пьяных, ломались, махали руками и орали запевки. Вся деревня будоражно выехала на улицу, нарядилась в яркие сарафаны и полушалки, в новые шубы и поддевки. Вереницы саней, вычищенных лошадей с подвязанными хвостами и грязных, шелудивых одров заполняли улицы. Озорники нахлестывали своих борзых коней, голодных и костлявых, с визгом обгоняли передних.
Каждый день приносил мне много новых и волнующих впечатлений. С утра тетка Катя и мать начинали наряжаться: надевали тяжелые юбки на вате, чтобы быть толстыми, потом красные «рукава», потом — широкие сарафаны с цыганскими складками и долго гляделись в зеркальце, мешая друг другу. Самая искусная работа была с платком и полушалком: вниз старательно повязывался белый платок, а поверх алый полушалок. Белый платок надо лбом должен был сиять венчиком, а полушалок блистать кокошником. У Кати по-девичьи, вплотную к волосам, кругло, а у матери — кичкой, над повойником. Надевали они для праздника кожаные калоши, твердые, как дерево, сшитые Сыгнеем на много лет. Лица у обеих были праздничные, сосредоточенно ожидающие и счастливые.
Бабушка, охая, возилась в чулане: она тоже наряжалась в синюю китайку с желтой, в огурцах, каймой вверху и от груди до конца подола. Издали эти желтые полосы похожи были на парчу. Она тоже мастерила на голове кубовый платок, но уже без белого венчика, а в зеркало смотреться ей грех: не молоденькая. Рыхлое ее лицо — умильно-монашеское. Но она настроена тоже празднично. Они с дедом ждут гостей — тетю Пашу из Даниловки и тетю Машуху из Александровки с мужьями.
На дворе под плоскушей отец с Сыгнеем запрягали в санки мерина, а в пристяжку — кобыленку Сереги Каляганова. Под дугой позванивал целый набор колокольчиков.
И было смешно видеть нашего гнедка взнузданным, с задранной головой и оскаленными зубами. Хвосты завязали в узел, и от этого лошади казались кургузыми и голенастыми. Отец был веселый и хлопотал около лошадей как-то необычно юрко и нетерпеливо.
Мать и Катя вышли на двор и, пухлые, в стеганых юбках и шубейках внакидку, в пронзительно алых полушалках, стояли у саней. Отец и Сыгней, в новых шубах, которые сшили Володимирыч с Егорушкой, хлопотали около лошадей, чтобы подбодрить их. Сыгней принес из клети дерюгу, расстелил ее на сиденье и спустил на каретку, на задок. Ворота были открыты настежь, и за мокрыми сугробами виднелись прясла, амбары, снежный холмик выхода. А в просветах между старенькими амбарушками, по дороге длинно- го порядка, мелькали бегущие лошади в струях пара и сани с ворохами разноцветных девок и молодух. С разных сторон врывались во двор разноголосые песни. На крышах изб и амбаров сидели вороны и каркали, вытянув шеи, как сварливые старухи. Пел и звенел воздух, пели сугробы и сумеречный двор. Даже огненный петух в толпе пестрых кур гулял около наших саней и орал, выгибая шею. В душе бурлило что-то новое, какое-то невнятное счастье, какие-то радостные ожидания. Лицо матери смеялось, и она ждала чего-то внезапного: вот-вот случится что-то необыкновенное, что бывает только раз в жизни. Катя мне казалась сильной, будто она сейчас была настоящей хозяйкой. Она уверенно распоряжалась:
— Ну, садись, невестка! День, да наш… будь на час девкой. Братка, бери вожжи! Сыгнейка, Титка! Садитесь на передок! И Федяньку туда воткните. Семка! Где ты?
Но ни Тита, ни Семы не было ни в избе, ни во дворе.
Должно быть, они ушли к своим друзьям.
Сыгней в смазных сапогах, в шубе нараспашку морщился от неудержимого смеха и егозил перед санями.
— Поезжайте! Я пойду в другие места… Чай, я и дома с вами навеселился. Мы с Кантонистовыми на розвальнях поедем: народ они разбитной, с гармоньей по селу зальемся. Зачем я с вами, клушами, сидеть буду? Мы еще в Ключи помчимся — с брагой, ключевских девок распотешим.
Отец смеялся над ним:
— Эка, с Кантонистовыми, с бражниками связался!..
У них и отец-то кочетом прыгает. Нужда скачет, нужда пляшет. Аль соскучился по ключевским кольям? Там, брат, люди кольями наших встречают.
— А мы их брагой угостим, — хихикал Сыгней. — Девок в розвальни натискаем, а парням брагу ковшом подносить будем… Они страсть нашу брагу любят.
Мать и Катя сели в санки и застатились, как на картинке, а отец пристроился с краю с ременным кнутом в руке и натянул целый ворох ременных вожжей. Гнедко еще выше задрал голову и захрумкал удилами. Сыгней залился хохотом и заплясал у саней: должно быть, наш экипаж и рысаки, а особенно щеголеватая посадка отца показались ему очень смешными. — Ну, пошел!.. крикнул он сквозь хохот. — Н-но!
Тпру-у-у! Понесли, вороные! Держись, братка, — разнесут, костей не соберешь.
А отец, под хохот Кати и матери, ударил вожжами по лошадям, откинулся назад, делая вид, что едва сдерживает гнедка и кобыленку, лихо закричал, взмахивая кнутом:
— Н-но, лихие! Шире, грязь, — назём ползет.
Я тоже хохотал, вцепившись в передок саней, — хохотал не потому, что было смешно, а потому, что никогда еще не переживал такой свободы, такого вольготного веселья, как в этот день. Словно все — и дед, и отец, и мать родились заново. Как будто все будничные заботы, весь~суровый гнет дедовой власти, постоянный страх и угрюмая скука патриархального благочиния растаяли, как ночь, и в дом ворвалось радостное, свежее утро, а солнышко осветило лица и заиграло в глазах. Вся деревня кричала, пела, звенела колокольцами, кудахтали куры, пели петухи, и шум улицы от длинной вереницы саней, которые мчались друг другу навстречу, тревожил сердце какой-то новой, пробудившейся радостью. А может быть, эта радость плескалась во мне потому, что я ощущал в себе бурю роста, когда тело трепещет от наслаждения жизнью, когда хочется прыгать, играть, исследовать и открывать новое, когда носишь в себе солнце, небо, чудесные переливы воздуха, а ночью утопаешь в бездонной тишине, полной огромных непостижимых тайн. Может быть, и потому, что солнышко поднялось уже высоко, посвежело, заулыбалось и запахло весною.
На крыльцо вышла бабушка, и в ее лице и уставших глазах я увидел тоже радость: вероятно, она вспомнила свою давно минувшую молодость. Всякая молодость хороша: ведь она расцветает и бушует всюду, а весенняя трава пробивается навстречу солнцу даже из-под камней и из подполья.
Лошади зашагали к воротам и зазвенели колокольчиками. Отец ударил кнутом по их сухим крупам, а Сыгней схватил метлу и огрел ею гнедка. У бабушки поднялись брови, и она затряслась от смеха.
— Братка-то… — задыхаясь от смеха, кричал Сыгней бабушке. Взнуздал… наших бегунов… да еще лихачом сидит…
Он подбежал к саням и уперся плечом в задок.
— Подтолкнуть, что ли, а то не осилят…
Отец тоже смеялся и нахлестывал и гнедка и кобыленку.
Мы выехали на улицу. Лошади, гремя колокольцами, потрусили мимо пустой избы Каляганова, мимо пятистенного дома с лавкой Митрия Степановича и свернули на длинный порядок.
По улице сплошной чередой ехали парами и в одну лошадь девки и молодухи и горланили песни. Впереди и позади звенели колокольцы, фырчали лошади. Санки и розвальни пылали нарядами, а позади спускались клетчатые одеяла, шали в огурцах, дерюги. Навстречу двигался другой поезд.
Девки и молодые бабы набивались в сани целым ворохом, пронзительно кричали песни и хохотали. Нас перегоняли, нахлестывая упаренных лошадей, парни с гармоньей. Они тоже орали песни. Некоторые из них спрыгивали с саней, подбегали к девкам и падали в их кучу. Девки визжали, отбивались от них и старались вывалить их на дорогу.
На той стороне тоже суматошились разноцветные вереницы саней. Старики и старухи кучками шли от избы к избе и пели протяжные песни, а кто помоложе — плясали по дороге, пьяненькие, с блаженными лицами. Мать и Катя пели одну песню за другой, и лица их раскраснелись и стали красивыми. Отец не в тон тоже пел высоким тенорком и делал вид, что он навеселе: он крутил головой, взвизгивал и разудало погонял лошадей. И мне казалось, что наши одры тоже заразились общим движением и весельем и стали как будто бодрее и рысистее. Все песни я знал и вместе с матерью и Катей заливался во все горло, и мне ненасытно хотелось еще и еще петь. Когда мы проезжали мимо избы Максима Сусина, я невольно поискал глазами тетю Машу.
На завалинке сидел сам кривой Максим и грыз подсолнушки. Но ни Маши, ни Фильки нигде не было. Только на обратном пути я увидел хорошую лошадь и двухместные санки. Правил лошадью Филька, а Маша сидела, бледная и угрюмая, рядом с ним. Она увидела меня, и лицо ее вспыхнуло радостью и испугом. Она махнула мне рукой и что-то крикнула. Филька снял шапку и приветливо оскалил зубы. Он был такой большой, что санки под ним казались игрушечными. Мать на минуту перестала петь и проводила Машу тревожными глазами.
Катя злословила:
— Красуется перед народом Филька-то: глядите, мол, какую кралю заарканил. Максим-то кривой тоже в мироеды лезет…
Отец завистливо усмехнулся.
— Кривой-кривой, а не промах. Он холсты взял в залог у баб за отруби для скотины и продал их в городе, а Кузьму Кувыркина заставил себе сыромятную кожу сдавать.
Сейчас в долю к Пантелею вошел — вощину да шерсть скупает по селам. Он не только баб — чертей сожрет…
Но Катя уже не слушала его и, задрав голову, запела:
«Во пиру была, во беседушке…» Подхватила мать, потом я.
Отец захлестал лошадей и сдвинул шапку на затылок. Я не отрывал глаз от встречного потока проезжающих в звоне, в песнях, в криках, в кипенье разноцветных платков и лент.
Встречные махали нам длинными рукавами, смеялись и кричали не поймешь что.
Так мы объехали все село. На той стороне к нам подбежал трезвый Ларивон и ввалился в сани.
— Прокачусь с вами, Вася и Настенька. Одно горе — браги купить не на что. Сват Фома скупой — взаймы ни копейки не даст и в гости не позовет, не любит он меня… Да и ты, Вася, не любишь… Отвези ты меня к свату Максиму: он мне не откажет. — И вдруг взъярился: — Он-то не откажет, да враз свяжет. Лишний гвоздь в крест забьет… Эх, Настенька! Убежал бы я отсюда куда глаза глядят. Ежели не сопьюсь, убегу ночью… и сгину… чтобы звания не осталось.
Отец недоброжелательно напомнил:
— Без пачпорта, Ларивон, по этапу пригонят аль, как бродягу, в Сибирь сошлют.
— А пущай, мне все едино: что клюква, что рябина.
И в Сибири люди живут. Может, я там-то и найду свой талан. Ничего у меня не выходит, милая Настенька, сестрица моя дорогая. И силы есть, и работу у барина ворочаю, как бык. А рази эта работа в радость? По ночам-то плачу я, Настенька. Как домовой брожу. Все нутре тоска сожгла…
Словно я железом скованный…
Мать грустно молчала, и я видел, что ей жалко Ларивона. А отец трунил над ним:
— А ты пей больше. Может, пропьешь последние лоскутки да себя заложишь. Тогда и тужить не о чем.
Отец был недоволен, что Ларивон ввалился в сани, Катя тоже надулась. Он омрачил им гулевой час. Мне тоже этот длиннобородый дядя уже достаточно принес тяжелых обид.
Он будил во мне тревожное беспокойство, и я боялся встреч с ним: я ждал, что он обязательно выкинет что-нибудь неожиданное, несуразное, дикое. А мать была спокойна, но посматривала на него с печальным раздумьем. Она вздохнула и грустно сказала:
— Не будет тебе счастья, Ларя. Сам ты не знаешь, чего тебе надо. И здесь запутался, и на стороне пропадешь. Тебе и при отце было тесно, а сейчас и свет тебе в овчинку.
Ларивона как будто встряхнули слова матери. Глаза его вспыхнули, он ударил себя кулаком по груди.
— Верно, Настенька, сестричка моя сердешная! Пра, верно! Как рос в мешке, так в мешке и дрягаюсь. Разорвать бы его, да не рвется. Пойду к Микитушке, к божьему человеку. Один он остался для души. Он-то зна-ат… он-то нас, дураков, давно зовет к спасенью. Все, бат, брось — и все, бат, найдешь. Пойду! Стой, Вася, я вывалюсь.
Отец как будто ждал этого и остановил лошадей. Ларивон легко выскочил из саней и, сутулясь, размахивая руками, широко пошагал по санной дороге вдоль реки на дальнюю часть Заречья — к крутому длинному обрыву, где поверху тянулся самый высокий длинный порядок. Этот далекий ряд изб и амбаров напоминал мне густую стаю ворон на заборе.
Внизу, на снежной равнине, было тихо, но со всех сторон неслись песни, переливы колокольчиков. На крашенинниковом спуске гурьбой катались на салазках ребятишки. Всюду, даже в воздухе, чувствовалось хмельное веселье. Казалось, что и оттаявшие стекла окон тоже улыбаются, и стаи галок и ворон на голых ветлах внизу, позади нашего порядка, тоже орут по-праздничному.
XXVI
В один из таких дней приехали к нам гости: тетя Паша с мужем Агафоном, с парнишкой Евлашкой и тетя Маша с Миколаем Андреичем. Агафон, похожий лицом и бородой на Ларивона, лихо подлетел к воротам на паре серых лошадей с расписной дугой и гирляндой разных колокольцев, с погремушками на узде. По дороге он прихватил и Машуху с мужем. Это был зажиточный мужик, который не только пахал арендованную землю, но и занимался извозом.
Дед очень его жаловал и гордился такой родней. Тетя Паша была стройная, с легкой, плывущей походкой женщина, курносенькая, всегда ласково улыбающаяся, с певучим, нежным голосом. Она ласкала нас с Семой, привозила гостинцы и со всеми братьями говорила приветливо и мягко. Машуха была низенькая, по-старушечьи тяжелая и озабоченная и на нас, малолеток, не обращала внимания: должно быть, ей надоели свои дети, а рожала она каждый год, и на ее руках постоянно был грудной младенец. Но дети у нее почему-то умирали один за другим и росли только трое — два мальчика и девочка. Она была безобразно рябая, и дети были изрыты оспой. Ее муж, Миколай Андреич, дома не жил, а приезжал только на большие праздники. Он работал в Саратове на паровой мельнице и щеголял во всем городском, как Миколай Подгорнов. Это был разбитной человек, никогда не унывающий. Лицо его постоянно морщилось от смеха, и маленькие глазки беззаботно щурились и хитро подмигивали. Все у нас в семье любили его за легкий, беззлобный нрав, и даже отец заражался его весельем. Только дед хмурился и журил его:
— Бестолковый ты человек, Мнколай. Только и знаешь: ха-ха да ха-ха — не боюсь греха. А жизнь прожить — не поле перейти.
А Миколай Андреич охотно отвечал, посмеиваясь:
— А чего, родитель, тужить-то? Не пашем, не сеем, не жнем, а сыты и обуты-одеты. Машуха на своей усадьбе копается, я — в рабочей артели, на вальцах работаю. Месяц проработал — денежки получай. А жить да работать в своей артели вполагоря: там — товарищи. В добрый час в компании и душу отведешь, а в худой и руку подадут. Мы с Машаркой летом на Кубань подадимся. Там хлебный край, и на мельницах сотни работают. Дружки туда зовут. Я ведь «вальцовой» называюсь, мастер.
Отец слушал его с удовольствием, а потом они уходили куда-то вдвоем, как задушевные друзья.
Агафон любил больше беседовать с дедушкой, и они даже за угощеньем, за постным столом, где ради праздника стояло ведро браги, говорили о хозяйстве, о торговле и об извозе. Агафон гладил свою бороду и хвалился:
— Мы с тятенькой — в хорошем деле. У нас все хозяйство справное. Нас и барин уважает, и на стороне везде содружье. В выгоде союз — главное дело. Гляди-ка, лошадки-то какие, сбруя-то! Прокачу, сродники, всем на удивленье!
Он был доволен собой и чванился. Сидел он сытый, жирненький, толстощекий, с заплывшими глазками и смотрел на всех с добродушием удачливого хозяина. А дед не мог на него налюбоваться. Бабушка ухаживала за ним и умильно потчевала своей стряпней. Но он был падок на хмельное, брагой брезговал — «квасок, тесть!» — и ставил на стол штоф водки.
Женщины забирались в чулан и там шептались, посмеивались, обсуждая какие-то свои, бабьи, дела. А мы с Евлашкой выходили на двор и играли в «козны» и в «скаланцы».
К нам приставал Сема и распоряжался игрой, как старший и как опытный игрок. Появлялся и Тит. Сначала он грыз семечки и наблюдал за игрой снисходительно, как взрослый.
Потом приносил откуда-то из своего тайника козны и включался в кон.
Евлашка, белобрысенький толстячок, очень похожий на мать курносенький, с очень добрым личиком и девчачьим голоском, — был ровесник мне. Он мне очень нравился. Порывистый, с лукавыми зелеными глазками, он заливисто смеялся над каждым пустяком: брошу я битком в козны — смеется, выбиваются козны — смеется, сам швырнет биток — хохочет, а когда Тит целится в кон — рассыпается колокольчиком. Для него не было большего удовольствия, как тайно от всех дарить мне или Семе конфетку, крендель, цветной камешек, пуговицу с орлом и вообще всякую чепуху. Однажды Тит накрыл нас, когда Евлашка вынул из кармана порток большой позеленевший грош и с радостным нетерпением протянул мне его.
— Это я нашел еще осенью в огороде, в борозде, как картошку вспахивали. Возьми и не теряй, люби — не забывай.
И он не утерпел и засмеялся.
Это был старинный пятак — толстый, тяжелый, с широко раскинутыми крыльями у орла.
— Эх ты, чтоб тя тута! — удивился я, взвешивая монету на ладони. Чижолый какой, чай, с фунт будет.
Евлашка даже подпрыгнул от удовольствия и залился смехом.
Пальцы Тита мигом слизнули грош с моей ладони.
— Это мне дай, а ему накой!
Евлашка испугался, и радость его сменилась плаксивой гримаской.
— Это я Федяшке… У меня есть еще поменьше, — хошь, тебе отдам?
И опять засмеялся, но со слезами.
Он вынул такой же старый грош и протянул Титу. Тит жадно схватил его и приложил к первой монете.
— И ту и эту мне. Ты, ежели опять найдешь, мне побереги. Я их днем с огнем ищу. — И значительно добавил: — Грош царицы Катерицы счастье приносит… Он фармазонный.
И мне стало понятно, почему он постоянно высматривал на ходу что-то вокруг себя, как будто что-то потерял.
Я обиделся, что так бесцеремонно отнял он у нас гроши, и с сердитой насмешкой крикнул:
— Ты еще с нас кресты сыми… они, чай, тоже медные!
— Кресты грех сымать, — наставительно возразил Тит с богобоязненной строгостью. — Они при святом крещении надеваются. Их ангел-хранитель сторожит. Сымешь — господь семь грехов навалит. Отмаливай их тогда! Долги-то богу надо отрабатывать, как Митрию Степанычу…
Евлашка развеселился и протянул ему солдатскую кокарду:
— На тебе, Титок. Это мне один солдат дал, а я носил на картузе. Ежели что найду — тебе привозить буду. Мне страсть любо дарить что-нибудь.
И он так хорошо засмеялся, что у меня задрожало сердце. Я ждал, что Тит чем-нибудь отдарит его, но он только удовлетворенно шмыгал распухшим от насморка носом.
Я возмутился и набросился на него:
— Евлашка-то задарил тебя, а ты чего ему дашь?
— А чего я дам? Чего у меня есть-то? — встревожился он, озираясь. Евлашка — богатый, а мы — бедные. Когда я накоплю всякой хурды-мурды, а может, и клад найду, — женюсь, тогда раздел у тятеньки вымолю. Вот к Евлашкето сам в гости с женой поеду и отдарюсь…
— Да ты ему сейчас биток отдай.
— Эка! Он, чай, биток-то, свинцом налитый…
Я сердито оттолкнул его:
— Ну и убирайся от нас. Чего тебе еще надо? Ты большой, а кот мышам не товарищ.
Он, переваливаясь, послушно пошагал к воротам.
Евлашка смотрел ему вслед и смеялся. Он тоже читал, но только божественные книги, по праздникам и по вечерам, и его слушали дедушка, бабушка и отец с матерью… Гражданских книжек он не брал у шебалятников: семья у них была такая же строгая и благочестивая, как и у нас. Я сообщил ему по секрету, что у меня есть не одна гражданская книжка, и прочитал ему кое-что наизусть из «Песни про купца Калашникова». Он слушал с широко открытыми глазами, застывший от изумления.
— Э-эх, вот гоже-то как! Аль эту благость-то купить можно? Заслушаешься! Ты бы мамыньке прочитал: она страсть любит слушать и всякие стихи поет.
Я сбегал в клеть, вынул из коробья книжечку и, захлебываясь, прочитал ему заглавие:
— Лермонтов. «Песня про купца Калашникова».
А он дотрагивался до нее пальцами, теребил ее и сам читал по складам. Я сунул книжечку ему в руки.
— Спрячь. Это тебе насовсем. Только дедушке не кажи, а то изорвет. Наш дедушка сколько у меня книжек изорвал!
Ты матери сначала прочитай да баушке…
Он держал книжку в дрожащих руках, не отрывая от нее глаз, и уже не смеялся.
— У меня тятенька-то слушает, что скажет мамынька.
Он не изорвет. А дедушку мамынька-то не боится. Однова дедушку-то хотел кнутом меня отстегать… чайную чашку я разбил, а мамынька как клушка на него налетела.
Я с грустью пожаловался:
— А моя мамынька смирная. Слова не скажет. Она порченая. Сама дрожит да плачет, когда дедушка гневается…
Да и тятя ее бьет.
— Однова и мой тятенька, пьяный, хотел побить мамыньку-то… Ударил ее. А потом в ногах валялся.
Я позавидовал ему:
— Тебе хорошо в семействе-то, коли мать — защитница.
Тебя не бьют. А меня и лупцуют, и заставляют в валенки кланяться.
Мы в эти минуты откровенности были одни на дворе.
Сема ушел в избу после двух конов игры в козны: он считал себя уже большим и предпочитал быть с гостями. Сыгней пропадал на гулянье. Мы собрали козны и спрятали их. На дворе было скучно. На Евлашкиных лошадей в погремушках я уже нагляделся. На улице ослепительно горел снег на солнце, сверкала брызгами капель и, как длинные конфетки, свешивались сосульки с крыш. Деревня пела, звенела, переливалась гармоньями. Мы взяли деревянные лопаты и вышли на задний двор — делать канавы в снегу и гнать воду в буерак. На заднем дворе под навесом встретили нас пять черных овец с ягнятами. Двое из них насторожились и враждебно затопали передними ногами. На открытом загоне лежала рыжая корова на соломе и сонно жевала жвачку.
Воздушная пустота за яром дымилась сиреневым маревом.
Старенькая избушка бабушки Натальи, занесенная сугробами, смотрела на меня печально и покорно. Я не был у бабушки уже два дня, и мне стало стыдно и больно. А когда я увидел Петьку, который нес ей воду на коромысле, я чуть не заплакал. И я решил сегодня же пойти к ней — или с матерью, или один. Но сейчас бросить Евлашку было нельзя — гость: ведь он приехал из Даниловки за двенадцать верст, приехал ко мне.
— Во-он там, в келье, бабушка Наталья живет, — сообщил я ему, вздыхая, — больная лежит. Рак у нее… умрет скоро. Ох, и жалко мне ее! Лучше ее на свете нет.
Евлашка посмотрел на избушку, на меня, на теплое небо в облачках и тихо засмеялся.
— А у меня лучше мамыньки никого нет. Она веселая и никого не боится.
— Она — как наша Катя, — решил я. — Тетю Пашу я тоже люблю: она ласковая.
— Она ласковая, а спуску и дедушке не дает. Всем в доме ворочает. И тоже страсть любит подарки делать! За ней девчонки да парнишки на улице, как ягнята за овцой, бегают. Пойдет за водой и уж обязательно с собой крендельков да лепешечек захватит и обделяет всех. Тятенька смеется над ней: «Ты, бает, Пашуха, разоряешь нас». А дедушка хвалит: «Пущай, бает, ребятишек тешит. Доброй славой дом цветет». Ну, все со смеху и падают. Страсть я люблю, когда люди смеются.
Мы перелезли через прясло на опавший грязный снег.
Он был рыхлый, покрытый сверху тонкой Ледяной пленкой.
Под нашими сапогами ледок со звоном раскалывался, а снег оседал упруго, с хрустом. В низинках он был уже мокрый, зеленоватый, крупитчатый, а в ямках уже блестели лужицы. Мы стали разрывать канавку вдоль прясла к буераку, который подходил близко к огороже. Для меня не было приятнее работы, как разгребать мокрый, тяжелый снег и гнать воду по сахарной лунке. Вода вытекает из-под снега родничками, копится в ухабинках и просачивается в нерасчищенный снег. Играют соринки в ее студеной свежести, и снежная кашица плавает, как накипь. Эта первая вода ростепели вкусно пахнет солодом. Солнышко молодое и горячее: оно греет мне щеки и пронзительно играет искрами в зернах снега и в лужицах.
Нашу работу прервала мать. Она смеялась, любуясь нами, а глаза светились и были необычайно голубые.
— Ребятишки-и! — поющим голосом позвала она нас. — Ребятишки-и! Идите блины есть — горя-ачие, с маслом, со сметаной. Уж самовар на столе… Евлашенька, парнишка ненаглядный! Ты — как подсолнышек веселенький… а смеешься, как жавороночек…
Как ни увлекательно было копать канаву в снегу и наблюдать, как стекала чистая водичка на ее льдистое дно, еще скупая, несмелая, но горячие блины со сметаной и янтарный чай с сахаром за праздничным столом, за которым и дед и отец добреют и улыбаются, а гости — разговорчивые, веселые, и в избе пахнет дымком, блинами и нарядами, — это был желанный соблазн, это был пир, который случается только о дин-два раза в год. Должно быть, и Евлаша знал прелесть этого многолюдного, необыкновенного пира, похожего на торжественный обряд. Мы оба бросили работу и смущенно переглянулись, но он застенчиво засмеялся:
— Мы, тетя Настя, лунку-то хотели до яра довести. Ярто, чай, рядом, пять шагов.
Мать знающе улыбалась и смотрела на вырытую канавку, льдисто-зеленую, с сахарными стенками, с лужицами воды в яминах, словно ей самой хотелось перелезть через прясло и вместе с нами поработать лопаткой и погнать молодую водичку по канавке.
— Еще рано, Евлашенька, лунки-то копать. Водицу-то не возьмешь до время. Еще ударят морозцы. Не торопите ее, она сама напыжится да заговорит: «Пустите меня, не держите меня!»
Она сказала это так задушевно, что и в голосе, и в словах ее заиграла сказка. Мы смотрели друг на друга и смеялись.
— Скоро жавороночки прилетят, — мечтала мать, — прилетят жавороночки, на хвостиках весну принесут… Запоют, зальются, взовьются к солнышку, и солнышко все снега растопит… Тогда с гор — ручьи, а на луке — зеленые проталинки. Ведь вы еще не звали жавороночков, на плоскуши не залезали, горячими, из печки, птичками не манили их.
Да, бабушка еще не пекла жавороночков. Еще всюду сугробы, и на солнцепеках, на крутых спусках той стороны еще нет лроталик. Скоро я залезу на крышу с горячей птичкой в руке, помашу ею навстречу солнцу и запою:
Жаворонки, прилетите, Весну-красну принесите…В избе все сидели за столом. Как принято, дедушка — в переднем углу, под образами, украшенными утиральником в красных выкладах. Рядом с ним, с краю, покоилась бабушка, разомлевшая, умиленная; по другую сторону, по длинному краю, красовался Агафон, уже хмельной, с осоловелыми глазами; за ним непоседливо вертелся Миколай Андреич, тоже навеселе. Он лукаво подмигивал всем и покрикивал:
— Горюй не горюй, а наш брат, рабочий, не пропадет — была бы работа, а силы хватит. Копить нам нечего, а теряем — не плачем. В артели — душа в теле. Рабочий класс прозываемся. Согласные ребятишки, нас и хозяева уважают.
Нас штрафовать стали за разную ерунду, а мы, как один, встали: долой штрафы, а то на работу не выйдем! Нам и студенты помогают.
— Студенты в бога не веруют… — строго оборвал его дед. — Спроть царя идут.
— А нам это ни к чему, родитель, — отмахнулся Миколай Андреич. — Абы с нами в руку шли.
Дальше, против самовара, сидел отец, с расчесанной бородкой, но по-хозяйски степенный, с улыбочкой. Он наливал водку в чайные чашки и брагу в жестяные кружки. Водку сам ставил перед Агафоном и Миколаем Андреичем, а деду подавал брагу, вставая с места. Себе уже наливал последнему, но Агафон и Миколай Андреич бунтовали и вместо кружки ставили ему чашку. Паша и Машуха сидели на скамье, ближе к бабушке, а Катя и мать — ближе к краю.
Тетю Пашу я любил еще за то, что она, как бы ни была занята разговором или осмотром нового тканья, всегда встречала меня приветливо и обязательно перекидывалась со мной словечком. Так и в этот раз она ласково сморщилась от улыбки и поманила меня к себе.
— Иди-ка сюда, Феденька! Дай-ка пощупать тебя да полюбоваться. Ты, чай, уж совсем грамотей стал. Ну-ка, чего я тебе дам-то…
Она лукаво подмигнула и сунула мне большой медовый пряник и глиняную свистульку. Она хотела обрадовать меня этим подарком, хотела увидеть, как вспыхнут мои глаза от детского счастья. Она и сама радовалась, когда детишки ликовали от ее гостинцев. Про нее Катя говорила с доброжелательной насмешкой:
— Пашуха всех готова оделить и плясать от радости.
А ежели нет при ней ничего, готова пуговицу у себя оторвать, чтобы ткнуть тебе в руку. Титка скаредный, норовит у другого стащить, а Пашуха свое последнее отдаст. И в кого они только такие уродились?
Паша не знала, как я вырос за этот год, и думала, что я запрыгаю от радости. Но я так смутился и покраснел от стыда, что и пряник и свистулька упали на пол. Она испуганно ахнула и шутливо упрекнула меня:
— Вот тебе раз! Секрет-то и выдал. Чего это у тебя руки-то с прорехами?
И она вместе с Катей и бабушкой засмеялась. А Машуха даже не обернулась; она сидела тяжело, молчаливо, равнодушно. Приученный к поклонному обряду, зная, что и дед и отец закричат на меня, если я не выполню этой тяжелой обязанности, я поднял пряник и свистульку и, протянув их тете Паше, проговорил по-нищенски:
— Спасет тебя Христос, тетя Паша. Дай тебе господи доброго здоровья…
Отец одобрительно поглядел на меня и, довольный, похвалился мною:
— Он у нас уже всю первую кафизму наизусть знает, в моленной поет.
А бабушка растроганно стонала:
— Так, так, милый внучек! Вишь, как ангель-то хранитель наставил тебя.
Дедушка ухмыльнулся в бороду и с притворной строгостью проворчал:
— Кнутом вот его — он еще понятливей станет.
Катя со смехом огрызнулась:
— У тятеньки и доброе слово ребенку в кнуте…
Я мучился от этого унизительного внимания к себе и готов был провалиться сквозь землю. Мне было обидно и горько, что никто из этих близких мне людей не понимал меня и не чувствовал, что творится в моей душе. Я рос у них на глазах, я больно переживал страдания матери, несправедливые жестокости деда и отца, хорошо знал характер каждого в семье и уже умел разбираться, что хорошо, что плохо: видел, как люди дурно живут между собою и стараются властвовать над другими, видел, как терзают и убивают самого близкого и покорного человека, знал уже и прекрасных, совестливых людей и привык оценивать поступки каждого. И как это тетя Паша, такая добрая и внимательная, не почувствовала во мне этой зрелости?
— Ты это чего, Феденька, суешь мне гостинец-то? Аль боишься? Чай, и дедушка тебя не осудит.
Я с дрожащей улыбкой пробормотал:
— Чай, я, тетя Паша, не маленький. Чай, смеяться надо мной будут, с дудочкой-то.
Отец сделал страшное лицо и зыкнул на меня:
— Чего болтаешь, свиненок!
Но Миколай Андреич пришел в восторг от моих слов и крикнул мне, повизгивая от смеха:
— Смотри, смотри, что отчубучил-то! Вот так молодец!
Не давай себя в обиду, Федя! Глиняной дудочкой тетя Паша ублажить хотела грамотного мужика. Ха-ха!..
Мать необычно смело вступилась за меня:
— Он уж больно все к сердцу берет. Все замечает да помнит.
Бабушка тоже сокрушенно проговорила:
— И не бай! Как большой, обо всем докучается.
Миколай Андреич поощрительно подмигивал мне и весело ободрял:
— Так и надо, дружок. Все замечай! Все помни… и докучайся. От этого люди умней да сильней делаются. На дураках воду возят.
Тетя Паша неожиданно схватила меня за плечи, обняла и поцеловала. Потом отодвинула меня от себя и вопросительно поглядела мне в глаза.
— Ведь вот как ты меня, племянничек, сконфузил!..
Евлашка бы в грудь мне уткнулся, как кутенок, и в дудочку бы засвистел, а ты меня в дурах оставил! Ну, да вперед мне наука.
Глаза у меня залились слезами, и я от любви к ней обхватил ее шею и прижался головой к ее плечу.
— Я тебя, тетя Паша, страсть как люблю.
— Милый ты мой!.. Да я тебя задарю, чем хошь.
Агафон вдруг захохотал на всю избу:
— Она, моя Пашуха-то, дай ей волю, все раздарит… От нищих да от детишек отбоя нет… Ну, а рачительница, хозяйка — нет таких на свете!
Евлашка все время пищал от смеха, а когда я бросился на шею к тете Паше, он подбежал к ней и тоже обнял ее.
Мать посадила нас на конце стола у самовара, а отец налил нам по стакану жидкого чаю и дал по куску сахару.
Перед нами стояла целая стопа горячих гречневых блинов, намазанных коровьим маслом, рядом — большая чашка сметаны.
Как всегда смелая, Катя вдруг крикнула, покрывая деловые разговоры мужиков:
— Ну-ка, Федя, прочитай-ка песню про царя Ивана Васильевича. Ведь это не сказка, а песня. Песня-то — быль.
Мать испугалась и побледнела, а отец опасливо насторожился. Бабушка растрогалась и заохала:
— Уж больно песня-то хороша. Такой песни у нас не пели… А ты не бойся, скажи ее. Гости-то послушают. Да и дедушка к сердцу ее принял.
Но я не боялся: я верил, что никто — ни дед, ни отец — не оборвет меня, потому что они уже почувствовали раньше неотразимую силу и красоту песни, а гости будут поражены и мной, и неслыханным ее очарованием. Эта песня была как будто моим талисманом: она окончательно обезоружит дедушку, покорит его, а в отце пробудит гордость за меня.
Я встал и сразу почувствовал, как внутри у меня все встрепенулось в горячем порыве. Должно быть, лицо у меня стало каким-то новым, невиданным. Все уставились на меня с удивлением. Даже дедушка высоко поднял брови и подозрительно насторожился. А я звонко, поющим голосом крикнул:
Ох, ты гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы, Про твово любимого опричника, Да про смелого купца, про Калашникова, Мы сложили ее на старинный лад, Мы певали ее под гуслярный звон И причитывали да присказывали. Православный народ ею тешился И всё слушали — не наслушалисьНикто не проронил ни слова — все застыли, захваченные широкими, могучими словами.
Дед гладил бороду и тихо бормотал:
— Это про царя-то тоже… Песня-то, видно, старинная.
А отец потирал руки и, скосив голову к плечу, больше интересовался мною, чем песней, чтобы похвастаться.
Машуха сидела по-прежнему лениво, а тетя Паша ахала, качая головой, и всплескивала руками:
— Аи, батюшки! Аи, светыньки! И петь не пели, и слыхом не слыхали! Вот так дудочка. Размахнулась тетя Паша дудочкой…
Агафон, одурело нацелившись в бабушку, завыл:
Я вечор, млада, да во пиру была… Эх!Мамынька, давай- споем с тобой на радости…
— Чего те гнет, леший!.. — прикрикнула на него Паша, и доброе лицо ее стало жестким и острым. — Парнишку-то ошарашил. Не озоруй!
Евлашка залился звонким хохотом.
— Гулять хочу, Пашка! Я зачем к тестю приехал? Кто я тебе?
— Чучело на трубе, — отрезала Паша, а Катя схватила ее за локоть и со смехом уткнулась в ее плечо.
Я оборвал чтение и, действительно ошарашенный, сел с растерянной улыбкой.
Мать взяла мою руку и сжала ее, взволнованная, с лихорадочным блеском в глазах.
Миколай Андреич уже не смеялся, а смотрел на меня пытливо, поднимая то одну, то другую бровь. Он толкнул отца под бок и кивнул в мою сторону:
— Сын-то у тебя какой, Василий Фомич! Сразил всех.
Ты ученью его не перечь.
Отец совсем растаял и, откинувшись к стене, оправдывался:
— Я бесперечь к ученью его клоню. Поеду в извоз, рифметику и катретки куплю.
— Тут не рифметикой пахнет, голова. Тут «не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит». Федя, читай-ка еще, растревожил ты меня…
Я с радостью встал и звонко, напевно принялся читать:
Над Москвой великой, златоглавою, Над стеной кремлевской белокаменной, Из-за дальних лесов, из-за синих гор, По тесовым кровелькам играючи, Тулки серые разгоняючи, Заря алая подымается. Как сходилися, собиралися Удалые бойцы московские На Москву-реку, на кулачный бой, Разгуляться для праздника, потешиться…Я читал и смотрел только на Ми ко лая Андреича и чувствовал, как я расту все выше и выше, а со мной вместе растет и Миколай Андреич. Все же остальные стали маленькие и расплылись в тумане. Только ощущал я горячую, дрожащую руку матери на своей руке.
И опять заорал Агафон:
— Гулять хочу! Богоданный родитель, пьем-гуля-ам!
Уж мы пить будем Да гулять будем, Коли смерть придет, Помирать будем…Вася, наливай! А на Митьку Стоднева наплюй, родитель…
Слопает он тебя и не поморщится… К нам в долю входи…
Дедушка как будто ждал этих слов от Агафона: он оживился, засмеялся масленым лицом и хитренько пошутил:
— Не вемы, в онь же день и кто из вас лопать меня будет… Ты ведь тоже разных дураков слопать-то не прочь: не побрезгуешь ни удальцом, ни мертвецом, ни родным отцом.
— Хо-хо, тесть! Будешь брезговать — с голоду околеешь. Это вот Миколай Шурманов гол как сокол. Из него и масла не напахтаешь.
Миколай Андреич засмеялся, и морщинки на его лице потянулись к глазам.
— Сокол-то летает… свободный мальчик.
Дедушка пренебрежительно оборвал его:
— Летает бродяга по свету, и нет ему ни угла, ни привету. Шатущий бездельник!
— А мне, дорогой родитель, вся Россия — дом. Рабочему человеку все дороги открыты, и друзьев у него везде много. А тянуть лямку, как ваш Серега Каляганов, — благодарим покорно… Она вон дотянула его от сумы до тюрьмы…
Начался беспорядочный разговор и пьяная путаница.
XXVII
Пришел Сема и сел рядом со мною и Евлашей. Выпили мы стакана по три чаю, и, когда отвалились, Сема, гораздый на выдумки, позвал нас поглядеть, какую он устроил каталку. На улице, через дорогу, около кладовой, на умятом снегу надето было на толстый кол старое колесо.
Этот кол давно торчал в земле, и никто его не трогал. А зачем он торчал — неизвестно. На колесо положена была длинная слега, привязанная к спицам веревкой. К концам слеги прицеплены были на веревочках двое салазок. Сема с гордым видом мастера подошел к колесу, уперся в слегу, колесо завертелось, а салазки быстро помчались по кругу.
Евлашка захохотал и восторженно крикнул:
— Эх, вот чудо-то! Салазки-то, как птицы, летают.
Сема расплылся от довольной улыбки.
— Садитесь! Катать вас буду. Эдакой каталки во всей губернии не найдешь.
Он и это простое сооружение считал важным изобретением, наравне с толчеей и насосом при мельнице. Он редко и на игры выходил, занятый своими делами, напевая песенку сиплым голосишком.
Прибежали Иванка Кузярь с Наумкой. Наумка совсем поглупел при виде нашей каталки и от неожиданности засмеялся. Но стоял поодаль — боялся подойти. Он всегда робел, когда видел что-нибудь необычное и новое. Кузярь сразу заликовал и храбро подбежал к колесу. Он надавил на другую половину слеги, и наши салазки с визгом полетели по кругу. Я почувствовал, что отлетаю в сторону и меня вырывает из салазок страшная сила. Евлашка отчаянно закричал и кубарем вылетел в снег. Сема затормозил колесо, и наша машина остановилась, хотя Кузярь еще напрягался, толкая слегу и скользя валенками по натоптанному снегу.
Евлашка встал и засмеялся сквозь слезы. Сема подошел к нему и, стряхивая снег с его шубейки, участливо и виновато спросил:
— Ушибся, что ли? Ежели ушибся, я Кузярю взбучку дам.
— Да нет… чай, хорошо. Только страшно больно.
Кузярь хохотал и пинал валенком колесо.
— Ну, и дураковина! Это чего ты, Семка, состряпал-то?
Чертоломина какая-то! Я на ярманке летось на карусели катался. Это вот дело! Сперва вертел наверху, а потом катался. А тут колесо какое-то водовозное.
Хоть я и не очухался от головокружения, но Кузярь возмутил меня своим чванством. Я стал дразнить его:
— Ты вот сам покатайся на салазках-то. Погляжу, как ты дрягаться будешь. На карусели только дуракам кружиться да титешным ребятишкам, а на этой каталке тебе сроду не удержаться. Да и не сядешь: вижу, что трусу веруешь.
— Это я-то? — озлился он, наскакивая на меня.
— Ты-то… Сразу вверх тормашками полетишь.
— Это на розвальнях-то? — презрительно засмеялся он. — Аль я на салазках-то не катался!
Сема ехидно смерил Иванку с головы до ног и ухмыльнулся.
— Ну садись, что ли… Ты только на словах ловкач. Твои карусели кисель месили, а эта каталка с норовом, как конь необъезженный… с ней сноровка нужна.
— Эка невидаль, ерунда какая! — храбрился Кузярь и даже брезгливо плюнул. — Да на нее и глядеть-то не хочется. — И вдруг хитренько прищурился. — Ты вот хвалишься, Семка, а сам-то… На других выезжаешь. Покажи, как ты на ней поскачешь. Чай, со смеху умереть можно.
— Я-то поскачу, а вот ты-то со страху корячишься. Давай поспорим: сперва ты меня с Федянькой раскатаешь, как хошь, хоть в прыгашки. А потом я тебя один. Ну-ка.
— Ладно. Уж погляжу, как ты в зыбке качаться будешь.
Мне-то потом стыдно будет и на салазки садиться.
В самые невыгодные моменты Кузярь становился вызывающе упрямым и самоуверенным. Он никогда не сдавался и не признавал себя побитым. Если его припирали к стенке, уличая в бахвальстве или в явных выдумках, он не смущался, а напирал еще самоуверенней, хитрил и старался сбить с толку противника. Даже тогда, когда в драке лежал на спине под соперником, он делал вид, что уже не сопротивляется, но как только победитель хотел подняться на колени, он ловко опрокидывал его навзничь и садился на него верхом.
Сема молча и деловито сел на салазки, — сел раскорякой, не зная, куда деть руки. Это было так смешно, что мы корчились от хохота. Кузярь приседал, хлопая себя по коленям, и тыкал пальцем в Сему. Но Сема сидел в салазках, балансируя сапогами, и без улыбки понукал нас:
— Ну, скоро вы ржать-то перестанете! Начинайте, а то плюну на вас и уйду в избу: там сейчас плясать будут.
Кузярь опомнился первый и бросился к слеге.
— Давай, ребята! Напрем — напролом. Масленица — так масленица! Пусть мастер помнит весь пост, как кататься на своем рыдване.
Евлашка не пристал к нам: ему, должно быть, наша игра не понравилась. Он только звонко смеялся — порывами, коротким хохотком. Наумка незаметно ушел: он, верно, почувствовал опасность в нашей игре и, как всегда, удрал от греха.
Мы уже бежали вокруг колеса за своими половинками слеги. Салазки с хрипом и свистом вспахивали снег, вылетая из круга. Два конца веревки, привязанные к загибам полозьев, натягивались так, что готовы были лопнуть. Сема помахивал сапогами и не давал салазкам отлететь в сторону. И как мы ни старались вертеть колесо, как ни напирали на слегу, Сема сидел устойчиво, только лицо его морщилось от снежной пыли. Я отстал первый и, задыхаясь от утомления, сел на колесо. Кузярь озлился и набросился на меня:
— Ну, отвалился! Кишка тонка! Еще бы маленько наперли, он и закувыркался бы, распахал бы сугроб-то…
Сема встал с салазок и сердито приказал:
— Садись, твой черед, Кузярёк! Уж я тебя прокачу.
— А что?.. — захрабрился Кузярь, но я хорошо видел, что ему страшно. Только я сейчас не буду, — неохота.
— Это как неохота? — угрожающе подступил к нему Сема. — Тут не неохота, а уговор. А на уговоре дружба держится.
Кузярь выпятил грудь.
— А мне что? Боюсь я, что ли? Я на что хошь пойду…
Только тот твой рыдван больно уж не по душе мне. Ну да валяй!
Он уверенно сел на санки и крепко схватился за края.
Сема один закрутил колесо. Салазки быстро понеслись по кругу, отлетая в стороны и разгребая задками влажный снег.
В нашей избе глухо запели протяжную песню. Пели, должно быть, все — и мужики и бабы. Пела вся деревня, и, казалось, сами избы пели и пьяно глазели своими оттаявшими окнами.
Раза два Кузярь чуть не перевернулся, но ловко выправлял салазки. Широко открытые глаза его ловили какую-то точку впереди. Салазки вылетали из круга, и их заносило в сугроб. Должно быть, у Кузяря кружилась голова и его тошнило: лицо его посерело и страдальчески вытянулось, но он все еще храбрился и не хотел сдаваться.
Вдруг его, как ветром, выбросило из круга, и салазки перевернулись вверх полозьями, а потом, пустые, запрыгали по снежной целине. Кузярь корчился в снегу, без шапки, с помертвевшим лицом. Колесо сразу же остановилось.
Сема с торжеством подошел к Кузярю.
— Ну что, брат? Вот те и карусель. На твои карусели куры сели.
Кузярь все-таки упорно стоял на своем. Он встал и, шатаясь, бледный, храбрился.
— Да на этом рыдване только дуракам вертеться. Что это за вертушка, ежели летишь с нее вверх тормашками?
Какая же это игра? Ни радости нет, ни веселья, а только дуреешь да кишки рвутся.
Его мутило, и он едва сдерживал слезы. Сема принес ему шапку и надвинул на лоб.
— Ну, а сейчас пойдем к нам — блины есть и чай пить.
— Да я не хочу, — заскромничал Кузярь, но глаза голодно блеснули, и он проглотил слюну, — Мамка все чего-то хворает: брюхо да брюхо… Я уж ей утром горшки накладывал, а сейчас на пары сажал. А тятька с лошадью возится.
Вот управился по дому и к вам прилетел.
Я подмигнул ему. Он посмирнел и послушно пошел рядом со мною, а Сема обнял Евлашку и повел его впереди нас.
В избе все еще сидели за столом, разомлевшие, хмельные, с блаженными улыбками. Агафон, уже пьяный, обнимал и целовал Миколая Андреича. В сизой бороде его застряли крошки и капли. Дедушка разошелся вовсю — сипло кричал, размахивая руками:
— Анна, как мы век-то прожили? Дай бог, чтобы дети наши так трудились да рачили и веру мужицкую держали от дедов-прадедов. Гнали нас, теснили антихристовы слуги — попы, чиновники, полиция да господа, а мы, поморцы, друг за друга стояли. Никак они нас не совратили… никак не сломили… Свою жизнь вели по нашему произволению… Прадеды-то наши с поморья пришли. Дубы были — ни перед мечом, ни перед кнутом страха не имели. И нам так жить завещали. А теперь все пошло вкривь и вкось. Дети-то вон из дому норовят.
Бабушка ласково уговаривала его, но уже не стонала — она тоже была навеселе.
— А ты не жалуйся, отец. Что тебе надо-то. Живы, сыты — и слава богу. Гляди, сыновья-то — кровь с молоком, такие же крепыши, как ты. Девок-то вон за каких мужиков выдали!.. Трудились, отец, на чужое не зарились. И ты, как гамаюн, беспокоился, и в селе-то не последний по уму да по труду.
Тетя Паша с сердитым и веселым лицом, крепкая, ядреная, крикнула с гневным задором:
— Ты чего, тятенька, стонешь да покойников беспокоишь? Не слушала бы тебя! Чай, мы не хуже стариков-то.
Они за господами жили, в хомуте ходили, а сейчас нам труднее — на свои силы надейся. Трудись да оглядывайся, как бы тебя за горло не схватили. На бога надейся, а сам не плошай. Не стонать надо, тятенька, а рукава с умом засучивать. Я плясать буду, тятенька! Аль ты забыл, какой ты плясун был? Выходи, тятенька, со мной! Помнишь, как ты на моей свадьбе плясал?
Она выпрыгнула из-за скамьи и, стройная, красивая, с вызывающей усмешкой сложила руки на груди и запела:
Ах вы, сени, мои сени, Сени новые мои!..И пошла, как говорилось, павой перед столом. Катя подхватила плясовую. И вдруг все запели, четко отбивая такт:
Сени новые, кленовые. Решетчатые…Дед выпрямился и показал из-за бороды редкие зубы.
Миколай Андреич встал и разудало крикнул, стукнув отца кулаком по спине:
— Вася, пусти меня… дай дорогу, а то через стол выпрыгну. Я с Пашей хочу плясать. Паша! Эх ты, бабочка милая!
И зачем ты только такому бородачу досталась! Ему бы только воду возить.
Отец хоть и захмелел, но сохранял свою умственную степенность хозяина. С неудержимой пьяненькой улыбкой он безнадежно махнул рукой:
— Вот шумошедший! Он и за столом чехарду устраивает.
Миколай Андреич зыбко подбежал к Паше, подглядел на нее чертом, расправил усы, вскинул одну руку вверх, другую изогнул фертом и начал отбивать причудливую дробь сапогами.
Выходила молода…задорно выпевала Паша, плавно обходя Миколая Андреича, а он подхватил залихватски:
За тесовы ворота.Машуха впервые засмеялась и укоризненно протянула:
— Ондреич! Греховодник! Заразбойничал. Удержу на тебя нету.
А он яростно откликнулся:
— Я тебе не Ондреич, а Коля. А ты кто? Жена рабочего человека. Эх, Паша, тебя бы в нашу рабочую артель.
Я даже испугался, когда увидел, как мать с необычно строгим лицом выпорхнула из-за стола. Я никогда еще не видел, как она плясала, и сразу же засмеялся не то от любви к ней, не то пораженный легкостью и красотой ее движений.
Агафон, глядя на пляшущих, бил кулаком по столу.
— Жарь, дуйте горой! Бей горшки, топчи черепки!
Паша, не подгадь! Эх, коса ты моя вострая! Едем кататься, родители!.. Прокачу вихорем! Засыплю колокольчиками-бубенчиками. Живем не тужим, грешим, а дюжим, тесть…
Мать плавала между Пашей и Миколаем Андреичем.
А Паша с прежней суровостью в глазах оттопывала своими котами, подбоченившись и ускользая от Миколая Андреича.
Он изгибался, подпрыгивал, грозился схватить ее и вскрикивал фистулой:
— Эх, где наша не пропадала!.. Гуляй, пляши — не убей души! Паша, аль для нас белый свет клином сошелся?
Мы не плачем, не грустим, А обидят — не простим…Мать засмеялась и села на скамейку. Запыхавшись, с пылающим лицом, отошла и Паша. Она тоже смеялась.
— Ну и Миколай Андреич! Ну и плясун! Тебя, такого живчика, никто не перепляшет.
Отец сидел перед самоваром и смотрел на пляску с достоинством мужика, который никогда не теряет разума.
Дедушка встал и, красный, осовевший, властно крикнул, бросая на женщин пронзительный взгляд. Такие глаза бывали у него только в гневе.
— Плясать буду… Бабы! Со скамейки прочь!
Машуха первая заворошила свой кубовый сарафан и закудахтала:
— Уйдите вы со скамьи-то! Катя, невестка, Паша!.. Батюшка будет на скамье плясать. — И запричитала в умильном беспокойстве: — В кои-то веки! Батюшка!
Господи!
Миколай Андреич морщился от смеха и с насмешливой почтительностью обеими руками показывал на просторный пол:
— Милости просим, дорогой родитель, по всей избе, а на скамье не размахнешься.
Началась суета: женщины в ворохах своих сарафанов вскочили со скамейки и отодвинули ее от стола. Бабушка тяжело встала, и глаза у нее стали мокрые от слез. Агафон ошалело рычал: «Вдоль да по речке…»
Дед грозно уткнулся ледяными глазами в Миколая Андреича и отстранил его от себя.
— Мне плясать по полу зазорно: я не мозгляк, как ты, не кочет. Хозяину, отцу, наверху быть… да чтоб его под руки подымали… Ну-ка, дети! Васянька! Бабы!
Отец выскочил из-за стола, но, пока он обегал стол, деда почтительно взяли под руки Миколай Андреич, Машуха, мать и Паша. Отец оттолкнул Катю и мать и взял деда под руку. Дед с суровым лицом владыки медленно и торжественно приблизился к середине тяжелой скамьи и изрек:
— Подымайте!
Его осторожно подняли и поставили на скамью. Миколай Андреич морщился, крутил стриженой головой и подмигивал, а Машуха, как на молитве, благочестиво, растроганно оглаживала рубашку деда и причитала:
— Господи! Час-то какой! Ведь перед всеми батюшка-то плясать будет.
И смеялась сквозь слезы.
Отец сел на скамью с одного краю, а Миколай Андреич хотел сесть на другом краю, но Агафон с растрепанной бородой и взъерошенными волосами, расталкивая женщин, схватил под мышки Миколая Андреича и отшвырнул его в сторону:
— Миколай, отойди! Ты легкий, у тебя сейчас устоя нет Это я у родителя подпорой буду, — и рухнул на край скамьи, вцепившись волосатыми пальцами в обочины.
Женщины стояли вдоль скамьи и смотрели на деда с благоговением. Но Катя смеялась в уголок полушалка, а отец, поглядывая на нее, ухмылялся в бороду. Мать как завороженная, в тревожном ожидании не отрывала широко открытых глаз от застывшего деда. С лохматой голубой бородой, с клочками седых бровей, грозно опущенных на глаза, он стоял на скамье со сложенными руками на животе, как в моленной. Евлашка уже не смеялся, с боязливым изумлением смотрел и на деда, и на своего отца, и на Пашу, которая стояла тоже в строгом ожидании. Кузярь толкал меня под бок, ел украдкой блины и едва выговаривал слова, прожевывая их вместе с блинами:
— Да что он будет делать-то на скамейке? Топтаться только… Невидаль какая!..
Но у дедушки озорно вспыхнули глаза, он тряхнул головой, взмахнул руками и притопнул.
— Пойте! Все пойте! Анна, запевай!
И он, закинув голову, сам запел высоким сипленьким голосом:
И-ивушка, ивушка, Зеленая была…Машуха первая пронзительно завопила, а за ней закричали Катя и Паша:
Эх, что же ты, ивушка. Невесело стоишь…Тут уж и мужики затянули:
Подрубили ивушку Под самый корешок…Дед закачался, замахал руками, наклонился и начал притопывать, перебирать ногами. Песня оживилась, зазвучала громче, и слова уверенно, бойко стали отбивать такт, а дед как будто стал легче: то он сгибался, раскинув руки, всматриваясь в свои сапоги, то откидывался назад, уперев руки в бедра и с властным весельем оглядывая всех, то вскидывал руки вверх и хватался за шею. Сапоги его четко стали отбивать плясовой перебор, а тело изгибалось в разные стороны, волосы растрепались, он начал плясать вприсядку.
Тут и бабы завертелись на месте и, отчеканивая слова песни, уже потеряли чинность и плясали, позабыв друг о друге, даже бабушка затрясла своим тучным телом. Миколай Андреич вертелся, как вьюн, и вскрикивал сквозь дробный хохоток:
Эх вы, саночки березовые!.. А ребята мы тверезые…Вдруг дедушка гулко топнул сапогом и легко спрыгнул на пол. Его стиснули дочери и под руки повели на место.
XXVIII
Позади нашего двора, недалеко от яра, стояла моленная — пятистенная изба под тесовой крышей с осьмиконечным крестом на коньке, с высоким крылечком, с резными столбиками. Сосновые венцы и тес на крыше и крылечке были сизые от многолетних дождей. Изба эта всегда стояла с закрытыми железными ставнями. Когда-то они были выкрашены зеленой краской, но она порыжела от ржавчины.
Каждую субботу ставни открывались, и из трубы, увенчанной жестяным резным теремком, клубился дым. Девки выходили и входили с ведрами, с тряпками, выливали грязную воду в буерак. Весь день в воскресенье изба глядела на луку и на ту сторону бледно-зелеными окнами. А синим субботним вечером издали видны были яркие рои огоньков в проталинах окон.
В дни великого поста каждую субботу вечером и в воскресенье в моленной было длинное «стояние» после каждодневных домашних «канунов». «Мирская» церковь уже много лет молчала: не было своего попа, а время от времени приезжал ключевский поп, толстый, с жирным лицом, с наглыми глазами и реденькой бороденкой. Этого попа не жаловали сами «мирские», как щепотника, пьяницу, табачника и вымогателя. Зато гул большого Ключевского колокола доплывал и до нашего села. При первых же стонах этого колокола люди шли к моленной и с той и с этой стороны: первыми благочестиво шагали старики и старухи с подогами, с клюшками в руках — по одному, по два, по нескольку человек. За ними шагали мужики помоложе, бабы кучками — отдельно, а парни и девки сбивались вместе и гурьбой шли истово, молчаливо. Только ребятишки воробьиными стаями перебегали то вперед, то назад, дрались, бросали снегом и неугомонно кричали и смеялись. В предвесеннем воздухе, когда пахнет мокрым снегом и галым навозом, в синих вечерних сумерках плыли другие запахи — пунца, ситца и дегтя. Меня нередко ставили на лавку около налоя, у икон, перед множеством трепетных огоньков, восковых свечей, и я пел вместе с Дмитрием Стодневым — настоятелем — ирмосы и катавасии. Я хорошо знал все восемь гласов и уверенно и звонко заливался в хоре других голосов Это было в обычную службу — «в часы». Но великопостные «стояния» были изнурительны, скучны, с бесчисленными земными поклонами, с бесконечным неподвижным «столбняком». Все должны были делать поясные поклоны с лестовками и подрушниками в руках одновременно, не вразнобой, по числу четок на лестовке, которая делилась на несколько неравных частей. Такие «стояния» в великий пост продолжались несколько часов, и выдержать их было очень трудно не только детям, но и взрослым. Слабым старухам и старикам разрешалось во время службы присаживаться на скамью или на пол, чтобы не свалиться с ног. Моленная была построена, как простая изба, широкая, вместительная, с небольшой прихожей, где раздевались прихожане, и светлой, высокой горницей человек на сто. Вдоль боковых стен стояли лавки, передняя стенка вся сплошь была занята иконами древнего письма и медными восьмиконечными крестами старинного литья. Центральное место занимал большой Деисус — драгоценная реликвия двухсотлетней давности, переходившая из поколения в поколение. Все иконы, и большие и малые, тоже были старинные, а книги — «чистой» печати дониконовских времен. Эти книги толстыми плитами в деревянных переплетах, одетых в кожу, с разноцветными закладками, лежали на особых полках в передних углах. Ни хоругвей, ни украшений на иконах и на стенах не было: такое веселое «игрище» безделушек возможно было только в «никонском капище» — в церкви, которая предалась папистской ереси. Здесь все было сурово, просто, строго, как в скиту. Мужчины в серых хитонах стояли впереди, женшины — в китайках, в темных сарафанах и черных платках с «огурцами» по кайме — позади. Ребятишки, под наблюдением женщин, тоже грудилисо позади. Им разрешалось во время службы выходить на улицу только тогда, когда они утомлялись или шалили — украдкой дрались, толкались или перешептывались и смеялись. Их выводили из молеиной в наказанье, как баловников. Этого наказания парнишки добивались сами: оно освобождало их от мучительной скуки и неподвижности. Мне было труднее всех: я стоял впереди, на лавке или на табуретке, рядом с налоем, и обязан был время от времени петь во время «стояния». Но мне было интересно смотреть и слушать «прения» между Микитушкой и Митрием Стодневым. Микитушка был высокий старик, с широкой коричневей бородой, с горбатым носом, с зелеными дремучими глазами. Стоял он всегда с поднятой головой и, вслушиваясь в слова священного текста, раздумчиво перебирал пальцами бороду, ехидно усмехался и бросал строгие или насмешливые обличения. Эти прения происходили в каждой «моление», и Микитушка стоял в своем хитоне рядом со мною, в переднем углу, позади Митрия.
Редкая молитва и псалом обходились без его обличений или размышлений вслух. В эти минуты он был резок, беспощаден и грозен в своей правде. В каждом слове и поучении Стоднева он находил острое противоречие с его поведением и делами и издевался над ним. Я видел, с каким страхом слушали его мужики и с каким злорадством прятали они свои усмешки в седые и рыжие бороды. Митрий стоял у налоя в шелковом фиолетовом хитоне, стройный, высокий, с гладко причесанными, смазанными маслом волосами, с реденькими волосенками вместо бороды, плосконосый, и с благочестивой строгостью взирал на иконы, когда произносил молитву, или с бисерной лестовкой, небрежно надетой на запястье, придерживая зеленые листы книги, вдохновенно читал длинные и непонятные тексты.
А Микитушка с насмешкой или угрозой подхватывал прочитанные слова и бил ими самого же Стоднева. Он прямо указывал на его поступки и дела, которые прогиворечили «божьему слову», или обличал мужиков в криводушии, в покорности кривде. Я до сих пор помню олень хорошо, как он во время таких «стояний» спокойно-властно бросал в лицо Митрию Стодневу неотразимые жестокие слова, которые заставляли того бледнеть от бешенства. Это были два непримиримых врага, которые ненавидели друг друга на всю жизнь. Стоднев были первым человеком в деревне — богач, лавочник, тайно торговавший водкой, друживший с начальством. Все у него были в долгу, каждого он «облагодетельствовал». Только Микитушка был независим от него и никому ничем не обязан. Он жил со своей старухой в ветхой избенке, пахал свою усадьбу и осьмину, имел лошаденку, коровенку и несколько овечек, перебивался с хлеба на квас, одевался в свое, домотканое, сам делал кожу, сам шил сапоги и валял валенки. Строгостью жизни и нелицемерным отношением к людям внушил он большое уважение к себе. Пьяных не терпел, с богатыми не знался, перед помещиком и полицией шапки не ломал и шеи не гнул.
Говорили, что в избе у Микитушки много книг, божественных и гражданских, и каждый вечер он в свободный час раскрывал и читал их вслух перед старухой и спорил с невидимыми противниками. А здесь, в моленной, противник был перед ним явный: Митрий Стоднев. Не щадил он и других за их обман, воровство, пьянство, зверство.
Я много видел и слышал в те годы строгих ревнителей благочестия и книжной истины, но все они были только начетчиками и спорили только о смысле и букве всякого рода изречений, поучений и правил. Это были отвлеченные схоластические толкователи: они меньше всего касались действительной жизни, человеческого общежития и нравственности.
Для них живая жизнь была ничто, а книжная буква — всё.
Грех, мерзости и преступления — это непреложная давность, это свойство человека, приобретенное им со дня грехопадения Адама. Бороться с этим бессмысленно и невозможно, нужно только молиться и надеяться на милосердие божие.
Микитушка не был начетчиком и обладателем книжной мудрости. Это был простой, самобытный искатель правды, обличитель лжи, который сам старался жить по совести и помогать другим в том же.
Помню один такой обличительный разговор в моленной.
Когда Митрий прочел во время службы молитву «Отче наш», Микитушка что-то невнятно пробормотал, улыбнулся и покачал головой. Потом его глухой голос стал переплетаться с распевным чтением Стоднева:
— Гм… дела! Тыщу раз читаешь ты эту молитву, а она у тебя только шурум-бурум… лжа! «Яко же и мы оставляем должником нашим…» Читать читаешь, Митрий Степаныч, а вот лучше бы отдал свои долги Петрухе-то, брату-то своему. Не отдашь, хоть и обобрал его, пустил по миру. Не отдашь, не можешь отдать, потому что совесть свою убил, потому что лжа разъела тебя, как ржа.
Митрий прервал чтение и строго осадил его:
— Микита Вуколыч, не греши, не обрывай слова божия… не нарушай «стояния»…
Но Микитушка только усмехнулся и укоризненно закачал головой. Сначала он как будто послушался Митрия, но потом время от времени все тверже и громче говорил фразу за фразой:
— Для человека одно любо-дорого — красть, обирать, стяжать, отнять чужое, обидеть… И выходит: на крови, на слезах, на муках молитва-то. И не молитва выходит, а лжа.
Значит, правда в молитве не нуждается. Зачем правде молитва?
— Микита Вуколыч, не кощунствуй! — опять оборвал его Митрий. — Старый ты человек, о грехах надо думать.
В молитве — смирение человеков. А ты в гордыне пребываешь, Микита Вуколыч, и нет у тебя никакой любви ни к богу, ни к людям. О чем печешися, безумие?
Перепалка продолжалась и в то время, когда Иванка Архипов гнусаво читал псалмы, а Митрий Степаныч стоял сбоку налоя и перебирал лестовку. Когда нужно было ему произносить обычный возглас: «За молитв святых отец наших)4, он не забывал об этой своей обязанности, а потом опять совестил Микитушку. Но старик был непоколебим и ловил Стоднева на слове:
— Лжу изрек, Митрий Степаныч. Каждое твое слово — лжа. И лжа вся твоя жизнь. Любовь к богу и людям. Гм… лжа! Как же я могу любить бога и людей, ежели сам себя не люблю? И все это прикрываем молитвой: «дух же целомудрия и любви даруй ми, рабу твоему… и еже не осуждати брата моего…» А любви-то не хочешь, а брата осуждаешь.
У тебя не любовь, а злое соделанье: ищешь, кого бы обмануть, ограбить, обездолить. Привечаешь, как благодетель рабов: из бедности богатство жмешь… Вот оно, соделанье!
А потом по миру пускаешь, на слезы и горе. Вот ты шелковый хитон надел и зовешь, как фарисей, к прощению обид. А ведь лжа! Никто не прощает обид и не может прощать. А все от стяжания. Откажись народ от двора и скота своего, трудись сообча — и греха не будет.
— Все грешны, Микита Вуколыч. Все на Страшном судище будем, — смиренно отвечал Стоднев. — И каждый по достатку своему богу служит. Овому — талан, овому — два.
А твою ересь миряне осудят. И не будет тебе места во храме нашего согласия, и отвернутся от твоей погани все, и отвергнут будешь, как блудник и смутитель.
Микитушка трясся от смеха и говорил угрожающе: — Горе тебе, фарисей и книжник, ежели не соблюдаешь заповеди: любите врагов ваших и обижающих вас… Ты весь во лжи, и лжи своей не избыть тебе. Без лжи нет бытия. Вот и веру свою возглашаешь, — а во что веруешь? В то веруешь, что недостижимо. Вера твоя от жизни отрицается.
Не града ты взыскуещь, а лжу. Взыскание града не верой повелевается, а правдой и совестью. Не грози: не угроза ты мне и не судья. Я сам себе судья и взыскатель. А ты суди себя за Петруху, за брата — обидел брата своего. Это совесть твоя, Митрий Степаныч: горит она перед тобой неугасимо. Придет час, ты и его, Петруху-то, сгубишь. Брата со свету сведешь, а совесть-то не погасишь. Нет!
Служба шла по своему чину: Иванка Архипов читал длиннейшие кафизмы, миряне стояли в молитвенном окоченении, перебирая лестовки, горели золотыми огоньками восковые свечи. Было душно и угарно от густого ладана.
В разных местах в тесной толпе кто-то сокрушенно вздыхал, кто-то простуженно кашлял, кряхтели старухи. И сдержанные голоса Микитушки и Митрия Степаныча как будто не тревожили никого и не нарушали строгой чинности богослужения, точно это были далекие голоса улицы, суетно живущей непрерывными заботами дня, Но я видел, что мужики лукаво ухмылялись, прикрываясь подростками, или шептались с хитрым блеском в глазах. Только дедушка Фома, который радел о суровом и немом порядке «стояния», гневно посматривал на Микитушку и ворчал:
— Согрииихом и беззаконовахом, прости господи! Ты бы, Микпта Вуколыч, побоялся бога. Можно ли в «стоянии» вольничагь? Не потерпит господь — рога отшибет.
— Рога скотине даны, Фома Селиворотыч, да и то для защиты. А скотина не знает ни правды, ни лжи. А что сказано? «Не мир несу, но меч».
Митрий Степаныч бесился и, бледный, с судорогами в лице, замолкал, истово припечатывая двуперстием свое смирение.
— Блаженны есте егда поносят вам…
Микитушка трясся от немого смеха, лицо его с горячими, пронзительными глазами, со строгой бородой, с добродушными лучами морщинок около глаз было гордо сознанием правоты и силы. Дедушка смущенно замолкал и пятился назад от греховного собадзкз. Ни одно «стояние» не обходилось без обличений Микитушки. И в эти постные дни, в перерыве томительных «стояний», Митрий Степаныч однажды торжественно заявил, властно обводя глазами людей, которые сидели и на лавках и на полу, отдыхая:
— Во имя отца и сына и святого духа, ради сохранения нашей общины и пресечения соблазнов и смут, Микиту Вуколыча, впавшего в ересь, потребно отлучить от согласия, как шелудивую овцу, которая заражает все стадо.
Спорить с Митр нем Стодневым, наставником и вероучителем, никто не отважился. Кое-кто улизнул, многие смотрели на свои валенки и кряхтели, многие, крепко зажатые в кулаке Стоднева, подобострастно поддакнули. Микитушка был извергнут из стада смиренных овец. Это событие произошло в его отсутствие.
Историю с братом Стодкева, Петром, я знал хорошо: ее обсуждали у нас в семье и жалели Петра. Старик Степан Стоднев умер в одночасье не дома, а где-то в волжских степях, когда гнал гурт овец в Саратов. Умер он на руках Петруши. Отец не успел выразить своей воли, и Митрий Степаныч все хозяйство — пятистенный дом, каменные кладовые, амбары, сенпицы и деньги прибрал к рукам, отделил от себя Петра, недавно женатого: купил ему избу на той стороне, в верхнем порядке, на крутом яру, дал ему лошадь, корову, сколько-то ржи на прокормление, семена — и больше ничего. Петр устроил буйство: выбил все стекла в окнах, переломал столы, стулья. Его связали соседи и отвели в волость, за четыре версты, где его посадили в жигулевку. Оттуда он пришел веселый, с гармонью в руках, в обнимку с Филькой Сусиным. Оба были высокие, здоровенные парни, силачи, оба «лобовые». У обоих только что появлялся пух на щеках. Филька слыл за простодушного верзилу, а Петр был весельчаком, разбитным и лукавым парнем, мастером на все руки — и хорошим столяром, и искусным скорописцем, и переписчиком старинных книг, и художником (им переписан для моленной Пролог и украшен «лицами» в красках — иллюстрациями). Он был лучший гармонист, не уступал Горохову, но не мог перещеголять его бисерными саратовскими «переборами». Даже женатый, он не пропускал ни одного хоровода, ни одной посиделки. Без него и веселье было не в веселье, и пляс не в пляс, и игры не в игры.
Он зажил в своей избе с работящей женой и не жаловался. И если шабры заходили к нему и советовали судиться с Митрием, он беззаботно отшучивался:
— А пускай богатеет. Я сам богаче его: сила есть, сноровка есть, здоровья хеягит. Я все могу на зеленом лугу.
К брату он больше не заходил, но и не мстил ему, а когда встречался разговаривал с ним легко и беззлобно. Он никогда не бил жену, открыто ласкал ее, называл по имени-отчеству — Лукерья Васильевна. До тяжелой работы не допускал, а когда она забеременела, оберегал ее. Поразил он всех необычным, невиданным в селе отношением к ней — по праздникам прогуливался с ней под ручку. Сначала все дивовались и глазели на них из окон, — по селу стали судачить: ишь модники какие явились, по-городски, по-барски стали прогуливаться…
Митрий Степаныч мягко и снисходительно говорил:
— Тятенька, не тем будь побужен, набаловал его. Всегда с собой таскал по стороне, ну он и напитался всяких вольных духов. Тут судят да рядят, что я обездолил его. Нет, его доля в деле. А господь видит, как я охранял его от соблазнов: он все имущество раскидал бы по клочкам, по копеечке и впал бы в пьянство и мерзости. Петруша — хороший паренек; дурь пройдет, страсти угомонятся — сам ко мне придет, в ножки поклонится. По гордости своей он отвернулся от меня… Бог его простит…
Люди, охочие до всяких сплетен, передавали Петруше слова Митрия Степаныча, но Петруша смеялся во весь рот и добродушно откликался:
— Хорошо поет синица, только ночью ей не спится.
Передайте Митрию Степанычу с почтением низкий поклон.
Живем мы на разных берегах, только я к богу-то ближе: вишь, на какой я горушке у своей старушки!
И весело показывал свои белые зубы. Смеялась и молодуха Лукерья Васильевна, ласково шлепая его по спине.
Была она рослая, белолицая, голубоглазая — под стать ему, только рябая немножко да с темными усиками по краям губ. И еще удивляли мужиков его нежные заботы о ребенке: он носил его на руках, укачивал в зыбке и даже мыл его сам в корыте. Этого и в помине не было в нашем селе: детишки с самого рождения были только на руках матерей.
Любил Петруша повеселиться, пображничать с приятелями, вроде Фильки Сусина или нашего Сыгнея, но с пьяницами не знался.
Однажды приключилась с ним большая беда. У Митрия Степаныча осенью воры ночью проломали в большой каменной кладовой стену. В этой кладовой был склад бакалеи и красного товара. Общественный сторож-стукальщик, старый солдат на деревяшке, ничего не заметил, да нельзя было ему заметить, потому что он проходил со своей стукалкой по всему порядку, а стукалка только помогала ворам прятаться.
Утром сбежалась чуть не вся деревня. В нашем селе краж не было, если не считать мелкого воровства снопов, сена с барского поля и валежника в лесу. Но такие хищения за воровство не считались: на барских полях работали те же мужики, барин прижимал их, обсчитывал, лес на дрова и на продажу возили они же за копейки на своих лошадях, при своих харчах, — значит, сам бог велел урвать с барина лишний сноп и свалить у своего двора лишнее бревно. Вот почему эта дерзкая кража со взломом потрясла все село. Плотной толпой в грязи, под дождем, мужики и бабы, старики и детвора стояли перед задней стеной кладовой, сложенной из крупных камней на глине, и смотрели на черную дыру и на кучу камней. Митрий Степаныч с женой Татьяной, крупной, грудастой бабой, хозяйственно прохаживался перед развороченной стеной и покрикивал на мужиков:
— Отойдите подальше! Чего не видали? Сейчас полиция приедет, будет всех допрашивать. Может, кто из вас и попадется. Ни одному бесу верить нельзя. Живи да оглядывайся.
Приехали из стана несколько полицейских. Пристав, знакомый хрипун, остановился у Митрия Степаныча и прожил три дня. Обыск произвели по гумнам, по «выходам»; по подозрению арестовали нескольких парней. И вдруг деревня опять заволновалась: на гумне, в половешке, у Петруши нашли кипу ситца и ящик с карамелью. Его арестовали, но на допросе он, красный от гнева, отрицал свое участие в грабеже и возмущенно кричал:
— И в мыслях не было! Никак не виноват. Подбросили какие-то сволочи! Я бы скорее руки на себя наложил, чем решился бы на такое дело. У Митрия моя доля после тятеньки. Я и в суд не подавал. Я и без наследства проживу.
И когда ему намекнули, что Митрий Степаныч подозревает его как главного участника, он совсем потерял волю над собой и начал грозить расправой над братом.
— Я ему, подлецу, жить теперь не дам. Уж я его доконаю!
Его отправили в город, в тюрьму. Все его очень жалели и не верили, что он участвовал в шайке грабителей.
А Митрий Степаныч, как ни в чем не бывало, похаживал из избы в кладовую, пел под нос божественные стихиры из Октоиха и через неделю опять открыл двери лавки, и опять все полки были набиты товарами. В деревне долго не могли успокоиться после этого события: шли толки и пересуды, и все осуждали Митрия Сгепаныча, хотя и гнули спину перед ним. Все чаще и чаще при уличных встречах, на реке, у проруби, на водопое мужики и бабы судачили о том, что Митрий Степаныч нарочно устроил кражу, нарочно сделал так, чтобы подкинуть товар к Петруше и загубить его — убрать с своей дороги. Не находилось ни одного человека, который обвинил бы Петрушу. Только Григорий Шустов, сотский, строго внушал, подражая уряднику:
— Понапрасну полиция никого не арестует. Петр Стоднев — соучастник преступной шайки-воров. Он, елёха-воха, злой на брата и по случаю взлома сделал присвоение чужого имущества с укрытием на своем гумне…
На него яростно нападали:
— Мели, Емеля, — твоя неделя! Надо дураком быть, чтобы украсть и спрятать на своем гумне. Вор-то не у себя спрячет, а где-нибудь подальше… али, скажем, у тебя. Ежели бы тебе подкинули, ты тоже оказался бы вором?
Шустов угрожающе хватался за саблю и делал свирепое лицо.
— Я могу арестовать за такие слова, елёха-воха…
— Ты не грози и не егози, а умное слово молви.
Жена Петра пошла к соседнему барину — Ермолаеву, упала перед ним на колени, рассказала о своей беде. В дело вмешался брат Ермолаева, мировой судья, и Петра выпустили на поруки. И тут случилась странная вещь: к Петру пришел сам Митрий Степаныч, а что произошло между ними — разное толковали, только Митрий Степаныч ушел от Петра бледный, с трясущейся челюстью и вплоть до дома что-то сам собою бормотал. Вскоре произошло что-то совсем несуразное: Митрий Степаныч укатил куда-то на своем плетеном тарантасе, нарядный, в суконной поддевке, подпоясанной шелковым кушаком, в смазных сапогах, в каракулевой шапке. Говорили, что он ездил к исправнику, дал ему хорошую взятку товаром и деньгами и добился прекращения дела. Все арестованные парни вернулись домой. Митрий послал Петру бочонок меду и родительскую икону Спаса нерукотворного, но Петр отослал подарок обратно.
После всего этого Петр стал другим человеком: никто уже не видел улыбки на его лице. Глаза его опечалились, он похудел и стал жить бирюком. А когда заходили к нему мужики, отмалчивался и никого не привечал. Одно знали, что весною он решил уехать из деревни на сторону и уже подыскивал покупателя для своей избы.
И вот на «стояниях», когда все готовились к покаянию, Микитушка открыто, в упор бил, хлестал Митрия Степаныча и тех мужиков, которые кривили душой и поддакивали ему. Я видел, что Митрий Степаныч боится Микитушки: он не отвергал обвинений старика, а смиренно и благочестиво укрощал его «гордыню». Этот сильный, богатый и властный «настоятель», который знался с полицией, с земским начальником и барами, бледнел перед Микитушкой, таким же бедняком, как и другие малосильные бедняки.
Боялись его и мужики, потому что он знал каждого с давних пор, каждого видел насквозь: все у него были на виду.
Митрий Степаныч, который раньше представлялся мне, со слов старших, мудрым избранником, теперь оказывался хитрым и лицемерным обманщиком, способным на всякие мерзости, вплоть до того, чтобы загубить своего брата Петрушу — того самого Петрушу, которого я любил.
Когда Петруша проходил мимо нашей избы и я попадался ему на дороге, он, большой, веселый, быстро подхватывал меня под мышки, поднимал выше себя и смеялся:
— Ух, какой вырос большой! Выше всех! Лети высоко, плыви далеко — не лягушкой, не на болоте, а на ковре-самолете. Боишься?
— Нет.
— А ежели брошу тебя… во-он на конек?
— А я верхом сяду на коньке.
— Молодец-огурец! Это ты, что ли, в моленной-то поешь?
— Я и читать умею.
— Вот это лучше всего. Только читай, да не зачитывайся, а то сам запутаешься и друзей обездолишь.
Он смеялся, протягивая мне руку, и говорил:
— До свиданьица!
После отлучения от «согласия» Микитушка по-прежнему приходил в моленную и по-прежнему стоял на своем обычном месте, в хитоне, внимательно слушал чтение и так же, как раньше, нарушал это благочестивое чтение своими мыслями вслух, изобличая Митрия Степаныча. Особенно разгорались препирательства между ними в перерывах между «стояниями». Все обычно рассаживались по лавкам и на полу, со смиренной кротостью, ставили налои посредине моленной, и Митрий Степаныч в шелковом хитоне, с сознанием своей силы и власти наставника, раскрывал на нем какую-то большую книгу, нараспев читал длинные и малопонятные поучения святых патриархов, пап римских и старообрядческих вероучителей. Ребятишки убегали по домам, молодежь и бабы — работать по хозяйству. Старики, старухи и степенные мужики вздыхали, покашливали, терпеливо внимали заунывному чтению и дремали, роняя головы. Микитушка сидел в обычной настороженности, согласно или недовольно покачивал головой и усмехался обличительно.
Многие из поучений, которые читал Митрий Степаныч, он знал наизусть. Я тоже не раз читал по вечерам такие поучения и, несмотря на то что не понимал их варварского языка, изуродованного переписчиками, странным образом запоминал всякие изречения. И чем загадочнее, чем бессмысленнее был набор непостижимых слов, тем ярче въедались они в память. Микитушка умел их просто переводить на общепонятный язык и насыщать их своим житейским содержанием. Как-то Митрий Степаныч прочитал нараспев такие давно знакомые мне, но чужие слова:
— «От многого богатства, от глубокого срама, от злого имения, от горького сребролюбия, от насыщенного брюха — не от сих ли соблазны хуления и укоризны, свары и мятежи и прочая зла прозябают?»
Микитушка затеребил бороду, засмеялся глазами и всеми морщинками и спросил:
— Не о тебе ли, настоятель, эти словесы? Не в бровь, а в глаз.
— Микита Вуколыч, ты здесь — чужая овца. Твоего слова нет, оно нечестиво: ты отлучен. Зачем приходишь сюда смущать христиан?
— Это кто же меня отлучил? Ты, что ли?
— Собрание мирян, Микита Вуколыч Я — человек маленький и богу грешен.
— Как же можно отлучить меня, ежели я посреди всех?
А мужики-то под тобой ходят, Митрий Степаныч: они все в твоих тенетах. Богу служат, а тебе поклоняются. Они рабы твои и боятся тебя больше огня. Бог-то — высоко, а ты близко, как волк посередь стада. Вот Архип Уколов новую кладовую тебе сложил да все печки переклал, круглую «марку» сделал и железом обшил, а ты у него землицу-то все-таки прибрал, да еще Архип в долгах у тебя. Счет-то у тебя с оттяжкой, а аршин с натяжкой. Ванятка Юлёнков совсем уже на исходе, скоро и двор и изба у тебя под хитоной будут. Вот Фома Селиверстыч сколь годов у тебя в извоз ездит — и все рассчитаться не может. А Сергей Каляганов? Может, Агафья-то покойница сейчас перед богом стоит и ему все рассказывает: в смерти-то ее нет ли и твоей вины, Митрий Степаныч? Изба да двор Каляганова где сейчас? Аль не у тебя, настоятель? Оно, конечно, арестанту, кроме острога, где быть? О Петрухе-то уж разговор не умолкает, нет: убил ты Петруху-то, брательника. А парень-то какой был!
Митрий Степаныч тихо отошел к налою и кротко улыбнулся.
— Мы все в грехах погрязли, Микита Вуколыч, а я, окаянный, может, больше всех. Я перед богом слезами исхожу, а ты в гордыне подобен демону. И мятежа твоего мы не допустим. Дом божий — дом молитвы, а ты его разрушаешь. Тебя извергли из общины, а ты как волк лезешь к овцам и щелкаешь зубами. Аз глаголю тебе: изыди вон!
Микитушка трясся от смеха и теребил свою бороду. На Митрия Степаныча он смотрел, как великан на пигмея.
— Не изыду, Митрий Степаныч: я — дома, средь шабров, дружьев и сродников. Мы всю жизнь вместе прожили.
Я им не чужой. Это ты им чужой, и они тебе чужие. Только жить-то тебе без них нельзя: волк овцу дерет, а брюхо богатого обидой бедного насыщается.
Митрий Степаныч истово перекрестился, низко поклонился иконам, а потом направо и налево — «собранию».
— Волей вашей, братие, Микита Вуколыч, как еретик, отлучен был от согласия. Так было угодно богу. Не гневайте отца небесного, очистите себя от скверны. Правило десятое святых апостол гласит: «Моляйся с отлученными, сам такожде отлучен будет».
Все смотрели в пол, отворачивались друг от друга, вздыха, ли, творили молитвы. Кто-то с натугой, угрюмо промолвил:
— Микита Вуколыч, иди отсюда!. Не вводи во искушение.
Микитушка твердо и спокойно ответил, с сожалением оглядывая мужиков.
— Не пойду, друзья мои. Как же я могу оставить вас с хищным волком? Вы страшитесь его, а я перед ним страху не имею. Возьмите меня и вытолкайте, а сам не уйду…
Меня совесть задушит, и я буду проклят вовеки.
Никто не двинулся с места: все кряхтели, вздыхали, отворачивались друг от друга и прятали глаза от Митрия Степаныча. И среди этого тяжелого молчания Микитушка произнес с суровым раздумьем:
— Человек стяжанием проклят. И труд наш прикован золотыми цепями к лихоимству и голоду, ко лже и кривде.
Грех рабства нашего — от страха перед золотым тельцом.
А перед нами — только могила. Взыскует человек правды от младости, а правда — только в душе и совести. Прокляла земля всех живущих в ней. И нет нам слободы, доколе когтями рвут нас заботы о семье, о детях, о пропитании. Отсюда лжа, воровство, кровопийство, разбой…
Митрий Степаныч встрепенулся и указал перстом на старика.
— Вы слышите, братие, как он вас пригвождает? Слышите, какую ересь проповедует? Уж не я грешный, а вы — воры, разбойники и кровопийцы! Чего еще вам нужно?
Это — смутьян и негодник. Очистите наше святое место от безумца!
Поднялся с места дедушка и махнул рукой.
— Старики, послужим богу. Мики ту вывести надо.
Поднялся и дядя Ларивон.
— Микита Вуколыч, — сказал он, кланяясь ему, — не взыщи, не обессудь: добром просим — уйди. А не уйдешь, один тебя вынесу. Ке я и не сват Фома тебя гоним, а нужда.
Микшушка улыбнулся морщинками вокруг глаз:
— Кричи, Фома: «Распни его! Распни и выпусти Варавву!» Бей меня по ланитам, Ларивон!
Ларивоч подхватил его под руку, а дед под другую.
Встала Паруша с грозным лицом и властным своим басом крикнула:
— Ларивон! Фома! Зачем на душу грех берете?
Но голос ее остался одиноким. У нее затряслась голова, и она тяжелыми шагами пошла вслед за Микитушкой к двери.
XXIX
Для нас, ребятишек, великопостные «стояния» в моленной были невыносимой пыткой. В моленную ходили два раза в день — утром и вечером — всей семьей, и мы, малолетки, никак не могли избежать этой повинности. Но мальчишки были народ изобретательный: хотя во время «стояния» нас и держали около себя отцы, матери и бабушки, но мы обманывали их постоянно. Мы клали положенные три поклона и выходили на улицу «до ветру». На снегу около моленной собиралось несколько парнишек и сговаривались добиться, чтобы нас выгнали из моленной сами взрослые.
Заводилой был Кузярь или наш Сема, самый среди нас старший. Командиром был только Сема и требовал от нас безусловного послушания.
— Бог парнишек не судит: они еще не умеют грешить.
Чего с них возьмешь-то? Для бога мы — таракашки.
Эти его уверения в нашей безгрешности действовали на всех очень убедительно. А если кто-нибудь, вроде Наумки, сомневался в его суждениях, вслух этого не высказывал, а только с опаской предъявлял условия.
— А ежели это грех?
— Грех — с орех, а ядро — в ведро.
— Ну, и возьми на себя грех-то.
— Бес с тобой! Твой-то возьму.
Выступал Кузярь и, храбро расталкивая парнишек, гордо задирал голову.
— Черта с два!
Все в ужасе отступали от него и шикали.
— Это рядом с молеиной-то с черным словом? Ведь, чая, это грех непрошеный.
Кузярь дерзко бил себя в грудь.
— Этот грех — мой, а черта я сам в дураках оставлю.
Я уж с ним не раз дело имел, он всегда удирал от меня, как мышь, только хвостиком дрягал. А Семке нечего брать чужие грехи: раз артель решила грехи на всех поровну. Все равно будем скоро исповедоваться. Только, чур, об этом настоятелю ни слова.
Эти маленькие шалости достигали своей цели, — ребят выводили старухи и шипели им в затылок:
— Баловники каянные!.. Только в грех вводят. Пошли прочь отсюда и глаз не показывайте!
Однажды наше озорство нарушило весь строгий чин «великого стояния». Придумал эту проказу тот же изобретательный Кузярь. Мы решили входить в моленную по одному, по два, становиться позади старух. Все молящиеся стоят строго друг за другом и земные поклоны, как и поясные, кладут одновременно. В этот момент, по уговору, мы должны были головой толкать старух в зад.
Эту замечательную картину живо нарисовал нам Кузярь, и, слушая его, мы задыхались от хохота. Шубенки наши лежали в общей куче в прихожей, и мы выбегали на улицу в одних рубашонках. Но на улице было тепло: стоял март, солнышко уже играло ярко и молодо; снег таял и под лучами солнца щетинился ледяными иголками, переливаясь лучистыми капельками. В колдобинах блестели жирные лужи, а рядом с обрыва ручейками падала вниз вода и звенела сверчками. По-весеннему пахло теплым навозом, перегноем и особым милым ароматом, когда снег как будто теплел и томился, а воздух дышал запахами вербных почек и прелой соломы. Хотелось далеко уйти от моленной, от ладана, от затхлой духоты нежилой избы, от тяжелой скуки окоченелого сидения и стояния стариков и старух с их вздохами, стонами и кряхтеньем, от дряхлой дремоты и непонятного бормотания. С одной стороны белела широкая лука, еще покрытая ноздреватым снегом, с другой — совсем рядом, глубоко под крутым обрывом, набухала речка, а на снежном льду уже зелеными озерками сверкала вода. За оврагом, тоже внизу, в густых голых ветлах орали грачи. Далеко, на овражистых спусках заречной стороны, земля на припеках уже мутно зеленела травкой, точно покрытая плесенью, а в круглом овраге стеклянно падала вода, пронзительно сверкала на солнце и разбивалась вихрем брызг, исчезая в мокрых сугробах. Хотелось взять лопату, разгребать снег у избы, вдоль заднего двора делать канавы, пускать по ним воду к обрыву и любоваться, как она торопится вперед, лепечет, шелестит, играет и брызжет колючими искрами.
Хотелось делать скворечницы и поднимать их на шесте около избы. Воздух был лиловый в далях и, казалось, такой густой, что галкам трудно летать. Всюду была грустная, но желанная тишина, точно и земля, и голубое небо прислушивались друг к другу, и в этой тишине слышно было, как тает снег, как всюду щебечут ручьи.
Никогда весна не бывает так таинственно прекрасна и никогда так глубоко не волнует душу, как в детстве. Каким-то бессознательным чутьем дети первые угадывают дыхание под снегами. Не потому ли детство мерещится из седин нашей старости как солнечные переливы ручья, как трогательное трепетанье первой бабочки или как далекий сон, когда летаешь над землей, как птица!..
Мы вошли в моленную и благочестиво стали в задних рядах. Кое-кто из старух сердито косился на нас и недовольно ворчал. Сема поставил меня позади Паруши. Она рыхло переминалась с ноги на ногу, а мне казалось, что ее не сдвинет с места даже здоровый мужик. Я обомлел. Как же я, такой маленький, столкну ее с подрушника: ведь она передо мной — как копна. Я со страхом глядел на ее широчайший зад, на толстую правую руку (левую она смиренно держала с лестовкой на груди) и попятился назад, чтобы перейти на другое место, но Сема толкнул меня обратно и сердито зашептал:
— Чего балуешь? Стой на месте. Молиться надо.
И уже в самое ухо прошептал:
— Смотри не трусь: как она ткнется головой в подрушник, ты сейчас же толкни ее башкой. А сам громко шепчи:
«Господии владыко животу моему».
Стоять пришлось недолго. Молитва Ефрема Сирина произносилась несколько раз за «стояние» с земными поклонами. Все валились на пол во главе с Митрием Степанычем, который произносил молитву с сокрушенной торжественностью, с певучей печалью. Иногда он был в особом ударе, и голос его взывал с искренней скорбью, проникновенно и трогательно. Старухи стонали и всхлипывали, а нервные женщины плакали навзрыд. Некоторые падали на подрушник и, сотрясаясь от рыданий, уже не вставали до конца молитвы. Чаще всего случалось это с моей матерью.
Стояла она в задних рядах, слева, между бабушкой Анной и Катей. Как только приближался момент произнесения этой молитвы, она бледнела, глаза ее расширялись в тревоге и трепете, и вся она начинала дрожать, как в ознобе.
И в тот миг, когда вдруг наступала короткая тишина, она открывала рот и дышала порывисто и мучительно. Ее поднимала Катя, помогала и бабушка, но бабушку оттесняли молодухи и, рыдая, выносили мать в прихожую или на улицу.
Я ждал, что с матерью и теперь произойдет это нервное потрясение, и мне уже было противно и гадко принимать участие в озорстве. Я оборачивался назад и посматривал на нее. Но она стояла спокойно и ясно и, встретившись со мною взглядом, улыбнулась, а потом наклонилась, не угашая улыбки в глазах, и укоризненно встряхнула головой: стой, мол, не оглядывайся, молись прилежно!.. В этот день она чувствовала себя хорошо. Это успокоило и ободрило меня.
И вот настала решительная минута. В торжественной тишине все стояли в напряженном ожидании. Голос Митрия Степаныча внушительно, с горестной строгостью произнес:
— Господии владыко животу моему…
По моленной прошла волна смутного шума, шелеста, глухого грохота колен об пол, и вся обширная горница сразу стала пустой, голубой от ладана, а впереди трепетно играли огненные язычки свечей перед иконами. Я упал на колени, оперся руками в подрушник и со всего размаху ткнул головой в мягкий зад Паруши. Она рыхло обрушилась на локти, изумленно охнула и ударила в зад какого-то мужика в хитоне, тот тоже упал… Я услышал глухую суматоху, оханье, гневное ворчанье. Чтобы никто не заметил, что я смеюсь, я не поднял головы от подрушника. В этот миг общего смирения и отрешения от всех земных сует нельзя грешить. Молящиеся ворошились на полу, сдержанно охали и с трудом вставали на ноги, оставляя подрушник на полу. Когда все встали. Паруша медленно оборотилась ко мне и сердито насупила мужские брови. Но я истово смотрел вперед и перебирал пальцем четки лестовки. Страх подавлял смех, но он неудержимо играл внутри. Оказывается, взрослых и стариков очень легко поставить в смешное положение. Они не поняли, что случилось, и успокоились.
Следующий поклон прошел благополучно, и в разных местах люди стали вздыхать с печальным покаянием:
— Дух же целомудрия и смирения, терпения и любве даруй ми, рабу твоему…
И опять все с грохотом упали на пол, и я опять со всей силой вдавился головой в необъятный Пару шин зад. Ока всей тяжестью уперлась головой в зад того же мужика в хитоне, а тот ткнулся в переднего… Я украдкой посмотрел в сторону и увидел, что и другие старухи и мужики брякнулись на пол.
— Батюшки! Что это такое?.. — с испугом прошипел кто-то впереди, а ему ошалело откликнулись другие:
— Кума, да ты рехнулась, что ли?..
— Да я сама упала… Это ты, баушка Дарья, головой-то пихнула. Ежели не можешь кланяться, стояла бы, что ли…
Общий ропот, кряхтенье и глухая возня нарушили молитвенную торжественность. Люди огрызались друг на друга, но тихо, шепотом, и делали вид, что все — чинно, строго и спокойно. Тревога и злоба на иконных лицах стариков и старух не угасала. Кто-то задушливо смеялся в подрушник, девки и молодухи едва сдерживались, чтобы не захохотать.
Паруша вместе с другими встала и невозмутимо положила земной поклон. И в тот момент, когда гул падения тел замер, а в разных местах поднялись охи и возмущенный шепот, я встретился с зорким и зловещим глазом Паруши, которая следила за мною из-за руки. Этот глаз пригвоздил меня к месту. Я почувствовал, что она догадалась о моей проделке и следит за мной, чтобы я не ускользнул от нее.
Свалка слева от меня, где стояли Сема, Кузярь и Наумка, громоздилась беспорядочной кучей. Старухи корчились, путались, давили друг друга и стонали. Чья-то жилистая рука тыкала в разные стороны, кто-то плакал и сморкался. Старики хрипели и свирепо шамкали беззубыми ртами. Какаято старуха, желтая, морщинистая, схватила Кузяря за волосы, и я слышал ее злой шепот:
— Каянный! Час какой нашел! Греха-то сколько наделал! Все волосы тебе выдеру, арбешник!
Кузярь оскалил зубы и вцепился в руку старухи костлявыми пальцами. Девчата одна за другой выбегали из моленной. У Семы лицо было напряженно-истовое, но ноздри раздувались от сдавленного смеха. Катя откровенно показывала зубы, а в глазах играло веселье. Мать пристально смотрела на меня потемневшими глазами, и от этих ее глаз у меня заныло внутри.
Митрий Степаныч окончил молитву и внушительно, строго прикрикнул на мирян:
— Надо соблюдать благочиние и страх божий, братие.
Не навлекайте кары господней за свою бестолочь. Вы не в мирской церкви, не в капище.
Паруша неторопливо и размашисто положила на себя кресты, потом повернулась ко мне, ущипнула своими толстыми пальцами мое ухо и молча повела меня к выходу.
Я не заплакал и не закричал: огромная глыба Паруши настолько подавила меня, что я ощущал себя в ее руке щенком, которого схватили за шиворот. В прихожей она отвела меня в овчинный угол, взяла за плечи, а потом за подбородок, и в золотистых глазах ее я увидел веселое лукавство, хотя мохнатые брови ее гневно ощетинились на переносье.
— Ты чего озорничаешь, постреленок, а? Вот так отчубучил со мной, старухой! Аи да грамотей до затей! Знаю, не ты эту ералаш задумал. Батюшки мои, в великий-то пост!. Ну-ка, снимай портки-то!
Но она вся тряслась от смеха, а глаза ее, свежие, прозрачные, играли молодым задором. Я чувствовал, что гнев Паруши наигранный, притворный, что бить она не будет, что она меня нарочно вывела из моленной, но для чего вывела — я не мог понять. Это молодое лукавство в ее глазах и этот старушечий смех потрясли меня так, что я звонко засмеялся, ткнулся головой в ее мягкий живот и сразу же заплакал.
— Прости меня, Христа ради, баушка Паруша.
— Да ты скажи мне, баловник: любя, что ли, ты меня Вместо ответа я терся лицом о ее китайку и старался обнять ее. Она взяла в пухлые руки мою голову и поцеловала в волосы.
— Знамо, вам, баловникам, стоять-то трудно. Только ты уж, Федя, не делай этого. Бог-то ведь видит, как вы озоруете. Греха-то на тебе нет, владычица-то только улыбается.
Иди на улицу, поиграй, золотой колосочек, оденься и побегай на солнышке.
Она трубила своим басом, но мне казалось, что я никогда еще не слышал такого нежного голоса и такой светлой ласки.
— Я, баушка Паруша, больше не буду…
Она погладила мою голову и опять затряслась от смеха.
В глазах ее играл веселый огонек.
— Ну, янтарное зернышко… как это не будешь? Будешь!
В эти-то годы только и озоруют. — И, наклонившись надо мной, прошептала: — Озоровать озоруй, лен-зелен; только меня больше не толкай, а то падать-то мне, такой толстой, совестно.
Я поднял голову и увидел рядом с нею мать. Она стояла молча и из черного платка смотрела на меня бледным, чужим лицом. Паруша сурово пробасила ей, оттолкнув меня в сторону:
— Нет, матушка, сперва сумей вырастить его… Бить тебе не дам… — И заслонила меня от матери своим грузным телом. — Бери шубенку-то, оденься и беги.
Из двери моленной один за другим вылетали парнишки: Сема, Кузярь и еще двое — рыжий Филиппка и Петяшка, сын нищей Заички, с красными рябинами на лице от недавней оспы. Они брякнулись прямо в дверь на улицу. За ними вышел в хитоне Влас Горынин, дряхлый старик с красным лицом, заросшим седыми клочьями. Он едва передвигал больные ноги в уродливых валенках, и когда вышел за дверь, на крыльцо, его дрожащий и скрипучий голос обрывался на полуслове:
— Я вот вас… каянных… по-подо-подогом! Рази мысленно, сколь беды наделали… Арбешники! Я вас… подо., подогом!..
— Дедушка Влас! — кричали парнишки. — Мы больше, не придем. Дай только шубы взять. Чай, мы без шуб-то озябнем. Тебе же на старости лет достанется.
Мать стояла как завороженная и молча смотрела на меня изумленно и страдальчески. Неожиданно она заторопилась: быстро вынула из овчинного вороха мою шубенку и сама одела меня, потом поспешно оделась сама и так же молча подтолкнула меня к выходу. Влас грозил палкой парнишкам и дышал хрипло, через силу, словно его душило что-то. Мальчишки смеялись и клянчили:
— Де-едушка Влас! Де-едушка Влас!
Кузярь проводил меня взглядом и, задрав шапку на затылок, озорно крикнул:
— Ого, наша берет! Одного уж на выволочку повели.
Сема смотрел на меня с испугом в глазах, потом подмигнул и сделал знак: беги! Но я отвернулся от него, обнял руку матери и прижал ее к себе: мне стало больно, что я обидел ее. Она показалась мне в эти минуты очень слабенькой и несчастной.
Дома никого не было, пахло свежеиспеченным хлебом и соломой, которая ворохами лежала на полу.
— Раздевайся! — чужим голосом приказала мать и сама торопливо сбросила шубу.
Она никогда не била меня, да и теперь я не верил, что она меня отхлещет. Я заревел и бросился к ней, обхватил ее ноги. Она плакала вместе со мною, и тяжелые ее слезы падали мне на голову, которую она прижимала к груди. Сердце ее билось часто, толкалось мне в ухо и захлебывалось.
В этот же день меня отхлестал плеткой дед. Ко мне влезла на печь мать, целовала меня, что-то ласково шептала, но я видел ее, как во сне. Сыгней хватался за задорогу, склонял голову надо мной и смеялся:
— Ничего… эка, подумаешь… А ты бы стрекача дал аль спрятался. Ты, ежели придется, обманывай.
За завтраком все смеялись над тем, как падали старухи и старики и как в этой свалке путались они и толкали друг друга.
Бабушка тряслась от смеха.
— А Паруша-то… брякнулась на дедушку Корнея, а он бородой-то на подрушнике поехал… И подняться не может — дряхлый…
— Баушка Паруша хорошая!.. — забывшись, крикнул я, и в тот же момент на лбу у меня щелкнула ложка деда.
— Мать! Баушка! С вечера канун надо наложить на него с Семкой: сорок лестовок с земными поклонами.
XXX
Отец поехал в извоз в начале великого поста, а возвратился в первые дни страстной недели. Ночью, когда все уже спали, окно задребезжало от дробного стука. Этот знакомый стук черенком кнута повторился несколько раз. Бабушка заохала в тревоге:
— Васянька приехал. Отец, вставай! Встречать надо. Невестка, вздуй огонь-то! Сердце у меня упало, душа не на месте: не случилось ли чего с Васянькой-то?..
Дедушка не сонным, но надтреснутым голосом пояснил:
— Не слышу лошадей-то. Да и стучит не по-людски, словно в грехах кается.
Мать босиком подбежала к столу и зачиркала спичками.
Вспыхнул синенький огонек без света и долго кипел во тьме, шипя и вздрагивая. Спички тогда были фосфорные, вонючие, и лучинки загорались только тогда, когда сгорала вся головка. Я часто ночью мусолил головку и любовался ее фосфорическим светом, который прозрачно мерцал, как гнилушка, и дымился.
Мать зажгла висячую лампу и в одной холщовой рубашке, без волосника, совсем как девочка, побежала к своей кровати в заднем углу и набросила на себя сарафан и повойник. Лицо ее дрожало не от радости, а от испуга и от предчувствия беды. Ребята и Катя спали на кошме по обе стороны от меня и не шевелились. Я вскочил и подбежал к матери. Она, с застывшими от страха глазами, бледная, шептала что-то и не видела меня. Я лег на ее кровать и схватил ее за руку. Она порывисто обняла меня, потом так же порывисто оттолкнула и словно окоченела…
— Невестка! — повелительно крикнул дед. — Беги отопри ворота! Шире! Да сама под уздцы лошадь введи!
От этого крика она рванулась к двери и, босая, выбежала из избы. Дед сидел на своей кровати, похожей на телегу, спустив голые ноги. Седые волосы на голове клочками торчали в разные стороны. Глаза, холодные и острые, светились недобрым огнем. Вдруг он, как молодой, пробежал от кровати к окну, которое выходило к воротам, и прилип к стеклу.
Бабушка надевала китайку и плаксиво охала:
— Лошаденки-то уж больно дохлые… а возы-то чижолые… Все дни сердце кровью обливалось…
Дед молча отошел от окна, сунул ноги в валенки у кровати и стал посреди избы, лицом к двери Сыгней и Тит торопливо надевали портки и валенки, переглядываясь и посматривая на деда. Катя лежала по-прежнему неподвижно и, вероятно, притворялась спящей. Только в тот момент, когда Сыгней и Тит одурело вскочили с постели, она натянула полу тулупа на голову, словно хотела показать, что ей наплевать на всю тревогу, которая поднялась в избе.
В сенях что-то грохнуло. Дверь распахнулась во всю ширь, и в избу с кнутом в руках, сгорбившись, вошел отец.
За ним впрыгнула босая мать. Она задыхалась от слез. Отец истово снял шапку, положил три поклона и сразу же рухнул на пол.
— Прости, Христа ради, батюшка! Беда приключилась.
Лошади-то сдохли. И телеги с санями по дороге остались.
Только шкуры одни принес… да вот кнут в руках. Ведь по сорок пудов грузили. А лошади-то ведь квелые… одры…
И корм был без спорыньи. Сам, батюшка, знаешь. А сейчас распутица.
Бабушка стояла в дверях чулана и плакала. Сыгней и Тит молча смотрели на отца, который тыкался головой в валенки деда. А дед, опустив руки, застыл на месте, потом нагнулся, вырвал кнут из рук отца и спросил деловито:
— Где телеги-то бросил?
— За тридцать верст, во Вшивке. Там я у старосты оставил… на бумаге расписались.
— А как я разделаюсь с Митрием-то Степанычем, а?
Как я в глаза ему глядеть буду? Скидай полушубок!
Отец с искаженным от горя лицом, изнуренный, похудевший, встал, сорвал с себя полушубок и бросил его на кровать.
— Ложись! На пол!.. — глухо, с холодной беспощадностью приказал дед.
— Батюшка!.. — надорванно запротестовал отец и попятился от него.
Бабушка протянула руки к деду.
— О-оте-ец!.. Прости его, Христа ради!.. Али беды не было? О-оте-ец!
Мать упала в ноги деду и тоже зарыдала:
— Батюшка, помилуй! Не со зла ведь. Погляди на него — лица на нем нет. Али ему не горько? С чем его послали-то? На себе, что ли, он телеги-то повез бы? Пожалей его, батюшка!
А дед не обращал на них внимания и щелкал кнутом по полу.
— Ложись! Кому говорю? Приплелся, а рожа пьяная.
У отца дрожала борода. Он пятился назад и бормотал, задыхаясь:
— Грех тебе, батюшка. Горе меня ушибло — капли в рот не брал.
Дед взмахнул кнутом, а отец старался схватить кнут трясущимися руками. Бабушка, протягивая вперед руки, подошла к деду и схватила его за руку:
— Отец, брось! Отец, не бей его! Не он виноват — ты виноват: на дохлых клячах послал.
Дед вырвал руку, оттолкнул бабушку:
— Прочь отсюда, потатчица!..
Бабушка вся сморщилась и заплакала от беспомощности. Мать ползала в ногах деда и хваталась за его валенки.
Катя безмятежно лежала на кошме под шубой. Сыгней и Тит застыли в переднем углу у стола. Сема еще раньше вскарабкался на печь и спрятался за боров. Я стоял на кровати, прижавшись к стене, и плакал. Отец пятился в угол между кроватью и стеной и, задыхаясь, хрипло кричал:
— Батюшка, не греши! Не поднимай на меня руки! Не дамся, батюшка! Великий пост, батюшка… страсти господни… — и ловил руки деда.
А дед очень ловко и юрко метался перед отцом с кнутом в руке.
— Ты еще не ученый! — визгливо кричал он. — Ты еще не хозяин! Ты еще не знаешь, как беречь скотину. У меня лошади не падали. Я лошадей еще не надрывал.
Отцу удалось поймать руку деда с кнутом и отвести ее в сторону. С судорогой в лице он перехватил и другую руку и удушливо захрипел:
— Не позорь меня и себя, батюшка! Я тебя почитаю и слушаю. Грех тебе, батюшка! А бить тебе не дамся И в уме не держи, батюшка! Пальцем тронуть меня не моги. Уймись лучше!
— Это ты что… это ты что, Васька?! — исступленно кричал дед. — Руку на отца поднял? Драться с отцом вздумал?
Отец выше и дальше задирал руки деда. Черенок кнута трепыхался в его руке, и кнут извивался и трепетал над взъерошенными седыми волосами. Скованный руками отца, он начал зыбко пятиться, и в его лице и глазах задрожала плаксивая ярость бессилия. Так простояли они несколько секунд, и я увидел, как дед стал слабеть, потухать, вздрагивать и встряхивать головой. Он выронил кнут и дико крикнул:
— Мать! Анна! Гляди, чего он делает с отцом-то…
Бабушка с необычным проворством подбежала к отцу.
— Ах ты, окаянный! — гневно закричала она без обычных- стонов. — Рази можно отцу противиться? Ошалел ты; что ли?
Отец выпустил руки деда, отшвырнул ногой кнут и, к моему удивлению, тихо и мягко сказал матери, которая уже вскочила на ноги и терлась около кровати:
— Ничего не будет, Настасья. Оденься! Не плачь! Не пропадем. Батюшка одумается: теперь не барское время.
Кнут-то лют, да не для всех.
— Дед с неукрощенными дикими глазами отошел в сторону. У него дрожали колени и руки. Он повернулся к переднему углу, крепко положил на себя трехкратный крест и сделал низкие поклоны. Потом, не оборачиваясь и глядя на иконы, сказал глухо:
— Нет тебе моего благословения. Для меня ты — отрезанный ломоть. После пахоты дам пачпорт и убирайся на все четыре стороны.
С этой ночи дед уже не замечал отца, а отец держал себя как чужой. За столом он сидел теперь с краю и не поднимал головы. Враждебное их молчание угнетало, и все избегали смотреть в глаза друг другу. Никто не смел выдавить ни одного слова, а только робко постукивали ложками о глиняную чашку. Бабушка скорбно вздыхала и время от времени умоляла деда сквозь слезы:
— Беда-то какая, отец. Хоть бы помолился ты с Васянькой-то… наложил бы на него канун. А то… осподи!.. как покойник в избе-то… Простил бы ты его, отец. Ведь страшная неделя…
Но дед стукал по столу кулаком и грозно пронизывал ее глазами.
— Молчать! Не твоего ума дело.
Работы по хозяйству в эти дни совсем не было. Возились по мелочам: подметали двор, скидывали снег с крыши и плоскуши, чинили сохи, бороны, грабли. Дед продал одну корову и две овцы и купил по случаю лошадь такого же одра, какой был у Сереги Каляганова. Несмотря на то что весь товар доставлен был Митрию Степанычу, дед оказался у него в долгах. Так как двор Сереги Стоднев захватил за долги, лошадь Каляганова, павшая в дороге, тоже была засчитана, как долг, за дедом. Впервые я увидел его бешенство против Стоднева. Он хватался за волосы и пронзительно кричал:
— Ах, мошенник! Ах, грабитель! Ах, обманщик, жулик окаянный! Вот так богослов! Богослов — для нас, ослов.
Зря мы Микитушку отлучили… на мне грех. Один он за правду постоял, один души своей не убил.
В страстную пятницу он с утра ушел куда-то и не приходил до «вечернего стояния». Только в пасхальные дни бабушка шепотом сказала Кате и матери, что он был у Микитушки и беседовал с ним все это время. Микитушка отдал ему взаймы все деньги, которые были спрятаны у старухи в сундуке, четырнадцать с полтиной. Но Митрию Степанычу дед их не отдал, а спрятал куда-то в потайное место, крадучись от бабушки.
После этого рокового события отец в глазах Сыгнея и Тита стал героем, их поразила его смелость и дерзкая стойкость: он не покорился деду и укротил его в самую страшную минуту. Сыгней стал увиваться около него, и они часто уходили на задний двор и секретничали. Катя осталась равнодушной к этому событию: она жила обособленно и занята была своими мыслями, о которых не знал никто.
Но и она однажды сказала матери по дороге в моленную:
— Теперь тебе, невестка, с браткой-то лафа: к троице удерете, видно… Вольные птицы! Тятенька-то… смехота!..
Чуть не полетел вверх ногами, когда братка-то руки ему задрал… Я думала, что братка-то только форсит, пыль в глаза пускает, а он — вон как!.. — И, оглядываясь назад и по сторонам, по секрету сообщила: — Я тоже скоро из дому-то упорхну…
— Дай тебе господи счастья, Катя! — обрадовалась мать и прильнула к ней. — Это за кого же? В чью семью-то?
— Не скажу.
— A ты скажи, Катя. Может, и я как-нибудь помогу.
— Во-он там, на горе, изба Ларивона, а вон через яр Петруха Стоднев… гляди, как высоко. Вот и гадай и угадывай, где я буду хозяйкой.
Мать оживилась, глаза у нее повеселели.
— Да я уж давно догадывалась. У кого это ты на посиделках-то на коленях сидела? Аль не у Яшки Киселева?
Катя закрыла ей рот ладонью.
Тит повел себя как-то странно и загадочно. Он все время старался быть на виду у деда: сидел дома и читал Псалтырь, переписывал печатными буквами правила о еретиках, вел себя — истово, становился перед иконами и молился усердно и долго. Дед одобрительно посматривал на него или с печи, или из-за стола, где он сидел под иконами, и, бормоча что-то себе в бороду, щелкал на стареньких почерневших счетах. Он в эти минуты заставлял меня петь все восемь гласов, и я звонко выводил детским дискантом: «Приидите, возрадуемся господеви, сокрушившему смерти державу…» Когда Тит кончал молиться земными поклонами, он сразу же бухался деду в ноги и постно приговаривал:
— Благослови, тятенька, Христа ради!
— Бог благословит… Аль на тебя настоятель епитимью наложил?
Тит вставал с лестовкой и подрушником в руках и елейно отвечал:
— Чай, теперь велика седмица — страсти господни. Дай, тятенька, я тебе буду писать, а ты говори.
А то вдруг входил в избу с подковами, со шкворнем или железными скобами и рабским голосом докладывал:
— Вот, тятенька, что я нашел на дороге под горой. Куда спрятать-то? Пригодится.
Дед выхватывал у него из рук железки, внимательно рассматривал их, позванивал ими и, довольный, хвалил Тита:
— Вот рачитель! Один только ты в дом и тащишь, а другие-то — из дому…
На дворе Тит юлил около отца, послушно и быстро исполнял его приказания и старался быть на побегушках.
Раньше он обижался по всякому пустяку, ругал его «хвостом», а теперь на лице у него застыли внимательность и преданность.
А Сыгней все чаще и чаще уходил к Филарету-чеботарю и пропадал у него с утра до вечера. И, едва вернувшись, весь грязный, немножко сутулый от постоянного сидения перед низким чеботарским верстаком, торопливо умывался, надевал чистую рубаху, плисовые портки и долго набирал гармошку на голенищах сапог. Возвращался он обычно после ухода деда и бабушки на «стояние» и вместе с отцом и матерью шел в моленную. Как-то вечером после «стояния» дед, по обыкновению, сел за стол и, сняв со стены счеты, стал щелкать костяшками. Для него это занятие стало какой-то навязчивой потребностью. Он морщил лоб, шевелил клочками седых бровей, бормотал и напряженно думал, поднимая глаза к потолку, и вдруг сбрасывал все костяшки и со странным раздражением кричал в чулан:
— Анна! Мать! Сыгнейку надо весной женить. Баба в избу нужна. Катьку до зимы отдавать не буду. Титку женим, когда за Катьку кладку возьмем. Васька уедет — два работника со счету долой.
Бабушка показывалась в двери чулана с голыми руками в тесте и со скорбным лицом:
— Не майся, не майся, отец! Чего ты торопишься?
Много ли нам надо-то? А Васянька высылать тебе будет: все-таки рублика три за лето пришлет. Чай, не отрезанный ломоть. Зачем ты гонишь его, отец?
Дед, опираясь на локти, перебирал пальцами бороду. Он озабоченно отвечал — не ей, а на свои думы:
— Не я гоню — нужда гонит. Васька не в дом норовит, а из дому. Двум медведям в одной берлоге не жить. Раздела не дам — нечего делить: по миру с мешком не пойду.
И вдруг благодушно спрашивал Тита, который услужливо сидел у него под рукой за толстой рукописной книгой:
— Титка, откуда тебе невесту брать — из нашего села или стороннюю?
Тит по-мальчишечьи сипел:
— Чай, ты, тятенька, сам знаешь. Воля твоя, а не моя.
Деду очень по душе был ответ Тита: его довольная улыбка, казалось, расплывалась и по бороде.
— Вот они какие, послушные дети-то, мать! С Сыгнейкой не сладишь иссвоевольничался. Его можно только под кнутом женить.
И внезапно стукнул кулаком по столу, отшвырнул счеты и взвизгнул:
— А Васька пускай убирается на все четыре стороны!
Дам пачпорт на полгода и велю по рублю в месяц высылать, а ежели не будет посылать — по этапу домой пригоню.
Помается, помается на стороне-то — сам нищим воротится и в ногах будет валяться.
И, удовлетворенный этим решением, встал и полез на печь.
— Титка, прочитай слово о Федоре-христианине и Абраме-жидовине, а я полежу да послушаю.
Тит открыл книгу на зеленой закладке и, перекрестившись, стал гнусаво читать, спотыкаясь на каждом слове:
— «В Констянтине-граде бяше купец именем Феодор, богат зело. По слушаю же некоему потопися корабь его и погуби все свое имение. Имеше же любовь к некоему жидовину, богатому сушу, и, пришед, начал молити его, да ему даст злата довольно…»
Я лежал в это время на полатях и, крадучись от деда, читал увлекательную книгу — «Повесть о Францыле-венциане и прекрасной королевне Ренцивене, с приложением истории о прекрасном принце Марцемерисе».
Я уже прочел не одну такую удивительную книжку — и о Бове и о Гуаке, и наслаждался фантастическим миром блестящих витязей, их необыкновенными подвигами и сказочными садами и дворцами. Я уносился мечтами в эти чудесные страны, где люди сияли невиданной красотой.
XXXI
Эта зима осталась у меня в памяти на всю жизнь До этой зимы я ничего не помню, кроме страшного нервного припадка матери. Мне было девять лет, а мальчик этого возраста в деревне был уже работник, который самостоятельно боронил, самостоятельно возил навоз на поле, сгребал сено, помогал в молотьбе на гумне, ездил за водой на реку, кормил скотину. О хозяйстве он мог уже говорить, как взрослый: знал, когда надо пахать, сеять и жать, когда нужен дождь или вёдро, когда дергать коноплю и лен. Он хорошо знал деревенский календарь с его приметами и мужицкую ботанику и врачевание. Одним словом, парнишка моих лет был в курсе всех дел и интересов деревенского мира.
И я хорошо понимал, что в семье у нас произошло большое событие. Отец и дед стали врагами: отец восстал против деспотической власти деда, а дед не мог примириться с дерзким сопротивлением отца.
Сила и воля деда, всегда непререкаемые, вдруг натолкнулись на противодействие большака, и старик сразу же растерялся и ослабел. Это было крушение устоев, и бабушка с ужасом бросилась на помощь старику. Она должна была спасать положение — восстановить священный порядок.
Хотя отец держался особняком, молчаливо и угрюмо, но в нем появилось что-то новое: он показался мне старше, увереннее в себе, а в лице его и самолюбивых глазах затвердело упрямство. И походка стала другой — твердой, решительной, странно веселой, еще более форсистой. Да и голову он закидывал выше и Чаще склонял к правому плечу.
После приезда он ни разу не ударил мать. Я издали наблюдал за ним и ничего не понимал. Хотя с виду он обращался с нею, как и прежде, сурово и так же сурово приказывал ухаживать за собой, но в эти последние дни «страстей» они ходили в моленную вместе и о чем-то секретничали.
Мать тоже изменилась: она как будто поздоровела, глаза стали свежее и больше, и в них засветилась радостная надежда и своя, скрытая ото всех страстная мечта. Робость ее и забитость остались, услужливость и покорность бабушке стали еще больше, но в движениях появилась красивая плавность, а в голосе — сердечная и веселая певучесть. Она ликовала в душе, и ей просто хотелось быть приятной, ласковой, веселой, готовой раскрыть свое нежное сердце. Бабушка косилась на нее, ворчала. И чем настойчивее и живее старалась услужить ей мать, тем враждебнее чуждалась ее бабушка. Как-то она, красная от огня в печи, крикнула ей:
— Ты чего это больно хвост-то задираешь, невестка?..
Аль от мужа храбрости набралась? И закудахтала, и крыльями захлопала… Не рано ли вольность-то почуяла?
Мать прислонилась головой к косяку чулана и со слезами на глазах, дрогнувшим голосом упрекнула свекровь:
— Чем же это, матушка, я тебе не угодила? Я к тебе всей душой… чтоб все тебе по сердцу было. А ты меня же страмишь. Обидеть меня всем легко, а я и доброго слова ни от кого не слышала. И всё под страхом. Сейчас страшная неделя: души-то убивать не надо.
Бабушка совсем разгневалась: она впервые услышала от матери такие мятежные слова. Всегда безгласная и покорная, мать вдруг ополчилась на нее, свекровь, и осмелилась противоречить ей и даже упрекать ее, вместо того чтобы униженно поклониться и попросить прощения.
— Ты уж охальничать начала!.. — сварливо крикнула бабушка. Ее рыхлое лицо затряслось от негодования. — Господи-5атюшка, в страшную-то неделю! Как же нынче на стояние-то идти? Дожила на старости лет.
И она заплакала мутными слезами. Ее усталые старческие веки дрожали от обиды и горя. Мать зарыдала и бросилась ей на шею. Этот ее порыв ошеломил бабушку, и она невольно обняла мать и затряслась всем телом. Так они проплакали долго, а потом сели на лавку против печи и тихо завопили. Слова были невнятны, тягучи и обрывались, вскриками, стонами и паузами, но это были слова жалобы, скорби. И, как всегда, обе они вопили каждая о своем и импровизировали каждая по-своему. Они уже опять слились в общей печали и забыли о размолвке.
Пасхальные дни остались в воспоминаниях, как самые яркие и ликующие: они залиты солнцем, небесной синевой, колокольным звоном, песнями и разноцветными хороводами. Широкая лука перед церковью радостно зеленела молодой травой, а по ней рассыпаны золотые одуванчики. Площадь ровная, бархатная от молодой травы и мерцает вдали серебряными волнами марева. Налево от церкви, перед дранкой, лука спускается в лывинку, и дранка кажется высоко на взлобочке. А еще левее непрерывным рядом идут амбары, каменные кладовые. Направо лука обрывается крутым глинистым яром прямо в речку, и далеко на той стороне дымятся ветлы внизу, а за ними крутое зеленое взгбрье. Наверху, перед амбарами, расцветают хороводы.
По луке прыгают спутанные лошади — костлявые, длинноногие, облезлые. Они, не отрываясь, щиплют молодую траву, а жеребята играют около них и постоянно тыкаются морденками под брюхо маток. Черносизые грачи важно расхаживают по луке и долбят серыми клювами землю. По площади, к церкви и от церкви, лениво и празднично бродят нарядные девки, парни и молодые мужики и грызут семечки. Из окон колокольни рядком высовываются люди маленькие, бородатенькие и безбородые, какие-то ненастоящие и смешные. А выше всех качается любитель-звонарь с веревочками в правой руке. Он трезвонит в два маленьких колокола, а левой дергает веревку, привязанную к языкам других колоколов. Я отчетливо слышу музыку звона: «Дунька — Ванька, попляшите…» И кажется, что поет вся деревня, и лука, и ветлы, и это мерцающее марево. Хочется смотреть в синее мягкое небо и провожать тугие белые облачка.
Солнце горячее, оно обжигает спину и пронизывает все — и избы, и амбары, и колокольню, и землю… Кажется, что земля — живая: она дышит, потягивается, улыбается, такая молодая, полнокровная. В воздухе теплые волны хмельных запахов: и черемухой пахнет, и горьким ароматом одуванчиков, — и новым пунцом, и дегтем, и хмельным духом полыни. Скворцы поют на скворечницах, и их свист не заглушается звоном. На колокольню звонить ходят не только «мирские», но и многие из «кулугуров», а Митрий Степаныч издавна славился как лучший из звонарей.
В эти ослепительные и цветущие дни люди как будто стали добрее и приветливее. Приятно было видеть, как мужики и бабы, одетые в лучшие наряды, встречались на улице, на луке и целовались с особой сердечностью, с неудержимыми растроганными улыбками. И парни и мужики — в пиджаках или в пунцовых рубашках, при жилетках, в сапогах с набором, в суконных картузах с узенькими полями — самыми модными в те времена. Девки и молодухи — в цветистых сарафанах на толстых стеганых юбках, чтобы казаться упитанными, в ситцевых кофтах-разлетайках, в синих и фиолетовых полушалках, которые играли красными и синими искрами, в котах или в высоких кожаных калошах, твердых и тяжелых, точно вылитых из железа. Встречаясь и целуясь, они обменивались крашеными яйцами. С детишками они были нежны, ласковы, а мужики подхватывали малолеток на руки и подкидывали выше себя. Действительно, эти дни были праздником воскресения жизни и всех хороших чувств. Вот почему так весело звонили колокола.
Мы с Кузярем и Наумкой бегали с одного конца длинного порядка на другой и не боялись, что на нас нападут парнишки и прогонят обратно: теперь все близки, беззлобны и доверчивы. Сема уже отстал от нас: ему четырнадцать лет, и он уже в компании своих однолеток, парней серьезных и мужественных, которые больше льнут к женихам. В конце нашего порядка, на зеленой лужайке, над избой Крашенинников, за амбарами, в холодке толпились девки и парни, щелкая семечки. Девки — отдельно, парни с гармошкой — отдельно. Обычно молодые мужики и парни играли в орлянку или рассаживались в кружок и долго резались в карты — на деньги или в носки. Ванька Юлёнков был азартный картежник, и у него всегда были скандалы с другими игроками. Девки хороводом играли в «подкучки» — прятали яйца в кучки земли и угадывали, где они спрятаны.
Они сопровождали эту игру песнями. Кто-нибудь из парней подходил к хороводу, хватал девку и кружил ее, а она визжала, билась в его руках.
Мы, малолетки, играли, бегая друг за другом в толпе девок и парней, или шли на речку, уже прозрачную и говорливую, и пугали камешками пескарей. Часто под предводительством Кузяря совершали путешествие. через гумна в далекие края — на межу в версте от села, или в Березов — в рощу на той стороне за селом, в глубокой лывине, или наконец вниз по речке, по крутому берегу, где из-под каменных плит весело клокотали гремучие родники. Эти родники были обложены камешками, и в прозрачной студеной воде плавала деревянная чашечка. Мы отважились доходить до устья Чернавки — до Варыпаевского пруда на Няньге, в которую впадала наша речка. Тут она разливалась широко и была неподвижна. В этих местах было много рыбы, но мы не решались брать с собой удочки: места были чужие, опасные, где грозила всякая неожиданность. Кузярь любил возбуждать в нас ужас всякими страшными рассказами, и тощенькое лицо его живо и искренне отражало все моменты трагических и смешных событий.
— Вот в этом месте на нас с тятькой волки напали, — ошеломлял он нас с Наумкой и останавливался, тараща глаза. — Мы за хворостом зимой ездили. И, понижая голос, озираясь, прислушиваясь, предупреждал: — Вы в оба глядите, как бы они не наскочили сверху: они ведь издали чуют, где такие дураки, как мы.
Наумка трусливо съеживался.
— А ты чего нас тащил сюда? Знал, что здесь волки бегают, а тянешь.
Кузярь, довольный, что одного из нас он сразил первым же словом, продолжал сдавленным голосом:
— Мужик без волков не живет. Привыкай с волками дело иметь. Так вот: рубим мы с тятькой хворост, вдруг… — Кузярь изобразил испуг и изумление на лице, глаза округлились и заблестели. — Вдруг бежит на нас сучнища серая, лохматая, пасть на аршин разинула, зубы как грабли, а язык болтается, как помело. За ней целая свора волков — прямо с нашу лошадь. Ну, думаю, шабаш: слопают черти…
Я Хорошо знаю, что Кузярь врет, но рассказывает он так увлекательно, что мне хотелось верить ему. Наумка же принимал его ложь за чистую монету и стоял ни живой ни мертвый. Но Кузярь портит свой рассказ нелепым преувеличением: он храбро хватает хворостину, бежит навстречу сучнище и всовывает ей в глотку острый конец. Сучнища падает, волки набрасываются на нее и рвут в клочья, а Кузярь с отцом удирают домой.
Я смеялся над этой небылицей в лицах и изобличал его вранье. Но он нисколько не обижался и задорно обрывал разговор:
— Я еще не такую небыль умею выдумать. Вот вы сумейте на людей страх нагнать… Черта с два!..
Он был хороший, интересный товарищ, но беспокойный изобретатель всяких опасных проказ. В эти праздные дни он здесь, на пруду, подговорил нас разбить камнями замок на цепочке, которой прикована была лодчонка к столбику.
Лодку мы столкнули в воду, и она поплыла от берега на середину пруда.
— Ребята! — в страхе прошептал он и сделал вид, что замер от отчаяния. — Ребята, спасайся!.. Мельник и засыпка с кольями бегут.
И со всех ног пустился бежать. Мы с Наумкой, ошарашенные его ужасом, зайцами бросились в чащу ольхи. Остановились мы только тогда, когда Кузярь захохотал позади и начал издеваться над нами:
— Эй, вы! Куда вас черти гонят? Там вас еще собаками затравят. С вами, дураками, и в капкан попадешь: их тут расставлено пропасть.
Он нас и тут одурачил: никаких капканов мы не заметили, хотя пробирались с большой осторожностью. Встретил он нас презрительным смехом.
— С вами, баранами, и возиться-то скучно: больно уж верите. Вы не верьте, а сами меня обманите. Тогда у нас и драка будет.
В другой раз он взволнованно рассказывал нам, как удалось ему увидеть у знахарки Лущонки коровий хвост и как она верхом на этом своем хвосте летала по избе, а потом юркнула в печную трубу. Чтобы не пустить ее обратно, он пробрался к ней в избу, закрыл вьюшки в грубе и закрестил заслонку. Когда она прилетела домой, в трубу уже не могла попасть и заметалась над крышей, как сычиха. Потом ударилась об землю, обратилась в свинью и начала рыть землю под сенями. Он и мигнуть не успел, как она исчезла в норе. Я не поверил ему, но рассказ захватил меня. Мне даже показалось, что он сам верил в свою выдумку, потому что глаза у него горели, лицо раскраснелось и голосишко дрожал от возбуждения.
— Ты врешь, Кузярь. — возмутился я. — Лушонка в моленную ходит. На ней — крест. Она всех с молитвой лечит.
— Я вру? — взьярился он и шагнул ко мне с сжатыми кулаками.
— Врешь. Ты лучше покажи, какой у нее хвост-то. Пойдем к ней. Я войду, помолюсь и скажу: вот Кузярь хвост у тебя увидел, бабушка Лукерья, а я знаю — врет он.
Эта знахарка Лукерья жила в нижнем порядке, за крашенинниками, в маленькой мазанке со слепыми окошечками.
Старушка ока низенькая, сгорбленная, тихая, робкая, а с детишками ласковая. Она не раз при мне приходила к больной бабушке Наталье, поила ее какими-то травами и говорила с ней печальным дрожащим голосом. Прежде чем дать питье, она ставила кувшинчик на стол перед иконами и долго молилась. И никогда не забывала погладить меня по голове и похвалить за звонкий голосок, который трогал ее в моленной. Мне очень она нравилась своей печалью в лице и добрым, нежным голосом. Клевета Кузяря разозлила меня не во время его рассказа (я слушал его разинув рот), а в тот момент, когда он нагло хотел наскочить на меня. Я прижал его к стенке своим решением пойти вместе с ним к Лущонке, Он опешил, но самолюбие взяло верх, и он вызывающе крикнул:
— Пойдем! Ты, Наумка, свидетель.
Он пошел решительно и смело. Но у самой избушки остановился и с кривою усмешкой заявил:
— Не пойду. Она — ведьма: у нее — нечистая сила. Пропадешь ни за что.
Я не мог перенести этого вероломства и схватил его за грудки.
— Ты — врун, охальник. Не забудь, как я тебя тузил за тетю Машу. И трус ты: стыдно на глаза попасть баушке Лукерье. А я пойду.
Он рванулся от меня, но я так крепко вцепился в его рубашку, что разорвал ее до самого пупка. Впервые я увидел его униженным и жалким. Он растерянно посмотрел на рубашку, на голое свое тело и тихо заплакал.
— Ведь у меня одна она, чистая рубашка-то…
Я еще кипятился:
— А ты не охаль людей. Вот и нарвался.
Он сел на траву и с застывшими глазами, полными слез, раскачивался и бормотал:
— Да я ведь нарочно… Аль я вправду болтал? А ты меня за грудки… мне сейчас и домой не показывайся: мамка без памяти упадет.
— А зачем врал? — уже с участием упрекнул я его. — Ты же сам сказал: ежели не поверю — драка будет.
Мне стало жалко его, и я стоял перед ним сконфуженный и виноватый. Наумка стоял поодаль и улыбался.
Он всегда старался быть в стороне в опасные минуты: и в играх и в дружбе был начеку и шагал как будто ощупью.
Он и сейчас был равнодушен и к Кузярю и ко мне и по-своему ликовал: он ничем не пострадал в этой истории.
XXXII
Дед и бабушка в эти пасхальные дни грелись на солнышке. Он — в суконной поддевке и в картузе, надвинутом на брови, она — в кубовом платке, в синей китайке с оловянными пуговками на золотисто-желтой прокладке от груди до подола. Они шли к амбарам, где собирались старики и старухи, и рассаживались на бревнах, старики — отдельно, старухи — отдельно, и мирно говорили о домашних делах.
Отец и мать с утра уходили в гости и пропадали там до вечера.
Как-то я с ними пошел к бабушке Наталье. Они похристосовались с нею, уже полумертвой, принесли ей крашеных яиц и лапшевник, посидели немножко и ушли: отец не любил бабушку и, скучая, молчал, пока мать ухаживала за нею. Я остался у ней и слушал ее бессвязные, но радостные слова. Чудилось, что она, умирая, пела какую-то свою песню слабеньким голосом:
— Вот и слава богу, дожила до светлых дней. Я окошечко подымаю — с улицы-то дух идет вольготный. Солнышком, травкой, речкой пахнет… Подойду к окошечку, а меня солнышко-то теплышком нежит. Ух, как хорошо колокола-то звонят!.. Я вот утром-то вместе с касаточками солнышко встречаю. Касаточки-то веселые, как девчатки… говорят, говорят, смеются, и мимо окошечка-то так и летают, и все норовят поближе ко мне… Крылышками-то чуть-чуть по лицу не гладят. Краше да милее касаточки и птички нет. Выведи ты меня, Феденька, на завалинку, на солнышко: больно уж хочется на воздухе побыть. Кругом — небеса, зелень, а земля-то дышит, улыбается… Вся она как молошная. Возьми ты ключик у меня под подушкой, открой сундук да вынь мне китайку, платок с огурцами да коты… А я наряжусь и в гости к весне пойду… И пропою: «Воскресения день…»
Я помог ей одеться, подал клюшку, и она, вся высохшая, с трудом вышла на улицу. Села на завалинку и, улыбаясь и жмурясь, подняла лицо к солнцу. Пологий спуск к речке, бархатно-зеленый, переливался одуванчиками. Пахло молоденькой мятой — она, вероятно, росла где-то рядом. Было тепло, мягко, и все, на что ни посмотришь, сияло золотом.
Воздух пел колокольным звоном. Речка налево от избы Потапа играла вспышками солнца на перекатах, а ближе, под высоким яром, голубела небом и струилась отражениями прибрежной лозы и глинистых оползней.
С горы, за речкой, от нашего порядка медленно спускалась разноцветная толпа с хоругвями, которые поблескивали на солнце, и с иконами в руках пела «Христос воскресе».
А впереди шел высокий, жирный ключевский поп в сверкающей ризе. Рядом с ним шагал в стихаре лохматый и бородатый дьякон и размахивал кадилом. Это шел крестный ход к колодцу. Кулугуры обычно в это время прятались в избы, а те, кто не успел скрыться, обязаны были вставать. Поп был очень злой гонитель «поморцев» и привязывался ко всякому пустяку, чтобы наказать раскольников. Но с Митрием Степановичем, богатеем, вел дружбу и каждый раз, когда приезжал служить в церкви, после обедни, под звон колоколов, подкатывал на тарантасе с дьяконом к высокому крыльцу пятистенного дома Стоднева. Они оставались в гостях у Ми грия Степаныча долго и выходили совсем пьяные, с одурелыми лицами.
Толпа остановилась перед срубом колодца и рассыпалась по крутым спускам оврага. Вдоль длинной колоды, куда сливалась вода из колодца для скота, и ближе к берегу было тонкое место, и мне было хорошо видно, как поп и дьякон под хоругвями начали служить молебен. Доносились хриплые возгласы попа, рычанье дьякона и разноголосое пение толпы. Орали грачи в ветлах над колодцем, весело звонили колокола. Бабушка блаженно улыбалась беспомощной улыбкой смертельно больного человека. Она сидела, опираясь на клюшку, и млела на горячем солнышке.
Когда молебен кончился и заколыхались хоругви, около попа и дьякона собралось несколько человек, они стали всматриваться в нашу сторону. Среди них я заметил старосту Пантелея и Гришку Шустова — сотского, с саблей на бекешке через плечо.
Хоругви двинулись обратно в гору с попом и дьяконом во главе, а сотский побежал к переходу через речку. Он скрылся за избой Потапа, а потом быстро появился из-за косогорчика и, насупив брови, сердитыми шагами направился к нам. Я съежился от страха и прижался к бабушке.
— Елёха-воха идет… гляди-ко, к тебе!
Она встревожилась, но улыбка еще мерцала на ее лице.
— А правда, ко мне… Знать, я кого-то потревожила, — пролепетала она шутливо. — Ишь ведь страшная какая, ежели начальство идет.
— Тетка Наталья! — по-солдатски забарабанил сотский, икая. — Когда идет служба, елёха-воха… крестный ход… хоругви и образа, елёха-воха… батюшка молебствует… а ты расселась на виду… плюешь, елёха-воха… Не почитаешь лере… леригию…
Он был пьян и едва владел языком. Губы у него были мокрые, а глаза ошалевшие и красные.
Бабушка очень испугалась; она вся затряслась и бессильно откинулась назад, к гнилым венцам стены. Она задыхалась и слабым движением желтой костлявой руки отмахнулась от сотского.
— Я обязан, елёха-воха… под арест, в жигулевку… Клюневский батюшка, елёча-воха… строптивый… Проучил вас, кулугуров… Вставай, елёха-воха, и боле никаких…
Он угрожающе потроган свою саблю и хотел подцепить бабушку за руку, но я кубарем скатился с завалинки, заслонил ее собою и ударил кулаком по руке сотского.
— Уйди! — взвизгнул я и заплакал. — Уйди! Она хворая.
Гляди, какая она… На ногах уже не стоит, а ты… я караул закричу…
Он пьяно рассвирепел и отшвырнул меня в сторону.
Я оступился и упал навзничь, но быстро поднялся и, замирая от ужаса, бросился к нему и укусил его за руку. Он рявкнул и озверело стал рвать саблю из ножен, но она, должно быть, заржавела и не вынималась. Он затопал ногами и, вытаращив пьяные глаза, хотел схватить меня за волосы, но я юркнул в сторону и, рыдая, кричал в исступлении:
— Дурак! Елёха-воха! Не трог ее! Умрет она на дороге — тебя самого в жигулевку посадят.
Бабушка, полумертвая, тряслась и захлебывалась слезами.
— Не надо, Феденька. Отстань! Он ведь сам увидит… силушкм-то нет мне идти-то… Ты, Гриша, пожалей… хворенькая я… Погляди, милый, я ведь и ползти не могу… Все село знает: последние дни доживаю. Чего взять-то с меня, такой недужной?
Сотский уловил момент и шлепнул меня ладонью по затылку. Я кубарем полетел на траву. Когда я очухался, увидел, как сотский тащил бабушку под руку, а она падала и как-то по-детски вскрикивала. Платок упал с ее головы вместе с повойником, и жидкие седенькие косички трепыхались позади. Я бросился догонять их, задыхаясь от слез.
Навстречу шля Потап и колченогий Архип. Они, должно быть, отстали от крестного хода и возвращались домой.
Я истошно закричал им издали:
— Дядя Потап! Дедушка Архип! Баушку Наталью Елёха-воха в жигулевку тащит. Умрет она. Видите, что он с ней делает? Отнимите ее!
Сотский волочил бабушку, как мертвую, а она только слабо стонала и всхлипывала. Потап и Архип подошли к Елёхе-вохе, стали его уговаривать и пытались отнять бабушку из его рук. Он отбивался, грозил, ругался и напирал на них. Я в отчаянии метался около них и бил по рукам сотского. Тогда Потап шепнул что-то сотскому и подмигнул ему.
— Не пущу, елёха-воха!.. — заломался сотский. — Батюшка приказал, а Пантелей послал меня взять. Я ее, елёха-воха, должен в жигулевку запереть. Сидела, развалилась, а тут молебствие, елёха-воха…
Вдруг он опамятовался, и в одурелых его глазах вспыхнуло что-то вроде сознания.
— Идет, дядя Потап! Сами волоките. В жигулевку, елёха-воха! Боле никаких! Я солдат… солдат, елёха-воха…
Архип вгрызался своей деревянной ногой в серый песок и старался потушить пыл сотского:
— А ты слушь-ка, ефлейтор, я сам солдат, на войне дрался. Солдат разве со старухами воюет? Ты погляди-ка, честь-то солдатскую на больную старуху тратишь. Ежели бы она здоровая была да насмеялась, тогда особь статья, А ведь она — на исходе души. Она ведь только лежит, а не ходит. Ведь сам знаешь. А еще ефлейтор!
— Ты меня, безногий, не учи, елёха-воха!.. — опять озлился сотский. — Я и тебя арестую… и кузнеца арестую…
У меня — власть, елёха-воха.
— Власть над мухами… эка, какая власть! — смеялся Архип. — Я вот пойду сейчас к барину Дмит Митричу, отлепортую ему, он те власть-то покажет… Ты, Потап, не покидай тетку Наталью, а я — живо… На рысаке прискачет.
И он решительно заковылял в гору, по дороге к барскому дому. Сотский тупо поглядел ему вслед.
— Держи, Потап, елёха-воха!
Потап подхватил бабушку на руки, а сотский разболтанно побежал за Архипом.
— Погоди, Архип! Как солдат должон исполнять приказ?
Он схватил его за руку и потащил обратно. Видно было, что он струсил от угрозы Архипа.
— Солдат больных старух не оби-кает. Ты, дурак, сказал бы попу-то… а то с пьяных глаз попер… Эх ты, сено-солома!
— Да ведь староста, елёха-воха… Тащи, говорит, ее в жигулевку… Ну, и представить должон…
Архип приказал:
— Раз распоряжение — в жигулевку, несем в жигулевку.
А ежели она умрет — ты в ответе. Свидетелями с Потапом будем. Натальюшха, — участливо сказал он, горестно качая головой, — претерпи, милая. Понесем тебя. Вызволим. Вот ведь дуболомы какие, чего со старухой сделали! Ради светлого-то праздника. Вот те друг друга и обымем…
Бабушка едва слышно попросила, заливаясь слезами:
— Положите меня на землю… Моготы моей нет… Дайте хоть умереть-то на земле-матушке… под солнышком…
Знать, судьба такая, Архипушка. И жила — мучилась, и смерть в муках принять приходится… не стерплю, Архипушка…
Архип схватил меня за плечо и что-то внушал мне, но я ничего не понимал. Я только беспомощно плакал от жалости к бабушке и не отходил от нее. Это отвратительное и дикое насилие над больной бабушкой оглушило меня, и, убитый отчаянием, я ничего не чувствовал, кроме ужаса, какой я переживал в кошмарных снах.
— Парнишку-то испугал, леший! — услышал я сердитый голос Потапа. — Лица нет у парнишки-то. Петяшки нет дома-то, а то бы увести его надо.
Архип потряс меня за плечо и утешительно засмеялся.
— Ничего… Он — молодец. Он, брат, горой за баушку-то…
И он опять потрепал меня по плечу.
— Беги, милок, к маменьке и веди ее к жигулевке. Баушку нельзя одну крысам оставлять. А я потом к барину подамся.
Я со всех ног бросился к дяде Ларивону, где сидели в гостях отец с матерью. Много раз я оглядывался назад и видел, как Потап и Архип сначала отнесли бабушку к избе, потом Потап вынес кошму. На кошме понесли ее вдвоем — Потап и сотский, а Архип ковылял сзади.
Ларивон был пьяный: сидел он, как отравленный, и мигал осовелыми глазами. Рядом с ним сидел отец, тоже охмелевший, и снисходительно улыбался. Они пили брагу и кричали, не слушая друг друга. Мать сидела рядом с бледной, старообразной Татьяной, которая озиралась, не слушая, что говорила ей мать.
— Ты, Вася, беги! — гнусаво орал Ларивон, шлепая отца по спине. — Беги и беги… без оглядки! Оглянешься — без порток останешься. Дурак я был не удрал… А сейчас я — баран, у которого червяк в черепке…
Отец задирал брови и морщил лоб: он и хмельной не забывал похвастаться, какой он умный мужик.
— Я нигде не пропаду. Я на сто сот кругом вижу и кого хошь на наничку выверну. Я и отцу руки окоротил. Эх, деньги достаются дуракам! Ежели бы деньги, я бы Митрия Стоднева в ногах валяться заставил. Я с господами в Пензе да в Петровске за ручку здоровался и в разговоре отличался.
Когда я с ревом кинулся к матери и, задыхаясь, закричал, что бабушку Наталью арестовал сотский и поволок ее по земле в жигулевку, что тащить велели ее поп и староста, мать вскочила и побежала к двери. И только у порога схватилась за косяк и закричала, как раненая:
— Фомич! Ларя! Матушку-то. За что?.. Спасите матушку-то! Доконают ее… Ларя! Фомич!..
И скрылась за дверью.
Я выбежал вслед за нею.
Жигулевка была на нашей стороне, на луке, рядом с пожарным сараем. Это была старенькая деревянная лачужка, похожая на баню, сизая, вся покрытая сухой плесенью, с маленьким оконцем, в которое могла влезть только кошка. Дверь всегда была заперта огромным ржавым замком.
Мы сбежали с крутой горы напрямик к церкви и по жиденьким мосткам выскочили к пожарной. Мать бежала не оглядываясь и рыдала на бегу. Я на минуту остановился и посмотрел на ту сторону, не идут ли за нами отец с Ларивоном. Внизу бежал, взмахивая бородой, в красной рубахе без пояса Ларивон. Бежал он тяжело, и его отшибало то в одну, то в другую сторону. На переходе через речку он рванул на себя слегу на поручне и вместе с нею грохнулся в воду. Забарахтался в мутной воде, потом неуклюже поднялся и со слегой в руках вышел из речки на берег, весь грязный, с прилипшей к телу рубашкой. Около пожарной, у насосов, стояли мужики. Отца ни на горе, ни внизу не было: должно быть, он посчитал зазорным бежать вместе с Ларивоном и пошел вдоль порядка по дороге, чтобы форснуть перед открытыми окнами своей пунцовой рубашкой при жилете, плисовыми портками, легкими сапогами и касторовым картузом, который он обязательно снимал перед встречными.
У запертой двери жигуленки стоял Потап вместе со стариком Мосеем пожарником. Мосей был уже навеселе и счастливо улыбался всеми морщинками обветренного лица. На голове у него красовалась войлочная шляпа, очень похожая на глиняную плошку. Такие шляпы носили только глубокие старики, а Мосей, юркий, говорливый, высохший, с кривыми ногами, явно щеголял своей шляпой: он бесперечь толкал ее кривыми пальцами со лба на затылок, с затылка набекрень и опять на лоб. Одет он был в синие набойные портки и домотканую рубаху цвета луковой кожуры.
Мать подбежала к черной дырке оконца, судорожно вцепилась в него пальцами и зарыдала:
— Матушка! Да чего это они с тобой сделали? Да как это у них руки-то поднялась? И больную старуху-то не пощадили. Да как это у них, ради светлого праздника, совести хватило? Что делать-то будем? Матушка!
Из жигуленки в оконце чуть-чуть просачивались глухие стоны: бабушка плакала.
Подошел Потап, по-прежнему лохматый, свирепый, прокопченный, только без фартука, и робко постукал пальцем по плечу матери.
— Не убивайся, Настенька. Мы тетку Наталью принесли, как барыню, на кошме. Архип сейчас на барский двор попрыгал. Дмит Митрич живо на своем жеребце прилетит.
Страсть любит начальство наше распекать! Не убивайся — вызволит.
Мать не слушала его и плакала, не отнимая лица от окошечка.
Мосей скоморошничал:
— Место везде человеку есть: даже в могиле лежанка уготована. Лежи себе в домовике, как на перине. А в нашей жигулевке кто не бывал? К Наталыошке в келью люди-то и не заглядывали: людям-то самим до себя. А сейчас — гляди: к дочка, и внучек, да я с Потапом и Архип на придачу.
Ключ-го вон он у меня. — Он подкинул на ладони скромный ключ с винтовой нарезкой. — Храни, бат, пуще своей головы. И меня сколь раз тут запирали, и я запирал. Однова меня сюда за ноги притащили. А заперли за мое же веселье: захотелось людей потешить — в колокола позвонить. Так захотелось места не найду. Люди на жнитве были. Залез на колокольню и давай в набат жарить. С полей-то люди — и верхом и бегом, — пожар, думали. А когда сбегаться стали, я трезвоном их начал величать… Трезвоню, а сердце у меня голубем льется — до того мне радошно. Я-то наверху, как на крыльях, а люди-то внизу, как овцы. Ну, конечно, стащили меня с колокольни и своим судом заперли меня этим ключом и ушли. Сутки лежал я и все смеялся: до чего народ потеху любит! А мне лестно. Усладил народ-то и пострадал за него. А после брагой меня угощали. Первым человеком на селе оказался. Слава-то даром не дается.
И он хихикал, вспоминая об этом событии как о радостных днях своей жизни.
Ларивон, весь мокрый, в тине, страшный, со слегой в руке, подбежал к жигулевке и хрипло заорал:
— Мамынька! Голубушка моя хворая! Ослобоню тебя — дверь вышибу. На руках домой отнесу… Какой тебя лиходей обидел, мамынька?
Он ударил слегою в дверь, и этот удар глухо загрохотал внутри жигулевки. Потап вырвал слегу из рук Ларивона и бросил ее в сторону.
— Брось, Ларивон Михайлыч, не озоруй! — спокойно, но твердо сказал он. — И себе беды наживешь, и тетке Наталье навредишь. Уймись!
— Уйди, Потап, меня не трог: ушибу. Ты думаешь, я пьяный? Я не пьяный.
— Ну, маленько выпимши — не без того. Однако озоровать негоже: греха не оберешься.
Мосей осудительно качал головой.
— Тебе только волю дай, Ларивон Михайлыч, — ты и жигулевку и мою пожарную под яр сковырнешь.
Ларивон по-своему любил бабушку Наталью, и нелепый арест больной, полумертвой старухи он воспринял как тяжелую обиду самому себе. И его необузданность нравилась мне, и он сам, сильный, как Полкан, казался мне героем.
Он со всего размаху грохнулся в сизую от старости дверь, по она только тяжело загромыхала на железных петлях и зазвенела массивным пробоем и замком, похожим на гирю. Ею отбросило назад, но он вцепился огромными руками в замок и стал крутить и рвать его из стороны в сторону. Потап опять подошел к нему, обхватил его сзади, пытаясь оттащить от двери, но Ларивон орал:
— Не замай, Потап! Как я могу терпеть, ежели на душу наступили… Я мамыньку не дам обижать. Всю жигулевку по бревну раскидаю, а мамыньку ослобожу.
— Ларивон Михайлыч, — мягко и осторожно уговаривал его Потап, — погоди, не бунтуй! Сейчас Дмит Митрич прискачет и сам распорядится. Архип за ним побежал. Он живо на своей деревяшке допрыгает.
Но Ларивон не слушал его: он рвался из рук Потапа и выкручивал замок.
Я подбегал к окошечку, у которого плакала мать и что-то лихорадочно говорила в черную квадратную дыру, и кричал бабушке:
— Ты потерпи маленько… Сейчас дядя Ларивон двери выломает. Барина ждут. Опять тебя домой отнесем.
Я не замечал, как сердилась и отталкивала меня мать, и не слышал, что лепетала больным, детским голоском бабушка из этой черной пустоты, и убегал опять к Ларивоиу, а он все еще рвал замок и отбивался от Потапа.
Подходили мужики и парни от церкви и толпились поодаль. Потап с угрозой крикнул:
— Расходись, мужики! Староста с сотским идет. В жигулевку запрут.
Из-за амбаров вышли на луку Пантелей и Гришка Шустов. Пантелей, в новой суконной бекешке нараспашку, в смазных сапогах и в картузе, надвинутом на глаза, переваливался на своих кривых ногах, а Гришка, придерживая свою саблю на поддевке, шел браво, с солдатским шиком.
Веселым трезвоном в подпляс заливались колокола.
Пантелей, приземистый, упитанный, с жирным, красным лицом, с бородой лопатой, с маленькими глазками плута, подошел к жигулевке властно, по-хозяйски и, не обращая внимания на людей, осмотрел замок, оттолкнул подошвой сапога грязную слегу и тонким, скрипучим голоском распорядился:
— Вам здесь нечего делать, мужики. Эка невидаль! Ежели посидеть в жигулевке не терпится — жди своей череды.
Наталью заперли за непочтение к крестному ходу. Хворость хворостью, а церковь почитать надо — через силу встань и поклонись. Батюшка с дьяконом разгневались несусветно.
А вот Ларивона за его бесчинство на два дня в жигулевю, посажу. Идите, мужики, идите от греха, не выводите меня из терпения. Шустов! Сотский! Разогнать всех!
Сотский с грозным лицом, хватаясь за саблю, решительно зашагал к толпе.
— Разойдись, елёха-воха!
Толпа стала неохотно расходиться.
Мать поклонилась Пантелею.
— Пантелей Осипыч! Пожалей матушку-то! Ведь ты сам знаешь: на ногах она не стоит. Как это можно при смерти человека обижать? До кого ни доведись… Пантелей Осипыч, выпусти ее!..
— Ничего, ничего, милка! Пущай помается да покается.
Господь зачтет… за спасенье души.
Ларивон сидел на зеленой траве и зловеще выл:
— Пантелей! Староста!.. Все едино двери вышибу… Выпускай мамыньку!..
— Шустов! — взвизгнул Пантелей. — Свяжи его да в пожарную с Мосеем сволоки! Эх, до чего хмель-то доводил!
Мать, убитая горем, побрела опять к окошечку.
В эту минуту из-за нашей избы вылетела серая в яблоках тонконогая лошадь, запряженная в дрожки. На дрожках сидел верхом Измайлов с красными вожжами в руках и с нагайкой, повешенной на запястье. Позади него сидел его старший сын в серой студенческой куртке, очень худой, иссиня-бледный, с темным пушком на щеках и подбородке.
Мужики и парни, которые рассыпались по луке, шагали опять к жигулевке. Когда лошадь остановилась, раздувая ноздри и гордо взмахивая головой, все сняли картузы. Пантелей стянул картуз раньше всех и, кланяясь смело, но почтительно, проковылял к дрожкам. Измайлов живо соскочил с дрожек, передал вожжи сыну и, выпучив глаза, уставился на Пантелея.
— Наталья здесь? Заперта?
— По велению священника, Дмит Митрич, — умильно улыбаясь, но стараясь сохранить достоинство, заиграл тонким голосом Пантелей, — за невставанье перед молебном.
— Вы молились у колодца, а она сидела у себя на завалинке. Это расстояние в двести сажен. Старуха доживает последние дни. Она уже не ходит. Башка у тебя есть на плечах, староста?
— По положению, Дмит Митрич…
Измайлов быстро взмахнул нагайкой и яростно ожег Пантелея по голове и по шее. Пантелей в ужасе попятился и вскинул руки, защищаясь от ударов.
— Дмит Митрич! Помилуйте!.. При народе… Я жаловаться буду…
— А-а! Жаловаться, мерзавец! Мироед! Так вот же тебе еще и еще!..
Студент глухо крикнул с дрожек:
— Папаша! Долой нагайку! Ты дал мне слово.
Измайлов судорожно повернулся к нему, задергал головой и вцепился искалеченными пальцами в седую стриженую бороду.
— Отпирай! — приказал он Пантелею, дрыгая ногою, и шлепнул по сапогу нагайкой. — Давай ключ! Живо!
Мать порывалась подойти к нему, но, вероятно, боялась нагайки.
Мосей мелкими шажками подскочил к Измайлову и протянул ему ржавый ключ на мозольной ладони.
— Вот он, ключик-то, барин. Такая бросовая вещь, а сколь людей обездолила!.. Я сам, барин, под этим замком не однова сидел… Неисповедимое дело!
Измайлов покосился на него и дернул головой.
— Знаю я тебя, жулика. Тебя и могила не исправит: ты и в аду будешь чертей тешить. Староста, бери ключ и отпирай!
Пантелей, подавленный обидой, угрюмо толкнул в плечо Мосея и хриплым тенором огрызнулся:
— Не слышишь, чучело? Отпирай!
Но Измайлов опять щелкнул нагайкой по сапогу и по-армейски рявкнул:
— Я приказываю отпереть тебе… тебе, а не чучелу!
В маленьких глазках Пантелея вспыхнула ненависть, но он подобострастно поклонился и, стараясь сохранить свою важность, осторожно взял ключ с ладони Мосея. На жирной его шее вздулся лиловый рубец. Шустов шагнул вперед и протянул руку к Пантелею.
— Сотский, кому принадлежит первое место — старосте или тебе? Субординации не знаешь?
Шустов вытянулся и вытаращил глаза на Измайлова, а Измайлов в голубом кителе, в рейтузах и белом картузе брезгливо смотрел мимо него, в затылок Пантелею, и дергал головой.
Пантелей отвинтил ключом замок, с грохотом снял его с пробоя, изъеденного ржавчиной, и отворотил дверь. Измайлов подошел к порогу.
— Она — на кошме… Чья кошма?
Потап, робко шагая, прогудел виновато:
— Моя кошма-то, Дмит Митрич. Бабушка-то Наталья не могла идти — волочил ее Григоркй-то… Ну, я с Архипом — на кошму ее.
— Спасибо, кузнец. Если будет нужда, приходи: помогу.
Потап молча поклонился и отошел в сторону.
— Староста, сотский! Выносите ее сюда! На кошме!
Осторожно!
Когда Пантелей и сотский вынесли бабушку наружу, вся толпа мужиков сгрудилась в полукруг перед жигулевкой.
Бабушка лежала неподвижно с закрытыми глазами, как мертвая. Мать бросилась к ней, рыдая, и упала перед пей на колени. Измайлов гаркнул с хриплой надсадой:
— Бараны! К чертовой матери отсюда! Вон!
Толпа испуганно разбежалась в разные стороны.
— Староста! Сотский! Вы ее арестовали, вы бросили ее в эту гнилую конуру. А теперь оба несите ее домой. Мосей и Потап помогут, чтобы вы не беспокоили ее. Я поеду рядом с вами — буду наблюдать.
Посиневший от унижения Пантелей и дылда-сотский взяли концы кошмы у головы бабушки, а Потап и Мосей — у ног и понесли ее по дороге к нашему порядку. Я с матерью пошел вслед за ними, а толпа провожала нас издали.
Лари вон лежал на луке. Должно быть, он уснул пьяным сном, обессилевши от буйства.
XXXIII
В один из весенних золотых дней, с маревом на зеленой луке, с парящими коршунами в синем небе, с песнями невидимых жаворонков, прилетел на тройке с колокольчиками и бубенчиками усатый становой в белом кителе и белом картузе. Это был тот самый хрипун, который приезжал к нам зимою. Он брано сидел в плетеном тарантасе вместе с чахоточным чиновником в чесучовой тужурке со светлыми пуговицами, а позади тряслись верхом на потных лошадях тоже усатые урядники. Тройка лихо подъехала к моленной и остановилась у крыльца. Пристав спрыгнул с тарантаса и махнул рукой. К нему подъехал на потной лошади верховой, и он отдал ему какое-то приказание. Урядник ударил лошадь нагайкой и поскакал по луке к нашему порядку.
Из-за амбаров бежал бородатый Пантелей в черной бекешке нараспашку, с картузом в руке.
Мы с Семой и Катей на заднем дворе делали грядки для огорода. Мать ушла к бабушке Наталье, которая уже не вставала с постели после жигулевки. К ней пришла Лукерья-знахарка и осталась ухаживать за нею и лечить своими травами. Я забегал к бабушке каждый день, но она уже не могла говорить со мною, а только с трудом проводила своей костлявой рукой по моим волосам и страдальчески улыбалась. Тетя Маша совсем не показывалась: свекор не выпускал ее со двора и, когда уходил из дому, запирал ее в кладовой на замок. Об этом говорил Сыгней, который знал все, что делалось в деревне. Филька был добродушный силач и Машу не бил, а жалел ее. Он пытался даже прогуляться с нею на пасху по хороводам, но Максим загнал их обратно в избу. Говорили, что Филька плакал, как парнишка.
Катя бросила лопату и подошла к пряслу. Мы с Семой перемахнули через слеги и хотели побежать к моленной, но Катя сердито крикнула:
— Вы куда это? Воротитесь! Начальство-то не с добром прискакало. Чего-то с моленной делать будут.
Но мы сами боялись отойти от прясла: мы помнили зимний налет станового с полицейским и сторонними мужиками на нашу деревню, когда они выгоняли из дворов последнюю скотину и очищали бабьи короба. Если он нагрянул сейчас на тройке с колокольчиками, значит, опять устроит какую-нибудь расправу с мужиками. Но почему он подъехал к нашей моленной, а не к старосте и не к пожарной, где мужики собирались на сход?
Катя, вероятно, сама встревожена была этим вопросом, но ответила себе равнодушно:
— Не обыск ли хотят устроить в моленной-то? А то, может, и закроют ее? В Даниловке и Синодском хотели запечатать, бают, да откупились. Митрий-то Степаныч — дружок им: отобьется.
Торопливо прошагал в легкой бекешке Митрий Степаныч с озабоченным лицом. Пантелей без картуза стоял перед приставом, переваливаясь с ноги на ногу, и почтительно слушал, что хрипло внушал ему становой.
Мужиков в деревне не было: все уехали на поле пахать и сеять, только бабы и девки робко выходили к амбарам и боязливо выглядывали из-за углов. Дед с отцом и Сыгнеем тоже были в поле, а Тит заплетал дыры в плетневых стенках двора.
От пожарной босиком, с ремешком на жидких волосах, просеменил Мосей с хитренькой усмешкой простака. Прошла с клюшкой в руке Паруша, угрюмая, тяжелая, с жестким лицом. Она сурово взглянула на нас и показала клюшкой на моленную.
— Ну? Отмолились в моленной-то? — пробасила она сварливо. — Нагрянули вороги!.. Дорвались псы и до божьей красы!.. Эх, лен-зелен! — усмехнулась она мне. — Где я теперь твой голосочек услышу? — Она пошла дальше гневным шагом, сердито втыкая клюшку в землю. — Пойду погляжу, как будут эти псы антихристовы печати накладывать.
Катя участливо спросила ее:
— Живешь-то как, баушка Паруша? Давно не была у нас. Аль неможется?
Паруша остановилась и медленно повернулась к нам.
Она вонзила конец клюшки в траву и гордо подняла голову.
— Живу, не жалуюсь, Катя. И здоровьем бог не обидел.
А жила век — в ноги никому не кланялась: своей силой да умом держалась и на всякий труд была горазда. Умру — перед владычицей не буду каяться. Зайди-ка ко мне да поучись уму-разуму: пригодится тебе, девка. Нрав твой мне по душе.
И она пошла, кряжистая, сильная, суровая, с твердой уверенностью в своей правде.
Я не утерпел, выскочил из-за прясла и побежал за Парушеи: она для меня была надежной защитой от грозного начальства.
— Баушка Паруша, я с тобой… — робко попросил я, обнимая ее большую мягкую руку. — Я тоже хочу поглядеть.
Она улыбнулась мне обычной приветливой улыбкой, но голос ее был по-прежнему суровый:
— Ну, иди погляди, лен-зелен… погляди, запомни, как беси по душу налетели. Дом-то хоть сожги, хоть и иконы и книги утащи, разуй и раздень человека, задуши его, а души его не убьешь. Знай это, мил ковылек, и держи в уме. Вон Никитушка-то, старик гневный, правдой жив, и никакая сила его не сразит. Так надо жить, лен-зелен! Любишь, что ли, меня-то?..
— Люблю, баушка Паруша.
Мы подошли к высокому крыльцу, где блистал своими серебряными погонами усатый становой, а около него стоял чиновник с портфелем. Жирный Пантелей обливался потом, а бледный Митрий Степаныч со связкой ключей, без картуза, вкрадчиво говорил что-то приставу и улыбался почтительно. Мосей стоял, переминаясь с ноги на ногу, на нижней ступеньке лестницы и угодливо морщился.
— Ну, отпирай, Стоднев, — приказал пристав с веселой издевкой. — Ключи от рая, оказывается, в твоих руках. Вяжешь и разрешаешь грехи. А сколько ты настриг шерсти со своих овец? — Он хрипло захохотал и обратился к чахоточному чиновнику, который болезненно улыбался: — Этот раскольничий пастырь действует на души мужиков и баб неот-рра-зим-мо — и словом и делом: загоняет в свой рай и мистикой, и логистикой, и рублем, и дубьем. У него все в долгу. Прошлой зимой он крестил в проруби чертову дюжину. На улице мороз в тридцать градусов, а дураки лезли в прорубь нагишом — и мужики и бабы — один за другим.
И — ни черта: ни один не заболел. И это он объявил чудом.
Ловко орудует? Ну, ну, Стоднев, отпирай! Описывать не будем, только взглянем, потом наложим печати на замки и на ставни и поедем к тебе обедать. Без священника неудобно описывать. Завтра учтем, опишем и по акту все твои древности сожжем на костре.
Митрий Степаныч отпер дрожащими руками огромный замок, и все скрылись во тьме прихожей, где опять зазвякал замок и зазвенели ключи.
Паруша безбоязно поднялась на крыльцо. Под ее защитой я тоже вошел в прихожую. Мы остановились у порога и положили три низких поклона.
Как ни страшен был становой, но в моленной он стоял, как чиновник, без картуза и быстро «солил» свое лицо и грудь щепотью. Голова у чиновника стала маленькой и совсем лысой. Я понял, что пристав чувствует себя здесь неловко, что он боится кричать и вольничать перед иконами, налоем и высоким подсвечником с гроздьями огарков и оглядывает их смущенно и робко. Становой говорил вполголоса, явно стесняясь обилия образов со строгими ликами:
— Пойми, Стоднев, это не от меня зависит. Строжайшее распоряжение губернатора, а над губернатором — государь император. По докладу обер-прокурора святейшего синода последовало высочайшее повеление закрыть все моленные, изъять все старообрядческие иконы и книги и уничтожить.
Митрий Степаныч надорванным голосом, как-то необычайно жалобно упрашивал пристава, вытягивая шею то к нему, то к чиновнику:
— Как же уничтожить-то? Жечь-то как же, господа?
Ведь это святыня глубокой древности, неоценимая драгоценность. Тут все подлинное. Великие мастера писали — есть от царствования Иоанна Грозного. А книги — печати Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Хранили их из рода в род. Как же эту святыню-то жечь? Это уму непостижимо. От этого смута будет. Ведь это значит — жечь живьем. Пощадите, господа!
— Не могу, Стоднев, — строго отозвался пристав сдавленным хрипом. — Не в моей власти.
У Митрия Степаныча затрясся подбородок.
Чиновник подошел к передней стене, сплошь заставленной иконами, и стал внимательно рассматривать их. Сквозь закрытые железные ставни пробивались солнечные нити, но и в полусумраке лики святых пристально и угрожающе смотрели на нас огромными глазами, словно осуждали за дерзкое нарушение священной тишины и покоя.
Митрий Степаныч отвел в сторону пристава и что-то прошептал на ухо. Пристав погладил усы, усмехнулся, подозрительно взглянул на чиновника и резко повернулся назад.
— Что другое, Стоднев, а не это… Своя голова стоит мне дороже.
Чиновник рассматривал иконы не отрываясь и на одной богородице совсем забылся. И когда позвал его пристав, он неохотно отошел от нее и с непонятным волнением шлепнул себя портфелем по бедру.
— Замечательное письмо! Это же музейные редкости.
Как же можно уничтожать? Надо обязательно сохранить кое-что. Я возбужу ходатайство.
Митрий Степаныч встрепенулся и низко поклонился чиновнику.
— Униженно молю вас — пощадите наши древности! Их надо искать по России днем с огнем. Прадеды наши охраняли их пуще жизни.
Пристав повернулся к выходу и в первый раз громко приказал:
— Довольно. Вы можете делать что угодно, Николай Иванович, а я обязан выполнить предписание. Приготовьте сургуч и печать.
Он выпучил глаза на Парушу и схватился за усы.
— А тебе что здесь нужно, бабушка? Кто ты такая?
Паруша без всякой боязни сурово осадила его:
— Ты на меня, батюшка, не кричи. Я не слуга тебе: я сама себе хозяйка. И пришла не к тебе, а в свой дом.
— Этот дом теперь не ваш. Теперь здесь распоряжаюсь только я. Ну-ка, долой отсюда! Этот дом мы запечатаем.
Паруша смело прошла к передней стене и пробасила с укором:
— Печатай, печатай, начальник… душу-то не запечатаешь… Ты только зубы ловок выбивать да кнутом щелкать, а духа не угасишь…
— Эт-то что за квашня? — вскричал пристав и шагнул вслед за Парушей, но чиновник подхватил его под руку и сердито усмехнулся:
— Вы, кажется, намерены ссориться со старухой?
Становой щелкнул себя нагайкой по сапогу, круто повернулся к нему и с бешеной улыбкой наклонил голову.
— Я свои обязанности знаю-с. Рры-царским манерам не обучался.
Староста подобострастно следил за приставом, поглаживая широкую бороду, и вздыхал. Паруша стояла перед богородицей и клала перед ней земные поклоны. Потом со слезами на глазах поклонилась всем иконам и пошла к двери твердыми шагами, опираясь на клюшку.
Широкая лука свежо сияла молодой травой, и по ней струились голубые волны. Заречные взгорья и избы казались далекими сквозь лиловую дымку. И как будто впервые в моей жизни я увидел далеко за избами длинного порядка верхушку ветряной мельницы и два крыла, вздернутые кверху, словно кто-то огромный поднял руки и просил о пощаде.
Мосей стоял с Архипом Уколовым, топтался перед ним, считал что-то на пальцах и, посмеиваясь, внушал ему пискливым голоском:
— А кто ты сейчас, ваше степенство? Печник! А по мастерству? Плотник! Был я и плотник и столарь, а куда уткнулся? В лапти… да вот пожарную караулю. А ведь мы с тобой, голова, люди были, какие дома строили! Наличники, да карнизы, да ворота с резью по всей округе на солнышке играют.
— Играть-то играют, — задумчиво согласился Архип, поскрипывая деревяшкой, — да нас же с тобой на смех поднимают. Снаружи резьба и конек резвым кокошником, а внутри — голытьба. Ну и сиди с кочедыком над лаптями для мордвов. А я для детишек игрушки режу. Только вот деревяшку и по сей день не сделал: так уж пятнадцать годов на старой и прыгаю…
Мосей корчился, как в судорогах, размахивал руками и вертелся во все стороны.
— А чего с нас взять-то, голова? Дураки — народ веселый. Вот и тут гляди. Кто эту моленную строил? Мы же с тобой. Хоромина! А сейчас ее начальство запечатывает: воспрещает кулугурам молиться. Возводили, строили, а Митрий Степаныч с Пантелеем Осипычем по бревну ее растащат…
— Чего тащить-то? — поправил его Архип и закашлял от смеха. — Тащить спорыньи нет. Они ее друг у дружки из-под носа украдут. Мироедов не только мир кормит, они и друг дружку глотают.
Мосей весь затрясся от хохота.
— А мы… а мы у них крошки клюем да прибаутками спасаемся. У нас и прибаутка за молитву сходит. Дураки — народ веселый.
Паруша остановилась и прислушалась. Она толкнула меня вперед и с ласковой строгостью приказала:
— Иди-ка, беги, лен-зелен! А я с мужиками потолкую.
Беги-ка проворней, не мешай мне!
И повернулась к Архипу с Мосеем. Она махнула им клюшкой и прогудела сердито:
— Ну-ка, мужики, подойдите ко мне на час. То-го! Дураки-то народ веселый, да зато богу угодный.
И они пошли мимо нашего прясла, тихо, по-стариковски невнятно о чем-то разговаривая. Мосей уже не кривлялся, а шагал со строгим лицом и исподлобья озирался по сторонам. Архип ковылял на своей деревяшке, поскрипывая и потрескивая, и слушал Парушу внимательно, но как будто равнодушно. А Паруша, опираясь на клюшку, сильная, тяжелая, с мужским лицом, с серыми усиками, шла важно, как хозяйка, которая всю жизнь привыкла властвовать. И оба мужика, Архип и Мосей, шли рядом с ней, обдумывая что-то, и в их отношении к ней не было того обычного пренебрежения, которое всегда бывает у мужиков к бабам. Она что-то внушала им, пригвождая клюшкой свои слова, но ни к тому, ни к другому не обращалась.
Катя проследила за ними до того момента, когда они скрылись за нашей избой, и все время лукаво улыбалась про себя.
Вечером около моленной собралась большая толпа мужиков и, как на сходе, долго горланила на всю деревню Пришли сюда и «мирские», прибежали бабы, девки, ребятишки. Даже брели по луке со всех сторон древние скрюченные старухи, опираясь на клюшки. Они сбились в плотную кучу поодаль от мужиков и плакали навзрыд Попытались они вопить, но на них замахали подогами старики, и они оборвали свое вопленье стонами.
Бабушка Анна очень редко выходила со двора, но сейчас побрела вместе с дедушкой, обливаясь слезами. Мать с Катей и отец с ребятами убежали, не заходя в избу. Мы с Кузярем и Наумкой храбро поднялись на крыльцо, но когда увидели на пробое жирную лепешку сургуча на дощечке с круглой вдавлиной орла, не выдержали и со страхом попятились назад по ступенькам крутой лесенки. Мужики толпились поодаль и обступали крыльцо полукругом. Все галдели, не слушая друг друга. Красные, обветренные лица, седобородые, рыжебородые, были угрюмы, и хотя многие смеялись, а многие яростно орали и махали сжатыми кулаками, все были подавленны, растерянны и не знали, что делать. Только Мосей беззаботно ходил среди них, морщился в хитрой усмешке и хвастливо кричал скрипучей фистулой — На тройке прилетел, как деймон, с колокольчиками-бубенчиками. Митрия Степаныча сейчас же за бока. Староста припрыгал, как селезень. Ну и туда, в нутре. Везде сургучом припечатали, все болты и запоры, и эту и сенную дверь. А у чиновника печать-то, как дубинка.
Ну, запечатали и к Митрию Степанычу чай пить поехали.
— Хлопотать надо… к земскому… к губернатору! — надсадно кричал кто-то. — Как это так?.. А молиться-то где будем?
Мосей весело открикивался:
— Возьми-ка похлопочи… Он те печатью башку расшибет. Надо нам, дуракам, понятье иметь: печать-то — вещь нерушимая. Завтра сжигать будут.
— Это как то есть сжигать? Моленную-то?..
Мужики хлынули к Мосею.
— Моленную — не моленную, а все там — иконы, да книги, да всякую четь…
— Не допускать, мужики!.. Чего же это, старики, делается?.. А? Старики!
Кто-то завывал зловещим дряхлым басом:
— Антихрист пришел!.. Антихрист!
— А Стоднев-то чего глядит? Чай, он богатый. Откупился бы.
— Он не откупится. За копейку он не то что брательника, а самого бога обшельмует.
А увидел, как дедушка подошел к крыльцу, опираясь на палку. Он долго смотрел на замок, на ставни с кровавыми сгустками печати и плакал безмолвно и горестно.
В эти страдные дни пахоты и сева ложились рано, сейчас же после захода солнца, а вставали на рассвете и уезжали в поле. Но этой ночью у нас долго не спали: к окошку подходили люди и о чем-то шептались с дедом и отцом. Отец с Сыгнеем ушли с шабрами, а дед забрался ка печь и долго вздыхал и бормотал молитвы. Бабушка тоскливо ныла:
— Как бы чего не вышло, отец… Дело-то божье, а для начальства острожье.
Дед сердито отвечал:
— А ты лежи знай и молитву твори. Не твоего ума дело.
Мы ничего не знаем, ведать не ведаем.
Мать лежала на кровати, а Катя на полу, и обе спали.
Я чувствовал какое-то скрытое беспокойство и в избе, и за открытыми окошками — в звездной тьме на улице, но там была глухая тишина, только где-то далеко испуганно пощелкивала перепелка и жалобно трещал дергач. Заунывно прозвонил церковный колокол и долго тянул, замирая: увы-ы, увы-ы, увы-ы…
XXXIV
Утром я проснулся поздно, разбудило меня горячее солнце. Я открыл глаза и увидел над собою чадно-голубые полосы света: в дымных солнечных лучах играли разноцветные искорки пыли. Пахло только что испеченным хлебом и топленым молоком. За окном щебетали касатки.
В избе никого не было. В теле ощущались здоровая радость и ликование. Бойко и весело звенели мухи. Я вскочил и высунулся из окна. Воздух горел ослепительно. Лужок на дороге кудрявился бархатной вышивкой. Касатки носились над лужком и дорогой целой стаей, легко, невесомо, переплетаясь в крылатой игре. За амбарами и избами, на усадьбах, густыми зарослями зеленела черемуха в снежных мохрах цветов. Пьяный миндальный запах плыл оттуда волнами. Я выпрыгнул в окно и, ошпаренный солнцем, сразу погрузился в мягкую небесную синеву. Хотелось летать, как касатки, кувыркаться в этой ласковой синеве и золотом воздухе, петь и смеяться. Я выбежал за угол избы, в холодок, под ветлы, и бросился на прохладную траву. Роями и вихрями трепетали по луке одуванчики, белая кашка и розовые калачики. Где-то клохтала невидимая клушка и цыкали цыплята. Близко и далеко истошно кудахтали куры и сердито открикивались петухи. Очень высоко, в манящей синеве неба, медленно кружились два коршуна.
У пожарного плоского сарая стояли старые насосы с длинными коромыслами, похожими на ухваты, и сизые бочки на дрогах. Мосей сидел у дощатой стены и ковырял кочедыком лапти. Моленная стояла по-прежнему угрюмая и слепая, а подальше — покосившаяся жигулевка с огромным замком на косяке.
Одинокая, старенькая, с прелой соломенной крышей, келья бабушки Натальи, вся засыпанная оползнями, с полураскрытым двориком, с голыми стропилами, тоже как будто доживала последние дни — вот-вот рухнет и превратится в кучу гнилушек. Раза два я видел, как к ней приходила тетя Маша. Она уже не щеголяла в барских юбках, кофточках и башмаках, а носила деревенский сарафан, на голове повойник и темный платок, заколотый по-старушечьи. К нам она так и не показывалась и с матерью не встречалась. Но я каждый день обязательно бегал к бабушке, чтобы принести воды из колодца и нарубить вязанку прутьев из старого плетня. Заднюю стенку двора я уже всю вырубил, и внутри стало неприютно и жутко. Маленькая горбатенькая Лукерья с восковым сморщенным лицом кротко и молитвенно ухаживала за бабушкой и тихо, дрожащим голоском, ласково говорила мне:
— Баушка-то совсе-ем плохонькая стала. На исходе у нее душенька-то. По ночам-то уж больно мается. Как из жигулевки-то ее притащили, так и обмерла. Все-то ее покинули.
Только Луконюшка и приходит. «Иди, бает, отдохни, баушка Лукерья. Я посижу с Натальюшкой-то, похлопочу…» Уж такой трогательный паренек, словно отрок светлый. Ты уж, подсолнышек, поглядывай. Увидишь, как я тебе платочком помашу, — так и знай: отошла баушка-то.
У матери каждый день были заплаканные глаза, и она казалась не то уставшей, не то больной. Настала рабочая весенняя пора, и ее редко отпускали к бабушке. Она уезжала вместе с мужиками на поле и возвращалась в сумерки.
И когда я встречал ее, обветренную, загоревшую, у двора, она болезненно улыбалась мне и шепотом спрашивала:
— Навестил, что ли, баушку-то?..
Я с обидой на нее и с жалостью к ней отвечал сквозь слезы:
— Ее все покинули…
Мать быстро отходила от меня и вытирала фартуком слезы.
И вот сейчас я смотрел на слепенькую избушку бабушки, и утренняя моя радость потухала. Ждал: вот выйдет горбатенькая Лукерья и помашет мне платком.
Моленная с плотно закрытыми железными ставнями, со ржавыми пятнами на шершавой зелени казалась таинственной и зловещей. И потому, что там было жутко и загадочно, меня неудержимо тянуло пойти туда, опять увидеть сургучные печати и прислушаться: не слышно ли там, внутри, каких-нибудь призрачных голосов, стонов и шороха, какие бывают во время «стояния»? Мне почудилось, что внутри моленной что-то глухо упало и кто-то жалобно позвал меня. Я очень ясно услышал свое имя. У меня сильно забилось сердце от страха, и я, охваченный любопытством, пошел к моленной, подчиняясь этому жалобному голосу.
Позади стонала бабушка Анна и звала меня испуганно:
— Иди-ка сюда! Воротись-ка! Беги-ка, чего я скажу тебе!
Бабушку я впервые увидел такой сердитой и испуганной.
У нее дрожали руки и голова, а тусклые глаза застыли от ужаса.
— Ты это чего вздумал-то, окаянный? И не моги ходить туда. Греха с тобой не оберешься.
И толчками погнала меня домой.
Митрий Степаныч, в сатиновой рубашке, подпоясанный ремнем с бляшками, в сафьяновых татарских сапогах, гладко причесанный, позванивая ключами, прошел через улицу в кладовую зыбкой, самодовольной походкой, сосредоточенно сутулясь. На ходу он тихонько пел что-то на второй глас. За ним таким же самодовольным шагом, как взрослая, выпячивая живот, как ее мать, шагала Таненка. Тяжелая железная дверь с визгом отворилась, и они скрылись во тьме.
Когда раздался этот пронзительный визг железной двери, мне послышалось: «Иди-иди-и!..» И я, забыв обо всем, бросился со всех ног к кладовой, чтобы взглянуть на вороха сокровищ, скрытых внутри этих каменных стен, и подышать прохладным ароматом пунца, ситца, керосина и каких-то других, не ведомых мне товаров. Как и всегда, я сначала ничего не увидел, ослепший от солнца, потом заметил, как Митрий Степаныч вынул откуда-то из-за пузатых мешков четвертную бутыль с прозрачной жидкостью. Он опасливо обернулся и подозрительно уставился на меня.
— Прочь отсюда! — цыркнул он на меня. — Ишь нос сует, паршивец! Чего тебе надо?
— Это, чай, Федянька, тятенька, — заступилась за меня Таненка.
— Это все едино. Еще украдет чего-нибудь. Прочь, тебе говорят! Дай-ка, Таненка, вон веник. Я тебя отважу, отучу, как подглядывать.
Я отбежал от двери, а Таненка, подражая отцу, тоже крикнула мне вслед:
— Я тебя, курник, отучу! Век будешь помнить. Больше сюда — ни ногой и не подглядывай. Прочь, курник!
Мне стало больно от обиды и стыдно оттого, что меня прогнали так грубо и незаслуженно. Я сначала растерялся, а потом разозлился и мстительно крикнул:
— Кворак! Лягушка-ляпушка!..
И убежал к своим воротам. Мне было любопытно, что они вынесут из кладовой, и я стал ждать, высунув голову из калитки. Низко над землей летали касатки, щебетали, трепеща крылышками. Они играли со мною скользили так близко, что едва не задевали меня. И все во мне играло радостью, здоровьем, потому что я купался в горячем, сверкающем воздухе и видел синее милое небо. Зеленый лужок, который упорно, неудержимо покрывал своими кудерками землю и здесь, у двора, и там, за дорогой, заползал на самую дорогу и карабкался на камни кладовых. Эта могучая, неутомимая жизнь бунтовала всюду, и я как-то всем маленьким существом своим чувствовал ее бурю.
Из кладовой вышла Таненка и понесла на животе ящик, покрытый платком. Она озиралась, как воровка, и торопилась к своему крыльцу. А Митрий Степаныч с бутылью в руке тщательно запер железную дверь и пошел вслед за Таненкой, так же торопливо и так же озираясь по сторонам.
Я вбежал в избу и крикнул бабушке с порога:
— Митрий-то Степаныч четверть вина домой потащил, а Таненка — ящик с гостинцами!
Бабушка сердито и со страхом набросилась на меня:
— А ты не подглядывай, дурак. Митрий-то из-за тебя на дедушку окрысится. Дедушка-то в долгу у Митрия. И не наше дело, кого он там вином да гостинцами угощать будет. Начальство ждет — вот и будет его улещать. Может, моленную-то распечатают. А ты, ежели видишь чего, не кричи и не болтай. Держи себе на уме. Не тянут за язык — молчи, а пытать будут — зубы сожми: «Знать ничего не знаю и ведать не ведаю».
В полдень опять зазвенели колокольчики и бубенчики и к моленной через луку пролетела тройка, а за ней — пара пузатых лошадей, запряженных в грязный тарантас. На тарантасе сидел такой же пузатый, с разбухшим от пьянства лицом ключевский поп в черной шляпе и в фиолетовой рясе.
Так же как вчера, из тарантаса выскочил усатый пристав в белом кителе, в сверкающих сапогах и тот же чахоточный чиновник в чесучовом сюртуке с широким разрезом позади.
И опять степенно прошел Митрий Степаныч и проковылял Пантелей в бекешке нараспашку, взмахивая бородой. Быстроногий Кузярь, чумазый, загорелый, в пунцовой рубашке без пояса, босой, подхватил меня под руку, и мы, не слушая стонов и криков бабушки, со всех ног пустились к моленной.
— Сдирать печати прискакали… Мосей уж дрова притащил — сжигать иконы и книги будут…
Кузярь остановился, подпрыгнул на месте и засмеялся.
Острые черные глазенки его заиграли плутовато.
— А я знаю, а я знаю… а тебе не скажу…
— А я сам увижу и тебя не спрошу… Я еще вчера в моленной был и видел, как печати везде накладывали.
Глаза его издевались надо мною, и он хохотал мне в лицо.
— Эх ты, губан! Видел сороку, да без проку. Дурак видит только воробья на носу, а умному как сычу, и ночь — не помеха. Ты погляди, что сейчас будет, — лопнешь со смеху.
И он заплясал и закувыркался на траве. Я стоял перед ним растерянный: он и на этот раз торжествовал надо мною. Вдруг он выпрямился и зловеще пропел:
Никому так не досадно, Как нашему Федьке, Всё неладно, всё нескладно Ни хрена, ни редьки Сам — на печке, Нос — в горшечке, А язык — на речке…Посрамленный, я побежал к моленной, а он хохотал мне вслед и кричал:
— Не беги один-то, а то в жигулевку запрут. Давай вместе. Двоим-то одурить их вольготнее. Ежели хватать будут — прыгай в буерак…
Тут он опять хотел одурачить меня: прыгать в буерак с отвесного обрыва в десять сажен глубиной да еще в реку мог только бестолковый или слепой. Но довод его — быть вместе и не давать друг друга в обиду — был мне на руку.
Я остановился и подождал его, но он подошел неторопливо, важным шагом и прошел мимо, как чужой, и даже не взглянул на меня. Я тоже пошел ленивым шагом, вперевалку, как мой отец, и круто свернул в сторону, к задней стене моленной. Кузярь, пораженный, остановился и с тревогой спросил:
— Ты это куда?.. Эй!
Но я не ответил ему и не обернулся.
— Погоди-ка, погоди. Чего ты озлился-то? Чай, я шутейно.
— А я издали хочу глядеть, как ты в буерак прыгать будешь.
Я обежал вокруг моленной и остановился у крыльца.
Дверь была уже отворена, и из нутра глухо и раскатисто вырывался хриплый голос пристава и гогот попа. Кузярь украдкой выглядывал из-за лошадей и с испуганным лицом призывно махал мне рукой. Мосей сидел на чурбаке у передней стены пожарного сарая и плел лапти. Это было не в его обычае: он был падок на всякие зрелища, а тут перед ним совершались такие события, которые сразу согнали бы его с места. Я хоть и маленький был, но хорошо знал Мосея. Значит, он не хотел подходить к моленной и решил показать, что его дело — сторона, а начальство — сила опасная, и невзначай он может попасть под горячую руку и пострадать. Кузярь издали глядел на меня с завистью, и мне было приятно видеть, как он робко посматривал на моленную и на кучера, бородатого мужика, который свертывал цигарку. Кучер погрозил Кузярю кнутом, и Кузярь пустился бежать обратно.
Становой рычал внутри моленной, как злой пес, и мне казалось, что он бьет и старосту и Митрия Степаныча. Кучер повернул лицо к моленной и прислушался. Он подмигнул мне, кивнул головой на открытую дверь и ухмыльнулся.
— Бунтует… — пояснил он снисходительно. — Беда, как любит бушевать! От этого и охрип. Ничего-о! — успокоительно заключил он. — Пробушуется лыком станет и начнет жаловаться, как баба. Тут ему только водки давай четверть вылакает. Чую, застрянет он у вашего кулугура на сутки: чего-то больно взбесился. Мается с ним судейский-то. Научный человек, покорный, как девка, от этого и в чахотку себя вогнал.
Пока он бормотал, скучая и покуривая, ко мне неожиданно подошли Мосей и Кузярь. Мосей с лаптем и лыком в руках морщился в боязливой улыбке, а Кузярь храбро стоял впереди него и нахально показывал мне язык.
На крыльцо с грохотом выбежал пристав и хрипло заорал.
— Лестницу сюда!.. Прохвосты! Лестницу! Я тебя, Стоднев, в остроге сгною, а тебя, староста, сейчас же отправлю в стан! Воры, острожники! Всё разграбили. Но отвечайте мне, как это случилось, что все печати целы — и на дверях и на окнах, и пол не тронут, и потолок не поврежден, — а все, что было в моленной, бесследно исчезло? Отвечай, Стоднев! Это ты в ответе.
Митрий Степаныч кротко и почтительно поклонился ему и беспомощно развел руками.
— И ума не приложу, господин становой, — верите или нет. Я лежал, горем убитый, и плакал от великой беды.
Разве я допустил бы приложить нечистые руки к святыне нашей? Скорее бы руки на себя наложил… Я~ сам. униженно молю вас строгое следствие произвести и наказать разбойников.
Пристав схватил за бороду Пантелея и задергал ее из стороны в сторону.
— Тебе, мерзавцу, поручили охранять здание. Где ты был, чертова борода? Где был?
Пантелей с выпученными глазами, обалдевший, пищал по-бабьи:
— Ваше высокоблагородие, помилуйте!.. Не виноват.
Сторожа вы не велели ставить, а ключи с собой взяли. Отпустите бороду-то, Христа ради… Негоже мне при батюшке-то.
— А-а, негоже? Все помело твое выдеру, негодяй!.. Какой ты есть староста, когда у тебя под носом очищают вещи из опечатанного здания? Ведь тут же не один прохвост работал, а целая толпа. Это же не просто кража со взломом, а хитрая махинация. Ты понимаешь, что ни одна печать не тронута, ничего нигде не нарушено. Признаков нет… а все исчезло, как дым. Что же тут, по-твоему, черти или ангелы работали?..
— Не могу знать, ваше высокородие. Я сам препоручил покараулить вот Мосею, пожарнику. Его допросите.
Пристав разъяренно рванул бороду старосты, выдрал клок волос и швырнул ему в помертвевшее лицо. Чиновник поморщился и что-то пробормотал ему. Становой смешно подпрыгнул и уперся руками в бедра. Нагайка змеей заползала по синим штанам с красной полоской.
— Прошу вас не вмешиваться. Я лучше вас знаю, как с ними, канальями, разговаривать. Они не понимают вашего тонкого языка. А мой мат до самой ихней требухи доходит. Эй ты, козел драный! — рявкнул он на Мосея. Так-то ты караулил! Я тебя как Сидорову козу выпорю. Проспал, чертова твоя башка!
Мосей закланялся, затрепыхался и стал похож на дурачка.
— Я, барин, до смерти боюсь всяких печатей. Сердце у меня заходится. Я так и старосте сказал: «Пантелей, мол, Осипыч, от казенной печати я обмираю. Да и куриная, мол, слепота у меня…» А он бает: «Поглядывай, Мосей!» А я, баю, Пантелей Осипыч, зги не вижу. Про курину-то слепоту он, староста-то, давно знает. Чего у меня бог отнял, тому и староста не дарственник.
— Ты — мурло! — взревел пристав, выпучив красные белки. — Кто ты такой — идиот или дурака валяешь?
— Мы — люди темные, барин. Знать ничего не знаем и ведать не ведаем. А это ты истинно: дураки — народ веселый.
— Ну, ты действительно идиот.
— Это истинно, барин: идет Нефёд — да и гот урод.
— Тащи сюда лестницу, остолоп!
— Я мерина запрягу, барин: они, лестницы-то, на роспусках… Их подымать-то артелью надо. Пять сажен в каждой до самого конька. Еще при крепости сколачивали.
Поп стоял весь раздутый и колыхался от пьяного смеха.
— Здорово! Здорово обдурили тебя, пристав! Все концы спрятаны… Ку-ка, разруби гордиев узел.
Красное лицо старосты обливалось потом, и мутные капли падали с носа на бороду. Чиновник не спускал глаз с Мосея и лукаво улыбался. А пристав бесился, бил кулаком по перильцам крыльца и сам обливался потом.
— Ну, любуйтесь, Николай Иванович, на это грязное животное. На кой черт твои роспуски, пугало воронье!
Лестницу! Сюда, к наличникам! Лапоть-то зачем приволок?
— Мои лапти, барин, для мордвов. Не в износ. От моих лаптей мне по всей округе слава.
Староста кубарем сбежал с крыльца и заковылял толстыми ногами к пожарной. Мосей угодливо и по-дурацки улыбался.
На нас ни начальство, ни Митрий Степаны» не обращали внимания: мы для них не существовали. Незаметно мы поднялись на крыльцо, потом юркнули в прихожую, а из прихожей в моленную. В просторной комнате, пропахшей ладаном, в туманном полумраке толстые ребра стен были голые, мертвые, в квадратных пятнах: все иконы, и большие и маленькие, складни и кресты исчезли. Слева, на полках, тоже не было книг. Налой стоял ободранный, тонконогий и раскоряченный. Со стен и с оконных косяков содраны были даже утиральники и бисерные прошивочки. Не блестели и высокие подсвечники, а с потолка была сорвана и паникадильница. Моленная была угрюмо пуста и казалась страшной. На железных болтах оконных косяков я заметил черные, как вар, печати на дощечках с застывшими потоками сургуча.
Кто-то хитро и ловко обманул станового и этого чиновника, и они оказались в дураках. Печати были целы и невредимы, пол и потолок не тронуты, а иконы и книги бесследно пропали. И это была действительно загадочная работа: как могли люди проникнуть в надежно запечатанную горницу и вынести все до мелочей? Вспомнились Паруша и Мосей с Архипом, которых она повела с собою и о чем-то с ними советовалась. Но Мосей и Архип были «мирские», а Паруша, как баба, ничего не могла сделать: бабы не допускались распоряжаться в моленной, как нечистая плоть.
Значит, тут хозяйничал только Митрий Степаныч, настоятель. Но он казался таким расстроенным и раздавленным этой бедой, что нельзя было и подозревать его участия в этом таинственном событии. Вспомнилась и нынешняя ночь, когда отец и Сыгней необычно пропали куда-то надолго и я уснул, не дождавшись их. Почему бабушка Анна беспокоилась обо мне сегодня утром и сердито внушала мне быть немым и не подходить к моленной?
Становой еще хрипел на улице, но голос его стал дальше и глуше: должно быть, он сошел с крыльца. Залязгал железный ставень, и в пустой моленной это г лязг загрохотал, как гром. Мы выбежали на крыльцо, и я увидел, как становой сам лез по лесенке вверх, заглядывал в щели между резными и накладными наличниками и венцами, засовывал туда пальцы, тряс все оконное сооружение и рычал:
— Ни черта!.. Никаких следов!..
Он слез и приказал Мосею перетащить лестницу к другому окну.
— Николай Иваныч, прошу!.. — пригласил он чиновника. — Обследуйте сами: может быть, у вас глаз острее.
Чиновник усмехнулся и отрицательно покачал головой.
— Нет-с, увольте. Я в этих делах профан. Обследуйте сами.
— Это что значит-с? — с ехидной злостью прохрипел становой. — Хотите на чужой спине проехаться?
— Я ничего не хочу. Оставьте меня в покое. Потребуйте сведущих людей, пусть они и обследуют.
— Эт-то кого же? Этих прохвостов и мошенников? Спасибо за совет.
И он разъяренно полез к другому наличнику. Здесь он задержался дольше и даже сунул свой красный нос в пазуху между стеной и наличником и понюхал раза два старое дерево. Так он облазил все окна и злой возвратился к крыльцу.
— Пишите акт, Николай Иванович, и обязательно подчеркните, что в этом кулугурском капище, несомненно, работал черт. Наверху, на подлавке, никаких признаков: накат твердый, без повреждений, пол тоже не поднимался.
— А если бы и поднимался, — заметил в тон ему чиновник, — то вынести такие громоздкие вещи, как иконы, нельзя: кругом глухой каменный фундамент. Да и проникнуть внутрь человеку невозможно: продухи в один кирпич, да и те законопачены.
— Можете писать, что угодно, пожалуйста, меня это не беспокоит. Одним словом, чисто сработано. Пусть разбирается в этом сам губернатор. Стоднев, зови на завтрак!
Пошли! Не забудь распорядиться задать овса лошадям да поднеси чашку водки кучеру. Она тебе все равно дешево стоит — безакцизная. Ну-с, батюшка, остается нам с тобой одно — напиться вдрызг…
Поп глухо подхохатывал.
Толстое лицо Пантелея уже расплывалось в угодливой улыбке, и он, ободренный становым, поглаживал свою широкую бороду толстыми пальцами. Гроза миновала, и при — став, после яростной вспышки, рвется к богатому столу Митрия Степаныча, где в графине переливается всеми цветами радуги водка. Но сам Митрий Степаныч стоял поодаль, опустив голову. Пощипывая реденькие волоски на подбородке, он смотрел застывшими глазами в землю. Чиновник почему-то весело усмехался и подмигивал мне и Кузярю. Меня особенно привлекал его портфель, сложенный узким голенищем с сверкающими бляшками.
— Ну, веди, Стоднев! — грохотал становой, подхватывая Митрия Степаныча и попа. — Нечего прикидываться преподобным угодником. Ты такой ловкий пройдоха, что можешь замести любые следы… Тебе бы вместо кулугурского наставника быть главарем шайки воров. А ты, Пантелей, хоть тоже мироед, но в подметки не годишься этому жулику.
И становой захохотал, в восторге от своего остроумие А Митрий Степаныч оскорбленно и с кротким достоинством пропел дрожащим голосом:
— Мне обидно и горько, господин становой, как вы меня бесславите. От этой беды я места себе не нахожу Я чую, что это мирские по озорству сделали, а как — ума не приложу. И дела этого я не оставлю. Богом прошу не наводить на меня бесчестия. Вот господин… не знаю, какой его чин… может подумать всякую скверну… тоже и батюшка.
— Ну, ну, зубы не заговаривай! — хохотал становой. — Пошли! У него, Николай Иваныч, редкостный балык.
F даже есть коньячок с четырьмя звездочками. Батюшке это хорошо известно.
Чиновник весело усмехался.
Кузярь засмеялся и победоносно ткнул меня в бок.
— А что я тебе сказывал, ну? Отгадай загадку: целы двери и окошки, а пропало все до крошки. — И прошептал нетерпеливо: — Это Мосей с Архипом… Окошки с косяками вынули, а потом опять вставили. Вот мастаки!.. Черта с два дознаются…
Мосей трепыхался, как петух, и ликовал, оскалив стертые зубы. Когда все пошли по луке, а кучер поехал вслед за ними, он забормотал, пощелкивая пальцем по лаптю:
— Умных-то печаль красит, а дураки — народ веселый.
XXXV
Мирской сход собирался обычно у пожарного сарая, с коло моленной. Толпа стариков и мужиков, тесно сбитая и будоражная, галдела на всю площадь. Мы, малолетки, всегда сбегались к этой толпе, слушали разноголосый гам.
Для нас это было развлекательным зрелищем. Мальчишки прибегали и с той стороны, и с далеких концов длинного порядка. Тут уже забывались враждебные отношения между заречниками и нами: мы как будто тоже принимали участие в мирских делах. Здесь завязывалась новая дружба с однолетками той стороны и с теми, кто жил на разных краях деревни. Кузярь был своим человеком среди всех парнишек, и с каждым у него были какие-то свои дела. Он самоуверенно и независимо держал себя в той или иной группе мальчишек, словно обладал какой-то властью над ними. К нему относились с опасливым уважением. Он был в курсе всех событий, которые совершались в повседневной жизни ребят и той и этой стороны. Его проделки с котенком и разгоном арестованной скотины облетели всю деревню и окончательно утвердили его авторитет.
Шустёнок, сынишка сотского, приземистый, коротконогий, без шеи, подходил ко мне важно, с достоинством взрослого парня, и с хитрой, знающей усмешкой говорил небрежно:
— Ну, кулугур, как дела? В жигулевке еще не сидел?
Его маленькие колючие глазки подозрительно впивались в мое лицо. Никто из мальчишек его не любил, и всегда отходили от него с недобрым чувством. Все боялись его и отмалчивались на его злые насмешки и каверзные вопросы Держал он себя со всеми, даже с парнями, заносчиво, дерзко, кичливо и хвастался:
— Я всех сильнее в деревне: хоть не дерусь, а у каждого душа в пятки уходит. Скажу тятьке чего мне в голову придет, и всякого он в жигулевку засадит.
Только Кузярь держался с ним независимо и щурился, сталкиваясь с его пронзительными глазами. Однажды я случайно увидел, как Кузярь колотил его за пожарной и приговаривал:
— Не подглядывай!.. Не подслушивай!.. Не стращай!
Я, брат, не боюсь твоего тятьки… Я и ему могу гвоздь забить до самой шляпки…
Шустенок неуклюже отбивался короткими ногами и с жалобной злостью умолял:
— Не надо… Я не дерусь… Я тебе ничего не сделаю. Ты только при других-то меня не бей. Я тебе в залог пятак дам.
С этого дня я уже не опасался Шустенка и на его наскоки смеялся ему в лицо и мучил его намеками:
— Ну, ты не суйся, коротыха! А то, брат, я тебе забью гвоздь до самой шляпки. И в залог возьму не пятак, а гривенник.
Он растерянно смотрел на меня и сипел:
— Это ты о чем долдонишь-то? Какой такой гвоздь?
Какой залог? Погоди, узнаешь, где крысы водятся.
— Я и так знаю, где крыс ловят. Я и не за пожарной тебя бить буду. Ты нас с Кузярем не шевели…
— Погоди, — грозил он с дрожью в глазах, — я тебе, дай срок, припомню… покаешься…
С этих пор мы стали непримиримыми врагами.
Сход обычно собирался после обхода десятского с палочкой в руке. Этот десятский, белобрысый, без бровей, с желтым клочком бороды, босой, стучал палочкой в окно и пронзительно кричал дряблым голоском:
— Хозявы! На сход идите! Насчет податей, насчет повинностей…
Но теперь, в разгар весенней пахоты и посева яровых, сход не собирался. И случилось совсем неожиданно, когда все наши мужики оказались дома и во главе с дедом пошли к пожарной. Со всех сторон села потянулись по зеленой луке старики с палками, молодые мужики и парни. Сход собирался без обхода десятского. Старосты в селе не было: он уехал куда-то по своим торговым делам. Ускакал в город на своем гнедом иноходчике в плетеном тарантасе и Митрий Степаныч. Мы, мальчишки, конечно, тоже побежали к пожарной. Кузярь уже терся в толпе мужиков, которые галдели на всю площадь. О чем они галдели, трудно было понять, но я слышал только отдельные слова: «земля… угодье… не давать Стодневу… миром… обчеством… к барину…»
По селу давно уже судачили о том, что Измайлов продает барскую землю сторонним богачам. Митрий Степаяыч тоже ездил не раз на барский двор и норовил купить двести десятин хорошей земли на той стороне, между березовой рощей и Красным Маром. Эта роща скрывалась в широком долу версты за две от деревни, а Красный Map — высокий курган, похожий на каравай, стоял одиноко на горизонте за барским двором. Мужики не могли примириться с тем, что этот чернозем, который они по частям арендовали у барина, может ускользнуть от них и попасть в руки Стоднева. Они несколько раз засылали выборных к Измайлову хлопотать о продаже этого угодья обществу. Измайлов прогонял их, но каждый раз обнадеживал — обещал принять во внимание их нужду. В последний раз, зимою, к нему послали Серегу Каляганова и Миколая Подгорнова, смелых мужиков, окончательно сторговаться и закрепить за миром эту землю. Измайлов назначил по сто рублей за десятину и обязывал деньги уплатить в два срока. Мужики стали просить рассрочки на десять лет. Измайлов потребовал деньги «на бочку». И когда «бывалый человек» Миколай Подгсрнов начал убеждать его своим городским говорком, Измайлов схватился за нагайку. Серега рассердился, схватил его за руку и угрюмо посоветовал:
— Ты, Митрий Митрич, нас не трог: сам знаешь — зашибить могу. Мы пришли к тебе по любовному делу. Мужики на барина горбы ломали, землю потом своим поливали, и, значит, земля нам должна отойти. Все едино не быть этой земли у мироедов.
Чтобы отвязаться от этих мужиков, Измайлов дал им какое-то невнятное обещание.
А теперь стало известно, что землю покупает Стоднев и на этих днях будет эта кутя оформлена в городе. Может быть, Сюднев и уехал-то в Петровск по этому делу.
Такого многолюдного схода еще никогда я не видал: обычно, по созыву десятского, неохотно плелись одни старики, и собранием распоряжался Паителей с писарем. А писарем служил сын Мосея Павлуха, худой и высокий парень, угрюмый и неразговорчивый, с длинным, тяжелым носом и всегда опущенными главами. Он был как чужой Мосею и держался от него особняком, а Мосею помогал пс пожарному делу и по хозяйству младший сын Микола, подросток, такой же веселый чудодей, как отец, но рослый, как старший брат.
Атаманом этого многолюдного схода объявился совсем неожиданно Микитушка. Его подняли на роспуски, где лежи ли багры и лестницы, и он поклонился в разные стороны.
Вся толпа замолчала и плотно сгрудилась вокруг него. Спокойно и внятно он заговорил, не повышая голоса:
— Мужики, вы меня подняли над собой и хотите услыхать слово истины. Не отрекаюсь. И правды ради ничего не устрашусь. А правда каша — труд на божьей земле, труд без лихоимства. Мятрий Стодиев с виду богослов, а в душе — лжец и убквец правды. Мир-то замыслил он ограбить. Землю, которую возделывали наши деды и прадеды, отнять у нас хочет. Враг он наш, а не друг и учитель. Пойдем к барину всем миром и скажем ему: «Земля наша, мы с трудом вросли в нее, и выдрать корни наши из нее никто не в силе и не вправе. Барин не должен идти спротъ мира…»
Кто-то надрывно крикнул:
— Микита Вуколыч, а ежели барин-то прогонит от себя мир-то? Они, собаки, с миром не считаются…
Кто-то не утерпел и с злобным смехом перебил первого.
— Они на мир-то — с матюками да нагайками, а перед богатыми — горницу нараспашку…
И еще кто-то добавил:
— Нам-то ближе тюрьма, а им — золота мошна. Толпа заволновалась, заворошилась и опять загалдела Микитушка сурово и обличительно оглядел всех и поднял руку. Толпа опять смолкла и с нетерпеливым ожиданием уставилась на него.
— А ежели, мужики, барин нас отрикет и богатством Мктрия и лжой его прельстится… — Он замолчал и с пытливым вопросом в глазах медленно оглядел толпу. — Готовы ли вы, братья, дружно правды добиваться?.. Ежели нет у вас веры да ежели отрекаться будете, как Петр от Христа, лучше по домам расходитесь…
— Готовы, Микита Вуколыч! Все пойдем.
— Знамо, пойдем! Спротъ мира-то никакой барин не устоит.
Среди гвалта надрывался голос Ваньки Юлёнкова:
— Все едино, мужики… миром весь свет держится…
С осьмины и лихая беда не столкнет…
Отец стоял поодаль с Миколаем Подгорновым, бывалым мужиком, и о чем-то с ним разговаривал, неодобрительно поглядывая на толпу. Миколай, стриженный под польку, в брюках и пиджаке, хотя и босой, смотрел на мужиков с недоверием.
Микптушха угомонил толпу и решительно, сурово объявил:
— Ежели не отступитесь да ежели барин миру откажет, всем выезжать с сохами и запахивать барскую землю. Всем миром, на всем угодье… И так… без межей бы… обчей помочью…
Кто-то ехидно перебил его:
— Да ведь без межей-го… да общей помочью… без порток останешься… Чай, мы не святые…
Микитушка не ответил на выкрик и закончил с торжественной строгостью:
— А сейчас пойдем все до единого, от малого до старого. Я вожаком с вами пойду, а рядом со мной размилый и неотступный Петруха Стоднев и Фома Селиверстыч.
С палкой в руке, с высоко поднятой головой Микитушка вышел из толпы, а по обе стороны от него Петруха Стоднев и дедушка. Как всегда, Петруха одет был пристойно — в сапогах, в чистой красной рубахе, подпоясанной ремнем, и в картузе. Лицо его было озабоченно, задумчиво, бледно.
Дедушка, тоже с палкой в руке, тоже в сапогах, шел истово, покорно, опустив брови на глаза. И по лицу его видно было, что он поневоле выполняет згу повинность, хотя и доволен честью, которую оказал ему мнр. Впереди них вышагивал, размахивая руками, Кузярь. Мне тоже хотелось подбежать и пойти рядом с ним, но я не мог побороть страха перед дедушкой.
Вся толпа потянулась за Микитушкой, Петрухой и дедом. Лохматые, бородатые, в домотканых рубахах и портках, мужики и парни длинной гурьбой пошли мимо нашего прясла, вниз, к ветлам. По этой дороге, самой короткой, бабы ходили за водой к колодцу. За колодцем через речку были перекинуты жерди. Но речка была мелкая, прозрачная, с песчаным дном, а на перекатах в разноцветных камешках, и люди переходили ее вброд.
За пряслом стояли бабушка с матерью и Катя. Когда и вместе с шайкой парнишек хотел побежать сбоку толпы, мать тревожно позвала меня, а бабушка простонала:
— Не ходи… и не думай бежать с ними на барский-то!
Там собаками затравят. Еще не знай чего будет. Может, и лиха беда случится.
Мать так умоляюще и боязливо смотрела на меня своими большими страдальческими глазами, что я от жалости к ней не мог двинуться с места.
Когда передние переходили речку, задние только еще подходили к спуску. Но ушли не все: кое-кто из мужиков, опасливо оглядываясь, пошел обратно по луке. У пожарной вместе с Мосеем стояли два высоких мужика: старший сын Мосея Павлуха и сотский Гришка Шустов. Павлуха стоял угрюмо и молча, а сотский грозил кулаком вслед толпе и матерно ругался:
— Я вам покажу, елёха-воха! Ишь бунтовать вздумали…
Видал? Петруха-то Стоднев — в вожаках вместе с Микитой.
Ну, хоть Микита-то безумный, елёха-воха. А Петруха — что? Мстит брату-то. Сидел в остроге и еще насидится.
В моем участке — да бунт! Мысленное ли дело!
Он подхватил писаря под руку, и они широко зашагали по луке на длинный порядок.
Мы долго стояли у прясла и смотрели, как толпа поднималась на барскую гору, как по одному, по два отставали мужики от хвоста толпы и расходились в стороны. Но гурьба людей все-таки была большой и плотной. Следили мы за ней до тех пор, пока она не скрылась за ребром крутого длинного обрыва на той стороне.
Катя веселыми глазами провожала мужиков и смеялась:
— В кои-то веки взялись за ум наши вахлаки! Я бы тоже пошла впереди. Хуже я Юлёнкова, что ли? А нас, баб, и за людей не считают. Какой бесстрашный Микитушка-то! За правду он и жизни не пожалеет. А Пете Стодневу и цены нет.
— Ох, дураки, дураки!.. — приговаривала бабушка со слезами на глазах. Куда пошли, зачем пошли!.. Рази можно спроть барина свару заводить? Ведь в бараний рог согнет… С сильным не борись, с богатым не судись… И чего это отец-то наш ввязался на свою голову?..
Катя смеялась.
— Тятенька никогда не спустит, ежели кусок урвать можно. А за землю он и голову заложит.
Мать оживилась и стала торопливо рассказывать, как они вместе с бабушкой Натальей странницами попали в село, охваченное бунтом, и едва унесли ноги.
Мне было обидно, что меня не пустили с мужиками на барский двор, и я мучился от зависти к Кузярю и другим парнишкам. Почему Кузярь пользуется свободой и делает, что хочет, а я в неволе и должен делать, что мне велят? Кузярь и дома держит себя так же вольно и независимо, как и на улице: отец его — Кузьма, которого все звали Кузя-Мазя, был смирный, молчаливый, ушибленный бедностью мужик. Почему-то у него постоянно дрожали руки, и он как будто боялся взять топор, грабли, лопату. Сынишку он совсем не замечал, а когда встречался с ним, в глазах его вздрагивало удивление.
Мать, Груня, постоянно кричала и на сынишку, и на мужа, и на кур, и на все, что попадалось ей под ноги. Даже на улице, с коромыслом на плече, встречаясь с бабами, крикливо жаловалась на свою несчастную жизнь.
Но Кузярь чувствовал себя между отцом и матерью вольготно. На отца не обращал никакого внимания, а когда Кузя-Мазя просил его виноватым голосом помочь убраться по двору или поехать с ним на поле боронить, Кузярь ухмылялся и пренебрежительно отвечал:
— Сам поезжай, мне некогда. У меня своих дел по горло.
Отец вздыхал и больше не тревожил его. Мать набрасывалась и на отца, и на Кузяря.
— Какой ты отец? Тюря ты, а не отец. Распрокаянный парнишка! Вольник какой!
Кузярь смеялся и властно осаживал ее:
— Ну, чего раскудахталась? Без тебя не знаю, что мне делать! Чего нос суешь не в свои дела?
Мать хватала ухват, а он спокойно подходил к ней, отнимал ухват и ставил его в угол.
— Ты это чего с ухватом-то? Чай, я не чугун… И отколь ты такая несуразная?
Но иногда его охватывала бурная страсть с раннего утра до ночи возиться по хозяйству. Он и навоз чистил на дворе, и отвозил его на усадьбу, он и соху и борону чинил, постукивая топором и молотком, он и за водой на реку ездил, он и на поле чуть свет выезжал и работал там, хозяйственно покрикивая на отца. И отец подчинялся ему.
Однажды, когда я пришел к ним в избу, Кузярь заботливо хлопотал над матерью, которая лежала на самодельной кровати. Он был неузнаваемо серьезен и встретил меня равнодушно, как взрослый мужик. Груня стонала и плакала:
— Смертыныса моя пришла… Ванюшка, дорогое инка моя, мочи моей нет… Сгорело у меня все нутре. Ванюшка…
А он накладывал ей на живот горячее мокрое тряпье и строго успокаивал ее:
— А ты не кричи — всех касаток распугаешь. Маленькая ты, что ли? Я и без бабки Лущонки вылечу тебя. Впервой, что ли? Вот прогрею брюхо-то — всю болезнь потом выгоню. У меня рука легкая.
— Ванюшка, — стонала Груня, — дорогонюшка мой!..
Чего бы я без тебя делала-то?.. Ангель ты мой хранитель!.
Он засмеялся, но как-то неслыханно нежно.
— Ну, сказала!.. Лежи и молчи. Вот шубы навалю на тебя — сразу отудобишь. Заснешь — и как рукой снимет.
Он положил на мать две шубы и войлок и приказал:
— Лежи и не шевелись. Спи и потей. Смотри не вставай… Слушайся! А то ругаться буду…
Через улицу он шел впереди меня и за амбарами вдруг обернулся.
— Уйди! Я не хочу играть… Зачем сейчас ко мне пришел? Мне сейчас все опостылело.
Его худое личико с выщелкнутыми скулами и подбородком дрожало от боли. Из глаз его текли крупные слезы.
Потом он уткнулся лицом в старую стену амбара и всхлипнул.
— Умрет она скоро… я знаю!.. У нее все нутре сгорело…
Я не мог вынести его слез и обнял его.
— Ты не плачь, — прошептал я сквозь слезы. — У меня тоже мамка больная… Мне тоже ее жалко…
Он обхватил мою шею рукой, и так долго простояли мы в обнимку, впервые связанные общей печалью…
С барского двора, приглушенный далью, донесся собачий разнолай. Лай этот свирепел все больше и больше и превратился в рычанье.
Бабушка вздыхала и горестно причитала:
— Изгрызут их собачищи-то… На барском дворе всегда они были злые, как волки. На моей памяти барин-то двоих затравил: мужика и дурочку. Мужика-то за то, что приказчику-немцу все нутре отбил. А избил-то за жену: приказчик-то изнасильничал ее. А дурочка-то бродила, бродила, да в барские хоромы и повадилась. Притащится да сдуру там и пляшет и воет… Ну, барин-то грозный был. Вытолкали ее на двор, а он кричит истошно: «Собаками ее затравить! Свору собак на нее!» Собак-то выпустили, а она — бежать.
А бежать-то от собак не надо. Ну, в клочья и разорвали. На моих глазах было. С тех пор я до смерти их боюсь… сердце закатывается…
Катя с веселым возмущением набросилась на бабушку — Ну уж, мамка, начнешь рассказывать, что при прадедах было! Тебе все чудится, что мы еще в крепости Теперьча не то время и люди не те. Пускай только управляющий собаками попробует потравить людей — мужики ему не спустят.
— Нет уж… — безнадежно вздохнула бабушка, — так уж от века положено: бедный да слабый всегда виноват Катя озлилась и махнула рукой.
— Да ну вас к шайтану! И слушать-то гошно. Я хочу век прожить поменьше тужить. Свое-то дорогое я никому не отдам.
Она сердито отвернулась и пошла домой. Широкая костью, здоровая, рослая, с ясными, смелыми глазами, она знала себе цену и жила своей жизнью, отдельно от всех, и никто не знал, что у нее на уме. Ее никто не обижал, и она казалась сильнее всех. Она как будто совсем не замечала ни братьев, ни дедушки, и у нее не было подруг, а к моей матери она относилась, как к беспомощной и беззащитной девочке, которую надо иногда утешать и оберегать от обид.
Мы долго стояли втроем у прясла и беспокойно смотрели на далекий барский дом с мезонином, который одиноко и величаво красовался на высоком взлете крутого обрыва.
Собаки не переставали лаять, и мне чудилось, что кричат мужики.
— Не кончится добром… чую, беда будет… — тосковала бабушка. Дедушка-то наш из-за земли себя не помнит. То уж больно расчетливый, а го из узды рвется, ежели чует, что земля под барами зыблется.
Мать и бабушка не дождались возвращения мужиков и, очень встревоженные, неохотно пошли домой. Мать робким голосом отпросилась к бабушке Наталье.
— И я с тобой пойду, невестка, — встрепенулась бабушка. — Навестить надо сваху-то Наталью… Может, и не приведет бог увидеться… Поколь нет мужиков-то, сходить надо… Ведь я ее давно не видала… Тут рукой подать, а из избы домовой не пускает…
Мы спустились к ветлам и мимо колодца прошли к переходу через речку. Мне было скучно идти с ними: бабушка шагала тяжело и медленно, а мать часто поддерживала ее под руку. Я пустился бегом прямо по воде и несколько раз перекувырнулся через голову на снежно-белом песке на том берегу. Песок был горячий и мягкий, как мука, и всюду был прошит красными нитями ползучей травы в крылатых листочках.
Кузница была заперта. Вероятно, Потап тоже ушел с мужиками. Перед избой сидел Петька с ребенком на коленях и играл в камешки. Игра эта и меня увлекала. Нужно было четыре камешка схватить в тот момент, когда пятый камешек подбрасывался кверху.
Петька встретил меня с серьезным лицом и как-то даже с неудовольствием.
— Домовничаю, — сообщил он сердито. — Тятька на барский двор со сходом поплелся, а мамка рубашки стирает.
Тут работы в кузнице невпроворот, а он потащился прямо в фартуке, как пугало, да еще с клещами. А толк-то какой?
Все одно барин прогонит. Он дешевле уступит землю Митрию: Митрий-то деньги ему сразу из кармана выложит, а мы, мужики, в десять годов не выплатим.
Он рассуждал, как взрослый, и не одобрял похода мужиков на барский двор. Но увидел ли он, что я мало понимаю в мирских делах, или ему самому было скучно слушать самого себя, — он снисходительно усмехнулся:
— Ну что, кулугур? Моленную-то прихлопнули, теперь и петь тебе негде? Кто это у вас так ловко иконы-то да книги украл? Богу молитесь, а черта тешите.
— Я не крал и черта не тешу, — обиделся я и хотел пойти дальше.
Но он схватил меня за рубашку и засмеялся:
— Як тебе хотел уж бежать: баушку-то Наталью ты совсем забыл и со мной не водишься. А ей Архип Уколов уж гроб сделал — в сенях стоит. Я и то дивуюсь: больно уж долго она не умирает…
Пока мы разговаривали, он играл в «подкидыши»: бросал камешек вверх, хватал горстью кучку голышей и ловил подкидыш. Выходило это у него ловко, без промаха.
Он был этим доволен, и глаза его радостно блестели.
Мать и бабушка прошли мимо нас, но нас как будто не заметили. Ребенок вдруг заорал благим матом, но Петька посадил его, голенького, на мягкий песок, вынул из кармана соску из тряпки с нажеванным хлебом и сунул ему в рот.
Ребенок начал жадно сосать жвачку и замолчал.
Я сел около Петьки, взял у него камешки и стал подкидывать. Он следил за моей рукой, поднимая и опуская голову, и лицо его, закопченное и огрубевшее, сразу стало простым, ребячьим, живым. Глаза его заиграли веселым увлечением. Когда я не мог схватить камешки подряд пять раз, он звонко засмеялся и крикнул:
— Эх, ты, сухорукий! Я двадцать раз схвачу…
Так мы, забыв обо всем, соревновались с ним, пока опять не заорал ребенок, упав на песок. Петька подхватил его на руки, нашел соску, вытер ее пальцами и сунул ее опять в рот ребенку.
— Вон! Идут!.. — крикнул он и вскочил на ноги. — Вещь я сказал тятьке: «Куда идешь? Чего тебе там надо-то? Аль работа-то у тебя запьянствовала?..» А он одно долдонит:
«Куда мир — туда и я: от мира нельзя отказываться».
С горы кучками шли мужики и по тропочкам сворачивали к речке. Одни шагали торопливо, обгоняя передних, другие кричали все вместе, спорили, размахивали руками и останавливались, оглядываясь назад.
Я побежал в гору, навстречу мужикам. Старики шли тихо, степенно, опираясь на палки, парни смеялись, передразнивали Измайлова, а мальчишки делали свое дело — сбегали с горы вперегонку. Когда я, запыхавшись, подбежал к пряслу, которое отгораживало барское угодье от села, навстречу мне вылетел Кузярь. По дороге от барского двора тянулась длинная гряда мужиков, и оттуда долетал смутный говор и злые выкрики. Кузярь остановился передо мной как вкопанный и заржал жеребенком.
— Я все видел, а ты проморгал. Чего ты торчишь у прясла-то, как с ярмонки нас встречаешь? Ох, что только было там!..
Мужики шли в открытые ворота прясла густой чередой, и говор их переходил в крик здесь, у ворот, а позади голоса глухо галдели, как на сходе. Желтая пыль дымилась над головами этой длинной вереницы людей. Проходила тесно сбитая куча мужиков и парней. Одни — в сапогах, другие босиком, и ноги их были бурые от пыли. Все были возбуждены, кричали, не слушая друг друга. Шагали степенно старики, опираясь на палки, и с озабоченными лицами разговаривали рассудительно, как подобает старикам. Вот прошли дядя Ларивон и кузнец Потап с клещами в руках, в черном кожаном фартуке, а с ними еще несколько мужиков.
— Барыня бает: золотые нам Митрий высыпал! — с негодованием кричал Ларивон. — За золотые и Христа продали. А кто на ней, на земле-то, горбы гнул? Она с дедов-прадедов наша! Нынче же делить будем и запахивать.
— Чего легче! — согласился Потап. — А разделишь, вспашешь да посеешь все отойдет чужому дяде. Митрий-то только спасибо скажет.
— С кольями пойдем, — кричал Ларивон, мотая бородой. — Всем селом караулить будем.
— Тебя в остроге караулить будут.
Старики, степенно опираясь на палки и уткнув бороды в грудь, рассуждали умственно:
— Зря Микитушка-то… Богатый на правде верхом ездит, а кривдой погоняет.
— Что и баять! Видал, как барыня-то его объехала?
Ежели, говорит, правдой народ держится, так незачем ему за чужую землю хвататься да богатым завидовать.
— Какая там правда! — сердито крикнул высокий и лысый старик и ударил длинной палкой о землю. — Пахать надо… Держи топор в руке — вот тебе и правда…
Подошла большая толпа мужиков. Все были взволнованы и кричали каждый свое:
— Как она улещала-то: «Мужички, мужички! Опамятуйтесь! Беду на себя накличете… Мне вас жалко…»
— Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву.
— А Петруху-то здорово поддела: «Ты в остроге сидел…
Мстишь брату-то… Тебя в Сибирь надо…»
— А чего он лезет не в свои сани?.. Одного поля ягода.
Стодневы всегда из народа жилы тянули…
— Ну, чего вы языки чешете? — рассердился кто-то. — Аль забыли, как Митрий-то Петруху обездолил? В обиде человек.
— Выезжаем, что ли, мужики? Чур, все, как один. Делить надо.
Ванька Юлёнков вертелся среди мужиков.
— Я на корове выеду пахать. Зубами в землю-то вгрызусь. Никакой объездчик меня из бороны не выковырнет.
— Колья захватывай, робя!.. топоры!..
Кузярь ткнул меня в бок и, задыхаясь, крикнул:
— Бежим! Я тоже с топором. Ноги буду рубить объездчиковой лошади.
И юркнул в толпу мужиков. Таким взбудораженным я еще никогда его не видел. Черные глаза его горели и жадно впивались в проходящих мужиков. Он снимал костлявые кулачишки, вслушивался и хватал каждое слово, каждый выкрик, и острые скулы его краснели сквозь пыльный загар.
Густая толпа втиснулась в ворота и, толкаясь плечами, путаясь бородами и лохматыми головами, оглушила меня своими криками. Лица у всех были решительные. В середине толпы увидел я Микитушку, который шел, подняв голову, встряхивая бородой. Суровое лицо его с горбатым носом улыбалось недоброй улыбкой убежденного, сильного духом человека. Он показался мне выше всех ростом. Рядом с ним шел Петруша Стоднев с печальной усмешкой в глазах. Он молчал и думал о чем-то своем. Двое мужиков кричали ему что-то, но он как будто не слышал их. Дедушки уже не было с ними. Отец шагал, переваливаясь с боку на бок, вместе с Сыгыеем и Филаретом-чеботарем. Сыгней рассказывал им что-то с обычными вывертами: руки у него делали какие-то запутанные узлы. Отец снисходительно усмехался, скосив голову набок, а сутулый Филарет, уткнув бороду в грудь, испуганно глядел в землю. Микитушка остановился, поднял обе руки и крикнул глухим, внушительным голосом:
— Мужики! На барском дворе с нами разговаривать не стали. Сам Митрий Митрич ускакал в город. И Стоднев туда же уехал. Они нас обошли. Настоятель-то наш, богослов-то, как волк, разинул на нас свою пасть. Мы эту землю еще при крепости пользовали, а нынче исполу пахали. Митрий и клочка нам не даст: сам хлеб на продажу сеять будет.
Чего же мы делать-то будем?
Его голос погас в шуме толпы.
И опять поднялись вверх обе руки Микитушки.
— Ну, мужики, ваше слово свято, а я выеду с сохой впереди всех. Собирайтесь у меня на околице. Правда в огне не горит, в воде не тонет. Всем миром стоять надо… Земля наша, мирская… Кровью, потом полита… а ее у нас при воле-то… похитили вот…
К пряслу быстро подошел Петруша, весь в поту, с неузнаваемым лицом серым, страдальческим, но с бурей в глазах. Он легко вскочил на среднюю слегу и, обхватив рукой верею ворот, крикнул голосом разгневанного и оскорбленного человека:
— Мужики, вот вам моя душа!.. — Он вцепился другой рукой в ворот пунцовой рубашки и рванул так, что разодрал ее до пояса. — Я человек покинутый. Мне никто не верит: ни барин, ни шабер, а брат готов меня со свету сжить.
Вы сами видите, как я живу. Брату я не делал зла, а от него пострадал. Перед вами тоже не грешен. А вот слышу, как некие чернят меня здесь: он. мол, с брательником-то заодно, брательник-то его подослал к нам. Другие меня в лицо бесславят: ты, дескать, Петруха, мстишь Митрию-то и на нашем горбе хочешь выехать. И выходит, что перед всем народом я подлец, прохвост и изменщик. Пошел я с вами с чистой душой. Мне тоже ничего не надо, как и Миките Byколычу. Из деревни я ухожу и все хозяйство продаю — это вы все знаете. И вот, чтобы не было вам со мной греха, я отстаю от вас: делайте сами что хотите. А мое дело сторона будет. Помяните мое слово: дело ваше правое и сердце мое скипелось с вами. Я молю бога, чтобы вам удача была. Ну, только знайте: брат все жилы из вас божьим словом вымотает.
Он соскочил с прясла, махнул рукой, и у него затряслись губы. Мужики молча проводили его глазами, когда он торопливо зашагал мимо избы Архипа Уколова по улице верхнего порядка.
Микитушка вышел из толпы и замахал ему рукой.
— Петя, Петруша!.. Вернись!.. Не обижайся на народ!.. Не все дураки, Петя… А лжу надо обличать. Правда-то в народе живет, а кривда — у неверных. Ну-ка, воротись, Петя! Дай-ка слово тебе скажу!
Петруша остановился и горестно вскрикнул:
— Я — Стоднев, Микита Вуколыч: мне верить нельзя Мужики правильно выражают…
Он пошел навстречу Микитушке.
Мужики хмуро смотрели в сторону Петруши, а кое-кто посмеивался:
— Ишь какой праведник заявился! «Я, бат, с чистым сердцем…» Ежели ему ничего не надо, зачем в драку лезет…
— А Микитушка-то, голова? Он вон тоже заодно с ним» Мне, бат, тоже ничего не нужно».
— Ну, сказал! Микитушка-то о душе думает… За мир горой стоит… Видал, как он неправду обличает? А Митриято как распинает!.. Он ничего не боится…
— А чего ему бояться-то? Он неимущий.
Ларивон тоже побежал вслед за Микитушкой, взволнованно размахивая своей бородой, похожей на конский хвост Он обогнал Микитушку и облапил Петрушу.
— Петя, парнишка мой дорогой! Никуда ты не уйдешь от нас: некуда тебе убежать. До гумна добежишь — ноги подкосятся.
И потащил его обратно.
— Петенька! День-то какой! В кои-то секи… всем миром… Мы с тобой впереди всех, — первые…
Петруша горько улыбался, и улыбка его была такая славная, что мне хотелось тоже побежать к нему и схватить его за руку.
Микитушка подошел к нему твердым, совсем не стариковским шагом и, пристально глядя в его лицо, сказал что-то строго, как судья.
— Хорошо, Микита Вуколыч, — громко, с веселым звоном в голосе ответил Петруша. — Я пойду — не отступлюсь… Только, Микита Вуколыч, я на тебя надеюсь… Мне ведь нечего добиваться… Пускай народ сам видит и судит.
А Ларивон засмеялся от радости, схватил его голову и ткнул ее в свою бороду.
XXXVI
Дедушка с отцом и Сыгнеем запрягли нашего облезлого мерина в телегу, а к телеге привязали соху на костылях вверх сошниками и поехали через луку, мимо дранки, на другую сторону, к концу верхнего порядка, где жил Микитушка. Я тоже забрался на телегу и был счастлив, что меня не прогнали. Дед даже сказал бабушке с необычным добродушием:
— Пущай едет: за водой с кувшином в родник будет бегать…
Мать звала меня с испугом в лице:
— Останься, не езди!.. Сердце у меня не на месте… Как бы чего там не было…
Но я упрямо сидел в телеге.
— Да чего он, маленький, что ли?.. — прикрикнул на мать отец. — Чай, не к бирюкам едем… Картошку варить будет…
По дороге через луку лошади тащили сохи на костылях, а на лошадях боком сидели мужики и парни. Ехало несколько телег с притороченными сохами, как у нас. Отец сидел впереди с вожжами в руках, а дед рядом с ним, Сыгней на другом боку. И как только мерин затрусил по дороге, дедушка фистулой запел: «Приндите, возрадуемся господеви, сокрушившему смерти державу и просветившему человеческий род…» Это значило, что дедушка был в хорошем настроении.
День был жаркий, ослепительный, и воздух в золотых далях дрожал от марева зеркальными вспышками. Небо было мягкое и тоже горячее. Трава на луке ядрено и сочно кудрявилась густой зеленью и пахла мятой и молодой полынью. Солнце горело всюду, и я ощутил его даже в себе, потому что у меня в душе было ярко и радостно. По луке и мимо нас низко летели касатки с белыми грудками и щебетали передо мною, точно дразнили, играя. Я неудержимо смеялся им в ответ и ловил их обеими руками, а они молнией скользили перед моими пальцами, и мне казалось, что и они смеялись вместе со мною и манили меня полетать с ними.
Когда мы проезжали за дранкой мимо амбаров дальнего порядка, я увидел около каменной кладовой с соломенной крышей, похожей на копну, тетю Машу. Она стояла у открытой двери в деревенском сарафане, в белом платке, низко опущенном на глаза. Я вскочил на колени и помахал ей рукой. Она радостно взмахнула обеими руками, растерянно улыбнулась и хотела побежать к нам, но сразу же остановилась, оглянулась назад и поднесла фартук к лицу.
Мы спустились с горы, переехали речку, которая играла в голышах, пронзительно сверкая искрами. Пахло тиной и пескарями. Под крутым взлетом горы густой рощицей толпились старые ветлы, и лохматая их зелень клубилась тугими копнами и четко отражалась в зеркале болотца с кружевами зеленой ряски по краям. На бережке болотца белыми комьями стояли красноногие гуси, а в речке плескались голые ребятишки. На пологом подъеме, слева от дороги, за пряслом, прохладно зеленел яблоневый сад в зарослях малины и ежевики, которая охапками оплетала прясло Сквозь заросли видны были высокие пчелиные пеньки, над которыми вихрями роились пчелы. Этот сад принадлежал старосте Пантелею. На околице уже большим табором стояли телеги, сохи, лошади, которые отмахивались хвостами от мух и слепней. Мужики, босые, в рубахах без пояса, в картузах и без картузов, толпились поодаль и кричали, как на сходе. По улице и за нами лениво шагали лошади.
Дедушка легко соскочил с телеги, дождался, пока мы проехали, и быстро зашаркал сбитыми сапогами к толпе мужиков. Отец съехал с дороги на траву, остановил лошадь рядом с сохой Кузи-Мази. На остром хребте худущей кобыленки сидел боком Кузярь и смотрел на меня с гордостью самосильного работника. Он не удостоил меня даже улыбкой.
— А ты чего, курносый, увязался?
— А вот поглядеть, как котенок на холке кобыленки мяукает.
— Я пахать еду: тятька один не справится.
— А ты крепче за холку держись: попадешь под сошник — и грач не выклюнет.
В эту минуту я увидел Шустенка, который терся у прясла и прислушивался к крику мужиков.
За пряслом тоже толпились ребятишки, а некоторые залезли даже на слеги. Шустенок, крадучись, шаг за шагом приближался к мужикам.
— Гляди, — осадил я Кузяря, — Ванька Шустов здесь.
Кузярь соскочил с лошади и махнул мне рукой. Мы быстро подбежали к Ваньке и схватили его за руки. Он замер or испуга, даже присел на корточки.
— Ты что, Ваня, в ноги-то кланяешься? — с притворным участием спросил его Кузярь. Глаза его смеялись, но в ласковой улыбочке было так много зловещего, что даже мне стало не по себе. — Может, Ваня, ты к нам хочешь пристать? Ты скажи, мы тебя к кобыльему хвосту привяжем.
Глаза у Шустенка забегали, как у воришки. Он рванулся, попятился и от страха начал задыхаться.
— Пустите! Чего схватили? Я вам мешаю? Вы — сторонские, а я — на своем порядке.
— А ты забыл, Ваня, как я тебя тузил за пожарной-то? — с ехидной лаской спросил Кузярь. — Не подглядывай, не ябедничай!..
Шустенок неожиданно вздернул голову и, вырывая руки, с угрозой крикнул:
— Ты берегись, Кузярь: я тебе это попомню! И ему вот не спушу!
— Не грози, елёшка-вошка! — спокойно, с насмешливым презрением отразил его наскок Кузярь. — Вспомни, как мне в залог пятак сулил.
— Он и у меня в долгу, — подтвердил я. — Я ему еще за баушку Наталью не отплатил. Он грозил в жигулевку меня посадить.
— И посажу!.. Вы едете барское поле пахать, а тятька уж поскакал к становому верхом. Нагрянет становой с полицией — всех измолотит. И вам обоим заодно достанется.
А я вот гляжу, кто из мужиков больше охальничает. Микитушку-то да Петруху Стоднева первых в солости пороть будут.
Все это он выпалил, задыхаясь и торопясь, чтобы ошеломить и опрокинуть нас. Эта новость действительно поразила Кузяря: он растерялся и взглянул на меня с паническим испугом в глазах. Шустенок осмелел и стал рваться из наших рук. Кузярь так ослабел, оглушенный словами Шустенка, что молча выпустил его руку.
— Ага, ошалели! — торжествующе зашипел Ванька. — Теперь я вам житья не дам: что хошь на вас тятьке навру…
Кузярь опять схватил его за руку и приказал:
— Держи его крепче! Это наш черкес, кавказский пленник. Мы его к мужикам отведем.
Находчивость Кузяря мне очень понравилась: мы накрыли шпиона, тащим его на суд к мужикам — прямо к Микитушке и Петруше — и требуем допросить его: кто писал бумагу и когда Елёха-воха поскакал к становому? Мужики сразу увидят, какие мы молодцы, и похвалят нас. Они скажут: «Ну и ловкачи вы, ребятишки! Во всяком деле поспели, а без вас — как без глаз». Эту складную поговорку любил повторять колченогий Архип Уколов парнишкам, которые толкались около него, когда он сидел на своем — крыльце и резал игрушки.
Мужиков съехалось много — телеги, лошади, сохи загромоздили всю площадку за пряслом по обе стороны дороги, как на ярмарке. Но мужики толпились вокруг высокого Микитушки встревоженно и озабоченно. Все спорили о чем-то и оглядывались назад, на ворота прясла: не то они поджидали кого-то, не то не решались ехать в поле. Я только заметил, что толпа здесь не такая большая, какая была на сходе. Подъехало еще несколько запряжек, но на улице и на — дороге к речке уже никого не было. Да и сама толпа как-то расползалась: мужики разбивались кучками и спорили о своем. Видно было, что люди опасаются чего-то, что им чего-то недостает, что стоят они здесь табором зря и тяготятся своим бездельем. На улице, недалеко от прясла, тоже стояла пестрая толпа — бабы и девки. Они тоже спорили.
Одни пристально глядели на табор с хмурыми лицами, другие смеялись, иные со злым весельем махали мужикам: поезжайте, мол, чего время теряете!
Мы притащили Шустенка, который упирался и рвался из наших рук, к Микитушке и, перебивая друг друга, выпалили:
— Вот он… подглядывал да подслушивал… считал, кто собирался…
— Это еще ничего, а ты спроси у него, дедушка Микита, куда Елёха-воха ускакал. К становому… верхом… с бумагой…
Мужики обступили нас и, переглядываясь, бормотали:
— Вот так выродок! Ну и крысенок! Выходит, сотский-то плодит нам полицейский выводок. У него еще двое псят.
Микитушка молча и строго посмотрел на Шустенка, потом улыбнулся, и морщинки около глаз добродушно зашевелились. Он погладил своей широкой и волосатой рукой ершистые волосы Ваньки и сказал ласково:
— Ничего, ничего, паренек… Иди домой! Ты еще мал годами, чтобы зло в уме держать. А спроть людей, шабров и сродников, грех недоброе умышлять.
Кузярь запротестовал. Лицо его стало багровым от негодования.
— Как это без ничего отпускать? Ты, дедушка Микита, только погляди на него: он на всех наврет, только и ловит, на кого бы наклепать. Он сейчас сказал, что тебя да дядю Петрушу Елёха-воха в волость отправит и там будут вас пороть.
А Микитушка улыбался и поглаживал Шустенка по волосам.
— Ничего, ничего! Он еще маленький. Это отец у него июда и пес. Грех-то надо осилить умом и многими страстями. Пустите его, ребятки.
Шустенок трусливо озирался.
Петруша усмехнулся и искоса взглянул на него.
— Мал кутенок, а уж норовит портки рвать. Как ни говори, а добра от него не будет. Не все дети, Микита Вуколыч, безгрешны: по какой тропке пойдут. Этого бесенка я знаю: он, Микита Вуколыч, и тебя вокруг пальца обведет…
Мужики опять закричали и заспорили.
— Ехать так ехать, Микита Вуколыч! Чего время-то зря терять?
— А ты погоди, голова! С дурной башки и пыль не собьешь.
— Нет, а вы слыхали, шабры, чего сотник-то отчубучил?
К становому ускакал.
— А чего сотник? И у сотника башка не гвоздями пришита.
Микитушка пошептался с Петрушей и снял картуз.
— Ну, с богом! Поехали, мужики!
И пошли вместе к табору.
Мужики вразброд расходились к своим лошадям. Они уже не кричали, а говорили меж собой вполголоса и шагали неохотно, останавливались, озирались, и в глазах их застывала тревога. Дедушка с отцом и Сыгнеем тоже пошли к телеге, и отец сердито махнул мне рукой.
— Беги, влезай на телегу! Ты с Ванькой не цапайся.
И с Кузярем не валандайся: он тебя до добра не доведет.
Кузярь исчез сейчас же, как только Шустенок со всех ног бросился из толпы мужиков к пряслу.
Дядя Лари вон как угорелый пробежал мимо, размахивая бородой:
— Поехали, шабры! Я первый нахлещу свою кобылу.
Сват Фома, Вась, догоняйте! Ветром полечу. Счастье-то, оно — как грозовая туча: сразу накрывается и с молоньей льет благодать. Микита Вуколыч, не отставай! Петруша, держи со мной голова в голову! Счастье-то само в руки дается, да с ног валит.
Он был трезвый, но и трезвый казался хмельным. Вел он себя не как все люди, — не хитрил, не притворялся, не умничал, а ломил вперед без опаски и без оглядки. Вероятно, ему очень трудно было справляться с преизбытком своей силы, и она бурлила в нем, не находя выхода, и мутила его.
Вот и в этот час он очертя голову ринулся «за счастьем», потому что кипела кровь, потому что «взбесился», когда всполошился мир, и знал одно что придется драться впереди этого мира, не думая о последствиях и не жалея своей головы.
Я видел, как он, стоя на телеге, на которой соха торчала вверх сошниками, стал хлестать свою пегую кобыленку.
Волосатый, бородатый, он, очевидно, хотел лететь, как ветер, но лошаденка прыгала, махала хвостом и спотыкалась.
Это было очень смешно. Он сам прыгал на телеге. Мужики смотрели ему вслед и хохотали.
— Вот оглобля-то оглашенная! Бушует — куда куски, куда милостыньки…
— На то и Ларя Песков. Свяжись с ним — не распутаешься, да и последнее потеряешь…
— А верно, шабры: попадись ему объездчик — и лошадь свалит, и его искалечит. А к ответу — всех.
— Так тому и быть, ребята: прискачет становой, пригонит полицию да свяжет всех и закует.
— Это как же выходит, мужики? — возмущенно крикнул кто-то. — Сами орали и старика толкали, а сейчас — в подворотню? Ехать — так всем ехать… А то орать орали, а башку Микитушка да Петруша на плаху клади? Эдак без кулаков да кольев не обойдется.
За Ларивоном поехали и Микитушка с Пегрушей. Тронулись один за другим мужики из передних рядов. Но задние всё еще спорили, сбиваясь в кучки, и натягивали картузы на глаза, переходя от одной кучки к другой.
Несколько мужиков вскарабкались на горбы своих кляч и потащили сохи обратно в деревню. На них заорали, засвистели, но они даже не обернулись. Дедушка стоял у телеги и угрюмо думал, спрятав глаза под сивыми клочьями бровей. Сыгней смеялся в кучке парней, а отец стоял по другую сторону телеги и, по-стариковски натянув картуз на лоб, прислушивался к говору мужиков. Отцу, очевидно, не хотелось ехать на поле: он не сочувствовал этой затее, как рассудительный мужик, да и охоты у него не было ввязываться в пустые споры. Он изредка поглядывал на деда и ждал, похлестывая кнутом по траве. Подошли Филарет-чеботарь и Парушин Терентий и раздраженно закричали на деда, точно он был виноват в этой бестолочи:
— Дядя Фома, едем аль не едем? Чего, в сам деле, сбились, как на ярмарке… дураки дураками? Ты ведь тоже с Микитушкой-то нас на барский двор водил. Куды ты, туды и мы.
Дед строго уставился на них своими острыми глазами.
— Ну, закудыхали! Нет своего ума-то, так за спину шабра прячетесь. Вот сват Ларивон сам собой распоряжается, да еще всех обогнал. Первым прискачет на барское поле, а вы как чумные бараны кружитесь.
— Да ты-то как, Фома Селиверстыч? Чай, ты в нашем участке умнее всех.
Отец не утерпел и срезал их:
— Одному без матери Паруши некого слушаться, а другой меж сохой да чеботарским верстаком заплутался. Хозявы!..
— А ты-то, Вася, чего топчешься? — поддел его Филарет. — Кнутом-то подстегиваешь, а ноги, как слепень, чешешь…
Отец вскочил на телегу и схватил вожжи. Сыгней подмигнул Филарету и тоже вскочил на телегу.
Дедушка снял картуз, махнул им вперед и лукаво ухмыльнулся.
— Ну, с богом! Поезжайте! А я домой пойду, что-то поясница заболела. Ежели что — умней держитесь. От Лари Пескова подальше, и Микитушку слушайте да на свой аршин мерые… Ну, дай бог, дай бог…
Отец боязливо ударил кнутом мерина, задергал вожжами, и мы рысцой поехали по пыльной дороге. За нами потянулись и Филарет с Терентием и другие мужики. Ларивоп скакал один далеко впереди. И видно было, как он свернул направо, на широкую межу, а за ним трусцой, одна за другой, длинной чередой бежали и другие лошади.
Сыгней сидел рядом с отцом, смеялся и толкал его локтем в бок. Отец оборачивался к нему и тоже смеялся.
— Вот так старик!.. — ехидничал Сыгней. — Сам в кусты, — а нас послал… Случись какая статья, сейчас — я не я, а сыновья… За бороду не потянешь.
Отец качал головой и открикивался сквозь грохот телеги:
— Он всегда выходил сухим из воды. Сам подобьет, а спину другой подставляй. Однова мы с ним воск в Петровск возили от Пантелея. В Чунаках заехали к тетке Марфе…
— Знаю, — вдова, травами лечит… — Сыгней опять засмеялся. — Он к ней обязательно заедет… норовит ночевать…
— А как же? И мы ночевали. Приезжаем в Петровск, сдали. Одного круга не хватает. Где круг? Должно, Пантелей просчитался. Через неделю ввалился Пантелей, богу помолился и спрашивает: «Фома Селиверстыч, куда ты круг-то один дел?» — «А я, бает, не в ответе, Пантелей Осипыч: надо считать лучше». — «Да ты же, бает, сам со мной считал?» — «Я, бает, не считал, а тебе верил. А ежели и пропал, так на возу Васянька спал, когда в Чунаках ночевали, а я — в избе». Пантелей-то тогда мне все волосы выдрал. — А когда ушел, старик-то смеется и утешает: «Ничего, бает, потерпи: ты — молодой». Вот и с извозом… Я еще диву даюсь, как лошади выдержали: ведь околели-то прямо — у своего гумна. Дал он на дорогу рубь шесть гривен — вот и корми их. По ночам ехал, чтобы сена из чужого стога натеребить. Да я же и виноват оказался.
— А ты ему тогда, братка, ловко руки-то загнул…
— Вот и сейчас… Втесался в эту канитель. Вожаком пошел на барский-то. А сейчас что-то поясница заболела.
Когда они прохохотались, отец угрожающе предупредил:
— Чуть что — так ты, Сыгней, сейчас же запрягай мерина — и домой…
Сыгнею эти рассуждения не понравились, он насупился и отвернулся. С обидой он пробурчал:
— А я бы остался… поглядел бы, как Петруха с Микитушкой народ за собой потащат.
Мне тоже неприятно было слушать опасливые слова отца: впервые я почувствовал, что он трусит и хочет улизнуть от табора, что здесь он незаметен, безлик, а если погонят всех в волость, ему не уйти от порки.
Слушая его разговор с Сыгнеем, я понимал, в какой опасный переплет попал он сейчас: и участвовать в самовольной запашке чужой земли — беда, и улизнуть из мирской артели — беда.
— Поясница заболела… — забормотал он, подстегивая мерина. — Нас на рожон послал, а сам — на печь.
Сыгней опять взвизгнул от смеха.
— Ну да! Залезет на печь и будет стонать, а мамка ему кислым молоком поясницу станет натирать. Это он нарочно тебя подсунул.
— Аль, чай, не знаю? Он все обдумал. Скажет. «Я на печи поясницей мучился… это вот они: Васька да Сыгнейка.»
— А я-то чего? — испугался Сыгней. — Чай, я подвластный. Ты старшой, а я парнишка… еще неженатый.
Он вдруг соскочил с телеги и со всех ног побежал к березовой роще, которая густо клубилась зеленью неподалеку, в широком долу. Красная рубашка пузырем надувалась у него на спине.
— Сыгнейка! — угрожающе закричал отец, махая кнутом. — Воротись! Назад, тебе говорю!
И неожиданно засмеялся.
Спереди, сзади засвистели и заорали вслед Сыгнею:
— Держи, держи его!.. Лови зайца за хвост!..
Но Сыгней и в этот раз не утерпел и выкинул коленце: он высоко подпрыгнул на бегу, ловко перекувырнулся на руках и стал на ноги. Лицо его морщилось от смеха, а кудри трепыхались золотыми стружками. Мужики и парни смеялись и махали ему руками. Веселый нрав Сыгнея нравился шабрам.
XXXVII
Барское поле начиналось недалеко от деревенских гумен и волнистой равниной расстилалось до самого горизонта.
Бархатные озими свежо и прохладно зеленели всюду длинными холстами и дрожали в знойном мареве золотыми брызгами. Черные пары, мохрастые от молодой сурепки и прошлого жнивья, казалось, дымились, зажженные солнцем. Пролетали надо мной торопливые голуби, хлопая крыльями, и тоскливо повизгивали сине-зеленые пигалицы.
Телеги и лошади с сохами опять остановились и столпились табором. Впереди, перед мужиками, верхом на маленькой пегой лошадке помахивал нагайкой человек с желтой бородкой клинышком, в холщовом пиджаке и белом картузе. Он весело смеялся, поблескивая крупными зубами, а лошадка танцевала под ним, взмахивая головой, и тоже как будто смеялась. Он говорил, как близкий приятель, с Микитушкой и показывал нагайкой в разные стороны. Это был барский объездчик, которого у нас в селе звали странным именем — Дудор.
Отец бросил вожжи на спину мерина и бойко пошагал к толпе. Я тоже спрыгнул с телеги и побежал к Дудору. Кузярь уже стоал впереди всех, у морды лошади, и пытался погладить ее по ноздрям, но лошадка сердито взмахивала головой и, сжимая уши, скалила зубы. Дудор озорно хлестнул Кузяря нагайкой. Кузярь ловко отсрочил в сторону.
— А я давно уже трясусь на своем иноходчике… Вот-вот, мол, приедут гостя дорогие. Сама барыня мне наказала: прими, говорит, и приветь мужиков-то! Ну, вот я и жду, Микита Вуколыч, только угощать вас нечем.
— Ты, Дудор Иваныч, не шути! — строго пробасил Микитушка. — Мы пахать приехали.
Дудор снял картуз и засмеялся. В плутовских его глазах играли веселые капельки…
— Ну и пашите, милости просим! Кто куда хочет, туда и заезжай.
Мужики, пыльные и грязные с дороги, забеспокоились и заворошились. Даже для нас, парнишек, было что-то странное, необычайное в веселых словах объездчика: мы привыкли видеть в барском объездчике холуя, своего врага, который загонял коров в барское стойло, когда они по недосмотру пастуха забирались в березовый лес. И вдруг этот Дудор, как друг, весело смеется и мирно балагурит с мужиками… Ждали, что Дудор встретит их злой угрозой, а он ошарашил всех неслыханными словами: «Ну и пашите!..»
Нельзя было понять, почему Дудор такой веселый и приветливый, почему он с такой готовностью разрешил запахивать землю. И я видел, как мужики поугрюмели и враждебно замолчали. Только Ларивон крикнул:
— Дудор Иваныч! Голубь сизокрылый! Своими руками вскопаю землицу-то родную, бородой своей забороню.
И как угорелый побежал к своей телеге. Ему наперебой закричали вслед:
— Ларивон Михаилыч! Воротись! Погоди малость… Не напорись там.
Но Ларивон отмахнулся, вскочил на телегу и захлестал своего пегого одра.
Объездчик поглядел на Ларивона и затрясся от смеха в седле.
Микитушка теребил бороду и убеждающе говорил:
— Ты, Дудор Иваныч, не шути — с миром негоже шутить. Землю эту за Стодневым барин оставил. Наши деды и отцы ее возделывали, обчество не согласно отдать ее мироеду. Народ нельзя обездоливать. Не допустит народ неправды… С добром ты приехал аль со злом?
— С добром, с до-бром!.. — весело кричал объездчик, и зубы его так и играли под рыжими усами. — Пашите себе на здоровье.
— Это кто тебе так приказал? — сурово допрашивал его Микитушка. Барыня нам от земли отказала, а ты какую власть имеешь?
— А мне вот барыня приказ дала: «Мужики хотят землю пахать — скажи им: пашите все пары — никто вас не тронет! Пускай, говорит, сами разделят на полосы, и не мешай им…» Не верите? Ей, честная речь, не вру…
Ванька Юлёнков метался среди мужиков.
— А я-то как же, мужики? Ведь у меня лошади-то нет Чего я делать-то буду? Чай, и я свою долю пахать хочу Побегу сейчас в стадо — корову домой пригоню и в соху запрягу.
Над ним смеялись и покрикивали:
— Ну и беги! Чего тормошишься? Торопись, а то все поле разберут.
И он в самом деле пустился бежать по меже к селу.
Мужики недоверчиво глядели на Дудора, озабоченно переглядывались и бормотали:
— Пашите, мол… а сам зубы скалит… Чего-то задумал…
— То-то и оно… Поверь ему, а он всех под одну статью подведет. Зубы скалит, а камень за пазухой.
— У него не камень, а нагайка: всех пересчитает. Барыня, бает, наказала, приветить нас велела…
— Блудит… оттого и зубоскалит. Он объездчик: сохранять должон… Неспроста, шабры. Держись, да помни.
Петруша подошел к коню Дудора, потрогал подпругу и краешек кожаного седла.
— Ты, Дудор Иваныч, прямо скажи, без подковырки чего ради ты такой веселый да приветливый? Какую ты с барыней мужикам ловушку устраиваешь? Гляди, как бы потом худа не вышло.
Дудор даже на стременах поднялся от обиды. Обветренное и загорелое его лицо стало недобрым, а жуликоватые глаза пристально уставились на Петрушу. Потом он скользнул подозрительным взглядом по толпе и вдруг опять засмеялся.
— За кого ты меня считаешь, Петя? Разве я против мужиков зло имею? Мы с тобой не первый день в дружках ходим… Когда это я приезжал к тебе с злым умыслом? Я человек маленький, наемный, мне рассуждать не дадено: что хозяин прикажет, то и исполняю. Сказано мне: пускай мужики пашут! Я и встретил и объявляю вот: пашите, сделайте милость!..
И тут же склонился к Микитушке, как к старому приятелю:
— Ядреный квас старушка твоя делает, Микита Вуколыч. Заеду отсюда к ней и сразу два ковша выпью. Особенно он вкусный и жгучий, когда тебя дома нет: больно уж много ты учишь. Я человек веселый, плясать люблю, а в твою веру не пойду. Скучная твоя вера — все, мол, обчее да все сообча… Заместо молитвы да чтения старых книг — вдруг, нате, всю деревню взбулгачил!.. Шучу, шучу, Микита, Вуколыч, не серчай… Люблю тебя и бывать у тебя люблю…
Микитушка добродушно улыбнулся и с гордой словоохотливостью провозгласил:
— За правду, спроть лжи, я и вожаком пойду и нищеты не убоюсь и гонения. Мученик Аввакум не убоялся правду царю говорить, не отступил и от костра. Митрий Стоднев лжой, деньгой и лихоимством землю эту от мужиков отторгнуть хочет, а барин с ним вместе в обман мужика вводит. Это наша земля, возделанная нашим трудом. А в труде-то и есть правда. Вот мы эту землю, кровью и потом политую, не хотим отдавать разбойнику.
Мужики взволнованно зашумели и еще теснее окружили Микитушку. А Микитушка уже гневно поднял руку, и глаза его загорелись от возбуждения.
— Мы костьми ляжем, а землю эту не отдадим. Нельзя землю от труда отторгнуть: в ней дух наших отцов и прадедов. И мы ей кланяемся и лобызаем телом и душой.
И, по-стариковски тяжело опустившись на колени, ткнулся густоволосой головой в землю. Это было так неожиданно и потрясающе просто, что мужики растерялись. Кто-то крикнул:
— Микита Вуколыч! Милый! Ни в жисть… Не убьем души…
Лошадь Дудора испугалась, захрапела, запрыгала на месте. Петруша стоял впереди один и смущенно улыбался.
Объездчик наклонился к нему и сердито пробурчал:
— Иди-ка, Петя, от греха. Сейчас же уходи. Зачем ввязался в эту дурацкую кашу?
— Нет, Дудор Иваныч, не уйду. Я подлецом еще не был.
— Ну, сам на себя пеняй, ежели башки своей не жалеешь.
Потом сделал опять веселое лицо и крикнул, поблескивая крупными зубами:
— Микита Вуколыч, не мне тебя учить, а лошади-то моей тебе кланяться не подобает. Ты скоро не то что от попа, а и от Стоднева весь народ отобьешь. За тобой, как за святым тянутся. Пашите! Я препятствовать не буду.
Дудор ткнул в бока иноходчика каблуками, и лошадка рысью побежала по полю, взметая копытами пыль и комки земли.
Микитушка поднялся на ноги и с той же торжественностью в лице и блеском в глазах призывно крикнул:
— Ну вот, мужики, приехали! А приехали — пахать надо.
Дружнее держитесь, не разбредайтесь. Июда Христа предал на казню, а ежели кто июдой окажется посредь нас и всех погубит — и сам погибнет…
Его слушали молча и истово, как в моленной: ему верили и считали человеком, который никогда не отступится от своего слова.
— Ну, с богом, шабры! — уже будничным и озабоченным голосом сказал он. — Разделимся по жеребью — кому какой клин достанется…
Кто-то робко спросил его:
— Микита Вуколыч, вот ты… рапоряжаешься: кому какой клин по жеребью пахать… А потом как?.. Чего потом-то будет?.. Вспахать-то вспашем, а тебе по шее накладут и руки свяжут… Им, супостатам, верить нельзя…
Микитушка улыбался и с сияющей верой в глазах глядел куда-то через головы плотной толпы.
— Маловерный! Разве всю деревню свяжешь? Соломину муха сломит, а сноп и лошадь не раздавит.
И опять тот же голос с убеждением возразил:
— Сноп-то, Микита Вуколыч, топор сечет… то-то!
Может быть, многие и пристали бы к этому недоверчивому голосу, может быть, многие в душе думали так же, как он, но в словах и голосе Микитушки так много было веры в правоту дела и так каждому хотелось видеть эту землю своей, что никакие опасения больше не тревожили их.
По лицу отца я видел, что он совсем не сочувствовал этому сборищу и заранее решил уехать домой при первой же возможности — так, чтобы никто не заметил. Стоял он в сторонке и теребил свою редкую бороду.
Проникновенный разговор Микитушки с объездчиком и трогательный поклон земле еще больше возвысили его в глазах мужиков. Даже отец, несмотря на свое упрямство, взволновался и подошел ближе к нему. Ему самолюбиво хотелось быть впереди всех, рядом с Микитушкой, и тянуло уехать, чтобы не накликать на себя беды. Так он вел себя до той минуты, когда Микитушка громко возвестил, что пора заезжать на свои десятины и пахать без опаски. Петруша разорвал лист бумаги на маленькие квадратики и написал на каждом из них место и положение клина. Квадратики эти он свернул в трубочки и положил в картуз. Белолицый, румяный (загар не приставал к его коже), он широко и душевно улыбнулся и поймал меня своими веселыми глазами.
— Иди-ка сюда, Федя! — приветливо крикнул он и поманил меня пальцем. Будешь вынимать билетики.
Я хотел было с радостью броситься к Петруше, но рука отца вцепилась в мое плечо.
— Пшел на телегу! — с испугом крикнул он на меня. — Тебя еще здесь не хватало.
Петруша с упреком поглядел на отца и покачал головой К нему подскочил Кузярь и потребовал:
— Я буду вынимать. Федьке не велят, а я — самосильный…
Мужики дружно засмеялись.
Петруша начал выкликать по бумаге мужиков по именам и фамилиям, а Кузярь засовывал руку в картуз и вынимал бумажную трубочку. Когда Петруша вызвал отца, он глухо отозвался издали:
— Я погожу, Петр Степаныч…
Мужики заворошились:
— Чего это годить-то? Приехал — так от мира не отбивайся. Гляди, Вася, как бы не просчитаться. Записывай, Петя, за ним в списке-то! Не отвертится.
Вызвали Ларивона, но он уже ускакал далеко, к проселочной дороге на Синодское — на тот клин, который он когда-то арендовал у барина. Мужики недовольно заворчали, но Петруша ошарашил всех: по билетику оказалось, что Ларивон начал пахать именно гот самый участок, какой вынул ему Кузярь. Это сначала всех озадачило, а потом развеселило. Петруше не досталось ничего: свою фамилию он не выкликнул.
— А мне, шабры, ничего не надо: я ведь скоро на сторону уезжаю. Я уж и избу свою продал, и скотину со двора увели.
Он опять хорошо улыбнулся, оглядел всех доверчиво и душевно и передал бумагу Микитушке, а сам отошел в сторону.
Все стали разбегаться к своим телегам и сохам. Отец хмуро и неохотно пошел к телеге, где я лежал, уткнувшись в солому. Откуда-то издалека доносился голос Микитушки, строгий и добрый.
Отцу достался участок рядом с Ларивоном и Миколаем Подгорновым. Он был, очевидно, очень доволен, потому что неожиданно запел на седьмой глас: «Всяк человек на земле живет, яко трава в поле цветет».
— Не плачь, сынок, — вдруг утешил он меня благодушно. — Тебе еще рано связываться с мужиками: случится какая беда, тебя таскать бы стали. Пущай Кузярь отвечает своими боками.
В тот час мне невыносимо было слышать голос отца.
Телега остановилась. Отец спрыгнул на землю.
— Слезай, сынок: пахать будем. А то, пожалуй, валяй-ка домой!..
Недалеко от нас остановилась телега Миколая Подгорнова, бывалого мужика. Отец подошел к нему, и они начали о чем-то тихо разговаривать. Потом Миколай покровительственно похлопал отца по плечу.
— Тут, Вася, не без подвоха: я всякие виды видал. Как это барыня пахать позволила?.. Да и объездчик больно уж нахально зубы скалил… Давай поваландаемся маленько, погодим, что будет, а потом — лошадей в оглобли и по домам…
— Я уж давно, Миколя, сметил, — засмеялся отец, — тут капкан. Перепишут всех — и к становому. Становой-то обязательно прилетит, как волк на баранов. Удирать надо, Миколя, на Волгу.
— Вместе, Вася, поедем… Бросай все и удирай без оглядки. Мы с тобой в Астрахани в извозчики поступим, на пролетках ездить будем. Люблю по городу на рысаках ездить.
Блестит пролетка, как жар горит, а купец тебе — на чаек, а кутилы пятишнами кидаются.
Всюду, до самого Березова, плелись по полю лошаденки, а мужики, низко наклонившись над сохами, шагали за ними, спотыкаясь, как пьяные.
Над полем до самого горизонта плыли зеркальные волны, и казалось, что эти поля — лазурное озеро, которое плескалось серебром и жаром. А в звонкой синеве неба всюду переливались жаворонки. Коршуны очень высоко парили, _ кружась на распластанных крыльях, и не могли догнать друг друга. И среди этой горячей тишины за зеленым морем озимей Красный Map пылал на солнце таинственно и величаво, как могила какого-то сказочного богатыря.
Ларивон пахал неподалеку. Он упирался в ручки сохи, которая волной отворачивала землю, и, вытянув шею, смотрел в борозду, по которой шагала лошадь. Борода его отдувалась ветерком в сторону, а волосы падали на лицо.
Костлявая лошадь едва тащила соху и горбилась от натуги.
Голодные грачи уже перелетали по свежей борозде вслед за Ларивоном и алчно долбили рыхлую землю. А когда я подошел к этим плисовым бороздам, на меня пахнуло теплым ароматом только что поднятой земли. Ларивон пахал жадно, горячо: казалось, что он торопился, что он старался помочь своей кляче, напирая на соху. Он спотыкался, босые ноги его скользили и проваливались в борозду, и он бесперечь подгонял лошаденку и криком и кнутом. Видно было, что в нем клокотало волнение человека, который дорвался до большой работы на своей десятине, захваченной им по праву. Зная его необузданный нрав, я уже видел, что он не возвратится домой до тех пор, пока не распашет весь клин.
Он может надорвать лошадь, сам упадет от усталости, но не будет отдыхать, забудет о еде и не ляжет под телегой.
Он не заметил меня, когда доехал до дороги и повернул лошадь необычно ласковым криком:
— Но, но, милая, поворачивайся, пегашенька!.. Потрудись, дорогая моя!.. Гляди, какое нам с тобой раздолье досталось… Нет, нет, лошадушка, это наше добро… наше!
Трудовое!..
Он переложил на другой сошник сверкавшую палицу и врезал соху в землю, мохнатую от травы. Вспененная земля отваливалась в сторону и засыпала траву. И я понял, что и в труде людей охватывает неистовство, которое делает их счастливыми.
Отец и Миколай пахали спокойно, медленно, лошади у них шагали как-то нехотя, отмахиваясь хвостами и покачивая мордами. Отец и здесь шел за сохою, скосив голову на плечо, а Миколай весело покрикивал на своего конягу и часто останавливался, чтобы счищать землю с палицы.
И по всему широкому полю в волнах марева, между ярко-зеленых озимей, в дымчатом цветении травы, в разных местах, далеко и близко, сгорбившись, шагали за сохами другие мужики. Издали видно было, что они работали хорошо, легко и охотно, не как подневольные люди, и охвачены общим подъемом. Чувствовалось что-то праздничное, и даже мне, малолетку, передавалось это волнение от порыва к свободному труду.
В глубокой вышине переливались невидимые жаворонки, и в душе у меня тоже звенели песни.
XXXVIII
Отец приехал к вечеру, черный от пыли, с налитыми кровью глазами. Он распряг мерина у плетня, около открытых ворот, снял с него узду и зашлепал по костистому его заду. Мерин утомленно и грустно зашагал под навес. Отец умылся под глиняным рукомойником у крыльца, вошел в избу и молча сел у края стола, по которому густыми стадами ползали мухи. Дед храпел на кровати, бабушка, по обыкновению, возилась в чулане, а я на полатях читал.
Надо мною на потолке суетились тараканы, сбивались в кучки и смотрели на меня с пристальным интересом черными крапинками своих глаз, играя длинными усиками.
Мать и Катя пололи коноплю на усадьбе.
Бабушка вынесла из чулана глиняную чашку квасу с луком и краюшку хлеба.
— И чего это вы, окаянные, затеяли? — заворчала она. — Кто это вам, дуракам, землю-то приготовил? Вот налетят черные вороны, они вам бороды-то выдерут… Эка, свою землю бросили — на чужую накинулись!..
Отец угрюмо смотрел в чашку, хлебая квас, и молчал.
Дедушка проснулся и строго осадил бабушку:
— Как это чужая?.. Это наша земля испокон веку. Она по большому наделу нам должна отойти. Малый-то надел на время нам дали. Завтра опять выезжай, Василий, чуть свет. Где нам полоса-то досталась?
Отец стал тереть ладонями глаза.
— За околицей, у дороги в Синодское. Завтра я не поеду, батюшка.
— Это как гак не поедешь?
Дед сел на кровати. Брови его поползли на лоб.
— Под арапник, батюшка, спину подставлять не буду. А ежели хочешь — сам паши.
Отец бросил ложку, вскочил из-за стола и выбежал из избы. Дед сразу сгорбился, как от удара, у него затряслась борода.
— Мать! Анна! Видала, как сын-то своевольничает?
Бабушка с неслыханной смелостью, без обычных стонов набросилась на него сварливо:
— А кто кашу-то заварил? Пошел в вожаках на барский двор. А когда до дела дошло — на кровать. Поясница заболела! Хитрить-то хитришь, а за сыновней спиной спрятаться хочешь.
— Молчать, квашня старая! — взвизгнул дед и кубарем слетел с кровати.
Он схватил сапог и бросил его в бабушку. Она отклонилась, и сапог вылетел в открытое окошко на улицу. Я не утерпел и засмеялся: в этот миг дед показался мне потешным, совсем нестрашным старичишкой, которого бабушка могла бы схватить за шиворот и тоже выбросить в окно.
Он топал босыми ногами и захлебывался от злобы.
— Ступай сюда! Снимай волосник! Я тебе сейчас все косы выдеру… Кому говорю!
Бабушка покорно сняла платок и волосник и заплакала Тяжелыми шагами она побрела к деду. Я крикнул всей грудью и застучал кулаком по доскам полатей:
— Не ходи, баба! Не подходи и пинни его!
Но бабушка подошла к деду и покорно наклонила голову. Он вцепился в ее жиденькие косы и стал рвать их из стороны в сторону. Я кубарем слетел с полатей и без памяти вцепился в руки деда.
Вошла Паруша, огромная, уверенно спокойная. Она не забыла положить перед иконами три истовых поклона и сказала:
— Здорово живете!
И с суровым гневом в умных глазах подошла к дедулке и оттолкнула его в сторону. Я ткнулся головой в пропахшее потом мягкое ее тело.
— Прожил век, Фома, а ума не нажил. Эка, седой болван, на малолетка напал! А ты, Анна, как курица, только квохчешь…
— Да ведь дедушку-то он, Паруша, за руки схватил перечил… Вздумал, постреленок, меня от дедушки отбить.
Чего он понимает-то?
— Значит, понимает, коли, тебя любя, не убоялся на защиту встать… Эх, Фома, Фома, дубова голова!.. Аль забыл. чему нас Евангелие-то учит: «Будьте как дети… не препятствуйте им приходить ко мне, яко таких есть царство небесное…» Да такого паренька на руках надо носить, в передний угол сажать…
Она прижала меня к себе, как маленького, и за руку повела из избы. А за воротами погладила меня по голове и заколыхалась от смеха:
— Ну и буйный ты, лен-зелен! На дедушку войной пошел. Ах ты, Аника-воин!.. Уж ежели туго придется — ко мне беги али меня кричи: выручу. По мне, лучше ты в ноги ему поклонись: он тогда и отмякнет…
— Не поклонюсь, — с угрюмой обидой огрызнулся я. — Он только одно и делает, что дерется да ногами топает.
Глаза бы на него не глядели… Мы скоро от него в Астрахань уедем. Он, дедушка-то, тятю пахать завтра барскую землю посылал, а тятя говорит: «Я под арапник не хочу спину подставлять…» — и убежал. Бабушка-то тоже стала дедушке выговаривать. Он позвал ее и косы стал драть.
Паруша опять затряслась от смеха и пробасила с веселым блеском в глазах:
— Позвал, баешь, а она, как овца, подошла?
— Подошла да еще сама платок и волосник сняла.
Паруша уже не смеялась, а с пристальной строгостью поглядела на меня.
— А ты еще маленький, чтоб судить стариков, еще не свой хлеб ешь. Вот когда узнаешь, как труд-то труден да пот солен, тогда и человеком будешь. На-ко вот тебе лепешку на сметане. Забыла отдать-то.
И она опять ткнулась своими серыми усами в мое лицо.
— Баушка Паруша, я к тебе ходить буду и книжки читать…
Она охнула от радостного удивления и шлепнула себя руками по бедрам.
— Милый ты мой! Ковыль шелковый! Радость-то мне какую припас! Приходи, золотой колосочек, когда хочешь, тогда и приходи. А я тебе всякие сказанья сказывать буду, чего знаю, чего ведаю.
Она напоминала мне бабушку Наталью своей жизнерадостностью, мудростью и нежностью своего сердца. Но бабушка Наталья была слабой, измученной жизнью, обиженной людьми старушкой, которая и умирала одиноко, без всякой жалобы. А Паруша никому не давала себя в обиду, и гордость ее — гордость здоровой женщины, которую не сломит никакая беда и напасть, — гордость ее подавляла всех мужиков. Ходила она не по тропочкам, около изб, а посредине улицы, с толстой палкой в руке, высоко подняв голову и выпятив грудь. И все кланялись ей почтительно.
Молча и строго она отвечала на поклоны, также низко и уважительно. Не пропускала ни одного мирского схода и являлась с палкой в руке наравне с другими стариками и пробиралась в самую середину — к столу, за которым начальственно сидели краснобородый Пантелей и Павлуха-писарь Таких женщин я встречал потом не одну: это были простые труженицы, самоотверженные подвижницы, с крепким характером, с великой душой, с большой любовью к жизни и людям. Но Паруша всегда поражала меня своей силой и независимрстью. Когда я думал о Паруше, всегда представлял ее могучей телом, с уверенно поднятой большой головой, с полынными глазами, в которых таились умная усмешка и мудрая суровость А сколько было доброты и нежной ласки в зорких ее глазах и улыбке, когда она возилась с детишками или привечала меня! И я вспоминал, как она одна укротила мирского быка, который бешенствовал на улице и разогнал людей по домам, как гордо она осадила станового в моленной и даже не взглянула на него, как безбоязненно стала она на сторону Микитушки, когда Стоднев заставил мужиков отлучить его от общины и вывести из моленной. Только в тетке Кате, озорной девке, угадывал я ту же силу и упорство характера Недаром Паруша так дружелюбно относилась к ней и зазывала к себе для каких-то разговоров наедине.
Велика сила русской женщины, и безмерны ее терпение и вера в жизнь, если она сохранила и пронесла через рабство и бесконечные страдания свою живую и богатую душу!.. Такие женщины воплощены народной фантазией в образе Девицы-Поляницы и Василисы Премудрой.
На другой день мужики опять выехали пахать барскую землю, но дед никого из парней не послал в поле, а сам весь день провозился с Титом и Сыгнеем на гумне — чинили половешку и поправляли навозные насыпки у прясла. Отец уехал сеять овес на своей надельной полосе у межи, которая отделяла нашу деревенскую землю от земли соседних Ключей. На этой меже у дороги стоял полосатый столб с полусгнившей доской наверху, на которой едва можно было разобрать шершавые буквы:
СЕЛО ЧЕРНАВКА
Дворов — 67
Душ — 252
Село Ключи было в двух верстах от нашей деревни и стояло на столбовой дороге от Саратова в Пензу Оно было хорошо видно от наших гумен избы длинным порядком тянулись вдоль дороги, в густой зелени садов. На левом конце стояла высокая каменная колокольня, а около нее барский двор с толпой надворных построек; на другом конце большая старая изба — почтовая станция с обширным заезжим двором и конюшнями для почтовых лошадей.
В этом ключовском барском доме и жил тот барин Ермолаев, которого я видел зимою вместе с Измайловым на кулачном бою.
Митрий Степаныч прискакал из города на второй день, веселый, форсистый, в легкой поддевке и касторовом картузе Он легко прошел в кладовую вместе с Таненкой и пел свой излюбленный ирмос. «Иже глубинами мудрости человеколюбие вся строя и иже на пользу всем подавая…» Вскоре к его дому прискакал объездчик Дудор, соскочив с седла, бойко влетел на высокое крыльцо и скрылся в лавке. Пробыл он у Стоднева недолго и вышел красный, с осовелыми глазами. Он ловко и легко вскочил опять в седло, ударил нагайкой иноходчика и помчался обратно на барский двор.
Вслед за ним поехал на плетеном тарантасе и Митрий Степаныч. А на третий день к его крыльцу подъехал с колокольчиками становой с двумя верховыми полицейскими. Вечером, когда мужики приехали с поля, побежал по селу от окна к окну десятский с палкой и завыл надорванным голосишком:
— Хозявы, на сход идите!. Становой приехал… Барин прибудет… Идите сейчас же… да чтоб ни у кого брюхо не болело…
Мы сидели за ужином и, по обыкновению, молчали. Отец сидел на краю стола и не отрывал угрюмых глаз от ложки. Когда раздался стук в ставень и заскрипел надсадный голос десятского, отец быстро вышел из-за стола и скрылся за дверью. Дедушка перекрестился и с ужасом в глазах оглянулся на окно.
— Невестка, скажи Васяньке, чтобы на схоз шел. Я на ногах не держусь: всю спину разломило.
Бабушка с сердитым упреком сказала:
— Иди, иди, отец. Не с тебя, а с других спросится: ты на поле не ездил. А Васянька в тот же день домой воротился.
Иди с молитвой, надень полушубок и валенки, — с недужных взять нечего.
Дед послушно вылез из-за стола и, охая, больным шагом побрел к кровати, накинул полушубок, бабушка достала с печи валенки, и он зашаркал в них к двери.
— Анна, — слабым и кротким голосом проговорил он, опираясь о косяк, возьми лестовку, помолись перед Спасом… свечу затепли…
— Иди с богом, отец, помолюсь.
Как только он прошел мимо окон, все сразу же засмеялись. Катя хохотала громче всех и выкрикивала:
— Вот так дому голова!.. Ведь как притворился-то!.
Я — не я, и лошадь не моя… Ты бы, мамка, его на сход-то на руках отнесла… Со своими-то ох какой грозный, а дошло до дела — караул! «Анна, помолись!..»
Смешливый Сема сполз под стол и визжал там, как поросенок. Мать смеялась несмело, с оглядкой, с мучительной судорогой в лице. Даже бабушка тряслась всем телом, зараженная смехом детей. Только Тит изо всех сил старался быть недовольным, но и его разбирал смех. Чтобы заглушить в себе клокочущий хохот, он хмуро угрожал:
— Ежели б тятенька услыхал, он вам холки-то набил бы… Над тятенькой грех смеяться… да еще над хворым…
Катя сделала испуганное лицо и высунулась из окна.
Растерянно и встревоженно она хлопнула себя руками по бедрам и упавшим голосом крикнула:
— Титка, беги! Сейчас же беги! Тятенька-то как пьяный, качается. Поддержи его под руку и тихонько веди на сход-то.
Бабушка не на шутку забеспокоилась и застонала:
— Иди, Тита, помоги отцу-то. Беда-то какая!
Тит нехотя вылез из-за стола и заныл:
— Да-а, иди вот… Обижать-то его вы с браткой горазды, а я — веди-и… Я вот нажалуюсь ему, как вы над ним смеялись.
Катя озорно подмигнула матери и с кроткой угрозой заторопила Тита:
— Знамо, пожалуйся… Иди-ка, иди!.. А то я тятеньке-то глаза открою, как ты по клетям да амбарам, как мышь, елозишь да в норки свои по зернышку тащишь…
Тит побледнел и опрометью выбежал из избы. Когда пробегал мимо окна, погрозил Кате кулаком.
— Я тоже знаю… Знаю, как ты Яшку-то Киселева закрутила…
— Ну, то-то! — весело подбодрила его Катя. — Вот мы с тобой и квиты — И раскатисто захохотала. — В кого это он, мамка, такой сквалыга уродился? Все тайком, все молчком, везде шарит, как воришка, да тащит в разные потайные места. А притворщик-то какой! Тятеньку-то вокруг пальца обводит…
Бабушка с безнадежной скорбью отмахнулась от нее.
— Ты уж молчи, Катька. Сама-то как кобыла необъезженная лягаешься, и узды на тебя нет. В нашем роду и девок таких не было.
— Значит, надо было, чтоб такая уродилась. Да уж одром и батрачкой не буду и всякий кулак обломаю.
Мать не отрывала от нее глаз и любовалась ею с завистливой печалью и восторгом в глазах. Бабушка тряслась от смеха, но сокрушенно бормотала:
— Девки-то все статятся, все норовят быть скромницами, а ты, как Паруша, не в пример мужику — охальница…
— Да, уж ездить на себе никому не дам… Вот к Киселевым в семью войду — сама хозяйкой буду.
Бабушка в ужасе замахала руками.
— Что ты, что ты, Катька!.. Постыдилась бы… Аль тоже эдак девке держать себя?
— Ну уж, мамка… помру, а не допущу, чтобы меня заездили, как невестку. Погляди на нее: всю изломали да испортили… и на человека не похожа. А девка-то была какая!
И певунья, и звенела, как колокольчик. Краше баушки Паруши и бабы нет: у ней только уму-разуму и учиться.
Мать поднялась из-за стола с тоской в глазах, залитых слезами.
Сема незаметно исчез из избы. Я выбежал на улицу и пустился по луке к пожарной. Там уже шевелилась и гудела большая толпа мужиков, а с разных сторон — и с длинного порядка, и с той стороны — по двое, по трое все еще шагали старики с подогами в руках, в домотканых рубахах и портках. Вечер был тихий, на западе горела оранжевая пыль, а на востоке, за нашими избами, небо синело свежо и прохладно. Красные галки устало летели на ту сторону, в ветлы, и орали. Внизу ссорились лягушки: «Дуррак, дуррак!..» «А ты кто такая?..» С крутой горы на той стороне, мимо избушки бабушки Натальи, поднимая пыль, сбегало стадо коров и овец. Они разбредались в разные стороны по горе и низине и мычали. Одни из них шли к реке, на наш берег, другие останавливались и щипали траву. Бабы и девчата хлестали их по спинам и торопили домой. Кое-где певуче манили девичьи голоса: Бара-аша, бара-аша!..
Но ни говор толпы у пожарной, ни крики девчат, ни кваканье лягушек на речке не беспокоили той вечерней тишины, которая как будто спускалась в эти задумчивые часы с неба и плавно оседала на землю. На усадьбах, за длинным порядком, у гумен, очень четко крякал дергач, и ему отвечала откуда-то издали перепелка. И на пепельно-красном клубастом облаке, которое густо поднималось из-за соломенных крыш, два черных ветряка тянулись к небу, словно руки в длинных рукавах молили о пощаде. И когда я стоял и смотрел на эти неподвижные крылья, я вспоминал об убитой Агафье Калягановой и о матери, которая стояла перед ней с поднятыми руками и с широко открытыми глазами, полными страдания.
Мимо пролетел серый барский жеребец в яблоках, запряженный в дрожки. На них верхом сидел Измайлов с выпученными глазами, натягивая красные вожжи. Позади прижимался к его спине Володька. За ними в плетеном тарантасе — становой вместе с Митрием Степанычем.
Измайлов ловко осадил жеребца, легко соскочил с дрожек и бросил вожжи в руки Володьки. Он приложил искалеченную ладонь к белой фуражке и строго, по-солдатски крикнул:
— Здорово, мужики!
В ответ Измайлову вздохнул разноголосый гул. Становой картуза не снял, не поздоровался, а широкими шагами прошел к столу, где почтительно стояли староста Пантелей и писарь Павлуха. К становому подскочил сотский с шашкой на боку, в пиджаке, в сапогах и, отдавая честь, что-то пробормотал ему, выкатывая белки. Измайлову очистили дорогу, и он стал около стола, оглядывая толпу строго и насмешливо. Митрий Степакыч прошел тоже ближе к столу и скромно стал за спиной Пантелея.
На тесовую гнилую крышу жигулевки сел сыч, потрепал крыльями и пронзительно крикнул: «Ку-ку-квяу!» И все почему-то повернули головы на этот крик.
Это был необычный сход: мужики стояли хмуро и опирались на толстые колья, а старики сгрудились отдельно с клюшками и подожками. Без палок стояли дедушка и Петруша Стоднев. Колья с шершавой корой вонзались в траву, стояли частоколом и как будто отделяли мужиков от начальства.
Пристав выпучил глаза на колья и, указывая на них пальцем белой перчатки, что-то лаял старосте в бороду. Потом прохрипел:
— Это что такое за канальи? Поч-чему приперлись сюда с дрючками, как разбойники с большой дороги?
Мужики угрюмо молчали, и мне показалось, что они вцепились в колья еще крепче.
— Кому говорю? Перед кем стоите с дрючками? Мерзавцы! — Он подскочил к Ларивону, рванул у него кол из рук. — Долой, дрючок, негодяй!
Мужики заворошились, загудели и зашевелили кольями.
Ларивон рванул кол к себе.
— Отойди, становой!.. Отойди от греха!..
И, большой, тяжелый, напер на пристава. Кто-то потащил его назад.
— Эт-то что так-кое, подлецы? Бунт?..
Но Измайлов вдруг скомандовал:
— Назад, становой! Успокойтесь! Прошу не бушевать.
Я не вижу никакого бунта.
Он судорожно затеребил изуродованными пальцами седую бородку и с треском в голосе набросился на мужиков:
— Кто это вбил вам в башки дурацкую мысль, что моя земля — это ваша земля? С неба вы, что ли, свалились? Ну, что же, похозяйствовали два дня, подняли зябь… Правильно! Вовремя! Пожертвовали пахотой на своей земле. Хорошо! Трогательно! — И глаза его нагло смеялись, оглядывая головы мужиков. — Спасибо, братцы, за работу! Услужили!
Земля теперь не барская и не ваша, а Стоднева. Вот он, прошу любить и жаловать. Он же вас и отблагодарит, как ему понравится. Всё! А самоуправством не занимайтесь: невыгодно — в дураках останетесь, как сейчас.
Мужики загудели, и отдельные голоса выкрикнули:
— Наша земля!.. Деды и прадеды на ней трудились!
— Барин, ни тебя, ни Стоднева не допустим… Где слово-то твое?.. Сулил, играл с миром-то…
— Драться будем, барин!.. Без кольев не обойдется!..
Измайлов засмеялся и с дребезгом в голосе обратился к Стодневу:
— А теперь, Стоднев, сам умиротворяй народ. Это же твое стадо.
Митрий Степаныч, бледный, с затаенной улыбочкой, шагнул к столу.
— Мужики, чего это вы? Как же это вы бога-то не боитесь? Разве можно на сход с черными мыслями являться?..
Господь-то все видит и не спустит нечестивцам. Тут дело полюбовное, законное. А где это видано, чтобы с кольями спроть закона идти?.. Бог не потерпит этого греха, мужики.
Толпа забунтовала, зашевелила кольями, замахала руками. Бородатые лица с ненавистью уставились на Стоднева, и казалось — сейчас люди бросятся на него и замолотят дрючками. Митрий Степаныч смущенно улыбнулся и сокрушенно махнул рукой.
Измайлов быстро, как молодой, вышел из толпы, вскочил на дрожки и рысью поехал обратно.
Мужики проводили Измайлова враждебными взглядами.
Кто-то надорванно крикнул:
— Это как же, мужики? Дураками были, а сейчас дураки вдвое? Эх, пеньки, слюни распустили!.. С кровью ведь землю-то отдирают…
Миколай Подгорнов шлепал по спине лохматого Ларивона и задиристо посмеивался:
— Ну-ка, Ларивон Михайлыч, ликуй ныне и веселися!..
Хотели в рай, а попали на край, где горшки калят… Поздравили вас и отблагодарили… Уж больно ты с охотой пахал-то!.. Прямо земля кипела…
Ларивон злобно сжал кулаки.
— Молчи, шабер! Не вводи в грех… на убой пойду…
Между мужиками метался Кузярь и, сцепив оскаленные зубишки, скулил сквозь слезы:
— Бунтовали, черти… стеной шли… На кулачках деретесь, а тут башки в землю…
Его толкали и угощали подзатыльниками.
Хрипло лаял усатый становой и, потрясая нагайкой, таращил на мужиков глаза.
— Ах вы, рыла овчинные!.. Туда же, бунтовать, чужую землю захватывать… Я вас проучу… в бараний рог согну.
Ну-у! Кто здесь у вас заводила? Ведите его сюда, прохвоста! Ну? Кому приказываю?
Мужики тяжко молчали и не шевелились, загораживаясь от него кольями. Становой свирепо ворочал белками и хлестал нагайкой по столу. Староста стоял, как слепой истукан, а высокий Павлуха тускло смотрел в ноги мужиков, и мне казалось, что он скучает. На речке, под яром очень отчетливо кричали лягушки: «Дуррак! Сам дуррак».
Одинокий голос выкрикнул:
— Мы все… миром… без заводилов… мы не заводные…
А землю не отдадим… Ноги Митрия там не будет…
Его поддержал глухой ропот толпы. Староста испуганно отпрянул назад и растерянно схватился за бороду. Митрий Степаныч скромно стоял в легкой черной бекешке за старостой и обиженно усмехался.
Становой хрипел:
— Это какой там кобель огрызается? Выходи сюда! Писарь, узнай, что это за мерзавец.
Но писарь не пошевельнулся, только скривил рот в кривой усмешке.
Среди гнетущей тишины голос Микитушки, твердый и безбоязненный, показался мне гулким.
— Ты, становой, народ не обижай. Народ тебе не скотина.
Пантелей сделал страшное лицо и замахал на него руками:
— Одурел ты, Микита Вуколыч. Уйди и молчи!.. Уйди от греха!
Но становой не взбесился, а ухмыльнулся и задергал пальцами усы.
— Ну, продолжай! Я так и знал, что ты пустишь свою мельницу. Ты, оказывается, не только проповедник, но и главарь. Прожил жизнь, старик, а ведешь себя как полоумный. Народ возмущаешь.
— Народ правды взыскует, — гулко оборвал его Микитушка. — А за правду я живота не пожалею. Зачем у него, у народа-то, этот живоглот землю уволок? Мы по добру и помилу землю-то у барина купить хотели, а он с кровью ее у нас отрывает… Ведь он из народа все соки выжмет — по миру пошлет… Как терпеть народу-то? Где правда-то?
— Вот она где правда, бородатый дурак!.. Я тебе покажу, какая это правда!
Становой рванулся к Микитушке и со всего размаху ударил его нагайкой. Толпа охнула и подалась назад.
Кто-то в отчаянии выдохнул:
— Братцы! Мужики! Порет он Мккитушку-то… полосует…
Ларивон бросился с колом к приставу.
— Не замай старика, становой! Башку размозжу!
Подскочил и Ванька Юлёнков, тоже с колом, и поднял его над головой. Лицо у него исказилось отчаянием. На них набросились полицейские и оттолкнули их назад. Но Ларивон и Юлёнков с дикими глазами рвались к приставу.
Становой, взмахивая нагайкой, кинулся к ним.
— Запорю, разбойники! Бунтовать? С кольями? В тюрьме сгною!
Петруша вцепился голой рукой в руку пристава и с улыбкой уверенного в себе человека сказал спокойно:
— Вы, ваше благородие, рукам-то волю не давайте. Разве можно старика бить? Старик правдивый… И вам ничего обидного не сказал.
— Ты кто такой?
— Я — Стоднев.
— Ага, это ты острожник и вор?
— Я не острожник и не вор. Вы это сами знаете, и нехорошо вам это говорить, как начальству…
Он выпустил руку пристава и шагнул назад, отталкивая Микитушку в толпу. И тут же строго приказал:
— А ты, Ларивон Михайлыч, и ты, Ваня, отойдите, не беситесь.
— Арестовать! — рявкнул становой. — Сотский! Староста! Сейчас же их на съезжую: я там с ними поговорю особо. А вы, бараны… вон по домам! Слыхали вы, что вам Митрий Митрич сказал? Землю вспахали — добро! Стоднев вам только спасибо скажет. А за то, что вы самовольно, скопом, по-бунтарски, — за это шкуры спущу.
Сотский Шустов пробрался к Микитушке и подцепил его под руку, но Микитушка оттолкнул его.
— Отойди, сатана!
И я увидел залитое кровью его лицо.
К Петруше сотский подойти не посмел, но стал позади него с грозным лицом, пожирая глазами пристава.
Ларивон не вытерпел и с воем бросился к Микитушке с Петр ушей:
— Микита Вуколыч! Петя! Чего это делается? Мужики, не давай! Мы все сообча… Миром пахали… все там были… а Микита Вуколыч да Петруша в ответе?
Он отшвырнул сотского в сторону, подхватил под руки Микитушку и Петрушу и повел их в толпу.
— Стой! — рявкнул становой. — Куда? Кто ты такой?
Урядник, сюда! Староста, писарь! Окружить всех троих!
И он с безумными глазами начал хлестать нагайкой и Микитушку, к Ларивона, и Петрушу. Явились двое урядников и вместе со старостой к сотским сдавили всех троих и схватили их за руки. Петруша странно улыбался и пристально смотрел на брата, который по-прежнему стоял у стенки сарая и скорбно качал головой.
Но произошла суматоха, словно началась драка: толпа с кольями сбилась в густую кучу, проглотила Микитушку с Петрушей и двинулась по луке вниз, к речке.
— Пошли, ребята!.. В поле пошли!.. Мужики, не отставай! Мы свое знаем…
— Пущай только нагрянут, мы их встретим гостинцами.
Кузярь, скорчившись, сидел на старых пожарных дрогах с баграми и лестницами и плакал.
Староста и урядники шагали обратно, всклокоченные и смущенные. Митрий Степаныч подошел к приставу и прошептал ему что-то в ухо. Становой дернул головой, сорвал фуражку, бросил ее на стол и усмехнулся.
— Превосходно! Очень умно, Стоднев!.. Пускай разбредаются по своим логовам. А тех, с кольями… я их, подлецов, всех перевяжу… выпорю и сгною… Староста! Поехали к Стодневу!
А ночью арестовали и Микитушку, и Ларивона, и Ваньку Юлёнкова. Петрушу не тронули. На мужиков в поле налетели верховые и разогнали их по одному. Ночью же и Ларивона и Юлёнкова избили и отправили в волость. Там продержали их три дня и отпустили домой.
Ларивон потом бродил с ведром браги и пьяно рыдал:
— Шабры! Люди мои милые!.. Сгиб наш Микитушка… за нас живот положил…
И он падал на землю и бился лохматой головой о пыльную дорогу.
С тех пор Микитушка пропал без вести. Старуха его вскоре умерла, а его будто бы сослали куда-то далеко, в Сибирь.
Жизнь опять пошла тихо и мирно. Мужики с бабами до солнышка уезжали в поле — мужики пахать душевые и арендованные клочки, а бабы — полоть просо.
Раза два я заходил к бабушке Наталье, но она лежала совсем маленькая, восковая, костлявая и не узнавала меня.
Горбатенькая Лукерья сидела безучастно за столом, вязала чулки и тоненьким старушечьим голоском читала наизусть псалмы или пела духовные стихи.
Когда я пришел во второй раз, она посоветовала мне:
— Ты простись с баушкой-то: она уже без языка ведь…
Ночесь бормотала, бормотала и тебя все звала… Тебя и Настеньку с Машаркой… Ты уж, милый, не ходи больше: не тоже в твои годы смертушку встречать. Поклонись баушкето… Сделай земной поклон и иди.
Я послушно ткнулся головой в пол у кровати и заплакал. Своим маленьким сердцем я больно пережил в эту минуту потерю близкого и родного человека. Бабушка Наталья как будто напутствовала меня своей богатой жизнью Она открывала передо мной необозримые просторы полей и дорог. Людям трудно живется: бедность, безземелье, барщина, притеснение от богатых… А ведь каждому радости хочется, каждому солнышко светит, для каждого земля — мать родная: и поит, и кормит, и творит всякие щедроты, и ласкает неописанной красотой… Жить бы, жить да ликовать… Только богатые да знатные все это добро-то отнимают у человека. От этого и страданья, и муки, и бездолье. Но не убьешь у человека его души, его мечты о счастье, его тоски о вольной воле…
XXXIX
Троицын день был девичьим праздником. Девки наряжались в яркие сарафаны, белые, красные, зеленые, и повязывали алые и желтые полушалки. Вся деревня цвела хороводами, и они похожи были на радужные вихри. В знойном воздухе с разных сторон волнами плескались песни. После обедни в церкви, когда отзванивали трезвон, девки и парни собирались на луке, а потом большой цветистой толпой с песнями шли мимо дранки через речку на ту сторону и по околице — в березовую рощу. Густой мохнатый лес тянулся по широкой лывине версты на две, и вековые березы спускали до самой земли свои зеленые космы. Хорошо было молчать и слушать шелест листьев и далекий лесной гул, как шум весеннего ливня. В зарослях молодых березок и осинок, в листьях которых пересыпались серебристые и голубые искры, весело было вспугнуть зайца, который убегал, вскидывая своим кургузым задом. Посвистывая, порхали разноцветные птички, стучали носом дятлы, как молоточками, и высоко в гущине ветвей и листьев пели флейточками какие-то давно знакомые птахи. Я очень любил этот березовый лес, его шум и влажный запах травы. Но ходить туда приходилось редко — только тогда, когда наши пахали барскую землю и жали хлеб. Один же я ходить туда не отваживался боялся объездчика Дудора.
В троицын день девки уходили туда вить венки и обряжать себя ветками березы. На дне лывины в обрывистом овражке звонко играл в камнях ручей. Зцесь много было родников, которые прорыли себе норки под обрывчиками.
Очень чистая вода выбивалась и по краям ручья, в тихих лагунках. Ключики сорошили мелкий песок и фонтанчиком бросали его до поверхности воды. Таких лагунок, запруженных галькой, было много по течению ручья. А в конце рощи, ближе к деревне, где лывина расширялась и становилась пологой, лагунки были похожи на прудики, и вода в них стояла густо, спокойно, зеркально, и в ней четко отражались облачка, синее небо и прибрежные кустики, трава и молодые березки. У этих больших лагунок собирались девки и парни, обряженные зеленью, вели хороводы и пели песни. Девки срывали с голов венки и бросали их в воду.
Венки плавали в прозрачной воде, и вода вышивалась рябью. Потом гурьбою с песнями, пляской возвращались домой: девки с венками на полушалках, а парни с зелеными ветками в руках. По дороге они хлестали девок, а девки визжали и убегали в сторону. Парни догоняли их и, обнимая, вели их обратно, нашептывая им что-то на ухо. В деревне девки шли не по луке, а по улице, тесной толпой, и пронзительно пели песни. За молодежью бежали ребятишки, любуясь уборами из цветов и зелени.
У ворот и на завалинках сидели старики и молодухи, а мужики стояли кучками и калякали о всякой всячине.
Молодухи глядели на девок, опутанных зеленью, с завистью.
В эту троицу Луконю-слепого нарядили девкой, и он так хорошо статился, так зыбко и мягко выступал и пел тоненьким голоском, что трудно было бы отличить его от девок, если бы не его белые глаза и не желтый пух на щеках и подбородке. Он потешал всех своими девичьими повадками и разговором и сам смеялся радостно и весело. Он ликовал и пел не только потому, что ему было занятно быть ряженым и играть девку, но и потому, что он веселит других, что смотреть на него прибежали на луку даже молодухи.
Все покатывались со смеху и, толкаясь около него, ласково спрашивали:
— Аль жениха искать в лес-то идешь, Луконюшка-девонька?
А он отвечал, по-девичьи скромно поджимая губы и вздыхая:
— Девушка я бессчастная, никто меня замуж не берет.
Пойду с вами, девоньки, в лес, сплету веночек, брошу его в лагунку. Может, и мне судьба женишка пошлет.
И в его певучем голосе была такая смешная печаль, что все задыхались от хохота. Смеялся и он и причитал:
— Размилые вы мои девушки! Подруженьки мои радошные! Дай вам господи счастья! Жить бы да радоваться… да слез не лить, да не надрывать сердечушко…
Эти причитания были так искренни, так задушевны, что невольно трогали сердца девчат, и они смотрели на Луконю растроганно. Но оттого, что все принимали слова его за игру, эта его сердечность и правдивая простота казались еще более потешными. Я впервые видел Луконю наряженным девкой. И цветистый сарафан, и полушалок, повязанный искусной девичьей рукой, и пышные рукава очень шли к его стройной фигуре, к мягкой походке, к неугасающей улыбке, которая чутко прислушивалась к чему-то неуловимому и недоступному для всех.
Когда цветистая гурьба девок пошла в Березов — в рощу, Луконя уверенно шагал впереди и высоким фальцетом запел песню:
Распашу я, молода-младенька, Землицы маленько… Я посею, молода-младенька, Цветику аленька…Все девки дружно подхватили песню. Парни отдельно шли позади. Они не пели, а весело смеялись, перекликались друг с другом, грызли семечки и форсисто рисовались перед девчатами. Они тоже надели пунцовые и белые рубахи и сапоги со скрипом, в которых щеголяли только в весенние и летние праздники. В толпе ребят был и кудрявый весельчак Сыгней, а рядом с Луконей шла Катя. Ее низкий сильный голос выделялся из всех голосов. Среди парней увидел я и Яшку Киселева, приземистого черномазого парня в длинном черном пиджаке, в плисовых шароварах. Он старательно грыз подсолнушки и сосредоточенно смотрел вперед, не принимая участия в веселой суете ребят. Тут же были и Крашенинниковы парни с черно-синими руками, которые поблескивали на солнце фиолетовыми вспышками.
По дороге они первые начали плясать на ходу, к ним сразу пристал Сыгней, и они, выделывая разные коленца ногами, разудало подпевали себе частым говорком какую-то плясовую канитель.
Мы с Кузярем увязались за ними. Он не мог оставаться без движения. Вот и сейчас он не утерпел и рванул меня за руку:
— Пойдем плясать! Я им покажу, как храбры молодцы перед девками красуются. Гляди, брат, как я налечу на них кочетом.
Нас, малолеток, парни и близко не подпускали к себе, а с девками мы сами считали неприличным для себя якшаться. Даже Тита женихи отгоняли от себя, а Сема был еще зелен, и он водился со своими ровесниками. У них все было несуразно — стыдились они баловаться и играть, как парнишки, и до женихов еще не доросли. Они играли в карты, в орлянку, в чушки или чехарду. А когда кто-нибудь из них пробовал лезть к девкам, его сердито отталкивали и орали: «Ах ты, бесстыдник! Еще материно молоко на губах не обсохло…»
Но Кузярю прощали его назойливость: он был хороший плясун и шустрый на язык.
Босой, с засученными выше колен портчишками, сухонький смуглячок, он побежал вперед и, высоко подпрыгнув, начал быстро писать ногами, наклоняясь, выгибаясь, поблескивая черными глазенками. Он мызгал среди плясунов, наскакивал на них петушишком, изображая руками крылья.
В сравнении с ним и Сыгней и крашенинники казались тяжелыми и неповоротливыми. А когда Сыгней особенно низко наклонился, пристально всматриваясь в свои аккуратные сапоги и с носков и с каблуков, Кузярь, как воробей, перелетел через него и завертелся юлой. Все раскатисто захохотали и стали подбодрять его. А ошарашенный Сыгней сначала рассердился, но Кузярь отвильнул от него, как пружинный, и пустился вприсядку. Сыгней засмеялся и сам залюбовался им. Крашенинники, приглядные парии, но с худыми, отравленными лицами, одетые по-городски (брюки навыпуск и штиблеты), оба одинакового роста, хотя и погодки, любили попеть. Должно быть, их работа в душной красильне, наполненной ядовитым паром, была изнурительной. Кузяря они как будто ждали.
— Ванюша! Миленок! Ух, мальчишка какой забористый! — поощрительно покрикивали они, похлопывая синими ладошами. — Ну-ка, распатроним ребят, а то они статятся, как девки. У девок Луконька-полудевка, а ты у нас жених Ивашка, аршин с натяжкой.
Крашенинники казались чужими среди наших парней и одеждой и говором, но их любили за приветливость, за дружелюбие, за хорошие песни, и они были завидные женихи. Жили они в семье дружно, и никто не слышал, чтобы у них были свары и раздоры между собою. Всегда они были в работе — то в красильне, то на дворе, где развешивали окрашенные холсты, или возились около вонючих синих куч. И если кто-нибудь проходил мимо их двора, они приветливо улыбались, громко здоровались и неизменно приглашали к себе в гости. С ними было весело, легко, приятно, и все около них как-то подтягивались — старались быть добрее, лучше, учтивее. Хотя они выросли в нашей деревне и их считали своими, но парни совестились сквернословить при них и не ревновали их к своим девкам. Да они как-то и не ввязывались в любовную игру ребят и не принимали участия в секретных их попойках где-нибудь на гумне или в роще. Наш Сыгней дружил с ними, хотя они ни разу не приходили к нам в избу: они были «мирские» и «щепотники» и, должно быть, поэтому избегали нашу старозаветную семью.
Сыгней распалился и уже всерьез стал спорить в плясе с Кузярем: он выделывал всякие замысловатые узоры и сапогами, и руками, и всем телом. Но Кузярь летал, как на крыльях. Он несколько раз перекувырнулся, как вертушка, прошелся на руках и прыгал выше головы. Крашенинники подпевали плясовую и сами выкидывали все новые коленца, обнимались, переплетались ногами, летали друг через друга. Остальные парни, зараженные пляской, с озорным криком тоже кидались в плясовую свалку. Даже смиренник Яшка Киселев не вытерпел и по-бабьи, не переставая грызть семечки, застенчиво перебирал ногами на ходу. Девки оглядывались и, сверкая зубами, старались сохранить свою пристойность.
В Березовом все рассыпались и потерялись в лесу, только всюду раскатисто перекликались голоса парней и девок.
Где-то и на том и на другом склоне лывины звенели песни девчат и обрывались смехом. Всюду посвистывали птички, играл внизу ручей в камнях, и невнятный шум, похожий на ливень, рокотал в лесу, не смолкая. Пахло березовым соком, травой и ландышами. В толпе белых стволов, которые в глубине казались непроходимо густыми и как будто блистали серебром, дышалось вольно, и на душе было хорошо — тихо и немного грустно.
Мы с Кузярем уходили все дальше в дебри леса и не знали, что нам делать, да и не было желания ни играть, ни проказничать, словно эта дремучая глубина жила своей таинственной жизнью, полной сказок и призрачных теней.
Воздух был зеленый, густой и пьяный.
— Давай на дерево залезем, — предложил мне Кузярь. — Ох, и люблю залезать высоко! Глядишь оттуда — словно ты на ковре-самолете. А кругом грачи, и думают про меня:
«Какая эта страшенная птица прилетела?»
Я тоже любил взбираться на высоту: поднимался между амбарами, которые стояли впритык. Упираясь босыми ногами в венцы ч держась пальцами за те же венцы, я лез до застрехи и смотрел вниз с замирающим сердцем. Забирался и на черемуху и качался на ее зыбких ветвях. А на пасху отважился вместе с Кузярем забраться на колокольню по темным лестницам. Я едва не слетел с последней крутой лестницы, оглушенный до щекотки в ушах звоном колоколов. Лестница дрожала, жестокая дрожь пронизывала мое тело, и чудилось, что колокольня сейчас расколется и рухнет на землю. Я ка мгновение застыл от ужаса, но выше себя увидел крепкие, цепкие ноги Кузяря, и, несмотря на то что мне было дурно, я через силу полез вслед за ним. Потом, когда на колокольне я увидел знакомых парней и Митрия Степаныча, который дергал веревками языки колоколов и старательно, с сосредоточенным лицом бухал в край большою колокола тяжелой дубиной на веревочной петле, надетой на лямку, я немного успокоился. Звон пяти колоколов, больших и маленьких, рвал голову и тело, просверливал уши и переворачивал внутренности и совсем оглушил меня.
Парни, ребятишки что-то кричали друг другу, что-то орал мне Кузярь, но я ничего не слышал. Когда же я подошел к окну и посмотрел вниз, на луку, я обмер: внизу была воздушная бездна, а лошади на луке и люди показались маленькими и уродливыми — и у людей, и у лошадей вместо ног были какие-то смешные коротышки. Каша изба тоже оказалась малюсенькой и приземистой. Меня стало тошнить, и я, леденея от страха перед черной бездонностью лестницы, стал медленно сползать вниз, впиваясь руками в невидимые перила. Я никогда еще не испытывал такой потрясающей радости от ощущения надежно твердой земли, когда очутился в ограде церкви. И трава на луке, и лошади, которые щипали лужок, и мирно-уютная наша изба, и мерцающий воздух показались такими родными и мирными, что хотелось плакать. В тот день я до самого вечера ходил глухой, со щекочущим звоном в ушах.
Но любопытства к высоте и желания лазить по лестницам и по деревьям я не потерял. И теперь, когда Кузярь предложил полезть на березу, я пылко согласился.
— Только, чур, одна моя береза, другая — твоя. Кто скорее влезет. Однако берегись, — предостерег он меня, — там гнезда грачиные. А грачи, черти, драчуны. Будут долбить да крыльями лупить, не удержишься и вниз башкой. Я однова так с ними подрался, что они у меня всю рубашку изодрали… хорошо, что глаза не выклюнули. Ну, я хвать за ноги одного, другого, третьего… Что такое? Чую, падаю… Падать-то падаю, а сам словно пушинка. Догадался: это они меня на своих крыльях спустили.
Он врал, и у него горели глаза, но врал так искренне и так живо рисовал свое приключение, что, должно быть, сам верил тому, что выдумал. А я смотрел ему в лицо и смеялся.
— Ты чего скалишься? — обиделся он. — Побыл бы в моей шкуре, не стал бы скалиться…
— Да со мной еще хуже было…
— А что?.. — ревниво перебил он меня.
— А то… Однова меня ястребчик сцапал. Сидел я с цыплятами, и клушка рядом. Ястребчик-то камнем сверху да вместо цыпленка-то хвать меня! Ежели бы не клушка — утащил бы. Клушка вцепилась ему в бельма, я и вырвался.
Он хотел было разозлиться, но вытаращил на меня горячие глаза и засмеялся.
— Вот и наврал! Где это ястребчик людей хватает?
— А где это видать, чтобы грачи парнишек с дерева на крыльях спускали?
Он разочарованно махнул рукой.
— Тебя уж не обманешь… С тобой скучно стало, когда ты мне верить перестал.
Лицо у него стало хорошее, озабоченное и грустное.
— Я выдумывать-то от мамынькиной болести научился!
Нутрё-то у нее горит, моготы нет. Я уж и горшки накидываю, и тряпки вареные ей на брюхо-то — не помогает. Ну, и давай ей небылицы в лицах наговаривать… Она хоть и кричит, а слушает, слушает — и угомонится. Она не как ты: страсть как верит!.. Скажешь ей: «Мамка, да ведь я врал, а ты веришь». Ух, как она забунтует! «Нет, это ты сейчас врешь, чтобы мать расстроить. У тебя душа-то, Ванюша, голубкой играла, а душа-то не врет. Тогда бог в тебя вселился, а сейчас бес. Не греши, не гневи бога-то». Ох, и чудная!
Мы все-таки решили лезть на одну березу. Взбираться было очень трудно: ствол ее был гладкий и скользкий, словно натертый воском. И мы следили друг за другом, чтобы доказать свою ловкость. Пока успели схватиться за первые сучья, вымотали мы все силенки, но делали вид, что такая работа для каждого из нас нипочем. Несколько секунд мы стояли на толстых сучьях, отдыхая. Ступни и ладони горели, и мы задыхались от утомления. Он похвалил меня:
— С тобой тоже водиться-то: ты не отстаешь от меня — споришь как черт.
Я тоже выразил ему свои чувства:
— Да ведь я только с тобой и вожусь: ты на все гораздый.
Он с одушевлением заключил:
— А черт ли с негораздыми дураками водиться! У них и горшок-то на плечах не кипит. Делать надо так, чтобы люди диву давались…
В лесу пели и перекликались голоса. Они переплетались с эхом, манили и смеялись, как сказочные призывы лесных девок, которые завлекают к себе в глухие заросли людей и губят их ласками и щекоткой. Заливались невидимые птички, внизу звенел ручей, играя в камнях.
Забрались мы к самой вершине и с жутью чувствовали под собой глубокую пустоту, заплетенную ветвями. Высоко в небесной синеве тихо плыли серебряные облачка, а солнце пронизывало зеленую листву ослепительными искрами.
Сквозь вихри листьев видны были далекие поля в зеленых и черных полосах. По синодской дороге ленивой рысью бежали лошади, отмахиваясь хвостами от тарантасов, на которых сидели бабы в цветистых нарядах.
Внизу, в густой заросли орешника, зашуршали шаги и тихо забормотали голоса. Сверху очень хорошо было видно, как парень обнял девку, а она отталкивала его и посмеивалась.
— Поиграл — и хватит, Яшенька, погоди до венца.
Он бормотал жалобно:
— До пожинок-то сколь еще ждать-то!. Чай, помрешь от тоски…
— Подожди, Яшенька, помучайся… Тогда и узнаешь, что на свете есть любовь.
Это спрятались здесь от людей наша Катя и Яшка Киселев. Она была крупнее и сильнее его, но притворялась, что не может сладить с ним.
— А ежели дядя Фома не отдаст тебя?
Катя утешила его:
— Отдаст. А не отдаст — у попа повенчаемся.
Кузярь, как грач, весь устремился вниз. Мне почудилось, что он хочет спугнуть их, потому что лицо его стало острым и озорным. Он взглянул на меня, но я сердито погрозил ему пальцем. Он вдруг чихнул и замяукал. Катя и Яшка опрометью бросились бежать в разные стороны.
Кузярь захохотал, а потом завыл волком.
— Видел? Они подумали, что это леший их спугнул…
Я разозлился на него за Катю и хотел схватить за ногу, но, взглянув вниз, в прохладную глубину сквозь порхающие листья, испугался.
— Дурак ты и охальник! — набросился я на него. — Катя замуж выходит за Яшку, а ты их пугаешь… Чего тебе надо?..
— А так, — беззлобно ответил он, не переставая смеяться. — Как они пырснули!.. Хорошо сверху людей пугать. Мы с тобой сильнее всех.
Я не утерпел и сам засмеялся: действительно, потешно было смотреть, как смелая, здоровенная Катя, низко пригнувшись к земле, задрав сарафан до колен, убегала без оглядки в лес, а Яшка, озираясь, с ужасом на лице, широко замахал своими новыми сапогами в другую сторону.
— Давай выдумаем что-нибудь еще… — предложил Кузярь. — Чего мы здесь, как галки, качаемся? Давай Луконьку в воду столкнем.
— Я те столкну! — заорал я. — За Луконю враг мой будешь. Давай лучше Луконю защищать: он святой.
— Ладно. Луконька с парнишками водится и умирать им не дает. Он от смерти слово знает. Ладно, кто его обидит — житья не дам.
Мы слезли с березы и пошли вниз по ручью. Вода стекала с уступчиков, как жидкое стекло, и играла пеной в лагунках, а потом юрко пробиралась в кучках камней и звонко курлыкала. На нас с песчаных отмелей смотрели зелеными выпученными глазами лягушки и надували белые мешочки на грудке.
Кузярь спрыгнул в ручей и сразу же принялся за работу.
— Давай пруд сделаем, с гаузом. Потом подговорим Семку мельницу свою с толчеей принести. Вот это диво будет…
Но не успели мы приняться за этот серьезный труд, как из лесу по полянке вдоль ручья вышла толпа девок с Луконей впереди.
Катя крикнула ласково:
— Запевай, Луконя!
И Луконя девичьим голоском запел, улыбаясь самому себе:
Уж ты, сад, ты, мой сад, Сад зелененький!..Но девки пронзительно оборвали его голос веселой песней:
Пойдем, девки, на реку, на реку, Совьем, девки, по венку, по венку!..У самой большой лагунки девки остановились и стали бросать в воду венки. Набросали их много, и они покрыли всю воду. Парней почему-то не было: должно быть, они остались в лесу на попойку.
На зеленой солнечной поляне разноцветная толпа девок собралась в круг. Рябило в глазах от этих красных, зеленых, желтых и голубых сарафанов и платков. Все начали кружиться, приплясывать, кого-то ловили внутри круга и пели одну песню за другой. Потом рассыпались по поляне и ловили друг дружку. Луконя стоял один и улыбался солнцу.
После игры все сели на лужайке, раскрасневшись от беготни, визгливо кричали, не слушая подруг, и смеялись.
Кузярь подбежал к лагунке и вынул несколько венков.
С них ручьем стекала вода. Он сунул мне один венок и шепнул:
— Давай девчатам на головы набросим. Вот переполохто будет!
Мы тихо подошли к ним и быстро надели мокрые венки на полушалки двум девчатам. А Кузярь напялил еще два венка другим девкам. Они вскочили на ноги и так испугались и пронзительно завизжали, что спугнули других. Мы хохотали с Кузярем и плясали от восторга. Девчата сбросили пропитанные водой мокрые венки и кинулись за нами.
Мы со всех ног пустились наутек, виляя и ускользая от них, как зайцы. Остальные следили за нами и хохотали.
Так мы вместе с девчатами, увешанными зеленью, с песнями пошли домой. На улице длинного порядка они пели изо всех сил, а голос Лукони слышен был только в запеве.
На нас смотрели мужики и бабы и смеялись.
В этот день я чувствовал себя как на крыльях. Что-то хорошее трепетало в сердце, словно я переживал неиспытанное счастье или в чем-то победил Кузяря.
XL
В один из жарких летних дней, когда небо казалось раскаленным, а воздух мутным от мглы, мы с бабушкой поехали на своем мерине в поле — повезли харчи на жнитво. Косили рожь верстах в трех от деревни на той стороне, на арендованном исполу круге! [Круг — четыре десятины] Телега была без каретки, худодырая, только посредине лежала гнилая доска. Бабушка положила мешок с хлебом, картошкой и луком, а отдельно печеные яйца и горшок кислого молока. Сидели мы рядом с ней на охапке соломы. Когда переезжали через речку, прозрачная вода играла между спицами колес и смеялась. Дымился под ободьями желтый песок на дне. Бойко носились стайки испуганных пескарей. Хотелось спрыгнуть с телеги, побултыхаться в веселых волнишках и поиграть с водою Кузница была заперта. Потап тоже был в поле с женой, а Петька по-прежнему сидел у избы в холодке с ребенком на руках и играл в «подкидышки». Он проводил меня угрюмым взглядом и сердито ткнул пальцем в ребенка: вот, мол, какая судьба — приходится домовничать и заниматься бабьими делами.
По пепельной дороге на крутую гору поднимались долго, с натугой. Мослатый мерин едва тащил телегу Келья бабушки Натальи, спрятанная под обрывчиком, казалась дряхленькой слепой старушкой — даже солома на крыше поседела, и полысела, и торчали в разных местах серые стропила.
А рядом бабушка Анна, здоровая, тяжелая, широкая костью, в кубовом платке, старательно повязанном в виде кокошника, стонала и говорила расслабленным голосом, как больная:
— Жилится баушка-то Наталья, жилится, а умереть-то не умирает, не идет смертушка-то. Уж не владеет ни ногами, ни руками… в чем только душа держится… легче перышка. Грешница была, не тем будь помянута: по чужой стороне любила мыкаться. Где только не была… Веселая была баба, вдовела два раза, и все как на крыльях летала…
Бывало, в молодости скажешь ей: «Натальюшка, ты бы, чем по свету летать, за хорошего мужика-вдовца вышла, — дом бы ранила да детей воспитывала». А она засмеется и голову вздернет: «Чай, свет-то не клином сошелся, Аннушка. Воля пришла — и солнышко ярче светит, и травка зеленее. Мне, бает, всё касатки во сне видятся: вихрем кружатся, разговаривают и уносят меня к облачкам — за зеленые леса, за широкие реки… Вот погляжу божий свет да добрых людей, а тогда что бог накажет… Еще успею намаяться. Больно уж я солнышко да раздолье люблю».
— Она всех любила, — обиженно сказал я, — она никого не судила. Она, да Володимирыч, да Луконя-слепой — лучше всех. Они всех жалеют.
Бабушка испуганно взглянула на меня и затряслась от смеха.
— Ах ты, пострел эдакий… умник какой! Ты еще маленький, чего ты понимаешь? Аль ты тоже бродяжить хочешь, как баушка?
— Да в деревне-то лучше, что ли? Ведь жить-то тут не при чем, — отвечал я словами отца.
— Чего же делать-то? Знамо, трудно. Землицы-то нет, достатков-то нет, и волки со всех сторон. Дедушка-то весь съежился. В семье — разброд. Из деревни все люди разбегаются: одни — на заработки, другие — на переселения, в Сибирь.
— А Микитушку-то вот утащили, — возмутился я. — От него и мужики отступились. А он для них и себя не пожалел.
— Боятся они, внучек: забиты да затурканы, — сокрушенно стонала бабушка. — Больно уж долго народ в страхе жил.
Раньше был только барин, а сейчас — сколько лиходеев-то: и барин, и становой, и земский, и богатей. От бездолья и сами себя в гроб загоняют.
И она закончила горестной песней, жалобно выкрикивая каждый стих:
По грехам нашим Господь посыла-ат Bелику беду На нашу страну… Идет беда Лиха-лихота, И пошел брат на брата И сын на отца… А правда-то рыда-ат, А кривда лютая Заспесивилась…Хлеба начинались от самых гумен, и широкая дорога с перепутанными пыльными колеями зеленела ползучим кудрявым лужком по сторонам. За общественным магазеем, хлебным амбаром, сизым от старости, который стоял одиноко и жутко, спелая рожь волновалась до самого горизонта. Волны плыли мягко, медленно, вспыхивая пламенем, и слышно было, как блестели колосья, а их шепот сливался со стрекотаньем кузнечиков. Пели в синеве невидимые жаворонки. Воздух мерцал над хлебами солнечным маревом, и далекий лес-сосновик словно купался в зеркальных струях, как в призрачной реке. И когда я смотрел на голубое и знойное небо, земля казалась мне почему-то грустной, кроткой, ласковой, как бабушка Наталья, и мне было жалко ее. как мать. Потом открывались бархатно-черные пашни, обсыпанные желтой сурепкой, дальше — зеленые полосы проса с тяжелыми кистями и пламенные подсолнечники с крылатыми листьями. Направо, очень далеко, в лиловой дымке огромным караваем вздымался Красный Map. Одинокий среди полей, таинственный, он всегда будил во мне тревожные вопросы: откуда этот курган? какие люди и зачем насыпали здесь целую гору? Что он хранит в себе?
Я знал, что за ним эта плоская равнина обрывается глубоким яром в каменных плитах, а с этих плит падает стеклянными лентами вода и разбивается о нижние плиты радужными брызгами. Внизу — широкое зеркальное озеро, здесь наша речка поднимается барской плотиной. Дальше — опять поля, а за полями далеко, в сиреневом туманце, — кудрявые перелески.
Всюду над волнами ржи поднимались разноцветные головы и плечи баб. Бабы смотрели на нас из-под ладони.
Мотались из стороны в сторону головы и спины косцов, звенели косы, где-то кричал грудной ребенок. Потом открывалось жнивье, как золотая щетина, и переливалось искрами. На жнивье стояла телега с поднятыми оглоблями, покрытыми дерюгой, а под дерюгой — треножник из кольев с зыбкой, которую качала девчонка с тоненькой косичкой, перевязанной красной тряпочкой на конце. Впереди в огненном облаке пыли покачивались высокие и широкие возы со снопами, а на возах сидели мужики, и они, как и лошади, казались очень маленькими. Хорошо пахло скошенным хлебом, подсолнечниками и богородской травкой.
Я наслаждался такими поездками в поле: здесь совершалась своя жизнь, простая, чистая, свободная, сияющая солнцем и небом, большая, ласковая, далекая от наших деревенских забот, обид и душных конур. Хотелось спрыгнуть с телеги и побежать по узкой полынной меже навстречу золотым волнам спелой ржи — идти, идти и не останавливаться до самого Красного Мара, подняться по его кроваво-красному склону до вершины и глядеть во все стороны — в желтые и зеленые дали, где синеют кудрявые перелески и мерцают другие села, а за лесами и селами — другие села и леса, а за ними города, загадочные, манящие, живущие особой, невиданной жизнью, вероятно такой же, как в книжках о Францыле-венциане и Бове-королевиче. А может быть, неожиданно явится Конек-горбунок, запляшет и скажет весело: «Садись на меня!» И я поскачу быстрее ветра и выше облаков в волшебные страны, где живет Жар-птица и поют Сирин и Алконост. Там найдешь все, что пожелаешь, и нет там ни злых людей, ни становых, ни бар. Нет там и Ванек Юлёнковых, и Серег Калягановых, и деда с кнутом и вожжами в руках. Там не мучают людей, там нет жигулевок, у мужиков не отнимают ни земли, ни скотины и не делают их батраками, а матери и дети там веселятся и смеются, красивые и счастливые… Так приблизительно думал я, подпрыгивая на телеге, поглядывая на облезлую репицу мерина, лениво шагавшего по пыльной дороге, и уносясь мечтами к волшебному Красному Мару. Бабушка тоже посматривала на этот высокий курган и что-то шептала, рассеянно похлестывая мерина вожжой. Солнце жгло, воздух сиял ослепительно и струился над хлебами серебром и синью, пылали огнем подсолнечники, жалобно кричали зеленые пигалицы, пролетая над нами.
— Расскажи о Красном Маре, — попросил я бабушку. — Почему он — один и высокий? Почему — красный?
Бабушка словно ждала от меня этого вопроса: она даже лошадь остановила и с задумчивой улыбочкой вгляделась из-под ладони в эту высокую гору с темно-красными пятнами на склонах, такую одинокую и угрюмую среди ржаного поля.
Он еще от Пугача стоит. А может, и до Пугача был — кто его знает. Только от Пугача слава о нем осталась. Бывало, когда я еще в девках была, песню пели:
Во степях-то было во саратовских, За Волгой-матушкой, на горной стороне За лесами, за долами, стоит Map высок. А на Маре-то на Красном казаки стоят Казаки-то удалые. Пугачевы молодцы…За эту песню на барском дворе насмерть кнутьями забивали. Ну и пели крадучись, в платки да в шапки. А потом и забывать стали.
— А зачем кнутьями-то забивали? — с испугом перебил я ее: — Это за песню-то?
Бабушка зашевелила вожжами, и мерин неохотно потащил за собою телегу. Мимо проехали огромные щетинистые возы со снопами. Мужики и бабушка молча кланялись друг другу.
— Да ведь как же! Сейчас молодые-то уж ничего не знают, а тебе и подавно не к уму. Пугач-то ведь с казаками на бар шел, мужиков на волю отпускал и землю барскую им отдавал. Тогда мужики все за Пугачом пошли. Во-он, за Березовым, лес-то тянется — там и есть Оленин куст. На нем барыню Олёну повесили. А когда Пугача да казаков полонили, из нашего села половину мужиков казнили, а бабам косы обрезали да кнутами секли. Еще мне моя матушка сказывала, как двух девок, которые замуж за казаков вышли, замучили: оголили их, связали да в муравьиные кучи и кинули… Сторожей поставили, чтобы девки не разметались. Ну, девок-то муравьи до смерти и заели. Распухли, почернели девки — узнать нельзя… Только сказывали, что казаки-то нахлынули сюда — этот Map и насыпали. Со всех сел мужиков согнали и кругом всю землю на три сажени вынули и гору с колокольню навалили. Сейчас там болото моховое, и нет на нем пути ни человеку, ни зайцу — одни лягушки да цапли живут. И сказывали старики, что на этом Мару каменная крепость стояла, а в самом Мару атаман Удалов жил с казаками, судил да рядил и с солдатами царскими воевал. С год солдаты боем бились и никак победить не могли. Крепость-то всю разорили. Разорить-то разорили, а никого в ней не нашли: все казаки под землю скрылись. Барин приказал весь Map раскопать, голодом их изморить. Копают, копают — глядят, а земля-то опять как не копана. Диву дались, с рук сбились, пригнали мужиков, баб, девок, парнишек — копай! А утром, как солнышко взойдет, земля-то опять как не копана, а солдаты-то, сторожа, мертвые лежат. И вся земля кровью залита. Барин с начальником рвут и мечут. Стали на мужиках вымещать людей хватать, да пороть до смерти, да вешать на нашей луке.
А Удалов-атаман войдет в село с казаками да на этих виселицах и вздернет барскую родню. Однова даже и самого барина притащил и перед народом выставил: «Вот тебе, бает, сказ и наказ: не обижай народ, а то все твое племя погублю. Пускай виселица стоит тебе на устрашение». Дрожмя дрожит барин-то, язык отнялся.
— А солдаты-то где? — перебил я ее. — Чай, у него войско было.
— Надо быть, ничего не знали. Так и было-то: чего бы атаман ни делал солдаты да начальники только утром глаза продирали. Барин потом со страху скрылся. Солдаты хоть и стояли, а после тихо было: мужиков не обижали боялись. Мужики-то осмелели и барскую землю пахали.
— Ну, а потом что? — нетерпеливо допытывался я.
— Ну, потом тьму-тьмущую солдат нагнали. Нашли проход, в нутре ворвались.
— И всех убили? — вскрикнул я, готовый заплакать.
— Кого же убивать-то, милый? Никого не нашли. Только в келье у образа Спаса свечка теплится. А подземелье махонькое, как выход наш, и ладаном пахнет. Стоит на коленях старичок дряхленький и на голос кафизму читает.
Схватили его и допрашивают: «Где твои разбойники? Кто ты такой?» А старичок-то ласково да безбоязненно слабеньким голоском да с улыбочкой и ответствует: «Не знаю я, братие, никаких разбойников, а сам я тут вырыл келейку и славлю господа. Затворник я, людие». Выволокли его и терзать стали, а он, светлый, улыбается, поет чуть слышно: «Се что добро и что красно да живите, братие, вкупе…»
Я так был потрясен этим рассказом, что схватил бабушку за руку и сквозь слезы прошептал:
— И затерзали его?.. Тоже повесили?
Она сама взволновалась и прижала меня к себе.
— Давно ведь это было-то. Годов сто, чай, прошло…
А може, и не было; всяко люди рассказывают… Чего это ты расстроился-то?
— А зачем они старичка-то замучили?
— Как это замучили-то, дурачок? Увидал начальник-то, енерал, видно, раскинул руками-то, да и плюнул. «Эх, бает, солдаты-супостаты! Не с казаками вы войну вели, а с безумным старичишкой. Пускай, бает, молится на исходе души». И всех солдат угнал.
— А старик-то так и остался?
— Келейник-то? Всех утешал, всех буйных укрощал, пророчествовал: «Радуйтесь, бает, грядут дни великие — первые будут последними, а последние первыми. Бедные возвеселятся, а богатые смертию умрут. О воле Пугач возвестил, а воля-то, как я, — затворница. Выйдет она, и народ ее сперва не узнает. А придет она в громе и молонье. Воля-то сама в народе живет. Узнать ее надо в силе своей и правде. И не вем ни дня, ни часа, егда лик ее откроется».
— А кто этот старичок-то? С казаками он заодно в шайке был, что ли?
Мне многое было непонятно в этой истории, и я долго не мог связать атамана Удалова с этим нежданным-негаданным старичком затворником. Мне уже казалось, что бабушка, по своей склонности к умильности и песенному воплению, сама придумала эту сказку о келейнике.
— Всяко сказывали старики — твой прадедушка Селиверст, отец дедушкин, бывало, внушал: это родитель был атамана, и казаки не столь слушались Удалова, сколь этого старца. Ну, он тут и остался для души спасения, народу на утешение. Он и веру в народе укрепил. А другие противились: не родитель атамана, а сам атаман с мужиками остался. Казаков-то с миром отпустил — мало их осталось, — а сам на всю округу защитником жил. Сказывали: ежели барин кому обиду творил, он ночью к нему являлся атаманом, во всем одеянии, и приказывал: «Не тесни, не мордуй людей — кару великую примешь». Барин-то маленький ростом был, а нравом свирепый. Кричит, ногами топает: «Слуги!
Рабы! Все ко мне! Хватайте разбойника! На конюшню, на дыбу, до смерти пороть!» А атаман-то возьмет его за шиворот, бросит на кровать и смеется: «Не кричи, не взывай — никто к тебе не придет. Это я к тебе буду по душу приходить». Тогда и народ жил способно, а барин дрожмя дрожал. А потом, сказывают, ноги и руки у него отнялись.
Хоть рассказывала бабушка со стонами и вздохами, с медлительными подпевами и с прислушиванием к своим словам, но выходило это у нее задушевно, искренне, хорошо. Казалось, что она рассказывала это не мне, не людям, а самой себе, словно протяжную песню пела. Этот казак-пугачевец Удалов и старец келейник сливались в один образ — трогательный, светлый, сильный, как образ народного героя. Это был и воин, доблестный борец за свободу народную, и защитник людей в лихие годины. Я чувствовал его близким и родным, и он напоминал мне и Володимирыча, и Луконю-слепого, и Михаилу Пескова, и Микитушку.
Красный Map, который маячил далеко в лиловой дымке знойного дня, чудился мне сказочным обиталищем каких-то необыкновенных видений. Можег быть, в этом кургане, пропитанном кровью, еще до сих пор живет душа грозного атамана и любвеобильного пророка-келейника. И будет вечно стоять этот кроваво-красный курган и напоминать людям о правде, за которую пожертвовали собою атаман Удалов и наш Микитушка. и о вольной воле, о которой мечтала бабушка Наталья.
Так незаметно доехали мы до нашего поля. На широкой полосе золотистого жнивья, поодаль от дороги, стояла телега с поднятыми оглоблями, а под телегой — бочонок с водой и всякая рухлядь. Вдоль жнивья один за другим медленно отшативали, размахивая косами с грабельцами, дедушка, за ним — отец, а за отцом — Сыгней. Тит вместе с Катей и матерью вязал снопы. Рубашки на спине у всех были мокрые. Сема отдельно от всех сгребал граблями ошитки — остатки ржи от косьбы — и заботливо собирал их в кучки. Он еще издали закричал мне требовательно:
— Эй ты. наездник, сорочинская шапка! Бери грабли — и живо сюда, вместе сгребать будем. А после обеда в орешник пойдем.
Косцы на нас даже не оглянулись, а мать изнуренно выпрямилась и улыбнулась мне молча. Но Катя махнула мне рукой и позвала тонким голоском:
— Федя-а! Иди-ка сюда, песни будем петь. Без твоего голосочка и песни-то не поются.
Тит обиженно ворчал:
— Ишь барин какой! Нет чтобы в поле работать — он с бабушкой катается. Иди свясла крути!
Я подбежал к матери и с радостным порывом прижался к ней. В эти дни я редко ее видел: все ночевали в поле, а я с бабушкой домовничал в пустой и молчаливой избе. Даже Кутка убежал от меня на жнитво. Мне было тоскливо и грустно одному, и в эти часы я больно переживал разлуку с матерью. Мне было почему-то до слез жалко ее и хотелось ощущать ее всю — ее трепетность, дрожащие руки, нежные и пристальные глаза, в которых неугасимо сиял тревожный вопрос, полный надежды, и та непередаваемая радость любви, которая неповторимо чествуется только в детстве.
— Аль соскучился обо мне, милый? — спросила она с улыбкой счастья.
— Я дома-то места не найду… — сквозь слезы, обнимая ее ноги, пролепетал я. наслаждаясь ее близостью. — Я здесь останусь… Я что хошь делать буду…
— Дорогуня ты мой!.. — прижимаясь щекой к моему лицу, страстно прошептала она. — Без тебя мне и свет не мил.
Бабушка возилась около телеги, не выпрягая лошади, и переносила харчи к другой телеге, на разостланную дерюгу. Отец шел за дедушкой, широко размахивая грабельцами, врезаясь косой в густую заросль ржи. Со звонким жвыканьем коса сбривала целую охапку ржи и откидывала ее на жесткую щетину жнивья. Колосистая солома шевелилась, как живая, и золотым холстом расстилалась за каждым косцом.
Дедушка и отец были здесь другие — не домашние. Дома дедушка заполнял всю избу и давил всей своей зоркой властью. Маленький, с зыбкой походкой, с острыми глазами под клочьями бровей, он, как домовой, леденил мою маленькую душу. А теперь он размахивал своей косой сильно, молодо, и уже не было в нем домашней суровости и стариковской дряблости. Его седые волосы, взлохмаченные ветерком, встряхивались при каждом взмахе косы. Коса звенела и шоркала ядрено и сильно, и он весь отдался этой вольной работе, забыв о себе как о хозяине и суровом блюстителе семейного благочиния. Даже лицо его, обветренное, коричневое от загара, помолодело. Я побежал по жнивью мимо Сыгнея, который крикнул мне вслед по-мальчишески задорно:
— Держи, держи его! Догоню! А ты оглянись-ка: пятки-то у тебя назади!
Он смеялся, не переставая косить, и шагал за отцом, лихо размахивая косою. Пунцовая рубаха без пояса вздувалась у него на боках. Рукава были засучены по локоть.
И отец был тоже в пунцовой рубашке, и так же высоко были засучены у него рукава, но рубашка на спине темнела мокрыми пятнами. Отец старался косить спокойно и форсисто, но видно было, что он горячился. Ему нравилась косьба, и он играл косою и следил за ее змеиным блеском, скосив голову к плечу, словно любовался красотой и неотразимостью лезвия, которое подкашивало рожь у самого корня и мягко укладывало на грабельцы. Он очень похож на дедушку и фигурой и лицом, — такой был, вероятно, и дедушка в молодости. Но дедушка сейчас в работе был живее, расторопнее, легче отца. В ловкости и веселом проворстве Сыгнея сказывалась дедушкина живость, которую я видел впервые и которую старик скрывал и обуздывал дома — в семье и на улице. Они все трое ушли в работу, забыв о себе, но Сыгней и здесь был такой же простой и жизнерадостный, как всегда, а отец и дед показались мне невиданными: детским чутьем я уловил в них простую телесную радость и такое же упоение жизнью, какое ликовало и в моей душе. Когда я подбежал к отцу и пошел рядом с ним, не думая о том, что он прогонит меня, он улыбнулся мне глянцевым от загара лицом и ласково предупредил:
— Не подходи близко, сынок, — подрежу.
На конце полосы дед, не отдыхая, клал косу на плечо и, стирая голой рукой пот с лица, бойко шагал обратно. За ним — отец, за отцом, играя за спиной грабельцами, — Сыгней, на таком же расстоянии друг от друга, как и во время косьбы. На бабушку они даже не взглянули, только дед бодренько крикнул на ходу:
— Анна, пройдем вот один заход, и обедать надо. Мерина-то не распрягай — домой воротишься. Корми его: завтра снопы возить начнем.
Он вынул из ведра на меже мокрый брусок и зазвякал им по косе. Взглянув на солнышко, он поплевал на ладони и с торжественностью замахал грабельцами. Я шел рядом с ним, захваченный сильными и легкими взмахами косы.
— Ну-ка, сейчас я его подкошу, бездельника! — с притворной угрозой крикнул он, и я увидел, как он усмехается в бороду.
Я обрадовался его шутке и, подпрыгивая, крикнул:
— Я не бездельник, дедушка. Дома-то я и двор убрал, и корм гнедку месил, и на пойло водил. Я, чай, колос приехал сгребать.
— Баушка! Чего он тут говорит? Аль вправду он дома-то хозяйничал?
Бабушка засмеялась и подмигнула мне: не бойся, мол, держи себя смелее.
И я схватил грабли из-под телеги и с важностью самосильного мужика вскинул их на плечо. Сема на середине поля собирал снопы и складывал их в крестцы, а Тит работал с угрюмой натугой: ведь косит он не хуже Сыгнея, а его заставили вместе с бабами делать бабье дело. Ему уже шестнадцать лет жених, он уже втайне рачит свое хозяйство, а тут вяжи свясла и таскай снопы на смех шабрам. Катя, с обожженным лицом, подшучивала над ним:
— Титка, не отставай, а то вон шабровы девки смеются… Шел бы ты лучше к мамке — тюрю делать…
А он грозил ей кулаком. Мать улыбалась и участливо поглядывала на Тита.
Я прошел между крестцами к меже и оттуда начал сгребать спутанную и изломанную солому в рыхлые кучи. Мне было хорошо, весело и вольготно, и я гордился, что вместе со взрослыми выполняю серьезную работу. Сгребать и собирать колосья — кропотливое дело: нельзя пропустить ни одной соломинки. Я прочесывал жнивье, как гребенкой, и подбирал отдельные колоски пальцами. Пахло спелой рожью, горячей землей и подсолнечниками. Воздух горел солнцем и мерцал маревом над хлебами и на склонах Красного Мара. Звенели и шоркали косы, заливались в небесной синеве жаворонки. Все ликовало и пело вокруг меня: и жнивье, и ромашки на меже, и пламя подсолнечников в разных местах среди ржи.
Жнивье широкой полосой тянулось далеко и обрезалось несжатой рожью чужого поля. Вороха колосьев я подгребал к крестцам, чтобы не развеяло ветром и не забило грязью во время дождя. И когда на краю поля я слушал глухие толчки своего сердца и смотрел на желтую щетину жнивья, эти кудрявые вороха шевелились и смеялись мне издали.
Я шел обратно, вычесывая перепутанные соломины с колосками в рядок, а потом подгребал этот рядок в золотое руно. Мне было хорошо: каждый взмах граблями, каждый шаг и порыв доставляли мне радость. Я обливался потом, дышал всей грудью, но не чувствовал усталости. Мне хотелось кричать и петь, и я пел, — пел звонко, во весь голос.
Кто-то звал меня, кто-то смеялся. Прыгали и разлетались в разные стороны кузнечики, горячий ветер трепал мои волосы и мягко щекотал лицо.
Я не боялся сейчас ни дедушки, ни отца: я знал, что если дедушка придет сюда, он только поднимет брови и, усмехаясь, проворчит: «Почище, почище!» Потом пройдет по полосе, зыбко переваливаясь с боку на бок и поглядывая на солнце. Он запоет про себя любимую стихирку: «Всяк человек на земле живет, яко в поле трава цветет…» — запоет потому, что он доволен, что у него тоже хорошо на душе.
Обедали в холодке, за телегой, а мне не хотелось: я дома ел кашу с молоком. Меня манили ряды снопов, разбросанных по жнивью. Я стал укладывать их в пятерки.
Приятно было нести тугой сноп, который потряхивал своими тяжелыми колосьями, и мне хотелось обнять его, как живого. А всюду волновалась золотой зыбью рожь, горели подсолнечники, далеко и близко поднимались и исчезали головы мужиков и платки женщин, сверкали косы на плечах косцов… Как вольготно и радостно! Усталый, со звоном в ушах, запыхавшись, я упал на жнивье и с наслаждением раскинул руки в приятной истоме. Около меня прыгали и стрекотали кузнечики, а очень высоко в голубом небе тихо плыли кудрявые облачка…
XLI
Один раз, когда мы с бабушкой возвращались домой, случилась со мной большая беда.
Бабушка сидела в телеге, вытянув ноги, а я позади, спина в спину с ней. Обычно бабушка всю дорогу невнятно и тихо пела какие-то протяжные песни или духовные стихи или дремала, бормоча что-то себе под нос, а я следил за пылью над дорогой, за жницами и косцами среди желтой ржи или садился верхом на переплеты телеги, воображая себя наездником.
В этот раз бабушка дремала, когда мерин стал спускаться с крутой горы над избушкой бабушки Натальи. По этой дороге лошадей сводили под уздцы и в спицы заднего колеса вставляли кол, чтобы затормозить повозку.
— Баушка, с горы съезжаем, — испуганно крикнул я. — Сводить лошадь-то надо. Остановись!
Но было уже поздно: телега надавила на мерина, хомут налез ему на уши, и он стал падать на задние ноги. Глубоко внизу закружились избы длинного нашего порядка, гумна вдали и наша изба над кручей красного обрыва. Темнела узенькая лента речки.
Бабушка из всей силы натягивала вожжи и визгливо тпрукала. Мерин падал задом, скользил копытами по накатанной, улетающей вниз дороге, а за вздыбленным хомутом пропадали его уши. Он храпел и, должно быть, сам испытывал ужас вместе с бабушкой. Я стоял на коленях и держался за ее плечи, но ей было, вероятно, неудобно, и она испуганно кричала мне:
— Сядь ты, окаянный! Я и так уползаю… Упаду еще под колеса… Вцепись во что-нибудь!
Мерин не выдержал и побежал под гору. Телега подпрыгивала, грохотала и напирала на мерина, и он несся уже галопом с кручи с хомутом на ушах. Мимо поземкой летели взгорки и мелькали овражки, и я судорожно хватался руками за доску, и за бабушку, и за палки переплетов, но меня словно бил кто-то по пальцам, отшибал руки и швырял в разные стороны. Дальше все угасло в памяти.
Очнулся я так, как будто кто-то разбудил меня, и я смутно, точно сквозь сон, почувствовал, что меня тащит кто-то по мягкому песку. Я открыл глаза и в полусознании увидел Петьку, который, с ребенком на одной руке, волочил меня за руку и плаксиво кричал:
— Вставай скорей!.. Чего лежишь-то?.. Видишь, возы со снопами спускаются… рядом уж…
Но я не шевелился и не ощущал ни боли, ни страха, только жалобно простонал. И опять потерял сознание.
И опять я как будто проснулся на короткое время и услышал тот же жалобный стон. Лежал я в нашей избе на полу в странном дымном полумраке и не чувствовал своего тела. А голова плавала в сонном тумане, и жизнь теплилась в какой-то неясной ноющей точке. Кто-то склонился надо мною и, причитая, плакал. И эти причитания и всхлипывания были похожи на туманный бред. Был момент, когда я открыл глаза и увидел мать, которая стояла около меня на коленях, рыдала и, падая на руки, прижималась ко мне своим мокрым лицом. Стонала и плакала бабушка. Потом опять все исчезло, как в глубоком сне без сновидений.
В таком обморочном состоянии я лежал, должно быть, несколько дней и впервые пришел в себя на улице, около стены нашей избы, под старой ветлой. Ее плакучие ветви спускались низко к земле, и они показались мне такими милыми и ласковыми, что я засмеялся. Звонко, с радостной нежностью засмеялась близко около меня мать. А бабушка изумленно заохала и молитвенно пропела:
— Ну, слава тебе господи! Ожил! Смерть-то мимо с косей прошла… Прости ты меня, грешницу, внучек: это я тебя чуть не погубила. Упал в дыру-то, а тебя колесами и переехало. И ножки и грудку раздавило. Весь век буду помнить и грех замаливать.
А мать смеялась, терлась щекой о мое лицо и плакала.
Меня ослепил солнечный воздух, синее небо и сияющая зеленым раздольем лука. Пристально смотрела на меня своим черным глазом и высокая колокольня со сверкающим шпицем. А низко над травой летали говорливые касатки и проносились так близко, что едва не касались меня крылышками, словно тоже радовались моему воскресению.
И тут я впервые заметил, что мать держит меня под мышки и хочет поставить на ноги, но ноги болтаются, как тряпки, и я их совсем не ощущаю. Дышу я отрывисто, со стоном, задыхаюсь, но никакой боли не чувствую. Только радостно, с наслаждением гляжу на луку, на касаток, на курицу с цыплятами, которая квохчет и роется неподалеку от меня в кудрявом лужке. И я смеюсь и ласточкам, и цыплятам, и солнечной луке в волнах дрожащего марева вдали. Я переживаю неиспытанное счастье от нежной близости, матери и бабушки, и мне хочется обнять их и целовать. Но руки мои бессильно висят, ноги болтаются, как чужие, — я просто их не чувствую.
Мать хоть и смеется счастливо, но голос ее дрожит и плачет:
— Ручки-то, ножки-то отнялись совсем. Как веревочки висят. Ну-ка, ежели так и останутся мертвые? Не человек будет, а лежень блаженненький. Так и будет до вызрасту лет и до смерти пластом лежать. Что я буду делать-то?
Бабушка покаянно причитает:
— Это уже с меня бог спросит. Это я, окаянная, грех совершила. Канун богородице отстою, умолю пречистую спасти ребенка-то. Отчитать надо пускай над ним Псалтырь поют. Лущонку бы позвать: она его вызволит.
Мать с надеждой спрашивает меня:
— Выздоровеешь, что ли, милушка моя? Везде-то у тебя распухло, везде-то кровоподтеки.
Но я не отвечаю: не то мне не хочется говорить, не то вместе с руками и ногами отнялся язык. Мне только радостно и вольготно, как касаткам, порхающим над лукою и около меня.
Явился вдруг Луконя-слепой и сел передо мной на траву.
С мерцающей улыбкой он погладил меня по рукам и ногам, провел пальцами по голове и лицу и с девичьей певучестью в голосе проговорил:
— А я уж к тебе, Феденька, третий раз прихожу. Аль не видал? Ничего-о! Поднимешься — еще крепче будешь. Хорошо, что колесом по голове не проехало. Значит, жить будешь — на роду так написано. Нынче ты мне во сне привиделся: бегаешь будто по луке и так-то бойко, так-то звонко, как колокольчик, смеешься. За тобой ястребчик летает. Тут я к тебе на помощь бегу — и палкой, палкой ястребчика-то!..
Неожиданно я сказал, заикаясь и шепелявя:
— Ты… с-слепой… Как же… ты… как же ви-видал-то?
Мать вскрикнула, прижала меня к себе, засмеялась и заплакала. Заплакала и бабушка.
А Луконя смотрел в небо и блаженно улыбался.
— Вот видишь, Феденька?.. Ястребчика-то не зря я отогнал… Я все во сне вижу. Вот и ты… пройдет неделя-другая — встанешь, и побежишь, и ручками замашешь… Мне все дети родня… Я и песню сложил про них.
И он пропел на веселый седьмой глас тоненьким, детским голоском с сияющей улыбкой:
Вся премудростию сотворил еси на свете, Наипаче краше сущего есть дети. Всяко человек творит своим трудом, Только дети освещают дом.— Ты на солнышке больше лежи, на травке: солнышко-то, оно кровь разгоняет и силу дает. Гляди, травка-то как на солнышке растет… На солнышке-то и дух гуще, а в холодке-то да под навесом травка-то квелая и изо всех сил к солнышку тянется.
Он провел ладонями по моим голым ногам, поднял рубашку и, едва касаясь пальцами до тела, прощупал грудь и живот. Лицо его стало задумчивым, словно он прислушивался к тому, что совершалось во мне. Потом поднял и взвесил на ладони ногу и руку и бережно положил их на место. Его прикосновение я ощутил только на груди и вскрикнул от боли.
— Косточки-то целы, — радостно пропел он и опять засмеялся, — только все жилочки обмерли. Вот грудка только вдавилась и ребрышки маленько свихнулись. Я сейчас за бабушкой Лукерьей пойду. Тетка-то Наталья отмаялась, так Лукерья сейчас тебя все время будет травами парить…
Я понял, что бабушка Наталья умерла, но мне показалось это совсем неважным и далеким: ни жалости, ни горести я не испытывал.
Отца я увидел в избе только мельком. Я лежал на полу, а он стоял как-то неуклюже, сконфуженно и переминался с ноги на ногу. И, покачивая головой, с шутливым упреком сказал мягко:
— Чего же это ты? А?.. Как же это ты сплоховал-то?
Мы на Волгу собрались ехать, а ты вот подкачал…
И, смущенно оглядываясь, вышел из избы. — Приезжал с поля и дедушка. В первый приезд он остановился посредине избы и затеребил бороду.
— Ну, накатался с бабушкой-то? Ка. кой же ты работник, коли с телеги кувырком падаешь?
Бабушка утешительно простонала:
— Да чой-ты, дедушка! Чай, и ты бы с такой горы свалился, когда лошадь понесла… Он, чай, не удержался, когда — телегу-то подкинуло да круто повернуло… Ведь телега-то чуть сама не опрокинулась…
— Ну, ничего, ничего… Не так еще жизнь молотить будет. Привыкай!
И он впервые не был мне страшен. Я даже улыбнулся ему.
Однажды Сема просидел со мной в избе целый день и делал мне из лутошек солдат, коней, маленькие грабли, потом вырезал из дощечек мужика с ногами и руками на ни точках и, дергая за длинную нитку, заставил его плясать на полу. Мужик подпрыгивал, выбрасывал ноги, махал руками, приседал и взлетал на воздух. Сема заливался хохотом, хитро смотрел на меня и покрикивал:
— А ты гляди-ка, как он выкамаривает… Это дядя Ларивон… браги напился… А сейчас по улице идет и трепака отбивает. Вот шурует, каянный!
Но мне не было смешно: в голове кружились сказочные виденья, а в груди тяжело плескались гулкие волны.
Ни Кати, ни Сыгнея, ни Тита я не видел: стояли страдные дни, и каждый работник и каждый час были на счету. Потом уехала и мать. Пришла бабушка Лукерья и стала обкладывать мои ноги, руки, спину и грудь горячей травой и пеленать все тело. Поила утром и вечером какой-то вонючей и горькой травой. Я не хотел пить и плакал, а она говорила что-то ласковое, вкрадчиво, точно баюкала меня, и я слабел, подчинялся ей, впадал в полусон и кружился в хороводе странных призраков.
Каждый день приходил Луконя и рассказывал разные разности из деревенских будней. Всякая мелочь в ею словах преображалась в событие большой важности.
— Иду я мимо пожарной и чую: Мосей мается. Лапти свои не плетет. «Ты чего, дядя Мосей, тоскуешь? Аль беда какая у тебя?» А он кряхтит: «Беда не вереда, коли без греха, беда — вереда, коли от лукавства». Павлушка-то его из избы гонит. Нелюдимый парень, умничает. Грамотей, писарь — всякую корысть да обман с народом творит.
А дома какие-то у него тайные дела. Повадился чего-то к Митрию Степанычу. Не с добром. У Петруши пороги обил. Не знаю уж как, а чую — без беды не обойдегся. Петруша-то — хороший паренек, а волк коню не товарищ. Пошел я ночком к Петруше-то и говорю: «Петруша, сторонись Павлухи-то: он коварный, запутает он тебя, душу убьет». А он смеется и гладит меня по голове. «Я, бает, Луконя, его наскрозь вижу. Удят они с брательником моим рыбу, ды рыба-то не дается. Дай срок, я Павлуху-то на чистую воду выведу». Ох, как бы они его самого не погубили… Избу-то он продал, только пачпорта не дает Павлуха.
Микитушку-то заушили — заковали правду-то в цепи…
И его, Петрушу, заушат. У Митрия Степаныча он — как бельмо на глазу.
И Луконя сам маялся от тревоги. Потом внезапно оживлялся.
— Иду я нонче мимо Пантелеева сада, диву даюсь: такой дух плывет яблочный оттуда и так медом пахнет!..
А яблоки-то нет-нет да на землю — бух! Слышу — пчелы поют. Господи, думаю, какая благодать на земле-то! Всем бы надо у себя сады разводить. Да не только у себя, а по дороге да вот на луке. Хорошо-то как было бы! Я, Феденька, у себя около избы осенью и яблоньки и вишенки посажу.
Сам! Пойду к Митрию Митричу с докукой: «Митрий Митрич, дай, скажу, мне молоденьких яблоньков да вишенков: сад посажу». А не дасть — пойду в Ключи, к барину Ермолаеву. Михайло-то Сергеич даст. Он народ любит, а барыня меня к себе в горницу зазывала. «Я, бает, хочу тебя, Луконя, изучить». Чудная! Чего меня изучать-то? Чай, я не лошадь. «Ты, Луконя, — любопытный вьюнош». Как же не любопытный-то? Эка, сказала!.. Мне всякая тварь, всякая душа, всяк дар земной — радость. Я все слушаю и постигаю. Счастливей меня человека нет.
Когда я лежал без припарок, он выносил меня на лужок, на солнце, снимал с меня рубашку и голого клал на одеялко, которое стелила бабушка. Он сидел рядом со мною долго и гладил мои ноги, грудь и руки. Я смотрел на мягкую синеву неба, на пушистые облачка, которые плыли одно за другим, как ковры-самолеты, и, ослепленный солнцем, слушал слова Лукони, как сказку. Своими речами он напоминал бабушку Наталью.
— Вот Лукерья-то тебя отходит да солнышко прогреет, ты и отудобишь. Отудобишь и опять по этой луке, по зеленой травке, по цветочкам бегать будешь. Я тебя обязательно на ноги поставлю. И вот что я тебе скажу, Федя: я хоть и слепой, а вижу людей-то лучше зрячих. Зрячие-то больше о своей корысти да об обидах думают: глаза-то завидущие — от них и горя больше. Они и душу озлобляют. Да и от бедности и от недостатков, от труда беспросветного они больше мучаются. Глаза-то, ой, как сердце надрывают!
Говорил он тихо, раздумчиво, певуче, словно убаюкивал меня. Он улыбался и смотрел вверх, прямо на солнце, и мне было приятно слушать его: казалось, что я оживаю от каждого его слова и каждого прикосновения его руки.
— Микитушка-то везде свой человек, Феденька, — и в селе, и в остроге, и в чужой стороне. Когда я провожал его, обнял он меня, поцеловал с веселой душой. «Живи, бает, Луконя, как живешь, по правде живи. А для правды нет ни острога, ни железа, ни чужбины: везде — народ, везде — живая душа, и везде люди правды взыскуют». Вот и ты, Федя, расти, живи и ничего не страшись. Хоть народ наш темный и обездоленный, а душа хорошая, нетленная. Гляди-ка, какие люди около тебя: и бабушка Наталья была, и Володимирыч, и маманька твоя… Она молчит, таится и в семье как батрачка, а душа-то у нее светлая, радостная. А очутится на воле — и крылышки расправит.
Так Луконя проводил со мной много дней. Он говорил не о том, чем жили в своих заботах и хозяйственных хлопотах наши деревенские люди, а о том, что было выше этой обыденности, скрыто от нее. Может быть, поэтому и слова его и сам он увлекали меня своей необычностью, уносили в мир мечты и ожиданий.
Мне кажется, что не Лукерья вылечила и выходила меня, а он, Луконя, который каждый день вливал в меня бодрость и силу.
Я лежал в холодке под ветлой, а бабушка сидела на завалинке и вязала чулок. Руки у меня начинали оживать: я сгибал их в локте и долго рассматривал пальцы, как что-то новое и значительное. Ноги тоже стали меня слушаться: ходить я еще не мог, но поднимал кверху коленки. Бабушка тихонько и задумчиво пела стих: «Горе мне, увы, мне во младой юности…» Надо мной пролетали растрепанные галки с раскрытыми клювами, и где-то под крышей ворковали голуби. Серая колокольня смотрела на меня черным глазом, и колокола ее были похожи на опущенное в дремоте веко.
Щупая палкой дорожку впереди себя, подошел Луконя.
Он сел около меня на траву и заплакал. Я впервые видел, как текли крупные мутные слезы по его щекам. Бабушка взмахнула руками, и чулок упал на землю.
— Луконюшка, милый мой! О чем ты заскорбел-то?
— Тетушка Анна, беда-то какая! Ведь Петрушу-то сгубили. Налетели злодеи — урядник, соцкий, понятые — и всю-то ночь обыскивали и в избе, и на дворе, и в бане… А потом потащили его на съезжую. Нашли, бают, у него фальшивые деньги да какую-то машинку. А он, как не в своем уме, кричит, клянется, божится: «Не я и не я!.. Ни перед людями, ни перед богом не виноват. Подкинули, бает, чтобы со свету сжить… Это, бает, брат на меня супостатов натравил…» Павлуху тоже забрали. Максим Сусин его подвел: поехал в Петровск на базар да в лавках на фальшивых рублях и попался. Схватили его да в полицию, а он: «Знать не знаю и ведать не ведаю… Эти деньги дал мне Павлуха-писарь:
«Купи-де мне, дядя Максим, сапожного товару — сапоги хочу сшить». Ну, оттуда с Максимом-то полиция — и прямо к Мосеевой избе. А Павлуха еще раньше снюхался с Митрием Стодневым и подсунул машинку-то да деньги Петруше. Стали шарить у Павлухи — ничего не нашли, только из печи с золой облитки олова выгребли. Ну, он и повинился да на Петрушу-то и свалил: «Я, бает, подручный у него был, и мы с ним в бане деньги делали». Нагрянули к Петруше в полночь, подняли с постели и стали рыть. Рыли, рыли — нигде ничего. Пошли в баню… а в бане-то… — Луконя опять заплакал. — А в бане-то у него в золе-то целую кучу облитков выгребли да испорченные рубли. А машинку-то кашли на борове, в кирпичах… Петрушка-то, бают, как увидел это, так и обмер. «Не мое дело, это мне подбросили.
Братово это дело… Ежели на то, бает, — пошло, Митрию не жить на свете…»
Заплакала и бабушка и горестно закачалась из стороны в сторону.
— Пропадет парень-то, Луконюшка, ни за что пропадет.
Грех-то какой великий! Не виноват он, Петруша-то.
В жизнь не поверю, чтобы Петруша на такое дело пошел.
— Вот он, Павлуха-то, почему пачпорта ему не давал, тетушка Анна! Спроть Петруши тенёта плели. Сказывают, что Митрий-то Степаныч Павлуху-то спаивал. Зазовет в кладовую, да и шушукаются. Одел будто его, обул, калоши резиновые подарил. Сулил будто, что его., Павлуху-то, ежели загребут, вызволит и вознаградит. Тетушка Анна, зачем это злодейство такое? Весь мой ум, тетушка Анна, перевернулся. Не знаю, что и делать… Сердце скипелось.
Митрий-то Степаныч, наставник-то… аспид какой!.. Вспомнишь Микитушку-то: обличал его… А он его за правду-то и заушил. Вот и до Петруши добрался. Пойду, тетушка Анна, к становому пешком и все выскажу. К Ермолаеву, Михайле Сергеевичу, пойду и в ноги паду.
Он поднялся и пошел быстро, уверенно, постукивая палочкой по земле. Бабушка всполошилась и даже встала с завалинки.
— Куда ты, Луконюшка? Останься! Угомонись, Луконя!
— Пойду, тетушка Анна, правды искать. Ничего я не страшусь, тетушка Анна.
Бабушка потопталась немного, провожая глазами Луконю, потом рыхло опустилась на завалинку и тихо заплакала, обхватив голову руками.
Сначала я ничего не понял: какие это фальшивые деньги? что это за машинка? что это за облитки? Но почувствовал одно: с Петрушей случилась непоправимая беда. Его гак же, как и Серегу Каляганова, как и Микитушку, увезут в острог и закуют в железо. Я любил Петрушу, мне нравилось его белое лицо с румянцем во всю щеку, его живые, умные глаза, его беззаботность и веселье. Вспомнилось, как он подхватывал меня на руки, смеялся, сверкая белыми зубами, и вскрикивал:
— Взлетай высоко, гляди далеко, да не падай… А упадешь, подпрыгни еще выше, чтобы весь свет увидеть и себя показать…
Я лежал на траве неподвижно и думал: почему преследуют хороших людей? Вот бабушка-Наталья совсем одинокая и безобидная была, а ее и перед смертью, больную, стащили в жигулевку. Вот Микитушка — за что его в острог засадили? Вот Луконя, и его едва не искалечили на дранке.
Они всем хотят сделать добро и становятся на защиту слабых, а их за это распинают, заушают, гноят в острогах.
Митрий Степаныч, которого я почитал носителем святости, который трогательно читал божественные книги в моленной, учил, как жить свято, вдруг оказался человеком, который сейчас загубил своего брата Петра, спровадил в тюрьму Микитушку за- бесстрашное обличение и за его участие в запашке земли.
Бабушка поволила немножко и взялась за чулок. Хотя она вздыхала и качала головой, но ее лицо стало уже спокойно. Должно быть, она так много видела на — своем веку всяких бед и напастей, что и это событие считала в порядке вещей: мало ли что случается с людьми! И когда я спрашивал ее, зачем нужны богу эти людские испытания, она убежденно внушала:
— А как же? Он терпенье наше испытывает.
— А зачем ему терпенье?
— Чтобы духом крепнуть и славить его.
Но ее разъяснения не убеждали меня: они казались мне нелепыми, бессмысленными, а бог — старым самодуром, безжалостным барином, который постоянно мучает своих рабов. «Мы — рабы божьи», — эти слова постоянно срывались с языка деда и бабушки и даже Тита, который благочестиво корпел над Псалтырем и Цветником.
И теперь, когда я смотрел на спокойное лицо бабушки в отеках и складках, я думал: неужели ей не жалко Петрушу? Неужели она равнодушна к нему и не потрясена той страшной несправедливостью, которая обрушилась на его голову? А ведь она добрая, отзывчивая и любит поплакать.
И я вспомнил, что так же поохала она, когда Серега убил Агафью, и вопила над ее телом… Одетая по-праздничному, она провожала ее на кладбище. А потом сразу успокоилась и забыла о ней. Так же равнодушно встретила она и арест Микитушки. Когда отец бил мать или случались с ней припадки, она охала, вздыхала, но ни разу не защитила ее и не ухаживала за ней, больной, хотя никогда и не обижала ее.
Вероятно, так же спокойно и бездумно встречала она смерть своих детей Демушки, Олёнушки — и провожала их до могилы.
Вскоре после ухода Лукони из-за угла нашей избы по дороге через луку, размахивая руками и как-то странно болтая взъерошенной головой, быстрым шагом прошел Петруша вместе с Елёхой-вохой и рослым урядником с закрученными усами, во всем белом. Он вдруг остановился, повернулся к нам.
— Вот они, какие дела-то делаются, тетка Анна! — крикнул он надорванным голосом. — Жил Петруха со своей старухой, жил не тужил, зла не творил. А вот, гляди, в злодеи, в арестанты попал. Запомни, тетка Анна: это меня сожрал брат Митрий. В Сибирь, на каторгу, в кандалах меня отправляет. Ну, да память у меня крепкая, а сердце стало лютое…
Бабушка медленно поднялась с завалинки и низко ему поклонилась три раза.
— И ты, Федя, расти, живи на счастье и не забывай меня такого, как сейчас. Помни этот день и умом раскинь. Прощайте, не поминайте лихом! И в Сибири люди живут.
Урядник толкнул его в плечо и что-то сердито приказал ему, но Петруша отбросил его руку и так грозно посмотрел на него, что урядник отступил в сторону.
— Ты меня, селедка, не тревожь — руки отшибу! Держись подальше. Я, брат, цену себе лучше всех знаю.
Я крикнул ему изо всех сил и поднял руки:
— Дядя Петруша, иди ко мне! Попрощайся со мной!
Должно быть, крикнул я очень тихо, он быстро повернулся ко мне спиной и торопливо зашагал по дороге, качая головой и размахивая руками. Мельком увидел я, как от пожарной побежал наперерез ему Мосей, с разбегу упал на колени и ткнулся облезлой головой в землю. Петруша погладил его по спине и пошел дальше.
В этот же день его вместе с Павлухой отправили в стан.
Они полгода сидели в тюрьме, а потом обоих осудили на каторгу. Говорили, что Павлуха, обманутый Митрием Степанычем, который обещал ему вызволить его после суда из острога, подал прошение о пересмотре дела. В этом прошении он снимал вину с Петруши и взваливал все на Митрия Степаныча, но прошение его осталось без последствий: Митрий Степаныч будто бы откупился крупной взяткой.
Луконя пропадал несколько дней. Его подобрали на дороге сторонние мужики. Он лежал без памяти в горячке.
А когда выздоровел, от избы своей уже больше не отходил.
Говорили, что он стал похож на дурачка.
Однажды, когда я, по обыкновению, лежал под ветлой, неожиданно пришла тетя Маша. Она села около меня на траву и стала целовать. Сразу бросился мне в глаза темный платок со странно рогатым повойником, грязный сарафан и порванная в разных местах кофта-разлетайка. Этот наряд старил и безобразил ее. Высокая, порывистая, самолюбивая, она казалась теперь какой-то оглушенной. Бабушка ответила на ее поклон молча и все время сидела отчужденно, поджав губы: она не жаловала Машу, как девку беспутную, которая только и думает о том, как бы вырваться из семьи Сусиных. Бабушка, может быть, прогнала бы ее или сама ушла, но боялась встретить отпор с моей стороны, да и оставить меня с ней опасалась: как бы Маша не «насмутьянила».
А Маша не обращала на нее внимания и сидела около меня в ворохе кубового сарафана и говорила:
— Давно-то как я тебя не видала!.. Вырос-то как!
А услыхала, что тебя телега раздавила, упала я и света божьего невзвидела. Хотела побежать к тебе, да свекор не пустил. Да и в поле все дни работала. Только сейчас вот с Филей приехали, я и вырвалась. Как у тебя ручки-то да ножки-то?
Она гладила меня, смеялась сквозь слезы. Вероятно, дорого стоило ей житье в ненавистной семье кривого Максима, с ненавистным Филей-дуботолом. Низко опущенные углы ее рта и жесткие морщинки около них так были жгучи, что я закрыл глаза. Я почувствовал, что в душе у нее бушевал огонь. В ней было что-то буйное и непокорное, как у Ларивона, и я уже хорошо знал, что ее нельзя укротить.
Слезы ее не вызывали во мне жалости к ней: она плакала не от безнадежности, не оттого, что она беззащитная сирота.
В этих слезах передо мною, мальчиком, которого она любила, выливалась без слов какая-то упрямая дума, какая-то заветная, страстная мечта…
— Не забывай меня, Федя. Уедешь — хоть весточку пришли: ты ведь грамотный. Эта весточка-то будет мне, как звездочка…
Бабушка не вытерпела и недружелюбно сказала:
— Да будет тебе, Машуха!.. Чего ты парнишке сердце-то надрываешь?.. Расстроится еще, задумается — и покой потеряет… Много ли ему сейчас надо-то?.. У всякого своя судьба, у всякого свой талан. Чем у тебя семья плоха? И достаток, и муж видный да безобидньтй. А без строгости и свекра не бывает. Да ведь и он под богом ходит. Сама себе хозяйка будешь… Непокорных-то бог наказывает…
Маша поглядела на нее исподлобья и с холодной враждебностью оборвала ее:
— Ты меня, сваха Анна, не трог. Я сама знаю, что делаю. Мне парнишка-то, может, ближе сердцу, чем тебе.
У советчиков да разумников слова-то мягкие, да души жесткие. Вы своих девок, как овец, продаете в кабалу, на каторгу. А за какие грехи? А ведь и у девки — душа. Ну, свою-то судьбу я через смерть пронесу.
Бабушка невозмутимо вязала чулок и на слова Маши кротко откликнулась:
— Шла бы домой, Машуха. Тебя и слушать-то зазорно.
Да еще при парнишке.
Я протянул руку к Маше.
— Сиди, тетя Маша! Сиди и сказывай. Я все понимаю.
Маша вдруг упала на коленки и стала целовагь меня.
— Ну, выздоравливай, Феденька. Теперь уж скоро бегать начнешь — вижу. Приходи ко мне с матерью аль один. Не бойся — тебя никто не тронет. Уж полюбуюсь я, как ты опять забегаешь.
Она быстро поднялась и поклонилась бабушке. Бабушка молча, с достоинством тоже ответила ей поклоном. По дороге она несколько раз оборачивалась и кивала мне головой, а я опирался на локоть и махал ей рукою.
XLII
В субботу с поля возвращалась в село вся деревня, а в воскресенье бездельничали: утром наша семья шла к «часам» в моленную, которая помещалась в избе Сергея Каляганова, а «мирские» выходили к амбарам и кладовым и рассаживались на бревнах, на траве, рядком или кучками, как галки. Впрочем, они тоже привыкли посещать моленную — постоять там без крестного знамения, но с поклонами.
В ключовскую церковь, к попу-щепотнику, не ходил никто.
«Мирские» ничем не отличались в своих обычаях и обрядах от поморцев: они только принимали попа, но желали попа «истового», а не щепотника. Их совсем непонятно называли «единоверцами». Поп приезжал только на требы крестить младенца, похоронить покойника или отслужить обедню в большой праздник.
Вечером в субботу мужики намазывали дегтем сапоги и выставляли их на завалинку, а бабы вынимали из сундуков сарафаны, платки, мужнины и братнины портки и рубашки и развешивали их на прясле. И вся деревня наполнялась запахом дегтя и пунца. А в воскресенье все ходили нарядные: девки и парни собирались на луке и у амбаров, бабы и мужики — у своих изб и «выходов». Улицы расцветали пестрыми нарядами, и от этого деревня казалась молодой и веселой. Эти дни для меня тоже были прозрачно-радостными: я лежал под ветлой, а около меня сидели на траве мать и Катя. Бабушка обычно уходила в моленную, а потом грелась на солнце вместе с шабровыми старухами.
Мать и Катя в эти дни не разлучались: они сидели рядом со мною на траве, говорили намеками, перекидывались загадочными словами и часто беспричинно смеялись. Мать повеселела, стала старательно наряжаться, и в круглом лице ее я увидел что-то новое — какое-то нетерпеливое ожидание и девичий задор. А Катя стала больше похожа на бабу: с девками не гуляла, ходила важно, тяжелыми шагами, а вечером исчезала куда-то.
Об отъезде мать со мной ничего не говорила, но я видел по ее оживленному лицу и мечтающим глазам, что скоро уедем. Однажды Катя вздохнула облегченно и размечталась:
— Ну, невестка, пожила под тятенькиным гнетом. Сколь земных поклонов отбили, сколь лестовок истрепали, сколь золотых денечков загубили!.. А времечко пришло — разлетимся из этого гнезда в разные стороны… Вы — на Волгу, на ватаги, я — в другую семью. Уж я под кнутом да под ярмом не буду: сама себе со своим Яшкой гнездо совью. Старик-то со старухой Киселевы знаешь какие, дряхлые, недужные, а девка на выданье. Оба они с Яшкой-то смирные, бессловесные… Тятенька-то хочет сперва Сыгнея женить, а обо мне у него и речи нет: лишние руки нужны. А я раньше Сыгнейки повенчаюсь. После пожинок старик Киселев к тятеньке сватать меня придет, как снег на голову.
Мать прижималась к Кате и смеялась.
— Какая ты отчаянная, Катя! Прямо зависть берет…
И в кого ты только такая в семье уродилась?
— В семье не без урода. У нас все с норовом: один себе на уме, упрямый, как бык, считает себя умнее всех, из-под власти, как с цепи, рвется; другой, как пескарь, мызгает да у чеботаря пропадает, а чеботарить — не пахать, не косить, третий, как скряга, свое копит, а тятеньке глаза отводит.
Ну, а я вот по-дурацки — напрямки. Тятенька-то страсть боится, коли на него наскочишь. Увидала я однова, как его Паруша оглушила, и сразу почуяла, где у него слабое место. Идет на него — голова кверху, грудь вперед — и кричит:
«Это ты чего, Фома, за своей бабой с кнутом-то гоняешься?
Аль хочешь, чтобы не видела, как ты за мной псом ходишь?» Он и то и се — улыбочки да шуточки. Шажком да ползком к себе в подворотню. А ведь до седых волос за бабами бегал…
Мать в ужасе озиралась и стыдливо бормотала:
— Что ты, что ты, Катя! Рази так можно про батюшку-то?.. Молчи и язык прикуси. Да еще при парнишке… Как тебе не совестно!..
— Вот еще! — фыркнула Катя. — Батюшка, батюшка…
Этот батюшка-то да муженек твой заездили тебя, зацыкали до одури, ты вот и ветерка сейчас боишься. А ты плюнь, да голову подними, да ножкой притопни. Вон Маша-то хоть в когти кривого Максима попалась, а норова ее он не сломит. Ее не согнешь. Бабенка-то на своем настоит: вырвется!
Теперь молодые-то не по старине хотят жить: у них на рожон — свой рожон. Вот уедешь, побываешь на чужой стороне, людей разных да свет увидишь — совсем другая станешь.
А ведь на цепи-то и собака скоро стареет.
Мать взволнованно вздыхала и с надеждой глядела на меня.
— Вот встанешь, Феденька, и поедем., на Волгу, в Астрахань… Я уже все в дорогу собрала. Тоскую, ночей не сплю. Только и мерещится, как раньше мы с матушкой пути-дороги меряли.
Я утешал ее, задыхаясь и похрипывая:
— Да ведь я уже здоровый. Только бы мне самому встать, я бы вприпрыжку побежал.
И я делал попытки приподняться, сесть, но руки подламывались, и я падал, надрываясь от кашля.
Раза два в эти праздничные дни приходили ко мне товарищи. Я ждал, что первым прилетит Кузярь, но явился Петька-кузнец. В красной рубашке и плисовых портках, в новом картузе, он подошел, как взрослый, а когда поздоровался с Катей и матерью, снял картуз.
— Ну, как он тут ползает? Не будь я у избы, возы-то со снопами раздавили бы его. Проскакала телега-то, а он мертвый. Тащу его за руку, а тут ребенок мешает. Только успел оттащить — тут и возы промчались.
Петька, должно быть, до сих пор еще не успокоился от пережитого потрясения: говорил он взволнованно, с одышкой, но старался не терять достоинства. Он стоял около меня, спрятав руки назад, и мне было смешно смотреть на него: он надувался, изображая взрослого мужика, мигал устало, как самосильный работник.
— Да ты бы сел, Петяшка, — едва сдерживая смех, приветливо посоветовала ему мать, а Катя закрылась концом зеленого фартука и тряслась от молчаливого хохота.
— Некогда мне, тетя Настя. Я только навестить… да вот принес… Еще зимой ему тятька посулил… Ему-то недосуг было, так я уж сам отковал.
И он вынул из-за спины новенький топорик, сверкающий отточенным лезвием. Вот почему держал он руки за спиной!
Ему хотелось поразить, обрадовать меня… Я схватил его подарок и прижал к груди. От радости и от благодарности к Петьке я готов был заплакать.
Он не обратил внимания на мое волнение и опять снял картуз.
— Ну, прощайте!
— Посидел бы с нами, Петяшка: ведь праздник. Чего тебе делать-то? ласково уговаривала его мать и глядела на него изумленно и растроганно.
— Мало ли делов! — озабоченно возразил он. — Все хозяйство сейчас на мне: и скотина, и двор, и ребенок. Да еще за мамку печь топи. Как накануне приехала, так и захворала.
— Такого парнишку, как ты, Петенька, и в округе не сыскать, — похвалила его мать, а он пренебрежительно отмахнулся с кривой усмешкой.
— Кому же работать-то? Хозяйство работника любит.
И ушел степенно, не оглядываясь.
— Уморил… мочи моей нет!.. — бормотала сквозь хохот Катя, а мать вытирала слезы и ласково говорила:
— Ведь какой парнишка-то пригожий! Глядеть не наглядеться. С таким не пропадешь.
А мне было досадно, что они смеются: Петька — верный товарищ, умный парень, и я любил его всем сердцем. Я вертел перед собой аккуратный топорик и любовался его добротностью и сверкающим лезвием.
Забежал ко мне и Кузярь. Сухопарый, загорелый, с серыми пятнами на лице, он показался мне еще костлявее, чем раньше: и скулы и подбородок стали еще острее, глаза провалились еще глубже. Но прилетел он буйно, сразу же сел около меня и засмеялся задористо.
— Лежишь, брат, и не ползаешь? Ну и угораздило тебя! Я бы сроду не поддался. Ну и тюхтяй ты! С телеги свалился!.. Я бы, как кошка, вцепился. Однова меня на дранке мешком брякнули, и я под ходовое колесо полетел. Чуть было в копыл под спицы не попал. Так я вцепился на лету в спицу-то и оседлал ее.
— Да будет тебе врать-то, Иванка!.. — осадила его Катя, но он озорно взглянул на нее.
— Не любо — не слушай, а врать не мешай, Катёна. Я после этого на пять лет постарел. Ну-ка, подумай-ка: ведь на волосок от смерти был… а все-таки отпинался от нее… — И, не желая дальше спорить с Катей, он словоохотливо и горячо начал сообщать мне новости: — Слыхал, чай, про Наумку-то? Митрий Степаныч взял его в подручные: душу парень спасать будет — в рай собрался. Днем в кладовой батрачит, двор убирает, лавку подметает, за лошадьми ухаживает, за скотиной, а вечером богу молится. Двадцать лестовок отстоит, а потом целую кафизму отчитает. А ежели соврал — Митрий Степаныч его сыромятным ремнем в рай подгоняет: не спотыкайся! И домой не пускает. Вот и сейчас на дворе навоз чистит — это после моленной-то! На небо-то, брат, легко не попадешь! Увидел меня, заревел да брюхом на землю и грохнулся — вот так.
Кузярь растянулся на траве животом и обхватил голову руками. Потом опять быстро сел и засмеялся.
— Ты вот лежишь без рук, без ног и галок считаешь, а я вчерась в обед на моховом болоте у Красного Мара был… поругался с мамкой Досада взяла…
— Батюшки! — засмеялась Катя, поддразнивая его. — Мамка ему досадила… Вертун какой!
Мать молча забавлялась болтовней Кузяря.
Он поднялся на колени и замахал худыми руками.
— А что! Колос сгребать меня заставляет, а сама снопы вяжет. Ей и нагибаться-то нельзя, не то что жилиться.
А она орет на меня. Вырвал я у нее свясло-то и сунул ей грабли. «На, сгребай! Довольно с тебя и этого дела…» Ну, она и разозлилась на меня.
Кадя и мать смеялись, смеялся и я. Но Кузярь разошелся еще больше.
— Ну, стали ругаться. Заплакала она, пошла к телеге и легла. А я подался со зла на моховое болото. Гляжу, цапля на одной ходуле стоит и богу молится. Дай, думаю, сцапаю ее. Пополз меж кочками, как уж, упрячусь за ними Дотемна полз, весь, как черт, измазался.
Катя трунила над ним:
— Ну, а цапля-то глядит на тебя и смеется: «Дай его, дурачка, подпущу да в лоб и клюну».
У Кузяря блестели глаза от возбуждения. Он прищурился и с торжеством усмехнулся.
— Схватил я ее за ногу да к себе. Она благим матом заорала, да как замашет крыльями, да как дернет меня!
Я кувырком. Гляжу, а она уж над болотом несется да ногами кочки считает.
Катя смеялась, а мать осторожно упрекнула его:
— Не надо бы, Ваня, врать-то. Не тоже, милый. Паренек ты умный, а люди подумают, что дурачок. Сердце-то у тебя хорошее, а умишко в обман играет.
Кузярь не смутился и разочарованно ответил:
— А я думал — поверите. Я это, тетя Настя, не для вранья. Это я хотел Федяшке сказку рассказать: скучно ему лежать-то да в небо глядеть.
Он лукаво ухмыльнулся и вынул из кармана порток спичечную коробку. Осторожно положил ее на траву, удобно растянулся и опять многозначительно поглядел на меня.
— Гляди, да не моргай. Видишь, какой я тебе гостинец принес? Сроду не догадаешься, что тут за чудо. На!
Он раздвинул коробку, и я увидел в ней большого медведку с огромным панцирем на спине и страшными передними зазубренными ногами. Медведка мгновенно выпрыгнул из коробки, юркнул в траву и стал быстро копать землю.
— Вот, брат, какой зверь! Запряги его в эту коробку да насыпь в нее земли — он поскачет с ней и не спотыкнется.
А землю-то как роет — настоящий крот.
Мне было и любопытно и противно смотреть на это чудовище, и я обиженно буркнул:
— Возьми себе этот гостинец. Я не маленький, чтоб играть с тараканами.
Кузярь оскорбленно надулся, с размаху накрыл коробкой медведку и ловко засадил его в эту клетку. Потом приложил к уху, послушал и бросил коробку далеко на луку.
— Ну, ладно. Вставай скорее, пойдем с тобой рыбу на Няньгу ловить. Я уже и вентерь сплел. Хочешь, я тебе лозы притащу? Вместе сплетем…
Это его предложение мне понравилось, и мы сговорились, что в следующее воскресенье сплетем другой вентерь.
Кузярь размечтался:
— До осени-то, знаешь, сколько рыбы наловим! Там язи да лещи кишат. Щербу будем на берегу варить, а домой по ведру на брата притащим. Там и раки есть.
Я с отвращением отмахнулся.
— Раки поганые: они падаль едят. Их грех есть.
— Грех — с орех, да ядро-то с ведро.
Чтобы оборвать его болтовню, я сердито сказал:
— А мы скоро в Астрахань уедем. Встану вот к пожинкам — и уедем. Вот тогда и прощай…
Кузярь поразился до немоты. Он встал, смущенно улыбнулся.
— Совсем? Как не был?
— На ватаги! Там рыбу-то ловят в море.
Он уныло свистнул, почесал затылок, потом вскинул голову и быстро пошел домой.
XLIII
И вот я опять на ногах: опять бегаю, махаю руками и даже на гумне помогаю сгребать солому и переворачивать снопы на току. Стояли прозрачные, теплые дни августа.
С гумна отчетливо видны были даже отдельные соломины на крышах ключовских изб и каждая доска тесовой обшивки почтовой станции. На огромном, заваленном копнами и соломой барском гумне бегали, по кругу две пары лошадей — это работала механическая молотилка. Раздвоенная шапка высокой сосны в ключовском бору казалась бархатной и печальной. Наши гумна тянулись в обе стороны сплошной грядой, с седыми половешками у прясла и большими копнами. Налево, очень далеко, мерцали холмистые поля, и там, в широкой лывине, тоже очень четко виднелись избы деревни Александровки, где жила тетка Машуха. На другой стороне, вдоль большой дороги на Пензу, полого поднимались желтые и черные поля, а за ними на горизонте и ближе темнел густой лес, а издали видно было, как трепетали листья осин. Пахло обмолоченной соломой и крапивой.
Всюду раздавалось глухое, ладное буханье цепов. Молотить цепами большое искусство: надо было учиться, приспосабливаться, сохранять музыкальный ритм, чтобы не ударить одновременно с другими и не нарушить плясового перебора. Нам, парнишкам, эта работа была недоступна, хотя мы всегда с завистью смотрели на красивую пляску цепов, на крылатый взлет молотил, на ритмическое колыхание тел и сосредоточенные лица.
После обеда отец деревянной лопатой веял зерно: черпал его из кучи и высоко бросал вверх. Мякина пылью отлетала в сторону, а зерно падало на чистый ток, рассыпаясь бисером. В это время Тит залезал на высокий омет, а Сыгней длинными рогатыми вилами брал целую охапку соломы и сильным взмахом кидал вверх. Тит подхватывал ее граблями и укладывал на омете.
Я любил эти золотые дни молотьбы. Вся деревня выходила на гумна, и вихри цепов легкокрыло порхали всюду между копнами. Везде рокотали глухие перестуки и певучий разговор цепов. Хорошо было идти по узенькой меже кудрявыми коноплями, вдыхать пряный их аромат и слушать неумолкаемое стрекотанье кузнечиков. Хорошо было смотреть на раздольные поля в ярких пятнах желтого жнивья, бледно-золотых овсов и черного пара и на далекие перелески, загадочные и задумчивые. Почему так беспокойно летают голуби и плачут пигалицы? И почему на душе так радостно и хочется улететь куда-то далеко, за эти поля, за перелески, в безвестные сказочные края?.. Каждый день я ходил через эти дремучие заросли конопли и пел почему-то одну песню, грустную песню взрослых:
Ах ты, поле мое, поле чистое, Приголубь ты меня, добра молодца…Я чувствовал живую землю, родную и ласковую, я купался в солнце и дышал небесной синью, — я просто жил и наслаждался тем, что живу. И сейчас, в седые годы, когда вспоминаю эти дни детской невинной радости, я храню их в душе, как волшебный дар, который вспыхивал ярким светом в темные ночи моей жизни.
В эти дни и мать светлела и казалась мне молоденькой девушкой. Она уже не дрожала от страха перед дедом и отцом. Я часто слышал ее звонкий голос и веселый смех. Да и дед не хмурил седых бровей и хлопотал на гумне бодро и прытко. Переставала стонать и охать бабушка. Отец смеялся и шутил с Сыгнеем, а в минуты передышки пробовал бороться с ним и, когда клал его на землю, был очень доволен.
Однажды в полуденный час, когда все гурьбой шли домой меж коноплей, бабушка вдруг запела, высоко подняв голову: «Подуй, подуй, погодушка…» Мать и Катя с охотой подхватили первые же слова, и их голоса с сердечной теплотой полетели по конопляным волнам. Мать пела высоким голосом и смотрела на небо. Катя, серьезная, суровая, пела низким альтом, словно и в песне хотела показать всем, что она сильна, что она сама хозяйка своей судьбы. Дедушка шел впереди зыбким шагом и, когда женщины запели песню, снял картуз, схватился за бороду и остановился. Должно быть, эта песня встревожила его и разбудила давно уснувшие образы далеких дней минувшего. К моему удивлению, он, сжимая кривыми пальцами бороду, со скорбной улыбкой, встряхнув головой, запел высокой фистулой в тон бабушке. И мне почудилось, что все вздрогнуло и вспыхнуло вокруг, и стало вольготно и чудесно. Улыбаясь, покачивая головой, он играл голосом, украшал его переливами, вскриками и вздохами. А бабушка смотрела на него со слезами на глазах.
Отец шел вместе с Сыгнеем впереди, а Тит и Сема убежали раньше. Вероятно, отца с Сыгнеем поразил дедушка.
Что случилось с грозным и благочестивым стариком, который терпеть не мог песен в дому? Они прибавили шагу и, не оглядываясь, быстро скрылись в зарослях черемухи на усадьбе. Уже у самых кустов я услышал басовитый голос Паруши. Она рыла картошку на своей полоске.
— Эх, Фома, милый ты мой!.. Аннушка! В кои-то веки!
Сорок грехов с вас снимается, что вспомнили нашу молодость.
Она — выпрямилась, большая, могучая, и растроганно улыбалась нам.
А когда мы вышли на улицу, дед опять потух и насупил брови.
— Ну, будет вам горланить-то! Идите проворней! На стол собирайте! После обеда работы невпроворот: надо успеть нынче две копешки обмолотить. Ветру нету — веять не придется.
Песня оборвалась, и опять стало буднично и тускло. Но мать все дни до отъезда из деревни не потухала: лицо ее светилось какой-то затаенной радостью, а в опечаленных глазах горел огонек нетерпеливого ожидания. Отец ходил споро и уверенно и держался независимо.
Кончилась молотьба, зерно засыпали в амбар. Надо было выезжать в поле поднимать пары. На черемухе зажелтели листочки, и в небе появились холодные, размытые облака. И вот в один из таких дней мы собрались в путь.
Пристал к нам и Миколай Подгорное. Поехали мы не на своем мерине, а на возу Терентия. Он вместе в братом вез на двух телегах сырые кожи в Саратов от Митрия Степаныча, а оттуда должен привезти товар для лавки. Миколал уезжал в Астрахань, как обычно, один, без жены.
Паруша шла вместе с бабушкой, массивная, тяжелая, но рука ее была легкая, ласковая, когда она гладила меня по плечу.
— Ну, вот и вырвали тебя с поля, лен-зелен… И будет носить вас ветер-непогодь по чужой стороне. А чужая-то сторона неприветлива. Ну, а при горе-тоске не плачь, а спой песенку с матерью: «Хорошо тому на свете жить, кому горе-то — сполагоря…» Дай вам господи счастье найти!..
У бабушки текли по щекам мутные слезы.
Прибежала Маша с заплаканными глазами, и приплелся пьяный Ларивон с ведром браги в руках.
— Настенька, сестрица моя дорогая!.. Вася!.. Простите меня, Христа ради, окаянного!.. — И падал на колени, подметая бородою пыль. — Нет мне больше житья, сроднички мои! Загубил я душеньку свою… и Микитушку не охранил…
И Петрушу не отбил от ворогов… Сестрица моя Настенька!
Сколь я тебе зла наделал!.. На, казни мою голову! И сестру Машеньку, назло себе и людям, Кощею бессмертному продал… Путь-дорога вам счастливая, Настенька, Вася!..
И он плакал пьяными слезами.
— Я, Настенька, на могилке мамыньки ночую… и плачу…
Он бился головой о дорогу, опять поднимался и разболтанными шагами, с ведром в руках, старался догнать нас.
Маша не оглядывалась на него и шла рядом с матерью, с жестким, застывшим лицом. Вся семья наша шла за возами. Бабушка молча плакала. Дедушка, угрюмый, шел позади отца с иконой в руках, без картуза, и говорил строго и наставительно:
— Деньги шли помесячно. Пачпорт на год выправил.
Ежели денег не будешь высылать, по этапу домой вытребую. На стороне-то не балуйся: вина не пей, в дурные дела не суйся. От веры не отходи… У Манюшки Кокушевой перво-наперво остановись. Она хоть и сорока, а родня. Она от веры не отстала — приютит и приветит. Живет у сестры, а Павел-то Иваныч там дом свой имеет, лошадей держит.
Хозяин. По вере-то он пристроит тебя…
А бабушка уговаривала его сквозь слезы:
— Ну чего ты, отец, толкуешь-то? Чай, он не маленький, не арбешник… чай, он не на разбой едет, а на работу. Аль он не знает, как отцу помогать?
Маша тихо говорила матери:
— Ты, нянька, и не думай приезжать сюда, пропадешь совсем. А я от Сусиных все равно убегу… Вот осенью Фильку в солдаты забреют, я опять на барский двор. А то к Ермолаевым или к Малышевым. Эти люди в обиду меня не дадут. Может, и сама к вам в Астрахань улечу.
У широкой межи, перед пестрым столбом, все остановились. Дедушка с бабушкой стали у столба. Он поддерживал обеими руками икону на груди, а бабушка плакала. Мы все трое — отец, мать и я — одновременно истово крестились и падали на землю. Потом подошли к иконе и поцеловали ее. Мать здесь же взяла горсть земли и завязала ее в платок. Все молча, неподвижно, молитвенно постояли, склонив головы.
— Ну, трогайте!.. Час добрый!.. — пронзительно крикнул дедушка. Прощай, Васянька!.. Не забывай, чего я наказывал…
Отец обнял поочередно и деда, и бабушку, и братьев, и Катю, и Машу, и они поцеловались три раза крест-накрест. Мать долго не отрывалась и от бабушки, и от Кати, и от Маши и плакала навзрыд. Катя крепко обняла меня и прижала к себе, и я впервые увидел, как она подурнела от слез. Маша долго не выпускала меня из рук и шептала:
— Не забудешь меня? Не забудешь? А баушку Наталью уже забыл, чай?
— Я ее никогда не забуду…
Сыгней схватил меня за руки, потянул за собою и, посмеиваясь, кричал:
— Не пущу! Домой воротимся. Пускай отец с матерью одни уезжают.
Паруша легко вскинула меня к своему лицу, поцеловала и, опустив на землю, растроганно пробасила:
— Ну, лети вольготно, голубь перелетный!.. Береги крылышки-то!..
Тит и Сема простились как-то сконфуженно и неловко.
Далеко по полю бежал к нам Кузярь и махал рукой. Но когда возы тронулись и мы с отцом и матерью пошли вслед за ними, Кузярь остановился как вкопанный и растерянно посмотрел нам вслед. Потом повернулся и так же быстро побежал обратно, болтая головой из стороны в сторону.
Я уже знал, что если он бежит и головой болтает, значит, плачет обиженно.
Шагая по дороге, мы часто оглядывались и до самых Ключей видели, как стояли все наши у столба и смотрели нам вслед.
Столбовая дорога, широкая, накатанная, с бесчисленными старыми кольями, заросшими травой, шла в Саратов, к Волге. Деревня наша уже скрылась за холмами, но долго еще видна была верхушка колоколенки с блестящим шпицем да маячил в лиловой дымке Красный Map. Так началась наша новая жизнь.
Мне было очень больно и жалко расставаться с деревней, где я оставил что-то бесконечно дорогое. Что ожидает меня в будущем в этом далеком, неведомом краю?
Заплакал я только тогда, когда почувствовал ноющую боль в сердце. На телеграфных проволоках сидели синие пигалицы и жалобно кричали мне:
— Прощай!..
1948




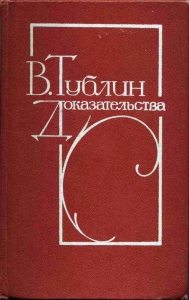
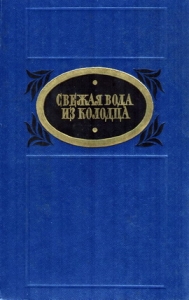
Комментарии к книге «Повесть о детстве», Федор Васильевич Гладков
Всего 0 комментариев